Эндрю Нагорски Охотники за нацистами
Посвящается Алексу, Адаму, Соне и Еве. И, конечно же, Криси.
Andrew Nagorski
THE NAZI HUNTERS
Copyright © 2016 by Andrew Nagorski
© Р. Романенко, М. Николенко, перевод на русский язык, 2017
© Издание. ООО «Издательство «Эксмо», 2017
Действующие лица
Охотники
Фриц Бауэр (1903–1968) – немецкий судья и прокурор; выходец из светской еврейской семьи. Большую часть нацистского периода провел в изгнании: в Дании и Швеции. Вернувшись в Германию после войны, предоставил израильтянам важные сведения, позволившие схватить Адольфа Эйхмана. В 1960-е сыграл решающую роль в проведении Освенцимских процессов во Франкфурте.
Симон Визенталь (1908–2005) родился в небольшом городке в Галиции, выжил в Маутхаузене и других концлагерях, стал знаменитым «охотником за нацистами», основал Еврейский центр исторической документации. С его именем связывают задержание нескольких известных военных преступников, и его же порой критиковали за преувеличение своей роли в их поиске. Особенно в истории охоты на Эйхмана. Во время скандала вокруг Курта Вальдхайма в 1986 году выступал против Всемирного еврейского конгресса.
Элизабет Гольцман (род. в 1941) – сенатор-демократ из Бруклина. В 1973 году была избрана членом конгресса США и занялась разоблачениями военных преступников, мирно живших на территории США. Вошла в состав иммиграционного подкомитета конгресса, а затем стала его председателем. В 1979 году добилась учреждения при Министерстве юстиции Управления специальных расследований (УСР) для розыска, лишения гражданства и депортации нацистских военных преступников.
Уильям Денсон (1913–1998) – американский военный прокурор на «процессах Дахау», где судили персонал концлагерей Дахау, Маутхаузен, Бухенвальд и Флоссенбюрг. Он выдвинул обвинение против 177 подсудимых и добился обвинительного приговора для каждого из них. В итоге 97 человек были повешены. Законность его подходов к некоторым из этих дел позднее подвергалась сомнению.
Ян Зейн (1909–1965) – польский следователь немецкого происхождения. Подготовил первый подробный отчет по истории и деятельности Освенцима. Вел допросы Рудольфа Хёсса, первого коменданта лагеря, и убедил его написать мемуары перед казнью в 1947 году. Также он помогал немецкому коллеге Фрицу Бауэру собирать доказательства для Освенцимского процесса во Франкфурте в 1960-е.
Эфраим Зурофф (род. в 1948) – основатель и директор офиса Центра Симона Визенталя в Иерусалиме. Зурофф родился в Бруклине, с 1970 года живет в Израиле. Считается последним действующим «охотником за нацистами», известен своей активной, хотя порой и спорной, деятельностью по розыску оставшихся в живых охранников концлагерей.
Беата Кларсфельд (род. в 1939) – рисковая и эпатажная супруга «охотника за нацистами», работавшая с ним в паре. Ее отец служил в вермахте, но она почти ничего не знала о Третьем рейхе, пока не переехала в Париж и не познакомилась с будущим мужем Сержем Кларсфельдом. В 1968 году прославилась, дав пощечину канцлеру ФРГ Курту Кизингеру, который был членом нацистской партии. Вместе с Сержем разыскивала и преследовала офицеров СС, ответственных за депортацию евреев и другие преступления в оккупированной Франции.
Серж Кларсфельд (род. в 1935) родился в семье румынских евреев, в юности переехал во Францию. Имел сильный личный мотив преследовать и разоблачать нацистов, ответственных за депортацию и убийство евреев во Франции: в Освенциме погиб его отец. Вместе с женой Беатой скрупулезно, порой с риском для жизни, собирал улики и предавал их гласности.
Аллан Райан (род. в 1945) занимал пост директора Управления специальных расследований с 1980 по 1983 год. В этот период многие нацисты, проживающие на территории США, были выявлены, лишены гражданства и депортированы.
Илай Розенбаум (род. в 1955) долгое время работал в Управлении специальных расследований при Министерстве юстиции США, а с 1995 по 2010 год руководил этим Управлением. Во время кампании по избранию президентом Австрии бывшего Генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма в 1986 году возглавил кампанию против него как юридический советник Всемирного еврейского конгресса. Это привело к ожесточенному столкновению Розенбаума с его бывшим кумиром Симоном Визенталем.
Бенджамин Ференц (род. в 1920). В возрасте двадцати семи лет стал главным обвинителем по делу, которое Ассошиэйтед Пресс назвало «величайшим в истории судебным процессом над убийцами». Речь шла о Нюрнбергском процессе над командирами айнзацгрупп, специальных подразделений СС, уничтожавших евреев, цыган и прочих «врагов» нацистского режима. Они действовали на Восточном фронте до тех пор, пока массовые убийства не были перенесены в газовые камеры концлагерей. Все 22 подсудимых были признаны виновными, 13 из них приговорены к смерти. Впрочем, в конечном счете повесили только четверых – остальные приговоры позднее были смягчены.
Тувья Фридман (1922–2011) – польский еврей, переживший холокост. После войны служил в милиции польского коммунистического режима, стремясь отомстить пленным немцам и пособникам бывших оккупантов. Затем создал в Вене Центр документации преступлений нацистов, собирая доказательства против офицеров СС и других военных преступников. В 1952 году закрыл свой Центр и переехал в Израиль, где продолжил розыски Эйхмана и прочих нацистов.
Иссер Харель (1912–2003) – руководитель израильской разведки «Моссад», организовавший похищение Эйхмана в Буэнос-Айресе в 1960 году и его транспортировку в Израиль спецрейсом авиакомпании «Эль Аль» для последующего суда и казни.
Рафи Эйтан (род. в 1926) – агент израильской разведки «Моссад», руководитель группы коммандос, которая захватила Адольфа Эйхмана возле его дома в Буэнос-Айресе 11 мая 1960 года.
Нацисты
Клаус Барбье[1] (1913–1991) – известный также как «лионский мясник». Бывший шеф гестапо этого французского города несет ответственность за смерти тысяч людей, многих из них он пытал лично. Среди его жертв Жан Мулен, герой французского Сопротивления, и сорок четыре еврейских ребенка, пытавшихся укрыться в крошечной деревушке Изье и погибших в Освенциме. Кларсфельдам удалось выследить Барбье в Боливии и после долгих усилий добиться его выдачи Франции. В 1987 году он был приговорен к пожизненному заключению, спустя четыре года умер в тюрьме.
Мартин Борман (1900–1945) – личный секретарь Гитлера, начальник Партийной канцелярии НСДАП. Исчез из бункера в Берлине после самоубийства фюрера 30 апреля 1945 года. Считалось, что почти сразу же после этого он был убит или покончил с собой. Однако долгое время ходили слухи, что он бежал из столицы Германии и якобы был замечен в Южной Америке или Дании. В 1972 году на строительной площадке в Берлине были найдены предполагаемые останки Бормана; экспертиза ДНК в 1998 году окончательно позволила их опознать. Согласно заключению, он умер 2 мая 1945 года.
Гермина Браунштайнер (1919–1999) – бывшая надзирательница в концлагерях Майданек и Равенсбрюк, где за привычку злобно пинать женщин-заключенных получила прозвище «Кобыла». В 1964 году Симон Визенталь обнаружил, что после войны она вышла замуж за американца и живет в Квинсе. Он сообщил об этом в «Нью-Йорк таймс», где опубликовали разоблачительную статью, спровоцировавшую долгий судебный процесс по лишению ее гражданства. Гермина была депортирована в Западную Германию и в 1981 году получила пожизненный срок. В 1996 году была освобождена по состояния здоровья, через три года умерла в доме престарелых.
Курт Вальдхайм (1918–2007) – бывший Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, в 1986 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Австрии. Во время выборов вскрылся один из фактов его прошлого – служба на Балканах в штабе генерала Александра Лера, которого позднее судили и повесили в Югославии как военного преступника. Всемирный еврейский конгресс развернул против Вальдхайма активную кампанию, однако он все же победил на выборах. Симон Визенталь обвинил конгресс в предвзятости, что повлекло за собой разлад между «охотниками за нацистами».
Джон Демьянюк (1920–2012). С 1970-х и до его смерти в 2012 году был в центре самого масштабного юридического сражения послевоенного времени, которое разворачивалось в США, Израиле и Германии. Пенсионер и бывший автослесарь из Кливленда поначалу был ошибочно опознан как «Иван Грозный» – печально известный надзиратель из Треблинки. В 2011 году немецкий суд все-таки осудил его как охранника лагеря Собибор. Меньше чем через год после этого Демьянюк умер. Приговор создал настоящий судебный прецедент, поскольку показал, что дожившие до сегодняшних дней преступники все еще могут оказаться на скамье подсудимых.
Ильза Кох (1906–1967) – вдова первого коменданта Бухенвальда. Во время суда в Дахау получила прозвище «Бухенвальдская ведьма» за пытки и сексуальные издевательства над заключенными, которых потом избивали и убивали. Также ей приписывали коллекцию абажуров из человеческой кожи, из-за чего ее дело стало одним из самых сенсационных послевоенных процессов. Была приговорена к пожизненному заключению, однако два года спустя помилована генералом Люсиусом Д. Клеем. Но в 1951 году немецкий суд снова вынес ей пожизненный приговор. В 1967 году Кох покончила с собой в тюрьме.
Курт Лишка (1909–1989), Герберт Хаген (1913–1999) и Эрнст Хайнрихзон (1920–1994) – офицеры СС, во время войны организовавшие высылку евреев из Франции. Все трое вплоть до 1970-х годов мирно жили в Западной Германии, пока Серж и Беата Кларсфельды не развязали против нацистских преступников кампанию, вплоть до попытки похищения одного из них. 11 февраля 1980 года суд в Кёльне признал их виновными в высылке из Франции пятидесяти тысяч евреев, которая повлекла за собой гибель многих из них. Обвиняемых приговорили к тюремным срокам от шести до двенадцати лет.
Йозеф Менгеле (1911–1979) – врач СС из Освенцима. Прозван «Ангелом Смерти» за медицинские эксперименты над близнецами и другими узниками лагеря, а также за отбор заключенных для газовых камер. Поиски Менгеле, бежавшего в Южную Америку, продолжались и после его смерти. Он утонул на пляже в Бразилии в 1979 году, но родственники держали это в тайне, пока в 1985 году не были обнаружены его останки.
Эрих Прибке (1913–2013) – гауптштурмфюрер СС, ответственный за расстрел 335 человек, в том числе 75 евреев, 24 марта 1944 года в Ардеатинских пещерах недалеко от Рима. Казнь стала ответом на совершенное незадолго до этого убийство 33 немецких солдат. До 1994 года комфортно жил в аргентинском курортном городе Сан-Карлос-де-Барилоче, пока его не выследили журналисты «Эй-би-си ньюс» и корреспондент Сэм Дональдсон не задал ему несколько вопросов прямо на улице. В результате Аргентина выдала Прибке Италии, и в 1998 году его приговорили к пожизненному заключению. Из-за преклонного возраста содержался под домашним арестом до самой смерти в 2013 году.
Отто Ремер (1912–1997). Во время неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года Ремер был командиром охранного полка. Изначально был готов выполнять приказы мятежников, однако, узнав о спасении Гитлера, арестовал заговорщиков. В 1951 году возглавил радикальную правую партию Западной Германии и назвал мятежников предателями. В 1952 году Фриц Бауэр возбудил против него дело по обвинению в клевете, доказывая, что заговорщики были истинными патриотами. Ремера приговорили к трехмесячному тюремному заключению, а деятельность партии запретили. Он бежал в Египет и вернулся в Западную Германию только в 1980-х, по амнистии, возобновив политическую деятельность. Столкнувшись с новыми обвинениями в расизме и разжигании ненависти, в 1994 году переехал в Испанию, где умер три года спустя.
Артур Рудольф (1906–1996) – немецкий ученый-ракетостроитель. После войны перевезен в Соединенные Штаты, где он он работал над ракетой «Сатурн-5», доставившей первых астронавтов на Луну. Однако Илай Розенбаум из Управления по специальным расследованиям при Министерстве юстиции вынудила его отказаться от американского гражданства и в 1984 году покинуть страну, обнаружив доказательства того, что во время войны он использовал труд тысяч заключенных при производстве баллистической ракеты «Фау-2». Умер в Гамбурге.
Ариберт Хайм (1914–1992) – врач концентрационного лагеря Маутхаузен, оставивший ужасающие записи о своих экспериментах над заключенными и известный как «доктор Смерть». После войны исчез, несмотря на широко обсуждавшиеся поиски. Периодически возникали слухи, что Хайма видели в Латинской Америке или убили в Калифорнии. На самом деле, как выяснили «Нью-Йорк таймс» и немецкий телеканал ZDF в 2009 году, Хайм нашел убежище в Каире. Там он принял ислам и под именем Тарик Фарид Хусейн прожил более тридцати лет вплоть до своей смерти в 1992 году.
Рудольф Хёсс (1900–1947) – был комендантом Освенцима наиболее длительное время. Взят в плен англичанами в 1946 году, выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе, затем выслан в Польшу для суда. Ян Зейн, польский следователь, убедил его написать автобиографию до того, как он будет повешен. Описания «усовершенствований», которые Хёсс внедрял на фабрике смерти, сделали эту книгу одним из самых страшных свидетельств во всей литературе, посвященной холокосту.
Герберт Цукурс (1900–1965) – до войны – знаменитый латвийский летчик. Во время немецкой оккупации прославился как «рижский палач», так как был виновен в гибели тридцати тысяч евреев. После войны поселился в Сан-Паулу, Бразилия, где имел собственный самолет и пристань. Обманом его заманили в Монтевидео в Уругвае, и 23 февраля 1965 года он был убит агентами «Моссада». Это единственное признанное израильскими спецслужбами убийство нацистского преступника.
Адольф Эйхман (1906–1962) – один из главных архитекторов холокоста, организовавший массовую высылку евреев в Освенцим и другие концентрационные лагеря. 11 мая 1960 года был похищен агентами «Моссада» из Буэнос-Айреса. В Иерусалиме он был приговорен к смерти и 31 мая 1962 года повешен. Казнь имела широкий резонанс и вызвала немало дискуссий о «банальности зла».
Предисловие
Сразу после окончания Второй мировой войны в Германии вышел один из известнейших фильмов того времени – «Die Mörder sind unter uns», «Убийцы среди нас». Хильдегард Кнеф сыграла роль выжившей в концлагере Сюзанны Вальнер, которая возвращается в свою разграбленную квартиру среди руин Берлина. Там она знакомится с Гансом Мертенсом, военным врачом, заливающим душевные раны алкоголем. Мертенс случайно встречает своего бывшего командира, ныне преуспевающего бизнесмена. Накануне Рождества 1942 года тот отдал приказ о расстреле сотни жителей польской деревни. Терзаемый чувством вины, Мертенс решает убить командира в послевоенный сочельник.
В последний момент Вальнер удается убедить его в том, что такой самосуд будет ошибкой. «У нас нет права выносить приговор», – говорит она в конце фильма. «Ты права, Сюзанна, – соглашается врач. – Но мы должны выдвигать обвинения. Требовать расплаты от имени миллионов невинно убитых людей».
Фильм имел колоссальный успех и собрал огромную аудиторию. Однако главный его призыв остался не услышанным. И союзникам, а не немецкому народу пришлось проводить первые суды над военными преступниками. Но вскоре и победители в значительной степени отказались от подобных усилий – отвлекла начинающаяся холодная война. А сами немцы гораздо больше стремились поскорее забыть недавнее прошлое, чем предаваться раскаянию.
Главные же военные преступники, которых не арестовали сразу после завершения боевых действий, об искуплении и вовсе не думали. Они хотели одного – бежать. Лишь немногие совершили самоубийство, последовав примеру Адольфа Гитлера и его жены Евы Браун. Так, например, поступил Йозеф Геббельс с супругой Магдой, отравив сперва шестерых детей. В нашумевшем бестселлере Гарри Паттерсона «Операция «Валгалла» персонаж Геббельса объясняет, почему он выбрал такой исход: «Не собираюсь остаток жизни кружить по миру подобно некоему вечному скитальцу».[2]
Однако большинство нацистов поступило иначе. Многие из числа нижних чинов не считали себя виновными и даже не пытались скрыться, они просто затерялись среди тех, кто налаживал жизнь в новой Европе. Те же, кто чувствовал себя в большей опасности, нашли способ покинуть континент. В течение многих лет и тем и другим удавалось ускользать от правосудия. В этом им помогали члены семьи и сеть «kamaraden» – товарищей по нацистской партии.
В этой книге пойдет речь о сравнительно небольшой группе мужчин и женщин. Одни из них занимали официальные должности, другие работали независимо. Они не дали миру забыть о тех, кто отправил на смерть миллионы людей. С огромным мужеством и решимостью они боролись за свое дело, даже когда власти проявляли все большее равнодушие к судьбе нацистских преступников. В ходе своей деятельности они также исследовали природу зла и прикоснулись к волнующим вопросам человеческого бытия.
Их называли «охотниками за нацистами», но они так и не стали единой группой с общей стратегией или хотя бы тактическим взаимодействием. Они часто не ладили друг с другом, были склонны к ревности, соперничеству и взаимным упрекам, хотя и преследовали общие цели. Что, безусловно, снижало их эффективность.
Впрочем, даже если бы им удалось забыть о разногласиях, вряд ли они сумели бы достичь большего. И, по большому счету, все-таки нельзя сказать, что правосудие полностью восторжествовало. «Тот, кто ищет соответствия между совершенными преступлениями и понесенными наказаниями, будет сильно разочарован», – говорил Дэвид Марвелл, историк, работавший в Управлении специальных расследований при Министерстве юстиции США, Мемориальном музее холокоста в Америке и берлинском архиве. Сейчас он возглавляет Музей еврейского наследия в Нью-Йорке. Что же касается первоначальной клятвы победителей нацизма призвать к ответу всех, виновных в преступлениях против человечности, ее Марвелл сухо прокомментировал: «Это слишком сложно».[3]
Если говорить о мировом масштабе, с этим трудно не согласиться. Но даже отдельные попытки добиться справедливости и правосудия для преступников в конечном счете сложились в целую сагу послевоенных лет. Сагу, не похожую ни на какую другую в истории человечества.
Прежде все войны заканчивались одинаково: победители убивали или порабощали побежденных, грабили их страну и жаждали лишь возмездия. Массовые казни без суда, следствия и каких бы то ни было юридических процедур были нормой. Месть – мотивом, простым и понятным.
Месть изначально двигала и «охотниками за нацистами». Особенно теми, кто выжил в концлагерях. И еще теми, кто их освобождал, кто своими глазами видел ужасающие свидетельства, оставленные отступающими нацистами. Горы трупов, умирающие люди, крематории, медицинские лаборатории, а по сути, пыточные застенки… В результате многих нацистов и их пособников в конце войны настигло заслуженное и быстрое возмездие.
Однако со времен Нюрнбергского процесса «охотники за нацистами» по всему миру (в Европе, Латинской Америке, Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке) предпочитали отдавать свою добычу в руки прокуроров и следователей – тем самым доказывая, что любой человек, несмотря на всю очевидность вины, имеет право на суд. Не случайно Симон Визенталь, самый известный «охотник за нацистами», назвал свои мемуары «Справедливость, а не мщение».
Казалось бы, зачем преследовать дряхлого охранника концлагеря? Может, пусть спокойно доживает свои дни? Власти США после войны были бы рады и вовсе забыть о нацистах; перед ними маячила новая опасность – Советский Союз. Однако «охотники» не сдавались, и каждый новый судебный процесс позволял извлечь важные уроки.
Например, о том, что преступления Второй мировой войны и холокоста нельзя забывать и что все их организаторы и исполнители никогда и ни при каких условиях не будут оправданы.
* * *
Когда в 1960-е агенты «Моссада» похитили Адольфа Эйхмана и доставила его в Израиль, мне было тринадцать лет. Уж не помню, насколько я был осведомлен о случившемся и откуда я об этом услышал, – наверное, по телевизору. Зато очень хорошо помню один случай следующим летом, когда в Иерусалиме уже шел процесс над Эйхманом.
Наша семья приехала в Сан-Франциско, и мы с отцом сидели в кафе. В какой-то момент я заметил в зале старика, показал на него отцу и прошептал: «Мне кажется, это Гитлер». Отец, щадя мое самолюбие, лишь слегка улыбнулся.
Тогда я и понятия не имел, что полвека спустя, работая над этой книгой, я стану брать интервью у Габриэля Баха, единственного оставшегося в живых обвинителя на том судебном процессе, и у двоих агентов «Моссада», которые лично захватили Эйхмана.
История с похищением, судом и казнью Эйхмана всколыхнула интерес к ушедшим от наказания военным преступникам. Вскоре последовала целая череда фильмов и книг об «охотниках за нацистами», основанных, правда, скорее на мифах, чем на реальности. Я запоем читал книги и смотрел фильмы на эту тему, увлекаясь персонажами и динамичным сюжетом.
Фильмы и книги не только развлекали аудиторию. В частности, для послевоенного поколения они поставили много непростых вопросов. И не только о преступниках, которые стали объектом преследования. Но и о своей семье. Или о своих соседях. В наши дни нелегко понять, почему миллионы немцев и австрийцев, не говоря уж о населении оккупированных стран, добровольно вступали в ряды организации, нацеленной на массовые убийства.
Работая в 1980–1990 годах руководителем бюро журнала «Ньюсуик» в Бонне, Берлине, Варшаве и Москве, я часто обращался к наследию войны и холокоста. И всякий раз, когда казалось, что меня уже ничем не удивить и любая новая история будет лишь вариацией на давно изъезженную тему, вдруг случалось новое откровение.
В конце 1994 года я готовил ударную статью номера, посвященную пятидесятилетию освобождения Освенцима 27 января 1945-го. Я брал интервью у многих выживших из разных стран Европы. Каждый раз мне было не по себе, когда приходилось просить людей вновь вспоминать об ужасах тех лет, и я предупреждал, что они вольны завершить свой рассказ в любой момент, если вдруг станет слишком тяжело. Однако почти всегда стоило людям заговорить, как слова будто лились сами собой, без всяких вопросов с моей стороны. И сколько бы историй я ни слышал, каждая из них была уникальной и потрясающей.
После интервью с одним голландским евреем, чья история особенно меня тронула, я извинился, что заставил его вновь пережить этот кошмар во всех деталях. Ведь наверняка он уже неоднократно рассказывал свою одиссею родственникам и друзьям. «Никому», – неожиданно возразил тот. Увидев недоверие на моем лице, он добавил: «Никто никогда не спрашивал». Этот человек пятьдесят лет нес на плечах свой груз в полном одиночестве!
Три года спустя другая встреча показала мне, что груз, выпавший человеку, может быть совсем иного рода. Я брал интервью у Никласа Франка, сына Ганса Франка, генерал-губернатора оккупированной Польши. Никлас, писатель и журналист, назвал себя типичным европейским либералом и сторонником демократических ценностей. Особый интерес он проявлял к Польше в 1980-е годы, когда «Солидарность» вела борьбу за права человека, что в конечном счете привело к падению коммунистического режима.
Никлас родился в 1939 году. Последний раз он видел отца в Нюрнбергской тюрьме, незадолго до казни. Ему тогда было всего семь лет. Отец делал вид, что все хорошо. «Не волнуйся, Никки, на Рождество мы все снова будем вместе», – сказал он сыну. В тот момент у мальчика, как он вспоминает, «вскипел мозг», ведь он знал, что отца скоро повесят. «Он лгал всем, даже собственному сыну», – возмущался Никлас. Позднее он решил, что лучше бы отец сказал: «Мальчик мой, меня скоро повесят, потому что я совершал ужасные поступки. Не иди по моим стопам».[4]
Одну его фразу я запомнил на всю жизнь. Называя отца «чудовищем», Никлас заявил: «Я против смертной казни, но верю, что казнь моего отца была совершенно оправданной». За все годы работы журналистом я еще никогда не слышал, чтобы кто-то говорил об отце в таком тоне…
В нашем разговоре Никлас заметил: Франк – довольно распространенная фамилия, и люди, с которыми он встречается, как правило, не знают, что он сын военного преступника. Однако сам он хорошо это помнит и не может выбросить из головы: «Не проходит ни дня, чтобы я не думал об отце и о том, что натворили немцы. Миру никогда этого не забыть. Если я за границей говорю, что из Германии, люди сразу думают: “О, Освенцим”. И я считаю, что это справедливо».
Я сказал Никласу, что мне повезло: я не унаследовал груз вины, потому что в 1939 году, когда Германия напала на Польшу, мой отец сражался на стороне проигравших. Я считаю, что рождение в той или иной семье было лишь волей случая и мы не должны чувствовать моральное превосходство или унижение. Никлас тоже это понимал, но его желание не быть сыном своего отца вполне оправдано.
Отношение Никласа вряд ли можно было считать типичным для членов семей нацистских преступников. Однако, на мой взгляд, такая жестокая неприкрытая честность, готовность ежедневно отвергать былые грехи своей страны – лучшее, чем сегодня могут похвастать немцы. Потребовалось много времени для того, чтобы это произошло. И много событий, которых никогда бы не случилось, если бы не «охотники за нацистами». Если бы не их многотрудная, одинокая борьба не только в Германии и Австрии, но и во всем мире.
Их борьба подходит к концу. Большинство «охотников» так же, как и преследуемые ими преступники, скоро будут существовать только в нашей коллективной памяти, где миф и реальность смешаются еще сильнее, чем в наши дни.
Поэтому о них надо рассказать прямо сейчас.
Глава 1 Ручная работа висельника
Мой муж был военным всю свою жизнь, и он заслужил право умереть как солдат. Он просил об этом, а я пыталась помочь ему умереть с честью.[5]
Выступление вдовы повешенного немецкого генерала (из фильма «Нюрнбергский процесс» по сценарию Эбби Манна)16 октября 1946 года по приговору Международного военного трибунала были казнены десять из двенадцати главных нацистов.[6] Виселицу для них спешно возвели в спортивном зале Нюрнбергской тюрьмы, где за три дня до казни американские охранники играли в баскетбол.
Среди этих двенадцати был и правая рука Адольфа Гитлера – Мартин Борман, который в последние дни войны сбежал из бункера в Берлине и бесследно исчез; так что приговор ему вынесли заочно.
Первым должны были повесить Германа Геринга – самого влиятельного нациста и преданнейшего соратника Гитлера, который занимал при нем различные должности, включая посты президента рейхстага и главнокомандующего военно-воздушными силами. Вердикт суда однозначно утвердил его роль: «Нет никаких смягчающих обстоятельств. Геринг часто, почти всегда был движущей силой преступлений нацистов, вторым только по сравнению с Гитлером. Политический и военный лидер, он руководил программой рабского труда и был создателем политики угнетения евреев и других рас как внутри страны, так и за границей. Совершение всех этих преступлений он открыто признал».[7]
Однако Герингу удалось избежать виселицы: незадолго до казни он раскусил капсулу с цианидом. За две недели до этого, после оглашения приговора, он вернулся в камеру «бледным и с вытаращенными глазами», по словам Г. М. Гилберта, тюремного психолога, работавшего с заключенными.[8] «Его рука дрожала, несмотря на все усилия казаться спокойным, – сообщил Гилберт. – Глаза были влажными, и он часто и тяжело дышал, пытаясь справиться с эмоциональным потрясением».[9]
Геринга и других заключенных особенно возмутил избранный способ казни. Капрал Гарольд Берсон, двадцатичетырехлетний журналист из Мемфиса, по судебным документам готовивший ежедневные сводки о Нюрнбергском процессе, писал: «Единственное, о чем беспокоился Геринг, – это воинская честь. Он не раз заявлял, что его могли бы просто взять и расстрелять, дать ему умереть смертью солдата. И не было бы никаких проблем. Проблема была в том, что он думал, будто повешение – худшее, что может случиться с солдатом».[10]
Фриц Заукель, курировавший в Третьем рейхе программу рабского труда, разделял чувства Геринга. «Уж повешение я никак не заслужил, – возмущался он. – Смертный приговор – хорошо, но такое… такое я не заслужил».[11]
Фельдмаршал Кейтель и его заместитель генерал Альфред Йодль умоляли избавить их от петли. Они просили расстрела – смерти, которая, по словам Кейтеля, «приличествует воину во всех армиях мира, если он приговорен к смертной казни».[12] Адмирал Эрих Редер также просил Контрольный совет союзников «заменить смертный приговор расстрелом из соображений милосердия». Эмили Геринг позже заявила, что ее муж планировал использовать капсулу с цианидом лишь в том случае, «если его ходатайство о расстреле будет отклонено».[13]
Таким образом, всего десять человек предстали перед палачом. Им был мастер-сержант армии США Джон Вудс.
Герман Обермайер, молодой солдат-еврей, который в конце войны поставлял Вудсу веревки и древесину для виселиц, вспоминал позднее, что этот раскормленный тридцатипятилетний уроженец Канзаса «вопреки всем правилам не чистил ботинки и не брился».[14] «Он вечно выглядел неряшливым, – добавлял Обермайер. – Штаны были грязными и мятыми, в кителе он словно спал всю неделю, сержантская нашивка едва держалась на двух-трех стежках желтой нитью, а фуражку он всегда носил не под тем углом».
Единственный американский палач на Европейском театре военных действий утверждал, что за пятнадцатилетнюю карьеру отправил на тот свет 347 человек,[15] включая американских военнослужащих, осужденных за убийства и изнасилования, а также немцев, обвиняемых в убийстве пилотов с подбитых самолетов союзников и в других военных преступлениях. Этот «пропойца» с «кривыми желтыми зубами, вонючим дыханием и немытой шеей», как выразился Обермайер, мог не заботиться о своем внешнем виде, потому что начальство нуждалось в его услугах.
В Нюрнберге же, по словам Обермайера, Вудс внезапно стал «одним из самых важных людей в мире», причем совершенно спокойно относился к своему заданию.
В спортивном зале возвели три деревянные виселицы, выкрашенные в черный цвет. Две из них предполагалось использовать поочередно, третью держали про запас на тот случай, если вдруг сломается механизм одной из основных. К эшафоту вели тринадцать ступеней, веревки свешивались с балок, поддерживаемых двумя столбами. Для каждой казни веревку меняли. Кингбери Смит, делавший репортаж с места событий, писал: «Когда веревка выпрямлялась, повешенный выпадал из поля зрения и оказывался во внутренней части виселицы. Ее нижняя часть с трех сторон была заколочена досками, а с четвертой завешена темной тканью, чтобы никто не видел предсмертных мук людей, повисших со сломанными шеями».
Йоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел нацистов, вошел в спортивный зал первым, в 1:11 ночи. Изначально хотели разрешить осужденным идти к виселице со свободными руками, но после самоубийства Геринга правила изменили. Риббентроп вошел со скованными руками, в зале наручники сменили на кожаный ремень.
Поднявшись на эшафот, «бывший дипломатический кудесник нацистского царства», как его иронично назвал Смит, возвестил собравшимся: «Боже, храни Германию». Получив разрешение на короткое продолжение, человек, сыгравший решающую роль в развязывании войн против многих стран, сказал: «Мое последнее желание – чтобы Германия вновь обрела единство, чтобы было достигнуто взаимопонимание между Востоком и Западом. Я мечтаю о мире во всем мире».
Вудс надел ему на голову черный мешок, поправил веревку и дернул за рычаг, открывая под ногами Риббентропа люк.
Две минуты спустя в зал вошел фельдмаршал Кейтель. Смит справедливо отметил, что он был «первым военачальником, казненным согласно новой концепции международного права: профессиональный военный не может избежать наказания за развязанную агрессию и военные преступления против человечества, ссылаясь на то, что он всего лишь добросовестно выполнял приказы начальства».
Кейтель сохранял выправку до последнего. Стоя на эшафоте с петлей на шее, он громко отчеканил, не выказывая ни малейших признаков страха: «Я прошу всемогущего Господа быть милосердным к народу Германии. Более двух миллионов немецких солдат погибли за отчизну до меня. Я иду вслед за моими сыновьями – во имя Германии».
Пока Риббентроп и Кейтель еще висели в петле и обе виселицы были заняты, объявили перерыв. Американский генерал, представлявший Контрольную комиссию союзников, позволил собравшимся – их было около тридцати человек – закурить. Почти все тут же полезли за сигаретами.
Вскоре врачи из США и СССР со стетоскопами исчезли за занавесом виселицы, чтобы подтвердить смерть приговоренных. Когда врачи вернулись, Вудс поднялся по ступенькам первого эшафота, достал нож и перерезал веревку. Тело Риббентропа, чья голова по-прежнему была закрыта черным мешком, на носилках отнесли в угол спортзала, закрытый черной завесой. Туда же затем последовали все остальные тела.
Перерыв закончился, американский полковник скомандовал: «Джентльмены, уберите, пожалуйста, сигареты».
В 1:36 настала очередь Эрнста Кальтенбруннера; тот сперва возглавлял СС в Австрии, а позднее сменил убитого Рейнхарда Гейдриха на посту начальника Главного управления имперской безопасности (РСХА) – той самой организации, которая отвечала за массовые казни и работу концлагерей. Среди тех, кто ему подчинялся, были Адольф Эйхман, возглавлявший в РСХА отдел по еврейскому вопросу, и Рудольф Хёсс, комендант Освенцима.
В отличие от Кальтенбруннера, которого под конец войны американцы выследили в убежище в Австрийских Альпах, Эйхману на тот момент удалось скрыться. А вот Хёсса уже схватили в Северной Германии, и он давал показания на Нюрнбергском процессе, хотя сам встретится с палачом позже.
Даже стоя на эшафоте, Кальтенбруннер настаивал (как и в недавних беседах с американским психологом Гилбертом[16]), что ничего не знал о преступлениях, за которые был осужден: «Я всем сердцем любил немецкий народ и родину. Я выполнял свой долг согласно законам моей страны. Мне жаль, что мой народ возглавили люди, которые не были солдатами, и что были совершены преступления, о которых я не знал».
Когда Вудс надел ему черный мешок, Кальтенбруннер добавил: «Будь счастлива, Германия!»
Казнь Альфреда Розенберга, одного из первых членов НСДАП, считавшегося первосвященником расистского культа «расы господ», заняла меньше всего времени. От последнего слова он отказался. Несмотря на показной атеизм, его сопровождал протестантский священник, который продолжал молиться, когда Вудс дернул за рычаг.
После очередного короткого перерыва ввели Ганса Франка, гауляйтера, или генерал-губернатора, оккупированной Польши. В отличие от остальных, он сказал Гилберту после объявления приговора: «Я это заслужил, и я этого ожидал».[17] Франк, в тюрьме обратившийся в римско-католическую веру, был единственным, кто улыбался во время казни, хоть и часто сглатывал слюну, что выдавало нервозность. Однако, по свидетельству Смита, он явно испытывал облегчение, что скоро искупит свои грехи.
Последние слова Франка это подтверждали: «Я благодарен за хорошее обращение во время моего заключения и прошу Бога принять меня с милостью».
Вслед за ним последовал Вильгельм Фрик, министр внутренних дел Третьего рейха, который сказал напоследок лишь: «Да здравствует вечная Германия!»
В 2:12, по свидетельству Смита, к виселице подошел «уродливый коротышка, похожий на гнома» – Юлиус Штрейхер, редактор и издатель злобной нацистской газеты «Дер Штюрмер». Его лицо заметно подергивалось. На просьбу назвать себя он заорал: «Хайль Гитлер!»
Смит, редко описывающий в статьях собственные эмоции, на этот раз признался: «По спине у меня побежали мурашки».
Когда Штрейхера силой заставили подняться на виселицу и встать перед Вудсом, он обернулся к свидетелям и крикнул: «Пурим 1946 года!», тем самым намекнув на еврейский праздник в честь казни Амана, который, согласно Ветхому Завету, хотел убить всех евреев в Персидской империи.
Вместо последнего слова Штрейхер прокричал лишь: «Большевики и вас когда-нибудь повесят!» А когда на него надевали черный капюшон, успел произнести: «Адель, моя дорогая жена».
Однако драма только начиналась. Когда люк со стуком открылся и Штрейхер упал вниз, веревка туго натянулась и начала бешено вращаться, а из-под виселицы послышались стоны. Палач неторопливо сошел вниз и скрылся за черным занавесом. Вскоре стоны прекратились и веревка замерла. Смит и другие свидетели не сомневались, что палач схватил Штрейхера, с силой потянул вниз и задушил.
Что-то пошло не так – или все было спланировано? Лейтенант Стэнли Тилс, контролировавший ход казни, позднее утверждал, что Вудс намеренно сдвинул узел на петле, чтобы осужденный не сломал шею при падении и его пришлось бы душить. «Все отвлеклись на спектакль, который устроил Штрейхер, а на Вудса никто не смотрел. Я знал, как тот ненавидит немцев… и видел, что он весь идет пятнами и сжимает зубы», – писал Тилс, добавив, что намерения Вудса были более чем очевидны: «Я видел, как он ухмылялся, когда дергал за рычаг виселицы».[18]
Шествие нераскаявшихся грешников продолжалось – как и «промахи» палача. Заукель, ответственный за организацию использования рабского труда, с вызовом крикнул: «Я умираю невинным. Приговор несправедлив. Боже, защити Германию и сделай ее снова великой. Да здравствует Германия! Боже, защити мою семью!» После его падения в люк из-под виселицы снова слышались стоны.
Альфред Йодль, одетый в мундир вермахта с перекошенным воротником, лишь кратко сказал: «Приветствую тебя, Германия».
Последним из десяти был Артур Зейсс-Инкварт, который помог нацистам установить власть в своей родной Австрии, а затем управлял оккупированной Голландией. Припадая на одну ногу, он поднялся на виселицу и, подобно Риббентропу, заявил, что ратует за мир: «Надеюсь, что эта казнь будет последней трагедией Второй мировой войны и что случившееся послужит уроком: между народами должны быть мир и взаимопонимание. Я верю в Германию».
Он умер в 2:45 ночи.
Вудс подсчитал, что от первой до последней казни прошло 103 минуты. «Быстрая работа»,[19] – отметил он.
Пока тела последних казненных еще болтались на веревках, охранники вынесли на носилках одиннадцатое тело. Оно было укрыто одеялом армии США, из-под которого высовывались большие босые ноги и одна рука в черном шелковом рукаве пижамы.
Полковник велел снять одеяло, чтобы избежать любых сомнений в личности умершего. Лицо Германа Геринга «все еще было искажено мукой предсмертных мгновений и последней в его жизни гримасой пренебрежения, – отметил Смит. – Тело вновь быстро накрыли одеялом, и этот нацистский военачальник, погрязший, подобно персонажу времен династии Борджиа, в крови и наслаждениях, проследовал за холщовый занавес и на черные страницы истории».
В интервью для «Старс энд страйпс» после казни Вудс утверждал, что процедура прошла именно так, как он планировал:
«Я повесил в Нюрнберге десятерых нацистов и этим горжусь. Работа была отличная, по высшему разряду… Лучшая казнь в моей жизни. Жаль только, что этот парень, Геринг, от меня ускользнул. Уж я бы с ним постарался. Нет, я не нервничал. Я никогда не нервничаю. В моей работе нервы ни к чему. Но эту работу в Нюрнберге – я ее хотел. Хотел так сильно, что специально ради нее задержался, хотя мог вернуться домой пораньше».[20]
Однако после казни Вудс подвергся яростной критике. Согласно отчетам Смита, было понятно: с казнью Штрейхера возникли проблемы, и с Заукелем, скорее всего, тоже. Публикация лондонской «Стар» утверждала, что высота виселицы была слишком мала, а осужденных связали чересчур слабо, поэтому они бились головой о люк и «умирали от медленного удушья».[21] В своих мемуарах генерал Телфорд Тейлор, который помогал подготовить Международный военный трибунал против главных нацистов, а затем стал главным прокурором в последующих двенадцати судебных процессах, отметил, что фотографии тел подтверждают эти подозрения. Более того, на некоторых лицах видна кровь.
Так и возникли спекуляции, что Вудс сработал халатно. Альберт Пирпойнт, опытный палач британской армии, не хотел открыто критиковать коллегу, однако в интервью все-таки упомянул о «некоторый неуклюжести… которой способствовали традиционная высота эшафота в пять футов и, как по мне, старомодный ковбойский узел».[22] В своем отчете о Нюрнбергском процессе немецкий историк Вернер Мазер утверждал, что Йодль умирал восемнадцать минут, а Кейтель – «никак не меньше двадцати четырех».[23]
Эти сведения не совпадали с отчетом Смита, и, возможно, цифры были намеренно преувеличены ради сенсации. Тем не менее казни прошли не так гладко, как утверждал Вудс. Он пытался ответить на критику, говоря, что иногда во время повешения осужденный прокусывает язык – отсюда и кровь на лицах.[24]
Впрочем, развязавшаяся дискуссия лишь подчеркнула проблему, которую подняли еще осужденные: почему их решили повесить, а не расстрелять? Сам Вудс искренне предпочитал именно первый способ казни. Обермайер, который хорошо его знал по прошлым экзекуциям, вспоминает один «хмельной» разговор,[25] когда кто-то из солдат спросил палача, хотел бы он сам умереть от веревки. «Я думаю, – ответил Вудс, – это чертовски хороший способ. Наверное, в конце концов так я и умру».
«Ох, господи, ты серьезно? О таком не шутят», – поразился другой солдат.
Но Вудс не смеялся. «Я чертовски серьезен, – возразил он. – Это чистый, безболезненный и традиционный способ». А потом добавил: «Палачи по традиции сами себя вешают в старости».
Обермайер, впрочем, не разделял его убеждений о мнимых преимуществах казни такого рода. «Повешение – это очень унизительно, – говорил он, вспоминая свои споры с Вудсом. – Знаете почему? Потому что в момент смерти сфинктер расслабляется, и запросто можно обгадиться». Неудивительно, что нацистские генералы так отчаянно требовали расстрела.
Тем не менее, Обермайер не сомневался: Вудс искренне верил, что выполнил свою работу со всей душой. Пирпойнт, британский палач, чьи отец и дядя были его коллегами, в конце карьеры заявил о том же: «Я действовал от имени государства и убежден: это самый гуманный и достойный способ казни для преступника».
Среди жертв Пирпойнта во время его работы в Германии были, в частности, «бельзенские звери» – бывший комендант концлагеря Берген-Бельзен Йозеф Крамер и печально известная надзирательница-садистка Ирма Грезе, которая отправилась на виселицу в возрасте всего лишь двадцати одного года.
В отличие от Вудса, Пирпойнт дожил до старости и в конце жизни разуверился в эффективности высшей меры наказания: «Смертная казнь, с моей точки зрения, не приносит ничего, кроме мести».[26]
Обермайер, который вернулся в Соединенные Штаты еще до проведения казней, утверждал, что Вудс все свои экзекуции, в том числе и самую известную, исполнял с надлежащим профессионализмом. «Для него это была всего лишь работа. Уверен, что он считал себя наемным работником, скорее мясником со скотобойни в Канзасе, нежели безумным фанатиком вроде тех, кто обезглавил Марию-Антуанетту на площади Согласия».
Однако неудивительно, что после холокоста понятия мести и правосудия смешались воедино, невольно сказавшись и на действиях палачей.
Что до Вудса, то он ошибся насчет собственной смерти. В 1950-м палач случайно погиб от удара электричеством, когда чинил проводку на Маршалловых островах.
Глава 2 «Око за око»
Если евреи вдруг решат отомстить, то помилуй нас, немцев, Господь.[27]
Майор Вильгельм Трапп, командир 101-го Резервного полицейского батальона – одного из самых известных немецких карательных отрядов в оккупированной ПольшеКогда армия союзных держав вторглась в Германию, солдаты жаждали покарать нацистов – и не только из-за «еврейского вопроса», хотя, конечно, маниакальная и методическая попытка истребления целого народа тоже сыграла свою роль. Любая страна, оккупированная гитлеровскими войсками и превращенная в выжженные руины, полные трупов, имела достаточно мотивов, чтобы ответить немцам тем же. Например, солдат советской Красной армии особенно разъярили нацистские эксперименты над «недочеловеками» и программа принудительного переселения «низшей расы» славян на восток, где они вымерли бы от голода и рабского труда.
Гитлеровская политика массовых убийств на завоеванных территориях и жестокое обращение с советскими военнопленными быстро убедили советскую армию, что плен равносилен смерти. Это стало щедрым подарком для сталинских пропагандистов и позволило им еще сильнее подхлестнуть ненависть к захватчикам.
В августе 1942 года Илья Эренбург, военный корреспондент газеты «Красная звезда», сочинил свои самые известные строки:[28] «Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово “немец” для нас самое страшное проклятье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. <…> Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. <…> Если ты убил одного немца, убей другого – нет для нас ничего веселее немецких трупов».[29]
Гонения на нацистов – точнее немцев – начались задолго до появления самого термина «охотники за нацистами». У людей не было ни времени, ни желания выяснять разницу между рядовыми солдатами (да даже и гражданскими лицами) и высшим военно-политическим руководством. Мотив был прост: победа и мщение. Однако, когда нацистские войска столкнулись с растущим сопротивлением, и их окончательный разгром становился все более и более неизбежным, лидеры Антигитлеровской коалиции стали задумываться: какую цену должны заплатить проигравшие за свои преступления?
Когда в октябре 1943 года министры иностранных дел держав «Большой тройки» встретились в Москве, они решили наказать самых крупных немецких военных преступников, а остальных «отослать в страны, в которых были совершены их отвратительные действия».[30] И хотя Московская декларация заложила основу для будущих судебных процессов, Государственный секретарь США Корделл Хэлл заявил, что юридическое разбирательство в отношении высших политических чинов – не более чем формальность: «Если бы это зависело от меня, я бы предал Гитлера, Муссолини, Тодзио и их основных соратников военно-полевому суду. И на рассвете следующего дня произошло бы историческое событие!»[31]
Шесть недель спустя на конференции в Тегеране Иосиф Сталин сказал, что Уинстон Черчилль, подготовивший основные положения Московской декларации, слишком мягок к немцам. В качестве альтернативы он предложил решение из разряда тех, что активно практиковались в его стране: «По меньшей мере пятьдесят тысяч, а возможно, и сто тысяч представителей германского командного состава должны быть физически ликвидированы».[32] Он также заявлял: «Давайте выпьем за самое быстрое правосудие для всех германских военных преступников – правосудие перед расстрельной командой. Я пью за то, чтобы мы объединенными усилиями покарали их, как только они попадут в наши руки. Всех их».[33]
Черчилль сразу же возмутился: «Я не собираюсь участвовать в такой хладнокровной бойне!» Надо разделять военных преступников, которые должны понести наказание, и тех, кто просто сражался за родину. Он добавил, что скорее застрелится, чем согласится «запятнать честь своей страны подобным позором». Президент США Франклин Рузвельт, чтобы сгладить неловкий момент, неудачно пошутил и предложил двум лидерам найти разумный компромисс и расстрелять не 50 тысяч, а, «скажем, 49 с половиной».
Однако к саммиту в Ялте в феврале 1945 года взгляды Сталина и Черчилля разительным образом поменялись. Гай Лиделл, директор контрразведки МИ-5, вел в военные годы дневник, который рассекретили только в 2012 году. Согласно его записям, Черчилль поддержал план, предложенный его администрацией, – некоторых лиц устранить, а других отправить за решетку без суда. Под «некоторыми лицами» имелось в виду высшее нацистское командование. «Это было гораздо более разумным предложением, которое никак не повредило бы репутации закона»,[34] – подытоживал Лиделл.
Как следует из дневника Лиделла, в «Большой тройке» произошла странная перемена позиций: «Уинстон выдвинул это предложение в Ялте, однако Рузвельт посчитал, что американцы могут потребовать суда, – записал он через несколько месяцев после саммита. – Иосиф же поддержал Рузвельта, откровенно заявив, что русским нравятся публичные суды, проводимые в целях пропаганды. Мне начинает казаться, что мы опускаемся до уровня пародий на правосудие, характерных для СССР последних двадцати лет».
Иными словами, Сталин поддержал Рузвельта только для того, чтобы воспроизвести советские показательные процессы 1930-х годов. Чего, собственно, и хотел избежать Черчилль, пусть даже ценой массовых казней без суда и следствия. И хотя именно американское предложение возобладало и именно так была заложена основа Нюрнберга, первые семена сомнений в необходимости процессов были посеяны уже тогда.
* * *
На заключительном этапе войны солдаты Красной армии дали выход своей ярости. До этого они четыре года сражались на родной земле, неся огромные потери и видя разрушения, которые принесли на их землю немецкие захватчики. Когда же они наконец начали движение к Берлину, противник не стал сдаваться перед неизбежным. Немецкие солдаты гибли в рекордных количествах: только за один месяц, январь 1945 года, когда Советский Союз начал крупнейшее наступление, их полегло свыше 450 тысяч.[35] Это больше, чем США потеряли за всю войну!
Нацистское командование усилило террор против своего народа, вынуждая его подчиниться приказу Гитлера и стоять до конца. Новые «летучие военно-полевые суды фюрера» отправились на проблемные участки фронта, чтобы проводить массовые казни солдат, подозреваемых в дезертирстве или подрыве боевого духа, – жуткое эхо сталинского приказа беспощадно расстреливать собственных офицеров и бойцов во время немецкого наступления.[36] И все же германские подразделения, даже ослабленные и практически разоруженные, пока что сдерживали противника и наносили ему существенный урон.
Началась вакханалия смерти, одобренная высшим советским командованием. В приказе маршала Георгия Жукова по 1-му Белорусскому фронту накануне январского наступления 1945 года на территории Польши, а затем и Германии было написано: «Горе земле убийц. Мы отомстим за все, и наша месть будет ужасной».[37]
Еще даже не достигнув границы с Германией, в Венгрии, Румынии и Силезии красноармейцы уже приобрели репутацию насильников. Они не видели разницы между немецкими и польскими женщинами, виновными лишь в том, что живут на спорной территории, которую считали своей две страны. Когда же Красная армия стала продвигаться в Германию, ужасающие рассказы об изнасилованиях доходили из каждого города, каждой деревни, взятых советскими войсками. Василий Гроссман, русский писатель и военный корреспондент, утверждал: «С немецкими женщинами происходят ужасные вещи. Сегодня образованный немец на ломаном русском с помощью жестов рассказывал нам, что его жену изнасиловали десять человек».[38]
Конечно, в официальных репортажах Гроссман об этом не сообщал. Старшие офицеры пытались прекратить бесчинства, и через несколько месяцев после 8 мая, дня капитуляции Германии, в стране установился относительный порядок, хотя и не везде. По приблизительным оценкам число изнасилованных, причем неоднократно, женщин достигло почти двух миллионов.[39] Изнасилования вызвали череду самоубийств.
Чуть позднее, 6 и 7 ноября 1945 года, в годовщину большевистской революции, Герман Мацковски, немецкий коммунист, назначенный новыми властями мэром одного из районов Кёнигсберга, отмечал, что оккупанты вели себя отвратительно: «Мужчин избивали, практически всех женщин изнасиловали, в том числе мою семидесятиоднолетнюю мать, которая к Рождеству умерла».[40] Единственными сытыми немцами в городе, добавлял он, были женщины, забеременевшие от русских солдат.
Немок насиловали не только советские солдаты. Согласно свидетельству одной британки, которая была замужем за немцем и жила в деревне блиц Шварцвальда, однажды ночью к ним пришли французские марокканские войска, «окружили каждый дом и изнасиловали всех женщин от 12 до 80 лет».[41] За этим делом были замечены и американцы, но не в таких масштабах. В отличие от того, что творилось на востоке страны, где располагалась Красная армия, здесь наблюдались единичные случаи, за которые насильники порой даже несли наказание. Приговоры, в частности, приводил в исполнение тот самый Джон Вудс.
Немцам мстили и по-другому: например, выселяя все этническое население с территорий рейха, которые отходили Польше, Чехословакии и Советскому Союзу (тот же Кёнигсберг, например, переименовали в Калининград): победители полностью перекраивали карту региона. Миллионы немцев уже начали паническое бегство из этих местностей перед приближающейся Красной армией. Часть из них перебралась сюда всего шестью годами ранее, следуя за движением гитлеровских армий на восток, и участвовала в жестоком подавлении местного населения. Что могло бы аукнуться им сейчас.
По Потсдамскому соглашению, подписанному Сталиным, новым президентом США Гарри Трумэном и новым британским премьер-министром Клементом Эттли 1 августа 1945 года, депортацию надлежало вести «гуманным и упорядоченным образом».[42] Однако реальная ситуация резко контрастировала со столь обнадеживающей риторикой. Умирая от голода и истощения в отчаянном марше на запад, беженцы часто становились жертвами своих бывших подданных – подневольных рабочих и узников концлагерей, которым удалось выжить. Даже те, кто пострадал от нацистов не так уж и сильно, все равно стремились к мщению.
Один чех, служивший в ту пору в милиции, рассказывает о судьбе случайного прохожего: «Гражданские вытащили немца на перекресток и подожгли его… Я ничего не мог поделать, потому что, если бы сказал хоть слово, сам оказался бы рядом с ним. Наконец кто-то из солдат Красной армии не выдержал и застрелил несчастного».[43]
Общая численность изгнанных этнических немцев к концу 1940-х годов составила порядка 12 миллионов. Оценки числа погибших при этом сильно рознятся.[44] В 1950 году правительство Западной Германии утверждало, что погибло около одного миллиона, по последним данным – около 500 тысяч. Однако, каковы бы ни были истинные цифры, победителей не беспокоили судьбы немцев. Они соответствовали обещанию маршала Жукова о «страшной мести».
* * *
29 апреля 1945 года 42-я пехотная дивизия армии США, известная как «радужная», потому что была сформирована из подразделений Национальной гвардии двадцати шести штатов и Вашингтона (округ Колумбия), вошла в Дахау и освободила примерно 32 тысячи узников в главном лагере.[45]
Хотя формально его крематорий никогда не использовался, основной лагерь и сеть лагерей-сателлитов функционировали без остановки. В них пытали, убивали и морили голодом тысячи пленных. Разработанный как первый полноценный концлагерь нацистской эпохи, Дахау использовали в основном для политических заключенных, хотя доля евреев увеличилась за годы войны.[46]
Американские солдаты своими глазами увидели невообразимые ужасы. Бригадный генерал Хеннинг Линден, помощник командира дивизии, сообщал в официальном докладе: «Вдоль железной дороги, проходящей по северному краю лагеря, я обнаружил состав из 30–50 вагонов. В каждом из них – и пассажирских, и товарных, и на открытых платформах – были свалены мертвые заключенные, по 20–30 тел в вагоне. Некоторые валялись на земле возле поезда. Насколько я понял, большинство умерло от побоев, голода или пуль, или от всего сразу».[47]
В письме родителям лейтенант Уильям Коулинг, адъютант Линдена, описал увиденное куда более эмоциональными фразами: «Вагоны были полны мертвых тел. Большинство голые, от них оставались лишь кожа и кости. Руки и ноги толщиной, ей-богу, не более пары дюймов, и вовсе нет ягодиц. В затылке у многих пулевые отверстия. От увиденного у нас выворачивало желудки и мутило рассудок. Мы могли лишь бессильно сжимать кулаки от ярости. Я так и вовсе потерял дар речи».[48]
Линдена встретил офицер СС под белым флагом вместе с представителем швейцарского Красного Креста. Офицер объявил, что сдает лагерь и сдается сам вместе с охранниками. Но внутри лагеря американцы услышали выстрелы. Линден отправил Коулинга выяснить, что там происходит. Тот отправился вперед на джипе вместе с американскими репортерами, проехал в ворота и попал на пустую площадь.
«И вдруг со всех сторон показались люди, если их можно так называть, – рассказывал он в своем письме домой. – Грязные, изголодавшиеся скелеты в лохмотьях, они кричали что-то и плакали. Подбежали к нам и начали целовать мне и газетчикам руки и ноги, пытались прикоснуться к одежде. Потом схватили и стали бросать в воздух, крича из последних сил».
Не обошлось без трагедии. Когда заключенные рванулись вперед, чтобы обнять американцев, некоторые коснулись колючей проволоки под электрическим напряжением и были немедленно убиты.
Американцы принялись осматривать лагерь, обнаруживая все новые груды мертвых тел и бараки, полные больных тифом пленников. Охранники СС тем временем охотно сдавались, хотя некоторые оказали сопротивление или открыли огонь по заключенным, которые пытались прорваться через ограду. В обоих случаях ответ последовал незамедлительно.
«СС пытались потренировать на нас свои пулеметы, – сообщил подполковник Уолтер Фелленс, – но мы убивали каждого, кто открывал огонь. В итоге мы убили семнадцать охранников».[49]
Другие солдаты смотрели, как пленники настигают надзирателей, и не испытывали никакого желания вмешаться. Капрал Роберт В. Флора вспоминает,[50] что сдавшимся добровольно еще повезло: «На тех, кого мы не убили и не арестовали, охотились освобожденные узники. Я сам видел, как заключенный буквально топчется на лице солдата СС, хотя от него уже мало что осталось». Флора сказал тогда взбешенным узникам, что «его сердце тоже пылает ненавистью», и добавил: «Я вас не виню».
Другой освободитель, лейтенант Джордж А. Джексон, видел, как группа примерно из двухсот узников окружала немецкого солдата, который пытался сбежать. Он был в полном снаряжении и вооружен, но ничего не мог сделать против изможденных заключенных. «Все происходило в полной тишине, – говорил потом Джексон. – Словно это был какой-то ритуал».[51]
Один из узников, весивших, по оценке Джексона, не более семидесяти фунтов, схватил охранника за китель. Второй отобрал у него винтовку и принялся бить его по голове. «Я понял, что, если сейчас вмешаюсь, события развернутся самым непредсказуемым образом», – вспоминает Джексон. Поэтому он просто ушел, а когда минут через пятнадцать вернулся, «голова охранника превратилась в фарш». Толпа заключенных исчезла, и лишь труп свидетельствовал о развернувшейся здесь драме.
Что до лейтенанта Коулинга, то участие в освобождении Дахау заставило его задуматься о том, как он брал немецких солдат в плен ранее и как будет это делать в будущем. «Я больше не возьму в плен ни одного немца: ни вооруженного, ни безоружного, – клялся он в письме родителям через два дня после сурового испытания. – Как они могут рассчитывать после всего содеянного остаться безнаказанными? Они недостойны жить».[52]
* * *
Красная армия продвигалась на восток, а Тувья Фридман, молодой еврей из города Радом в Центральной Польше, мечтал не только сбежать из лагеря, где находился на положении раба, но и отомстить за потерю в холокосте большей части своей семьи: «Все чаще я ловил себя на мысли о мести, о том дне, когда мы, евреи, за все отплатим нацистам: око за око»,[53] – вспоминал он позднее.
Пока немцы готовились к эвакуации, Фридману и двум его товарищам удалось сбежать через заводскую канализацию. Пробравшись ползком среди нечистот, они выбрались на поверхность в лесу по ту сторону колючей проволоки. В ручье отмылись, и с этого момента началась их новая свободная жизнь. Фридман позднее описывал переполнявшее их чувство восторга: «Нам было очень страшно, но мы оказались на свободе».
В тех краях уже действовали польские партизанские отряды, сражавшиеся не только с немцами, но и друг с другом. На кону стояло будущее Польши после германской оккупации. Самым крупным и мощным нерегулярным формированием тех времен была Армия Крайова (АК) – антикоммунистическая подпольная группа, подчинявшаяся польскому правительству в изгнании.[54] Коммунисты же организовали Гвардию Людову (она же Народная Гвардия) – куда менее многочисленную и ратующую за присоединение к советскому пространству.
Фридман назвался именем Тадека Яшинского, чтобы скрыть еврейское происхождение не только от немцев, но и от антисемитов из числа местных жителей, и присоединился к работе польской милиции коммунистов под руководством лейтенанта Адамского. Их главной задачей было, по свидетельству Фридмана, «положить конец анархической деятельности» Армии Крайовой, а также «выискивать и арестовывать немцев, поляков и украинцев, которые занимались военной деятельностью, наносящей ущерб интересам Польши и польского народа».
«Я взялся за работу с невероятным энтузиазмом, – рассказывал Фридман. – Командуя несколькими новобранцами, чувствуя под рукой надежный револьвер в кобуре, я арестовывал одного нациста за другим».
Фридману с товарищами действительно удалось выследить нескольких настоящих военных преступников. Они схватили украинского старшину Шронского, который «забил насмерть столько евреев, что не мог вспомнить сколько», а тот, в свою очередь, вывел их на другого преступника-украинца, позднее повешенного. Однако понятие «интересов Польши» было слишком размытым и подразумевало арест каждого, кто не приветствовал идею советского господства – в том числе храбрых польских партизан, сражавшихся с немцами во время оккупации.
Пока Красная армия преследовала отступающие германские войска, Кремль арестовал в Варшаве шестнадцать лидеров Армии Крайовой и поместил их в печально известную московскую тюрьму Лубянка. В июне, после официального окончания войны, им устроили показательный суд и в качестве награды за шестилетнюю борьбу с нацистами вынесли вердикт: тюремное заключение за «диверсионную деятельность против Советского Союза».[55]
Впрочем, Фридмана политика не интересовала. Он предпочел связать судьбу с теми, кто поддерживал Красную армию, лишь по одной причине – чтобы больше не подвергаться нападкам польских антисемитов. Его не интересовали идеологические установки будущих хозяев Польши. Куда важнее было отомстить немцам – и коммунисты такую возможность ему предоставили.
Фридмана и пятерых его товарищей из Радома отправили в Данциг, балтийский портовый город. Там они увидели спешное отступлением немецких солдат. «Они представляли собой жалкое зрелище: едва держались на ногах, все в повязках, замаранных кровью, – писал он. – Однако мы просто не могли испытывать к ним жалость или сочувствие. Эти люди должны были ответить за свои преступления».
Город догорал в пожарищах, а красноармейцы и польская милиция подрывали здания, которые могли обрушиться в любой момент. «Словно Рим, подожженный Нероном», – добавлял Фридман.
От столь резкой перемены судьбы новичков переполняли эмоции. «Мы чувствовали себя пришельцами с другой планеты, чье прибытие заставляет местных жителей в ужасе бросаться врассыпную», – рассказывал он. Они громили квартиры немцев, брошенные в такой спешке, что повсюду оставались одежда, личные вещи, даже деньги. В одном из домов нашли фарфоровые вазы – «из Дрездена, наверное», отметил Фридман – и сыграли ими в футбол, оставив лишь груду осколков.
Впрочем, к самопровозглашенной миссии «разыскивать нацистских палачей и убийц, чтобы отомстить и предать правосудию» они подходили более дисциплинированно. В Министерстве госбезопасности им, например, поручили арестовать всех немцев-мужчин от пятнадцати до шестидесяти лет. «Схватим эту нацистскую мразь и очистим город», – велел им старший офицер.
В своих мемуарах Фридман вспоминал, как его старшая сестра Белла описывала депортацию евреев из Радома: «Идут, словно овцы на убой». Подобные выражения часто повторялись при обсуждениях холокоста в течение длительного времени. Описывая удовлетворение, которое он испытывал в Данциге, где допрашивал и бросал в тюрьму немцев, Фридман использовал те же сравнения: «Мы поменялись ролями, и благодаря моему чудесному польскому мундиру теперь я мог командовать этими некогда гордыми представителями расы господ, как испуганными овцами».
Он признавал, что на допросах был довольно беспощаден и избивал заключенных, чтобы получить признание: «В моем сердце кипела ярость. Я ненавидел их проигравшими так же сильно, как в те ужасные дни, когда они были победителями».
Много лет спустя после войны он заявил: «Сейчас при мыслях о прошлом мне становится совестно, но нужно помнить, что дело было весной 1945 года, немцы еще сражались на два фронта: против союзных войск и русской армии, а я тогда не знал, что из моей семьи хоть кто-то выжил в нацистских лагерях». И Фридман, и другие продолжали находить новые доказательства зверств, совершенных нацистами: например, комнату, полную голых тел со следами продолжительных пыток. Однако уже тогда он обеспокоился тем, что создает себе репутацию «безжалостного человека».
Позднее он узнал, что его сестра Белла выжила в Освенциме, что вынудило Фридмана сдать униформу и вернуться в Радом. Там они оба решили покинуть Польшу, ставшую для них совсем чужой страной. Антисемитизм еще оставался привычным явлением, а из ближайших родственников больше никто из концлагерей не вернулся. Сперва они вместе с другими выжившими хотели поехать в Палестину при помощи «Брихи́» – подпольной организации, помогавшей евреям наладить нелегальные пути эмиграции из Европы. Именно «Бриха» (на иврите «побег») подготовила почву для создания Государства Израиль.
Однако путешествие пришлось прервать, и он на несколько лет остался в Австрии. Там Фридман продолжал охотиться за нацистами. Он по-прежнему жаждал отмщения, хоть и отказался от жестоких методов, которые были столь популярны в коммунистической Польше.
* * *
Увидев 5 мая 1945 года, как большой танк с развевающимся американским флагом въезжает в ворота концлагеря Маутхаузен близ австрийского города Линц, изможденный узник в полосатой форме не поверил своим глазам. Чтобы убедиться в реальности танка, он должен был его потрогать, однако ему не хватило сил пройти эти несколько шагов. Колени подогнулись. Американские солдаты подхватили его на руки, он успел мимоходом коснуться звезды на флаге – и упал в обморок.
Придя в сознание на своей койке, Симон Визенталь понял, что он отныне свободный человек. Охранники СС сбежали еще накануне вечером, тела умерших убрали из барака, и в воздухе пахло хлоркой. А самое главное, американцы принесли большой котел с супом. «Самым настоящим супом, ужасно вкусным»,[56] – вспоминал Визенталь.
После еды ему, как и многим заключенным, стало очень плохо – они не могли переварить нормальную пищу. А потом наступили дни, которые Визенталь называл «периодом приятной апатии»: вместо ежедневной борьбы за жизнь в концлагере – щедрый рацион из супа, овощей и мяса наряду с лекарствами от американских докторов в белых халатах… И со временем он вернулся к жизни. Многим другим – Визенталь оценивает их число в 3000 – повезло куда меньше: после освобождения они все равно умерли от истощения.
Визенталю довелось сталкиваться с насилием и трагедиями задолго до Второй мировой войны и холокоста.[57] Он родился 31 декабря 1908 года в Бучаче, маленьком городе Восточной Галиции. В то время она была частью Австро-Венгерской империи, после Первой мировой отошла Польше, а ныне является частью Украины. Бучач населяли преимущественно евреи, но сам регион был многонациональным, и Визенталь вырос, слыша немецкий, идиш, польский, русский и украинский языки.
Регион вскоре был охвачен насилием Первой мировой войны, а позднее – большевистской революции и последовавшей за ней Гражданской войны, когда русские, поляки и украинцы восстали друг против друга. Отец Визенталя, успешный торговец, погиб, сражаясь в рядах австрийской армии. Мать после этого увезла обоих сыновей в Вену, но как только русские в 1917 году отступили, вернулась в Бучач. Когда Симону было двенадцать лет, украинский кавалерист-мародер полоснул его саблей, отчего на бедре остался шрам. Младший брат Симона, Гилель, умер, сломав при падении позвоночник.
Визенталь изучал архитектуру в Праге, а после вернулся домой, где сделал предложение давней возлюбленной, Циле Мюллер, и открыл собственное архитектурное бюро. В студенческие и послеуниверситетские годы он завел немало друзей, причем не только из числа евреев. Визенталь никогда не разделял радикальных взглядов «левых», как большинство молодых людей того времени. Его привлекала другая политическая идея. «В молодости я был сионистом»,[58] – постоянно напоминал он и мне, и другим интервьюерам.
Холокост стал для него такой же реальностью, как для Фридмана и других выживших евреев. В начале войны Визенталь с семьей жил во Львове, городе, который по секретному протоколу пакта Молотова – Риббентропа, разделившему Польшу между Германией и Советским Союзом, сперва отошел советским войскам, а в 1941 году, во время нападения на Советский Союз, был быстро захвачен немцами.
Визенталь оказался в гетто родного города, затем содержался в концлагере неподалеку, а позднее был отправлен на ремонтные работы на Восточной железной дороге. Симону пришлось наносить нацистскую символику на захваченные советские локомотивы. Это был лишь первый этап в последовавшей череде концлагерей, побегов и приключений, которые в конце концов привели его в Маутхаузен под конец войны. Ему удалось организовать побег Цили, и та под вымышленным именем польской католички скрылась в варшавском подполье. А вот к его матери судьба была не столь милосердна…
В 1942 году Визенталь предупредил ее, что грядет новая волна депортации. Чтобы избежать ареста, он велел ей расплатиться золотыми часами, которые мать хранила как зеницу ока. Когда за ней пришел украинский полицейский, мать отдала ему часы. Однако, с болью вспоминал Визенталь, «полчаса спустя пришел второй полицейский, откупиться от которого было уже нечем. У матери было слабое сердце. Надеюсь лишь, что она умерла в поезде и ей не пришлось входить голой в газовую камеру».
Визенталь рассказывал многочисленные истории о своих, казалось бы, чудесных избавлениях от смерти. Например, по его словам, во время облавы на евреев 6 июля 1941 года он стоял у стены в длинном ряду людей, а украинские солдаты, напившись водки, стреляли каждому в затылок. Палачи подходили все ближе и ближе, а он безучастно глядел на стену перед собой и вдруг услышал звон церковных колоколов и крики: «Хватит! Вечерняя молитва!»[59]
Позднее, когда Визенталь стал мировой знаменитостью и все чаще ввязывался в споры с другими «охотниками за нацистами», достоверность подобных историй порой ставили под сомнение. Даже Том Сегев, автор более чем комплиментарной биографии Визенталя,[60] деликатно предположил: «Человек с литературными амбициями, он был склонен давать волю фантазии и зачастую предпочитал правде историческую драму, как будто не верил, что правдивая история способна произвести на слушателей достаточно сильное впечатление».[61]
Впрочем, нет никаких сомнений, что во время холокоста Визенталь пережил немало тяжелых испытаний и лишь чудом избежал смерти множество раз. Также бесспорно, что Визенталь, как Фридман и другие выжившие, «неистово жаждал мести».[62] Фридман, который встречался с Визенталем в Австрии и поначалу сотрудничал с ним в розыске нацистов, это подтверждал: «Из лагерей он вернулся озлобленным, безжалостным и мстительным гонителем нацистских преступников».[63]
Однако сразу после войны Визенталь вовсе не был так безжалостен, как считал Фридман. Слишком слабый, чтобы даже думать о преследовании кого-либо, он был не в состоянии предпринять такие действия, если бы захотел. Но, судя по всему, этап наивных мечтаний о возмездии прошел у него довольно быстро.
Тем не менее Визенталя, как и Фридмана, поразила мгновенная смена ролей в конце войны и то, как эта смена отразилась на бывших мучителях. В Маутхаузене, пока он приходил в себя, его вдруг без видимой причины избил бывший заключенный-поляк. Визенталь решил сообщить о случившемся американцам. Пока он ждал в коридоре, чтобы подать жалобу, мимо водили на допросы пленных солдат СС. Когда рядом оказался особо жестокий охранник, Визенталь невольно отвернулся, чтоб не привлекать его внимание.
«При виде человека в этой форме меня, как всегда, бросило в холодный пот»,[64] – вспоминал он. Однако потом Визенталь увидел, что происходит, – и не мог поверить своим глазам! Под конвоем евреев «эсэсовец весь трясся – совсем как мы перед ним когда-то». Человек, прежде внушавший ужас, теперь вел себя как «презренный испуганный трус… потому что остался без оружия».
И Визенталь тут же принял решение. Он направился в отдел военных преступлений Маутхаузена и предложил тамошнему лейтенанту свои услуги. Американец взглянул на него крайне скептически – у Визенталя ведь не было совершенно никакого опыта.
«И, кстати, сколько вы весите?» – спросил он.
Визенталь ответил, что пятьдесят три килограмма. Лейтенант расхохотался и велел прийти, когда это будет соответствовать действительности.
Десять дней спустя Визенталь вернулся. Ему удалось набрать пару фунтов, однако этого было недостаточно, поэтому он попытался замаскировать бледность, натерев щеки красной бумагой.
Впечатленный его целеустремленностью, лейтенант взял Визенталя на службу. Вскоре Визенталь отправился арестовывать своего первого нациста – охранника СС по фамилии Шмидт. Тот жил на третьем этаже дома. Если бы Шмидт решил оказать сопротивление, бывший узник не сумел бы с ним справиться, ибо потратил все силы на подъем по лестнице. Однако Шмидт был напуган до полусмерти, и, когда Визенталь перевел дух, даже помог своему конвоиру спуститься, поддерживая его за руку.
На улице нацист принялся плакать и умолять о пощаде, ведь он якобы был мелкой сошкой и помогал многим заключенным.
«Да, помогал, – отозвался Визенталь. – Я часто тебя там видел. Ты помогал загонять людей в крематорий».
Так и началась его деятельность в роли «охотника за нацистами». Он так и не переехал в Израиль, хотя его дочь, зять и внуки живут там по сей день. Визенталь избрал другой путь, сотрудничая – а порой и скрещивая мечи – с теми, кто задался целью доставить в Израиль и призвать к правосудию одного из главных организаторов холокоста – Адольфа Эйхмана.
И Визенталь, и Фридман утверждали, что с первых же дней охотились за человеком, устроившим массовую депортацию евреев в Освенцим и другие концентрационные лагеря. Однако в первые послевоенные годы они занимались теми, кто уже был схвачен или кого легко было захватить. Охота на нацистов и их наказание пока еще оставались прерогативой победителей.
Глава 3 Преступный сговор
Мы – очень послушный народ. В этом наша величайшая сила и огромнейшая слабость. Это позволяет нам создавать в новой Германии экономическое чудо или идти за таким человеком, как Гитлер, в одну братскую могилу.[65]
Ганс Гофман, вымышленный немецкий издатель из романа «Досье «Одесса» Фредерика Форсайта (1972)[66]После поражения Германии бо́льшая часть бывших подданных Гитлера спешно открестилась от зверств и массовых убийств, совершенных от имени нации. Общаясь с солдатами армий-победительниц и выжившими евреями, немцы заверяли, что всегда выступали против нацистов – хотя бы в душе́. Многие также рассказывали, что прятали евреев и других жертв нацистского режима. «Если бы все те евреи, о которых мне рассказывали, и впрямь были спасены, нас в конце войны было бы намного больше, чем в начале»,[67] – сухо отметил Визенталь.
Хотя многие немцы к Нюрнбергу и другим судебным процессам отнеслись пренебрежительно, как к «правосудию победителей», были и те, кто радовался мысли, что людей, которые привели Германию к гибели, ждет наказание. Сол Падовер, историк и политолог австрийского происхождения, вместе с американской армией пройдя от Нормандии через всю Германию, провел исследование настроений немецкого населения. После встречи с молодой женщиной, которая прежде занимала высокий пост в Союзе немецких девушек,[68] он записал в блокноте весьма любопытные факты.
Например, отвечая на вопрос о своей роли в Союзе, та «соврала», как пишет Падовер, что ее «принудили».[69] А что, по ее мнению, нужно делать с главными нацистами? – «Как по мне, можете всех их повесить».
Молодая женщина была не одинока в своем желании видеть, как идеологи рейха жизнью заплатят за содеянное. Тем более что это помогло бы ей дистанцироваться от прошлого. Как и многие немцы, она заявляла, что ничего не знала об ужасах Третьего рейха.
Петер Хейденбергер под конец войны служил в германской парашютной дивизии в Италии, ненадолго попал в плен, потом был освобожден и приехал в Дахау. Он искал свою невесту – та бежала из Дрездена после бомбежки 13 февраля и могла укрыться у друзей. «Знаете, Дахау – очень красивый город, у них там есть замок»,[70] – вспоминал он спустя десятилетия. Петер поднялся на холм, где стоял замок, и американец-постовой стал расспрашивать, что ему известно о лагере внизу. «Я сказал, что никогда там не был, знаю лишь, что там располагалась какая-то тюрьма, – ответил Петер. – Он мне не поверил».
Однако уже вскоре Хейденбергер услышал достаточно, чтобы разделить чувства той женщины из Союза немецких девушек. «Я думал, что справедливости ради их всех надо поставить к стенке», – говорил он, вспоминая свою первоначальную реакцию.
Взгляды Хейденбергера поменяются еще и потому, что он в подробностях ознакомится с серией судебных процессов, которые проходили параллельно с Нюрнбергским. В Дахау начали судить людей, на практике реализовывавших планы высшего нацистского командования (в том числе и тех, кого повесили в Нюрнберге). Речь шла об офицерах и солдатах СС, служивших в Дахау и других концентрационных лагерях надзирателями. Американцы искали независимого корреспондента, который мог бы давать информацию о судебных процессах на радио Мюнхена – новом канале победителей. Местный чиновник рекомендовал Хейденбергера – образованного немца, не зараженного нацистскими идеями.
Совершенно не имея опыта репортерской работы, тот тем не менее согласился. Вскоре Хейденбергер готовил прекрасные материалы не только для радио, но и для германской службы новостей и крупных информационных агентств вроде «Рейтер».
Процессы в Дахау не столь известны, как Нюрнбергские, однако они воочию продемонстрировали, чем нацизм был на самом деле. Они позволили вскрыть те детали, которые имел в виду Трумэн, когда после своего президентства сформулировал истинную цель всех судов над нацистами: «Ни при каких условиях не допустить, чтобы кто-то мог сказать: “Ничего этого не было, это всего лишь пропаганда, нам попросту солгали”».[71] Иными словами, послевоенные процессы были призваны не только наказать виновных, но и навеки запечатлеть важные исторические события.
* * *
В отличие от многих своих современников, Уильям Денсон не воевал на европейских полях сражений.[72] Коренной алабамец – чей прадед в Гражданскую войну сражался на стороне конфедератов, чей дед в Верховном суде штата, рискуя всем, защищал афроамериканцев, а отец был уважаемым адвокатом и политиком, – он закончил юридический факультет Гарвардского университета и преподавал право в Вест-Пойнте. Однако в начале 1945 года его призвали на военно-юридическую службу и отправили в Германию. Так тридцатидвухлетний Денсон оказался в полном одиночестве (жена побоялась ехать с ним в раздираемую войной страну) на незнакомой оккупированной территории.
Размещенный вместе с другими сотрудниками военно-юридической службы во Фрайзинге, недалеко от Дахау, он поначалу воспринимал ужасающие слухи о лагере скептически. «Я думал, просто какие-то люди, с которыми в лагере плохо обращались, теперь хотят отыграться и выдумывают всякие сплетни», – пояснял он спустя десятилетия. Однако вскоре он убедился в достоверности этих сообщений. Так как «все свидетели упоминали одни и те же подробности, значит, они и впрямь имели место, поскольку опрошенные не могли встретиться и сфабриковать свои истории».[73]
Последние сомнения освободителей растаяли при обнаружении документации Дахау и других лагерей. В то же время вновь возникли споры – не заслуживают ли лица, ответственные за массовые убийства и экзекуции, немедленной казни без суда и следствия? После осмотра Ордруфа, одного из вспомогательных лагерей Бухенвальда – фабрики смерти, достойной пера Иеронима Босха, генерал Джордж Паттон кричал из своей машины: «Видели, что творят эти сукины дети?! Что творят эти ублюдки! Не смейте брать их в плен!»[74]
Однако Денсон и его коллеги из военно-юридической службы были убеждены,[75] что без судебных процессов обойтись нельзя – надо не только наказать виновных, но и обнародовать ужасающие факты для нынешних и грядущих поколений. Узнав, что именно американские солдаты видели в Дахау, и получив другие доказательства, Денсон, по его словам, «был готов уверовать во что угодно».[76] Поэтому, когда ему приказали вести следствие как можно быстрее, он охотно подчинился. Свидетельства о массовых казнях перевесили все.
Главным следователем Денсона был Поль Гут.[77] Он родился в Вене, в семье евреев, получил образование в Англии, затем переехал в США и почти сразу же попал в лагерь Ритчи (штат Пенсильвания), где проходил разведывательную подготовку наряду с другими беженцами-евреями из Германии и Австрии. Лучший в своем классе, после окончания учебы он продолжил подготовку в Англии. Впоследствии его перевели во Фрайзинг, где он стал одним из самых эффективных армейских дознавателей.
Однако, когда Гут предстал перед арестантами, которых содержали в тех же бараках, где недавно находились их бывшие узники, вряд ли он произвел на них устрашающее впечатление. Скорее наоборот: эсэсовцы ожидали немедленной казни – Гут же перечислил имена сорока надзирателей, которые должны предстать перед американским военным трибуналом, сообщил, что они свободны в выборе адвокатов (чьи услуги будут оплачены за счет победителей) и при желании могут вообще не давать показаний. Как отметил Джошуа Грин, биограф Денсона, «немцы не верили собственным ушам».[78]
На открытии процесса 13 ноября 1945 года зал был переполнен.[79] До Международного военного трибунала в Нюрнберге оставалась еще целая неделя, поэтому здесь присутствовали многие важные лица, например, генерал Уолтер Беделл Смит, начальник штаба Эйзенхауэра, и Клод Пеппер, сенатор от Флориды. Было и немало журналистов, причем самых маститых, таких, как Уолтер Липпман[80] и Маргерит Хиггинс.[81] Однако и Липпман, и Хиггинс даже не досидели до конца первого заседания и перебрались в Нюрнберг, а к концу недели за ними последовали и все остальные газетчики – там предстояло более масштабное мероприятие, обещавшее громкие заголовки. Вскоре освещать судебные процессы в Дахау остались только Хейденбергер и корреспондент «Старз энд страйпс», официального издания американского Министерства обороны.
Итак, все сорок обвиняемых были удивлены, что их вообще судят, а все зрители – тем, как Денсон ведет процесс. «Немцы, незнакомые с американской судебной практикой, буквально пленились его театральностью»,[82] – отмечал Хейденбергер. Денсон занял место прокурора и начал отлично поставленным голосом: «Представляем на рассмотрение суда…» Публику очаровал не только его мягкий южный акцент: «Он умел располагать к себе людей, что, само собой, шло на пользу делу».
Начинающего репортера еще более поразило то, что Денсон сразу же стал относиться к нему как к полноценному журналисту. «Знаете эту американскую манеру во время разговора закидывать ноги на стол? – иронизировал Хейденбергер годы спустя. – Вот примерно так он себя и вел – совершенно непринужденно, будто видел во мне настоящего газетчика».
Однако под нарочитым дружелюбием Денсона скрывалась железная решимость выиграть дело в отношении всех подсудимых. В отличие от Нюрнберга, на этом процессе судили не организаторов, а исполнителей, поэтому им не могли предъявлять обвинение в преступлениях против человечности. Вместо этого Денсон решил доказать, что персонал концлагерей отлично понимал, в чем заключается их цель, и что они совершали преступления группой лиц по предварительному сговору.[83] В таком случае не было необходимости доказывать вину каждого конкретного преступника.
Во вступительном слове долговязый алабамец кратко изложил суть дела: «Мы предъявим многоуважаемому суду доказательства того, что здесь, в Дахау, в течение долгого времени реализовывался план по уничтожению людей. Мы предъявим доказательства, что жертвами этого запланированного истребления были гражданские лица и военнопленные, не желающие подчиняться игу нацизма. Мы предъявим доказательства, что этих людей морили голодом, подвергали экспериментам, как подопытных крыс, и принуждали к изнурительному труду; что содержались они в бесчеловечных условиях, где были неизбежны болезни и смерть… и что каждый из обвиняемых являлся винтиком этой машины уничтожения».[84]
Адвокаты выступали категорически против положения о «винтиках машины», но безуспешно. Впрочем, позднее от подобного подхода отказались, и большинство судебных процессов ориентировалось на конкретные деяния, совершенные ответчиками.
В отличие от Нюрнберга, где доказательная база строилась на изобличающих документах самих немцев, в Дахау упор сделали на свидетелях, длинная череда которых давала ужасающие показания о повседневной работе фабрики смерти. В том числе и о последнем транспорте евреев из Дахау. Как свидетельствовал Али Куки, заключенный-албанец, 21 апреля в принудительном порядке в вагоны загнали 2400 евреев, а 29 апреля, когда армия США освободила лагерь, эти самые вагоны оказались полны трупов.[85] Куки и другие заключенные окрестили состав, так и не покинувший станцию, «поездом смерти». Выжило лишь 600 заключенных, добавил он. Надзиратели никого не подпускали к составу, пока люди внутри умирали от голода.
Также Денсон опирался на признательные показания, которые Гут и другие следователи сумели выбить из обвиняемых. Последовавшие обвинения, что для их получения использовались насильственные методы, Гут всячески отрицал. Но скорость следствия и исход процесса вызывали сомнения в полном соблюдении всех юридических норм. Подводя итог, Денсон заявил: «Хотелось бы подчеркнуть, что эти сорок человек обвиняются не в убийстве. Они обвиняются в преступном сговоре, целью которого были убийства, пытки и насилие».[86] Иными словами, именно «преступный сговор» имел решающее значение, а не отдельные действия.
Денсон отмел все попытки подсудимых оправдаться, что они, мол, просто выполняли приказы, и раскритиковал их за «неспособность отказаться от заведомо неправильных действий». «Ответ “мне так приказали” – не для такого случая», – добавил он.[87] Именно такой подход создал принцип, который использовался на последующих процессах. Завершая выступление, Денсон заявил: «Обвиняемым удастся повернуть стрелки часов цивилизации вспять на тысячи лет, если суд каким-то образом сочтет возможным их оправдать».
Условия содержания бывших немецких господ, оказавшихся пленниками, порой создавали обманчивое впечатление о том, что они находятся на привилегированном положении у победителей. Лорд Рассел из Ливерпуля, заместитель военного прокурора Британской рейнской армии, посетивший в то время Дахау, был крайне поражен увиденным: «Каждый содержится в отдельной просторной камере с электрическим освещением, а зимой – и с центральным отоплением, у них есть кровати, столы, стулья, книги… Они сытые и выспавшиеся, а лица их полны удивления. Они словно спрашивают себя, как здесь очутились».[88]
Однако 13 декабря 1945 года,[89] когда военный трибунал вынес вердикт, все встало на свои места. Суд признал вину каждого из сорока заключенных, и 36 из них приговорил к смертной казни. 23 человека из этих 36 были повешены 28–29 мая 1946 года.
Во время своего визита лорд Рассел вышел во двор и увидел нечто очень странное: «На крыше крематория находился маленький самодельный скворечник для диких птиц, который туда повесил кто-то из психопатов-эсэсовцев».[90]
Увиденное привело его к такому умозаключению: «Только тогда я понял, как народ, подаривший миру Гёте и Бетховена, Шиллера и Шуберта, смог построить Освенцим и Бельзен, Равенсбрюк и Дахау».
* * *
В отличие от остальных членов военно-юридической службы, Денсон не вернулся в Штаты сразу по окончании суда в Дахау. Он стал вести другие процессы – против персонала Бухенвальда, Флоссенбюрга и Маутхаузена, которые проходили здесь же, в Дахау, вплоть до 1947 года. Денсон лично подготовил рекордные 177 обвинений против охранников, офицеров и врачей, каждый из которых был признан виновным.[91] Девяносто семь человек в итоге были повешены.
В октябре 1947 года, когда он собрался-таки вернуться домой, к мирной жизни, газета «Нью-Йорк таймс» оценила его достижения: «Полковник Денсон добился невероятного успеха в Комиссии по военным преступлениям в Дахау. Работая днем над одним делом, а ночью – уже над другим, за два года он стал живым воплощением правосудия для персонала концентрационных лагерей Адольфа Гитлера».[92]
Однако на нем сказались постоянное напряжение и ужасающие факты, с которыми ежедневно приходилось иметь дело. Со ста шестидесяти фунтов он похудел до менее чем ста двадцати.[93] «Говорили, я больше своих свидетелей похож на узника концлагеря», – вспоминал он позднее. В январе 1947 года Денсон серьезно заболел и две недели провел на больничной койке.[94] И все же каждое новое дело словно придавало ему сил бороться дальше.
Его жена, Робина, оставшаяся в США, подала на развод. По словам биографа, она думала, что «выбирает себе спутника жизни из достойной семьи, а не юридического миссионера, который сбежит из семьи, чтобы преследовать нацистов».[95]
Хейденбергер, сдружившийся с Денсоном и другими американцами в Дахау, считал, что причиной развода стало не только это: «Его брак погубили, черт бы их побрал, немецкие фройляйн. У американцев были нейлоновые чулки, и потому они могли получить любую женщину. А почтенные фройляйн оказались теми еще штучками. Билл рассказывал мне о вечеринках, которые бывали у них в Мюнхене. Там творилось невообразимое!» Робина Денсон, узнав о любовных похождениях мужа, просто решила положить конец и без того трещавшему по швам бездетному браку.
Денсон вскоре увлекся молодой немкой, которая тоже измучилась в несчастливом браке.[96] Настоящая графиня, Хуши, как ее называли друзья, бежала от Красной армии из фамильного поместья в Силезии вместе с шестимесячной дочерью на повозке, запряженной лошадью. Потом пережила бомбежку в Дрездене и в конце войны оказалась в баварской деревне. Когда туда вошли первые американские танки, она приветствовала их на прекрасном английском: «Мы сдаем вам поселение».[97] Денсона эта история весьма заинтриговала. Спустя некоторое время он узнал, что Хуши развелась и переехала в Штаты, где они снова встретились и 31 декабря 1949 года заключили брак – по всем признакам, весьма счастливый.
Позднее Денсон называл годы в Германии «вершиной своей карьеры».[98] Однако без конфликтов не обошлось. Оказалось, что уголовные дела, которые он вел в Дахау, вызвали и самые громкие заголовки в газетах, и самые жаркие споры. Особенно весной 1947 года, после дела Бухенвальда.
Документация этого лагеря, как заявил на суде Денсон, «была летописью подлости и садизма, равной которой еще не видела история человечества».[99] И не было случая более скандального, чем дело Ильзы Кох, вдовы первого коменданта Бухенвальда.
Еще до начала судебных разбирательств, по словам Хейденбергера, многие свидетели рассказывали «дичайшие истории об этом сексуальном чудовище». На допросах бывшие узники заявляли, что она обожала провоцировать заключенных развратным поведением, а затем их избивали или убивали.
Бывший узник Курт Фроббес вспоминал, как однажды рыл траншею для кабеля и вдруг увидел вверху Ильзу Кох: «Она стояла над канавой, широко расставив ноги, в короткой юбке и без нижнего белья».[100] Потом спросила, почему на нее смотрят заключенные, и принялась что было сил лупить их плеткой.
Другие свидетели рассказывали, что Ильза Кох собирала абажуры, ножны для ножей и книжные обложки из человеческой кожи. «Все знают о татуированных заключенных из рабочей команды, которых отправили в госпиталь, – рассказывал Курт Ситта, проведший в Бухенвальде всю войну. – Там их увидела Ильза Кох. Этих людей убили, а татуировки срезали».[101]
Освещавший процесс Хейденбергер не сомневался в вине Ильзы Кох, однако вокруг ее персоны ходило слишком много непроверенных слухов. Ее репутация сладострастной садистки, упивавшейся своей властью и сексуальностью, была известна еще до суда. Когда же она стала давать показания, вскрылся факт ее беременности – хотя она находилась в заключении с самого ареста, – и это еще больше распалило страсти на суде. Журналисты наперебой стали выдумывать для нее прозвища. Репортер «Старз энд страйпс» ворвался как-то в пресс-центр с криком: «Придумал! Назовем ее Ведьма Бухенвальда!»[102]
Прозвище прижилось, и на процессе Ильза Кох стала живым воплощением дьявола. Против нее сыграло и то, что обвинение продемонстрировало усохшую голову узника-поляка, который якобы бежал из лагеря, но был пойман и казнен. Голову, по заявлению одного из свидетелей, выставили в лагере напоказ.[103] И хотя напрямую вину Кох доказать не удалось, голову все равно приобщили к делу.
Соломон Суровиц, один из юристов в команде Денсона, посчитал, что вся эта шумиха подрывает само понятие правовой процедуры, и ушел. «Я не могу это больше вынести, – сказал он Денсону. – Я не верю нашим собственным свидетелям, у нас одни лишь слухи».[104]
Расстались они мирно, и Денсон стал еще решительнее собирать доказательства, которые подтвердили бы вину Ильзы Кох, вне зависимости от того, получат ли подтверждения самые сенсационные обвинения в ее адрес или нет. В итоге Кох приговорили к пожизненному заключению, но позднее в ее деле произошло несколько неожиданных поворотов. Да и отношение людей к процессам над военными преступниками начало меняться. Денсон, к тому времени вернувшийся в Штаты, порой подвергался критике, особенно когда истории об абажурах из человеческой кожи стали выглядеть еще более сомнительными.
Хейденбергер признавал, что и сам виноват в поднявшейся вокруг дела шумихе, поскольку иногда предавал огласке непроверенные слухи. Однако он ни капли не сомневался, что Кох и прочие подсудимые по делу Бухенвальда полностью заслужили свой вердикт. Несмотря на все недостатки, судебные процессы Дахау убедили его, что он был неправ, когда считал, будто бы преступников надо казнить на месте без суда: «Не считая некоторых юридически спорных вопросов, военные суды предоставили нам самые достоверные доказательства того, что являл собой холокост».[105]
В 1952 году Хейденбергер эмигрировал в США с женой и двумя сыновьями. Как один из первых немецких репортеров в послевоенной Америке, побывал на пресс-конференции Трумэна в Белом доме. Он уже изучал право в Германии и вскоре поступил в Юридическую школу университета Джорджа Вашингтона. Закончив учебу, Хейденбергер начал юридическую карьеру, периодически защищая интересы жертв холокоста в их исках на компенсацию от германских властей, а позднее стал советником правительства Германии по делам холокоста. Среди его коллег и наставников был и старый друг Уильям Денсон.
Глава 4 Правило пингвина
Он обладал прекрасным тембром голоса, ухоженными руками благородной формы, двигался грациозно и с чувством собственного достоинства. Единственным изъяном этой замечательной личности было то, что он убил 90 тысяч человек.[106]
Судья Майкл Масманно, описывая ответчика Отто Олендорфа во время суда над командирами айнзацгрупп, специальными карательными подразделениями Восточного фронта[107]Летом 2013 года Бенджамин Ференц сидел в шезлонге возле своего скромного бунгало в Делрей-Бич, штат Флорида. В синей рубашке с коротким рукавом, флотских штанах с черными подтяжками и матросской кепке он походил на обычного пенсионера.
Но разве можно назвать обычным человека, который в свои 93 года продемонстрировал мне крепкие бицепсы – результат ежедневных тренировок в спортзале? Который стал стипендиатом Гарвардской школы права, вырвавшись из самого криминального района Нью-Йорка под названием Адская кухня.[108] Который во время Второй мировой высаживался в секторе Омаха-Бич[109] и из-за своего роста едва ли в полтора метра оказался по пояс в воде, хотя его однополчанам она доходила только до колен.
И который в возрасте двадцати семи лет благодаря везению и упорству стал главным обвинителем в «величайшем в истории судебном процессе над убийцами», как безо всякого преувеличения назвала его Ассошиэйтед Пресс.[110] Жаль только, малый Нюрнбергский процесс оказался в тени более громкого Международного военного трибунала и потому обычно лишь мельком упоминается в учебниках истории.
Бенджамин Ференц родился в Трансильвании, в семье венгерских евреев.[111] Вскоре после его рождения родные эмигрировали в США. Ференц всегда был увлекающейся натурой, готовой принять любой вызов. Он жил в подвале одного из домов Адской кухни, где отец работал дворником. Его поначалу не взяли в государственную школу, потому что в шесть лет он выглядел слишком маленьким для своего возраста и говорил только на идиш. Но вскоре он был отмечен как один из «особо одаренных мальчиков» и стал первым в своей семье, кому удалось поступить в колледж, а затем получил диплом юриста в Гарварде, не платя за обучение.
Когда капрала Ференца в конце 1944 года перевели из пехоты в военно-юридическую службу 3-й армии генерала Паттона, он был в восторге. Особенно когда узнал, что ему предстоит стать частью новой команды, расследующей военные преступления. Пока американцы пробивались в глубь Германии, приходило все больше сообщений о подбитых летчиках союзников, которые катапультировались на немецкую территорию и были убиты местными жителями. Ференцу поручили расследовать эти дела и по мере необходимости производить аресты. «Моими главными доводами были пистолет сорок пятого калибра и тот факт, что армия США заняла город, – вспоминал он. – При таких условиях немцы становились очень покладистыми и не оказывали сопротивления».[112]
Несмотря на свой рост, Ференц, как истинный житель Нью-Йорка, был довольно дерзким. Когда штаб генерала Паттона находился на окраине Мюнхена, перед войсками должна была выступать Марлен Дитрих. В тот день Ференцу выпал наряд в уборной. Ему, естественно, велели не тревожить Дитрих, пока она принимает ванну. «Выждав разумное время, я зашел, готовый приступить к службе, – а она спокойно сидит, покрытая только своим великолепием», – вспоминал Ференц. Он, должно быть, ошалел от собственной наглости и, отступая, пробормотал: «О, простите, сэр».
Дитрих позабавило смущение солдата и особенно развеселило обращение «сэр». Узнав, что он юрист из Гарварда, она пригласила его присоединиться к ним за ужином. Поскольку Ференц был всего лишь рядовым, он предложил Дитрих представить его командованию как старого приятеля из Европы. Что она с удовольствием и сделала. В итоге, вместо того чтобы драить унитазы, он сидел на ужине с офицерами и популярной дивой. Перед уходом Дитрих оставила Ференцу свою визитную карточку.
Проводя расследования по факту гибели летчиков, Ференц подходил к делу добросовестно, но без злопамятства. Порой результаты своих действий вызывали у него смешанные чувства. Расследуя, например, избиение до смерти сбитого пилота после бомбардировки недалеко от Франкфурта, он допрашивал молодую женщину, примкнувшую к толпе. Она признала свое участие, но, вся в слезах, объяснила это тем, что при бомбежках погибли двое ее детей. Сочувствуя, Ференц всего лишь посадил ее под домашний арест. «Я действительно испытывал к ней жалость», – признался он. К ней – но не к пожарному, который нанес летчику смертельный удар и потом бахвалился тем, что весь покрыт американской кровью.
Несколько месяцев спустя Ференц присутствовал на суде, где они оба оказались среди обвиняемых. Пожарного приговорили к смерти. Молодой женщине дали два года тюрьмы. Услышав вердикт, она упала в обморок. Ференц поинтересовался у врача, которого к ней вызвали, все ли в порядке? Тот заверил, что с ней все хорошо, просто она беременна. Отцом ребенка был охранявший ее американский солдат. «Странные вещи порой случаются во время войны», – заметил Ференц.
Однако настроение молодого следователя резко поменялось, когда ему пришлось заниматься сбором улик в только что освобожденных концентрационных лагерях. Поначалу увиденное – живые скелеты и разбросанные повсюду мертвые тела – не укладывалось у него в голове. «Разум не воспринимал то, что видели глаза, – писал он позже. – Я будто заглянул в преисподнюю». В Бухенвальде, например, он нашел две мумифицированные головы заключенных, которые офицеры СС выставляли на всеобщее обозрение. Эти головы потом Уильям Денсон использует в качестве доказательств на других процессах.
Ференца охватывало то дикое бешенство, которое превращалось в горячее желание действовать, то полная апатия, когда жертвы поднимались против своих мучителей. В лагере Эбензее, например, он велел гражданским собрать и похоронить тела. Разъяренные узники захватили при этом кого-то из офицеров, возможно даже коменданта, когда тот пытался сбежать. Его избили и привязали к металлическому поддону для загрузки тел в крематорий, а потом возили взад и вперед над пламенем, пока не зажарили живьем. «А я только наблюдал за происходящим, но ничего не сделал, – вспоминал Ференц. – Даже не пытался».
В Маутхаузене он обнаружил груды человеческих костей на дне карьера – останки подневольных рабочих, которых сбросили со скалы, когда они уже не были способны трудиться.
Приехав в соседний Линц, Ференц подобрал помещение и решил конфисковать его у семьи нацистов. Он велел хозяевам немедленно освободить жилье, чтобы он и его люди могли там разместиться.[113] На следующее утро он опустошил комоды и шкафы в квартире, чтобы отвезти одежду в концлагерь и раздать практически голым заключенным. Вечером молодая женщина, хозяйка квартиры, вернулась и попросила забрать свою одежду. «Как хотите», – сказал Ференц. Женщина увидела пустые шкафы и принялась кричать, что ее ограбили.
«Я был не том в настроении, чтобы какая-то немка называла меня вором», – признался Ференц. Он схватил ее за руку и предложил отвезти в лагерь – пусть сама велит узникам вернуть одежду. В ужасе от такой перспективы та закричала еще громче, чтобы ее отпустили. Ференц согласился отпустить ее, но лишь в том случае, если она признает: одежда не украдена, а подарена. Так он превратил свой гнев в суровый урок о том, кто здесь по-настоящему пострадавшая сторона.
* * *
Ференц ненадолго съездил в Соединенные Штаты, заодно женился, а по возвращении в Германию присоединился к команде генерала Тейлора, работавшей над подготовкой Нюрнбергских процессов. Первый и самый известный военный трибунал 1 октября 1946 года вынес приговор высшим нацистским чинам. За ним последовали еще 12 процессов, один из которых перевернул всю жизнь Ференца.
Его отправили в Берлин, где Ференц возглавил группу следователей по военным преступлениям. Весной 1947 года один из его лучших следователей ворвался в офис и сообщил, что сделал настоящее открытие. Копаясь в документах Министерства иностранных дел Германии, близ аэропорта Темпельхоф он нашел секретные отчеты гестапо. В них содержалась полная ежедневная информация о массовых расстрелах и первых опытах по использованию отравляющих газов для убийства евреев, цыган и прочих «расово неполноценных лиц» айнзацгруппами. Эти специальные карательные подразделения действовали на Восточном фронте до того момента, когда массовые убийства были перенесены в газовые камеры концлагерей.
На небольшом арифмометре Ференц принялся подсчитывать число жертв, беря цифры из лаконичных отчетов. «Когда дошел до одного миллиона человек, остановился. Это было уже слишком».[114] Ференц бросился в Нюрнберг, чтобы убедить генерала Тейлора использовать эти данные для нового процесса. Ведь благодаря чистой случайности они получили самую достоверную информацию, какие именно части и какие командиры ответственны за массовые казни евреев и цыган при вторжении на территорию Советского Союза в 1941 году.
Тейлор встретил его без ожидаемого энтузиазма. Генерал пояснил, что Пентагон вряд ли выделит дополнительные средства на проведение незапланированных процессов. Кроме того, новые суды общественности уже не интересны.
Ференц не желал отступать и заявил, что готов заниматься следствием лично в свободное от службы время.
«Хорошо», – согласился Тейлор и назначил Ференца главным прокурором по делу айнзацгрупп. Тому было всего двадцать семь лет.
Ференц перебрался в Нюрнберг. Предстояла непростая задача: обработать огромное количество улик – численность айнзацгрупп, действовавших по всему Восточному фронту, достигала трех тысяч человек. Ференц потом пояснил, что в качестве подсудимых ему приходилось выбирать лишь самых старших и наиболее образованных офицеров, так как на большее не хватало сил. Изначально на скамью подсудимых должны были сесть двадцать четыре человека. Ференц с прискорбием говорил, что «правосудие не всегда совершенно» и «то была лишь малая доля главных виновников». Из этих двадцати четырех один покончил с собой до суда, второй тяжело заболел во время подготовки обвинительного заключения. Осталось двадцать два подсудимых.
Судебный процесс проходил с 29 сентября 1947 года по 12 февраля 1948-го,[115] но обвинительное заключение Ференц огласил всего за два дня. «Наверное, я мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое обвинение в суде таких масштабов»,[116] – писал он позже и считал, что в данном случае документы будут убедительнее любых свидетелей. К тому же «я не мог вызвать в суд много свидетелей по вполне уважительной причине», – добавлял он.
«Пусть мне недоставало опыта, но я был чертовски хорошим студентом, и меня многому научили в Гарварде, – объяснял Ференц. – В частности, тому, что порой худшие показания – это показания очевидцев. У меня же на руках были все документы, и я мог доказать их подлинность, хотя это и пытались оспорить».[117]
Во вступительном слове Ференц выдвинул обвинение в «преднамеренном убийстве более чем миллиона невинных и беззащитных мужчин, женщин и детей… вызванном не военной необходимостью, а крайне извращенной нацистской теорией о высшей расе».[118] Затем предоставил сухие цифры. Данные свидетельствовали о том, что четыре айнзацгруппы, каждая численностью от 500 до 800 человек, «в течение двух лет уничтожали в среднем по 1350 человек в день. По 1350 человек каждый день в течение всех семи дней недели на протяжении более чем ста недель…».[119]
Ференц использовал новый термин для подобного рода преступлений – «геноцид». Его придумал еврей-беженец польского происхождения, Рафаэль Лемкин, который еще в 1933 году пытался предупредить мир, что Гитлер абсолютно серьезен в своих угрозах истребить целую расу.[120] Ференц встречал его – «потерянного, растрепанного парня с диким страдальческим выражением в глазах»[121] – в коридорах Нюрнбергского дворца правосудия, где тот пытался добиться, чтобы геноцид получил правовой статус.
«Как Старый Мореход из поэмы Кольриджа, он хватал каждого, кто попадался ему на пути, и рассказывал, что всю его семью уничтожили немцы, – вспоминал Ференц. – Евреев убивали лишь за то, что они были евреями». Лемкин умолял поддержать его усилия признать геноцид особым видом преступления. Уступив настойчивым мольбам, Ференц сознательно использовал термин «геноцид» во вступительном слове на суде, обозначив его как «уничтожение целых категорий людей».[122]
Свое первое обвинение молодой прокурор закончил словами, которые десятилетиями будут находить отклик у тех, кто ищет меру правосудия для столь масштабных преступлений. Пятьдесят лет спустя их повторил в суде прокурор Международного трибунала ООН по делам о преступлениях в Югославии и Руанде: «Если подсудимые уйдут от наказания, закон потеряет всякий смысл, и люди будут жить в страхе».[123] На второй день оглашение обвинительного заключения было завершено, и следующие месяцы были посвящены показаниям подсудимых.
Майкл Масманно, председатель суда из Пенсильвании, вскоре убедился, что слова Ференца о численности жертв «были не преувеличением, а суровой реальностью».[124] Невысокого прокурора он называл «Давидом, схватившимся с Голиафом»:[125] тот решительно отметал все доводы подсудимых, пытавшихся переложить вину на командование или оправдаться тем, что они проявляли «гуманность» при выполнении приказов.
Масманно помогали в деле еще двое судей, но, по словам Ференца, тот фактически руководил судопроизводством сам. В 1920-е Масманно, сын итальянского иммигранта, уже успел прославиться,[126] когда защищал известных анархистов Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти[127] и отличался любовью к театральным эффектам. В 1930-е судья объявил кампанию против вождения в нетрезвом виде и вынудил 25 человек, отбывавших наказание за преступления, совершенные в состоянии опьянения, присутствовать на похоронах шахтера, сбитого пьяным водителем. А еще он предупредил, что любого, кто подвергнет сомнению существование Санта-Клауса – тем самым «вызывая детские страдания», – обвинят в неуважении к суду. «Если для закона существует Джон Доу,[128] то, конечно, нужно признать и существование Санта-Клауса»,[129] – заявил он.
Ференц не знал, чего ждать от столь одиозной персоны. Особенно его взбесило, когда Масманно отклонил ходатайство об исключении доказательств защиты – «фактов, основанных на слухах, явно сфабрикованных документов и пристрастных свидетелей».[130] Судья потом открыто заявил Ференцу и его команде, что примет любые доказательства защиты, «вплоть до подробностей половой жизни пингвинов». Отсюда и появился термин «правило пингвинов».
Ференц заметил, что Масманно проявляет особый интерес к показаниям некоторых подсудимых, например, Отто Олендорфа – отца пятерых детей, изучавшего право и экономику, имевшего докторскую степень в области юриспруденции – и возглавлявшего айнзацгруппу D, пожалуй, самую беспощадную и смертоносную. Молодой прокурор выбрал Олендорфа именно потому, что тот был одним из самых высокообразованных массовых убийц в истории.
Обращаясь непосредственно к Олендорфу, Масманно тщательно подбирал слова: «Солдат, идущий в бой, знает, что ему придется убивать, но он знает, что вступает в бой с таким же вооруженным противником. Вам же предстояло убивать беззащитных людей. Неужели вопрос моральной оценки такого приказа не приходил вам в голову? Давайте представим, что (я не хочу никого оскорбить этим вопросом) вам приказано убить свою сестру. Неужели вы не дадите этому приказу моральную оценку в том смысле, правильно ли это или неправильно с моральной, а не с военной или политической точки зрения? Соответствует ли это понятиям гуманности, совести и справедливости?»[131]
Олендорфа его слова сильно потрясли, он сжимал кулаки, растерянно оглядывая зал. Как позже вспоминал Масманно, «он сознавал, что человек, который убьет собственную сестру, превратится в нечто меньшее, чем человек». Олендорф лишь попытался увильнуть от ответа: «Я не в состоянии, ваша честь, рассматривать этот случай в отрыве от прочих».
По ходу процесса Олендорф не только утверждал, что не имел права подвергать сомнению приказы командования, но и пытался выдать казни за самооборону. Как позднее подытожил Ференц, он утверждал, что «коммунисты угрожали Германии, евреи все как один – большевики, а цыганам вовсе нельзя доверять».[132]
Конечно же, подобные рассуждения никак не могли помочь Олендорфу и остальным обвиняемым. Тем более что они были в состоянии разобраться в ситуации лучше, чем кто бы то ни было. «Сомневаюсь, что за обычным столом общественной библиотеки одновременно можно найти столько образованных людей, сколько их собралось на скамье подсудимых по делу об айнзацгруппах в Нюрнберге»,[133] – писал позже Масманно.
Генерал Тейлор, выступивший с заключительным обвинением, подчеркнул, что подсудимые «были ответственны за невероятную по масштабам программу массового истребления людей» и что предъявленные доказательства явно подтверждают вину в «геноциде и других военных преступлениях против человечества, заявленных в обвинительном акте».[134] Примечательно, что не только Ференц, но и Тейлор, который позднее осуществлял надзор за последующими Нюрнбергскими процессами, использовал новый термин Лемкина.
Вернувшись в Пенсильванию, Масманно больше не выносил смертных приговоров. Он был набожным католиком и опасался за свою душу, а после вердикта по делу айнзацгрупп несколько дней провел в ближайшем монастыре. Ференц впредь тоже не требовал смертной казни для подсудимых, однако, как он признался позднее, тогда, в Германии, он так и «не смог выбрать другое наказание соразмерно совершенным преступлениям».[135]
Когда судья зачитывал вердикт, Ференц был поражен до глубины души. «Масманно оказался куда более серьезен, чем я ожидал. Всякий раз, когда он произносил: “Смерть через повешение”, – по голове словно молотом давали». Судья огласил тринадцать смертных приговоров, остальных подсудимых приговорил к тюремному заключению: от десяти лет до пожизненного срока.
Ференц наконец понял, почему Масманно настаивал на «правиле пингвина». Он хотел «дать обвиняемым все возможные шансы оправдаться. Хотел удостовериться, что его не введут в заблуждение и что суд вынесет в итоге справедливый приговор». Когда все произошло, «я внезапно почувствовал к судье Масманно глубочайшее уважение и даже любовь»,[136] – заключил Ференц.
Позднее, как это случилось и с приговорами по Дахау, дела обвиняемых пересмотрели и в некоторых случаях смягчили наказание. Оглядываясь назад, девяностотрехлетний Ференц подытожил: «Три тысячи членов айнзацгрупп ежедневно расстреливали евреев и цыган. Мне удалось подготовить обвинение для двадцати двух, тринадцать из которых приговорили к смерти, и лишь четыре приговора привели в исполнение. Остальные уже через несколько лет вышли на свободу». И он угрюмо добавил: «Оставшиеся три тысячи преступников никто так и не призвал к ответу. Хотя они каждый день убивали людей».[137]
Ференц был горд своими успехами, но также и разочарован некоторыми нюрнбергскими впечатлениями – особенно отношением к происходящему обвиняемых и их пособников. Он нарочно избегал с ними встреч за пределами зала суда, кроме одного-единственного раза. Ференц уже после приговора обменялся с Олендорфом несколькими фразами. «Евреи в Америке за это ответят», – сказал тот. Он был одним из тех четверых, которых все-таки повесили. «И умер он, будучи уверенным в собственной правоте», – добавил Ференц.
Некоторые немцы выражались довольно резко в адрес победителей, а вот раскаяние было исключительно редким явлением. «За все это время ни один немец не подошел ко мне и не извинился за свою нацию, – сокрушался Ференц. – И это разочаровывало меня больше всего: никто, включая массовых убийц, не выразил ни малейшего сожаления. Таков уж их менталитет». «Где же справедливость? – продолжал он. – Ведь это было бы символом, отправной точкой. Это можно было сделать».
* * *
Капрал Гарольд Берсон, двадцатичетырехлетний сапер, освещавший для прессы Международный военный трибунал в Нюрнберге против высших нацистских руководителей, возмущался тем, как все встреченные им немцы утверждали, что никогда не поддерживали Гитлера и ничего не знали о преступлениях его режима. «Никто знать не знал ни одного нациста и не слыхал о существовании концлагерей»,[138] – язвительно говорил он.
Или, выражаясь словами Ричарда Зонненфельда, еврея немецкого происхождения, который бежал с родины, служил в армии США и позднее работал переводчиком в Нюрнберге, «даже удивительно, как много нацистов в послевоенной Германии исчезло вместе с евреями!».[139]
Немцы прикладывали столько усилий, чтобы оправдаться в глазах победителей, что драматург и сценарист Эбби Манн высмеял их в пьесе «Нюрнбергский процесс». «В Германии нет нацистов, – говорит там вымышленный прокурор судье перед началом заседания. – Разве вы не знали, ваша честь? Это эскимосы вторглись в Германию и натворили дел. Виноваты не немцы, а чертовы эскимосы!»[140]
Берсон был убежден, что именно для того и нужен Нюрнбергский процесс – чтобы показать немецкому народу результаты деятельности Третьего рейха во всех ужасных подробностях: «Мы должны запечатлеть все так, чтобы они никогда этого не забыли». Основные игроки в суде видели задачу еще шире. Во вступительном слове на Международном военном трибунале сэр Хартли Шоукросс, главный обвинитель от Великобритании, пообещал, что разбирательство «станет краеугольным камнем современности, авторитетной и беспристрастной летописью, к которой будущие историки могут обращаться в поисках правды, а будущие политики – за предупреждениями».[141]
Ежедневные сводки Берсона невольно выражали его трепет перед столь эпохальным событием. «Зрители в зале суда сознают, что участвуют в формировании новой истории», – писал он. Судьи от четырех стран-победительниц – Великобритании, США, Франции и Советского Союза – «впервые в мире пытаются установить принципы международного права, общепринятые для всех государств».[142]
Берсон, как и его коллеги, часто слышал глухое ворчание, что в судебных разбирательствах нет никакой необходимости, быстрее и проще было бы казнить нацистов втихую. Поэтому в своих публикациях он постоянно ссылался на слова судьи Верховного суда США Роберта Х. Джексона, главного обвинителя на этом непростом процессе: «Нельзя забывать, что по протоколам судебного процесса, которым мы судим этих людей сегодня, история будет завтра судить нас самих». Или, выражаясь словами Берсона: «Мы не желаем следовать путем нацистов, убивая людей без суда и следствия… Наша судебная система – не суд Линча… Мы назначим им наказание, исходя из имеющихся доказательств».
Спустя почти семь десятилетий Берсон – ставший совладельцем одного из крупнейших пиар-агентств мира «Берсон-Марстеллер» – признал: «Мои тогдашние материалы, возможно, не были лишены наивности, которая сегодня мне уже не присуща». Вызвана эта наивность была его уверенностью в том, что недавно созданная Организация Объединенных Наций предотвратит подобные преступления в будущем. Впрочем, Берсон и сегодня верит, что Джексон был искренен в своем стремлении «провести наиболее справедливое разбирательство, какое только победитель может дать побежденному», – а заодно выработать новые принципы международного права.
Более маститые журналисты, среди которых были такие звезды, как Уильям Ширер,[143] Уолтер Липпман и Джон Дос Пассос, поначалу испытывали заметный скепсис: «Все это только шоу, надолго оно не затянется, и все равно их всех скоро повесят». А в США драма, разворачивающаяся в зале суда, не только вызывала недоверие, но и разжигала оппозиционные настроения противостоящих политических сил.
Мильтон Майер писал в своей колонке для журнала «Прогрессив»: «Месть не поднимет мертвых из могил»,[144] утверждая, что «доказательств из освобожденных концлагерей в обычной юридической практике было бы недостаточно для обвинения таких масштабов». А критик из «Нейшн» Джеймс Эйджи даже предположил, что документальный фильм о Дахау, показанный в зале суда, был пропагандистским преувеличением. Сенатор-республиканец Роберт А. Тафт, выступая после вынесения приговора, но еще до казни, заявил: «Это правосудие спровоцировано жаждой мести, а месть справедливой не бывает».[145] Казнь одиннадцати приговоренных, по его мнению, станет «несмываемым пятном на репутации Америки, о котором мы будем долго сожалеть» (как уже отмечалось ранее, в итоге повесили только десятерых, поскольку Геринг покончил с собой).
Даже те, кто видел в судебном процессе первый важный шаг к установлению новых международных норм права, допускали сомнения в их значимости: «Казнь немецких военных преступников создает впечатление, что в международной жизни, как и в гражданском обществе, преступления должны быть наказаны, – заявил польский юрист и автор термина «геноцид» Рафаэль Лемкин. – Но чисто юридических последствий судебного процесса совершенно недостаточно».[146] Его настойчивые усилия в конце концов приведут к «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году.
Многие участники судебного заседания не успели тогда осознать его глубинный смысл. «Историческое значение Нюрнбергского процесса едва ли воспринималось теми, кто был в него вовлечен, – признавался Ференц. – Мы были молоды, испытывали эйфорию победы и наслаждались приключениями».[147] Их не оставляло ощущение праздника. Молодой солдат Герман Обермайер, обеспечивавший палача Джона Вудса всем необходимым, днем сидел в зале суда, наблюдая за Герингом и другими обвиняемыми, а вечером смотрел на танцующих девушек из «Радио Сити Рокеттс», приехавших развлечь солдат.[148]
И все же люди, причастные к процессу, чувствовали его значимость, пусть даже не осознавая отдаленных последствий. Джеральд Шваб в 1940 году вместе с выжившими родными сбежал из Германии в США, где надел армейскую форму и участвовал в Итальянской кампании: сперва пулеметчиком, затем переводчиком на допросах пленных немцев. После окончания срока службы он подписал гражданский контракт на аналогичную работу в Нюрнберге. «Я думал, это здорово. Ну, вы понимаете: быть частью исторического события»,[149] – вспоминал он.
Шваб обычно не выдавал своего еврейского происхождения обвиняемым, считая, что оно и так очевидно. Однако, когда он оказался наедине с генерал-фельдмаршалом Кессельрингом, который ожидал допроса, тот спросил его, откуда он так хорошо знает немецкий. Шваб рассказал о своих корнях и о своей семье, которой чудом удалось спастись. «Вы, наверное, очень рады сейчас здесь находиться», – заметил Кессельринг. Шваб ответил: «Так точно, генерал-фельдмаршал».
Чаще всего немцы жаловались на то, что процессы представляли собой сомнительное правосудие победителей. «Это не так, – категорично возражал Ференц. – Иначе мы просто расстреляли бы в отместку полмиллиона немцев».[150] Судьями двигала не жажда мести, продолжал он, а всего лишь желание «запечатлеть для истории этот кошмар, чтобы избежать в будущем его повторения».
В выступлении на открытии Международного военного трибунала судья Джексон обозначил истинную суть процесса: «Тот факт, что четыре великие державы, упоенные победой и страдающие от нанесенного им ущерба, удержали руку возмездия и передали плененных врагов на суд справедливости, является одним из самых выдающихся примеров той дани, которую власть платит разуму».[151] Эти слова можно было бы посчитать слишком самодовольными, если вспомнить о том, что вытворяли победители, в частности Красная армия, на освобожденных землях. Однако «рука возмездия» была настолько мощной, что могла бы нанести еще больший ущерб, поэтому слова Джексона более чем справедливы.
Другие участники процесса тоже утверждали, что суд, при всех его недостатках, был необходим и стал успешным. «Еще ни один архив воюющей стороны не был проанализирован так, как это случилось с документацией нацистской Германии на Нюрнбергском процессе»,[152] – писал Уитни Р. Харрис, который вел дело против Кальтенбруннера, возглавлявшего Главное управление имперской безопасности СС. По словам генерала Люсиуса Д. Клея, «процессы завершили уничтожение нацизма в Германии».[153]
За последующие десятилетия Ференц лишь укрепился в мысли, что судебный процесс при всей своей символичности (поскольку назначил наказание лишь отдельным лицам, виновным в преступлениях Третьего рейха) способствовал «постепенному пробуждению человеческого сознания». Возможно, и так. Однако куда более убедительным кажется другой аргумент, который незримо присутствовал в действиях всех, кто проводил суды над военными преступниками. Этот аргумент высказал Роберт Кемпнер, еврей немецкого происхождения, бежавший в США, а затем вернувшийся в составе американской команды юристов: «Иначе эти люди умерли бы безо всякой причины, и все могло повториться еще раз».[154]
На самом деле судебные процессы в Дахау и Нюрнберге вовсе не поставили точку в попытках призвать нацистских преступников к ответу. Потребуются еще годы и десятилетия, чтобы доказать необходимость выслеживать и наказывать или хотя бы разоблачать других нацистов. И продолжать воспитывать общество как в Германии, так и в других странах.
Судебные процессы не сумели дать ответы на все вопросы, которые подняла эра нацизма. Наиболее удивительно, что и главный вопрос до сих пор остается без ответа. Судья Масманно подвел такой итог своим размышлениям об опыте, полученном в Нюрнберге:
«Самой большой проблемой для меня лично в деле об айнзацгруппах было не принятие решения о том, являются ли подсудимые виновными или невиновными. Этот вопрос, по мере приближения конца процесса, удалось разрешить. Меня, как и любого человека, беспокоил вопрос о том, как и почему эти прекрасно образованные люди смогли зайти так далеко и полностью отвергнуть то, чему их учили с детства, отказаться от христианских основ честности, милосердия, чистоты духовных помыслов. Полностью ли они забыли то, чему их учили? Потеряли ли для них значение моральные ценности?»[155]
Эти вопросы мы будем задавать снова и снова…
Глава 5 Сторож брату своему
Немец думает, что все будет хорошо, если он станет переходить дорогу только по зеленому сигналу светофора, хотя прекрасно знает, что там вопреки всяким правилам может мчать грузовик, который раскатает его по асфальту.[156]
Американский журналист Уильям Ширер, цитируя немку, раздраженную готовностью своих соотечественников следовать за Гитлером. Из дневниковой записи от 25 января 1940 годаБольшинство тех, кто изначально намеревался отдать нацистов под суд, не были евреями – как, например, главные обвинители Нюрнбергского процесса Роберт Х. Джексон и Телфорд Тейлор, судья по делу айнзацгрупп Майкл Масманно или главный прокурор в Дахау Уильям Денсон. Однако неудивительно, что евреи оказались в числе юристов процесса, как тот же Бенджамин Ференц. А люди, пережившие холокост, готовы были помочь победителям в расследовании преступлений и задержании своих бывших преследователей. Их мотивы, думаю, очевидны.
Однако Ян Зейн не входил в число ни тех, ни других, став «охотником за нацистами» в самом прямом смысле слова. На сегодняшний день о нем мало что известно даже соотечественникам-полякам, не говоря уж о мировой общественности. В варшавском Институте национальной памяти и вашингтонском Мемориальном музее холокоста хранится немало собранных им свидетельств выживших узников. Также Зейн написал первый подробный отчет об истории, организации, медицинских экспериментах и работе газовых камер Освенцима[157] – лагеря, чье название стало синонимом холокоста.
Зейн организовал судебный процесс над Рудольфом Хёссом – не путать с заместителем Гитлера Рудольфом Гессом, приговоренным Нюрнбергским трибуналом к пожизненному заключению. Хёсс взошел на эшафот 16 апреля 1947 года возле крематориев Освенцима, лагеря, комендантом которого он был. Его специально повесили на том же самом месте, где он недавно убивал своих жертв. Именно Зейн уговорил Хёсса до казни изложить свою историю на бумаге. Автобиографические записи коменданта до сих пор остаются самым пугающим за всю историю человечества документом, позволяющим заглянуть в сознание массового убийцы. Мемуары, однако, на сегодняшний день почти забыты, затерявшись в потоке литературы о преступлениях Третьего рейха.
О Зейне и его наследии мало что известно, возможно, еще и потому, что он не вел ни дневников, ни мемуаров, позволивших бы в той или иной мере описать его образ. Остались лишь краткие официальные отчеты и стенограммы допросов,[158] которые он вел в качестве члена Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше, Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и, конечно же, судебных документов по делу против Хёсса, офицеров СС и прочего персонала Освенцима. Кроме того, Зейн вел дело против Амона Гёта – коменданта концентрационного лагеря в Плашове, пригороде Кракова. Именно этого садиста Стивен Спилберг изобразил в своем фильме «Список Шиндлера». Если бы Зейн не умер в 1965 году, в возрасте пятидесяти шести лет, мы бы, наверное, узнали о его истории больше.
А возможно, и нет. У Зейна были веские причины концентрировать внимание на своей работе, а не на личной жизни. Он был вынужден скрывать что-то очень важное до конца жизни даже от своих ближайших коллег.
Очевидно, что семья Зейна – выходцы из Германии, хотя точное его происхождение остается неизвестным.[159] Впрочем, для региона, где границы постоянно перекраивались, в этом не было ничего необычного. Ян Зейн родился в 1909 году в Тушуве – галицийской деревушке, которая сейчас находится на территории Юго-Восточной Польши, а тогда входила в состав Австро-Венгерской империи. Домашними языками региона были польский и немецкий. Артур Зейн, внучатый племянник Яна, родившийся полвека спустя и пытавшийся воссоздать семейную историю, уверен, что Зейны – потомки немецких поселенцев, которые отправились в Галицию в конце восемнадцатого века по воле императора Священной Римской империи Иосифа II, правителя земель Габсбургов, которые охватывали большую часть Южной Польши.
Последовавший раздел территорий между Россией, Пруссией и Австро-Венгрией[160] более чем на сто лет стер Польшу с лица земли. После Второй мировой Польша возродилась как независимое государство. Большинство родственников Зейна остались на юго-востоке страны, предпочитая заниматься сельским хозяйством. Сам Ян уехал в Краков, чтобы с 1929 по 1933 год изучать право в Ягеллонском университете, а затем начать карьеру юриста. С 1937 года он стал работать в следственном отделении суда Кракова. Как вспоминают бывшие коллеги, он с первых же дней продемонстрировал особую «страсть к криминалистике».[161] Однако германское вторжение два года спустя заставило его отложить планы.
Во время войны Зейн оставался в Кракове и устроился на работу секретарем в ассоциации ресторанов. Нет никаких доказательств, что он был связан с польским Сопротивлением или, напротив, сотрудничал с германскими властями; Зейн просто пытался пережить шесть долгих лет оккупации. Однако прочим членам его семьи была уготована иная судьба.
Брат Яна, Юзеф, живший в деревушке под названием Боброва, в первые же дни оккупации принял роковое решение. Германские власти поощряли, чтобы фольксдойче – поляки немецкого происхождения – регистрировались в качестве этнических немцев. Его внук Артур обнаружил документы, свидетельствующие о том, что Юзеф зарегистрировал всю семью: жену, троих сыновей и отца. Наверняка он посчитал, что, принимая сторону победителей, обезопасит родных. Вскоре его назначили главой своей деревни.
Когда стало очевидно, что Германия проиграет войну и войска начали отступление, Юзеф исчез. Даже его сыновья не знали, что с ним случилось. «Детям не позволяли знать, что происходит»,[162] – написал позднее один из них, также названный в честь отца Юзефом. Двух его сыновей на несколько месяцев отправили в Краков к их дядюшке Яну и его супруге. Спустя много лет они узнали, что отец бежал на северо-восток страны, сменил имя и вплоть до своей смерти в 1958 году работал лесником в самых далеких поселениях – «как можно дальше от цивилизации», по словам Артура. Под этим вымышленным именем его и похоронили. До последних дней он боялся, что новые власти опознают в нем пособника нацистов.
Хотя пути Юзефа и Яна Зейна разошлись еще в молодости, Ян знал о судьбе брата. Его готовность взять племянников на воспитание говорит о многом. У них также была сестра, которая поддерживала связь с Юзефом даже после его бегства, и она, судя по всему, сообщала Яну последние новости.
У Яна с женой не было детей, но приемные родители из них вышли весьма суровые. «Он оказался очень строг», – вспоминал его племянник Юзеф. Если жена докладывала о каком-то проступке, Ян не стеснялся использовать классический способ воспитания – ремень. Однако он помог старшему племяннику найти временную работу в одном из ресторанов Кракова и охотно дал ему с братом крышу над головой.
Ян начал собирать улики против немцев еще до окончания войны. Мария Козловска, его соседка, позднее работавшая в Институте судебной экспертизы, который Зейн возглавлял с 1949 года вплоть до самой смерти, вспоминает, что во Вроцлаве (или Бреслау, как его называли до включения в состав Польши) «он среди тлеющих руин искал документы и в поисках доказательств колесил по всей стране».[163]
Козловска, как и все, кто работал с Зейном, считает, что именно страсть к закону и справедливости заставляла его с таким остервенением и упорством собирать улики против нацистов, чтобы отправить их потом на виселицу. Его целиком и полностью захватило стремление помочь новой Польше прийти в себя после разорения и гибели шести миллионов граждан,[164] то есть около 18 % населения довоенных времен, причем 3 миллиона из погибших были евреями – примерно 90 % этнической группы региона.
Это было важной, но не исчерпывающей причиной его целеустремленности. Коллеги Зейна знали, что у его семьи есть немецкие корни (на это однозначно указывала фамилия), но и подумать не могли, что это имеет какое-то значение. Многие поляки имели предков разных национальностей, так что семейная история Зейнов выглядела вполне обычной, а его нынешняя семья не привлекала к себе внимания. Козловска знала, что у него во Вроцлаве осталась сестра, однако ничего не знала об исчезнувшем брате. И, разумеется, не имела понятия о том, что он стал предателем.
И это не случайно. Артур Зейн, семейный историк, не стал говорить о возможных мотивах двоюродного деда, но подозревал, что тут все-таки замешан его брат. Хотя Ян Зейн предпочел хранить свою историю в тайне, новым властям Польши, конечно же, все было известно. Возможно, это и заставило Зейна так страстно искать правосудия. «Наверное, он всячески желал оказаться на правильной стороне и клеймить нацистов, – говорил Артур. – Кому-то это может показаться небескорыстным, но на самом деле его мотивы были чисты и понятны».
Как бы то ни было, Ян Зейн вскоре добился потрясающих результатов.
* * *
Рудольф Хёсс служил комендантом Освенцима от момента, когда он курировал его создание в 1940 году, и вплоть до конца 1943-го. Первые 728 узников появились в бывших военных казармах близ города Освенцим[165] (или Аушвиц на немецком языке) в июне 1940 года. Это были польские политзаключенные, осужденные за участие в Сопротивлении, в основном католики – депортация евреев тогда еще не началась.
Один из них, Зыгмунт Гаудасиньский, вспоминал: «Лагерь создали, чтобы уничтожить наиболее ценную прослойку польского общества, и немцам отчасти это удалось». Многие узники, как, например, отец Гаудасиньского, были расстреляны, других пытали. Смертность в лагере была очень высока. Заключенные, которые не погибли в первые же дни, несколько увеличивали свои шансы на выживание, когда прикрепились к рабочим местам на кухне или складах. Из 150 тысяч польских политзаключенных, отправленных в Освенцим, погибло около половины.
После нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года в лагерь стали отправлять и советских военнопленных. Генрих Гиммлер, шеф СС, рассчитывал, что их будет очень много, потому запланировал расширение Освенцима за счет возведения второго крупного комплекса в Биркенау, в двух милях от основного лагеря.
Первые военнопленные приступили к строительству в условиях, которые привели в ужас даже привычных ко всему польских узников. «С ними обращались хуже, чем с другими заключенными, – отмечал Мечислав Завадский, работавший медбратом в лазарете для военнопленных. – Кормили одной репой и крошками хлеба, поэтому они гибли от голода, побоев и непосильной работы. Голод был настолько сильным, что они отрезали ягодицы от трупов в морге и ели плоть. Позже мы заперли морг».
Советские военнопленные умирали слишком быстро, а притока свежей рабочей силы не было, поэтому Гиммлер поручил Хёссу организовать лагерь, который сыграл бы важнейшую роль в решении еврейского вопроса. Благодаря усилиям Адольфа Эйхмана, собиравшего евреев по всей Европе, Освенцим вскоре стал самым интернациональным из всех концлагерей. И крупнейшей фабрикой смерти холокоста: газовые камеры и крематории работали на полную мощность. В нем погибло более одного миллиона жертв, 90 % из которых были евреями.
В конце 1943 года Хёсс был переведен в Инспекцию концентрационных лагерей, а значит, ему пришлось уйти с поста коменданта. Однако вскоре, летом 1944 года, его вернули в Освенцим, чтобы подготовить лагерь к приезду 400 тысяч венгерских евреев – крупнейшей партии узников за всю историю лагеря. Старания Хёсса имели такой успех, что соратники назвали эту операцию «Aktion Höss».[166]
В апреле 1945 года, когда Красная армия ворвалась в Берлин и Гитлер покончил с собой, Хёсс, как он писал позднее, подумывал последовать его примеру вместе со своей женой Хедвиг. «Вместе с фюрером погиб и наш мир. Был ли смысл жить дальше?»[167] Он достал яд, но потом, по собственному признанию, решил жить ради пятерых детей. Они бежали на север, где разделились, чтобы не быть узнанными. Хёсс сделал поддельные документы на имя Фрица Ланга, недавно погибшего матроса, и обосновался в школе Военно-морской разведки на острове Зюльт.[168]
Когда британские войска захватили школу, всех сотрудников перевезли в импровизированный лагерь на севере Гамбурга.[169] Старших офицеров затем разослали по тюрьмам, а младший персонал, в числе которого оказался и Фриц Ланг, не был никому интересен. Хёсса вскоре освободили, и он стал работать на ферме близ датской границы. Восемь месяцев он жил в сарае, стараясь не привлекать внимания местных жителей. Его супруга Хедвиг и дети тем временем жили в Санкт-Михелисдоне, и Хёсс изредка поддерживал с ними связь.
Это его и погубило. В марте 1946 года лейтенант Ганс Александер, немецкий еврей, перед войной бежавший в Лондон и служивший в британской армии военным дознавателем, напал на след семьи Хёсса.[170] Он был убежден, что жена знает, где скрывается бывший комендант, и установил слежку. Через некоторое время британцы нашли у них письма Рудольфа, и Хедвиг была арестована. Александер допросили ее, но она отказалась выдать мужа. Ее отправили в тюрьму и взялись за детей. Однако те тоже молчали, даже когда взбешенный Александер угрожал убить их мать, если они не станут добровольно сотрудничать.
Александер, вступивший в ряды вооруженных сил в первые же дни войны, чтобы помочь своей родине, а после окончания боевых действий зарекомендовавший себя как отличный «охотник за нацистами», так легко не сдавался. Он посадил Клауса, двенадцатилетнего сына Хёсса, в соседнюю с его матерью камеру.
На первых порах Хедвиг держалась стойко, утверждая, что ее муж погиб. И тогда Александер, чтобы сломить ее, выложил свой последний козырь. Близ тюрьмы проходила железная дорога, и он сказал Хедвиг, что Клауса вот-вот погрузят в вагон и сошлют в Сибирь – и она больше никогда не увидит сына. В течение нескольких минут Хедвиг выдала убежище мужа и назвала его новое имя. Александер лично возглавил группу, которая захватила Рудольфа Хёсса 11 марта. Все сомнения относительно его личности развеяло обручальное кольцо. Александер пригрозил отрезать палец, если Хёсс его не снимет. На внутренней стороне обнаружились надписи: «Рудольф» и «Хедвиг».
Александер, как и большинство «охотников за нацистами» того времени, не был готов отдать преступника под суд просто так. Он специально отошел от своих людей, сказав, что вернется через десять минут и что Хёсса надо доставить в тюрьму «целым и невредимым». Солдаты поняли, что им дают карт-бланш для расплаты. К моменту возвращения офицера Хёсс был раздет и избит. Затем, завернутого в одно лишь одеяло, без обуви и носков,[171] его погрузили в машину и отвезли в город. Там ему пришлось ждать, пока Александер со своими людьми отпразднует успех в баре. Напоследок, чтобы унизить Хёсса еще сильнее, Александер снял с него одеяло и велел идти до тюрьмы голым через всю площадь, до сих пор покрытую снегом.
После первых допросов Хёсса решили переправить на юг, в Нюрнберг, где четыре месяца шел главный процесс. Леон Голденсон, психиатр из армии США, которому разрешили поговорить с новоприбывшим заключенным, был поражен их первой встречей: «Хёсс сидел, сунув ноги в ледяную воду, а руки все время тер друг о друга. Он сказал, что уже две недели у него обморожение и холодная вода помогает немного унять боль».[172]
Этот в чем-то жалкий сорокашестилетний мужчина внезапно оказался весьма востребован в ходе Нюрнбергского процесса. Даже в месте, где находились величайшие преступники всех времен, бывший комендант Освенцима привлекал большое внимание, особенно со стороны специалистов, которые изучали психическое состояние палачей Гитлера.
* * *
Уитни Харрис, член американской юридической команды, с легкостью добился признательных показаний: по его словам, Хёсс был «тихим, невзрачным и готовым к сотрудничеству».[173] В самом начале он поверг слушателей в шок, сообщив, что «по крайней мере 2 500 000 жертв было истреблено путем отравления в газовых камерах и сожжения и еще как минимум 500 000 человек погибло от голода и болезней, общее число смертей, таким образом, достигает трех миллионов».[174]
Позже Хёсс сообщил Голденсону, что эти цифры Эйхман сообщал Гиммлеру и, возможно, они «несколько завышены».[175] Они и в самом деле кажутся преувеличенными, хотя реальные итоги деятельности Освенцима, которые, по нынешним подсчетам, оцениваются примерно в 1,1–1,3 миллиона жертв,[176] тоже потрясают воображение. В любом случае, когда Хёсс давал показания перед Международным военным трибуналом, он назвал именно эти цифры, поразив всех, включая верхушку нацистов на скамье подсудимых. Ганс Франк сказал потом американскому психиатру Г. М. Гилберту: «Это был худший момент процесса – слышать, как кто-то хладнокровно заявляет о том, что отправил на тот свет два с половиной миллиона людей. Об этом люди будут говорить и через тысячу лет».[177]
То, как Хёсс рассказывал о методичном выполнении приказов по превращению Освенцима в высокоэффективную фабрику смерти, тоже приводило слушателей в ужас. Несомненно, он понимал, к чему ведут приказы командования. В своем признании он заявил: «Окончательное решение еврейского вопроса подразумевало полное уничтожение евреев по всей Европе».[178]
Он рассказывал, как проверял работу новых газовых камер: «Требовалось от 3 до 15 минут, в зависимости от климатических условий, чтобы убить людей. Когда прекращались крики, это означало, что они мертвы». С очевидной гордостью он рассказывал о четырех «улучшенных» газовых камерах в Освенциме, которые могли вместить две тысячи человек зараз, в отличие от старых в Треблинке, куда помещалось не более двух сотен.
Другое «улучшение» по сравнению с Треблинкой заключалось в том, что жертвы в Освенциме не знали о скорой смерти. «Мы пытались дурачить их, уверяя, что предстоит процесс дезинсекции». Однако он признавал, что не всегда удавалось препятствовать слухам, поскольку «грязное смрадное зловоние от горящих тел окутывало весь регион, и жители понимали, что в Освенциме опять идут казни».
Сам Хёсс в Нюрнберге был только свидетелем, поскольку американцы посчитали, что он сумеет предоставить доказательства против главных нацистов. В качестве «экстраординарного решения»,[179] по выражению генерала Тейлора, адвокат Эрнста Кальтенбруннера, начальника Главного управления имперской безопасности СС, решил заявить Хёсса как свидетеля защиты. Адвокат хотел, чтобы Хёсс подтвердил: Кальтенбруннер, хоть и отвечал в целом за деятельность машины террора и массовых убийств, в Освенциме никогда не бывал. Хёсс поручился за это, заодно сообщил ряд других незначительных сведений. Однако в целом его показания лишь усугубили положение Кальтенбруннера и прочих подсудимых.
Уитни Харрис считал, что благодаря своей деятельности в Освенциме Хёсс стал «величайшим убийцей в истории». Казалось, он не испытывает никаких эмоций. «Лишенный всяческих моральных принципов, он не видел разницы между приказом убивать людей и распоряжением валить деревья»,[180] – добавлял Харрис.
Два психиатра от армии США, по отдельности беседовавшие с Хёссом в Нюрнберге, чтобы составить описание его личности, пришли к тому же заключению. Во время первой встречи Г. М. Гилберта поразил «спокойный, апатичный и будничный тон»[181] Хёсса. Когда психиатр попытался вывести его из себя вопросом, как можно было убить столько людей, бывший комендант ответил в чисто технической плоскости: «А в этом ничего сложного нет – вполне можно умертвить еще больше», и принялся объяснять математику убийства до десяти тысяч человек ежедневно: «Само уничтожение много времени не занимало. Две тысячи человек вполне можно убить за каких-то полчаса, но вот сжигание трупов занимало все остальное время».
Гилберт попытался зайти с другой стороны и поинтересовался, не высказывал ли он каких-то возражений или не испытывал угрызений совести, когда Гиммлер сообщил ему приказ Гитлера об «окончательном решении еврейского вопроса». Тот ответил: «Нет, что я мог сказать? Я мог сказать лишь: “Яволь!”». Мог ли он отказаться выполнять приказ? «Нет, исходя из всего, чему нас учили, подобная мысль просто не приходила в голову». Хёсс утверждал, что любого ослушавшегося ждала виселица. Кроме того, он и подумать не мог, что ему придется отвечать за свои действия: «Понимаете, у нас в Германии так принято, что если где-то что-то пошло не так, то отвечает за это тот, кто отдал приказ». Когда Гилберт снова попытался заговорить о гуманности, Хёсс его оборвал: «Одно не имеет отношения к другому».
Голденсону он сказал то же самое, хоть и облек в более разительную форму: «Я думал, что поступаю правильно. Я подчинялся приказам и теперь, конечно же, вижу, что это было ненужно и неправильно. Но я не понимаю, что вы имеете в виду под “угрызениями совести”, ведь лично я никого не убивал. Я лишь руководил программой по уничтожению в Освенциме. Виноват Гитлер, который поручил это Гиммлеру, и Эйхман, который отдал мне приказ».[182]
Хёсс заявил, что понимает, чего добиваются от него психиатры. «Предположим, вы хотите таким образом узнать, нормальны ли мои мысли и склад характера», – сказал он Гилберту в другой раз. И тут же сам ответил: «Я вполне нормален. Даже когда я делал свою работу по уничтожению людей, это никак не отражалось на моей семейной жизни и на всем остальном».
Их разговоры становились все более сюрреалистичными. Когда Гилберт спросил о сексуальной жизни с женой, Хёсс ответил: «Все было нормально – правда, когда жена выяснила, в чем состоит моя работа, мы стали редко заниматься этим». Понимание ошибочности происходящего пришло к нему лишь после поражения Германии: «Однако прежде никто ничего подобного не говорил, я, во всяком случае, такого не слышал».
Затем американцы отправили Хёсса в Польшу для суда. Бывший комендант понимал, что это дорога в один конец, однако его сонное летаргическое поведение не изменилось.
По итогам бесед с заключенным Гилберт вынес следующий вердикт: «Хёсс слишком апатичен, так что вряд ли можно ожидать раскаяния, и даже перспектива оказаться на виселице, похоже, не слишком его волнует. Общее впечатление об этом человеке таково: он психически вменяем, однако обнаруживает апатию шизоидного типа, бесчувственность и явный недостаток эмпатии, почти такой же, как при выраженных психозах».
* * *
Ян Зейн собрал множество свидетельств, которые были использованы на Нюрнбергском процессе, а также приготовил доказательную базу для польского суда над Хёссом[183] и другими сотрудниками Освенцима. Допрашивая в Кракове бывшего коменданта концлагеря, он собрал огромное количество изобличающих показаний. Но он пытался выжать из главного обвиняемого страны как можно больше.
Зейн по натуре был весьма суров, что быстро выяснили и его племянники, и подчиненные. Позднее, когда он возглавлял Институт судебной экспертизы,[184] расположенный в здании элегантной виллы XIX века, он показал себя весьма придирчивым руководителем. Он лично контролировал, чтобы все сотрудники прибывали ровно в восемь утра, и делал выговор опоздавшим. Однако Зейн всегда протягивал руку помощи любому нуждающемуся. Зофия Хлобовска вспоминает, как однажды опоздала на работу, потому что ее сын попал в больницу. Узнав об этом, Зейн велел ей каждый день брать институтскую машину с водителем и навещать сына, пока он находится на лечении.
Этого всегда с иголочки одетого и внешне привлекательного юриста, преподававшего заодно право в Ягеллонском университете, его подчиненные называли «профессором». И хотя это говорило об уважении с оттенком почтительности, он легко находил общий язык и с высшими кругами Кракова, и с персоналом. Его, заядлого курильщика, редко видели без дымящейся сигареты в нефритовом или деревянном мундштуке, а своим посетителям он всегда предлагал пропустить по рюмке водки. Если кто-то из сотрудников, как, например, фармаколог Мария Пашковска, притаскивал бутыль самогона, Зейн охотно присоединялся к дегустации. Частенько самогон делали прямо в институте – на вишне, клубнике, сливе и прочих ягодах, в зависимости от сезона.
Когда Зейн в ноябре 1946 года начал допрашивать Хёсса, он обращался к нему с неизменной учтивостью. Его цель заключалась в том, чтобы собрать как можно больше информации: и об Освенциме, и о личной жизни коменданта. Как и американские психологи, он хотел понять человека, ответственного за крупнейшее убийство в истории. Утром он привозил заключенного в свой кабинет, а после полудня возвращал обратно в тюрьму.
Зейн с удовлетворением сообщал, что Хёсс «охотно сотрудничал и подробнейшим образом отвечал на все вопросы».[185] Если у Хёсса и были какие-то сомнения относительно просьбы Зейна записывать свои воспоминания, они быстро испарились. Следователь предлагал темы, а заключенный каждый день после обеда (подаваемого обычно за счет Зейна) делал соответствующие записи. Если между встречами случались перерывы, записи делались уже по собственной инициативе, освещая те места, которые могли заинтересовать следователя.
Когда до рандеву с палачом осталось совсем недолго, Хёсс попросил Зейна после смерти передать жене обручальное кольцо – то самое, которое раскрыло его личность перед британскими солдатами. Следователь согласился.
«Должен сказать открыто, не ожидал, что в польской тюрьме со мной будут обращаться столь достойно и предупредительно»,[186] – заявил бывший комендант. Также он поблагодарил Зейна за идею с мемуарами. «Такая работа избавила меня от часов бесполезной и изнуряющей жалости к себе, – писал он. – Я благодарен за предоставленную мне возможность письменного труда, который захватывает меня целиком».[187]
Этот «письменный труд» вылился в автобиографию Хёсса, впервые опубликованную в 1951 году, через четыре года после его казни.
* * *
«В настоящем я хочу попробовать написать о своей внутренней жизни»,[188] – значилось на первой странице автобиографии Хёсса, которую впоследствии перевели на несколько языков. Он описал свое одинокое детство на окраине города Баден-Баден среди уединенных крестьянских дворов возле самого леса. «Моей единственной отдушиной был пони – и, как мне кажется, он меня понимал», – вспоминал Хёсс. Ему не нравилось проводить время с сестрами. Родители хоть и относились друг к другу с «душевной теплотой», однако никогда не проявляли никаких признаков привязанности.
Ходить в лес ему запрещали с тех пор, как однажды, «когда я был еще младше и один гулял в лесу, меня там встретили и украли бродячие цыгане». Но случайно попавшийся по дороге крестьянин, который знал его семью, опознал мальчика и вернул домой.
Не нужно быть психологом, чтобы понять, как часть семейной легенды, вне зависимости от ее правдивости, создает представление об опасных чужаках со злыми намерениями. На формировании личности Хёсса сказалось и то, что отец хотел вырастить из него священника. Отец был ревностным католиком, служил в Восточной Африке, затем занялся коммерцией и часто уезжал из дома. После того как семья переехала в Мангейм, отлучки стали реже. Отец проводил с сыном больше времени, воспитывал его в религиозной строгости и много рассказывал о деятельности миссионеров в Африке. На мальчика его истории производили неизгладимое впечатление: «Для меня было ясно, что я обязательно стану миссионером и отправлюсь в самые глухие дебри Африки, по возможности в непроходимые леса. Везде, где требовалась помощь, оказать ее становилось для меня главным долгом».
Однако предсказуемо наступил момент, когда Хёсс разочаровался в религии, и он вспоминает о нем так, как будто бы он может объяснить всю его последующую жизнь. Во время драки он «случайно» столкнул одноклассника с лестницы, и тот сломал лодыжку. Хёсс задумался: ведь многие, как и он сам, не раз падали с этой самой лестницы, но крупно не повезло только одному. На исповеди он во всем честно признался священнику. Однако тот дружил с его отцом и в первый же вечер рассказал ему о проступке сына. Следующим утром отец сурово его наказал за то, что он скрыл случившееся.
Юного Хёсса безмерно потрясло «невообразимое вероломство» духовника, ведь тайна исповеди – краеугольный принцип католицизма. «Глубокая детская вера была разрушена», – писал он. Год спустя отец умер, вскоре разразилась Первая мировая война, и Хёсс, несмотря на юный возраст, решил тайком отправиться на фронт. В шестнадцать лет он записался в армию добровольцем и попал сперва в Турцию, затем в Ирак. В первом бою с британскими и индийскими войсками он был «охвачен ужасом»: однополчан косили пули, а он ничего не мог поделать. Когда же индийские солдаты подошли ближе, Хёссу удалось преодолеть страх и застрелить одного из них. «Мой первый убитый!» – горделиво записал он с восклицательным знаком. Хёсс также отметил, что более никогда не испытывал страха перед смертью.
Не окажись это исповедью будущего массового убийцы, в такой истории не было бы ничего примечательного. И в этом вся суть. Хёсс вел себя как обычный подросток, которому пришлось слишком быстро повзрослеть на войне, где его дважды ранили. Из-за ранения, кстати, он преодолел свой детский инстинкт сторониться «всяческих знаков нежности». Медсестра, которая за ним ухаживала, сперва смущала юношу «своими нежными прикосновениями», однако позднее все изменилось. «Эта встреча стала для меня переживанием волшебным, небывалым во всех значениях этого слова, вплоть до полового сношения, которым оно завершилось», – писал он.
Хёсс признавался, что для первого шага ему «никогда не хватило бы мужества» и что «первое любовное переживание во всей своей полноте любви и нежности на всю жизнь стало путеводной нитью». Он писал: «Я никогда не мог болтать о таких вещах, половые сношения без любви стали для меня немыслимы. Таким образом я уберегся от любовниц и борделей».
Впрочем, Хёсс о многом и умалчивал, если это противоречило создаваемому им образу. В Освенциме, например, он уделял особое внимание австрийской узнице Элеоноре Ходис.[189] Элеонору арестовали за подделку нацистских документов, и она работала прислугой на вилле Хёсса. Однажды он ее поцеловал, но она испугалась и заперлась в туалете. Вскоре узницу отослали обратно в лагерь и поместили в камеру для допросов. Хёсс стал тайно ее навещать. Элеонора поначалу сопротивлялась, но в конце концов сдалась. Вскоре она забеременела, и ее заперли в подвале, в крошечной камере, голой и практически без еды. Выпустили Ходис лишь на шестом месяце и по указу коменданта сделали аборт.
Конечно же, в мемуарах об этом грязном эпизоде Хёсс не упоминает ни слова. Оглядываясь в прошлое накануне казни, он упорно цеплялся за свои идеалы, считая себя человеком принципиальным, консервативным и даже немного романтичным. Он с гордостью пишет о том, что в восемнадцатилетнем возрасте командовал тридцатилетними зрелыми солдатами и был награжден Железным крестом первого класса. «Благодаря войне я и внешне, и внутренне намного опередил свой возраст».
Его мать умерла, пока он воевал на фронте, с оставшимися родственниками он быстро рассорился, особенно с дядей, который был его опекуном и все еще хотел, чтобы Хёсс стал священником. «Полный гнева на самоуправство родственников» и отказавшись от своей доли наследства, Хёсс ушел из дома и решил присоединиться к фрайкору – добровольческому корпусу, вооруженному формированию, поддерживавшему прогерманский режим на территории Прибалтики. Его соратниками теперь стали «солдаты, которые не могли найти себе места в гражданской жизни», как он выразился. Также в 1922 году он вступил в нацистскую партию, всецело «разделяя ее убеждения».
Хёсс всячески оправдывал действия фрайкора, зачастую незаконные. «Каждое предательство каралось смертью. Многие предатели так и были наказаны», – писал он. Несмотря на общее беззаконие того времени, когда многие политические убийства оставались безнаказанными, в 1923 году Хёсса осудили за участие в одном из таких преступлений, приговорив к десяти годам каторги. Хёсс не раскаялся, твердо убежденный, «что тот предатель заслужил смерть».
С явной тоской он писал об отбывании срока в прусской тюрьме, которое «воистину оказалось не отдыхом на курорте». Он жаловался на строжайшие правила и наказания за любую провинность. Однако, управляя Освенцимом или другими лагерями, он ни разу не задумался о том, что условия прусской тюрьмы не шли ни в какое сравнение с тем, как содержались его узники.
Показательно и то, с каким возмущением и чувством собственного превосходства Хёсс описывал сокамерников. Например, он рассказал о заключенном, который якобы зарубил топором служанку и беременную женщину, а потом забил насмерть четверых детей. «Если б я мог, я перегрыз бы ему горло», – возмущался Хёсс, представляя себя гуманистом. Большинство заключенных, как он замечал, «не испытывали угрызений совести и продолжали жить по-прежнему бодро». Не меньше презирал он и тюремщиков, которые «тем больше упивались возможностью произвола, чем они были примитивнее».
Хёсса, лелеющего жалость к себе вкупе с чувством морального превосходства, освободили из тюрьмы в ходе общей амнистии 1928 года. НСДАП стала наращивать силы, этому поспособствовал и крах Уолл-стрит 1929 года, повлекший за собой экономический кризис. В 1933 году к власти пришел Гитлер, еще через год Хёсс перешел на кадровую службу в СС, в охранную часть только что созданного концентрационного лагеря Дахау, где стал работать инструктором для новобранцев. Он подумывал, не вернуться ли к сельской жизни, но в конце концов решил остаться в армии: «Меня не беспокоило то, что у предложения Гиммлера оказалось такое дополнение, как концентрационный лагерь. Я представлял только жизнь кадрового солдата, военную жизнь. Солдатская жизнь захватила меня».
Жизнь солдата СС, даже в ранней версии концлагеря, оказалась полна жестокости. Сражаться им было не с кем, поэтому солдаты отыгрывались на беззащитных заключенных, порой забивая их до смерти. Хёсс в своих записях для Зейна неоднократно утверждал, что был добросердечнее прочих надзирателей. Когда он впервые присутствовал на порке, его «бросало то в жар, то в холод».[190] Другие эсэсовцы относились «к исполнению телесных наказаний как к любопытному зрелищу, своего рода увеселению». Хёсс, по его словам, «к их числу определенно не принадлежал».
Однако он предостерегал против излишней «доброты и безграничного сострадания» по отношению к заключенным, которые могли запросто перехитрить надзирателей. В 1938 году Хёсса назначили адъютантом в Заксенхаузен, где он практически каждый день присутствовал на казнях, лично отдавая приказ расстрельной команде. Хёсс утверждал, что казненные были вредителями и противниками войны, выступавшими против идей Гитлера. Врагами государства считались и коммунисты, и социалисты, и свидетели Иеговы, и евреи, и гомосексуалисты…
Угрызений совести Хёсс не испытывал. Он утверждал, что был «непригоден к подобной службе» и потому ему приходилось прикладывать слишком много усилий, чтобы «скрыть свою слабость». Какую слабость? Он «был слишком тесно связан с заключенными, потому что слишком долго и сам жил их жизнью, разделял их нужды». Однако, по мнению Хёсса, первые успехи Гитлера доказывали, что нация на верном пути. В 1939 году Хёсса назначили комендантом Заксенхаузена. Спустя год его перевели в Освенцим.
* * *
Ян Зейн считал, что его знаменитый пленник вовсе не лукавит, когда говорит об отсутствии энтузиазма при выполнении некоторых приказов, и что он и в самом деле вряд ли разделял настроения многих своих подчиненных-садистов. «В конечном счете идеальными для национал-социализма комендантами концентрационных лагерей были не жестокие, развратные и опустившиеся личности из числа СС, а люди вроде Хёсса»,[191] – отмечал он. Иными словами, они были технократами, делавшими успешную карьеру благодаря безоговорочному выполнению чужих приказов, а не из любви причинять боль. Однако, если пытки и убийства становились частью их работы – значит, так тому и быть.
В мемуарах Хёсс описал жизнь Освенцима куда более подробно, чем на допросах в Нюрнберге. Ему поручили организовать новый лагерь на базе уже существующих зданий и построить еще один комплекс в Биркенау. Хёсс утверждал, что в его планах изначально было создать лагерь с куда более «приличествующими условиями» для заключенных, лучше кормить их и содержать, чтобы добиться исключительных результатов работы.
Однако уже в первые месяцы «все благие намерения и планы разбились об ограниченность и упрямство большей части подчиненных». Говоря проще, надзиратели просто не сумели сдержаться и опять стали измываться над заключенными – и это, конечно же, не вина Хёсса. Утешение он искал в навязчивой одержимости службой. «Я не хотел сдаваться. Мое честолюбие здесь ни при чем. Я не видел ничего, кроме работы».
За отказ от намерений сделать Освенцим более эффективным и менее смертоносным лагерем Хёссу якобы пришлось заплатить высокую цену: «Из-за этой полной безнадежности я стал совсем другим… Это вытеснило из меня все человеческое». Давление руководства и «пассивное сопротивление» подчиненных привели к тому, что Хёсс начал пить. Его жена Хедвиг пыталась спасти мужа, приглашала друзей и устраивала вечеринки… Тщетно. «О моем поведении сожалели даже посторонние», – добавлял он, снова упиваясь жалостью к самому себе, которая пронизывает весь текст мемуаров.
Когда в 1941 году Гиммлер издал приказ о создании газовых камер для массового истребления людей, Хёсс без малейших колебаний приступил к его исполнению. «Пожалуй, этот приказ содержал в себе нечто необычное, нечто чудовищное, – признавал он. – Однако мотивы такого приказа казались мне правильными». Для Хёсса это было лишь очередное распоряжение, до приговора он и не задумывался над его моральной сутью: «Я тогда не рассуждал, мне был отдан приказ, я должен был его выполнить».
Он лично наблюдал за казнью советских военнопленных, на которых испытывали «Циклон Б» – специально разработанный для этого газ. «Первое удушение людей газом не сразу дошло до моего сознания, возможно, я был слишком сильно впечатлен процессом». Когда казнили группу из девятисот узников, он слышал их крики, удары в стену… Позже, осматривая тела, Хёсс заметил, что его «охватило неприятное чувство, даже ужас», хотя смерть от газа ему «представлялась более страшной, чем оказалась». Более того, «удушение газом успокоило, поскольку предстояло начало массового уничтожения евреев».
Вскоре газовые камеры работали на полную мощность, и Хёсс регулярно их проверял. Многие из осужденных на смерть верили, что их ведут в душ, другие понимали, что происходит. Комендант не раз замечал, как матери, «которые знали или догадывались о том, что их ждет, пытались преодолеть выражение смертельного ужаса в своих глазах и шутили с детьми, успокаивали их». Одна женщина по пути в газовую камеру указала Хёссу на четверых детей и тихо спросила: «Как же вы сможете убить этих прекрасных, милых малышей? Неужели у вас нет сердца?» Другая – само собой, безуспешно – пыталась вытолкнуть их из закрывающихся ворот, умоляя: «Оставьте в живых хотя бы моих любимых детей!»
Хёсс уверял, что его, как и надзирателей, безмерно трогали эти сцены, «которые не оставляли спокойными никого из присутствующих». Однако свои тайные сомнения нельзя было выдавать. «Все смотрели на меня», – писал он, а значит, Хёсс не мог показывать ни жалости, ни волнений. Он утверждал, что вовсе не испытывал к евреям ненависти, это чувство, мол, вообще ему несвойственно. Однако он видел в них «врагов народа».
Впрочем, как много бы Хёсс ни говорил о своих «сомнениях», его гордость за отлаженный механизм смерти очевидна. Он цинично сожалел, что в газовые камеры отправляли далеко не всех больных заключенных, отчего «в лагерях никогда нельзя было добиться настоящего порядка». Хёсс считал, что руководству стоило бы прислушаться к его советам и сократить численность заключенных, оставив лишь самых крепких и здоровых. То есть послать на смерть еще больше евреев.
И хотя он беспечно писал, что с начала работы газовых камер никогда не испытывал скуки, Хёсс настаивал на том, что «не бывал счастлив» после начала массовых убийств. Он указывает и причину, которая говорит о его характере больше, чем весь прочий текст мемуаров. В Освенциме все были уверены, что «у коменданта прекрасная жизнь», и это было правдой. У жены был цветочный рай в саду, дети избалованы, дома всегда водилась живность: «то черепахи, то куницы, то кошки, то ящерицы», к тому же еще конюшня и псарня для лагерных собак. Даже заключенные, которые работали на вилле, «старались сделать приятное» семье коменданта. Однако Хёсс добавляет: «Сегодня я горько сожалею о том, что у меня не оставалось много времени для своей семьи. Ведь я всегда считал, что должен постоянно находиться на службе».
Строки, в которых он описывает свою семью, следуют сразу же за рассказами о матерях, отчаянно пытавшихся спасти детей или хотя бы успокоить их перед смертью. Совершенно очевидно, что Хёсс не видит никаких параллелей. Как писал Зейн в предисловии к польскому изданию его мемуаров: «Все описания массовых убийств будто вышли из-под пера совершенно стороннего наблюдателя».[192]
В Нюрнберге Хёсс заявил, что готов взять на себя ответственность за свои действия и понимает, что должен расплатиться жизнью, – но при этом продолжал обвинять во всем Гитлера и Гиммлера, отдававших ему приказы. В то же время он с гордостью писал, что даже после окончания войны «сердце, отданное идее фюрера, говорило, что мы не можем пойти ко дну».
Примо Леви, писатель-еврей итальянского происхождения, переживший Освенцим, в предисловии к поздним изданиям мемуаров Хёсса писал, что эта история «преисполнена зла, и это зло выражено с пугающей бюрократической тупостью».[193] Автора он описывает как «грубого, глупого, высокомерного негодяя, который иногда нагло лжет». Впрочем, это не мешает ему называть мемуары «одной из самых поучительных книг», которая показывает, как человек, в других обстоятельствах ставший бы «скучным функционером, соблюдающим дисциплину и выполняющим чужие приказы», превратился в «величайшего преступника в истории».
Книга, по его мнению, рассказывает, «как легко в человеке зло подменяет добро, осаждает и подавляет его, оставляя лишь крохотные островки: любовь к семье, интерес к природе и викторианскую мораль». Тем не менее Леви признает, что во многом автобиография Хёсса правдива и он вовсе не был садистом, обожающим причинять боль. В этом смысле «он так и не стал истинным чудовищем даже на пике своей карьеры в Освенциме».
Эта тема в очередной раз всплыла при обсуждении суда над идеологом холокоста Адольфом Эйхманом. Были ли главные нацисты монстрами – или обычными людьми? Для тех, кто придерживался второй точки зрения, на руках Хёсса было больше крови, чем у Эйхмана. Позднее эти идеи легли в основу концепции «банальности зла».
* * *
Как уже отмечалось, Хёсс во время дачи показаний в Нюрнберге преувеличил количество жертв Освенцима. Его первоначальная оценка – от двух с половиной до трех миллионов смертей – подтверждалась показаниями уцелевших участников зондеркоманд, особых подразделений из числа узников, которые загоняли приговоренных в газовые камеры.[194] Большинство членов зондеркоманд также были убиты, но некоторые выжили. Двое из них сразу после войны подтвердили, что в газовых камерах лагеря погибло не менее четырех миллионов человек. Эта цифра и попала в официальные доклады советских и польских властей, а также книгу Зейна.[195] Более того, польское правительство придерживалось этих данных вплоть до своего свержения в 1989 году, несмотря на многочисленные доказательства их значительного завышения.
Для тех, кто не верил в холокост или, по крайней мере, считал, что количество жертв чрезмерно преувеличено, книга Зейна стала объектом насмешек, некоторые даже называли его «советским дурнем».[196] Однако на тот момент польские и советские комиссии, первыми исследовавшие лагерь, были склонны верить самым изобличающим показаниям, тем более что опровергающих их доказательств еще не нашлось.
Поэтому данные Хёсса и выживших узников были приняты всерьез. Петр Цивинский, нынешний директор Государственного музея «Аушвиц-Биркенау», подтвердил, что офицеры СС сожгли 90 % лагерной документации, а значит, подсчет точного количества жертв должен был занять немало времени. «Нельзя сказать, что военные комиссии подошли к делу халатно, – отметил он. – На тот момент они искренне считали, что чем больше, тем лучше».[197] Для сталинской эпохи это было естественно: «Только сумасшедший стал бы опровергать официальные данные Политбюро».
Франтишек Пипер, польский историк из Государственного музея «Аушвиц-Биркенау», первым относительно точно подсчитал количество жертв: от 1,1 до 1,5 миллиона человек.[198] В 1992 году, уже после падения коммунизма, он наконец сумел издать свою книгу. И хотя примерные цифры были известны задолго до официальной публикации, по мнению Пипера, польские власти опасались предпринимать какие-то шаги, которые могли «преуменьшить преступления геноцида в целом и Освенцима в частности».[199] Кроме того, любого, кто осмелился бы озвучить реальные цифры, тут же обвинили бы в пособничестве убийцам.[200]
На самом деле цифра в четыре миллиона примерно соответствовала общему количеству евреев, погибших в лагерях смерти и гетто, после того как более одного миллиона было убито айнзацгруппами. Конечно, это было лишь совпадением. И все же пересмотренные данные по Освенциму не сильно сказались на общем количестве жертв холокоста.
Что до Зейна, он не стал идеологом нового режима. Даже после того, как он в 1949 году занял пост директора Института судебной экспертизы, в коммунистическую партию, как следовало бы ожидать, Зейн так и не вступил. Вместо этого он присоединился к Демократической партии (Stronnictwo Demokratyczne), которую называл «незаконнорожденным ребенком» коммунистов[201] – иными словами, эта маленькая партия была создана намеренно, чтобы создать впечатление плюрализма. Что интересно, в 1989 году она (вместе со столь же незначительной Объединенной Крестьянской партией) отказалась выполнять распоряжения коммунистов и перешла на сторону «Солидарности».
Конечно, это произошло уже после смерти Зейна, но инстинкты здраво подсказывали ему, с одной стороны, поддерживать хорошие отношения с правительством, а с другой – держаться от него подальше. Пребывая на посту директора более пятнадцати лет, ему удавалось избежать создания в институте партийной ячейки, в то время как все прочие организации создавали ее в обязательном порядке. «За все годы его работы на нас не оказывали никакого политического давления», – подчеркивает Зофия Хлобовска.
В то же время он поддерживал близкие дружеские отношения с Юзефом Циранкевичем, который до войны возглавлял Польскую социалистическую партию, пережил Освенцим, а в коммунистической Польше занял пост премьер-министра. Без таких связей Зейну, конечно же, не позволили бы вести расследование в Освенциме или выезжать за границу. В разъездах (в частности, по территории Германии), как тогда было принято, Зейна всегда сопровождал «телохранитель», реальная миссия которого заключалась в том, чтобы убедиться в отсутствии несанкционированных контактов с иностранцами.
Зейн не выказывал жажды мести, даже когда допрашивал Хёсса и его подчиненных. «С преступниками он был гуманным, потому что знал, какая судьба их ожидает», – поясняла Хлобовска. Еще он знал, что при хорошем обращении заключенные охотнее делятся со следователями деталями своих преступлений. Зейн считал, что его задача – выбить из бывшего коменданта лагеря как можно более подробные показания и собрать как можно больше доказательств против него. В итоге ему удалось развязать язык Хёссу.
Возможно, Зейн начал расследовать военные преступления, потому что подсознательно желал дистанцироваться от брата, который охотно объявил себя фольксдойче и стал главой оккупированного немцами поселения. Впрочем, что бы им ни двигало, он добился потрясающих результатов.
Особенно заботлив он был с выжившими узниками, которые выступали для него в роли свидетелей. Известно, что как минимум один раз он рисковал собой, чтобы им помочь. Его бывшая коллега Козловска вспоминает, как он брал показания у женщин – жертв медицинских экспериментов из Равенсбрюка. «Они все были душевно опустошены, а Зейн был способен убедить их, что стоит жить дальше». В начале коммунистической эпохи он совершил настоящий подвиг, уговорив власти отправить группу из дюжины выживших на реабилитацию в Швецию.
В те времена обычные граждане не имели никаких шансов покинуть страну, так как власти опасались, что они не вернутся. И в самом деле, из той группы вернулись лишь двое или трое, что, само собой, должно было ударить по Зейну. Ему удалось избежать ареста только благодаря дружбе с премьер-министром.
Другая узница Равенсбрюка, хромая на обе ноги, которые ей переломали в лагере, периодически появлялась в коридорах института и кричала, что «над ней издевались» (конечно, так оно и было в самом деле, добавляла Козловска). Зейн велел сотрудникам ее не обижать. Женщину сажали за стол, давали лист бумаги с ручкой, и она несколько часов что-то яростно строчила. Текст, как правило, был совершенно неразборчив, но на пару недель несчастная успокаивалась.
В своем стремлении уличить преступников Зейн никогда не забывал о настоящих жертвах и ни разу не поддался на жалкие потуги Хёсса вызвать к себе жалость. Бывший комендант был для него лишь объектом изучения, от которого требовалось добиться компрометирующих показаний. В этом Зейн и видел свою миссию.
Глава 6 Не видеть зла
По нашему мнению, наказание военных преступников должно осуществляться скорее как урок для грядущих поколений, нежели как воздаяние по заслугам каждому виновному. Кроме того, с учетом будущих политических событий в Германии… мы убеждены, что нужно избавиться от прошлого как можно скорее.[202]
Секретная телеграмма Управления по делам Содружества в Лондоне членам Содружества – Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Индии, Пакистану и Цейлону 13 июля 1948 годаВойна еще не закончилась, а победители стали задумываться: так ли уж необходимо преследовать нацистских военных преступников в судебном порядке?
Судьи и прокуроры Нюрнбергского процесса, равно как и выжившие узники вроде Симона Визенталя и Тувьи Фридмана, всей душой верили призывам о правосудии и справедливости. Другие заглядывали в послевоенное будущее, где уже назревала конфронтация с новым тоталитарным противником – Советским Союзом.
Весной 1945 года Сол Падовер, историк и политолог австрийского происхождения, служивший в армии США, продвигаясь вместе с войсками по Германии, подробно записал свои беседы с коренным населением и американскими военными, которых поставили руководить немецкими городами и другими поселениями. Падовер стремился выяснить настроения, бытовавшие среди местных жителей, а также ускорить выявление нацистов, занимавших значимые посты. В промышленном городе Рейнской области он встретился с полковником, которого обозначил в записях как MG (military governor[203]). Тот был настроен весьма скептически и выразился весьма грубо и однозначно: «Не наша забота выяснять, что думают эти немцы. Демократов ищете? Их даже в Америке не сыскать. Мне плевать, кто здесь живет, пока они нас не трогают. Меня куда больше волнует русская угроза, чем немецкие проблемы. Воевать с Россией смогут только Штаты. Англичане? Не смешите меня! В этом городе ищут нацистов? Не мое дело. Я против них ничего не имею, если они не действуют против нас. Список нацистов, который вы мне дали, может быть настоящий, а может, и нет, не все члены нацистской партии обязательно сволочи».[204]
Генерал Джордж Паттон, служивший военным губернатором в Баварии, отозвался о попытках начальства наказать или хотя бы снять нацистов с руководящих постов в послевоенной Германии не менее едко. В письме жене 1945 года он отметил: «То, что мы делаем, уничтожит единственное более-менее современное государство Европы, чтобы Россия могла поглотить его без остатка».[205]
Даже некоторые германские евреи, покинувшие родину в 1930-е годы, на удивление прагматично относились к проблемам побежденной Германии, куда вернулись как новоиспеченные американцы. Питеру Зихелю было двенадцать лет, когда в 1935 году принимали Нюрнбергские законы.[206] Он вспоминал, как мать предупреждала: «Всех евреев скоро убьют», но большинство друзей считали ее сумасшедшей. Родители отправили его в британскую школу, спустя три года им также удалось бежать из Германии.[207]
В 1941 году Зихель переехал в США, после событий в Пёрл-Харборе записался в армию добровольцем. Во время войны он служил в УСС – Управлении стратегических служб, предшественнике ЦРУ. Его задача заключалась в том, чтобы вербовать немецких военнопленных для разведывательных заданий. К концу войны он, получив капитанское звание, возглавил отдел УСС 7-й армии США в городе Гейдельберг. Вскоре Зихель столкнулся с тем, что любые попытки преследовать по закону низшие нацистские чины остаются без внимания. «Наша задача состояла в том, чтобы ловить сотрудников спецслужб, высокопоставленных эсэсовцев и крупных чиновников, – говорил он и добавлял, пожимая плечами: – Только не спрашивайте, кого мы ловили и как».
На конференции в Лондоне годом ранее Зихель сообщил начальству, что теперь, когда война выиграна, можно не беспокоиться о возможных интригах закоренелых нацистов. «Это же не Первая мировая, – пояснил он. – Все прекрасно знают об их отвратительных злодеяниях. Пусть прячутся, если хотят; вряд ли от них стоит ждать проблем». Он добавил, что его бывшие соотечественники хорошо воюют в группе, но не сильны в одиночном бою. Зихель оказался прав. Опасения, что подразделения «Вервольфа»,[208] которые готовили к партизанской войне против союзников, могут оказаться серьезной угрозой, быстро развеялись.
Вскоре после поражения Германии Зихеля перевели в Берлин, где он продолжил свою тайную работу в УСС, а позднее в ЦРУ. В 1950 году он возглавил берлинское подразделение. Его приоритетами были сбор разведданных о русских, а также поиск и защита немецких ученых и инженеров от похищения и принудительной работы на СССР. Многим ученым, какими бы разработками они ни занимались прежде, помогли перебраться в Западную Германию, откуда некоторых из них отправили в США. «Они ведь сами не воевали за нацистов», – оправдывался Зихель.
Что до военных преступников, он сказал: «Может, ужасно так говорить, но, если честно, мне нет до них дела. Моей философией всегда было, что преступника надо пристрелить и поскорее о нем забыть. Лучше избавиться от негатива и смотреть вперед, не оглядываясь в прошлое». Зихель верил, что Нюрнбергский и другие судебные процессы решили проблему нацизма.
* * *
Новые хозяева Германии, однако, так не считали. 10 мая 1945 года президент Трумэн подписал соглашение, предлагавшее весьма амбициозный проект «денацификации» германского общества.[209] «Все члены НСДАП, которые были больше чем номинальными участниками ее деятельности, и все другие лица, враждебные союзным целям, должны быть удалены с общественных или полуобщественных должностей и с ответственных постов в важных частных предприятиях»,[210] – гласил текст соглашения. Он также определял категории преступников, которым отныне было запрещено в соответствии с этими условиями занимать должности, и охватывал весьма широкий круг сторонников Третьего рейха.
С необходимостью денацификации согласились все четыре державы: США, Великобритания, Франция и Советский Союз. Отныне немцам при устройстве на работу приходилось заполнять позорную анкету из 131 вопроса на всевозможные темы: от состояния здоровья до прошлых политических предпочтений; затем дела тех, кого отстранили от государственной или коммерческой службы, разбирала специальная комиссия. Немецкий писатель Эрнст фон Заломон позднее опубликовал сатирическую книгу «Анкета», где дал насмешливые ответы на каждый из вопросов о роде его занятий в нацистскую эпоху.
Однако перед победителями встала серьезная и даже пугающая проблема: что делать с людьми, которые в большинстве своем пошли за нацистами? В НСДАП входило восемь с половиной миллионов человек – их дела сохранились благодаря работнику бумажной фабрики в Мюнхене, который вопреки приказу не уничтожил документы.[211] Еще больше сотрудничало с разными нацистскими организациями. Если уволить всех, кто так или иначе служил Третьему рейху, работать будет просто некому. Ноэль Аннан, старший офицер разведки британской зоны оккупации, написал по этому поводу то, что и так знали даже самые горячие сторонники денафикации: «Демократия в Германии не смогла бы родиться без щипцов денацификации, но крайне важно было при этом не убить ребенка».[212]
Немцы послушно принялись заполнять анкеты, а победители едва справлялись с горами бумаги. Американцы самонадеянно велели пройти анкетирование всем лицам старше восемнадцати, и к концу 1946 года у них скопилось более 1,6 миллиона опросников, что привело к увольнению 374 000 нацистов.[213] Но неизученными оставались еще миллионы дел, армия США просто не успевала обрабатывать документы. По словам генерала Люсиуса Д. Клея, военного губернатора американской зоны оккупации, «мы и за сто лет не управились бы».[214]
В конце концов он пришел к выводу, что денацификация должна «быть сделана немцами». Это совпадало с его желанием побудить тех, кто не запятнал себя сотрудничеством с нацистами, постепенно брать на себя ответственность за происходящее в стране.[215] Были сформированы специальные суды – Spruchkammern, которые в общем-то не имели формальной юридической силы, однако могли выносить вердикты и определять подсудимого в одну из групп: «главные обвиняемые», «обвиняемые», «второстепенные обвиняемые», «соучастники», «невиновные».[216]
Не обошлось без проблем. Большинство нацистов уверяли, что были «Mussnazis», то есть вступили в партию по принуждению, а втайне придерживались противоположных взглядов.[217] Как не уставали шутить победители, у Гитлера вовсе не было последователей. Если одни прокуроры старательно подходили к исполнению своей задачи, то другие запросто оправдывали нацистов на основании самых сомнительных доказательств. Выдаваемый ими «обеляющий» сертификат немцы вскоре стали иронично называть «Персилшайн»[218] – в честь стирального порошка «Персил». Тем не менее изначально немцы одобряли проект денацификации: опрос 1946 года показал, что 57 % населения американской зоны оккупации выступают в его поддержку.[219] Но вера в справедливость денацификации падала. Уже в 1949 году число сторонников сократилось до 17 %.[220] Порой здания судов, автомобили и дома их сотрудников подвергались вандализму.
Позднее Клей признал, что и с анкетами, и с судами потерпел неудачу. «Просто я не представлял, что еще можно сделать»,[221] – искренне заявил он. В обществе, которое слишком долго прожило под властью Гитлера, никто не знал рецепта успеха в процессе денацификации. Клей тем не менее утверждал, что при всех своих недостатках эта мера действительно позволила выявить многих нацистов и снять их с руководящих постов. «Немцам не удалось навести в своем доме полный порядок, но они хотя бы убрали основную грязь»,[222] – метафорично выразился он.
Все державы-победительницы были готовы делать исключения, когда речь заходила, например, о ракетостроителях, которые в свете назревающего конфликта были в равной степени нужны и Америке, и Советскому Союзу. Британцы и французы тоже не раз отменяли первоначальные решения, приводившие к негативным последствиям. Так, например, в июне 1946 года на заводе «Фольксваген» уволили 179 работников, но, поскольку там выпускались в основном машины для английского рынка, 138 сотрудников вскоре восстановили в должности.[223] Французы сперва уволили 75 % учителей, а перед началом нового учебного года в спешном порядке вернули их на работу.[224]
Советские власти неоднократно обвиняли западные страны в сотрудничестве с бывшими нацистами и в том, что их часто оставляли на ключевых постах. К концу оккупации в 1949 году, когда Германия была разделена на две части, Кремль был склонен считать Западную Германию исключительно прибежищем нацистов. И хотя нет сомнений, что многим удалось избежать процесса денацификации и сохранить руководящие должности в новом демократическом государстве, но и советские показатели были далеки от идеала.
С 1949 года новые восточногерманские суды выносили обвинительные приговоры в истинно сталинском стиле и с головокружительной скоростью. За два с половиной месяца они рассмотрели 3224 дела бывших нацистских чиновников – в среднем по 20 минут на каждое.[225] А последних немецких военнопленных, заключенных в советские тюрьмы, выпустили лишь в 1956 году!
Как и западные державы, советские власти столкнулись с непростым практическим вопросом: кем заполнить огромное количество освободившихся рабочих мест в их зоне оккупации, а затем в ГДР? И точно так же, как их противники на Западе, они были готовы идти на уступки, порой весьма радикальные, когда это служило их целям. Большинство бывших нацистов охотно вступили в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ) – партию коммунистов. Уже в 1946 году они составляли не менее 30 % от общей ее численности.[226] Генерал Клей по этому поводу язвительно заметил, что члены Национал-социалистической партии, вступая в СЕПГ, просто зачеркивали слово «национал» в названии партии.
Немецкий историк Генри Лайде, изучивший архивы Восточной Германии, чтобы понять, как страна боролась с нацистским прошлым, считает, что в этих цифрах нет ничего странного. «Вместе с многими невинными людьми были освобождены и серьезные нацистские преступники, которые объявили, что якобы раскаиваются в своих преступлениях».[227] В качестве «искупления грехов» они вступили в ряды коммунистической партии и начали строить карьеру в новом обществе – в сфере образования, медицины, политики, безопасности и так далее. Новых хозяев советской зоны оккупации скорее интересовали граждане, придерживающиеся антикоммунистических взглядов, – их считали куда более опасными противниками, нежели бывших нацистов.
* * *
В июне 1948 года Кремль начал блокаду Западного Берлина, перекрыв все дороги, железнодорожные пути и водные маршруты со стороны той части Германии, которая контролировалась западными властями. Он стремился поглотить этот западный анклав в самом центре советской территории, вытеснив оттуда англичан, американцев и французов. В ответ некогда союзные державы открыли воздушный мост, и непрерывный поток самолетов (было сделано свыше 270 тысяч рейсов) доставлял все необходимые грузы, в общей совокупности около 2 миллионов тонн, пока 12 мая 1949 года блокаду не сняли.[228] Эта впечатляющая демонстрация решимости спасла Западный Берлин, но спровоцировала разделение Германии на две части. Так и началась холодная война.
Не случайно, что именно в 1948 году западные правительства начали явно терять интерес к преследованию военных преступников и стали смягчать уже вынесенные приговоры. Секретная телеграмма Управления по делам Содружества, разосланная по всему миру 13 июля 1948 года, давала конкретные рекомендации, каким образом «избавиться от прошлого как можно скорее». В ней содержался призыв закрыть все дела до 31 августа 1948 года и не открывать новые судебные процессы. «Особенно это касается предполагаемых военных преступников, не находящихся под стражей, которые в будущем могут оказаться в наших руках»,[229] – заключал автор текста.
В Вашингтоне атмосфера тоже изменилась. Критики судебных процессов по военным преступлениям получили весомую фору, когда адвокаты многих осужденных стали оспаривать решения суда. Пересмотру подверглись приговоры, вынесенные солдатам СС, осужденным за бойню у Мальмеди, где погибли американские солдаты, поскольку появилась информация о применении обмана и угроз во время допросов. По делам Уильяма Денсона в Дахау подобных обвинений не поступало, но прокурор уже по возвращении в США обнаружил, что его документацию изучают заново, причем весьма пристально.
Для пересмотра дел армия США создала пять наблюдательных советов, которые отчитывались перед генералом Люсиусом Д. Клеем.[230] Теоретически это было обычной страховкой, чтобы убедиться в справедливости приговоров, однако политическая ситуация того времени определенно поощряла мнение, что снисхождение к военным преступникам будет воспринято положительно. И генерал, принимая во внимание рекомендации советов, действовал соответственно, хотя обвинения в собственной мягкости всячески отрицал.
На судебных процессах в Дахау признали виновными 1416 подсудимых из 1672. «Я отменил 69 приговоров, по 119 изменил меру наказания, снизил сроки по 138, остальные 1090 оставил в силе», – подчеркивал генерал Клей. Усомнившись в достоверности показаний некоторых свидетелей, выживших в концлагерях, он заменил 127 смертных приговоров из 426 на пожизненное заключение.[231] Именно генерал Люсиус Д. Клей урезал тюремный срок самой знаменитой подсудимой процессов в Дахау – Ильзе Кох, «ведьме Бухенвальда». Новый приговор – всего четыре года! – огорошил Денсона, который вернулся в Вашингтон и немедленно приступил к ответным действиям.
Клей позже объяснил, что «тяжелый и довольно мерзкий характер» Ильзы Кох, ее «вызывающая сексуальность» заслужили «острую ненависть» узников, но представленные доказательства не убедили его, что она «ключевая соучастница преступлений в Бухенвальде».[232] Рассказы про абажуры из человеческой кожи были не более чем домыслами, ведь, согласно дальнейшим экспертизам, кожа оказалась козьей.[233]
Действия генерала Клея Денсон назвал «издевательством над правосудием».[234] Дело Кох вызвало громкие заголовки в газетах и инициировало расследование в сенатском подкомитете под руководством Гомера Фергюсона из Мичигана. На слушаниях Денсон по-прежнему выставлял Ильзу Кох садисткой и мучительницей многочисленных узников. Он пояснил, что слухи об абажурах из кожи с татуировками, которые так заинтересовали газетчиков, вовсе не были основой обвинения: «Обвинение строилось на доказательствах жестокого обращения с узниками: зверских пытках и убийствах. Вот что я выдвинул против нее».[235]
Отвечая на вопрос о соразмерности вины Ильзы Кох с другими подсудимыми по делу Бухенвальда, Денсон напомнил, что она была всего лишь женой коменданта, а значит, не имела никаких должностных обязанностей: «Думаю, она виновна более других. Она делала это по собственному желанию. У нее не было причин пользоваться своей властью. Все мои свидетели считают, что ее не приговорили к смерти лишь из-за беременности». Денсон также заметил, что решение Клея вызовет в Германии критику, несмотря на звучащие повсеместно призывы к мягкости. «Приличные немцы тоже шокированы смягчением приговора», – подытожил он.
Никто из членов подкомитета, пусть и сомневаясь в легитимности судебного процесса, не испытывал к Ильзе Кох ни малейшего сочувствия. «Исходя из того, что я услышал, этой женщине надо свернуть шею»,[236] – язвительно выразился Джон Макклеллан, сенатор из Арканзаса. Подкомитет пришел к заключению, что оснований для смягчения приговора нет. Повторяя слова Денсона, Фергюсон написал в итоговом отчете: «Каждое действие Ильзы Кох, подтвержденное доказательствами, было совершено добровольно. Это претит всем человеческим инстинктам, заслуживает презрения и недостойно снисхождения».[237]
Подвергнувшись острой критике, Клей предположил, что, возможно, пришел бы к иному мнению, если бы имел больше доказательств. Он заметил, что подкомитет сената, «единогласно опровергнувший мое решение, слышал показания, которых у меня не было».[238]
Правота Денсона была доказана еще и тем, что канцлер Конрад Аденауэр, возглавивший только что созданное западногерманское правительство, предлагал объявить амнистию для многих, кто подвергся судебному преследованию, – чтобы «после трудных времен начать с чистого листа», как он объявил на одной из первых встреч своего кабинета.[239] Однако в случае Кох западногерманский суд заново приговорил ее за подстрекательство к убийствам и жестокое обращение с заключенными к пожизненному сроку.[240] Точно такой же приговор, какой она получила на суде, который вел Денсон. Как он и предсказывал, немцев ее освобождение возмутило не меньше, чем американцев.
Петер Хейденбергер позднее навестил Кох в тюрьме и взял у нее интервью. Он признал, что испытывал почти жалость к этой невзрачной женщине, которую некогда считали сексуальным монстром. Все былое очарование ее покинуло, она походила скорее на «секретаршу из маленького городка, слегка озабоченную, с которой вы бы не стали связываться».[241] Обсуждая ее дело десятилетия спустя, Хейденбергер отметил, что Ильза Кох вполне подходит под определение «банальности зла», хотя этот термин и был придуман уже после ее приговора.
В 1963 году, почти забытая всеми, Ильза Кох добилась встречи с несовершеннолетним сыном, Уве, который знал о матери лишь то, что она была им беременна во время суда в Дахау.[242] Он стал периодически ее навещать. В 1967 году ему сообщили, что она повесилась. Ильза оставила предсмертную записку: «Я не могла поступить иначе. Смерть для меня – освобождение».[243]
* * *
Хотя в деле Кох общественная поддержка была явно на стороне Денсона, в целом мнения по судебным процессам в Дахау заметно разнились. Денсону приходилось снова и снова доказывать, что подсудимые отлично понимали, в чем заключается их цель, и что они совершали преступления по «предварительному сговору». Его противники утверждали, что это слишком размытое понятие и потому процессы нельзя считать в полном смысле слова легитимными.
Среди самых непримиримых критиков оказался не кто иной, как Бенджамин Ференц, молодой прокурор Нюрнбергского процесса, выигравший дело против двадцати двух руководителей айнзацгрупп. Суды в Дахау «абсолютно ничтожны, – заявил он. – Они не имеют ничего общего с законом. Это скорее военно-полевой суд. Правосудие я себе представляю не так».[244]
Денсон отстаивал свою правоту вплоть до самой смерти в 1998 году, утверждая, что суд получился справедливым, насколько это вообще было возможно в тех обстоятельствах, – и совершенно необходимым. Однако своей победой, равно как и вынесенными смертными приговорами, он вовсе не гордился, о чем прямо сказал в 1991 году на лекции в Университете Дрю: «Гордость во мне вызывает другое: когда кто-то из выживших приходит и говорит: спасибо за все, что вы для нас сделали».[245]
У Ференца и Денсона на самом деле было много общего. Оба в невероятно молодом возрасте взвалили на себя огромную ответственность – вести исторический процесс против главных исполнителей кровавых приказов Гитлера. Оба свято верили, что люди, пытавшие и убивавшие других по собственному желанию, должны заплатить за свои преступления. Оба создали исторический прецедент для будущих поколений, защищая интересы жертв, которые заслужили хотя бы это, – так заявил Денсон, и Ференц с ним согласился.
Однако Ференц настаивал, что, в отличие от суда в Дахау и прочих ему подобных, именно его Нюрнбергскому процессу удалось достигнуть поставленных целей. Подсудимыми были «майоры и полковники, ежедневно расстреливавшие тысячи людей, тысячи детей».[246] Ему не приходилось доказывать некий «сговор», потому что все преступления были тщательно задокументированы, а на скамье подсудимых сидели не просто исполнители, а их командиры. Ференц постарался задрать планку как можно выше.
Он приводил вполне разумные аргументы, но все же невольно выдавал ту черту характера, которая в целом была присуща той небольшой группе людей, которые вскоре станут известны как «охотники за нацистами»: склонность превозносить собственные заслуги и всячески очернять чужие достижения.
Ирония судьбы, однако, такова, что некоторые лидеры айнзацгрупп, в отличие от «мелких нацистов» из Дахау (как их назвал генерал Клей), сумели добиться снисхождения.[247] Клей в начале 1949 года, несмотря на оказываемое давление, оставил все тринадцать смертных приговоров в силе.[248] Однако год спустя его сменил на посту юрист с Уолл-стрит Джон Дж. Макклой, помощник министра обороны США, получивший должность Верховного комиссара зоны США. Он созвал комиссию по помилованиям, которая пересмотрела результаты ряда судебных процессов, в том числе против айнзацгрупп.[249] США в это время стремились наладить связи с Западной Германией как возможным союзником в борьбе с набирающим силы СССР; Аденауэр требовал смягчения приговоров, комиссия с ним согласилась, – и Макклою пришлось пойти на уступки.
В начале 1951 года он принял почти все рекомендации комиссии. Многим он сократил сроки тюремного заключения, а смертных приговоров отменил даже больше, чем предлагалось. В силе остались лишь четыре смертных приговора из тринадцати. Поступило предложение отменить и их, но Макклой отказывался, поскольку считал, что некоторые преступления снисхождения не заслуживают. 7 июня 1951 года нацистов повесили.
Телфорд Тейлор, непосредственный руководитель Ференца, поставил в деле окончательную точку, назвав действия Макклоя «воплощением политической целесообразности».[250] Ференц, который никогда не был большим сторонником смертной казни, понимал, что бизнес-юрист Макклой выносить смертные приговоры не привык. «Знаю, как непросто ему было подписать вердикт о повешении, – сказал он и тут же добавил: – Однако если наказание было наложено по самым весомым основаниям, то без других весомых оснований его отменять нельзя. Насколько я знаю, здесь таких оснований не было».[251]
В 1980 году в письме Ференцу Макклой намекнул, как долго размышлял над вердиктами: «Если бы тогда у меня были все факты, что есть теперь, я бы, возможно, принял более справедливое решение».[252] В 1958 году оставшиеся в живых руководители айнзацгрупп (в том числе те, кого изначально приговорили к смерти) вышли из тюрьмы. Остаток жизни они, как и их бывшие соучастники в массовых убийствах, прожили свободными людьми.
После «крупнейшего в истории процесса над убийцами» у Ференца не было желания преследовать военных преступников. Он обратил свое внимание на другую сферу деятельности – добиваться материальной помощи выжившим. И создал Еврейскую организацию по возмещению ущерба; столь претенциозное название должно было, по его словам, «произвести впечатление на немцев». Его планы поддержал Клей, а Макклой предоставил кредит на начальный период работы. Сотрудники Ференца изучали все реестры недвижимости в Германии, чтобы выявить и истребовать имущество, до 1933 года записанное на еврейское имя, но отчужденное в пользу государства. Затем он открыл филиалы в девятнадцати странах и затеял сложные переговоры с Аденауэром о компенсации жертвам (причем не только евреям), привлекая к делу и правительства других держав.[253] Ференц прожил в Германии до 1956 года, в Нюрнберге родились четверо его детей.
Он подчеркивал, что, хотя многие рядовые немцы по-прежнему испытывали антисемитские настроения, новые власти Германии прикладывали неимоверные усилия, чтобы хоть как-то компенсировать нанесенный ущерб. «Еще ни одна страна в истории не платила каждой жертве в индивидуальном порядке – по личному распоряжению Аденауэра, который признал, что эти ужасающие преступления были совершены руками немцев»,[254] – отметил Ференц.
Однако роль прокурора на судебном процессе в Нюрнберге по делу айнзацгрупп зажгла в нем такую страсть, что продолжала гореть десятилетия спустя. При любом удобном случае Ференц утверждал, что конфликты надо решать «не войной, а правосудием», и призывал поддерживать Международный уголовный суд. 25 августа 2011 года он выступал на заседании трибунала в Гааге по делу против конголезского повстанца Томаса Лубанга Дьило, обвиняемого в вербовке детей для участия в боевых действиях, и в своей речи ссылался на уроки Нюрнберга.[255] Тогда Ференцу был девяносто один год. В июле 2012 года Дьило признали виновным и приговорили к четырнадцати годам тюрьмы.
Сегодня Ференц ставит под сомнение необходимость преследования престарелых надзирателей концлагерей и мелких чиновников. «Забудьте про них, – говорит он. – Эту мелкую рыбешку лучше бросить обратно в реку».[256]
Впрочем, большинство его коллег – «охотников за нацистами» – не согласны с тем, что только преступники уровня Нюрнберга заслуживают суда и наказания. Иначе многие виновные в массовых убийствах смогут уйти от ответственности. Ференц хотел, чтобы любой крупный преступник ответил за свои деяния – дав тем самым урок будущим поколениям, – однако искренне верил, что лишь «его» подсудимые были достойны суда.
* * *
Большинство военных судебных процессов были затеяны именно с этой целью – показать всему миру пример справедливости. Суды в Нюрнберге строго документировали массовые убийства, казни и прочие злодеяния, совершенные во славу Третьего рейха, и устанавливали новые принципы, по которым преступник должен отвечать за свои действия вне зависимости от того, понимал ли он суть приказа. Чтобы привлечь к процессам как можно более широкую аудиторию, союзники пригласили съемочную группу, которой надлежало смонтировать документальный фильм о Международном военном трибунале.[257]
Неудивительно, что американские и советские представители не смогли договориться об общих подходах, и было решено сделать два разных фильма. Поразительна и их судьба: если советские режиссеры справились со съемками довольно быстро, то американцы, погрузившись в ожесточенные споры, так и не пришли к согласию насчет содержания картины. В итоге фильм запретили к показу на территории США. «Нюрнберг: Его урок сегодня» вышел лишь на экраны Германии в конце 1940-х и вскоре был забыт.
Причина забвения довольно проста: фильм не успели снять до 1948 года, когда политическая обстановка в Вашингтоне существенно изменилась. «Назревала холодная война, поэтому мы всячески стремились возродить Германию и вернуть ее в европейское сообщество, – заявила кинопродюсер Сандра Шульберг. – Было неудобно опять тыкать людей носом в Нюрнбергский процесс и зверства нацистов».[258]
Шульберг родилась в 1950 году, но имеет непосредственное отношение к фильму – ее отец, Стюарт Шульберг, был сценаристом и режиссером. После Пёрл-Харбора он служил в морской пехоте и в итоге попал в съемочную команду под руководством знаменитого Джона Форда. Как и его брат, Бадд Шульберг, успешный писатель и позднее лауреат премии «Оскар» за сценарий фильма «В порту». Сразу после войны оба объездили всю Германию и бывшие оккупированные территории в поисках обличающих нацистов кадров.
Нацисты стремились уничтожить любые доказательства своих преступлений, и Шульбергам приходилось требовать у бывших слуг Третьего рейха собрать все, что еще осталось. В северном баварском городке Байройт они прибегли к помощи заключенных офицеров СС. Те под охраной двух вооруженных американских солдат грузили тяжелые ящики с кинопленкой на транспорт. «На них все еще была эта черная форма и забавные фуражки, – вспоминал Стюарт. – Арийцы ужасно тяготились своим положением: их передергивало всякий раз, когда они получали от нас приказ. Совсем как тигры и львы на цирковой арене, которые нехотя повинуются ударам хлыста».[259]
Обвинителям на Нюрнбергском трибунале эти записи очень пригодились – они усилили их позиции и добавили делу драматизма. На основе документальных пленок (в том числе отснятых британскими и американскими военными при освобождении концлагерей) УСС смонтировало фильмы «Нацистский план», «История национал-социалистического движения» и «Нацистские концентрационные лагеря». Показанные на суде, эти кадры шокировали даже подсудимых.
После увольнения из армии в конце 1945 года и возвращения в Штаты Бадд Шульберг отказался писать сценарий для фильма о Нюрнбергском процессе, предложив вместо себя кандидатуру брата. Паре Лоренц, известный как «режиссер Рузвельта» и возглавлявший тогда отдел военного ведомства, ответственный за кино, театральное искусство и музыку, стал лично курировать новый проект. Согласившись с Баддом, он пригласил в качестве сценариста Стюарта. Однако вскоре у съемочной команды начались конфликты, в частности с генералом Люсиусом Д. Клеем. В 1947 году Лоренц из-за сопротивления военных властей и постоянных проблем с финансированием ушел из военного ведомства.
Стюарт подготовил несколько вариантов сценария – и всякий раз натыкался на волну гневной критики. В конце концов ему удалось отстоять свою версию. Фильм последовательно освещал все четыре пункта обвинений, выдвинутых против подсудимых: преступный сговор, преступления против мира, военные преступления, преступления против человечества. В простой, но убедительной манере, используя пленки Третьего рейха и кадры самого процесса (Роберт Джексон разрешил съемку в зале суда), фильм раскрывал суть каждого из обвинений.
В середине 1947 года, когда американцы приступили к созданию фильма, выяснилось, что Советский Союз уже смонтировал свою версию, согласно которой победу над Германией одержала Красная армия без особой помощи союзных держав. В прессе появились нелицеприятные заголовки: например, 11 июня журнал «Вэрайети» заявил: «Из-за внутренних распрей в армии США красные побили янки».[260]
И хотя некоторые американские чиновники в Германии все еще надеялись задержать, а то и сорвать создание документального фильма, появление советского варианта способствовало его завершению и выходу на экраны. Премьера американской картины состоялась лишь 21 ноября 1948 года в Штутгарте, после чего она была показана по всей Западной Германии. Стюарт писал, что критики приняли фильм «неожиданно хорошо», залы были переполнены: «Зрители сидели в ошеломленной тишине, выходили взволнованные и молчаливые». Заодно он процитировал слова одного сотрудника военного ведомства: «Этот фильм за 80 минут рассказал немцам о нацизме больше, чем мы – за три года».[261]
Еще до успеха кинокартины судья Джексон рассчитывал, что ее покажут в США. Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк запросила показ, но Вашингтон наложил запрет. В прокат запустили лишь советскую версию. Взбешенный этим решением, Джексон 21 октября 1948 года написал министру сухопутных войск Кеннету Рояллу, требуя разрешить показ. Также он связался с Харрисоном Твидом, президентом ассоциации адвокатов. Тот позднее позвонил и спросил, можно ли его гневное письмо зачитать на собрании ассоциации, если «убрать всю ненормативную лексику».[262] Джексон ответил, что читать можно лишь в том случае, если «всю ненормативную лексику оставят».
Джексон доказывал, что фильм служит сразу нескольким целям: во-первых, помогает немцам понять, зачем им демократия, во-вторых, противостоит советской пропаганде, согласно которой складывалось впечатление, что «Советский Союз победил в войне и организовал судебный процесс в одиночку», а в-третьих, в соответствии с желанием Трумэна и Рузвельта, представляет наиболее точную версию событий, объясняя, с чем американцы сражались на войне и почему так важно призвать виновников к ответу. «Я не понимаю, почему мы должны лишить американцев тех достоинств, которые он имеет», – заключил он.
Роялл был непреклонен: «Широкого проката в стране не будет, – написал он. – По моему мнению, главная идея фильма противоречит нынешней политике и целям правительства, следовательно, картина не имеет никакой ценности ни для армии, ни для нации в целом».
Многие армейские чины изначально не приветствовали идею суда над нацистскими лидерами, а в свете назревающей холодной войны эта тема и вовсе оказалась под запретом. Теперь американцы видели в Западной Германии союзника – а фильм мог помешать сотрудничеству. Уильям Гордон, директор по связям с общественностью «Юниверсал пикчерс», после просмотра фильма выступил против его показа, сославшись на то, что кадры из лагерей «чересчур тошнотворны – в самом прямом смысле слова».[263]
Факт цензуры не остался незамеченным. Колумнист «Дэйли миррор» Уолтер Уинчелл в колонке «Зал позора» от 6 марта 1949 года издевательски высказался о том, что фильм якобы способен вызвать антинемецкие протесты среди населения США. «Можно ли представить себе больший идиотизм? – ядовито написал он. – Люди, чей долг истреблять нацизм, теперь пытаются уничтожить все доказательства его преступлений – тем самым становясь пособниками нацистских бандитов».[264]
Паре Лоренц, бывший продюсер фильма, прежде чем уволиться из армии, предлагал даже выкупить картину и запустить ее в частный прокат. Конечно же, эта попытка потерпела неудачу. «Вашингтон пост» 19 сентября 1949 года саркастично заметила: «Власти США, похоже, считают своих граждан дураками: мол, мы способны ненавидеть лишь одного противника зараз. Забудьте про нацистов, велят они, бойтесь красных».[265] Уильям Ширер, известный журналист и будущий автор «Взлета и падения Третьего рейха», присутствовал на специальном показе для прессы и назвал действия армейских властей «скандальными».[266]
Однако власти остались глухи ко всем упрекам. «Нюрнберг: Его урок сегодня» так и не выпустили в широкий прокат. Несмотря на разочарование, Стюарт Шульберг по заказу военного правительства и дальше снимал фильмы про денацификацию, а с 1950 по 1952 год в рамках плана Маршалла возглавлял филиал «Моушн пикчерз» в Париже, работая над фильмами, способствующими примирению Франции и Германии.
В 2004 году, через четверть века после смерти Стюарта Шульберга, его дочь Сандра на Берлинском кинофестивале представила ретроспективу картин «плана Маршалла», перед показом которой по распоряжению директора фестиваля Дитера Косслика продемонстрировали немецкую версию фильма «Нюрнберг: Его урок сегодня». Впервые увидевшая фильм Сандра была очень тронута.[267]
Вернувшись в Штаты, она разыскала американскую копию. Оказалось, что весь текст, в том числе выступления в зале суда, дублирован. Это побудило Сандру связаться со звукорежиссером Джошем Валецки и предложить ему амбициозный план: реконструировать звуковую дорожку, чтобы зрители услышали все показания и отрывки речей из Нюрнбергского дворца правосудия в оригинале – на немецком, английском, русском и французском языках. А актера Лива Шрайбера уговорила озвучить закадровый текст. Премьера отреставрированного фильма в американских кинотеатрах прошла осенью 2010 года. В 2014 году состоялся релиз Blu-ray диска.
Наконец-то американцы увидели работу ее отца. «Холодная война» давно закончилась, и препятствий более никто не чинил.
Глава 7 Единомышленники
Ничто не уходит в прошлое. Все остается в настоящем и может повториться в будущем.
Фриц Бауэр, генеральный прокурор Брауншвейга, а затем Гессена, объясняя свое стремление убедить соотечественников признать преступления Третьего рейха[268]Американцы, участвующие в военных судебных процессах, далеко не первыми заметили, как быстро падает интерес общественности к наказанию нацистов и демонстрации ужасающих последствий их двенадцатилетней власти террора. Вольные «охотники за нацистами», на собственной шкуре испытавшие весь кошмар холокоста, были потрясены, столкнувшись с нарастающим безразличием и даже враждебностью по отношению к своим действиям. Многим приходилось искать себе новое занятие. Начало холодной войны и боевые действия в Корее воочию доказали, что в 1950-е на повестку дня встали совсем иные вопросы, нежели в прошлом десятилетии.
После освобождения из Маутхаузена 5 мая 1945 года Симон Визенталь остался в австрийском городе Линце и сотрудничал с УСС. Руководство предоставило ему все необходимые документы, свидетельствующие о том, что он «оказывает для УСС услуги конфиденциального характера»[269] и может свободно перемещаться по американской зоне оккупации. Когда в конце 1945 года отделение УСС в Линце закрыли, Визенталь начал работать на Корпус контрразведки (CIC). Задача его была прежней – помогать американцам ловить нацистов. Впрочем, чаще всего задержанных почти сразу отпускали.
Визенталь вместе с контрразведчиками проводил задержания и сбор доказательств для судебных процессов.[270] Он начал интенсивно работать с перемещенными лицами – в основном выжившими жертвами холокоста. На раннем этапе следствия эти люди могли дать весьма ценные показания. Всячески помогая им (от медицинской реабилитации до заполнения документов на получение американской визы и, самое главное, поисков выживших родственников), Визенталь создал обширную сеть информаторов. Он рассылал анкеты, чтобы узнать личные истории бывших узников, все, что могло стать зацепкой для дальнейших расследований.
Он настаивал, чтобы лица, претендующие на любые должности в еврейских организациях, ответственных за расселение выживших евреев в американской зоне оккупации, предоставили двух свидетелей, готовых подтвердить, что те не были сотрудниками концлагерей или капо – заключенными, работавшими на администрацию. Визенталь открыто признал, что «нажил этим немало врагов»[271] – впрочем, не в первый и не в последний раз. И хотя многие узники были благодарны ему за помощь, очень быстро Визенталь втянулся в распри между различными группировками беженцев, которые пытались наладить новую жизнь.
В Линце Визенталь подготовил общий реестр выживших на основе списков, которые предоставили ему члены вновь созданного Еврейского комитета, разыскивающие своих близких. И с невероятным потрясением увидел в них имя жены Цили. Он потерял с ней связь после того, как она под видом польской католички уехала в Варшаву. Потом Визенталь узнал, что во время Варшавского восстания 1944 года немцы сожгли из огнеметов здание, где она жила. «В чудеса я не верил, – вспоминал он. – Я знал, что все мои родные погибли. И не смел надеяться, что жена могла выжить».[272]
И все же – словно ее и впрямь спасло какое-то чудо – перед обстрелом Циля вышла из дома. Вместе с другими уцелевшими нацисты отправили ее работать на пулеметный завод в Рейнской области, который позднее освободили англичане. Мужа она считала погибшим, однако их общий знакомый получил от Визенталя письмо и сумел передать ей радостную весть. В декабре 1945-го пара воссоединилась. Менее чем через год Циля родила дочь Паулинку, их единственного ребенка.
Визенталь был полон решимости строить новую жизнь. Как он ни восхищался американцами, освободившими Маутхаузен и давшими ему возможность охотиться за нацистами, с новой политической реальностью он смириться не мог. Кто-то из коллег заявил ему прямо: «Вот увидишь, как быстро все изменится. Немцы нужны нам против русских, а хороших немцев – слишком мало».[273]
Визенталя поражало, с каким рвением бывшие нацисты готовы работать на оккупантов и как быстро они стали экспертами в новой битве Запада с Советским Союзом. «Американцы легко находили общий язык с высокими голубоглазыми немцами, потому что они выглядели в точности как американские офицеры в кинофильмах»,[274] – сокрушался он. Впрочем, у нацистов было еще одно секретное оружие – «фройляйн». «Естественно, молодые парни больше думали об очаровательных милых девушках, а не об эсэсовцах, которых хотелось забыть как дурной сон»,[275] – добавлял он.
Однако Визенталь ни о них, ни об их преступлениях забывать не хотел. В 1946 году он выпустил свою первую книгу, «Концлагерь Маутхаузен» – собрание черно-белых рисунков о жизни в лагере.[276] Еще через год возглавил Еврейский центр исторической документации в Линце, где собирал всевозможные доказательства нацистских преступлений.[277] Информацию, в основном, предоставляли выжившие узники, брошенные на произвол судьбы в послевоенном хаосе. Финансирование он получил у Абрахама Силбершайна, своего бывшего учителя, с которым они встретились на Сионском конгрессе в Базеле 1946 года.[278] Бюджет, правда, был весьма ограничен, но Визенталю хватало и этого.
Многие, конечно, этих усилий не ценили, особенно послевоенная Австрия, пытавшаяся выставить себя не сторонницей Третьего рейха, а первой его жертвой. На самом деле среди руководителей нацистской машины террора оказалось непропорционально много австрийцев, особенно среди концлагерного начальства. «В численном соотношении австрийцы составляли в Третьем рейхе не более 8 %, но именно они ответственны за половину убийств евреев, совершенных от имени Гитлера»,[279] – писал Визенталь. Для многих здесь охотники за нацистами представляли серьезную угрозу. Призывы Визенталя «выкорчевать все дикие ростки нацизма» предсказуемо вызвали целую волну угроз в его адрес – вплоть до того, что в 1948 году он добился разрешения на ношение оружия.[280]
Визенталь прочно сотрудничал с организацией «Бриха», перевозившей евреев из Европы в Палестину. Многие полагали, что скоро и он сам последует этим же маршрутом. Впрочем, он соглашался с «Брихой» далеко не во всем, особенно когда речь заходила о репрессиях против лиц, виновных в нацистских преступлениях.[281]
Как ни странно, по тем же путям эвакуации – через Австрию в итальянские порты, где евреи должны были сесть на корабли, – бежали и нацисты, только не в Палестину, а в Южную Америку. Часто их сопровождали гуманитарные группы, действовавшие от лица католической церкви. Австрийский епископ Алоиз Худель был известен своими пронацистскими взглядами и помог скрыться многим военным преступникам. Визенталь до конца дней требовал от Ватикана обнародовать свои архивы – хотя и признавал, что католическая церковь все-таки спасла и немало евреев.[282]
«Вполне вероятно, что церковь была разделена на две части: одни священники считали Гитлера антихристом и, следовательно, взывали к христианскому милосердию, другие видели в нацистах высокоморальных борцов против большевизма, – писал он. – Первые помогали евреям во время войны, вторые – прятали нацистов после».[283]
Собирая доказательства против австрийских военных преступников, он не раз огорчался «наивностью» американских войск и – в еще большей степени – отношением британских оккупационных сил. Однажды Визенталя задержали в британской зоне оккупации, и сержант, которому «совершенно не было дела» до охоты за нацистами, принялся допрашивать его о нелегальных перевозках евреев через Италию. Получается, что британцев больше волновал поток беженцев в Палестину, нежели преступники, проживавшие на подконтрольной им территории.[284]
Чувствуя, как стремительно падает интерес к охоте за нацистами, Визенталь все чаще подумывал о переезде в Израиль, который в 1948 году обрел статус независимого государства. Циля, по словам дочери, с самого начала поддерживала это решение. «В 1949-м мои родители были готовы ехать в Израиль», – вспоминает Паулинка. Тогда Симон даже побывал там, полагая, что вскоре эта страна станет их новым домом.[285]
Помимо сотрудничества с «Брихой» Визенталь поддерживал движение сионистов и другими способами. В 1947 году он опубликовал свою вторую книгу, посвященную лидеру Палестины Хаджу Амину аль-Хусейни, который был назначен британцами Великим муфтием Иерусалима.[286] В 1936 году тот спровоцировал бунт против еврейских поселенцев, в результате чего ему пришлось покинуть пост и бежать из Палестины. Однако даже из-за границы он призывал мусульман выступить против евреев и всячески поддерживал нацистскую Германию. В ноябре 1941 года он встречался с Гитлером и сказал немецкому лидеру: «Арабы всегда были друзьями Германии, потому что у нас один и тот же противник – евреи». В ответ Гитлер обещал ему всяческую поддержку.[287]
По словам Визенталя, палестинец в сопровождении Эйхмана побывал в Освенциме и Майданеке, чтобы лучше узнать механизм «окончательного решения еврейского вопроса». Впрочем, как отмечает биограф Визенталя Том Сегев, «убедительных доказательств тому не было», и Визенталю так и не удалось издать свою книгу на английском языке. Впрочем, его интерес к деятельности муфтия все равно не ослабевал, и он сообщал полученные сведения своему спонсору Силбершайну, которые тот должен был передавать в Израиль.
Впервые приехав в Израиль, Визенталь привез немало документов, доказывающих связь арабов и нацистов. Борис Гурель, сотрудник израильского Министерства иностранных дел, убедил его остаться в Европе, чтобы продолжить разведывательную деятельность. Так Визенталь стал, по словам Сегева, «новобранцем израильской секретной службы» и был обеспечен проездными документами, дававшими возможность получить вид на жительство в Австрии. Кроме того, он считался корреспондентом нескольких израильских изданий.[288]
Впрочем, отношения с нарождающимися израильскими спецслужбами складывались непросто. Визенталь поставлял отчеты об антисемитизме и политической обстановке в Австрии, поддерживал контакты с израильскими дипломатами. Однако, по словам Сегева, в нем видели лишь «партнера», то есть нечто меньшее, чем полноценный агент разведки. В 1952 году израильтяне решили не продлевать проездные документы Визенталя, а также отклонили просьбы платить ему как консультанту консульства либо нанять в качестве сотрудника. После довольно громких протестов проездные документы ему все-таки продлили до 1953 года, но в остальном Визенталь оказался предоставлен самому себе.
Визенталь запросто получил бы гражданство Израиля, просто переехав туда, однако он хотел жить в Австрии. Потерпев в этом неудачу, он сумел добиться получения австрийского гражданства, несмотря на желание Цили перебраться в Израиль. В конечном счете решение Визенталя остаться в Европе и позволило ему в будущем получить международное признание.
* * *
Тувья Фридман, мстивший немцам в Данциге под конец войны, после нее оказался в Вене, где тоже открыл Институт документации преступлений нацистов. В целом он шел тем же путем, что и Визенталь: вместе с коллегами собирал свидетельства выживших, которые прибывали в Вену из Восточной и Центральной Европы. Собранные доказательства передавались местным властям для проведения следственных действий и судов над нацистами. «Благодаря нам австрийская полиция арестовала десятки подозреваемых»,[289] – хвалился он.
Однажды румынский еврей, студент Венского университета, привез ему пачку писем, обнаруженных в столе комнаты, которую он арендовал у австрийки. Их автором был лейтенант Вальтер Маттнер, служивший в войсках СС на Украине вскоре после нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года. Маттнер подробнейшим образом рассказывал своей жене (причем беременной!) о массовых расстрелах евреев, мимоходом упомянув, что число жертв в Киеве составило около 30 тысяч, а в Могилеве – не менее 17 тысяч. Сообщал он и о публичных казнях членов коммунистической партии, на которые силой сгоняли все мирное население города. «Здесь, в России, я наконец-то понял, что значит быть нацистом»,[290] – гордо заявлял он.
Фридман передал бумаги австрийской полиции. Инспектор был потрясен не меньше, собрал коллег и зачитал им некоторые фрагменты. «Я видел, какой стыд они при этом испытывали», – признался Фридман.
Пару дней спустя Маттнера выследили в небольшом городке в Верхней Австрии и доставили в Вену. Инспектор пригласил Фридмана на допрос в качестве свидетеля. Маттнер не стал отрицать своего авторства. Инспектор ужаснулся: «Как можно писать беременной жене о том, что вы безжалостно расстреливали в России детей?!»
Маттнер пытался оправдаться: «Я… я хотел произвести на нее впечатление», однако инспектор наотмашь ударил его по лицу и сказал, что эти письма – доказательство участия в массовом убийстве. Тогда Маттнер стал утверждать, что стрелял поверх голов, но инспектор снова его ударил и спросил, почему ему так нравилось убивать евреев. Маттнер начал юлить, уверяя, что всегда дружил с евреями и вплоть до аншлюса 1938 года (включения Австрии в состав Третьего рейха) закупался только в еврейских магазинах. Что бы ни случилось после, его вины в том не было. «Нас отравила пропаганда Гитлера. Он дал нам дикую власть над людьми».
Фридман, охваченный гневом, не вытерпел и ушел, опасаясь, что набросится на заключенного. Маттнера вскоре осудили и повесили.
Непосредственно после войны, во время оккупации Австрии, войска союзников рассмотрели невероятное количество дел: на скамью подсудимых попали 28 148 человек, из которых 13 607 признали виновными. Однако, как отмечали и Тувья, и Визенталь, и многие другие, с началом холодной войны энтузиазм ослаб и большинство заключенных вскоре вышли на свободу.[291] В Австрии, государстве, пытавшемся выставить себя первой жертвой Гитлера, многие нацисты даже сохранили прежние должности.
«Ситуация становилась донельзя постыдной, – вспоминал Фридман. – Кажется, не меньше половины австрийских полицейских участвовало в нацистских программах, направленных против еврейских общин, особенно на территории Польши. Я начал чувствовать негативное отношение и к себе, и к моему Институту документации».[292] Полномочия сотрудников полиции, прежде взаимодействовавших с Фридманом, были ограничены.
Взбешенный, Фридман решил обсудить ситуацию со своим главным контактом из контрразведки США. «Это Австрия, Фридман, – прямо заявил ему майор, еврей по национальности. – Русские хотят опустить свой “железный занавес” прямо здесь, мы хотим им помешать. А здешние люди пытаются сыграть на наших противоречиях. Они ведь не идиоты. И они не хотят, чтобы их суды были переполнены военными преступниками».[293]
Избранная стратегия сработала: войска союзных держав, включая силы СССР, в 1955 году были выведены из страны, что сделало ее независимой и нейтральной. С 1956 по 2007 год в Австрии прошло всего тридцать пять судебных процессов против нацистов.[294]
Как и Визенталь, Фридман сотрудничал с «Брихой», направляя евреев в Палестину. В 1947 году, за год до основания Израиля, он выполнял разного рода поручения для «Хаганы» – еврейской военизированной организации, участники которой часто сопровождали беженцев на пути в Землю обетованную. Лидер «Хаганы» приветствовал стремление Фридмана отдать нацистов под суд, хотя и напоминал, что первоочередной его задачей должно быть создание собственного еврейского государства. «Посвяти себя этой цели, Тадек, – говорил он. – Нацисты подождут. А евреи больше ждать не могут».[295]
Фридман утверждал, что при его поддержке отряды «Хаганы» захватывали грузовики, перевозящие оружие для арабских стран, и передавали их палестинским евреям. В 1949 году, через год после основания еврейского государства, в Вене появился новый израильский агент, и Фридману дали понять, что в его услугах больше не нуждаются. «В Вене тогда царила весьма странная атмосфера, – вспоминал он. – Были израильтяне. Были обычные евреи. А меня все считали поляком».[296]
Он продолжил работать в Институте документации, но, как и Визенталю в Линце, ему приходилось несладко. В начале 1950-х годов поток еврейских беженцев в Австрию значительно сократился, и финансирование урезали. С еще большей скоростью падал интерес к его работе. «У меня хранилось огромное количество папок с показаниями жертв. Однако немцам они не были нужны, австрийцам – тем более, а про американцев и русских и вовсе говорить нечего».[297]
В 1952 году Институт был закрыт, и Фридман переслал документы в иерусалимский Яд ва-Шем – новый израильский мемориал холокоста. Сам Фридман вслед за документами тоже перебрался в Израиль. Он поклялся, что и там будет преследовать нацистов, признавая в то же время, что надо налаживать новую жизнь в новой стране.
Лишь одну папку Фридман не передал израильтянам – документы по делу Адольфа Эйхмана.[298]
* * *
Живя в Вене, Фридман встречался и часто переписывался с Визенталем. «Мы договорились сотрудничать, обмениваться информацией и помогать друг другу любым возможным способом»,[299] – пояснял он. Поначалу это желание двух самопровозглашенных «охотников за нацистами» было искренним. В конце войны Фридман работал на польских коммунистов в Данциге, Визенталь – на американцев в Австрии. Это вызывало некоторое недоверие друг к другу, что не отменяло преданности одной цели. Однако позже именно общая цель стала причиной плохо скрываемого соперничества.
По словам Фридмана, оба сосредоточились на поисках Эйхмана, главы тайного отдела гестапо, ответственного за «окончательное решение еврейского вопроса», который исчез после войны. Визенталь утверждал, что об Эйхмане ему рассказал Ашер Бен-Натан, еврей австрийского происхождения, в 1938 году бежавший в Палестину, а после войны под именем Артура Пира работавший на «Бриху» в Австрии. На встрече в Вене 20 июля 1945 года «Артур» передал Визенталю список военных преступников, составленный политическим департаментом правления Еврейского агентства. В нем было имя Эйхмана с пометкой: «высокопоставленный чин гестапо, отдел “по делам евреев”, член НСДАП (Национал-Социалистической партии)».[300]
Оба биографа Визенталя утверждают, что он получил еще одну наводку от неожиданного источника – хозяйки дома, где он снимал жилье на Ландштрассе, 40, по соседству с отделением УСС в Линце. Однажды вечером, когда он изучал списки военных преступников, а хозяйка убиралась в комнате, она из любопытства заглянула ему через плечо и воскликнула: «О, Эйхман! Уж не тот ли это генерал СС, который преследовал евреев? Вы знаете, что его родители живут здесь неподалеку, в доме номер 32?»[301]
Эйхман, несмотря на свою роль в нацистской империи, был всего лишь оберштурмбаннфюрером (подполковником), но насчет его места жительства хозяйка оказалась права. Визенталь сообщил об этом в УСС. Через пару дней два американца наведались в дом его родителей и поговорили с отцом, уверявшим, что после войны ничего не слышал о сыне.
Это положило начало навязчивым поискам, которые в конце концов завели Визенталя в курортный городок Альтаусзее, к женщине по имени Вероника Либль. Та призналась, что была замужем за Эйхманом, но они якобы развелись в Праге в марте 1945 года, и с тех пор она о нем не слышала.[302] Визенталь продолжил копать – причем так настойчиво, что вскоре в Линце его прозвали «Эйхман Визенталь» и буквально «завалили ложной информацией».[303] Главной задачей на тот момент было найти фотографию Эйхмана, который всю карьеру массового убийцы старательно избегал камер. Наконец одному из коллег Визенталя удалось раздобыть у бывшей подруги Эйхмана старое фото 1934 года. Это изображение добавили к ордеру на арест Эйхмана.
Позднее критики и конкуренты Визенталя считали, что он заметно преувеличил свою роль в поисках, пытаясь препарировать и оспорить каждый этап запутанного сюжета. Многие даже сомневались, что он действительно начал разыскивать Эйхмана сразу после войны.[304]
Фридман, приезжавший в Австрию из Польши в 1946 году, тоже утверждал, что об Эйхмане – «величайшем убийце всех времен» – ему сообщил «Артур», точнее Ашер Бен-Натан. Когда Тувья признался, что слышит о нем впервые, лидер «Брихи» добавил: «Фридман, ты должен найти Эйхмана. Повторяю, ты должен его найти».[305]
Как бы там ни было, очевидно, что и Визенталь, и Фридман начали разыскивать Эйхмана примерно в одно время. Роберт Кемпнер, еврей немецкого происхождения, юрист из американской команды обвинителей на Нюрнбергском процессе, отметил в своих мемуарах, как Визенталь спрашивал его: «У вас есть что-нибудь на Адольфа Эйхмана? Вы им занимаетесь?»[306]
В 1947 году один американский знакомый сообщил Визенталю, что Вероника Либль, также известная как «Вера», подала прошение о признании ее бывшего мужа мертвым «в интересах детей». Нашелся свидетель, который под присягой поклялся, будто видел, как Эйхмана застрелили во время боев в Праге 30 апреля 1945 года. Визенталь выяснил, что свидетель женат на сестре Либль, и передал эту информацию американской разведке, а те, в свою очередь, сообщили о столь подозрительном совпадении суду. Прошение Либль отклонили. «Эта мелочь на первый взгляд стала, возможно, моим самым существенным вкладом в дело Эйхмана», – писал Визенталь.[307]
Впрочем, критики Визенталя сомневались, что официальное признание смерти могло что-либо изменить и удержать израильтян от поисков Эйхмана. Учитывая общее снижение интереса к преследованию нацистов, информация о том, что нацистский преступник по-прежнему жив, имела решающее значение. По данным Фридмана, в 1950 году Эйхмана разыскивали трое израильтян. Они считали, что он до сих пор скрывается в Австрии после того, как успешно избежал идентификации во временных лагерях для военнопленных войск союзников.
Однако в это время Эйхман уже жил в Генуе под именем Рикардо Клемента, а оттуда отплыл в Аргентину. Израильтяне долго его искать не стали. В этом же году, по словам Фридмана, «Артур допустил, что охота на Эйхмана подошла к концу».[308]
Только Фридман и Визенталь не хотели признавать, что охота окончена. Они проверяли любой слух, любую сплетню. «Правда в том, что никто ничего не знал, – сокрушался Фридман. – И с каждым днем про Эйхмана и прочих нацистов все больше забывали».[309]
В конце 1952 года, уже после переезда в Израиль, Фридман ненадолго приехал в Австрию, где встретился с Визенталем. Тот велел ему: «Напоминай израильтянам про Эйхмана… заставь их хоть что-то делать». По воспоминаниям Фридмана, в январе 1953-го, когда он уже собирался возвращаться в Израиль, Визенталь пожал ему руку и сказал: «Подумай вот о чем. Когда Эйхмана схватят, его будет судить еврейский суд в еврейском же государстве. На кону, Тадек, наша история – и гордость нашего народа».[310]
В том же 1953 году Визенталя ждал очередной успех в деле. Он встретил пожилого австрийского барона, разделявшего его страсть к коллекционированию марок.[311] Имя этого бывшего контрразведчика – Генрих Маст – он раскроет позднее.[312] Визенталь в своих записях назвал барона «католическим монархистом», тем самым подразумевая, что тот «всегда с подозрением относился к нацистам». Узнав о поисках Эйхмана, он вытащил письмо от бывшего армейского товарища из Буэнос-Айреса, работавшего инструктором на службе режима президента Хуана Перона, и указал на последний абзац.
Прочитав его, Визенталь лишился дара речи: «Только представь, кого я здесь видел – этого отвратительного борова Эйхмана, повелевавшего евреями. И даже дважды поговорил с ним. Он живет возле Буэнос-Айреса и работает в водопроводной компании». Барон риторически спросил: «Ну, что скажете? Некоторым преступникам все-таки удалось уйти?»[313]
Визенталь, несмотря на волнение, понял, что в одиночку сделать ничего не сможет. Учитывая влияние нацистов в Аргентине тех лет, Эйхман мог чувствовать себя там в полной безопасности. «Я не был для него серьезным противником», – признал Визенталь. Он решил посоветоваться с Ари Эшелем, израильским консулом в Вене, который предложил всю собранную по Эйхману информацию – в том числе полученную от барона – включить в отчет для Всемирного еврейского конгресса в Нью-Йорке. Одну копию передали лично президенту конгресса Науму Гольдману, вторую – в консульство.[314]
Из Израиля ответ так и не пришел. А из Всемирного еврейского конгресса Визенталь через два месяца получил письмо от раввина Абрахама Калмановица, в котором тот подтверждал получение информации и просил узнать адрес Эйхмана в Буэнос-Айресе. Визенталь ответил, что ему нужны средства, чтобы послать кого-то в Аргентину и выяснить это. Но Калмановиц отказал, добавив, что, по информации ФБР, Эйхман находится в Дамаске, что делает его недосягаемым, поскольку Сирия не выдает преступников.
Визенталь, как и Фридман за два года до этого, осознал, наконец, что его поиски никому не нужны. «Американских евреев в то время, видимо, беспокоили другие проблемы – писал он. – Израильтянам не было дела до Эйхмана, они сражались за свою жизнь с [президентом Египта Гамаль Абдель] Насером, американцы же вели холодную войну против Советского Союза».[315] Визенталь чувствовал, что, «не считая пары других таких же дураков-единомышленников», он остался один… «Послевоенная фаза охоты за нацистами завершилась».[316]
Тем не менее он не изменил своему решению жить в Австрии. Позже он объяснял это тем, что в Европе имел возможность и дальше охотиться за нацистами. Однако в том же 1954 году ему пришлось закрыть свой Центр в Линце. Все архивы, по примеру Фридмана, он переслал в музей Яд ва-Шем в Иерусалиме.[317] Следовательно, и Визенталь окончательно понял: эти документы имеют скорее историческую, нежели юридическую ценность. Однако, как и Фридман, дело Эйхмана он придержал. «Честно говоря, не знаю, зачем я это сделал, потому что на тот момент я сдался», – признавался он. Визенталь остался в Линце, стал работать на еврейские организации, публиковаться в местных газетах и зарабатывать на жизнь иными способами.
После похищения Эйхмана в 1960 году рассказы Визенталя о давней встрече с бароном и отсутствие реакции на полученную от него информацию вызвали оживленные споры. Получается, что израильтяне упустили шанс арестовать преступника гораздо раньше. Иссер Харель, глава «Моссада», организовавший поимку Эйхмана, категорически не соглашался с этой версией событий, которую Визенталь предал огласке в своих мемуарах в 1967 году. Если рассказ Визенталя был правдив, то это выставляло Хареля не в самом лучшем свете.
Похищение Эйхмана стало самой выдающейся операцией израильских спецслужб против бывших нацистов. Однако оно окончательно рассорило Хареля и Визенталя.
* * *
В Германии интерес к преследованию нацистов, что в судебном порядке, что в сфере ограничения права на работу, окончательно угас к началу 1950-х. К тому времени в тюрьмах находилось не более двух сотен человек, остальных постепенно освободили по амнистии.[318] Канцлер Аденауэр в 1952 году прямо заявил: «Думаю, нам необходимо покончить с выслеживанием нацистов».[319] Казалось маловероятным, что в стране, которая так отчаянно хотела забыть о своем недавнем прошлом, появится новый «охотник за нацистами». И все же это произошло. Новый герой – Фриц Бауэр – не был похож на Визенталя или Фридмана, которые любили эпатаж, действовали независимо и самостоятельно. Он имел больше общего с Яном Зейном, польским следователем, который вел дело против Рудольфа Хёсса и персонала Освенцима.
На первый взгляд они были довольно разными: Бауэр вырос в светской семье немецких евреев и большую часть холокоста прожил в изгнании; Зейн происходил из семьи католиков с немецкими корнями, и его брат во время оккупации объявил себя фольксдойче. Однако эти различия были менее важны, чем сходства. Оба заядлые курильщики, они оказались талантливыми прокурорами и всегда тщательно выстраивали дела, гарантируя себе победу в суде. В то время, когда сотрудничество с двух сторон «железного занавеса» было редкостью, они доказали, что это возможно, совместно собирая доказательства для судебных процессов.
Оба видели свою миссию не только в том, чтобы призвать к ответу виновных, но и в создании исторического прецедента для нынешних и будущих поколений.[320] В Германии, стране, где военных преступников было гораздо больше, чем в Польше, такая задача была и более нужной, и гораздо более трудной.
Бауэр играл в Германии куда более значимую роль, нежели Зейн в Польше. Уже в 1952 году о нем стали писать газеты. Бауэр тогда начал дело против бывшего немецкого генерала, пытаясь доказать, что сопротивление Гитлеру было не изменой, а героизмом. В 1960 году он организовал новый процесс по Освенциму, который встряхнул всю страну, заставив вспомнить о холокосте и прочих преступлениях войны. Бауэр часто выступал по телевидению в дебатах о том, как поступить с нацистским наследием. Однако в 1950-е, даже когда он сыграл ключевую роль в поимке Эйхмана, Фриц все еще предпочитал держаться в тени.
Хотя его успехи должны были принести ему широкую известность, он так и не получил заслуженных наград, а после смерти в 1968 году в возрасте шестидесяти четырех лет и вовсе оказался практически забыт. За пределами Германии о нем почти не знали. Лишь в последние несколько лет Германия вновь стала открывать для себя Бауэра. И как часто бывает в случаях с «охотниками за нацистами», этот процесс сопровождался жаркими дебатами.
Ирмтруд Войяк, автор первой большой биографии Бауэра, опубликованной в 2009 году, подчеркивает, что «во времена, когда люди категорически не желали думать о прошлом», именно Бауэр на каждом шагу напоминал, что такое прошлое не может быть легко забыто. Войяк утверждает, что «он способствовал превращению Германии в государство, выстроенное на верховенстве закона».[321]
Бауэр так настойчиво твердил соотечественникам о совершенных от их имени преступлениях, что это принесло ему гораздо больше врагов, чем поклонников. И намного больше угроз, чем когда-либо мог услышать в свой адрес Зейн в Польше. Одни анонимы требовали: «Сдохни, еврейская свинья!» Другие гневно вопрошали: «Неужели ты, ослепленный яростью, не понимаешь, что немецкий народ бесконечно устал от так называемых нацистских преступлений?»[322] Однако в студенческой среде, особенно среди молодых юристов, Бауэр был довольно популярен.
В 2010 году Илона Циок сняла о Бауэре документальный фильм, который произвел фурор на Берлинском кинофестивале и вынес фигуру Бауэра в центр общественной дискуссии. Картина под названием «Смерть в рассрочку»[323] изображала Бауэра как «исторического персонажа» и в то же время показывала, как одинок он был в той борьбе, которую вел всю свою жизнь. «В сущности, в ней говорится, что у Бауэра не было ничего, кроме врагов».[324]
Биография и фильм пробудили интерес к персоне Бауэра. Ронен Штайнке, журналист газеты «Зюддойче цайтунг», в 2013 году выпустил еще одну биографию – более свежую и короткую. В ней упоминались некоторые щекотливые моменты, сознательно опущенные в фильме и первой книге. За смакование скандальных подробностей Штайнке подвергся критике. А в апреле 2014 года Еврейский музей Франкфурта открыл выставку, посвященную Фрицу Бауэру, опирающуюся в основном на книгу Штайнке, что вызвало довольно гневную реакцию Войяк и Циок. Споры быстро распространились в прессе, вызвав широкую дискуссию в интеллектуальном сообществе.
* * *
Споры начались с вопроса о еврейских корнях Бауэра – какую роль происхождение сыграло в становлении его личности? Известно, что его семья совершенно не интересовалась религией, Циок даже отметила: «Для евреев он евреем не был, а для Гитлера – был». Или, как сказал сам Бауэр, он считался евреем только по нюрнбергским законам о чистоте расы. Согласно данным выставки Еврейского музея, «семья Фрица Бауэра принадлежала к еврейскому среднему классу Германской империи» и «иудейские праздники они отмечали только в угоду одной из бабушек юного Фрица». По всем признакам, «семья считала себя светской, а ассимиляция обещала социальное признание и равенство».[325]
Отец Бауэра, ветеран Первой мировой войны, был убежденным немецким националистом и воспитал сына в строгости – что, в общем-то, считалось характерным для тех времен. Позднее Фриц понял, что, возможно, именно поэтому его поколение так охотно пошло за Гитлером. Выступая в 1962 году перед студентами, он вспоминал: «Нас всех воспитывали в том же авторитарном духе… Ты должен сидеть за столом и молчать, когда говорит отец. Ты вообще не имел права ничего говорить. Мы все знаем таких отцов. Мне до сих пор иногда снится кошмар, что у меня хватило наглости поднять левую руку вместо того, чтобы смиренно держать ее под столом на коленях».[326]
Авторитарное образование в Германии действительно было основой немецкой этики: «Закон есть закон, порядок есть порядок – это альфа и омега немецкой подготовки». При этом, однако, в классическую модель воспитания его родители добавили протестную нотку (возможно, так подсознательно сказывались еврейские корни). «Ты должен сам понимать, что правильно, а что нет», – внушали они Фрицу.
О своем личном опыте столкновения с антисемитами Бауэр предпочитал не распространяться, но наверняка ему приходилось нелегко, ведь университетские годы он провел в Мюнхене, где царили нацистские настроения. В разговорах со студентами он порой вспоминал, как видел «шумные толпы нацистов» с ярко-красными плакатами «Евреям здесь не место».[327] В 1922 году был убит министр иностранных дел Вальтер Ратенау – самый видный член правительства еврейского происхождения. Бауэр об этом позднее сказал: «Мы были глубоко потрясены его смертью. Складывалось впечатление, что Веймарская демократия, которой мы отдали наши сердца, под угрозой». Двумя годами ранее, еще во время обучения, Бауэр вступил в Социал-демократическую партию, до конца дней оставаясь ярым ее сторонником.
Франкфуртская выставка называла его «еврейским социал-демократом», из чего складывалось впечатление, что эти два понятия равнозначны. На самом деле большинство столкновений с нацистами у Бауэра произошло не из-за еврейского происхождения, а из-за политических взглядов: он защищал Веймарскую республику от нападок со стороны и крайне правых, и крайне левых. Он твердо верил в сочетание левой социальной политики и демократических принципов.
Став в 1930 году самым молодым судьей в Штутгарте, Бауэр зарекомендовал себя справедливым юристом, который нередко давал раскаявшимся преступникам шанс на искупление. Годом спустя местная нацистская газета выпустила статью под названием «Окружной судья-еврей злоупотребляет правом в политических целях».[328] В статье гневно вопрошалось, почему Министерство юстиции «покрывает выходки судьи Бауэра». Безо всяких сомнений, для нацистов главная его вина прежде всего заключалась в политических пристрастиях, но, поскольку прямо обвинить Бауэра в этом они не могли, журналисты были рады лишний раз упрекнуть его хотя бы за происхождение.
В этом случае они проиграли, хотя и не полностью. Бауэр подал иск за клевету. Суд вынес решение в его пользу, но газета не упустила шанс в очередной раз уколоть: «Выражение “окружной судья-еврей” отныне считается клеветой».
В январе 1933 года к власти пришел Гитлер, а уже в марте Фрица Бауэра, Курта Шумахера и других видных социал-демократов отправили в Хойберг, первый концентрационный лагерь Вюртемберга. Никто не сомневался, что поводом для ареста стали их политические взгляды. В ноябре Бауэра выпустили, как утверждает Штайнке и вслед за ним франкфуртская выставка, только после того, как он и еще несколько заключенных дали присягу верности новому режиму. «Мы безусловно поддерживаем отечество в борьбе за честь и мир»,[329] – говорилось в ней. Шумахер, впоследствии возглавивший Социал-демократическую партию, подписывать присягу отказался и пробыл в концлагере до самого конца войны, пока его не освободили англичане. Бауэр всегда восторгался его «невероятной смелостью и мужеством».
На франкфуртской выставке в числе экспонатов была представлена копия газеты с текстом присяги, под которой стояли подписи освобожденных из заключения. На второй строке значилось имя «Фриц Хауэр». Организаторы утверждали, что это обычная опечатка, в списках заключенных не было больше никого с настолько похожей на «Бауэр» фамилией. Ссылались они и на другие документы, из которых якобы следовало, что Бауэр все-таки подписал присягу. Однако и Войяк в своей биографии, и Циок в фильме этот факт проигнорировали – поскольку неоспоримых доказательств все-таки не было.
«Если он и подписал присягу, то только ради семьи, – добавляла Циок. – Он все делал ради своей семьи». Несмотря на раздражение, вызванное шумихой вокруг еврейского происхождения Бауэра, Циок все-таки признавала: он должен был знать, что антисемитская политика нацистов подразумевала, что и Бауэра, и его родственников скоро ждут гонения именно по этой причине, даже если все начиналось лишь с политических мотивов.
И если спор из-за присяги кажется незначительным, то другой аспект жизни Бауэра – его сексуальная ориентация – вызывал поистине горячие споры. В 1936 году он бежал в Данию, где за два года до этого поселилась его сестра с мужем. Бауэр словно очутился в либеральном раю. «Датчане живут, не думая о собственном счастье, будто это само собой разумеется, чем невольно шокируют приезжих»,[330] – писал он.
Однако, по данным Штайнке и франкфуртской выставки, счастье это омрачалось регулярными визитами в полицию, куда его приглашали на допросы из-за предполагаемых контактов с гомосексуалистами. В 1933 году Дания стала первой страной, легализовавшей секс между мужчинами по обоюдному желанию, тем не менее гомосексуальная проституция по-прежнему находилась вне закона. В полицейском отчете, представленном на выставке, утверждалось, что Бауэр признал два гомосексуальных контакта, но отрицал факт оплаты за секс.
Войяк предположила, что такие сомнительные документы обнародовались, чтобы опорочить репутацию Бауэра, «используя предрассудки против гомосексуалистов, до сих пор у нас бытующие».[331] Циок зашла еще дальше, утверждая, что Бауэр вовсе был «асексуален и ни с кем не вступал в связь». При этом добавила: «Если он и был геем, то это его личное дело». Обе они избегали этой темы в своих произведениях.
Моника Болль, куратор франкфуртской выставки, отстояла право включить спорные документы в число экспонатов. «Эта тема важна не сама по себе, – настаивала она в первый день выставки, проводя для меня экскурсию. – Вы думали, что в Дании он был в политической безопасности. Но и там он подвергался нападкам по мотивам, связанным с его личной жизнью. Мы должны признать, что этот факт имеет историческую значимость. Лишь поэтому мы обнародуем документы. Они вовсе не дискредитируют Фрица Бауэра, они дискредитируют власти Дании».
Как ни странно, обе стороны дискуссии вокруг Бауэра часто забывали о том, что, в общем-то, находятся на одной стороне и признают его выдающиеся достижения. Просто одни стремились представить Фрица в сугубо положительном свете, а другие считали, что никакие сплетни о личной жизни не смогут затмить его достоинств.
Когда в 1940 году германские войска оккупировали Данию, Бауэр опять оказался в опасности. С помощью датских социал-демократов он скрылся в подполье. В 1943 году женился на Анне-Мэри Петерсон в датской лютеранской церкви, должно быть, пытаясь дополнительно себя подстраховать.[332] В том же году Гитлер велел депортировать всех евреев из Дании, на что датское Сопротивление ответило легендарной спасательной операцией, позволившей семи тысячам евреев ускользнуть в Швецию. Среди них были Бауэр, его родители и сестра со своим мужем.
В Швеции он стал редактором эмигрантской газеты «Социалистическая трибуна» для немецких социал-демократов. Среди его младших коллег был Вилли Брандт – будущий канцлер ФРГ, который поражал Бауэра способностью находить друзей по всему миру. Бауэр называл его «умный, как американец».[333]
После войны Бауэр с семьей решил вернуться в Данию. В прощальной речи на собрании антифашистских активистов 9 мая 1945 года, сразу же после капитуляции Германии, он высказал мнение о будущем своей родины: «Германия сейчас tabula rasa… На этом фундаменте можно выстроить новую, лучшую страну… Мы признаем, что Германия обязана ответить за преступления, совершенные от ее имени… Стоящие у власти нацисты, развязавшие войну, преступники из Бухенвальда, Бельзена и Майданека должны быть наказаны по всей строгости. Никто из нас не просит жалости к немецкому народу. Мы знаем, что немцы сами заслужат сочувствие и уважение – пусть не сейчас, но через годы и десятилетия».[334]
В том же году Бауэр издал книгу на шведском с пророческим названием: «Die Kriegsverbrecher vor Gericht» («Суд над военными преступниками»).[335] В 1947 году он написал статью «Убийцы среди нас», чье название наверняка было цитатой первого послевоенного немецкого фильма о разоблачении нацистского преступника. Спустя два десятилетия эти же слова послужат заголовком к первым мемуарам Визенталя.
Бауэр с самого начала хотел внести вклад в восстановление прежнего престижа Германии. Из Дании он писал своему другу Шумахеру, что просил у американских властей разрешения вернуться обратно в Штутгарт, заполнял бесконечные анкеты, но все равно получил отказ.[336] Он высказал подозрение, что это было связано с нежеланием американцев восстанавливать евреев на прежних государственных должностях. Если Брандт и прочие его соратники вернулись в Германию сразу после войны, то Бауэру удалось это сделать лишь в 1949 году. Сперва он работал в Брауншвейге, курируя деятельность районных судов, затем стал окружным прокурором. Там началось его противостояние с бывшими слугами Третьего рейха.
* * *
Дело, благодаря которому родилась репутация Бауэра как непримиримого борца с нацистами, не было связано с военными преступлениями или преступлениями против человечества. Оно вообще на первый взгляд казалось самым банальным – тем не менее позволило поднять критичный для послевоенной Германии вопрос о людях, пытавшихся 20 июля 1944 года убить Гитлера.
В тот день Гитлер собирался обсудить военные планы со старшими офицерами в Ставке «Волчье логово» (Восточная Пруссия). Полковник Клаус фон Штауффенберг поставил под стол рядом с ним портфель, начиненный взрывчаткой. Однако один из офицеров случайно отодвинул портфель за ножку стола, и Гитлер выжил. Кем же считать заговорщиков: предателями или героями?
Любой, кто видел фильм «Операция «Валькирия» 2008 года с Томом Крузом в главной роли, знает, что ключевым игроком в разыгравшейся драме был майор Отто Ремер, командир охранного полка «Великая Германия» в Берлине. За годы войны он получил восемь ранений, Гитлер наградил его Рыцарским крестом с Дубовыми листьями.[337] В преданности майора никто не сомневался. Пытаясь захватить власть в Берлине в суматохе после взрыва, заговорщики сообщили Ремеру, что Гитлер мертв, и поручили ему арестовать министра пропаганды Геббельса.
Когда Ремер вошел в его кабинет с двадцатью солдатами, Геббельс заявил, что фюрер жив и он может это доказать. Он набрал телефонный номер, и Гитлер на том конце провода велел Ремеру арестовать мятежников. Впоследствии их всех задержали и казнили либо принудили к самоубийству. Ремер закончил войну в звании генерал-майора.
После войны в Западной Германии ему удалось создать ультраправую Социалистическую имперскую партию и, обрушившись с едкой критикой на тогдашнее руководство страны, собрать немало сторонников. Когда партия стала заметной на региональных выборах в 1951 году, деятельность Ремера заинтересовала всю Германию. Еженедельник «Дер Шпигель» охарактеризовал его, невольно повторив ранние описания Гитлера, как «тридцатидевятилетнего худого мужчину с изможденным лицом и горящими глазами фанатика».[338]
Ремер утверждал, что новое демократическое правительство на самом деле «подчиняется приказам иностранных сил». Как подобные заявления ни бесили руководство страны, достойно ответить в правовом поле оно не могло. Впрочем, 3 мая 1951 года на предвыборной акции в Брауншвейге Ремер зашел слишком далеко. Он не только оправдал свои действия во время заговора 20 июля, но и заявил, что «заговорщики были предателями в высшей степени и финансировались иностранными государствами».
Бауэр ухватился за возможность выразить позицию, которая отражала его видение недавнего прошлого Германии. Он не стремился наказать Ремера за его роль в борьбе против заговорщиков. Подготавливая иск о клевете, он хотел лишь объяснить немецкой общественности, что представлял собой истинный патриотизм во времена правления Гитлера.
Судебный процесс, открывшийся 7 марта 1952 года в Брауншвейге, привлек внимание шестидесяти немецких и иностранных журналистов. В зале заседания Бауэр произнес пламенную речь с ясной философской и политической идеей: «Разве те, кто выступает против несправедливой войны, не имеют права на сопротивление и борьбу?.. В столь беззаконном государстве, каким был Третий рейх, нельзя говорить об измене».[339] Ремер так и не сумел предоставить доказательств, что заговор финансировали зарубежные страны, однако это было неважно. Бауэр в любом случае категорично настаивал, что эти люди действовали из любви к своей отчизне, попранной чудовищным режимом.
В глубине души, конечно, он видел мотивы заговорщиков не столь благородными, какими выставлял их в зале суда. В марте 1945 года он писал: «Антинацистские настроения в Германии зародились не как ответ на этическую или политическую сторону нацизма, а из-за того, что Гитлер проигрывал войну».[340] Убийство фюрера позволило бы Германии «избежать полной и безоговорочной капитуляции» и сохранить независимость.
Тем не менее его выступление в Брауншвейге было истинным криком души: «Известные нам факты и непреложные основы права обязывают прокуроров и судей демократического государства реабилитировать героев 20 июля без всяких условий и ограничений».[341] Бауэр рассказал и личную историю о юношеских годах в Штутгарте, где он учился в одной школе с Клаусом фон Штауффенбергом. Его бывший однокашник и другие лица, участвовавшие в заговоре, «видели свою задачу в том, чтобы защитить наследие Шиллера»,[342] – утверждал Бауэр, ссылаясь на любимого поэта, философа и драматурга страны. Иными словами, заговорщики питали глубокую преданность к истории и культуре Германии и были истинными патриотами.
Судья Иоахим Хеппе, воевавший в свое время под Сталинградом и побывавший в советском плену, признал, что его «глубоко тронули» моральные проблемы, поднятые Бауэром, который так сосредоточился на своей аргументации, что даже забыл попросить для Ремера конкретного наказания. Суд признал того виновным в клевете и приговорил к трем месяцам лишения свободы. Приговор, однако, не был приведен в исполнение, потому что Ремер бежал в Египет и вернулся лишь несколько лет спустя, после амнистии.[343]
Для Бауэра, впрочем, это была грандиозная победа. Суд согласился, что в Третьем рейхе царило беззаконие, следовательно, морально оправдал тех, кто сопротивлялся режиму. Заговорщики, как вслед за Бауэром гласил вердикт, «стремились избавиться от Гитлера и его власти из горячей любви к отечеству и самоотверженного чувства ответственности перед людьми. Не с намерением навредить стране или ее военной мощи, а лишь из желания помочь».[344]
Опрос накануне суда показал, что 38 % немцев одобряли действия мятежников; к концу 1952 года, после процесса, сторонников стало гораздо больше – уже 58 %.[345] Бауэр не только сдвинул дело с мертвой точки, но и создал общественную дискуссию на десятилетия вперед.
Он верил, что подобные процессы позволят немцам понять модель достойного и недостойного поведения в годы недавнего кошмара. Приговор Ремеру был сущей мелочью по сравнению с вынесенным уроком. Впрочем, Бауэр не тешил себя иллюзией, что на этом все закончится. Несмотря на изменившиеся после суда настроения, он знал: многие соотечественники до сих пор не жалеют о нацистском прошлом и даже готовы защищать военных преступников. Значит, надо преследовать их при любой возможности.
Именно поэтому, когда в 1957 году Бауэр получил от слепого еврея-эмигранта из Аргентины наводку о местонахождении Эйхмана, он решил действовать на свой страх и риск. Вместо того чтобы официально передать эти сведения германским властям, он сообщил их израильской разведке, тем самым положив начало цепочке событий, завершившейся судебным процессом, который привлек внимание не только Израиля и Германии, но и всего мира.
Глава 8 “Un momentito, Señor”[346]
Была известна как минимум одна мощная еврейская подпольная организация, с конца войны во всех уголках света разыскивающая военных преступников, которые в 1945 году ускользнули от союзных войск. Говорили, что ее участники фанатично преданы своему делу; эти храбрые люди посвятили жизнь тому, чтобы покарать бесчеловечных монстров, ответственных за Белзен, Освенцим и прочие адские бездны.[347]
Джек Хиггинс. «Завещание Бормана»[348]Был март 2014 года. Сидя в удобной гостиной на удивление современного дома в Афеке, близ Тель-Авива, Рафи Эйтан вспоминал о своей жизни и, в частности, о долгой службе в «Моссаде», пиком которой стал захват Адольфа Эйхмана 11 мая 1960 года.
В 1950-е, в возрасте двадцати четырех лет, когда он только начал работать в спецслужбе, ему посчастливилось приобрести этот дом. Недвижимость в здешнем районе была довольно дешевой, потому что еще не построили мост через реку, отделявшую его от города, не провели воду и электричество. «Я сказал себе, что обязательно куплю землю и однажды буду жить в своем доме прямо в Тель-Авиве»,[349] – довольно улыбался Рафи.
Сегодня Афека – это респектабельный район шикарных вилл и жилых апартаментов, связанный с центром города идеальными автострадами. Дом Эйтана стоит на тихой улочке, будто перенесенной со средиземноморского курорта. Первый этаж полон цветущих растений и залит светом из-под прозрачного купола крыши и из стеклянных дверей на террасу и в сад. Прихожую и уставленный книгами кабинет украшают минималистичные фигурки животных и людей, сплетенные из бронзовой и железной проволоки. Все они сделаны мощными руками Эйтана – теми самыми, которые полвека назад в роковой для Эйхмана день схватили нациста и затолкали в машину. А силу в руках и ладонях невысокий Рафи нарастил, увлекаясь лазанием по канату в юности.
Эйтан – сабра, то есть еврей, рожденный в Палестине или, позднее, в Израиле, – начал свой рассказ о самом известном похищении современной эпохи с того, что впервые побывал в Германии в 1953 году. Выйдя из поезда во Франкфурте, он первым делом подумал: «Каких-то восемь лет назад меня бы здесь казнили. А сегодня я представитель израильского правительства». Он поспешил добавить, что тот приезд никак не был связан с охотой за нацистами.
Один из величайших мифов послевоенной эпохи заключался в том, что израильские агенты неустанно рыскали по всему миру, выискивая нацистских преступников. По словам Эйтана, это совершенно не соответствовало реальности. Во Франкфурт он приехал, чтобы встретиться с агентами «Моссада», которые следили за евреями, перемещающимися из Восточной Европы и Советского Союза в только что созданный Израиль.
Поток беженцев в самом начале холодной войны породил весьма непростую проблему. По словам Эйтана, «именно эмигрантов вербовали разведслужбы всего Востока – Польши, Румынии и, конечно, России». Кремль всячески поддерживал арабов в их противостоянии с Израилем. Когда КГБ через «железный занавес» получал от своих агентов какую-то информацию, ее тут же передавали арабским соседям. Новое государство отчаянно нуждалось в жителях (население Израиля в 1953 году составляло около 1,6 миллиона человек[350]), но среди них надо было выявить возможных предателей. «Приходилось проверять абсолютно каждого: не шпионит ли он для противника, – отмечал Эйтан. – Вот что было главным, а вовсе не охота за нацистами».
Авраам Шалом, агент «Моссада» австрийского происхождения, позднее возглавивший Шин-Бет (израильскую Службу внутренней безопасности), во время захвата Эйхмана был заместителем Эйтана. В своем интервью у себя дома в Тель-Авиве за три месяца до смерти в июне 2014 года он повторил мысль Эйтана и даже усилил ее: «Меня никогда не привлекала охота за нацистами как таковая».[351] Что же касается евреев, которые беспокоились о том, что слишком много военных преступников находится на свободе, то для них, по мнению Эйтана, лучшим решением было «приехать сюда и жить здесь».
В первые годы существования Израилю просто не хватало времени, энергии и ресурсов для погони за нацистами. Именно поэтому в 1953 году израильтяне проигнорировали наводку от Визенталя, полученную у австрийского барона, о том, что Эйхман скрывается в Аргентине. Даже если бы он предоставил более точную информацию о местонахождении Эйхмана, Израиль, по словам Эйтана, был просто не в состоянии выделить необходимые для поиска силы и средства. На тот момент перед ним стояла более актуальная задача – выживание государства в регионе, наполненном врагами.
* * *
К концу 1950-х годов, впрочем, премьер-министр Давид Бен-Гурион и другие израильские лидеры удостоверились в перспективах своей молодой страны. Мысль о том, что они могут провернуть крупную операцию по захвату известнейшего нацистского преступника, уже не казалась фантазией. Подвернись такая возможность, «Моссад» бы ее не упустил.
Именно это и произошло.
19 сентября 1957 года Фриц Бауэр, к тому времени ставший генеральным прокурором западногерманской земли Гессен, назначил встречу с Феликсом Шинаром,[352] главой израильской миссии по выплате репараций. Для большей секретности они встретились в гостинице рядом с шоссе Франкфурт – Кёльн.
По словам Иссера Хареля, главы «Моссада», который позднее отправит Эйтана, Шалома и других оперативников в Аргентину, Бауэр сразу же перешел к делу. «Обнаружены следы Эйхмана!» – заявил он. Израильтянин усомнился, о том ли человеке идет речь, поэтому Бауэр уточнил: «Да. Адольф Эйхман. Он – в Аргентине».
«И что вы намерены предпринять?» – спросил Шинар.
«Буду с вами предельно откровенен, – сказал Бауэр. – Не знаю, смогу ли я в этом деле полагаться на германскую судебную систему, не говоря уже о сотрудниках посольства ФРГ в Буэнос-Айресе». Тем самым он открыто признал, что не доверяет многим людям, стоящим у власти в Германии, и боится, чтобы кто-нибудь не предупредил Эйхмана о грядущем аресте. «Поэтому я не вижу другого выхода, как поговорить с вами, – продолжил он. – Все знают, что вы подготовленные ребята, а кто больше вас заинтересован в поимке Эйхмана?» И тут же предостерег: «Я хотел бы поддерживать контакт с вами в связи с этим делом, но только при соблюдении строжайшей секретности».
Естественно, что общение Бауэра с израильтянами стоило держать в тайне прежде всего от германских властей. Шинар, само собой, согласился и пообещал, что передаст эту информацию своему руководству. «Благодарю вас от всего сердца за доверие. Израиль никогда не забудет того, что вы сделали», – сказал он.
Шинар отослал подробный отчет Министерству иностранных дел в Иерусалиме. Когда Вальтер Эйтан, генеральный директор министерства, встретился с Харелем в тель-авивском кафе и передал ему эту информацию, глава «Моссада» пообещал заняться расследованием незамедлительно. Той же ночью Харель изучил досье на Эйхмана из архива спецслужбы: «Тогда я ничего еще не знал о нем как о личности. Не знал, с каким патологическим рвением он осуществлял свою кровавую миссию». Но когда на рассвете Харель встал из-за своего стола, то знал, что «именно этот человек был в ответе за все, что произошло с евреями, что именно его руки дергали за ниточки, устраивая облавы и кровопролития».[353]
Харель понимал: к тому времени «мир слишком устал от жестоких историй» про нацистов. Однако, по его словам, он той же ночью решил: если Адольф Эйхман жив, то во что бы то ни стало он предстанет перед судом.
Многие, даже его подчиненные, сомневались в такой категоричности: в конце концов, с момента получения наводки от Бауэра до первых серьезных действий по поимке преступника прошло не меньше двух лет. Но даже если первоначальные шаги Хареля легко критиковать задним числом, в конце концов, он разработал потрясающе дерзкий план, который был блестяще исполнен.
* * *
Шинар, израильский представитель в ФРГ, вскоре после той встречи вернулся на родину. Глава «Моссада» воспользовался случаем, чтобы расспросить его и о разговоре с Бауэром, и о личных впечатлениях от этого человека. «Рассказ доктора Шинара произвел на меня сильное впечатление», – отметил Харель, заверив того, что отправит к Бауэру особого посланника, чтобы поддерживать контакт и получать дополнительную информацию.
Этим посланником стал Шауль Даром, который в 1947 году поехал во Францию совершенствоваться в живописи и сошелся с секретной организацией, переправлявшей евреев в Израиль.[354] Он был прекрасным художником и, по оценке Хареля, талантливым разведчиком с «природным чутьем». Шауль свободно говорил на нескольких языках и благодаря профессии имел возможность разъезжать по всей Европе.
Даром и Бауэр встретились в Кёльне 6 ноября 1957 года. Встреча получилась очень продуктивной. Бауэр пояснил, что его информатором был полуеврей, выходец из Германии, проживавший в Аргентине, который вышел на связь с германскими властями после того, как увидел репортаж об исчезновении Эйхмана. Бауэр из соображений безопасности не сообщил имени своего корреспондента, однако подчеркнул, что информация от источника совпадает с тем, что он знал об Эйхмане и его семье. В частности, возраст сыновей (жена Эйхмана, Вера, вместе с детьми незадолго до этого уехала из Германии якобы к новому мужу). Осведомитель назвал и точный адрес: Буэнос-Айрес, район Оливос, улица Чакобуко, 4261.
Бауэр рассказал и о том, почему обратился к израильтянам, вместо того чтобы сотрудничать с германскими властями. «Я считаю, что вы единственные, кто стремится действовать», – сообщил он Дарому. Когда израильский агент выразил опасение, что правительство Аргентины не выдаст преступника, а, напротив, поможет ему скрыться, Бауэр ответил: «Меня тоже беспокоит такой поворот событий. Не исключаю, что вам придется самим вывезти Эйхмана».
Весьма недвусмысленное высказывание. Получается, что представитель закона в ФРГ, по сути, подталкивал израильтян к нарушению всех возможных юридических норм. Единственный человек в Германии, кого он полностью ввел в курс этого дела и кому всецело доверял, был Георг-Август Зинн, социал-демократ, премьер-министр земли Гессен.
Дарома впечатлило не только «мужество» Бауэра, готового переступить закон ради справедливости, но и его стремление оказать израильтянам любую поддержку. Харель позднее назвал его «достойным человеком с горячим еврейским сердцем». А намекая на возвращение многих бывших нацистов на государственные должности, добавил: «Полагаю, Бауэр разочарован развитием событий в ФРГ и не в ладу с собой из-за того, что занимается политической деятельностью в такой Германии».
Тем не менее первая попытка проверить наводку Бауэра закончилась очевидным провалом. В январе 1958 года Харель отправил в Буэнос-Айрос своего агента, Йоэля Горена, который много лет провел в Южной Америке и считался опытным оперативником.[355] Он получил строжайшие инструкции не предпринимать никаких мер и не привлекать к себе внимания. В сопровождении израильтянина, занимавшегося в Аргентине научными разработками, Горен проверил указанный адрес и пришел к выводу, что тот неверен. Сам район оказался бедным, с немощеными улицами, а «жалкий домишко, – как выразился Харель, – никак не вязался с нашими представлениями о жизни высшего офицера СС». Тогда считалось, что беглые нацисты сумели тайно вывезти огромные богатства Третьего рейха, отнятые у своих жертв.
Смутила израильтян и неопрятная женщина во дворе дома. Эйхман славился своей любовью к женскому полу, а эта европейка в мятой одежде никак не могла быть его супругой Верой.
Доклад Горена сильно разочаровал Хареля. В своем отчете обо всем деле Эйхмана, который Харель смог опубликовать только в 1975 году, спустя двенадцать лет после ухода из «Моссада», он заявил: «Все указывало на то, что след, по которому нас отправил Бауэр, был ложным, но я отказывался в это верить».
Впрочем, его вера изрядно пошатнулась, поэтому Харель сделал единственный разумный шаг в сложившейся ситуации: велел Дарому еще раз встретиться с Бауэром и узнать у него имя информатора, чтобы связаться с тем напрямую. Встреча произошла 21 января 1958 года во Франкфурте; Бауэр сдался, сообщил имя и адрес: Лотар Герман, Коронель-Суарес (городок в трехстах милях от Буэнос-Айреса) – и даже подготовил рекомендательное письмо от своего имени.
На этот раз в Аргентину отправился Эфраим Гофштетер – лучший следователь Израиля, отправлявшийся в Южную Америку по другому делу.[356] Харель поручил ему заодно проверить Германа и передать рекомендательное письмо. Герман отказался от встречи в Буэнос-Айресе, поэтому Гофштетеру пришлось сесть на ночной поезд до Коронель-Суарес. Когда он постучался в дверь, Герман пригласил его в дом, но сразу же потребовал доказательства того, что он действительно является представителем германских властей (как гласила легенда Гофштетера). «Откуда мне знать, что вы говорите правду?» – спросил он.
Гофштетер рассказал о рекомендациях Бауэра. Однако тот не взял протянутое письмо, а позвал жену и попросил прочитать его вслух. Только тогда Гофштетер понял, что Герман слеп. Жена зачитала рекомендации и добавила, что «подпись несомненно принадлежит доктору Бауэру».
Герман заметно расслабился и начал свой рассказ. Его родители погибли от рук нацистов, сам он тоже побывал в концлагере. Впрочем, Герман тут же добавил: «В моих жилах течет еврейская кровь, но жена – немка, и нашу дочь воспитывает она». За Эйхманом он следил лишь по одной причине: чтобы «воздать нацистам за муки и горе, которые они доставили мне и моей семье».
Полтора года назад он жил в пригороде Буэнос-Айреса – Оливос, где его знали исключительно как немца. Дочь Сильвия стала встречаться с молодым человеком по имени Николас Эйхман, который не догадывался о ее еврейском происхождении. Он несколько раз бывал в доме Германа и как-то обмолвился, что немцам стоило истребить всех евреев до единого. Была и другая подсказка: у Николаса отсутствовал выраженный региональный акцент, и он объяснил это тем, что отец во время войны часто менял место службы.
И однажды, после репортажа о военных преступниках, где упоминался Эйхман, Герман пришел к выводу: Николас – его сын. В те дни нацисты чувствовали себя в Аргентине как дома, практически не скрывались, и хотя сам Эйхман сменил фамилию, его сыновья этого делать не стали. Единственная предосторожность: Николас держал в тайне свой домашний адрес и, переписываясь с Сильвией после ее переезда, всегда просил отправлять письма на адрес знакомых. Это лишь усилило подозрения Германа, и он решил связаться с Бауэром.
Тут в комнату вошла Сильвия – «красивая девушка лет двадцати», как ее описал Гофштетер. Было очевидно, что если она и испытывала прежде какие-то чувства к Николасу, то они давно забыты. Когда Бауэр попросил Германа съездить в Буэнос-Айрес и проверить ситуацию на месте, тот взял с собой дочь: не только как глаза для слепого, но и как подругу Николаса. С помощью знакомых она нашла нужный дом и постучала в дверь.
Им открыла женщина, Сильвия спросила, здесь ли живут Эйхманы. «Она ничего не ответила, к нам вышел мужчина средних лет в очках и встал рядом с женщиной, – вспоминала Сильвия. – Я спросила, дома ли Ник». Тот, помедлив, сказал «неприятным резким голосом», что Ник работает сверхурочно. Сильвия поинтересовалась, не он ли господин Эйхман. «Мужчина как будто не заметил вопроса, – продолжала она. – Тогда я спросила: не он ли отец Ника. И он неохотно ответил: “Да”».
В семье Эйхманов было пятеро детей, трое родились в Германии, двое – в Аргентине, сообщила Сильвия. И хотя возраст старших совпадал с данными из досье, Гофштетер все равно не был до конца уверен. «Конечно, вы собрали очень ценные факты, но утверждать столь определенно рановато», – заявил он Герману. В конце концов, Вера могла выйти замуж повторно и оставить старшим детям фамилию от первого брака. Герман, однако, настаивал, что тот мужчина – однозначно Адольф Эйхман.
Пообещав покрыть их расходы, израильский агент попросил Германа собрать больше информации о подозреваемом: под каким именем тот живет, где работает, а также добыть фотографию или копии документов, отпечатки пальцев. По возвращении в Тель-Авив в разговоре с Харелем он назвал Германа «импульсивным и самоуверенным», выразив сомнения в достоверности его истории. Зато Сильвия произвела на него благоприятное впечатление, и он рекомендовал использовать ее, причем как можно быстрее – через пару месяцев Сильвия уезжала за границу.
Харель выделил Герману необходимые средства, но не получил ожидаемых результатов. Лотар и Сильвия выяснили, что дом по улице Чакобуко зарегистрирован на австрийца Франсиско Шмидта и состоит из двух изолированных квартир. По данным электрической компании, счетчик в одной записан на некоего Дагуто, а второй – на Клемента. Герман решил, что Эйхман скрывается под именем Шмидта и что он сделал пластическую операцию.[357]
Однако израильский агент в Аргентине выяснил, что Шмидт никак не мог быть Эйхманом: не совпадал состав семьи, да и жил он совсем по другому адресу. «Это окончательно подорвало наше доверие к Герману»,[358] – заключил Харель. В августе 1958 года он приказал «постепенно прекратить с ним связь».
Примерно в то же время ФРГ открыла в Людвигсбурге, живописном городке к северу от Штутгарта, Центр по расследованию преступлений национал-социалистов. В 1959 году Тувья Фридман получил от Эрвина Шюле, главы организации, письмо, в котором утверждалось, что Эйхман был замечен в Кувейте. Крайне взволнованный этими новостями, Фридман обратился к Ашеру Бен-Натану, своему старому контакту из Вены, который теперь служил в Министерстве обороны. В мыслях он уже представлял, как его отправляют в Кувейт арестовывать Эйхмана. Однако Бен-Натан не проявил ожидаемого энтузиазма. Фридман пришел к очевидному выводу, что власти совершенно не заинтересованы в поимке Эйхмана, и потому обнародовал полученные сведения в израильской прессе.[359]
Бауэра разрыв контакта с Германом вкупе с появившимися данными о Кувейте сильно расстроили. Он беспокоился о том, что Эйхман узнает о поисках и снова скроется. В декабре 1959 года Бауэр поехал в Израиль, получив новую наводку.[360] Информатор сообщил, что Эйхман живет в Аргентине под именем Рикардо Клемента (что совпадало с данными электрической компании, которые получил Герман). Как отмечал Харель, главная ошибка Германа заключалась в том, что он считал Эйхмана владельцем дома, а не одним из арендаторов. Проверить новый след глава «Моссада» поручил другому агенту, Цви Аарони. Неожиданно след, обнаруженный Германом, вновь стал многообещающим, хотя было неизвестно – живет ли еще Эйхман по тому же адресу.
Когда Бауэр встретился в Иерусалиме с Харелем, Аарони и Генеральным прокурором Израиля Хаимом Коэном, то даже не пытался скрыть негодования. «Просто невероятно! – бушевал он, узнав, что имя Клемента всплывало задолго до нового информатора. – Да самый бестолковый полицейский в два счета выяснил бы все, что нам нужно! Спросите любого мясника или зеленщика на рынке, и он выложит вам все, что надо, про этого самого Клемента».[361]
Аарони, который, собственно, и рассказал о той встрече, со временем стал одним из самых ярых критиков Хареля. «Прискорбно, что Эйхмана выследил слепой и что “Моссад” проверял его наводку целых два года»,[362] – сокрушался он позднее.
Харель сообщил о прорыве в деле Эйхмана премьер-министру Бен-Гуриону. Тот велел доставить Эйхмана в Израиль, если данные подтвердятся. Он верил, что судебный процесс будет «важным событием с точки зрения как истории, так и морали».
* * *
Харель поручил Аарони отправиться в Аргентину и проверить, проживает ли «Клемент» по указанному Германом адресу, а заодно окончательно установить его личность.[363] Аарони считался «одним из лучших следователей Израиля»; он родился в Германии, в 1938 году бежал в Палестину, во время войны служил в британской армии и участвовал в допросах немецких военнопленных.[364]
Но сначала он должен был закончить другое свое дело, и эти несколько месяцев задержки заставили Хареля буквально «сгорать от нетерпения».[365] Впрочем, Аарони не тратил время зря, изучая пока досье на Эйхмана и отчеты встреч с Бауэром. Наконец 1 марта 1960 года он приземлился в Буэнос-Айресе с израильским дипломатическим паспортом на чужое имя в кармане. По легенде, он работал в бухгалтерии Министерства иностранных дел.[366]
В сопровождении местного студента, который вызвался помочь, 3 марта Аарони выехал на арендованном автомобиле в Оливос. Вскоре студент подошел к нужному дому, якобы в поисках своих знакомых. Однако оказалось, что дом на две семьи по улице Чакобуко пуст, а внутри работают маляры. Если Эйхман и жил здесь прежде, он переехал.[367]
Аарони разработал импровизированный план действий. Вспомнив, что у сына Эйхмана, Клауса, 3 марта был день рождения, он поручил одному местному мальчику, Хуану, отнести в пустующий дом подарок с открыткой. По легенде, доставить посылку от молодой красивой женщины его попросил друг, работающий посыльным в большом отеле Буэнос-Айреса; в случае разоблачения юноша был бы ни при чем.
Ожидаемо не застав никого в доме, Хуан обошел вокруг и увидел женщину и мужчину, занимающихся уборкой.
«Извините, пожалуйста, мистер Клемент живет тут?» – спросил он. Оба вспомнили это имя, а мужчина уточнил: «Немец, что ли?»
Чтобы избежать подозрений, Хуан сказал, что не имеет понятия. Мужчина добавил: «У него три больших сына и еще маленький?»
Хуан снова сослался, что ничего не знает, ему лишь поручили передать посылку. Мужчина охотно рассказал, что Клементы уехали две-три недели назад, вот только куда – неизвестно.
Новости были неутешительными. Если бы Аарони прибыл чуть раньше, то застал бы Эйхмана в доме. Впрочем, мужчина явно поверил истории Хуана и отвел его к одному из маляров, работавших в доме. Тот оказался более осведомлен и рассказал, что Клемент переехал в Сан-Фернандо, другой пригород Буэнос-Айреса. Точного адреса он не знал, но предложил уточнить у одного из сыновей Клемента, работавшего в авторемонтной мастерской неподалеку.
Молодой немец в форме механика, которого другие работники называли то ли Тито, то ли Дито, подтвердил, что он – один из сыновей Клемента. Как оказалось позднее, это был Дитер, третий сын Эйхмана. Тот заподозрил неладное и принялся расспрашивать Хуана о посылке и о том, кто ее послал. Когда мальчик рассказал заготовленную легенду, Дитер сообщить новый адрес отказался, сославшись на то, что в новом районе улицы якобы не имеют названий, а дома – номеров. Хуану ничего не оставалось, кроме как передать ему пакет для брата.
Аарони и его небольшая команда решили выследить Дитера после работы. В первый вечер его уход с работы остался незамеченным, но через несколько дней удалось выяснить, что Дитера подвозят на мотороллере до киоска в Сан-Фернандо. Всего в ста ярдах от него располагался небольшой новый дом на Гарибальди-стрит, куда, как выяснится позднее, и перебралась семья Эйхмана.
Аарони был уверен, что Клемент – это и есть Эйхман, но хотел получить дополнительное подтверждение. И снова отправил Хуана в автомастерскую. Там он наплел историю о том, что отправитель пакета якобы возмущен, что подарок так и не был доставлен адресату. Дитер настаивал, что отдал пакет лично в руки Клаусу, только имя было указано неправильно: «Клемент», хотя надо было «Эйхман». Хуан счел это плохой новостью и решил, что агенты ищут не того человека. Аарони не стал рассказывать ему правду, лишь похвалил за «фантастическую работу».
Затем Аарони побывал в Сан-Фернандо и под разными предлогами пообщался с соседями. Те подтвердили, что недавно в их район переехали немцы; а архитектор раздобыл для него документы на покупку дома по Гарибальди-стрит, оформленные на имя Вероники Катарины Либль де Эйхман. Сам Аарони 19 марта увидел во дворе «мужчину среднего сложения, около 50 лет, с высоким лбом и лысеющей головой, снимавшего белье с веревки».[368]
Крайне взволнованный, он телеграфировал начальству, что «в доме Веры заметили мужчину, похожего на Эйхмана», и что у него нет никаких сомнений относительно его личности. Надо было скорее возвращаться в Израиль для подготовки операции захвата, но сперва Аарони решил раздобыть фотографию своей добычи.
Устроившись в фургоне крытого грузовика, он велел водителю остановиться возле киоска якобы затем, чтобы перекусить, а сам через отверстие в тенте сфотографировал дом и близлежащую местность. Добыть фотографию Эйхмана крупным планом он поручил своему помощнику, коренному испанцу. Тот под видом случайного прохожего завел с Эйхманом и его сыном непринужденный разговор, а сам скрытой камерой, спрятанной в портфеле, сделал несколько кадров.
9 апреля Аарони покинул Аргентину. На перелете «Париж – Тель-Авив» к нему присоединился Харель. «Ты уверен, что мы нашли именно того, кого искали?» – спросил он. Аарони показал ему фотографию и добавил: «У меня нет и тени сомнения».
* * *
Эйхман, судя по всему, абсолютно не беспокоился за свою судьбу. Это выдавал не только тот факт, что его жена использовала настоящее имя при оформлении документов на дом. Были и другие детали, обнаруженные Визенталем, которые подтверждали, что вдова повторно вышла замуж за своего же беглого мужа. Например, он нашел извещение о смерти мачехи Эйхмана, опубликованное в газете за подписью «Вера Эйхман» – по фамилии супруга. «Люди не лгут в таких уведомлениях»,[369] – заметил он в своих мемуарах. Та же самая подпись стояла и на уведомлении о смерти отца Эйхмана в феврале 1960 года.
Визенталь даже нанял двух фотографов с телеобъективами для съемок людей, присутствовавших на этих похоронах. Туда пришли братья Эйхмана, один из которых, Отто, удивительным образом был похож на Адольфа. Возможно, именно поэтому преступника часто «замечали» в Европе. Визенталь утверждал, что лично передал снимки израильским агентам: «Любой человек с фотографией Отто Эйхмана без труда опознал бы и его брата – пусть даже тот скрывается под именем Рикардо Клемента».[370]
Харель и другие противники Визенталя считали, однако, что он преувеличивает свою роль и даже подтасовывает факты. Не было, например, никакой встречи с израильскими агентами, настаивал Харель. Визенталь всего лишь отослал фотографии в израильское посольство в Вене. А там «никто не обратил на них особого внимания», потому что они не имели никакой ценности.[371] Один лишь Аарони, позднее выражавший неизменное восхищение Визенталем и презрение в адрес Хареля, утверждал, что австрийский «охотник за нацистами» предоставил «важную часть информации».[372]
Так или иначе, все указывало на то, что израильтяне на верном пути. Однако Харелю и Эйтану, которому поручили проведение операции, еще предстояло продумать, как вывезти Эйхмана из страны. Надо было найти жилье для содержания пленника и транспорт до Израиля.
Харель взял на себя решение более предпочтительного варианта – перелета.[373] «Эль Аль», израильская авиакомпания, тогда еще не совершала регулярные рейсы в Аргентину, значит, нужен был убедительный повод для спецрейса. К счастью, в конце мая в Аргентине намечались торжества по случаю 150-летнего юбилея независимости, и приглашение получили и представители Израиля. Харель предложил Министерству иностранных дел отправить делегацию на специальном рейсе и в тесном сотрудничестве с руководством «Эль Аль» лично отобрал экипаж судна.
В это время Эйтан продумывал запасной, менее удобный план – перевозку Эйхмана по морю.[374] Он связался с председателем «Цим», израильской судоходной линии, у которой было два судна-рефрижератора. Как с иронией отметил Эйтан, на них из Аргентины в Израиль перевозили кошерную говядину. В трюме одного из судов сделали камеру, которая стала бы для Эйхана тюрьмой на время плавания, если бы план с перелетом провалился.
Подготовив за две недели группу захвата, достав фальшивые документы и разработав легенды, Аарони 24 апреля прилетел в Буэнос-Айрес.[375] Обзаведясь усами и новым именем, он изображал уже не израильского дипломата, а немца-бизнесмена. За ним прибыл Авраам Шалом, заместитель Эйтана. Незадолго до этого он вернулся в Израиль после длительной миссии в Азии. Его сразу же вызвали к Харелю, и глава «Моссада» поручил ему встретиться с Аарони, проверить, на месте ли Эйхман, и в случае удачи отправить закодированный сигнал.[376]
Шалом был опытным агентом, но по непонятной причине дважды чуть не сорвал свое прикрытие. Добравшись до Парижа, он использовал немецкий паспорт с новым именем. А при пересадке в Лиссабоне вместе с другими пассажирами должен был сдать документы, а потом снова получить их перед рейсом до Буэнос-Айреса. Однако Шалом забыл вымышленное имя и под изумленным взглядом сотрудника аэропорта кое-как нашел свой паспорт по цвету. В самом Буэнос-Айресе при регистрации в отеле у него опять возникли проблемы с памятью. Шалом утверждал, что не был перевозбужден перед сложным заданием, однако его эмоции говорят об обратном.
Когда Аарони отвез Шалома на улицу Гарибальди, чтобы ознакомиться с местностью, район произвел на последнего самое благоприятное впечатление. «Это была не улица в прямом смысле слова, а скорее малолюдная пешеходная дорожка, по которой изредка ездили автомобили», – как он выразился. Идеальное место для работы – без освещения и лишних свидетелей. Случайный свет появлялся здесь только от проезжающих автомобилей. Израильтяне уже не удивлялись, что такой влиятельный человек, как Эйхман, теперь живет в столь скромных условиях. Его личность окончательно установили, а также с безопасного расстояния отследили график перемещений. Каждое утро «Клемент» садился на автобус до завода «Мерседес», каждый вечер в одно и то же время возвращался и шел от остановки пешком.
Захватить Эйхмана поручили самому сильному члену команды – Петеру Малкину. «За всю жизнь я не испытывал ни малейшего страха, – вспоминал тот. – Теперь же был в ужасе: вдруг что-то сорвется».[377] Впрочем, Эйтан, прибывший одним из последних, был согласен с Шаломом: условия идеальные. «С самого начала изучив ситуацию, район, дом, окружение, я не сомневался, что причин для провала не будет»,[378] – подчеркивал он.
Оглядываясь назад, тем не менее Эйтан признавал, что в дело вполне могла вмешаться случайность. В Буэнос-Айресе нелегко было достать хороший автомобиль; в аренду, как правило, сдавали древние колымаги, которые часто ломались. Кроме того, кто-нибудь из агентов мог выдать себя неосторожным словом. Харель, сам прилетевший в Буэнос-Айрес, чтобы контролировать операцию на месте, дал Эйтану пару наручников, оставив ключ у себя. Если бы после похищения агентов арестовала аргентинская полиция, Эйтан должен был приковать себя к Эйхману и потребовать доставить их обоих в израильское посольство.
Эйтан взял наручники, хотя договорился с Аарони, что в случае провала Эйхмана проще убить. Отсутствие оружия его не смущало: Эйтан никогда не брал пистолет на задание, считая, что оружие только усугубит его проблемы, если он будет схвачен. «Самый легкий способ убить человека голыми руками – сломать шею», – утверждал он.
* * *
Вечером 10 мая, накануне запланированной операции, Харель собрал всю команду, чтобы дать последние указания.[379] Все уже знали свои роли, подготовили в общей сложности семь конспиративных квартир не только для пленника, но и для агентов. Те, кто остановился в гостиницах, должны были выселиться заранее, чтобы полиция не связала их с завтрашним похищением.
После повторения деталей плана Харель заговорил о масштабе предстоящего события: «Я пытался показать своим сотрудникам уникальный нравственный и исторический смысл того, что они делают, – вспоминал он. – Они были выбраны судьбой, чтобы один из величайших преступников всех времен предстал перед судом в Иерусалиме».
«Впервые в истории палача еврейского народа будут судить сами евреи, и мир услышит полный отчет о злодеяниях нацистов, а молодое поколение Израиля узнает, как пытались уничтожить наш народ», – добавил он. Харель внушал, как важна эта миссия, и хотя они собирались нарушить законы дружественной страны, на тот момент «не было другого способа послужить справедливости и правосудию».
На случай провала он проинструктировал агентов так: если их схватят, они могут признаться, что являются гражданами Израиля, однако должны при этом утверждать, что действовали по собственной инициативе. Ни в коем случае нельзя упоминать израильские власти!
Харель верил в успех дела и надеялся, что члены команды разделяют эту веру. Впрочем, вполне естественно, что их беспокоили мысли о возможной неудаче. Один из агентов спросил открыто: «Как думаете, нам дадут большой срок, если поймают?» Глава «Моссада» ответил так же прямо: «Лет пять, если повезет».
Для операции израильтяне подготовили два автомобиля. Они планировали схватить Эйхмана по пути с работы. Автобус прибывал в 19:40. Первым автомобилем управлял Аарони, внутри должны были разместиться Эйтан, Моше Тавор и Малкин, которому поручили схватить Эйхмана, по возможности без телесных повреждений. «Ни царапины»,[380] – особо предупредил его Харель.
Малкин, мастер маскировки, надел темную одежду и парик, а также пару толстых перчаток. В Аргентине была зима, так что он не выглядел странно. «Перчатки, конечно, защищали от холода, но купил я их не для того, – вспоминал он. – Меня тошнило от одной мысли, что придется голыми руками трогать этот рот, обрекший на смерть миллионы людей, чувствовать на коже его дыхание и слюну». Малкин, как и другие члены команды, во время холокоста потерял близких.
Во второй машине сидел Шалом и остальные агенты. Они припарковались в тридцати ярдах и открыли капот, делая вид, будто чинят двигатель. При появлении Эйхмана они должны были зажечь фары, чтобы ослепить его и не дать заметить первую машину.[381]
Обычно Эйхман строго придерживался расписания, но в тот вечер отчего-то запаздывал. В восемь часов Аарони не выдержал и шепотом спросил у Эйтана, что делать: уходить или ждать дальше? Эйтан велел пока остаться, хотя понимал, что тянуть не стоит: две припаркованные машины даже в темноте могли привлечь ненужное внимание.
Шалом в 20:05 вышел из автомобиля – и сразу же увидел Эйхмана. Он бросился обратно и включил фары; второй агент торопливо захлопнул капот. Аарони тем временем следил за Эйхманом в бинокль из первой машины. Он предупредил Малкина, что тот держит руку в кармане: возможно, у него оружие…
Когда Эйхман миновал автобусную остановку и свернул за угол, направляясь в сторону их автомобиля, Малкин загородил ему путь. «Un momentito, señor», – произнес он фразу, которую репетировал несколько недель.[382] Эйхман резко остановился, и Малкин набросился на него. Однако из-за предупреждения Аарони он схватил Эйхмана не за горло, как планировал, а за правую руку – и двое мужчин кубарем покатились в канаву на обочине.
Эйхман закричал. «Хорошо спланированная и тщательно подготовленная операция чуть не провалилась», – позднее отчитывался Аарони. Чтобы заглушить крики, он завел двигатель, а Эйтан и Тавор бросились на помощь Малкину. Тот схватил Эйхмана за ноги, двое других – за руки и быстро втащили немца в заднюю дверь. Агенты сунули Эйхмана на пол салона и закидали одеялами, чтобы прикрыть его и не поранить. Эйтан прижимал голову пленника коленом. Пистолета у того не оказалось.
Аарони рявкнул на Эйхмана по-немецки: «Не шуми, а то прикончим!» Малкин все еще закрывал рукой рот Эйхману под одеялом, но когда тот кивнул, показывая, что понял приказ, убрал руку. В полной тишине они тронулись. Эйтан и Малкин пожали друг другу руки. Эйхман, который из-за проблем со зрением теперь носил очки с толстыми линзами, лежал совершенно неподвижно. По дороге на главную конспиративную квартиру они остановились, чтобы сменить номерные знаки. На время потеряли из виду второй автомобиль, но тот вскоре тоже подъехал и последовал за ними к вилле, где с нетерпением ждали остальные члены команды.
Израильтяне занесли Эйхмана в одну из комнат на втором этаже, уложили на железную кровать и приковали за ногу к ее тяжелой раме. Затем его раздели и обыскали, чтобы удостовериться в отсутствии яда. Пленник утверждал, что, живя свободным человеком, давно от него избавился, однако врач все равно удалил ему все зубные коронки и осмотрел тело. Эйтан, Шалом, Малкин и Аарони присутствовали в комнате. Врач проверил подмышку, где у офицеров СС была татуировка с группой крови, но у Эйхмана там оказался лишь небольшой шрам. Как он позднее признался, татуировку выжег сигаретой, когда его в конце войны схватили американцы. Так и не установив личность пленника, его тогда отпустили.
Аарони, имевшему опыт работы следователем в британской армии, поручили вести допрос, чтобы совершенно точно избежать ошибки. Он прекрасно изучил досье на Эйхмана и был готов выбить из него признание. «Аарони казался довольно скучным следователем, – с улыбкой вспоминал Шалом. – Один и тот же вопрос он мог задавать медленно и многократно, десятки раз, пока допрашиваемый не начинал говорить».
Однако Эйхман сломался быстро, так что способности Аарони не пригодились. Когда спросили имя, он поначалу ответил: «Рикардо Клемент». Однако рост, размер обуви и одежды совпадали с информацией из досье. Когда Аарони спросил, был ли он членом нацистской партии, Эйхман ответил утвердительно. Личный номер СС он тоже назвал правильно, как и дату и место рождения – 19 марта 1906 года, Золинген, Германия.
«Под каким именем вы родились?» – спросил тогда Аарони. «Адольф Эйхман», – признался тот. Как выразился Аарони, «мы словно вышли из тоннеля, после долгой и трудной операции смогли наконец вздохнуть».
Незадолго до полуночи Аарони и Шалом отправились в центр Буэнос-Айреса, где в кафе их ждал Харель. Чтобы не привлекать к себе внимание, тот периодически заказывал кофе. «Уж не знаю, сколько чашек ему пришлось выпить», – со смехом вспоминал Шалом.
* * *
Специальный рейс «Эль Аль» – самолет «Бристоль Британия» с израильской делегацией на борту – приземлился в Буэнос-Айресе около шести вечера 19 мая.[383] Делегацию возглавлял Абба Эбан, министр без портфеля, прежде служивший послом Израиля в США и ООН, позднее ставший самым эффективным министром иностранных дел государства. Премьер-министр Бен-Гурион предупредил его, что реальная цель полета – доставить Эйхмана в Израиль, но эта информация была известна только небольшому числу людей на борту. Однако присутствие троих мужчин в форме «Эль Аль», которые даже пытались сделать вид, что исполняют обязанности бортпроводников, вызывала у команды воздушного судна определенные подозрения.
Тем временем на конспиративной квартире Аарони и Малкин продолжали допрашивать Эйхмана. Тот – должно быть, практикуясь перед судом, – утверждал, что вовсе не был антисемитом: «Поверьте, я ничего не имел против евреев».[384] Просто Эйхман, как офицер СС, дал клятву преданности непогрешимому Гитлеру и потому не мог не исполнять его приказов. Как выразился Малкин, подводя итог этих излияний: «Он всего лишь выполнял свою работу».[385]
Как заключенный Эйхман не доставлял никаких хлопот. По наблюдениям Хареля, он желал только одного: «спасти свою шкуру, всячески угождая хозяевам положения».[386] Пленник боялся немедленной расправы и потому с облегчением перевел дух, услышав, что предстанет перед судом. Он всячески убеждал похитителей, что суд должен состояться в Аргентине, Германии или Австрии, но когда Аарони сказал ему, что этого не будет, согласился подписать заявление о готовности следовать в Израиль для суда.[387]
Все это время агенты тщательно следили за сообщениями в прессе – не упомянет ли аргентинская полиция о похищении? Но, как позже расскажет Николас Эйхман, его родные сразу заподозрили израильтян в похищении и избегали публичных действий, чтобы не разоблачить отца перед властями.[388]
Главная задача агентов теперь заключалась в том, чтобы доставить Эйхмана на борт судна. Шалом несколько раз съездил в аэропорт, запоминая дорогу и знакомясь с охраной.[389] Он примелькался настолько, что ему удавалось беспрепятственно заходить в ангар с самолетом. 20 мая, в назначенный день, Шалом еще раз проверил самолет и отправил Харелю сообщение, что все готово. Чуть раньше команду судна предупредили, что на борту будет еще один приболевший пассажир в униформе «Эль Аль». Его имя, конечно, не сообщили, но экипаж все понял и без лишних слов.[390]
Эйхман послушно помылся, побрился и надел форму бортпроводника. Когда врач достал шприц со снотворным, он пытался возразить, что укол делать необязательно. Впрочем, рисковать израильтяне не собирались. Эйхман спорить не стал и послушно вытянул руку. Когда они были готовы выдвигаться, препарат уже подействовал, но Эйхману все равно хватило сил напомнить о своей куртке – он сам попросил надеть ее, чтобы не выделяться на фоне остального экипажа.
Полусонного Эйхмана конвоировали в аэропорт на трех машинах.[391] Все пассажиры первого автомобиля были в униформе «Эль Аль», и охрана пропустила их без всяких вопросов. В ангаре Эйхмана окружили плотным кольцом, поддерживая за плечи, поскольку у него заплетались ноги, а на борту усадили в первом классе, рядом с другими членами «команды», которые тоже притворились спящими. В случае проблем их намеревались представить как сменный экипаж, отдыхающий в ожидании своей смены. Незадолго до полуночи 20 мая самолет взлетел. Когда он покинул аргентинское воздушное пространство, «спящая» команда «проснулась», чтобы обнять друг друга и отпраздновать успех. Остальной же экипаж получил возможность взглянуть на своего таинственного пассажира.[392]
Сам Харель тоже присутствовал на борту, но большинство других агентов, участвовавших в захвате – включая Эйтана, Шалома и Малкина, – должны были покидать Аргентину своим ходом и не сразу, а в течение нескольких дней. И хотя похищение вскоре стало достоянием гласности, личности похитителей хранились в тайне много лет.
Случившееся быстро привело к перепалке на тему, кто внес больший вклад в поимку Эйхмана. «Охотники за нацистами» – такие, как Тувья Фридман и Симон Визенталь, – не преминули воспользоваться шансом и представить собственную версию событий. Фридман тут же издал автобиографию, где похищение обросло драматичными подробностями. Якобы Эйхман, узнав, что его похитили израильтяне, упал в обморок, а очнувшись, спросил: «Кто из вас Фридман?»[393] Впрочем, автор добавил: «История получена из вторых рук, и за ее достоверность я не ручаюсь». Эйтан, лично помогавший затащить Эйхмана в автомобиль, категорично заявлял, что ничего подобного не было.
Свою книгу «Ich Jagte Eichmann» («Я выследил Эйхмана») в 1961 году опубликовал и Визенталь. Уже само название подчеркивало, что бо́льшую часть заслуг он присваивает себе, хотя в последующих публичных выступлениях и письмах Визенталь был более умеренным. Он с гордостью сообщал, что Яд ва-Шем 23 мая 1960 года, после официального заявления Бен-Гуриона, якобы прислал ему телеграмму: «Сердечно поздравляем Вас с этим блестящим достижением!»[394]
Однако позднее, на пресс-конференции в Иерусалиме, Визенталь уже осторожнее выбирал слова: «Захват Эйхмана нельзя считать достижением одного конкретного человека. Он стал возможным благодаря сотрудничеству в лучшем смысле слова. Это была настоящая мозаика, особенно в завершающей стадии, когда много людей, по большей части даже незнакомых друг с другом, собирали воедино маленькие частички. Я могу рассказать лишь о собственном вкладе в это дело – и даже не знаю, насколько он был велик».[395]
В мемуарах 1989 года «Справедливость, а не месть» он написал: «Я был настойчивым загонщиком, но не стрелком».[396] Его дочь Паулинка и ее муж Джерард Крайсберг говорили, что Визенталь никогда не требовал признания. Упоминая израильтян, он всегда добавлял: «Я никогда бы не справился с тем, что сделали они. Разве мог я один сравниться с целой страной вроде Израиля?»[397]
Фриц Бауэр, генеральный прокурор федеральной земли Гессен, до самой смерти в 1968 году скрывал свое бесспорно важное участие в поимке Эйхмана и не требовал никакого признания. Харель, сразу же после доставки пленника в Израиль, передал сообщение об этом своему человеку в Германии. За несколько часов до официального заявления Бен-Гуриона они встретились в ресторане. Узнав новости, Бауэр не сдержал эмоций и обнял посланника, чуть не плача от восторга.[398]
Хотя собственные достижения Бауэр не выставлял напоказ, он не смог обойти вниманием ту шумиху в СМИ, которую поднял Визенталь. «Называет себя главным охотником, хотя сам его не ловил», – в частном порядке сказал о нем Бауэр другу.[399]
Впрочем, особого негодования от того, что не он оказался в центре внимания, Бауэр не испытывал. В отличие от Иссера Хареля. Тот, как глава «Моссада», требовать признания не мог, однако его очень злило, что все заслуги приписывают другому. В 1975 году Харель наконец был свободен для выражения своего мнения и опубликовал книгу «Дом на улице Гарибальди»,[400] где демонстративно опустил все упоминания о Визентале. Позднее, в так и не опубликованной рукописи «Симон Визенталь и похищение Эйхмана», он прямо написал, что тот не играл никакой роли в операции и «не мог примириться с правдой».[401]
Бывший глава «Моссада» вовсе не отрицал, что «Визенталь годами выслеживал Эйхмана и всегда был готов помочь», но его крайне возмущало, что Визенталь воспользовался официальным молчанием Израиля по поводу операции. «Сперва он осторожничал, затем, приняв молчание за согласие, набрался смелости и стал приписывать все заслуги по захвату Эйхмана исключительно себе одному»,[402] – гневно писал Харель. Рукопись довольно едко высмеивала личность Визенталя, а заодно выражала негласный намек отдать должное ее автору за главную роль в этой операции.
Другие участники операции более объективно оценивали вклад Визенталя в общее дело и понимали причины вражды между двумя сильными личностями. «На кону стоял ценный приз – возможность считаться человеком, поймавшим Эйхмана»,[403] – резонно заметил Шалом.
В малочисленном сообществе «охотников за нацистами» споры не утихают и по сей день, уже после смерти обоих действующих лиц (Харель скончался в 2003 году, Визенталь – в 2005-м). Однако широкая общественность об этой схватке практически ничего не знала. Куда больше всех интересовал вопрос, который пришел на ум Харелю, впервые повстречавшему своего знаменитого пленника на вилле в Буэнос-Айресе.
«Когда я увидел Эйхмана в первый раз, я был поражен своей реакцией», – вспоминал он. Вместо ожидаемой ненависти Харель почувствовал скорее удивление: «Он выглядит как самый обычный человек. Если бы он попался мне на улице, я не обратил бы на него внимания. Что же превращает обычного человека в чудовище?»[404] – спросил Харель самого себя.
Именно этот вопрос был у всех на уме во время судебного процесса в Иерусалиме.
Глава 9 «Хладнокровно и безжалостно»
То, что многие (и я в том числе) испытывали в заключении и после «стыд», а также чувство вины, – неопровержимый факт, подтверждаемый многочисленными свидетельствами. На первый взгляд это невероятно, но так оно и было.[405]
П. Леви. Канувшие и спасенные[406]Утром 22 мая 1960 года Эйхман был доставлен специальным рейсом в тель-авивский аэропорт «Лидда» (позднее переименованный в Аэропорт имени Бен-Гуриона). На следующий день Бен-Гурион заявил своим министрам:
– Наша разведка давно искала Адольфа Эйхмана и наконец-то его нашла. Он в Израиле и здесь же предстанет перед судом.[407]
Премьер выразил намерение безотлагательно озвучить эту новость в кнессете, подчеркнув, что арестованного будут судить за преступления, которые по израильским законам до сих пор караются смертной казнью. Согласно стенограмме заседания кабинета, хранившейся под грифом «Совершенно секретно» и опубликованной лишь в 2013 году, изумленные коллеги засыпали Бен-Гуриона вопросами.
– Каким образом? Где? Как такое возможно? – спросил министр транспорта Ицхак Бен-Аарон, на что премьер ответил:
– Для этого у нас есть спецслужбы.
Бен-Гуриона стали поздравлять. Министр финансов Леви Эшколь предложил выразить на заседании парламента особую благодарность тем, кто участвовал в операции, и «чем-нибудь их наградить».
– Чем? – спросил Бен-Гурион.
Когда Эшколь подчеркнул, что в Израиле до сих пор не учреждено никаких медалей, Бен-Гурион ответил:
– Мицва – уже сама по себе награда.
(На иврите слово «мицва» означает «заповедь», но в обиходе так называют любое благое дело.)
Членам кабинета отчаянно хотелось узнать подробности операции, однако министр юстиции Пинхас Розен рекомендовал никаких деталей не разглашать. Последовала краткая дискуссия о том, кто может быть назначен адвокатом Эйхмана.
– Мы предоставим ему любого защитника, какого он пожелает, – сказал Розен.
– Только если это не бывший нацист, – вмешалась Голда Меир, министр иностранных дел.
– А если араб? – спросил министр сельского хозяйства Моше Даян.
Бен-Гурион заявил:
– Я уверен, что ни один араб не согласится его защищать.
На вопрос о том, как Эйхман ведет себя в тюрьме, Харель, руководитель «Моссада», также присутствовавший на совещании, ответил:
– Он нас не понимает. Он ждал побоев, но мы обращаемся с ним в соответствии с законами Государства Израиль.
Для такой щепетильности были веские причины. Впоследствии Гидеон Хаузнер, прокурор по делу Эйхмана, сказал: «Наша страна проходила серьезную проверку. Международная общественность смотрела, как мы справимся с задачей, которую себе поставили».[408]
Вскоре во всем мире уже цитировали лаконичное, но волнующее заявление, сделанное Бен-Гурионом на заседании израильского парламента: «Сообщаю кнессету о том, что недавно Службе государственной безопасности Израиля удалось обнаружить известного нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана, ответственного наряду с другими лидерами национал-социализма за так называемое “окончательное решение еврейского вопроса”, то есть за истребление шести миллионов европейских евреев. В настоящее время Адольф Эйхман содержится под стражей в нашей стране и здесь же в скором времени предстанет перед судом по закону о преследовании нацистов и их сообщников».[409]
Хаузнер был прав: дело Эйхмана стало для самого Государства Израиль своего рода испытанием. Как и предполагал Бен-Гурион и его коллеги, международная общественность осудила действия израильских спецслужб. Если сами израильтяне, услышав речь своего лидера, были сначала потрясены, а затем воодушевлены, то в аргентинском правительстве произошедшее вызвало бурное негодование. Министр иностранных дел Аргентины потребовал от посла Израиля объяснений. И, само собой, возвращения Эйхмана.
Решительно отклонив последнее требование, израильское правительство сфабриковало неправдоподобную историю о «евреях-добровольцах, в числе которых были израильтяне», которые якобы выследили Эйхмана и получили от него письменное согласие предстать перед израильским судом. Представитель Аргентины при Организации Объединенных Наций подал жалобу в Совет Безопасности, вследствие чего была принята резолюция, осуждающая действия израильской разведки как нарушение суверенитета южноамериканской страны.[410] Однако в ней также отмечалось, что Эйхман должен-таки предстать перед судом.
Похищение Эйхмана критиковали не только силы, известные своей враждебностью по отношению к Израилю. В передовице «Вашингтон пост» говорилось, что ближневосточное государство прибегло к «закону джунглей», присвоив себе право вершить суд «от имени воображаемой еврейской этнической общности».[411] Многие зарубежные общественные деятели, евреи по происхождению, высказались против проведения процесса над Эйхманом в Израиле.
Британский философ Исайя Берлин направил Тедди Коллеку, мэру Иерусалима, письмо, в котором упрекнул Израиль в «политической недальновидности»: по мнению британца, мудрее было бы передать нациста другой стране во избежание упреков в пристрастности и излишней жестокости.[412] Психолог Эрих Фромм назвал похищение Эйхмана «актом беззакония сродни тем, в которых повинны сами нацисты».[413]
Американский Еврейский комитет в своем обращении к Голде Меир высказался против того, чтобы Эйхмана судили в Израиле, так как он «повинен в чудовищных преступлениях не только против евреев, но и против всего человечества».[414] Группа юристов, собранная по инициативе этой организации, рекомендовала Израилю самостоятельно расследовать дело Эйхмана, однако затем передать материалы в Международный трибунал.
Принимать подобные предложения Бен-Гурион наотрез отказался. Примерно через год, 11 апреля 1961 года, Хаузнер произнес на суде обвинительную речь, из которой стало ясно, что руководители Государства Израиль в самом деле считают себя вправе судить Эйхмана от имени всех жертв холокоста: «Рядом со мной, здесь и сейчас, незримо стоят шесть миллионов обвинителей. Они уже не могут восстать из пепла, поднять указующий перст и прокричать человеку, сидящему в стеклянной будке: “Обвиняю тебя!” Их прах развеян над Освенцимом, Треблинкой и другими лагерями смерти по всей Европе».[415]
Габриэль Бах, один из двух помощников прокурора Хаузнера, единственный из всех участников процесса, кто был жив на момент написания этой книги, отметил еще один факт, объясняющий необходимость проведения суда над Эйхманом именно в Израиле: «До того как начался этот процесс, многие преподаватели говорили мне, что молодые люди ничего не хотят слышать о холокосте. Им стыдно. Молодой израильтянин понимает: можно погибнуть или получить ранение на войне, можно проиграть битву. Но ему непонятно, как миллионы людей могли отправиться на бойню, не оказав сопротивления. Вот поэтому молодежь не хотела разговаривать о тех событиях».[416] Иногда выживших жертв холокоста пренебрежительно называли «сабоним» («мыльники»), поскольку широко ходили слухи, будто нацисты делали из своих жертв мыло.[417]
Суд над Эйхманом должен был, как полагал Бах, изменить взгляды молодых израильтян, показав им, что «жертвы до последнего не осознавали своего истинного положения, а поняв, какая участь их ждет, поднимали восстание: так, узники варшавского гетто храбро сражались до последней капли крови».
Вопреки ожиданиям Баха, процессу сопутствовали многочисленные противоречия. Споры о том, как вели себя жертвы Холокоста, подогревались разнонаправленными свидетельствами, которые обнародовались в связи с попытками обвинителей, а также всей международной общественности разобраться в личности главного героя разыгравшейся драмы.
* * *
Израильтяне тщательно спланировали все, что происходило с Эйхманом, начиная с момента прибытия. Его поместили в большую, хорошо охраняемую тюрьму полицейского лагеря «Ияр» близ Хайфы.[418] Всю меблировку камеры площадью три метра на четыре составляли койка, стол и стул. Круглосуточно горел электрический свет. В прилегающей каморке был туалет с душем. Тюрьму предварительно освободили от других заключенных. В лагере постоянно находилось более тридцати полицейских, а также отряд пограничников, исполнявших функции охраны. Во избежание попыток расправы над узником, тюремщиков набрали из числа военнослужащих, не являвшихся родственниками жертв холокоста.
Однако это ограничение не действовало при выборе человека, который должен был вести допросы в течение нескольких месяцев до начала судебного разбирательства, то есть напрямую общаться с Эйхманом на протяжении 275 часов.[419]
Капитан полиции Авнер Лесс бежал из гитлеровской Германии подростком. Его отец, берлинский предприниматель, получивший Железный крест в годы Первой мировой войны, погиб в газовой камере Освенцима. Как отмечал сам капитан Лесс, «в благодарность за боевые заслуги отца депортировали из Берлина одним из последних, а значит, одним из последних и ликвидировали».[420]
С внешним миром Эйхман контактировал главным образом через Баха, назначенного помощником прокурора. Если Лесс брал у заключенного показания, то задача Баха состояла в том, чтобы обеспечивать беспрепятственное проведение расследования и исполнять роль посредника в решении практических вопросов. Именно он сообщил Эйхману, что израильское правительство готово оплатить услуги любого адвоката, какого тот пожелает пригласить. Заключенный выбрал известного кёльнского юриста Роберта Серватиуса, выступавшего в качестве одного из защитников на Нюрнбергском процессе.
На этапе следствия Бах жил в гостинице в Хайфе, а в тюрьме имел рабочий кабинет. В день своей первой встречи с Эйхманом он читал автобиографию коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса, повешенного в Польше. Тот признавался, что, наблюдая за тем, как женщин и детей ведут в газовые камеры, считал себя обязанным сохранять абсолютно бесстрастный вид, как бы жертвы ни молили о пощаде. Необходимость массовых убийств обосновывалась ссылкой на приказы Эйхмана.
Молодой израильский юрист прочел это, и через несколько минут ему сообщили, что подследственный хочет его видеть. «Я услышал шаги за дверью, и вскоре он уже сидел передо мной, как теперь сидите вы, – вспоминал Бах. – Притворяться спокойным было непросто».[421]
Еще тяжелее приходилось Лессу: он встречался с Эйхманом ежедневно, вел продолжительные допросы и проверял все стенограммы, суммарный объем которых составил 3564 страницы. Впоследствии эти материалы были представлены суду как доказательства.
В день первого допроса, 29 мая 1960 года, Лесс увидел седеющего мужчину в костюме защитного цвета и сандалиях. По признанию капитана, то, что наружность подследственного совершенно непримечательна, вызвало у него своего рода разочарование. Недавно он изучил материалы дела, включая документы, предоставленные Тувьей Фридманом. Увидев, насколько «нормальным» кажется человек, совершивший описанные в них злодеяния, Лесс испытал еще более гнетущее чувство, чем мог ожидать.
На первом допросе Эйхман был «как комок нервов» и прятал под столом дрожащие руки. «Я чувствовал его страх, – вспоминал Лесс. – Казалось, расправиться с ним будет совсем нетрудно».[422] Израильтяне вскоре поняли: узник ждет от них такого же обращения, какое они встретили бы с его стороны, если бы поменялись с ним ролями. Но после недели общения с Лессом, который неукоснительно соблюдал предписанный порядок, Эйхман заметно расслабился. Поскольку он был заядлым курильщиком, капитан добился, чтобы для него увеличили норму выдачи сигарет. «Табак делал его более разговорчивым и помогал ему сосредоточиваться», – пояснил Лесс позднее. Польский следователь Ян Зейн использовал ту же тактику с Хёссом.
На допросах, как и впоследствии на суде, Эйхман всячески преуменьшал свою личную роль в истреблении евреев, уверяя, будто никогда не испытывал к ним ненависти. Он сообщил Лессу, что дружил с мальчиком-евреем в начальной школе, а когда ему поручили заниматься еврейским вопросом, стал тесно сотрудничать с лидерами пражского еврейства. Он не был антисемитом, первоначальная его цель заключалась в том, чтобы евреи могли эмигрировать.
Наблюдая за тем, как людей убивают в импровизированных газовых камерах (ими служили бараки или грузовики, куда пускали выхлопные газы), Эйхман поначалу «испытывал ужас»: крики умирающих «глубоко потрясали» его. Увидев, как трупы свалили в канаву и человек в штатском стал щипцами выдергивать из ртов золотые зубы, он побежал прочь.
Сцены насилия и страданий преследовали Эйхмана в ночных кошмарах. «Даже сейчас, – уверял он, – я отворачиваюсь, если вижу глубокий порез».[423] Как бы то ни было, такая чувствительность не мешала Эйхману заботиться об исправности машины смерти, регулярно посещая Освенцим и другие лагеря. Кроме того, 20 января 1942 года он вел протокол Ванзейской конференции на окраине Берлина, созванной для «окончательного решения еврейского вопроса». Эйхман заявил, будто просто сидел в углу рядом со стенографистом, что якобы доказывало его совершенную «незначительность».
Ну а занимаясь транспортировкой евреев в концентрационные лагеря, он «всего лишь выполнял приказ» – эти слова повторялись в его показаниях снова и снова. Все смертоносные решения принимали другие, он только следовал инструкциям, хотя и «с большим усердием». «Если бы мне заявили, что мой отец предатель и я должен его убить, я бы это сделал, – сказал Эйхман. – В то время я подчинялся приказам, не рассуждая».[424]
Несколько раз заключенный пытался продемонстрировать естественную эмоциональность, проявляя любопытство по отношению к следователю. Когда в ответ на его вопрос израильтянин рассказал о судьбе своего отца, он вскричал: «Но это же ужасно, Herr Hauptmann,[425] ужасно!»[426]
Лучшее оружие для того, чтобы пробить оборону Эйхмана, Лессу помогла найти тень коменданта Освенцима. Хёсс предстал перед судом и был казнен в Польше, за недавно опустившимся «железным занавесом», поэтому дело не получило в мире особенно широкой огласки. Но Лесс, как и Бах, тщательно изучил его автобиографию и понял, каким образом ее следует использовать.
Слушая цитаты из воспоминаний Хёсса, Эйхман, очевидно, беспокоился. Он пытался отпускать в адрес лагерного коменданта колкие замечания, однако руки у него тряслись, как на первом допросе. Хёсс писал, что часто обсуждал с Эйхманом еврейский вопрос. Когда они были одни и «вино текло рекой», коменданту становилось ясно: собеседник «одержим желанием уничтожить каждого еврея, до которого только сможет добраться». Это свое желание Эйхман выражал предельно ясно: «Мы должны истребить их как можно скорее, хладнокровно и безжалостно. Любой компромисс, даже самый незначительный, может привести к горьким последствиям».[427]
Когда Лесс ровным тоном зачитал эти слова, подследственный заявил, что они лживы. «Я не имел отношения к убийству евреев, – сказал он. – Я не убил ни одного еврея лично и никому не отдал такого приказа». Именно это, добавил он, обеспечивало ему «относительное душевное спокойствие». «Я виноват, – признал Эйхман, – поскольку участвовал в эвакуации, и готов за это ответить».[428] Потом он торопливо прибавил, что люди, которыми до отказа набивали поезда, отправлялись в «трудовые лагеря», а то, какая участь постигала их там, на востоке, выходило за рамки его компетенции.
Опровергая утверждения Эйхмана о неучастии в принятии судьбоносных решений, Лесс на многочисленных примерах показывал, как методично тот перекрывал пути к спасению для тех евреев, которым поначалу удавалось избегать депортации. В одном из сохранившихся документов Эйхман обвинял тайского посла в том, что последний держит при себе еврея-учителя «лишь для того, чтобы оградить его от трудностей».[429] Он призвал Министерство иностранных дел принудить дипломата «прервать дальнейшие трудовые отношения с евреем», что, как заключил Лесс, подразумевало его «депортацию с одним из ближайших эшелонов».
Своим подчиненным в Гааге Эйхман велел аннулировать разрешение на поездку в Италию, выданное голландской еврейке. Этого якобы потребовало итальянское правительство, которое в действительности вовсе не стремилось помогать Германии в «окончательном решении еврейского вопроса». Эйхман писал, что женщину следует направить на восток «для выполнения трудовой повинности».
– То есть в Освенцим, – уточнил Лесс.
– Это… это… была наша работа, – пробормотал подследственный, а преодолев первоначальную растерянность, вернулся к своим обычным заверениям: подобные решения не принимались им лично, он лишь следовал инструкциям. Не дай он такого распоряжения, это сделал бы другой человек, заняв его место. Люди, от которых действительно что-то зависело, находились на более высоких ступенях.
– Я вообще ничего не решал, – заключил Эйхман.
Бывший гестаповец всячески пытался доказать, что он не был убийцей ни на деле, ни в помыслах, однако настойчивость следователя не позволяла ему добиться сколько-нибудь значимого результата. Лесс пришел к выводу: все усилия подследственного направлены на то, чтобы скрыть «холодное изощренное коварство, с каким он планировал и осуществлял истребление евреев».[430] Предстоящее судебное разбирательство давало Эйхману возможность еще раз озвучить свои оправдания, и ему лишь оставалось надеяться, что аудитория, которая будет слушать его в зале и вне зала, окажется восприимчивей, чем Лесс.
* * *
«Мыслить – занятие опасное»,[431] – заявила философ Ханна Арендт в интервью, которое дала французскому правоведу Роже Эррера в 1973 году, за два года до смерти. Во всяком случае, она сама, еврейка, рожденная в Германии, действительно рисковала, принимаясь за цикл из пяти статей о суде над Эйхманом для «Нью-Йоркера», а потом и за книгу «Банальность зла»,[432] опубликованную в 1963 году.
Заявив, что обвиняемый выполнял функцию «главного конвейера»,[433] обеспечивающего транспортировку евреев в концентрационные лагеря, Арендт представила его как часть убийственного механизма, но не как демоническую личность. Такой взгляд вызвал одобрение одних читателей и резкое осуждение других, в первую очередь евреев, многие из которых объявили Арендт бойкот до конца ее жизни. Споры вокруг выдвинутого ею тезиса продолжаются по сей день. Каких бы позиций ни придерживались спорящие, в основе дискуссий о фашизме и природе зла зачастую оказывается предложенная Ханной Арендт оценка личностных качеств Эйхмана и мотивов его действий.
Корреспондент «Нью-Йоркера» прибыла в Иерусалим незадолго до начала слушаний. Помощник прокурора Бах сразу же выразил желание с ней встретиться, но через два дня получил ответное сообщение, что она пока не готова разговаривать с представителями обвинения. Тем не менее он распорядился, чтобы ей дали возможность ознакомиться со всеми материалами дела, включая объемистые папки со стенограммами допросов, которые вел Лесс.
Арендт изучила их с большим вниманием и интересом. Ее задача заключалась не только в том, чтобы объективно осветить происходящее для читателей «Нью-Йоркера», но и в том, чтобы составить собственное представление о подсудимом. И она не намеревалась позволять никому, особенно обвинителям, влиять на ее точку зрения.
Кроме того, она, возможно, изначально стремилась прийти к такому заключению, которое вызвало бы максимально напряженную дискуссию. Десятью годами ранее она с большим успехом опубликовала книгу «Истоки тоталитаризма»,[434] где показала, как Гитлер в Германии и Сталин в Советском Союзе при помощи террора и пропаганды создали системы, попирающие традиционные иудео-христианские ценности. В этом же труде много говорилось о причинах антисемитизма.
Интерес к этим темам является естественным следствием обстоятельств жизни автора. Арендт родилась в 1906 году, росла в Кёнигсберге и в детстве, как она позднее призналась в одном из интервью, крайне редко слышала слово «еврей». Отец умер молодым, мать была атеисткой. Вероятно, Ханна довольно долго не знала бы о собственной этнической принадлежности, если бы другие дети не «просветили» ее своими антисемитскими замечаниями. В 1933 году, после прихода Гитлера к власти, Арендт бежала из Германии. «Если на вас нападают как на еврея, вы должны защищаться как еврей»,[435] – говорила она впоследствии.
Обосновавшись во Франции, эмигрантка помогала переправлять еврейских подростков из Германии и Польши в Палестину. После того как в 1940 году гитлеровские войска оккупировали Францию, Арендт снова пришлось бежать – на сей раз в Соединенные Штаты, где она начала новую жизнь.
Несмотря на свои прежние связи с сионистским движением, со временем Арендт стала резко критиковать политику Израиля и его лидеров, в первую очередь выходцев из Восточной Европы, занявших в молодом государстве основные руководящие посты. Следствием этого явилась личная неприязнь Арендт к главному прокурору Хаузнеру, которого она назвала «типичным галицийским евреем с ментальностью узника гетто».[436]
Слушания начались 11 апреля 1961 года, и занятая им позиция сразу же вызвала критику со стороны Арендт. Хаузнер стремился продемонстрировать всем, что преступления, совершенные подсудимым, ужасны, что Эйхман ответствен за них лично и что он всегда был ярым антисемитом. Однако ум Ханны Арендт выстроил совершенно иную картину. В своем последнем телевизионном интервью философ объяснила: «Одна из моих главных задач состояла в том, чтобы разрушить миф о зле как о великой демонической силе».[437] Ранее она заявляла: «Если есть в мире человек, напрочь лишенный даже намека на демоническую ауру, то это герр Эйхман».[438]
В своих статьях, а позднее и в книге Арендт изобразила бывшего нациста как серого функционера с невысоким уровнем интеллекта. Отмечая его неспособность сказать хоть одно предложение, которое не было бы штампом, она пишет: «Чем дольше слушаешь Эйхмана, тем яснее становится, что неразвитость его речи тесно связана с неумением мыслить, особенно с позиции другого».[439]
Далее следует заявление, вызвавшее наиболее яростное негодование части аудитории: «Несмотря на усилия прокуроров, все видели: подсудимый вовсе не монстр. Более того, трудно было не заподозрить в нем клоуна».[440] Этот вполне заурядный с виду человек являл собой яркий пример «банальности зла».
По мнению Арендт, действия Эйхмана объяснялись не убеждениями и не ненавистью к евреям, а обыкновенным карьеризмом, жаждой продвижения по нацистской служебной лестнице: «Его единственным мотивом было желание возвыситься, к чему он и стремился с чрезвычайным усердием».[441] Иначе говоря, он отправлял бы на смерть миллионы людей любой другой расы и любого другого вероисповедания, если бы они оказались в том положении, в какое нацистский режим поставил евреев.
А в зале суда прокуроры представляли совершенно другую картину. Они доказывали, что Эйхман был убежденным приверженцем нацистской доктрины, и показывали, к чему это привело. Многочисленные свидетели излагали факты жизни и смерти в концлагерях. Всплывали ужасающие детали, благодаря которым мир получил более полное представление о холокосте. Выжившие рассказывали о том, как погибли их близкие. В зале то и дело раздавались вскрики и всхлипывания.
И только Эйхман, как отмечал Хаузнер, «не выказывал никаких чувств». За исключением тех моментов, когда ему предоставлялось слово, человек, назвавший себя «мелким транспортным служащим», «сидел в своей стеклянной будке молча и совершенно неподвижно».[442]
Обвинение подготовило фильм о холокосте и, прежде чем показать его на открытом заседании суда, пригласило на просмотр самого Эйхмана и его защиту. Бах уже видел этот материал и теперь внимательно наблюдал за реакцией подсудимого. Глядя на груды трупов в газовых камерах, бывший гестаповец сидел совершенно спокойно, однако в какой-то момент возбужденно заговорил с тюремным надсмотрщиком. Как выяснилось, Эйхмана привели в зал в сером костюме, хотя он желал каждый раз представать перед судом в темно-синем, и ему это обещали. Позднее Бах с презрительной усмешкой вспоминал, что заключенный заявил протест в связи с этим мнимым нарушением, однако ни слова не сказал о самом фильме.
На суде много говорилось о «сортировке» изможденных и испуганных узников, прибывавших поездами в Освенцим. Запомнившийся Баху свидетель, инженер по профессии, рассказал, что его жене и дочке офицер СС приказал идти налево, а ему самому направо. Когда мужчина спросил, куда идти сыну, эсэсовец, быстро посовещавшись со своим начальником, сказал: «Пусть догоняет мать». Отец забеспокоился, что мальчик ее не найдет, ведь за ней уже прошла сотня людей. Сын быстро затерялся в толпе, а пальтишко дочки некоторое время еще горело вдали все уменьшающимся красным пятнышком. Больше тот человек свою семью не видел никогда.
В фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера» (1993 г.) есть похожий эпизод с девочкой в красном пальто. Бах убежден, что режиссер включил его в картину под влиянием изученных материалов дела Эйхмана.
За две недели до выступления в суде этого свидетеля помощник прокурора как раз купил своей двухгодовалой дочке красное пальто. «Выслушав его рассказ, я некоторое время не мог вымолвить ни слова», – вспоминал Бах. Он сделал вид, будто ищет какую-то бумагу, и только через несколько секунд овладел собой настолько, чтобы задать свидетелю вопрос.
Широко публиковавшаяся фотография Баха, на которой он сидит, глубоко задумавшись, в зале суда, была сделана как раз в те минуты. «До сих пор, где бы я ни был: на футбольном стадионе, на улице или в ресторане, – мое сердце начинает громко биться, если я вдруг увижу маленького ребенка в красном пальто», – признался Бах во время нашей беседы полвека спустя.
Подобные свидетельские показания не поколебали уверенности Ханны Арендт в том, что действия Эйхмана объяснялись исключительно его должностными обязанностями, а не личностными взглядами. На одном из заседаний Хаузнер процитировал слова, которые обвиняемый сказал своим подчиненным в конце войны: «Я запрыгну в могилу смеясь. Мысль о том, что на моей совести смерть пяти миллионов евреев, приносит мне огромное удовлетворение».[443]
По воспоминаниям прокурора, Эйхман сначала попытался возразить, будто сказал не «евреи», а «враги рейха», однако потом признался одному из судей, что в действительности подразумевал именно евреев. В любом случае, когда подсудимому зачитывали его же собственные слова, он, как подметил Хаузнер, «выглядел совершенно обескураженным, а в какой-то момент даже запаниковал».
По мнению Ханны Арендт, подобные неосторожные заявления свидетельствовали только об одном: Эйхман был хвастлив, и это его погубило. Оказавшись в Аргентине, стране, ставшей тихой гаванью для многих нацистов, он почувствовал себя настолько вольготно, что в 1957 году даже согласился несколько раз встретиться с Виллемом Сассеном – голландским журналистом, который сотрудничал с нацистами.
Выдержки из этих бесед голландец продал журналу «Лайф». Вероятно, Эйхман в какой-то момент предполагал, что публикация таких интервью поможет ему представить события в выгодном для него свете. Однако самовозвеличивающий тон, каким он беседовал с Сассеном, явно противоречил тактике преуменьшения собственного значения, избранной им для суда. Эйхман заявил, что разговоры происходили «в непринужденной атмосфере бара»[444] и не несут в себе достоверной информации, хотя некоторые записи он просматривал и исправлял. Приняв его возражения к сведению, суд решил не использовать эти материалы в качестве доказательств.
С точки зрения Арендт, то, что Эйхман так рисковал, подтверждало сделанный ею вывод. «Именно из-за склонности к бахвальству он и был пойман»,[445] – подчеркивала она. По ее мнению, обвиняемый имел обыкновение в каждой конкретной ситуации говорить то, что считал выгодным, не думая о далеко идущих последствиях. Таким приспособлением и объясняется его деятельность в Третьем рейхе. «Глуп Эйхман не был, – писала Арендт. – Одним из величайших преступников тех лет он стал вследствие крайнего безрассудства, отнюдь не тождественного глупости».[446]
Другое заявление, приведшее противников Арендт в ярость (ее даже стали упрекать в ненависти к собственному народу), касалось того содействия, которое оказывали нацистам еврейские советы на оккупированной территории. Они должны были предоставлять для транспортировки в концлагеря требуемое число людей. В ходе судебных слушаний свидетели, вызванные обвинением, сообщали, что нацисты до последнего обманывали евреев, заставляя тех, кто уже отправлен на Восток, писать домой письма, как хорошо им живется и работается. Вопреки здравому смыслу, всем очень хотелось в это верить, и они верили.
Но Ханну Арендт такие объяснения не удовлетворили. Она обвинила глав еврейских общин в том, что они намеренно участвовали в обмане собратьев, надеясь спасти себя. «То, какую роль сыграли эти люди в уничтожении собственного народа, стало для евреев самой темной страницей в и без того темной истории»,[447] – пишет Арендт. Из ее рассуждений не явствует, что она понимала, насколько тяжело было председателям еврейских советов противостоять неослабевающему гнету со стороны нацистов, которые требовали предоставления все большего и большего числа людей, сопровождая эти требования угрозами усиления карательных мер и обещаниями (почти всегда пустыми) пощадить хотя бы небольшую часть гетто.
Это был один из самых болезненных вопросов, какие затрагивались в зале суда. «Трагедия, которую пережили загнанные в тупик главы еврейских общин, открылась во всей наготе»,[448] – вспоминал Хаузнер. Особенно ярким оказался пример Рудольфа Кастнера, лидера венгерского еврейства. Он отправил в Освенцим более 400 000 людей, но при этом вел с Эйхманом переговоры, результаты которых Ханна Арендт с присущей ей иронией оценила так: «Ровно 1684 спасенных и примерно 476 000 жертв».[449] Выжить удалось самому Кастнеру, его семье и другим, как он их называл, «видным» евреям. Чтобы избранные счастливцы имели возможность выехать в Швейцарию, Кастнер собрал для нацистов большой выкуп. Сам он впоследствии обосновался в Израиле и занял высокий пост в Министерстве торговли и промышленности.
В 1953 году израильский журналист Малкиэль Грюнвальд, уроженец Венгрии, обвинил Кастнера в сотрудничестве с нацистами. Чтобы защитить репутацию государственного служащего, власти подали на Грюнвальда в суд за клевету. Журналист был оправдан, а о Кастнере судья сказал, что тот «продал душу дьяволу».[450] Правительство обжаловало это решение. В 1957 году, когда тяжба все еще продолжалась, Кастнер был убит в Тель-Авиве. Вскоре после этого суд официально его реабилитировал.
Однако в обществе оценка деятельности погибшего так и осталась неоднозначной. По мнению обвинителей Эйхмана, в частности Баха, который в свое время помогал отстаивать интересы Кастнера, факт ведения переговоров о выкупе избранных членов общины лишь показывал, насколько низких методов придерживался нацистский чиновник. Действия руководителей еврейских советов рассматривались прокурорами Эйхмана как вынужденные, а Кастнер был в их глазах героем, спасшим множество жизней.
Арендт же утверждала, что, если бы не помощь лидеров местного еврейства, нацистам было бы гораздо труднее организовать депортацию такого огромного числа людей. На оккупированных территориях царили бы «хаос и разруха», но «количество жертв вряд ли достигло бы 4,5–6 миллионов».[451]
* * *
«Банальность зла» вышла в свет в 1963 году, и на автора сразу обрушился шквальный огонь критики. Обвинители, конечно же, не могли согласиться с ее оценкой личности подсудимого. «То, что он якобы просто подчинялся приказам, – вздор», – заявил Бах. Руководство рейха не назначило бы Эйхмана ответственным за «окончательное решение еврейского вопроса», не имея гарантий его абсолютной преданности делу геноцида. Помощник прокурора подчеркивал, что Эйхман не умерил своего рвения даже тогда, когда война фактически была проиграна и нацистское руководство уже начало заметать следы холокоста. Однако полемизировать с Арендт в прессе и на других общественных площадках Бах предоставил другим.
Контратаку возглавил Майкл Масманно – судья Нюрнбергского процесса, выносивший приговоры руководителям айнзацгрупп – специальных подразделений, которые проводили массовые казни в Восточной Европе до введения в эксплуатацию газовых камер. После поимки Эйхмана Масманно написал книгу «Специальные команды Эйхмана», а на суде в Иерусалиме выступил в качестве свидетеля обвинения.
Отвечая на вопросы адвоката Серватиуса, он ссылался на показания, которые давали в Нюрнберге высшие чиновники рейха. Так, Геринг «недвусмысленно дал понять, что по части истребления евреев Эйхман имел почти неограниченные полномочия… и мог по собственному усмотрению отправлять людей на смерть».[452] Это прямо противоречило позиции подсудимого, который упорно уверял, будто не имел права единолично принимать какие-либо решения.
По словам Масманно, любившего эффектные обороты речи, на Нюрнбергском процессе «имя Эйхмана снова и снова звучало в показаниях свидетелей, как шум ветра в стенах покинутого дома или стук веток о крышу, возвещающий приход гостей с того света».[453]
Возможность высказаться во всеуслышание Масманно получил, когда редактор газеты «Нью-Йорк таймс» предложил ему опубликовать рецензию на «Банальность зла», заранее зная его мнение о книге. Как и следовало ожидать, в своем отзыве он выразил категорическое несогласие с Арендт, уверяющей, «будто Эйхман в глубине души не был фашистом, будто, вступая в национал-социалистическую партию, он не знал о планах Гитлера, будто гестаповцы помогали евреям переправляться в Палестину и даже сам Гиммлер (Гиммлер!) испытывал к ним сострадание».[454]
По заявлению Масманно, из всех, кто присутствовал в зале суда, одна Арендт прониклась сочувствием к обвиняемому и поверила его самообеляющей лжи. Те страницы книги, в которых говорилось, что Эйхман неоднократно посещал Освенцим, но газовых камер якобы не видел, вызвали со стороны рецензента особенно язвительную реакцию: «С тем же успехом можно утверждать, будто человек много раз бывал у Ниагарского водопада, но не замечал воды».
Что же касается заявлений о взаимодействии еврейских советов с нацистами, то Масманно, как и многие другие читатели, счел негодование Арендт направленным не по адресу: «Эйхман действительно принуждал отдельных квислингов[455] и лавалей[456] к “сотрудничеству”, угрожая им смертью, однако это лишь усугубляет его вину».
Отзыв Масманно, как и сама книга Арендт, произвел сенсацию. Завязавшееся противоборство двух видных фигур разделило общество на два лагеря. В следующем номере «Нью-Йорк таймс» автор «Банальности зла» ответила своему критику, опубликовав отзыв на отзыв.[457] В этом же выпуске были напечатаны страстные письма читателей, выражающие подчас диаметрально противоположные мнения.
То, что в качестве рецензента редакция пригласила именно Масманно, само по себе показалось Ханне Арендт странным. Еще до написания «Банальности зла» она раскритиковала его взгляды на тоталитаризм в целом и на личность Эйхмана в частности, назвав их «опасным бредом». Поскольку ни редактор, ни сам рецензент не посвятили читателей в историю этой полемики, Арендт вдобавок обвинила их в «вопиющем нарушении норм журналистской профессии». Сам же отзыв, с точки зрения Арендт, представлял собой рецензию на «книгу, которая никогда не была ни написана, ни опубликована». Иными словами, ее оппонент до неузнаваемости исказил смысл книги.
Масманно ответил, что сам он ничего не искажал, а лишь счел своим долгом указать на «множество искажений, которые допустила мисс Арендт, рассуждая о деле Эйхмана». Сторонники автора «Банальности зла» увидели в отзыве на книгу «свидетельство полного упадка культуры рецензирования» и «грубое извращение идей» вследствие «неумения воспринимать иронию». Голоса из противоположного лагеря восхваляли Масманно за стремление «расставить все по своим местам», а Арендт обвиняли в том, что она «из кожи вон лезет», оправдывая Эйхмана, и при этом «не знает или не хочет знать исторических фактов».
Полемикой на страницах «Нью-Йорк таймс» дело не ограничилось. Якоб Робинсон, выступавший на Нюрнбергском процессе консультантом судьи Роберта Джексона по еврейскому вопросу, а позднее служивший юрисконсультом израильской делегации в ООН, посвятил критике идей Арендт целую книгу, которая вышла в свет в 1965 году под названием «Выправление кривды: суд над Эйхманом, трагедия еврейского народа и книга Ханны Арендт». С дотошностью юриста и ученого он проанализировал «Банальность зла» в мельчайших подробностях, почти ничего не оставив без возражений.
В первую очередь Робинсон, конечно же, заявил, что роль Эйхмана в истреблении евреев отнюдь не преувеличена обвиняющей стороной. Портрет подсудимого, нарисованный Арендт, «не может не поражать» своей неадекватностью. Подлинный Эйхман, как показывают сохранившиеся документы, был «человеком неукротимой энергии, мастером коварства и обмана, большим знатоком своего дела, отдававшим все силы одной цели – “очищению” Европы от евреев, – иными словами, он был фигурой, идеально подходившей на роль координатора основных антисемитских программ нацистской Германии».[458]
Далее Робинсон заявил, что «ошеломлен» тем, как Арендт «искажает исторические факты»,[459] оценивая деятельность еврейских советов на оккупированных территориях. Он пространно изложил историю этих организаций, используемых нацистами для управления гетто. С его точки зрения, они делали успешные попытки «в любых обстоятельствах физически и духовно поддерживать жизнь общины», хотя и «не оказывали нацистам открытого противодействия, поскольку были убеждены в том, что оно лишь усугубит положение».[460] Кроме того, Робинсон призвал читателей не путать еврейские советы с еврейской полицией, которая подчинялась нацистам напрямую и использовалась при депортации населения.
Эти аргументы показались неубедительными не только Ханне Арендт. Симон Визенталь, как и она, осудил тенденцию к замалчиванию фактов, связанных с деятельностью еврейских советов и еврейской полиции. Он заявил, что объективная оценка роли самих евреев вовсе не преуменьшает вины нацистов. «Мы очень мало сделали, чтобы воздать по заслугам тем, кто сотрудничал с нацистами, – пишет Визенталь. – Нас нельзя в этом упрекать, и все-таки однажды придется взглянуть правде в глаза».[461]
Те, кто соглашался с Визенталем, оказались в меньшинстве. Гораздо более популярную точку зрения высказал Робинсон: «И юридически, и морально члены еврейских советов являются сообщниками нацистов в той же мере, в какой торговец является сообщником вооруженного грабителя, когда под дулом пистолета отдает ему деньги из кассы».[462]
В том, что касалось самого Эйхмана и того зла, которому он служил, голоса противников Арендт также звучали громче, нежели голоса ее сторонников – по крайней мере, в интеллектуальных кругах, где ее зачастую воспринимали как изгоя. В художественном фильме «Ханна Арендт» (реж. Маргарете фон Тротта, 2012) показано, насколько едкой была полемика, которую автору «Банальности зла» приходилось вести с бывшими друзьями и коллегами.
И все же нельзя сказать, чтобы ее взгляды вовсе не встретили никакого сочувствия. Даже некоторые из агентов израильской разведки, участвовавшие в похищении Эйхмана, отчасти с нею согласились. «Она по-своему права, – сказал Рафи Эйтан, руководитель группы «Моссада» в Буэнос-Айресе. – Я тоже не почувствовал в нем ненависти к евреям. Это действительно банальность зла. Если бы ему велели убивать французов, он убивал бы их точно так же».[463]
Дискуссия о том, что же представляет собой Эйхман, продолжается уже несколько десятилетий. В 2011 году немецкий философ Беттина Стангент написала о нем книгу,[464] проведя собственное углубленное исследование сохранившихся материалов, в частности стенограммы интервью, которое он дал в Аргентине голландскому нацисту Виллему Сассену. В 2014 году эта книга, «Эйхман до Иерусалима: Неизученные факты из жизни знаменитого убийцы», была опубликована на английском языке. В ней приводится множество свидетельств, подтверждающих точку зрения, ранее высказанную Робинсоном и его сторонниками.
Стангент утверждает, что Эйхмана нельзя считать посредственным бюрократом, которому случайно досталась роль важного винтика в машине массовых убийств. Он был ярым антисемитом и, находясь «в плену тоталитаристского образа мыслей», вовсе не ограничивался простым исполнением приказов. «Идеология, отрицающая ценность человеческой жизни, может очень привлекать человека, если он принадлежит к расе самопровозглашенных господ, которым позволено отрицать все традиционные представления о добре и справедливости»,[465] – пишет Стангент.
Немецкая исследовательница признает заслугу Арендт как философа, положившего начало дискуссии, столь необходимой на раннем этапе изучения проблемы холокоста. Автор «Банальности зла» «достигла главной цели, к которой стремились все мыслители со времен Сократа, – создала спор, рождающий истину», однако предмет ее исследования «подстроил ей ловушку намеренно лживым рассказом о себе». «В Иерусалиме, – уверяет Стангент, – Эйхман надел маску, которую Арендт не распознала. Тем не менее она остро ощущала, что поняла изучаемый феномен не так хорошо, как надеялась понять».[466]
* * *
Опираясь преимущественно на стенограммы допросов Эйхмана, а также его показания в суде, Ханна Арендт, очевидно, приняла за чистую монету уверения бывшего гестаповца в том, что он якобы занимал подчиненное положение и не испытывал личной ненависти к евреям. На его примере автор «Банальности зла» стремилась продемонстрировать то, как эффективно тоталитарная система использует посредственного человека, не имеющего собственных убеждений. Кроме того, Арендт выказала явное высокомерие, представив свое понимание личности Эйхмана и его роли в истории как единственно верное.
При этом она была права, утверждая, что ее идеи порой до неузнаваемости искажаются враждебно настроенными оппонентами. На протяжении десятка лет после выхода нашумевшей книги она отражала их атаки, давая интервью немецкому и французскому телевидению. Ее тезисы располагали к двусмысленному толкованию, и, повторяя то, что изначально было неверно понято, она не исправила положения. Так, в одном из первых интервью[467] Арендт продолжала настаивать: Эйхман был «шутом», и, читая стенограммы его допросов, она «хохотала».
Впоследствии, однако, она выразила свою точку зрения яснее. Беседуя с немецким историком Иоахимом Фестом, автор «Банальности зла» подчеркнула, что, называя поведение Эйхмана «банальным», она вовсе не подразумевает ничего хорошего – совсем наоборот. Она стремится разоблачить фальшь, которой он окружил себя, беря пример с бывших соратников, уверявших на Нюрнбергском процессе, будто они просто исполняли приказы и не несут за свои действия никакой личной ответственности. «Это чудовищно глупо. Складывается совершенно комическая ситуация»,[468] – говорила Арендт, отнюдь не имея в виду, что все комическое весело.
Между тем она продолжала называть Эйхмана «обыкновенным функционером», чьи поступки далеко не в первую очередь определяются идеологией. То, что ее оппоненты объявляют этого человека монстром и дьяволом во плоти, представляется ей не просто заблуждением, но заблуждением весьма опасным, поскольку оно обеспечивает гражданам нацистской Германии своего рода алиби: «Если вы оказались во власти чудища невиданного, на вас лежит гораздо меньшая ответственность, чем если бы вы поддались обыкновенному человеку эйхмановского масштаба».[469] Будучи в этом убежденной, автор «Банальности зла» упорно отрицает концепцию демонической сущности Эйхмана и ему подобных.
Дав настолько глубокое обоснование собственных взглядов на личность иерусалимского подсудимого, Арендт должна была, по меньшей мере, несколько охладить пыл своих разгневанных оппонентов в этом вопросе. Однако спор о содействии нацистам со стороны евреев не утратил своей остроты. Правда, в поздних интервью Арендт все же отмечает, что лидеры еврейских советов находились в положении «жертвы» и, как бы спорно они себя ни вели, их нельзя уравнивать с подлинными палачами. Говоря так, философ косвенно признала излишнюю резкость некоторых своих первоначальных оценок.
И все-таки даже в «Банальности зла» есть момент (читатели порой упускают его из виду), доказывающий, что Арендт, вопреки мнению многих ее критиков, вовсе не выступает обвинителем жертв. Как отмечал Бах, процесс над Эйхманом был организован именно в Израиле в том числе и для того, чтобы показать молодежи, каким образом нацисты до последнего поддерживали в своих узниках иллюзорную надежду.
Упомянув расхожее мнение, согласно которому евреи «шли на смерть, как овцы», Арендт тут же пишет: «К сожалению, этот факт часто превратно истолковывают, забывая о том, что представители других народов в аналогичных условиях вели себя так же».[470] В данном отношении прокуроры иерусалимского процесса и автор «Банальности зла» придерживаются сходных взглядов.
Сегодня, по прошествии полувека после выхода книги, собранные сведения позволяют нам констатировать, что Эйхман воплощал в себе и те черты, на которые указывала Арендт, и те, о которых говорили ее противники.
Он был, с одной стороны, карьеристом, стремившимся любой ценой угодить начальству, чтобы достичь высокого положения в тоталитарном обществе, а с другой – агрессивным антисемитом, упоенно использовавшим свое право посылать людей на смерть и методично преследовавшим тех, кому удавалось выскользнуть из нацистских сетей. Он совершал злодеяния более осмысленно, нежели думала Арендт, но при этом действительно олицетворял собою «банальность зла». Банальность и зло не всегда исключают друг друга.
Эйхман совершал чудовищные поступки от лица чудовищной системы, однако, объявляя чудовищем его самого, мы освобождаем от ответственности многих других людей и рискуем позабыть о том, как легко тиранический режим делает из обычного гражданина преступника.
Благодаря публикации книги Арендт ученые стали проявлять большой интерес к проблеме простого человека и его склонности подчиняться приказам, не раздумывая. Наибольший резонанс вызвала серия экспериментов, проведенная в Йельском университете психологом Стэнли Милгрэмом уже в начале шестидесятых годов. Волонтерам, не знающим об истинной цели исследования (они думали, будто испытывают новую образовательную технологию), предлагалось воздействовать при помощи электрического тока на людей, сидящих в соседней комнате. Испытуемые могли в любой момент отказаться от участия в эксперименте, однако в большинстве случаев до конца следовали инструкциям: продолжали повышать напряжение, зная, что это причинит другому человеку боль (специально приглашенные актеры, на самом деле не получавшие ударов тока, стучали в стену и даже кричали).
Обобщив результаты эксперимента, Милгрэм заключил: «Концепция “банальности зла”, сформулированная Арендт, гораздо ближе к истине, чем можно было предположить».[471] По мнению йельского психолога, тоталитарный режим склоняет людей к слепому повиновению, пользуясь тем, что простой гражданин «теряет чувство ответственности»[472] за происходящее в стране. Человек фокусируется на выполнении узкой технической задачи, которую ставит перед ним руководство. «Личность, готовая в полной мере отвечать за свои поступки, испарилась, – пишет Милгрэм. – Вероятно, это наиболее распространенная особенность социально организованного зла в современном обществе».[473]
Свои эксперименты ученый описал в монографии «Подчинение авторитету»,[474] которая, как и книга Арендт, вызвала страстную дискуссию. Выводы, сделанные Милгрэмом, явно соотносились с той концепцией поведения человека в тоталитарном государстве, которая зародилась еще до холокоста. В 1935 году, увидев приход Гитлера к власти в Германии, Синклер Льюис опубликовал роман «У нас это невозможно», в котором фактически утверждается обратное заголовку: режим, подобный гитлеровскому, может установиться и в Соединенных Штатах. Главную угрозу для человечества представляют не чудовища, а те, кто слепо подчиняется чудовищным приказам.
Тенденция отождествлять конкретных людей с воплощенным злом, особенно при столкновении с действительно ужасающими поступками, очень сильна в обществе. Никому не хочется допускать, что он сам или его сосед согласится совершить акт насилия, если власть сочтет это необходимым. В 2014 году, когда британский премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал монстрами[475] террористов, обезглавивших захваченных заложников, многие инстинктивно согласились с ним, как прежде соглашались с теми, кто называл монстрами высших чиновников рейха.
Когда нацистские военные преступники оказывались в руках правосудия, психиатры и следователи редко бывали единодушны в оценке их личностных качеств. Зачастую видные национал-социалисты демонстрировали следующие черты: пылкая преданность тому, что они считали своей работой, полное отсутствие сострадания по отношению к жертвам при обостренной жалости к себе, тенденция перекладывать ответственность за собственные действия на вышестоящих. Многие обладали поразительной способностью к самообману.
Так, Геринг, один из самых интеллектуально и социально развитых подсудимых Нюрнбергского процесса, заявил американскому психиатру Дугласу Келли, что ему было «предначертано войти в историю Германии как великому человеку».[476] Подследственный утверждал, что, даже если ему не удастся убедить судей в своей невиновности, немецкий народ непременно увидит в нем героя. «Через пятьдесят-шестьдесят лет повсюду в Германии будут стоять статуи Германа Геринга, – сказал он. – Может, и маленькие, но в каждом немецком доме».
Другой американский психиатр, Густав Гилберт, заключил, что у личностей, подобных Хёссу, коменданту Освенцима, наблюдаются «явные признаки психоза».[477] Однако Келли, стремясь выявить у нацистских преступников какие-либо симптомы психического нездоровья, неизменно получал отрицательный результат: они не обнаруживали никаких фундаментальных отличий от обычных людей, а значит, не несли в себе никакого особого «гена зла».
«Преступления нацистов нельзя оправдывать сумасшествием, – писал Келли. – Они были, как и все человеческие существа, порождением своей среды, а также ее творцами (однако уже в большей степени, нежели простой человек)».[478] Для того, кто стремился при помощи тестов Роршаха[479] поставить военным преступникам четкий научно обоснованный диагноз, такое расплывчатое заключение было равносильно признанию поражения. Однако, сделав следующий логический шаг, Келли пришел к более однозначному и притом пугающему выводу: если нацисты не были сумасшедшими, то утверждать, будто «у нас это невозможно», действительно нельзя.[480] «Это» может случиться в любой точке земного шара.
Ни суд над Эйхманом, ни книга «Банальность зла» и первые отзывы на нее, разумеется, не положили конец дискуссии о преступлениях, совершаемых в государственных масштабах. Из телеинтервью, которые Арендт давала на протяжении последующих десяти лет, явствует, что она отчасти изменила свое мнение об иерусалимском процессе. Продолжая остро критиковать многие его аспекты, она увидела в нем «катализатор»[481] аналогичных судебных процессов, которые были проведены в Германии и помогли этой стране восстановить собственную репутацию на международной арене путем нравственного самоанализа.
Свои первоначальные взгляды пересмотрела не только Арендт. Если в первые дни после поимки Эйхмана многие сомневались в способности Израиля организовать честное судебное разбирательство, то с началом слушаний эти сомнения рассеялись. Согласно опросу, проведенному Институтом Гэллапа, спустя шесть недель после первого заседания 62 % респондентов в Соединенных Штатах и 70 % в Великобритании выразили уверенность в том, что дело нацистского военного преступника рассматривается справедливо.[482]
15 декабря 1961 года Эйхмана приговорили к казни через повешение. Это был первый и единственный смертный приговор, вынесенный израильским судом.[483] 29 мая 1962 года Верховный суд отклонил поданную апелляцию.[484] Через два дня, 31 мая, в семь вечера осужденному сообщили о том, что Бен-Гурион отказался удовлетворить прошение о помиловании. Всему миру об этом объявили в одиннадцать часов без упоминания о том, когда состоится казнь.
Помощник прокурора рекомендовал привести приговор в исполнение не позднее чем через два часа после оглашения окончательного решения, чтобы сторонники осужденного не могли предпринять попытку помешать казни. «Я боялся, что, если ожидание затянется, они захватят в заложники еврейского ребенка где-нибудь на Гавайях, в Португалии или в Испании», – сказал Бах. Он и сам до последнего не знал, когда именно Эйхман будет повешен. Их встреча в тюрьме, оказавшаяся последней, состоялась 30 мая.
Следующим вечером Бах был в ванной (в иерусалимской квартире, где живет до сих пор, – неподалеку от президентской резиденции), когда жена Руфь крикнула ему: «Эйхману отказано в помиловании! По радио сказали!» Помощник прокурора был одним из немногих, кто знал, что казнь состоится через час или два. «Видите ли, я ни в чем не сомневался, но все-таки немного побледнел, – вспоминал он. – Когда на протяжении двух лет видишься с человеком каждый день…»
Приведение приговора в исполнение поручили одному из тюремных охранников – двадцатитрехлетнему йеменскому еврею Шалому Нагару. Последним желанием Эйхмана были сигареты и белое вино. От капюшона осужденный отказался. По мнению Нагара, это свидетельствовало о том, что он не боялся принять свою участь. Перед смертью Эйхман произнес: «Да здравствует Германия! Да здравствует Аргентина! Да здравствует Австрия! <…> Я должен был подчиняться законам войны и моего флага. Я готов».[485]
Ровно в полночь Нагар, с недоумением воспринявший свое назначение на роль палача, опустил рычаг. Спустя много лет он сказал в интервью американской еврейской газете «Зман»:[486] «Все, кто присутствовал, почувствовали себя отмщенными. Это естественное человеческое чувство. Но суть была не только в желании отомстить. Мы делали то, что он сам, если бы мог, сделал бы с каждым из нас. Я бы тоже попал в его список, хоть я и йеменец».
Подготовка тела к немедленной кремации также была поручена Нагару. Не имея никакого опыта в подобных делах, он пришел в ужас, когда ему показалось, что мертвец как бы таращится на него. Также он не знал, что, если человек погибает от удушения, в легких остается воздух. «Я поднял труп, – вспоминал Нагар, – и изо рта прямо мне в лицо ударила воздушная струя. Раздался устрашающий звук. Эйхман словно прошипел: “Эй, йеменец…” Я почувствовал себя так, будто и за мной тоже прилетел Ангел Смерти».
Через два часа после кремации контейнер с пеплом доставили на патрульный катер, стоявший в порту Яффы. Капитан вывел судно из территориальных вод Израиля, и прах Эйхмана высыпали в море. Изначально предполагалось, что это тоже сделает Нагар, но его отпустили домой – так он был потрясен казнью и последующими процедурами. Узнав, какую роль ему пришлось исполнить, его жена сначала не поверила собственным ушам.
Весь следующий год Нагар, по его собственному признанию, жил в страхе. На вопрос жены, заметившей его беспокойство, он ответил: «Мне кажется, Эйхман будет меня преследовать». «Честно говоря, я и сам не знаю, чего испугался, – сказал Нагар позднее. – Просто испугался, и все. Подобный опыт делает с человеком то, что не поддается пониманию».
Глава 10 «Маленькие люди»
Что делать нам, новому поколению, с ужасными фактами истребления евреев? <…> Мы должны цепенеть в стыде, сознании вины и немоте? До каких пор?[487]
Б. Шлинк. «Чтец»В послевоенные годы, когда новое демократическое руководство Западной Германии создавало то, что впоследствии назвали экономическим чудом, простые граждане этой страны в большинстве своем стремились поскорее забыть о Третьем рейхе. Но Фриц Бауэр, генеральный прокурор земли Гессен, был исключением. Он делал все возможное, чтобы заставить сограждан посмотреть в лицо недавнему прошлому. По его убеждению, немцам было недостаточно того, что они издалека наблюдали процесс над Эйхманом. Других нацистских военных преступников, до сих пор скрывавшихся, следовало судить на родине.
Еще до того как израильтяне, руководствуясь предоставленными Бауэром сведениями, похитили Эйхмана, сам Бауэр получил информацию, на основании которой впоследствии были предъявлены обвинения двадцати четырем служащим Освенцима. Это давало возможность осуществить то, к чему он стремился.
В начале января 1959 года Томас Гнилка (репортер газеты «Франкфуртер рундшау», писавший о рассмотрении реституционных исков и собиравший сведения о бывших нацистах) брал интервью у Эмиля Вулкана, узника Освенцима.[488] Возможно, во время беседы журналист заметил на буфете пачку бумаг, перевязанных красной лентой, и спросил о них. А может быть, Вулкан сам протянул ему документы, сказав: «Вероятно, вас это заинтересует».[489] Так или иначе, Гнилка с ними ознакомился.
В бумагах содержались данные о расстрелах беглых заключенных Освенцима, полученные в ходе внутреннего расследования в августе 1942 года. Сообщались имена убитых, а также имена эсэсовцев, вершивших над ними расправу. Почему нацистское руководство решило проанализировать эти списки, неизвестно, однако, безусловно, они доказывали факт совершения многочисленных убийств. Вулкан объяснил Гнилке, что в конце войны его друг вынес эти документы из горящего здания полицейского суда в Бреслау и оставил их себе в качестве «сувенира». На момент разговора с журналистом Вулкан уже был членом Еврейского совета Франкфурта, но только теперь понял, что хранящиеся у него бумаги, как выразился репортер, «значимы в юридическом отношении».[490]
Когда Гнилка пришел домой, его жена Ингеборг заметила, что он «позеленел».[491] Вскоре, заручившись согласием Вулкана, журналист передал документы Бауэру. Это было первым звеном в цепи событий, результатом которых стал самый крупный и громкий процесс над нацистскими военными преступниками в ФРГ. Доверив роль прокуроров двум своим молодым коллегам, Бауэр не участвовал в суде официально, однако фактически был его движущей силой и, как никто другой, стремился к тому, чтобы соотечественники извлекли из происходящего нужный урок.
Осмысление этого урока, как и само разбирательство, которое продолжалось с 20 декабря 1963 года по 20 августа 1965-го, оказалось непростой задачей. Во Франкфурте-на-Майне состоялось 183 судебных заседания, на которых присутствовало в общей сложности более двадцати тысяч слушателей, включая многочисленных представителей германской и зарубежной прессы.
Двадцать два человека, представшие перед судом в качестве обвиняемых, не занимали высших должностей, в отличие от «звезд» Нюрнбергского процесса, и не принадлежали к числу основных организаторов холокоста, в отличие от Эйхмана. Они оказались на скамье подсудимых как члены среднего и низшего персонала Освенцима, чья ошеломляющая жестокость по отношению к заключенным могла быть подтверждена полученными от Гнилки списками, а также свидетельскими показаниями 211 выживших узников.[492]
По мнению Бауэра, обвиняемые оказались в положении «козлов отпущения», выбранных для того, чтобы на их примере разоблачить преступления, совершавшиеся от лица всего немецкого народа. «Вопрос в том, как быть с этими людьми», – говорил он, подразумевая не только подсудимых, но и все «50, точнее, даже 70 миллионов немцев».[493] Увеличив цифру, Бауэр, несомненно, имел в виду, что происходящее в зале суда может и должно открыть глаза жителям обеих Германий, Западной и Восточной. Им всем следовало понять: «Любой, кто так или иначе обслуживал машину убийства, является преступником – разумеется, если он знал о назначении этой машины».[494]
Судья Ханс Хофмайер смотрел на ситуацию в корне иначе: как он сам неоднократно повторял, для него это было «обычное уголовное дело, воспринимаемое вне исторического контекста».[495] Оглашая вынесенное решение, он подчеркнул: «Суд мог рассматривать только вину, являющуюся таковой с точки зрения Уголовного кодекса. То же, что считается виной в политическом, моральном и этическом аспектах, не было предметом рассмотрения» (так передал слова судьи репортер «Франкфуртер альгемайне цайтунг» Бернд Науманн, осветивший разбирательство наиболее подробно).[496] Иначе говоря, суд не стремился дать определение всему, что происходило в Освенциме, и провозгласить виновными всех солдат и офицеров, несших службу на этой фабрике смерти. В центре внимания были конкретные поступки конкретных людей.
Однако при всем своем стремлении вести дело беспристрастно, как любой другой уголовный процесс, Хофмайер порой не мог полностью скрыть своих эмоций, особенно если затрагивался вопрос о личной ответственности человека за соучастие в преступлениях режима. На попытки адвокатов представить подзащитных ни в чем не повинными судья язвительно отвечал: «Я еще не встречал ни одного служившего в Освенциме, который сделал бы там хоть что-нибудь».[497]
* * *
Если Эйхман в своей стеклянной будке резко выделялся среди всех присутствовавших в зале, то обвиняемые, представшие перед судом во Франкфурте, с первого взгляда производили совершенно иное впечатление. «Они сидят плечом к плечу, – писал Роберт Нойманн, – и как будто ничем особенно не отличаются от окружающих. <…> Кажется, что каждый обвинитель может сам оказаться обвиняемым, а каждый обвиняемый – простым почтальоном, банковским клерком или твоим соседом».[498]
В кинохрониках[499] того времени сохранились кадры, показывающие, как пятеро подсудимых идут по франкфуртской улице в перерыве между заседаниями: эти люди ничем не выделяются среди остальных пешеходов, если не считать того, что, когда один из них дотронулся до шляпы, приветствуя полицейского, тот отдал ему честь.
Власти ФРГ надеялись привлечь к ответственности по меньшей мере одного бывшего служащего Освенцима, который оказался бы бесспорно крупной фигурой. В результате длительного расследования, проводившегося на всей территории страны, обвинение достигло желаемого результата: в декабре 1960 года полиции удалось найти и арестовать Рихарда Бэра, последнего коменданта лагеря смерти. Его предшественники, Рудольф Хёсс и Артур Либехеншель, были казнены в Польше в 1947 и 1948 годах соответственно.
Бэру удалось скрыться и под вымышленным именем получить место лесника во владениях правнука Отто фон Бисмарка. Когда фотографию разыскиваемого военного преступника опубликовали в газете «Бильд», популярнейшем западногерманском таблоиде, один из коллег по работе узнал его и позвонил в полицию. 17 июня 1963 года, за шесть месяцев до начала разбирательства, Бэр умер в тюрьме.[500]
Лишившись обвиняемого, который должен был привлечь к себе внимание, прокуроры с удвоенным тщанием обратились к индивидуальной деятельности каждого из оставшихся фигурантов. Это подкрепило убежденность судьи Хофмайера в том, что, несмотря на историческую значимость рассматриваемого преступления, он должен вести уголовное дело, а не показательный политический процесс, какой стремился организовать Бауэр. Тем не менее в ходе разбирательств фактически были отчасти реализованы оба подхода.
Главным, что привлекло внимание средств массовой информации и многочисленной публики (в зале собралось немало бывших узников концлагерей), оказались откровенные описания жесточайших издевательств над заключенными. Освенцим был не просто убийственной машиной, действовавшей в строгом соответствии с заданным алгоритмом. Зло, которое там творилось, в значительной степени порождалось поступками отдельных людей и их наклонностями, зачастую садистскими. Как показал франкфуртский процесс, в Освенциме существовало множество способов умереть или выжить. Диапазон мучений, которым могли подвергнуть любого узника в любое время, был почти неограничен и определялся прихотью надзирателей – таких, как те, кто в 1963 году оказался на скамье подсудимых.
Благодаря свидетельствам, представленным обвиняющей стороной, вскоре стало очевидно, что некоторые из арестованных служащих Освенцима выполняли свою «работу» с особой жестокостью. Старший сержант СС Вильгельм Богер «прославился» в лагере как изобретатель «качелей», названных его именем. Лилли Майерчик, бывшая заключенная, работавшая секретарем в политическом отделе концлагеря, описала эту пытку так: заключенного перекидывали через перекладину, привязывали за руки и били хлыстом. По сути, «изобретение» представляло собой подобие козел, на которых избиваемый висел вниз головой.[501] Лилли и другие заключенные, работавшие вместе с ней, не видели ужасной процедуры, но слышали душераздирающие вопли жертв. Во время допросов узников подвергали и другим пыткам, в частности у них срывали с пальцев ногти.
Другой свидетель[502] рассказал, как Богер из пистолета расстреливал заключенных у «черной стенки». В один из дней он убил пятьдесят или даже шестьдесят человек (их выводили к нему по двое). Но, пожалуй, наиболее ужасающе прозвучали показания Дуни Вассерстром: на территорию лагеря въехал грузовик с еврейскими детьми, и мальчик лет четырех-пяти выскочил из кузова, держа в руке яблоко. В этот момент из здания политического отдела вышел Богер. Он схватил ребенка за ноги и ударил головой о стену. Вассерстром, как ей было приказано, смыла со стены пятно, а затем явилась в контору, чтобы что-то перевести. Богер сидел у себя в кабинете и жевал яблоко, которое выронил мальчик.[503]
Наибольшее число жертв приходилось на газовые камеры, однако существовали и другие формы убийства. Санитар Йозеф Клер, носивший, как и Богер, звание старшего сержанта, сделал предположительно около двадцати тысяч уколов смертоносного фенола, который ему поставлял майор СС доктор Виктор Капезиус, лагерный фармацевт.[504]
Среди жестоких убийц, сидящих на скамье подсудимых, выделялся капрал СС Освальд Кадук – сверхжестокий убийца. Напившись, он часто открывал по заключенным произвольную стрельбу. Кроме того, у него, как и у Богера, имелась «фирменная» форма зверства: он клал на горло человеку палку, становился на нее и стоял, пока жертва не умирала.[505]
Такие показания подкрепляли позицию обвинителей, которые утверждали: действия солдат и офицеров, работавших в Освенциме, не были автоматизированы. Австрийский врач Элла Лингенс[506] (ее арестовали за то, что она укрывала евреев и помогала им бежать) особо подчеркивала: служащие лагеря вели себя по-разному и подсудимых никто не вынуждал совершать те преступления, которые они совершали. Судья Хофмайер спросил:
– Вы хотите сказать, что в Освенциме каждый сам решал, творить ли ему добро или зло?
Доктор Лингенс, спасавшая евреев не только до ареста, но и в пору заключения («Яд ва-Шем»[507] впоследствии наградил ее за эти заслуги), ответила:
– Да, именно это я и хочу сказать.[508]
То же самое утверждал Бенджамин Ференц, выступавший на Нюрнбергском процессе как прокурор от американской армии в деле руководителей айнзацгрупп. Ханс-Гюнтер Серафим, историк из Геттингенского университета, участвовавший в нескольких процессах над военными преступниками как свидетель и эксперт, сказал во Франкфурте то же, что уже говорил прежде: для служащих СС отказ от участия в карательных операциях не был сопряжен с прямой угрозой жизни или здоровью. За десять лет исследований ученый не выявил ни одного случая, когда солдат или офицер понес бы наказание за то, что по той или иной причине уклонился от исполнения расстрельного приказа (правда, за неподчинение военнослужащего могли отправить на Восточный фронт, чего многие стремились избежать любой ценой).[509]
Обвиняемые и их адвокаты всячески старались опровергать подобные утверждения. «В Освенциме я был маленьким человеком и не решал, кому из заключенных жить, а кому умереть, – уверял Клер, говоря о своих смертоносных инъекциях. – Я лишь выполнял приказы врачей, причем с глубоким внутренним отвращением».[510] Капезиус, по собственной оценке, был всего-навсего хорошим фармацевтом: «Я никому в лагере не причинил вреда. Со всеми держался вежливо и дружелюбно, по возможности всем помогал».[511] Жена Капезиуса была наполовину еврейкой, и только «несчастливое стечение обстоятельств» привело его в Освенцим.
В зале франкфуртского суда и за его пределами порой разыгрывались поистине сюрреалистические сцены. Фрау Богер, жена изобретателя «богеровских качелей», заявила журналистам, что прожила со своим супругом «двадцать четыре счастливейших года», причем два из них – в Освенциме. «Представить себе не могу, чтобы он делал все те вещи, в которых его обвиняют», – сказала она. Конечно, ее муж был строгим, но убивать детей, когда у него самого есть дети… Разве может человек творить такое, а потом приходить домой и вести себя как хороший, любящий отец? Нет, фрау Богер это казалось «совершенно невообразимым».[512]
А жена первого коменданта Хёсса, по воспоминаниям доктора Лингенс, однажды «прислала в эту преисподнюю розовый свитер и открытку с наилучшими пожеланиями», очевидно, желая выразить сострадание к заключенным.
* * *
Цитируя наиболее ужасающие свидетельские показания, журналисты называли подсудимых «монстрами», «дьяволами» и «варварами», а сам Освенцим сравнивали с Дантовым адом.[513] Представление о тоне газетных статей можно получить уже при беглом просмотре их заглавий: «Садистские качели Освенцима», «Дьявол на скамье подсудимых», «Женщины заживо сгорели в печи», «Умирающих отдали на съедение крысам».[514]
Перечисляя подобные заголовки, Мартин Вальзер, известный своими зачастую спорными высказываниями о современных немцах и их восприятии нацистского прошлого страны, пишет: «Чем ярче живописуются зверства освенцимских палачей, тем больше расстояние между ними и нами. Мы точно знаем: все эти чудовищные преступления не имеют к нам отношения. Те, кто сидит на скамье подсудимых, на нас непохожи. Этот процесс нас не касается».[515] Вторя Арендт, считавшей, что демонизация Эйхмана позволяет прочим слугам рейха дистанцироваться от казненного функционера как от болезненного явления, Вальзер подчеркивает: «Освенцим был не адом, а нацистским концентрационным лагерем».[516]
Сходной позиции придерживался и Бауэр: за особую жестокость подсудимых справедливо выделили из числа других людей, обслуживающих машину смерти, однако это не значит, что те, кто не выказывал явных садистских наклонностей, ни в чем не виноваты. Большинству соотечественников прокурора такие отрезвляющие рассуждения пришлись не по вкусу. Никому не нравилось читать проскальзывающие в прессе замечания о том, как мало подсудимые отличаются от окружающих. Эхом подхватывая тезис Ханны Арендт о «банальности зла», корреспондент «Зюддойче цайтунг» Урсула фон Кардорфф так описывала франкфуртских обвиняемых: «Седые мужчины с ничем не примечательными лицами. Разве так выглядят соучастники убийства?»[517]
Зачитывая вердикт, Хофмайер в очередной раз подчеркнул: суд рассматривал уголовную вину каждого арестованного в отдельности, не ставя перед собой задачу вынести обобщенную политическую оценку всем, кто претворял в жизнь бесчеловечную политику нацистов. При этом судья опроверг заблуждение, согласно которому функционеры низшего звена не несут ответственности за свои действия. «Было бы ошибкой утверждать, – сказал Хофмайер, – что “маленькие люди” невиновны, поскольку инициатива совершения преступлений исходила не от них. В осуществлении плана массовых убийств они сыграли не меньшую роль, чем те, кто составлял этот план, сидя за письменными столами».[518]
Сам приговор[519] почти никого не удовлетворил. Пятеро обвиняемых вышли из зала суда на свободу: троих оправдали, а двоих выпустили на том основании, что они уже отбыли достаточное наказание, пока находились в следственном изоляторе. Богера, Клера и Кадука приговорили к пожизненному заключению, но Капезиус получил только девять лет, а остальные – еще меньшие сроки (один из подсудимых отправился в тюрьму всего на три года).
Бауэр счел такое решение слишком мягким. Но основной недостаток франкфуртского суда и других процессов над нацистами он усматривал даже не в этом, а в том, что к обвиняемым относились как к обычным преступникам. По его мнению, такой подход мог быть воспринят многими в качестве желанного подтверждения, что «в нацистском тоталитарном государстве лишь единицы ответственны за происходящее, меж тем как остальные имеют право считать себя затравленными жертвами, подневольными винтиками, которых вынуждают поступать наперекор собственной природе, – будто Германия была не охвачена фашизмом изнутри, а оккупирована внешним врагом».[520] «Такой взгляд не соответствует исторической реальности», – настаивал Бауэр.
Бернд Науманн, подробнейшим образом освещавший слушания для «Франкфуртер альгемайне цайтунг», а вскоре после завершения процесса написавший о нем книгу, тоже стремился отрезвить соотечественников, говоря: «Вина Освенцима и предпринятые попытки ее искупления несопоставимы. Суд общей юрисдикции в правовом государстве не может обеспечить ни должной кары организаторам и исполнителям преступлений, ни должного удовлетворения жертвам».[521]
Ханна Арендт написала к книге Науманна предисловие, развив в нем свои первоначальные идеи. В ключевом аспекте она согласилась с Бауэром: «“Массовое убийство” или “соучастие в массовом убийстве” – такое обвинение должно быть адресовано абсолютно каждому, кто когда-либо служил в любом из лагерей смерти, а также многим солдатам и офицерам СС, которые никогда там не бывали».[522] Итоговая оценка Ханны Арендт тому, что описал Науманн, такова: «Вместо всей истины… читатель найдет здесь моменты истины, однако такие моменты – единственная возможность разобраться в этом хаосе насилия».[523]
Многие жители Германии вовсе не хотели прозревать истину и вообще не следили за ходом судебного разбирательства. Для них многочисленные газетные репортажи из зала суда были источником все нарастающего раздражения. Один из читателей написал в редакцию франкфуртского таблоида «Абендпост»: «Черт подери! Хватит уже об Освенциме! Неужели вы думаете, что кто-то поверит, будто вам нужна правда? И вам, и вашим дорогим соотечественникам нужны только дешевые сенсации!»[524] Опрос, проведенный в начале 1965 года, когда суд был в самом разгаре, показал: 57 % граждан считают, что новые подобные процессы стране не нужны. В 1958 году такой ответ дали только 34 % респондентов.[525]
Эмми Бонхеффер (вдову лютеранского пастора и теолога Дитриха Бонхеффера, который поплатился жизнью за преданность антифашистским взглядам) такая ситуация не удивила. «Естественно, освенцимский процесс встречен без энтузиазма, – говорила она в письме другу. – Тем примечательнее то, что о ходе слушаний ежедневно, пускай и не всегда очень подробно, сообщают в газетах. Журналисты пишут статьи, которых не хочет читать почти никто. Во всяком случае, точно не те, кому они были бы особенно полезны».[526] Подобную мысль выразил и теолог Хельмут Гольвитцер. Он пояснил: франкфуртский процесс вызвал у жителей Германии ощущение дискомфорта, поскольку они почувствовали, что многие из них могли бы оказаться с обвиняемыми «в одной лодке».[527]
Все эти наблюдения соответствовали действительности, несмотря на стремление газетчиков изобразить подсудимых чудовищами и выродками. Ребекке Виттманн, историку из Университета Торонто, сложившаяся тенденция показалась закономерной: «Во многих отношениях пресса просто отражает курс, взятый организаторами процесса. Тем более что этот курс еще и удовлетворяет потребность публики в громких заголовках и ужасающих деталях».[528] Как бы то ни было, шумиха, поднятая средствами массовой информации, не могла заглушить беспокойства, снедавшего миллионы людей, которые инстинктивно чувствовали свою сопричастность преступлениям режима, хотя и уверяли, будто не имеют ничего общего с теми, кто предстал теперь перед судом.
* * *
«Прежде чем обвинять граждан ФРГ в том, что они слишком холодно реагируют на разоблачение нацистских преступников, необходимо разобраться в реалиях эры Аденауэра, – пишет Арендт. – На каждой ступени западногерманской пирамиды власти стоит немало бывших нацистов. Не случайно в народе говорят: “Мелкая рыбешка ловится, а крупная продолжает делать карьеру”», – последнюю фразу Арендт выделила курсивом.[529]
Наиболее яркий пример того, что первые шаги нового правительства не были начаты с чистого листа, являет собой Ханс Глобке.[530] При Гитлере он служил в Министерстве внутренних дел и занимался комментированием нюрнбергских расовых законов, лежавших в основе антисемитской политики нацистской Германии. То есть фактически Глобке подыскивал объяснения и оправдания геноциду евреев. Тем не менее в 1953 году он занял пост государственного секретаря: руководил ведомством федерального канцлера и был доверенным советником Аденауэра вплоть до ухода последнего с политической арены в 1963 году.
Бауэр неоднократно предпринимал попытки разобраться в нацистском прошлом Глобке. После того как имя госсекретаря было упомянуто в связи с делом Эйхмана, франкфуртский прокурор обратился за помощью к властям ГДР, которые располагали необходимыми документами. Но на все обвинения со стороны Востока правительство Аденауэра реагировало как на клеветническую кампанию в рамках холодной войны. Вскоре Бауэру пришлось передать материалы в прокуратуру Бонна, а там решили не давать делу ход.[531]
В 1963 году Верховный суд Германской Демократической Республики обвинил Глобке в военных преступлениях и преступлениях против человечества.[532] Западногерманское правительство назвало этот процесс фарсом, заявив, что следствие по делу Глобке уже проведено и все обвинения признаны беспочвенными. Более того, имеются сведения о том, что нынешний госсекретарь ФРГ в свое время спас нескольких людей от преследования.
Конечно же, Восточная Германия вела привычную пропагандистскую игру. В ряды ее собственного руководства тоже затесались слуги рейха. Но в этом отношении ГДР было все-таки далеко до западного соседа. В период с 1950 по 1962 год следственные органы ФРГ рассмотрели дела тридцати тысяч недавних нацистов. Однако на скамье подсудимых оказалось только 5426 человек, из которых 4027 были оправданы и лишь 155 признаны виновными в убийстве.[533] Это не удивительно, если учитывать те ограничения в западногерманском законодательстве, недовольство которыми неоднократно выражал Бауэр.
В 1958 году в Людвигсбурге открылся Центр по расследованию преступлений национал-социалистов. Его сотрудники могли проводить только предварительное следствие, а набрав материал, необходимый для возбуждения дела, обращались к прокурорам соответствующих регионов, которые зачастую бывали не заинтересованы в проведении процесса. Такая ограниченность полномочий препятствует работе Центра по сей день. «Мы до сих пор не можем непосредственно направлять дела в суд, – заявил заместитель директора Томас Вилль, – хотя должны иметь такое право».[534]
Тогда, в пятидесятые, правительство Аденауэра стремилось, с одной стороны, доказать серьезность своих намерений в отношении наказания нацистских преступников, а с другой – успокоить население, встревоженное тем, что расследования могут зайти слишком далеко. Поэтому полномочия следователей намеренно сужались.
Состояние умов было таким, что сотрудники людвигсбургского Центра ощущали по отношению к себе явную неприязнь. Подыскивая квартиру, они старались не говорить домовладельцу, где работают. Иногда таксисты отказывались везти их на службу – в здание девятнадцатого века, где раньше располагалась тюрьма. Со временем ситуация менялась, хотя и медленно. Центр работает и сегодня. Его сотрудникам удалось собрать внушительный архив исторических материалов о Третьем рейхе. Местные жители отзываются об этой организации в основном с одобрением и в какой-то мере даже с гордостью.
* * *
Освенцимский процесс вызвал всеобщее недовольство (одни просто инстинктивно не хотели, чтобы нацисты преследовались, другие, наоборот, считали, будто обвинители остановились на полпути), тем не менее его значение огромно. Он освещался в прессе настолько широко, что даже те жители Германии, которые проигнорировали сообщения о предыдущих процессах над нацистами, теперь были вынуждены уделить происходящему в зале суда хотя бы какое-то внимание. Изначально реакция публики в целом была негативной, однако постепенно люди переставали упорствовать в своем желании навсегда забыть о Третьем рейхе. Если по результатам социологического опроса 1965 года против новых процессов над нацистами было настроено 57 % населения, то в 1966 году эта цифра снизилась до 44 %.[535]
Ошеломив мир многочисленными свидетельствами ужасов Освенцима, франкфуртский процесс также явил собой редкий пример взаимодействия между странами, находящимися в состоянии холодной войны. Инициаторами этого прорыва стали Фриц Бауэр, гражданин ФРГ, и польский юрист Ян Зейн, который к тому времени уже организовал суд над преступниками Освенцима в своей стране (в результате чего был казнен первый комендант лагеря Рудольф Хёсс). Зейн неоднократно приезжал во Франкфурт, чтобы передать западногерманским коллегам свидетельские показания и другой материал, собранный в Польше.
Кроме того, он помог франкфуртцам в организации выставки «Освенцим: Фотографии и документы», которую открыли 18 ноября 1964 года (в разгар судебных разбирательств) с целью внушить молодому поколению, что «подобное никогда больше не должно повториться»,[536] – так выразился Карл Теш, организатор мероприятия, пользовавшийся активной поддержкой со стороны Бауэра. Что же касается Зейна, то он привез во Франкфурт необходимые экспонаты из музея, расположенного на территории бывшего лагеря.
Чуть позже, в декабре 1964 года, Зейн организовал для западногерманской делегации судей, прокуроров, адвокатов и представителей правительства поездку в Освенцим, в ходе которой участники франкфуртского процесса смогли осмотреть место событий и убедиться в достоверности свидетельских показаний. То, что такой визит состоялся, было большим достижением в пору, когда в отношениях между Польшей и ФРГ еще не спала послевоенная напряженность. Чтобы преодолеть политические барьеры, Зейн и Бауэр вели переговоры с правительствами своих стран, надеясь, что планируемая поездка улучшит взаимодействие между двумя государствами не только в сфере преследования нацистских преступников, но и за ее пределами. «Пусть это поможет двум народам сблизиться», – говорил Зейн.[537]
Франкфуртский процесс имел резонанс не только в политике. Драматург Петер Вайс написал пьесу «Дознание: Оратория в 11 песнях», которую назвали драматической реконструкцией разбирательства по освенцимскому делу. Зрители впервые увидели ее 19 октября 1965 года (всего через два месяца после завершения слушаний) одновременно в тринадцати театрах обеих Германий. В тот же вечер в Олдвичском театре Лондона Королевская шекспировская компания устроила чтение пьесы под руководством режиссера Питера Брука.
В основу произведения легли выдержки из свидетельских показаний. Один из персонажей, едва не погибший от рук прославленного лагерного садиста Богера, говорит:
Когда меня сняли с «качелей», Богер сказал: «Вот теперь мы подготовили тебя к вознесению на небо». Меня отвели в одиннадцатый блок и бросили в камеру. С часу на час я ожидал расстрела. Сколько я был там дней, не помню. Нижняя часть туловища превратилась в сплошной нарыв. Почти все время я валялся без сознания Вместе с группой заключенных меня привели потом в баню. Когда мы разделись, каждому из нас на груди написали синим карандашом лагерный номер. Я понял, что это смертный приговор. Мы стояли голые, построившись в ряд, и ждали. Пришел рапортфюрер. Он спросил, сколько заключенных надлежит сегодня списать как расстрелянных. После его ухода нас опять пересчитали. Оказалось на одного человека больше, чем надо. В лагере я, как правило, всюду становился последним. Меня выпихнули из строя и дали одежду. Я ждал, что меня отведут обратно в камеру, чтобы расстрелять со следующей партией, но санитар-заключенный забрал меня в лазарет. Вот так случалось, что кому-то везло и он оставался в живых. Среди немногих счастливчиков оказался и я.[538]Бернхард Шлинк, родившийся в 1944 году, принадлежал к послевоенному поколению. Начиная с 1960 года молодые немцы ставили под сомнение то, как жили и во что верили их родители, а в 1968 году солидарно со своими сверстниками из других стран Европы и США вышли на улицы, чтобы открыто выразить недовольство действующей властью. Если в других государствах студенческие волнения были вызваны войной во Вьетнаме, нарушением гражданских прав и тому подобными причинами, то нестабильная ситуация в ФРГ объяснялась, кроме всего прочего, особым историческим фактором.
«События 1968 года нужно рассматривать как явление интернациональное, но в Германии их необходимо понимать еще и как своеобразный итог франкфуртского процесса»,[539] – утверждает Шлинк. Профессор права и известный писатель, он не сомневается в значимости суда над преступниками Освенцима: «Это разбирательство произвело на меня и моих ровесников гораздо более глубокое впечатление, чем дело Эйхмана. Конечно, за тем, что происходило в Иерусалиме, мы тоже внимательно следили: в газетах писали об этом каждый день. Но Освенцимский процесс был для нас гораздо ближе». Поскольку подсудимые не носили высоких чинов, немецкая молодежь тех лет задавалась вопросом: каково же тогда было их начальство?
Ответ Шлинк пытался найти в автобиографии Рудольфа Хёсса, которую тот написал по настоянию Яна Зейна незадолго до казни. Юного Шлинка до глубины души поразил тон воспоминаний освенцимского коменданта: «Он писал о себе как о служащем, поглощенном выполнением сложного задания». Когда в лагерь поступила большая партия евреев из Венгрии, Хёсс занервничал. «О боже! Где же мы их разместим, как будем убивать, как сожжем?» – так запомнились его слова Шлинку.
На будущего писателя лагерный комендант произвел впечатление «технократа», бесстрастно решавшего задачи, которые ставил перед ним преступный режим. «Эта книга привела меня в ужас», – говорит Шлинк. В ней ощущалась та «подлинность», какой не было в показаниях других нацистов, попадавших на скамью подсудимых позднее и изо всех сил пытавшихся себя обелить.
Еще один вопрос, мучивший молодых немцев шестидесятых годов, заключался в том, какую роль играли в национал-социалистическом государстве их родители, другие родственники и старшие знакомые. Раньше, в годы детства Шлинка, об этом просто молчали. «Но под нажимом моего поколения, – пишет он, – многое вышло наружу». Открылось немало темных тайн.
Тенденция к самоисследованию, наметившаяся в германском обществе после франкфуртского суда и затронувшая в первую очередь молодежь, заметно усилилась десятилетие спустя, когда по телевидению показали американский мини-сериал «Холокост»[540] 1978 года, изображающий жизнь еврейской семьи и амбициозного юриста, который вступает в СС и становится военным преступником.
Открытие собственного прошлого не может произойти в один момент. Это сложный процесс, который развивался в Германии в значительной степени благодаря усилиям Бауэра. Молодой Шлинк восхищался им, как и многие другие студенты-юристы.
Однако Петер Шнайдер, еще один член молодежного движения 1968 года, впоследствии ставший крупным писателем, узнал о Бауэре и его роли в Освенцимском процессе только в восьмидесятые годы, когда работал над романом о сыне печально известного лагерного доктора Йозефа Менгеле.[541] Тем не менее франкфуртские судебные разбирательства шестидисятых годов произвели на Шнайдера сильнейшее впечатление. Знакомство с материалами дела в той форме, в какой представил их Петер Вайс, автор «Дознания», стали важной ступенью личностного развития молодого человека, который вскоре оказался в авангарде протестного движения 1968 года.
Шлинк в шестидесятые годы не был активным участником демонстраций, однако та эпоха заронила в его душе семена, которые проросли десятилетия спустя. Самое известное произведение писателя – роман «Чтец», написанный в 1995 году и сразу же ставший бестселлером (после публикации романа на английском Шлинка пригласили на американское телевидение в «Шоу Опры Уинфри»).
Сюжет книги таков: пятнадцатилетний юноша, от чьего лица ведется повествование, влюбляется в трамвайную кондукторшу вдвое старше себя. Между ними завязывается роман, но потом женщина исчезает. Проходят годы. Герой, будучи студентом юридического факультета, приходит на заседание суда, где слушается дело бывших надсмотрщиков концентрационного лагеря. На скамье подсудимых молодой человек видит свою возлюбленную. Фабула проста, но в нравственном отношении картина не так однозначна, как может показаться. Вместе с автором мы идем извилистыми тропами вины и предательства.
«Чтец» – не автобиографический роман в строгом смысле слова, хотя автобиографические мотивы в нем присутствуют. В Гейдельберге, в старших классах гимназии, у Шлинка был любимый учитель английского языка, во время войны служивший в СС. Восторженный ученик предпочитал верить, что такой замечательный человек не мог быть замешан ни в чем недостойном. Но когда учитель уволился, Шлинк узнал нечто, заставившее его горько разочароваться. Какие именно сведения он получил, писатель до сих пор говорить не желает: информация попала к нему конфиденциально. В любом случае он оказался в ситуации, знакомой многим тогдашним молодым людям. «Это часто бывало: ты кого-то любишь, кем-то восхищаешься, – подытоживает Шлинк, – а потом делаешь открытие. Многим пришлось пережить такое с гораздо более близкими людьми: с отцом или дядей». Подобные разочарования – тоже часть наследия Освенцима и той эпохи, которая его породила.
* * *
Уезжая в заграничную командировку, Ян Зейн, директор краковского Института судебной экспертизы, обыкновенно передавал своей младшей коллеге Марии Козловской ключи от всех ящиков стола, кроме среднего, где хранились личные документы. Но однажды, отправляясь во Франкфурт (это было в конце 1965 года), он изменил своей привычке. «В тот раз, последний, он отдал мне ключ и от среднего ящика тоже, – сказала Мария и, как будто продолжая размышлять над странным поступком начальника, прибавила: – Теперь у меня были все ключи».[542]
Этот случай так запомнился Козловской, потому что из Франкфурта Зейн не вернулся. 12 декабря 1965 года, перед тем как лечь в постель, он попросил своего телохранителя (приставленного к нему польской компартией еще и затем, чтобы наблюдать за его общением с иностранцами) сходить за сигаретами. Когда телохранитель вернулся, 56-летний Зейн был уже мертв.
Козловска говорит, что краковские коллеги, потрясенные и глубоко опечаленные случившимся, поговаривали, будто Зейну помогли умереть. Правда, большинство сотрудников Института, включая саму Козловску, сочли эту версию необоснованной. Директор много курил, и у него были серьезные проблемы с сердцем. Вероятно, причиной смерти стал инфаркт. Но тогда почему же перед отъездом Зейн, вопреки обыкновению, передал Козловской все ключи? Было ли это предчувствием?
Несколько раз Зейну присылали анонимные письма с угрозами, отпечатанные на машинке или состоящие из вырезанных букв. На немецком были только некоторые из них, но Козловской казалось, что и те, которые написаны по-польски, составлены немецкоязычными людьми. Вероятно, кому-то не нравилось, что директор краковского Института судебной экспертизы так упорно преследует палачей Освенцима и других военных преступников.
При этом у себя на родине Зейн был гораздо менее широко известен, чем Бауэр в Германии. Вести в суде освенцимское дело генеральный прокурор Гессена поручил более молодым коллегам, однако открыто участвовал в общественных дискуссиях и неоднократно выступал на телевидении, говоря о необходимости воздать по заслугам тем, кто ответственен за массовые убийства. Когда слушания начались, Бауэр заявил: «Этот процесс должен показать миру, что новая Германия, новая демократия желает защитить достоинство каждого человека».[543] Впоследствии он не скрывал своего возмущения тем, как ведут себя на суде обвиняемые: «Если бы хоть один из подсудимых… обратился к свидетелям, которые выжили, потеряв всех своих близких, с простым человеческим словом… в зале стало бы легче дышать».[544] Но это слово так и не было произнесено.
Бауэр стремился навести порядок в рядах западногерманских судей и прокуроров, среди которых оставалось немало бывших нацистов. Возмущенный тем, что люди его поколения как будто равнодушны к такого рода преемственности, он уделял все больше внимания общению с молодежью и легко находил с нею общий язык: в гостиных или в барах нередко подсаживался к студенческим компаниям и вел с ними длинные беседы, потягивая вино и выкуривая сигарету за сигаретой. В 1968 году, когда молодежное движение достигло апогея в своем развитии, клеветники обвинили Бауэра в подстрекательстве к насилию.[545]
Слова и поступки гессенского прокурора многим приходились не по нраву. Он получал гораздо больше угрожающих писем, чем Зейн. Недоброжелатели даже звонили ему, хотя его номер не публиковался в справочнике. «Выходя из своего кабинета, – признавался он, – я попадаю в чужую враждебную страну».[546] Пока шел освенцимский процесс, на стене дома, где жил Бауэр, кто-то начертил свастику. Ее стирали, но она каждый раз появлялась снова. У себя в квартире прокурор держал пистолет калибра 6,35 мм, из соображений безопасности к нему приставили телохранителя. 14 октября 1966 года в газете «Франкфуртер рундшау» написали о предотвращении запланированного покушения.[547]
Но Бауэра ничто не останавливало. Он продолжал открыто говорить о необходимости проведения новых процессов над бывшими нацистами, утверждая, что Германия по-прежнему охвачена «жгучим антисемитизмом».[548] В 1967 году благодаря Бауэру на Франкфуртской книжной ярмарке появилась «Коричневая книга», опубликованная в ГДР в 1956 году. Она содержала имена примерно 1800 высокопоставленных жителей ФРГ, которые, по имеющимся у автора сведениям, занимали руководящие должности в Третьем рейхе. Правительство Западной Германии объявило книгу клеветнической и запретило ее распространение, однако Бауэр добился отмены запрета.[549]
Пост канцлера в ту пору занимал Курт Георг Кизингер, вступивший в Национал-социалистическую партию в 1933 году. В годы войны он работал в Министерстве иностранных дел, в отделе пропаганды. В стране, где высшую государственную должность занимал бывший нацист, царила атмосфера, категорически не соответствующая духу выступлений Бауэра.
Генеральный прокурор Гессена подчеркивал: он не осуждает соотечественников за то, что они не смогли свергнуть режим Гитлера. И все же многие, по его мнению, несут личную ответственность за произошедшее. В одном из последних интервью Бауэр сказал, что, если в стране воцарился бесчеловечный режим, никто не обязан быть героем, но каждый обязан «оказывать злу хотя бы пассивное сопротивление, уклоняться от совершения преступлений»: «Мы считаем такое неповиновение долгом любого гражданина и преследуем бывших нацистов на основании этого нашего убеждения. Подобные процессы – вклад в победу над преступными режимами прошлого, настоящего и будущего».[550]
1 июля 1968 года, за пару недель до своего шестьдесят пятого дня рождения, Бауэр был найден мертвым в ванне. Смерть наступила приблизительно за сутки до того, как тело нашли. Сразу же возникли версии об убийстве и самоубийстве, однако судебный медик счел их необоснованными. Как и Зейн, Бауэр был заядлым курильщиком. К тому же он страдал хроническим бронхитом и, по данным, представленным на посвященной ему выставке 2014 года, иногда принимал снотворное одновременно с алкоголем. Предупреждения врачей прокурор игнорировал. Однажды репортер спросил его:
– Сколько сигарет в день вы выкуриваете?
Бауэр ответил вопросом на вопрос:
– Сколько времени уходит на одну?
– Минут пять, наверное.
– Тогда разделите восемнадцать часов на пять минут.[551]
Как бы то ни было, не все согласились внести Бауэра в список жертв вредных привычек. Некоторые из тех, кто не поверил официальной версии, получили возможность высказаться в документальном фильме, снятом в 2010 году Илоной Циок. Прежде всего подозрение вызывает то, что тело не было подвергнуто вскрытию. Рольф Тифенталь, племянник Бауэра, признает: «Строго говоря, это не доказано, но у него было много врагов, которые могли просто убить его или заставить покончить с собой. Оснований имелось более чем достаточно».
Смерть Фрица Бауэра, как и его жизнь, до сих пор остается в Германии предметом споров. Организаторы посвященной ему выставки, которая открылась в 2014 году в Еврейском музее Франкфурта-на-Майне, очевидно, приняли официальное заключение судебной экспертизы. Илона Циок в своем фильме никого открыто не обвиняет во лжи, поскольку «для этого нет достаточных доказательств». Но на прямо поставленный вопрос: «Считаете ли вы, что Бауэра убили?» – она ответила: «Да».[552]
Роберт Кемпнер, немецкий еврей, эмигрировавший в США и участвовавший в Нюрнбергском процессе на стороне обвинения, сказал на похоронах Фрица Бауэра: «Он был величайшим представителем Федеративной Республики. В отличие от тех многих, кто страдал близорукостью, он знал, как помочь Германии, и помогал ей».[553] В еженедельнике «Цайт» написали: «Для восстановления нашей репутации за рубежом он сделал больше, чем мы заслуживаем».[554]
До недавнего пробуждения интереса к личности Фрица Бауэра многие немцы ничего о нем не знали, как и поляки о Яне Зейне. Инициатора польских Освенцимских процессов сегодня помнят немногие, если не считать сотрудников Института судебной экспертизы, названного его именем. Кажется, никто не заметил, что два выдающихся юриста, которые объединили усилия, чтобы бывшие нацисты предстали перед судом во Франкфурте, умерли в этом же городе с промежутком в два с половиной года при обстоятельствах, не выясненных по сей день. Возможно, теории заговоров ошибочны, но зловеще странное совпадение не может не бросаться в глаза.
Глава 11 Отрезвляющая пощечина
Мы были слабы, и потому нам приходилось идти на сильные меры. А самая сильная мера заключалась в том, чтобы отправиться туда, где сосредоточена вражеская мощь, и сказать правду.[555]
С. КларсфельдБеата Кларсфельд была не из тех, кого с детства готовили на роль революционера.[556] Она родилась в Берлине 13 февраля 1939 года, за несколько месяцев до вторжения германской армии в Польшу, и, конечно же, плохо помнит войну. Помнит только, как совсем незадолго до поражения рейха читала в детском саду стишки, прославляющие фюрера.
Отец Беаты, Курт Кюнцель, был призван на военную службу и до 1940 года служил во Франции, а в 1941 году его перевели на Восточный фронт. Там он, к счастью, заболел двусторонней пневмонией, благодаря чему вернулся на родину и стал служить бухгалтером в военном учреждении. После нескольких месяцев британского плена Кюнцель вывез жену и дочь в деревню, где они укрывались во время бомбежек германской столицы войсками союзников. В конце 1945 года семья вернулась в Берлин. Девочка пошла в школу, а после уроков играла с друзьями в прятки на развалинах.
По ее собственным воспоминаниям, в младших классах Беата была старательной и дисциплинированной ученицей. «О Гитлере нам в те дни ничего не говорили», – вспоминает она. То, что происходило в годы его правления, и родители, и учителя обходили молчанием. Не будучи членами НСДАП, мать и отец Беаты в свое время голосовали за Гитлера, как и многие их соотечественники. «При этом они ни в коей мере не чувствовали себя ответственными за преступления нацистов», – отмечает дочь. Более того, они были единодушны с соседями и знакомыми, которые оплакивали свои потери, не выражая «ни капли понимания или сочувствия по отношению к другим народам». Вместо честного анализа событий недавнего прошлого подрастающая Беата слышала одно: «Мы проиграли войну и теперь должны работать».
В отличие от родителей, поддерживавших Христианско-демократический союз, который возглавлял канцлер Аденауэр, Беата уже подростком стала сторонницей социал-демократов. Правда, на ее выбор повлияло не столько понимание их платформы, сколько «молодое открытое лицо Вилли Брандта, так не похожее на лица других политиков». У Беаты развивалось типичное для молодых людей неприятие того, что она называла «душной атмосферой» родительского дома. Отец много пил, а мать убеждала девушку заняться поиском подходящего мужа, но Беата, окончив коммерческое училище, устроилась стенографисткой в крупную фармацевтическую фирму, чтобы накопить денег и начать самостоятельную жизнь.
В 1960 году, в возрасте двадцати одного года, она приехала во Францию – поучить язык и подзаработать. Несмотря на то что ей пришлось «спать на отвратительном чердаке, кишащем пауками», Беата вскоре влюбилась в Париж: он показался ей живее и элегантнее Западного Берлина.
11 мая 1960 года, через два месяца после приезда, она стояла в метро, на станции «Порт-де-Сен-Клу», и вдруг заметила, что на нее смотрит темноволосый молодой человек. «Вы англичанка?» – спросил он. Как Беата узнала впоследствии, это была уловка. Так французы частенько знакомились с немецкими девушками: отрицательный ответ использовался в качестве отправной точки для флирта. Серж Кларсфельд получил номер телефона Беаты Кюнцель прежде, чем сойти на своей остановке (возле Института политических исследований, где он дописывал дипломную работу, планируя стать профессором истории).
В тот же день в Буэнос-Айресе израильская разведка приступила к операции по похищению Эйхмана. Тогда ни Беата, на Серж об этом, конечно же, не знали, но в 2013 году, сидя в парижской квартире своего сына и вспоминая пройденный путь, они не могли не признаться, что совпадение кажется им весьма примечательным. Двое снискавших славу (или, в зависимости от точки зрения, печальную известность) непримиримых преследователей нацистов, познакомились в день начала знаменитой аргентинской операции «Моссада».
* * *
Через три дня состоялось первое свидание Беаты с Сержем. Они посмотрели фильм «Никогда в воскресенье»,[557] а потом сели на лавочку в Булонском лесу и стали разговаривать. Именно тогда Беата узнала, что Серж – еврей, чей отец погиб в Освенциме. Молодая немка, которая, по ее собственному признанию, «имела смутное представление об истории своей страны», оказалась не совсем готова такое услышать. «Эта новость меня удивила, взволновала и в каком-то смысле немножко отпугнула, – сказала Беата Кларсфельд через много лет. – В Берлине мне нечасто доводилось слышать о евреях что-нибудь хорошее. “Как это меня угораздило?” – подумала я».
Но Серж не растерялся. В последующие дни и месяцы он доброжелательно объяснял девушке то, чего она не знала. «Мы разговаривали не переставая, – вспоминает Беата. – Он помог мне войти в новый мир истории, искусства, философии». Особенно много Серж рассказывал ей о недавнем прошлом ее же страны – «об ужасающей реальности нацизма», как выразилась она сама.
С этой реальностью Серж Кларсфельд был знаком не понаслышке. Его родители, Арно и Раиса, приехали во Францию из Румынии в двадцатые годы. Арно родился в Армении, Раиса – в Бессарабии. Серж появился на свет, когда они гостили у родственников в Бухаресте. Отец воевал против германской армии в составе французского Иностранного легиона, куда записался добровольцем. В 1940 году, после поражения Франции, он бежал из лагеря военнопленных и в Ницце присоединился к движению Сопротивления. Но даже если б он не был партизаном, семья все равно была бы в опасности – из-за еврейского происхождения.
В июне 1943 года гауптштурмфюрер СС Алоиз Бруннер[558] прибыл во Францию для «окончательного решения еврейского вопроса» и вскоре, по имеющимся данным, отослал на Восток 25 000 человек. Тесно сотрудничая с Эйхманом, он уже провел более масштабные операции такого сорта в своей родной Австрии, а также в Греции. Узнав о начавшейся охоте на евреев в Ницце, Арно Кларсфельд устроил у себя в квартире тайный чуланчик, где могли укрыться все члены семьи.
Вечером 30 сентября 1943 года нацисты окружили район, где жили Кларсфельды, и стали прочесывать дом за домом. Когда они добрались до соседей, из-за стены послышались крики. Одиннадцатилетняя девочка имела безрассудство попросить, чтобы офицер гестапо предъявил удостоверение. Тот сломал ей нос пистолетом. Поднялась еще большая паника. Отец девочки попытался через окно позвать на помощь французскую полицию: «Спасите нас! Мы французы!»
Слушая все это из укрытия, Арно изменил первоначальное решение. «Если нас арестуют, – сказал он жене, – я выживу, потому что я сильный, а вы с детьми можете погибнуть». Раиса хотела его остановить, но он уже выбрался из чулана. Как только в дверь постучали, Арно открыл. Серж услышал, как немец спросил по-французски:
– Где ваша семья?
– Жена и дети уехали в деревню. Мы проводим дезинфекцию квартиры.
Нацисты немедленно начали обыск. Один из них даже открыл тот шкаф, за фальшивой задней стенкой которого было устроено убежище, но только поворошил одежду.
Годы спустя, говоря об охоте на евреев, устроенной Бруннером во Франции, Серж Кларсфельд писал: «Я хорошо его знал, хотя ни разу не видел».[559] В тот вечер тонкая фанеря была «единственным, что стояло между мной и им». Вспоминая этот момент, Кларсфельд отметил, что не может быть уверен, что обыск в квартире проводил сам Бруннер. «Он мог быть там и лично, но у меня нет тому доказательств», – сказал он. Бруннер руководил группой, состоящей из других австрийских офицеров СС, а также французов, которые за деньги помогали гестапо. Но, кто бы ни вошел тогда в квартиру Кларсфельдов, именно Бруннер дирижировал облавами на евреев и их доставкой в транзитный лагерь Дранси, откуда они отправлялись в Освенцим.
Раиса с детьми бежала в Верхнюю Луару – регион в центральной части юга Франции. Они поселились в городке Сен-Жюльен-Шаптёй, население которого, по мнению Сержа, очень хорошо относилось к евреям. Однако на всякий случай Раиса постаралась скрыть свое происхождение. Сказав, что муж находится в лагере военнопленных, она отдала сына и дочку в местную католическую школу.
Когда облавы в Ницце прекратились, Раиса привезла Сержа и его сестру Таню в прежнюю квартиру. Но расслабляться было рано. «Если придут немцы, – говорила мама детям, – вы спрячетесь в шкафу, а я открою».
История семьи Кларсфельдов заставила Беату Кюнцель задуматься о том, что ей следовало понять как немке. Не ощущая никакой личной связи с нацизмом, девушка прочувствовала груз вины, лежащий на плечах немецкого народа, крошечной частью которого была и она сама. Ей даже пришло в голову: «Может, перестать считать себя немкой?» Но Серж отверг эту мысль как чересчур простую. «Оставаться немцем после нацизма – это было тяжело и вместе с тем по-своему будоражило», – заключает Беата.
Новый друг рассказал ей не только о своей сестре, но и о Гансе и Софи Шолль – немцах, организовавших в Мюнхене группу протеста, члены которой распространяли антифашистские листовки. Брата и сестру Шолль быстро арестовали, осудили и отправили на гильотину.
Для Беаты это послужило примером того, что не все ее соотечественники покорились гитлеровскому режиму. «Тогда, в сорок третьем, эта отчаянная акция могла показаться совершенно безрассудной и бессмысленной, но к тому времени, когда о ней узнал Серж, а от него и я, ее значение чрезвычайно возросло, – пишет Беата Кларсфельд. – В них я увидела себя».
Однако это произошло не сразу. 7 ноября 1963 года влюбленные поженились и занялись на первый взгляд «нормальной» работой: Серж получил должность заместителя директора Французской телерадиовещательной компании, а Беата стала секретарем-переводчиком в Союзе франко-германской молодежи – новой организации, поддерживаемой одновременно канцлером Аденауэром и президентом де Голлем. Задача этого альянса заключалась в том, чтобы завязать между соседями, недавно враждовавшими, новые многоуровневые связи.
Как Беата вспоминала позднее, тогда они с Сержем еще не вышли на свою дорогу. «Мы готовились к обыкновенной жизни, какую вели тысячи других молодых пар», – вспоминает она. В 1965 году у нее родился мальчик. Его назвали Арно в честь отца Сержа.
* * *
Вскоре стало ясно, что обыкновенной жизнь Кларсфельдов не будет. Беата все больше тяготела к левым идеям и не желала этого скрывать. Теперь она не только поддерживала социал-демократов, но и протестовала по поводу запрета для граждан ФРГ воспринимать ГДР как полноценного партнера. Однажды на работе ей поручили подготовить руководство для немецких девушек, приезжающих во Францию учиться и работать. В разделе «Франко-германские культурные связи» Беата упомянула дружбу французской и восточногерманской молодежи. Западногерманский редактор немедленно потребовал вычеркнуть этот пункт, усмотрев в нем открытую провокацию. «Вы с ума сошли!» – сказал он Беате.
Кроме всего прочего, она еще и публично выражала свои феминистские взгляды. В статье для книги «Женщины в двадцатом веке» она пишет: «Мне захотелось понять, почему многие молодые немки, в числе которых я сама, покидают нашу страну». Бесспорно, немаловажную роль здесь играло желание освоить иностранный язык, погрузиться в другую культуру. «Но, полагаю, – заявляет Беата Кларсфельд, – нам удалось выявить и другую причину – более значимую, хотя и не всегда осознаваемую. Это стремление быть свободной».
Роль женщины в немецком обществе она определила так: «После окончания войны мы сделали большой вклад в строительство новой Германии, которая оказалась не такой уж и новой. В частности, это проявляется в том, что теперь мы, как и в прошлом, не занимаем сколько-нибудь заметного места в политике». Беата Кларсфельд с тревогой отмечала тенденцию, грозящую немецкой женщине повторным «одомашниванием», то есть ограничением ее роли воспроизводством населения и заботой о комфорте мужа.
Подобные рассуждения не могли понравиться консервативному начальству Беаты, которое подчинялось совету директоров, включающему по меньшей мере двоих министерских чиновников из числа бывших нацистов. В 1966 году, когда Беата вышла из отпуска по уходу за ребенком, ей сообщили, что ее должность в отделе информации «сокращена из соображений экономии бюджета». Пришлось снова стать обычной секретаршей: печатать на машинке и отвечать на звонки.
Но не это событие превратило Беату из рядовой служащей с несколько «неудобными» для начальства взглядами в борца, затеявшего крестовый поход ради очищения своей страны от пережитков нацистского прошлого. В том же 1966 году Курт Георг Кизингер занял пост канцлера ФРГ,[560] несмотря на то что в 1933-м он вступил в Национал-социалистическую партию, а во время войны вел пропаганду гитлеризма как заместитель директора Комитета по радиовещанию при Министерстве иностранных дел. В свое оправдание Кизингер говорил, будто в юности был ослеплен нацистской доктриной, но впоследствии прозрел и руководство даже обвиняло его в приверженности антифашистским взглядам.
Пока новый канцлер готовился к вступлению в должность, вокруг раздавались протестующие возгласы. Философ Карл Ясперс заявил: «То, что десять лет назад казалось немыслимым, теперь происходит, почти не встречая сопротивления». Признавая неизбежность проникновения некоторых бывших нацистов в ряды высокопоставленных чиновников, он подчеркивал: «Если бывший нацист становится главой государства, это означает, что отныне нацистское прошлое никому ни в чем не является помехой».[561]
Беата восприняла восшествие Кизингера как личное оскорбление. Вспомнив о Гансе и Софи Шолль, которые пожертвовали жизнями, сопротивляясь гитлеровскому режиму, она решила, что тоже должна решиться на какой-то шаг, причем немедленно, даже если шансы на успех равны нулю. «Главное, – убеждена она по сей день, – это быть смелым, слушать голос собственной совести, смотреть на мир открытыми глазами и действовать».[562]
В январе 1967 года, когда Кизингер впервые прибыл с официальным визитом в Париж, Беата опубликовала серию статей в газете «Комба», возникшей во время войны как печатный орган Сопротивления. «Поскольку я немка, восхождение Кизингера на пост канцлера вызывает у меня глубокую скорбь, – писала Кларсфельд. – Имея в виду Эйхмана, социолог Ханна Арендт говорила о “банальности зла”. Кизингер, на мой взгляд, – воплощение респектабельности зла». В следующей статье появилось еще более смелое заявление: «Если бы Советский Союз увидел в лице нового канцлера ФРГ угрозу германской демократии и захотел с ним покончить, это, бесспорно, было бы оправданным шагом в глазах всего мира».
30 августа 1967 года, всего через месяц после выхода этой статьи, Беату уволили из Союза франко-германской молодежи. Когда она уходила, никто из недавних сослуживцев не пожал ей руку и не пожелал удачи. Они хотели показать начальству, что не имеют с ней ничего общего.
Беата поспешила домой, к Сержу, который тоже не засиживался подолгу на одном месте. В то время он работал в международной компании, производящей зерновые продукты питания. В отличие от жены он пока не выражал своих взглядов публично, однако смысл того урока, который преподал ему отец, становился для него все более и более очевидным. В 1965 году Серж посетил Освенцим. «С Запада тогда никто туда не ездил, – вспоминает он десятилетия спустя. – Но я хотел ощутить связь с отцом, увидев место его смерти».
В лагере Сержу сообщили, что Арно погиб почти сразу же по прибытии: ответил на удар, который нанес ему капо (заключенный, прислуживающий эсэсовцам), и поплатился за это жизнью. Восхищенный мужеством отца, Серж дал себе клятву всегда чтить память жертв холокоста и защищать еврейское государство.[563]
5 июня 1967 года на Ближнем Востоке вспыхнул вооруженный конфликт, и Кларсфельд отправился в Израиль, чтобы записаться добровольцем. К моменту его прибытия Шестидневная война уже почти завершилась, и участвовать в боевых действиях ему не пришлось, но то, что он проявил солидарность со своим народом, было для него важно.
Эти события стали фоном для того кризиса, который разразился в семье Кларсфельдов, когда Беата потеряла работу. Друзья советовали молодым супругам смириться с произошедшим и спокойно жить дальше, но Серж был категорически против. «Разве я могу промолчать в ответ на твое увольнение? – сказал он жене. – Ты первая женщина во Франции, которая сказала правду о нацистах, с тех пор как закончилась война. Я просто обязан протестовать».[564]
* * *
Кларсфельды затеяли продолжительную битву, стремясь доказать несправедливость увольнения Беаты. Поскольку теперь у нее было гражданство Франции, она обратилась к французским властям, однако особого сочувствия не встретила. Тем не менее задача Кларсфельдов заключалась не только в том, чтобы оправдать ее поведение, но и в том, чтобы продолжить обличение канцлера ФРГ как бывшего нациста.
Серж взял на работе отпуск и поехал в Восточный Берлин. Министерство внутренних дел ГДР предоставило ему доступ к документам, в которых упоминалась деятельность Кизингера в качестве чиновника Третьего рейха. Скопировав наиболее важные из них, Серж вернулся в Париж с толстой папкой. Большая часть полученных материалов была использована в книге, которую Кларсфельды поспешно опубликовали, сделав в ней особый упор на «заслугах» Кизингера как координатора нацистской пропаганды.
В дальнейшем восточногерманское руководство еще не раз помогало Кларсфельдам в ведении кампаний против бывших нацистов, занимавших видные посты в ФРГ. Беату и Сержа порой обвиняли в том, что они действуют в интересах властей ГДР, которые приветствовали любую возможность настроить общественное мнение против Бонна. Беата действительно давала поводы заподозрить ее в подверженности влиянию восточногерманской пропаганды. 2 сентября 1968 года она написала в газете «Комба», что две Германии должны воссоединиться, образовав «подлинно социалистическое, демократическое мирное государство».[565] В этом заявлении ощущается явное влияние гэдээровской риторики.
Когда, после падения Берлинской стены, были рассекречены архивы Штази, восточногерманской тайной полиции, и Социалистической единой партии Германии, на Кларсфельдов посыпались новые обвинения – в получении денег от руководства ГДР. Так, 3 апреля 2012 года в консервативной ежедневной газете «Вельт» вышла статья под заголовком «Беату Кларсфельд вооружали Штази и СЕПГ».
Кларсфельды открыто признают, что принимали помощь Восточной Германии в сборе необходимых материалов – особенно по делу Кизингера. Кроме того, в ГДР были напечатаны две их книги о нацистах, совершавших преступления на территории оккупированной Франции. Несколько экземпляров авторы разослали западногерманским парламентариям и другим крупным чиновникам. Такие акции помогали Кларсфельдам оказывать посильное влияние на общественное мнение, а также отстаивать свои права. Серж не отрицает того, что они с Беатой пользовались поддержкой ГДР, однако подчеркивает: другие страны, в частности Франция и США, тоже помогали им в сборе информации. «Мы никому не позволяли влиять на наш образ мыслей»,[566] – отмечает Кларсфельд.
О том, насколько враждебным может быть восприятие ее заявлений, Беата узнала в семидесятые годы во время поездок в Польшу и Чехословакию[567] для обличения «антисионизма», под видом которого коммунистические правительства фактически разжигали антисемитизм. Попытки Беаты публично выразить протест (в Праге она просто раздавала листовки прохожим, а в Варшаве еще и приковала себя к дереву) в обоих случаях привели к ее аресту и выдворению из страны.
Еще до этих событий, во время кампании против Кизингера, международная пресса стала приписывать Кларсфельдам роль агентов-провокаторов. Публикуя разоблачающие статьи о канцлере и озвучивая свою позицию в суде, где рассматривалось ее дело, Беата сделала обескураживающий вывод: ее крестовый поход сам по себе не слишком интересует прессу. «Я поняла, – вспоминает она, – что мои заявления бывают замечены только тогда, когда я совершаю сенсационный поступок наподобие тех, о каких любят писать газеты». Серж прокомментировал ситуацию так: «Мы были слабы, и потому нам приходилось идти на сильные меры».
В случае с Кизингером требовались меры не только сильные, но и рискованные. Воспользовавшись девичьей фамилией, чтобы не возбуждать подозрений, Беата забронировала зрительский билет на заседание западногерманского парламента, которое должно было состояться 30 марта и на котором, как ей было известно, собирался выступать Кизингер. Она приехала в Бонн с простым планом: бросить канцлеру вызов в присутствии сотен парламентариев.
Войдя в зал, Беата испугалась, что «не отважится открыть рот», но в назначенный момент преодолела робость и дважды крикнула так громко, как только смогла: «Кизингер! Нацист! В отставку!» Канцлер прервал свою речь. В этот момент охранники подскочили к Беате, зажали ей рот и выволокли ее из зала. После этого она три часа провела в ближайшем отделении полиции.
На следующий день в газетах появились фотографии Беаты Кларсфельд: вот она кричит, размахивая кулаками, вот ее схватили. Вернувшись в Париж, она собрала перед зданием посольства ФРГ студентов с плакатами «Кизингер – нацист». Примерно в то же время подобные лозунги зазвучали в самой Германии.
Почувствовав воодушевление, Беата решила не останавливаться на достигнутом. Шел 1968 год – год зрелищных и не всегда мирных демонстраций. На одном из митингов в Западной Германии Кларсфельд поклялась прилюдно дать Кизингеру пощечину. Многие из присутствовавших ухмыльнулись, восприняв это заявление как пустую фигуру речи. Но Беата говорила серьезно. На ноябрь 1968 года был запланирован съезд христианских демократов в Западном Берлине. Беата приготовилась действовать. Раиса, мать Сержа, отговаривала ее, твердя: «Тебя могут убить!» Серж тоже признавал рискованность замысла, но все же поддержал жену. Отчасти потому, что понимал: Беату все равно не переубедить.
Приехав в Берлин, она вошла в контакт с представителями прессы и получила от одного фотографа пропуск на съезд, а когда настал заветный день, вооружилась для убедительности блокнотом, вошла в зал и протиснулась поближе к платформе, где сидел Кизингер в окружении других партийных деятелей. Сказав охраннику, будто просто хочет пробраться к подруге, Беата подошла к канцлеру сзади, а когда тот обернулся, ударила его по щеке, воскликнув: «Нацист! Нацист!» Воцарился хаос. Нарушительницу порядка оттащили от Кизингера, но она успела расслышать, как он спросил: «Это и есть та самая Кларсфельд?»
Когда Беата оказалась в заключении, Эрнст Леммер, коллега канцлера по Христианско-демократическому союзу, спросил ее:
– Зачем вы это сделали?
Она ответила:
– Чтобы мир знал, что есть немцы, которые не намерены терпеть такой позор.
Тогда Леммер только покачал головой, а позднее заявил журналистам:
– Эта женщина была бы привлекательной, если бы не болезненный вид, и она страдает от сексуальной неудовлетворенности.
После того как его заявление напечатали в журнале «Штерн», Леммер письменно извинился: «Говоря это, я не знал, что фрау Кларсфельд замужем и имеет ребенка. Не знал я и того, что отец ее мужа погиб в Освенциме».
Беата получила год тюрьмы, но в тот же день вышла на свободу. После подачи апелляции срок сократили до четырех месяцев условно. Так или иначе, тюрьма – не самое страшное, что ей угрожало. Вспоминая те события, Серж говорит: «Телохранители Кизингера были вооружены, однако не могли стрелять из-за скопления народа». При других обстоятельствах они, вероятно, повели бы себя не столь сдержанно. В год гибели Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди женщину, подошедшую к канцлеру слишком близко, могли принять за убийцу. «Им бы ничего не стоило меня прикончить», – признает Беата.
В следующем году христианские демократы уступили на выборах социал-демократам, чей лидер, Вилли Брандт, стал новым канцлером. «Стоило Кизингеру уйти с политической арены, о нем тут же забыли», – отмечает Беата, удовлетворенная тем, что сделала «скромный, но ощутимый вклад в победу прогрессивных сил». Приход к власти политика, которому она давно симпатизировала, очень обрадовал Кларсфельд. Брандт отменил условное наказание, назначенное ей за пощечину Кизингеру.[568]
Ни она, ни ее муж не собирались отказываться от дальнейшего преследования нацистских преступников, как бы опасно это ни было. Когда у супружеской пары созрел план очередного опасного мероприятия, Серж, до сих пор остававшийся в тени (в кампании против Кизингера он занимался преимущественно сбором данных), выступил равноправным партнером жены.
* * *
Убежденные в том, что бывшие нацистские палачи не должны доживать свой век в спокойствии и комфорте, Кларсфельды по понятным причинам стремились в первую очередь разыскать бывших высших руководителей СС и гестапо, которые несли ответственность за арест и депортацию французских евреев. Однако между Францией и Германией существовали сложные соглашения, которые были на руку многим нацистским преступникам и чрезвычайно усложняли задачу для Сержа и Беаты.[569]
Французская сторона постановила не выдавать германским судам списки граждан Германии, осужденных за преступления во Франции. Изначально такое решение было принято потому, что в результате передачи из рук французского правосудия в руки правосудия западногерманского недавние нацисты могли рассчитывать на излишнюю мягкость (ведь многие судьи сами служили фюреру). Однако эта мера возымела обратный эффект. Поскольку ФРГ своих граждан тоже не выдавала, бывшие эсэсовцы, служившие во Франции, которые подозревались или обвинялись французской стороной в причастности к массовым убийствам во Франции, вернувшись на родину, могли жить, не боясь возмездия.
Наконец французы решили отменить ранее принятое постановление, чтобы нацисты, служившие во Франции, предстали перед судом у себя дома. Кларсфельды, конечно же, активно поддержали эту запоздалую инициативу. Кроме того, они, наряду с Визенталем и другими общественными деятелями, потребовали продления срока давности для военных преступлений, поскольку законодательство, действовавшее на тот момент, обеспечивало спокойную старость множеству нацистских преступников. Обе битвы, растянувшись на годы, привели сначала к частичной, а затем и к полной победе. В 1979 году в ФРГ был отменен срок давности для убийств, геноцида и преступлений против человечества.[570]
Борьба была тяжелой и, вероятно, не увенчалась бы успехом, если бы не дерзкая тактика Кларсфельдов, решивших преследовать нацистов самостоятельно. Их первыми мишенями стали Курт Лишка, Херберт Хаген и Эрнст Хайнрихзон. По данным, которыми располагал Серж,[571] львиная доля ответственности за депортацию евреев из Франции лежала на этих троих офицерах СС. Лишка был, как выразилась Беата, «парижским гестапо»:[572] он руководил аппаратом госбезопасности на всей территории Франции. Хаген, тесно сотрудничавший с Эйхманом, заведовал информационным отделом, ответственным за еврейский вопрос, а также командовал полицией атлантического побережья. Хайнрихзон носил невысокий чин, однако сумел «прославиться» особой жестокостью по отношению к детям.[573]
Что примечательно, все трое вернулись в Западную Германию и жили на свободе, очевидно, даже не думая, будто тени из прошлого могут их преследовать. Лишка поселился в Кёльне, и Беата без труда получила его адрес и телефон в справочном бюро. Позднее она сказала французскому корреспонденту израильского телевидения: «Только в детективных историях нацисты прячутся где-нибудь в далекой Патагонии и вздрагивают от страха при малейшем шорохе».[574]
Лишка, Хаген и Хайнрихзон вели совершенно спокойную жизнь – но только до начала семидесятых годов, когда на их след напали Кларсфельды. Беата написала об эсэсовских преступниках новую статью для «Комба», а телевидение Израиля выразило намерение подготовить фильм о них, как только наберется материал.[575]
21 февраля 1971 года в восемь утра перед многоквартирным домом, где жил Лишка, припарковалась машина, в которой находились Кларсфельды и израильский оператор с камерой. Они прождали под окнами до двух часов дня, а Лишка все не появлялся. Беата набрала его номер и повесила трубку, услышав женский голос. Поняв, что квартира точно не пустует, «охотники» принялись нажимать на кнопки домофона. Вскоре кто-то из соседей впустил их в подъезд.
Когда они поднялись на верхний, четвертый, этаж, им открыла неприветливая светловолосая женщина. Беата сказала ей, что у ее мужа хочет взять интервью французское телевидение, и тогда она крикнула:
– Курт, иди разберись, чего этим людям надо!
Вышел очень высокий мужчина с коротко стриженными редеющими волосами. Беата назвала свою девичью фамилию и представилась переводчицей французского журналиста «герра Кларсфельда». Очевидно, это имя ни о чем Лишке не говорило, но он насторожился и попросил Сержа показать удостоверение. «Съемочная группа» приехала подготовленной: Серж достал карточку репортера газеты «Комба». Решив не притворяться, будто занимается простым сбором фактов, он сразу же заявил:
– В свете подписания нового франко-германского соглашения мы разыскиваем нацистских военных преступников, заочно осужденных во Франции. Вы занимаете первую строку нашего списка. Прежде чем развернуть кампанию против вас, мы хотим спросить, можете ли вы сказать что-нибудь в свое оправдание.
Лишке удалось сохранить видимость спокойствия.
– Я не обязан отчитываться ни перед вами, ни перед французским судом, – сказал он и добавил: – Я отвечу за свои действия, если от меня этого потребует правосудие Германии, но вам я ничего говорить не буду.
Серж попытался добиться от него признания в организации репрессий против французских евреев, однако он не позволил себя снимать. Атмосфера предельно накалилась. Беата даже подумала, что Лишка разобьет камеру, если оператор попробует ее включить. Однако у Кларсфельдов была в запасе еще одна карта.
– Хотите увидеть документы, которые вы сами подписали в Париже? – спросил Серж. – Подлинники сохранились, и на их основании вам может быть предъявлено обвинение.
Беата протянула Лишке пачку бумаг. Вместе с женой, которая выглядывала из-за его плеча, он стал их просматривать. Его рука задрожала. «Вне всякого сомнения, – вспоминает Беата, – перед его глазами в эти минуты проплывало прошлое, которое мы восстановили, проведя уйму времени в архивах. Никто, кроме нас, не счел нужным это сделать».
С одной стороны, визит обернулся для Кларсфельдов провалом: им не удалось заснять Лишку на пленку или просто заставить его отвечать на вопросы. С другой стороны, они увидели его и даже смогли напугать.
В тот же день Беата позвонила Герберту Хагену в Варштайн (городок, расположенный в двухстах километрах от Кёльна) и спросила у жены, подошедшей к телефону, согласится ли муж дать интервью французскому телевидению.
– Ни в коем случае, – ответила женщина. – И ему вообще непонятно, с какой стати вы им интересуетесь.
На следующий день Кларсфельды вместе с оператором приехали в Варштайн и припарковались в ста метрах от дома Хагена, надеясь перехватить его, когда он выйдет. Они прождали несколько часов и по ошибке чуть было не увязались за другим человеком. Наконец настоящий Хаген вышел из дома, открыл гараж и сел в большой «Опель». Как только автомобиль выехал, Беата выскочила ему наперерез:
– Герр Хаген?
Он кивнул, но, заметив камеру, высунулся из машины с таким видом, будто хотел наброситься на оператора. Правда, поняв, что несдержанность может дорого ему обойтись, он все же позволил Беате сказать, что Серж – французский журналист, который хотел бы задать несколько вопросов.
На прекрасном французском языке Хаген ответил:
– Мсье, вы не имеете права меня снимать здесь, перед моим домом. Тем более что я ни от кого не скрываюсь: после войны я был во Франции более двадцати раз.
– По-видимому, французская полиция не обратила внимания на вашу фамилию. Вас должны были арестовать.
На вопросы Хаген, как и Лишка, отвечать не стал.
– Я веду тихую спокойную жизнь, и больше мне ничего не нужно, – заключил он.
* * *
Кларсфельды не собирались сдаваться. Через месяц они снова приехали в Кёльн. На сей раз с ними был Марко – доктор и фотограф, с которым Серж подружился в студенческие годы. Разработанный ими план в случае успеха должен был привлечь всеобщее внимание к тому факту, что военный преступник до сих пор не заплатил за содеянное. Они решили похитить Лишку.
Серж достал наручники, а Марко – две дубинки. Было решено схватить Лишку на улице, затолкать в машину, взятую напрокат, а перед пересечением французской границы сменить автомобиль. «На карательный отряд мы были похожи не больше, чем на совет епископов», – признается Беата.
Когда Лишка вышел из троллейбуса, «группа захвата» окружила его и Беата сказала: «Следуйте за нами!» Он инстинктивно сделал несколько шагов в сторону машины, но затем развернулся. Фотограф ударил его по голове дубинкой. Крикнув «На помощь!», Лишка упал, скорее от испуга, чем от силы удара. Вокруг собрались люди. Подошедший полицейский вынул удостоверение. В этот момент Серж прокричал: «В машину!» Бросив свою добычу, похитители запрыгнули в автомобиль и понеслись прочь. Только вернувшись во Францию, они смогли перевести дух.
Беата потом под вымышленным именем обзвонила немецкие газеты и попросила их выяснить, что случилось с Куртом Лишкой. По ее собственным словам, смысл всей операции заключался в том, чтобы открыть обществу глаза на безнаказанность, которой наслаждаются бывшие нацисты. Ради достижения этой цели Кларсфельды были готовы сами отправиться за решетку.
Как и следовало ожидать, Беату арестовали, когда она снова приехала в Кёльн, чтобы ознакомить суды и прессу с документальными доказательствами преступлений Лишки и Хагена. В заключении она провела всего несколько недель. Как и в предыдущих случаях, власти решили, что, упрятав Кларсфельд в тюрьму надолго, они лишь привлекут к ее протестам лишнее внимание.
Тем временем Серж продумал новый ход. 7 декабря 1973 года, морозным снежным днем, он выследил машину Лишки. Когда тот припарковался недалеко от собора и вышел, Кларсфельд приставил к его лбу пистолет. Бывший эсэсовец не на шутку испугался, поверив, что пришла его смерть. Но оружие было не заряжено. Сержу хватило страха, который он увидел в глазах врага. В письме к местному прокурору Кларсфельд заявил, что мог бы убивать нацистов, однако не имеет такого намерения. Он и его единомышленники требуют одного – чтобы военные преступники предстали перед судом.
Если Беата рискнула жизнью, отважившись дать пощечину Кизингеру, то в этом акте драмы рисковал Серж. Правда, сегодня, почти полвека спустя, он говорит, что опасность была не так уж велика: он знал о пистолете, который носил при себе Лишка, но тот не успел бы его достать. К тому же день стоял холодный, и, чтобы выстрелить, пришлось бы сперва снять перчатки. «Смертельной угрозы я не почувствовал», – вспоминает Серж.
Кларсфельды испытали наибольшее удовлетворение в тот момент, когда стало ясно, что беззаботная жизнь для Лишки и Хагена закончилась. Социал-демократическая газета «Форвертс» написала: «Эти солидные господа, мужчины средних лет, теперь не смогут спокойно спать на территории Федеративной Республики. Они заперлись в своих квартирах… оказавшись в полосе отчуждения».
В те годы Беата неоднократно попадала в полицию, но ее выпускали как относительно безвредную «фанатичку». Но к проблемам с правоохранительными органами прибавились угрозы со стороны врагов. Дважды Кларсфельды чуть не погибли. Как-то раз, в 1972 году, Сержу доставили сверток с надписью «Сахар». Заметив, что из упаковки высыпались подозрительные черные крупинки, Кларсфельд вызвал полицию. Прислали саперную бригаду. Оказалось, внутри был динамит и другие взрывчатые вещества. А в 1979 году бомба с часовым механизмом, сработавшим среди ночи, уничтожила машину Сержа.
Между тем процесс против Лишки, Хагена и Хайнрихзона медленно набирал обороты. Суд состоялся в Кёльне 11 февраля 1980 года. Всех троих обвиняемых признали соучастниками депортации пятидесяти тысяч евреев из Франции в лагеря смерти. Судья подчеркнул, что эсэсовцы прекрасно знали, какая участь ждет депортируемых.[576] Хаген был приговорен к двенадцати годам тюрьмы, Лишка – к десяти, Хайнрихзон – к шести. Но суть заключалась не в продолжительности сроков, а в самом факте привлечения к ответственности бывших нацистов. Этого бы не произошло, если бы не резонанс, вызванный отчаянными действиями Кларсфельдов.
* * *
В 1934 году, когда во многих уголках мира авиация все еще воспринималась как новинка, капитан Военно-воздушных сил Латвии Герберт Цукурс стал национальным героем, совершив полет в Гамбию (Западная Африка) на им же сконструированном маленьком самолете. Впоследствии латышская пресса, окрестившая Цукурса «балтийским Линдбергом»,[577] восторженно сообщала о его воздушных путешествиях в Японию и британскую Палестину. По возвращении из Земли обетованной он выступил с лекцией в переполненном зале рижского еврейского клуба. Историк Йоэль Вейнберг, бывший в ту пору студентом, вспоминал: «Цукурс удивленно, увлеченно и даже с энтузиазмом говорил о сионистских начинаниях в Израиле… Его рассказ воспламенил мое воображение».[578] При этом Цукурс был ярым националистом. В конце тридцатых годов он вступил в фашистскую организацию «Перконкрустс» («Громовой крест»).
В начале Второй мировой войны Советский Союз аннексировал Прибалтику согласно договоренности между Сталиным и Гитлером о «разграничении сфер интересов», закрепленной в пакте Молотова – Риббентропа. Пакт был подписан в августе 1939-го и на непродолжительный срок сделал двух вождей союзниками. В июне 1941-го гитлеровские войска вторглись на территорию Советского Союза и быстро заняли прибалтийские республики. В Латвии майор Виктор Арайс собрал группу добровольцев из членов ультраправых организаций для помощи оккупантам. Вторым по значимости человеком этого отряда был Цукурс, который немедленно начал преследование евреев, сопровождавшееся их избиением и уничтожением.
После войны была организована комиссия по расследованию преступлений, совершенных в Прибалтике. Имя прославленного летчика часто звучало в показаниях выживших жертв холокоста. По словам Рафаэля Шуба, Цукурс приступил к организации массовых убийств уже в начале июля. Он и его люди собрали около трехсот латвийских евреев в главной синагоге и приказали им расстелить на полу свитки Торы из ковчега, а сами принялись готовить здание к сожжению. Нескольких евреев, воспротивившихся такому приказу, Цукурс жестоко избил. Разлив по залу канистру бензина, члены команды встали у входа в синагогу и бросили внутрь ручную гранату. Вспыхнуло пламя. В тех, кто пытался выбежать, люди Цукурса стреляли. «Триста евреев, среди которых было много детей, сгорели»,[579] – заключил Шуб.
Шестнадцатилетний Авраам Шапиро навсегда запомнил, как Цукурс ворвался в квартиру его родителей и заявил, что забирает ее в личное пользование. Всех членов семьи заставили покинуть дом, отца в ближайшее время казнили. Сам Авраам Шапиро оказался в изоляторе латышского полицейского управления, в одной из сотни крошечных камер, до отказа набитых евреями. Несколько раз Шапиро видел, как Цукурс и его люди загоняют узников в грузовики. Авраам должен был класть в кузов лопаты. Через несколько часов машины возвращались пустыми, на лопатах он замечал налипшую землю и пятна крови.
Вскоре немецкие фашисты, присоединившиеся к латышским единомышленникам, организовали расстрел примерно десяти тысяч человек. Давид Фишкин, которому удалось выжить, сообщил следствию, что Цукурс сопровождал колонну, подгоняя узников и стреляя в отстающих. «Стоило какому-нибудь ребенку заплакать, – вспоминал Фишкин, – он выхватывал его из рук матери и тут же убивал. Только на моих глазах он застрелил десять маленьких детей».
Поскольку до войны Цукурс был чрезвычайно популярен в Латвии, жертвы легко узнавали его, в отличие от многих других убийц, чьи имена остались неизвестными. На счету подразделения, которым командовал Цукурс, смерти примерно тридцати тысяч евреев, за что он и получил новое прозвище – «рижский палач».
Несмотря на это, после войны ему удалось бежать из Европы и обосноваться в Бразилии, в Сан-Паулу, где он работал в яхт-клубе и продолжал летать на собственном самолете. Двадцать лет Цукурс спокойно наслаждался южным солнцем. Уверенный в том, что прошлое навсегда осталось позади, он даже не счел необходимым сменить фамилию. О судьбе Эйхмана ему, конечно же, было известно, но в сравнении с этим воплощением «банальности зла» сам он выглядел «садистом мелкого масштаба»[580] и потому надеялся не стать мишенью для преследователей нацистов.
23 февраля 1965 года Цукурс прибыл в Монтевидео, столицу Уругвая, на встречу с австрийским бизнесменом Антоном Кюнцле, с которым он незадолго до того познакомился в Сан-Паулу. Кюнцле собирался размещать капитал в Южной Америке и пригласил Цукурса к сотрудничеству. Договорившись с ним об открытии временного офиса, австриец повел его смотреть дом, который подыскал для этой цели.
Как только «рижский палач» вошел в полутемное помещение, Кюнцле захлопнул за ним дверь. Цукурс увидел нескольких мужчин в нижнем белье, которые тут же на него набросились. «В свои шестьдесят пять он боролся, как раненый дикий зверь, – вспоминал Кюнцле позднее. – Страх смерти придал ему невероятную силу».[581] В итоге один из нападавших разбил голову Цукурса молотком, а другой сделал два контрольных выстрела.
В действительности «австрийским бизнесменом» оказался Яаков Мейдад – мастер перевоплощений, член той самой группы «Моссада», которая несколькими годами ранее похитила Эйхмана. Тогда Мейдад, несколько раз изменив внешность, снял в Буэнос-Айресе недвижимость, арендовал транспорт и сделал закупки, необходимые для проведения операции. Теперь же он превратился в бизнесмена-австрийца, чтобы войти к Цукурсу в доверие и заманить его в ловушку. Другие тайные агенты, поджидавшие «рижского палача» в засаде, разделись до белья, чтобы им не пришлось выходить из дома в окровавленной одежде. Предосторожность оказалась не напрасной.
Израильтяне перенесли массивное тело Цукурса в заранее приготовленный грузовик. Прежде чем закрыть кузов, они положили мертвецу на грудь записку на английском языке:
ПРИГОВОР
Принимая во внимание тяжесть преступлений, в которых обвиняется ГЕРБЕРТ ЦУКУРС, в особенности его личную ответственность за убийство 30 000 мужчин, женщин и детей, а также учитывая чрезвычайную жестокость, проявленную ГЕРБЕРТОМ ЦУКУРСОМ при совершении этих преступлений, мы приговариваем означенного ЦУКУРСА к смерти.
Приговор приведен в исполнение 23 февраля 1965 года.
«Те, кто никогда не забудет».[582]Покинув Уругвай, Мейдад и члены его группы стали ждать отклика прессы. После нескольких дней тишины израильтяне сами дали наводку западногерманским информационным агентствам, даже указав место, где был оставлен труп. Вскоре газеты всего мира сообщили о том, что Герберт Цукурс убит и что ответственность за произошедшее взяла на себя загадочная организация под названием «Те, кто никогда не забудет». В «Нью-Йорк таймс» отметили: «Как и в деле Эйхмана, здесь не обошлось без вмешательства спецслужб».[583]
Для большинства стран это оказалось новостью-однодневкой, поскольку за пределами Латвии Цукурс почти не был известен. В широко освещаемых процессах он не фигурировал, и о его преступлениях знали сравнительно немногие. Даже в сегодняшнем Израиле далеко не все слышали об этой операции «Моссада» – единственном случае, когда агенты израильской разведки, исполняя официально принятое решение, убили одного из виновников холокоста.
Почему выбрали именно Цукурса? Совершенные им преступления ужасны, но в ту пору он был далеко не единственным военным преступником, разгуливавшим на свободе. Только в 1997 году Мейдад раскрыл обстоятельства дела, опубликовав на иврите книгу «Казнь рижского палача». В 2004 году она была переведена на английский язык. Из осторожности автор снова назвался Антоном Кюнцле. Настоящее имя агента стало известно большинству читателей только летом 2012 года, когда газеты сообщили о его смерти.[584]
В своей книге Мейдад передает слова старшего офицера «Моссада», который поручил ему убийство Цукурса.[585] Этот офицер (нам сообщается только его имя – Йоав) заявил, что правительство недовольно западногерманским законом о сроке давности, избавляющим от ответственности многих нацистских преступников. По этому поводу ведутся переговоры, но их исход остается неясным. Похищение Эйхмана и последовавшие судебные слушания «привлекли внимание мировой общественности к ужасам нацизма, однако полученный эффект, по видимости… стал ослабевать». Израильтяне обязаны исправить положение. Успешное проведение операции по уничтожению Цукурса «зажжет страх смерти в сердцах десятков тысяч других нацистов», которые «не имеют права ни на единую секунду покоя до самого своего смертного часа». Конечно, Израиль не в состоянии отомстить всем, но Цукурс послужит ярким примером для низшего разряда палачей.
При всей своей внешней убедительности такое объяснение, вероятно, остается не вполне исчерпывающим. В 2013 году, во время нашей встречи, Рафи Эйтан, руководивший похищением Эйхмана, но не участвовавший в убийстве Цукурса, сказал: «Легче всего избавиться от человека, выстрелив в него с большого расстояния. Для этого не обязательно проводить целую операцию. Если его решили убить в непосредственном соприкосновении, так, чтобы он успел осознать происходящее, то, наверное, здесь задействованы чьи-то личные амбиции». Иными словами, у кого-то из высокопоставленных лиц могли быть с Цукурсом особые счеты.
Уже задним числом Мейдад узнал, что у одного из членов группы были в Риге многочисленные родственники и их всех убил Цукурс. Но рядовой агент «Моссада» не мог быть инициатором операции. Вопрос о том, кому принадлежала идея этого беспрецедентного акта возмездия, остается открытым по сей день.
История имеет эпилог. В 2014 году латвийская публика увидела мюзикл о Цукурсе. В короткой финальной сцене главного героя окружали люди, восклицающие: «Убийца!» – однако в целом авторы либретто сделали акцент на «звездной» довоенной биографии «рижского палача». Продюсер Юрис Миллерс заявил, что, «поскольку Цукурс не был осужден, юридически в его отношении действует презумпция невиновности, если же смотреть с других точек зрения, то для кого-то он убийца, а для кого-то – героическая личность».[586]
Совет евреев Латвии, а также Израиль и Россия отреагировали на мюзикл как на дифирамбы в адрес военного преступника. «Попытки сделать из жестокого убийцы героя совершенно недопустимы»,[587] – заявил представитель израильского МИДа. Правительство Латвии, ранее отвергшее просьбу родственников Цукурса о его реабилитации, также выразило недовольство постановкой. Подчеркнув, что уважение к свободе слова не позволяет властям запретить спектакль, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс отметил: «Деятельность команды Арайса – не то, о чем следует петь. Предоставим публике самостоятельно судить об этом зрелище, однако, по мнению правительства, авторы мюзикла продемонстрировали дурной вкус».[588]
Многие латыши восторженно аплодировали исполнителям, предпочтя помнить Цукурса как пионера-авиатора, а не как военного преступника. Значит, офицер разведки, инструктировавший Мейдада перед выполнением задания, был в каком-то смысле прав: когда речь идет о холокосте, людская память зачастую оказывается короткой и опасно избирательной. «Охотники за нацистами» всегда это знали и потому, если не отказывались от борьбы, боролись с удвоенной силой.
Глава 12 «Образцовые граждане»
Для полиции и для прессы он всего лишь старый зануда с папками, набитыми призраками; убейте его – и он превратится в непризнанного героя, живых врагов которого предстоит поймать[589].[590]
А. Левин. Мальчики из БразилииСреди многочисленных полувымышленных историй об «охотниках за нацистами» трудно найти миф, менее соответствующий действительности, нежели представление о Симоне Визентале как о мстителе, лично преследующем бывших нацистов в самых удаленных точках земного шара. В фильме «Мальчики из Бразилии»,[591] экранизации одноименного романа Айры Левина, Визенталь, роль которого исполняет Лоуренс Оливье, настигает Менгеле (его играет Грегори Пек) на ферме в штате Пенсильвания, и между ними завязывается борьба не на жизнь, а на смерть. В тот момент, когда герой Оливье в прямом смысле слова спускает на врага собак (свирепых доберманов), популярный образ «охотника за нацистами» совершенно отрывается от прототипа. С тех пор его воспринимают как нечто среднее между лейтенантом Коломбо и Джеймсом Бондом.
Основания для такого полета фантазии дал отчасти сам Визенталь. Написанная им книга «Я выследил Эйхмана» («Ich Jagte Eichmann») вышла в свет в 1961 году. Поскольку Иссер Харель в то время еще не имел права раскрывать какие-либо подробности знаменитой операции «Моссада», слава досталась Визенталю. Тот, хотя и говорил, что является лишь одним из многих людей, участвовавших в поимке нациста, радовался своей растущей популярности. Благодаря ей он преодолел разочарование, вызванное недавним закрытием его Центра исторической документации в Линце (этот архив материалов о холокосте был расформирован в 1954 году), и 1 октября 1961 года открыл новый центр в Вене при содействии местной еврейской общины.[592]
Исполненный новых сил, Визенталь стал демонстрировать небывалую ловкость в саморекламе, не избегая сотрудничества с теми, кто превратил охоту за нацистами в материал для продуктов массовой культуры. Фредерик Форсайт обратился к нему как к консультанту при написании своего бестселлера «Досье “Одесса”»,[593] опубликованного в 1972 году и с большим успехом экранизированного[594] через два года. Писатель признался, что замысел романа возник у него после прочтения главы мемуаров Визенталя «Убийцы среди нас» (1967). Визенталь охотно согласился помочь и даже убедил Форсайта дать главному отрицательному персонажу имя реального исторического лица – австрийца Эдуарда Рошманна, управлявшего рижским гетто.
Как и Цукурс, Рошманн был известен своей жестокостью, а по окончании войны сумел укрыться в Южной Америке. Но в 1977 году, после выхода книги и фильма, его арестовали. «Он на самом деле превратился в загнанного зверя, каким изображен на экране»,[595] – не без гордости отмечал Визенталь. Рошманну удалось бежать из-под ареста в Парагвай, где он и умер две недели спустя от сердечного приступа. Кинематографисты предпочли более зрелищный финал: злодей пойман и убит.
По словам Визенталя, ему предлагали за солидный гонорар исполнить в фильме роль самого себя, но он отказался, решив «не сотрудничать с индустрией развлечений настолько тесно».[596] Тем не менее индустрия развлечений до сих пор не оставляет его в покое.
Одна из новейших интерпретаций довольно точно показывает двойственность личности Визенталя и то насмешливое изумление, с каким он воспринимал своих литературных и экранных двойников. В 2014 году в Нью-Йорке состоялась премьера моноспектакля Тома Дугана «Визенталь» по им же написанной пьесе. В ней герой смеется, когда его называют «еврейским Джеймсом Бондом». «Мое оружие – это упорство, а также умение работать с бумагами и влиять на общественное мнение», – говорит он, нисколько не греша против истины.
Если к своему масскультовскому образу Визенталь относился как к явлению небесполезному, но довольно забавному, то лидерство в кругах «охотников за нацистами» было для него делом исключительно серьезным. Он старался противодействовать всем, кто мог поставить его репутацию под сомнение. Тувья Фридман, основавший в Вене первый архив документации по еврейскому вопросу, но в 1952 году эмигрировавший в Израиль, был оскорблен тем, что Визенталь в ущерб ему преувеличил собственные заслуги – особенно в деле Эйхмана. «По-вашему, вы гроза всех бывших нацистов, а я крошечный щенок», – написал Фридман Визенталю. По мнению историка Тома Сегева, последний относился к первому «как к бедному родственнику»,[597] который совершил ошибку, переехав в Израиль, после чего его деятельность стала привлекать все меньшее и меньшее внимание мировой общественности.
Сам Визенталь упорно не желал покидать Вену даже после 11 июля 1982 года, когда бывший нацист, бежавший из тюрьмы, подложил к его порогу бомбу. В результате взрыва пострадал дом Визенталя, из окна соседнего здания вылетели стекла, но человеческих жертв не было. Власти приставили к «охотнику за нацистами» охрану, а сам он отвечал решительным «нет» всем, кто предполагал, что покушение и многочисленные письма с угрозами заставят его перебраться в Израиль. «Раз я ловлю крокодилов, я должен жить в болоте»,[598] – сказал Визенталь американскому юристу, насмешливо улыбнувшись.
Серж Кларсфельд как представитель более молодого поколения «охотников за нацистами» восхищался Визенталем и в августе 1967 года впервые встретился с ним в Вене. Тридцатиоднолетнего парижанина поразило то, что прославленный поборник справедливости вполне спокойно относится к канцлерству Кизингера – бывшего нацистского пропагандиста. Впоследствии Визенталь с осуждением отзывался о нашумевшей пощечине и других громких акциях Кларсфельдов. «У нас разные методы. Мы неодинаково смотрим на то, как нужно контактировать с противником, – заключает Серж. – Симон Визенталь поддерживал с властями хорошие отношения, а мы не вылезали из полиции».[599]
Кларсфельд по-прежнему ценит заслуги Визенталя как человека, боровшегося за привлечение нацистов к ответственности в пятидесятые и начале шестидесятых годов, когда многие военные преступники оказались на свободе или вовсе не были судимы. Но со временем у супружеской пары установились с ним напряженные отношения – во-первых, из-за вызывающей тактики Кларсфельдов (которую Беата применяла в том числе в странах Латинской Америки, критикуя их антидемократическое руководство и требуя выдачи бывших нацистов), во-вторых, из-за левой политической ориентации.
Визенталь, консерватор во всем, начиная с быта и кончая взглядами на общественное устройство, был убежденным антикоммунистом. Он осуждал власти социалистической Польши за то, что они «используют антисемитизм так же, как использовали веками, – для отвлечения всеобщего внимания от собственной некомпетентности и собственных преступлений».[600] Более того, Визенталь неоднократно заявлял, будто Варшава и Москва распространяют о нем клеветнические слухи и даже подделывают документы, обвиняя его во всех грехах: от содействия нацистам до сотрудничества с израильской разведкой и ЦРУ.[601]
Беата состояла с коммунистами в гораздо лучших отношениях: гордилась похвалами, регулярно получаемыми от правительства и прессы ГДР, писала статьи для прокоммунистического западногерманского еженедельника. Правда, при этом она тоже критиковала социалистические режимы за использование антисемитской пропаганды.
С годами идеологический раскол, наметившийся в стане «охотников за нацистами», становился все глубже.
* * *
Визенталь изначально считал, что его задача заключается не только в том, чтобы заставить фашистов ответить за свои преступления, но и в том, чтобы воздействовать на умы молодого поколения. Взаимосвязанность этих задач позволяла решать их одновременно. Разоблачение бывших нацистов, которое в случае успеха приводило к организации судебного процесса, служило лучшим орудием против послевоенной тенденции если не отрицать, то по крайней мере приуменьшать вину Третьего рейха перед человечеством. Когда довести дело до суда не удавалось, Визенталь довольствовался тем, что просто раскрывал имена конкретных людей, ответственных за трагедии, которые до сих пор казались слишком масштабными и абстрактными, чтобы вызывать эмоциональный отклик.
Ярчайший пример – розыск офицера гестапо, арестовавшего Анну Франк. Спектакль по мотивам ее дневниковых записей[602] был поставлен в Линце в 1958 году, еще до переезда Визенталя в Вену. Однажды вечером друг позвонил ему и сообщил, что в зрительном зале театра поднялась волна неприкрытого антисемитизма.[603] Как выяснилось, какие-то подростки во всеуслышание утверждали, будто дневник Анны Франк – фальсификация. С криками «Предатели! Лизоблюды! Жулики!» они разбрасывали листовки, в которых говорилось: «Евреи все выдумали, чтобы выжать из нас компенсацию. Не верьте ни единому слову! Нас обманывают!»
По мнению Визенталя, за этой акцией стояли бывшие нацисты и их симпатизанты, увидевшие серьезную угрозу в растущей популярности книги, благодаря которой слово «холокост» приобрело для читателей личностное звучание. Желая себя защитить, нацисты занялись «отравлением умов» молодежи.
Через два дня Визенталь встретился с другом в кафе, чтобы обсудить произошедшее в театре. За соседним столиком расположилась группа старшеклассников. Друг Визенталя поинтересовался у одного из них, что тот думает о дневнике Анны Франк.
– Анна Франк – вымышленное лицо, – ответил подросток.
– А как же ее записи? – спросил Визенталь.
– Они не доказывают, что она существовала. Их мог сочинить кто угодно.
Парень нисколько не смутился даже тогда, когда ему напомнили об Отто Франке, отце Анны, который выжил и впоследствии рассказал о депортации семьи в Освенцим. Именно оттуда Анну и ее старшую сестру Марго перевели в Берген-Бельзен, где они обе умерли, не дожив нескольких месяцев до конца войны. Анне было пятнадцать лет.
– А если эсэсовец, который арестовывал Франков, сам об этом расскажет, будет достаточно убедительно? – спросил Визенталь у подростка.
– Если сам – тогда да, – сказал старшеклассник, явно убежденный в том, что никогда не услышит такого признания.
Визенталь воспринял слова мальчишки как руководство к действию. На протяжении нескольких лет его изыскания не давали никаких результатов. Наконец он обратил внимание на упомянутое в приложении к дневнику имя бывшего сослуживца Отто Франка, который ходил в штаб-квартиру гестапо, пытаясь ему помочь. Тот человек разговаривал с офицером, арестовывавшим Франков, – эсэсовцем из Австрии. Фамилия, как запомнил голландец, содержала слово «серебро» – по-немецки «Silber». В венском телефонном справочнике Визенталь нашел номера нескольких Зильбернагельсов, служивших в СС, но это оказались не те люди.
Удача улыбнулась Визенталю в 1963 году, когда он приехал в Амстердам. В местной полиции ему дали копию документа двадцатилетней давности – телефонного справочника голландского гестапо. В нем было триста фамилий. В подразделении «IV B4, Joden»[604] (Joden – «евреи» на голландском) значился некий Зильбербауэр. Поскольку такие подразделения состояли в основном из полицейских, Визенталь связался с чиновником Министерства внутренних дел, который пообещал навести справки. Оказалось, что Карл Зильбербауэр, арестовавший Анну Франк, до сих пор работает в венской полиции.
Начальство решило просто отстранить его от службы, не поднимая шума. Тем не менее полностью избежать огласки не удалось: после того как Зильбербауэр пожаловался коллеге на «неприятности из-за Анны Франк», об этой истории написали в австрийской коммунистической газете «Фольксштимме», а также сообщили по радио «Москва».
Добиться возбуждения уголовного дела против Зильбербауэра Визенталь не смог. Однако он все же привлек к этому человеку более пристальное внимание общественности, посоветовав голландскому репортеру взять у него интервью.
«Какие ко мне могут быть претензии после стольких лет? – пожаловался бывший эсэсовец. – Я просто исполнял свой долг». Когда его спросили, сожалеет ли он об аресте Анны Франк, бывший эсэсовец сказал: «Конечно же, я сожалею. Иногда я чувствую себя полностью униженным». Ведь его уволили из органов и лишили права бесплатного пользования общественным транспортом. Теперь ему приходится, как простому гражданину, покупать билеты на трамвай. На вопрос «Читали ли вы дневник Анны Франк?» Зильбербауэр ответил: «Да, на прошлой неделе я купил эту книжечку, чтобы посмотреть, написано ли там про меня. Нет, ничего не написано». Ему как будто не приходило в голову, что, арестовав девочку, он лишил ее возможности писать.
О существовании Зильбербауэра, мелкой фашистской сошки, узнали только благодаря его известной жертве. Как и множество других эсэсовцев, которые отправляли на смерть не таких заметных людей, как Анна Франк, он не заплатил за содеянное настоящей цены. Визенталь, вероятно, хотел бы обеспечить Зильбербауэру более крупные проблемы, чем простое разоблачение, но власти не были в этом заинтересованы.
И все-таки труд «охотника за нацистами» оказался не напрасным. Дневник Анны Франк на протяжении многих десятилетий служит одним из наиболее пронзительных личностных свидетельств холокоста, и уже не одно поколение школьников извлекло из этой книги урок. Попытки объявить его подделкой прекратились. Даже самые ярые сторонники нацистов не смогли отрицать его правдивости, подтвержденной бывшим офицером СС, который так и не увидел ничего плохого в содеянном им.
* * *
В своих мемуарах «Правосудие, а не месть»[605] Визенталь вспоминает: однажды в январе 1964 года он сидел на террасе тель-авивского кафе «Рояль». Его пригласили к телефону. Вернувшись, он увидел за своим столиком трех женщин и хотел было, забрав оставленный журнал, подыскать другое место, но одна из дам поднялась и по-польски сказала: «Извините, что мы к вам подсели. Но мы услышали вашу фамилию и решили с вами поговорить. Мы, все трое, были в Майданеке. И хотим спросить: может, вы нам скажете, что стало с Кобылой?» Кто подразумевался под польским словом kobyła, Визенталь не понял. Женщина пояснила: «Простите, нам до сих пор кажется, будто ее все должны знать».
Оказалось, «Кобылой» в Майданеке прозвали надсмотрщицу-австрийку, которая имела обыкновение избивать узниц ногами и всегда выходила встречать новую партию заключенных, держа наготове хлыст. Ее настоящее имя было Гермина Браунштайнер.
– Никогда не забуду случай с ребенком… – заговорила одна из бывших узниц, – совсем маленьким ребенком… Мимо нее проходил заключенный с рюкзаком на спине. Она ударила по нему кнутом, и малыш, спрятанный внутри, вскрикнул. Когда Кобыла заставила мужчину открыть рюкзак, ребенок выскочил и побежал. Она догнала его, схватила за ручку так, что он опять закричал, и прострелила ему… – Женщина, не договорив, заплакала.
Ее подруги рассказали несколько других не менее ужасающих историй. Готовя новоприбывших к отправке в газовую камеру, Браунштайнер силой вырывала детей из рук матерей. Кроме того, она обожала издеваться над молоденькими девушками: била их хлыстом по лицу, стараясь попасть по глазам. Но того, что узницы погибнут от удушья, было мало: Браунштайнер и другим надсмотрщицам непременно хотелось сначала измучить их.
В июле 1944 года Красная армия взяла польский город Люблин и освободила Майданек. В конце ноября офицеры СС и надсмотрщики, которых удалось схватить, предстали перед судом. Восемьдесят человек были осуждены. После разговора с бывшими узницами в тель-авивском кафе Визенталь выяснил, что Браунштайнер среди осужденных не было. Ее арестовали в 1948 году в Каринтии, на юге Австрии, перевезли в Вену и судили как сотрудницу Равенсбрюка – другого лагеря, где она тоже топтала узниц сапогами и избивала хлыстом. О Майданеке на процессе едва упомянули. «Кобыла» получила всего три года тюрьмы, значит, к моменту встречи Визенталя с бывшими заключенными она уже освободилась и разгуливала на свободе более десяти лет.
«Охотник за нацистами» решил во что бы то ни стало ее найти. Узнав адрес, по которому она проживала в 1946 году, Визенталь пришел поговорить с соседями. Один из них захлопнул дверь, как только услышал, кого разыскивают. Жительница другой квартиры, пожилая женщина, знавшая семью Браунштайнеров, не могла поверить в справедливость обвинений в адрес Гермины и охотно рассказала, что запомнила ее милой девушкой, которая каждое воскресенье приходила в церковь «нарядно одетой». Куда она уехала после освобождения, соседка не знала, но назвала имена и адреса родственников, живших в Калифорнии.
Поняв, что к ним обращаться бесполезно, Визенталь предпочел положиться на одного молодого австрийца, который сам пришел к нему и предложил помощь. Этот парень, Рихард, вырос в антисемитской семье. Отец погиб в 1944 году, сражаясь за рейх. Но сын был убежден, что массовых убийств он бы не одобрил. Участвовать в розыске военных преступников Рихард захотел после того, как узнал много нового о холокосте благодаря процессу над Эйхманом. «Видя таких молодых людей, я убеждался в том, что не зря выжил и остался в Вене», – вспоминал Визенталь.
Действуя согласно разработанному плану, Рихард отправился в Каринтию и втерся в доверие к родственникам Браунштайнер: сказал им, будто его дядю несправедливо осудили на пять лет. Они тут же признались, что с их Герминой случилось то же самое, и рассказали о ее дальнейшей судьбе: освободившись, она вышла замуж за американца по фамилии Райан и уехала с ним в канадский город Галифакс.
Бывший узник концлагеря, тоже поселившийся в Галифаксе, сообщил Визенталю, что супруги Райан недавно перебрались в Нью-Йорк – в местечко Маспет в районе Квинс. Визенталь знал, что американские власти не экстрадировали нацистских преступников на родину и не судили их у себя. Следовательно, можно было предположить, что либо она спокойно жила в указанном месте, либо там можно было найти следы ее дальнейших перемещений. Визенталь передал свои сведения Клайду Фарнсворту, корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс», незадолго до того написавшему о нем статью «Сыщик, у которого 6 миллионов клиентов»,[606] а тот выслал их в редакцию.
Журналистское расследование было поручено молодому сотруднику Джозефу Леливельду. Как он вспоминал впоследствии, ему только сообщили, что миссис Райан, урожденная Браунштайнер, живет в одном из рабочих кварталов Маспета. Визенталь же утверждает, будто дал журналистам точный адрес. Так или иначе, Леливельд отправился искать «печально известную лагерную надсмотрщицу и осужденную военную преступницу» по сигналу, полученному от «прославленного венского “охотника за нацистами”».[607]
Не зная имени мужа разыскиваемой, журналист выписал из справочника адреса всех маспетских Райанов и приготовился целый день звонить в двери. Но первая же миссис Райан, к которой он постучался, с готовностью сообщила, что в доме 11 по 72-й улице (на пересечении с 52-й авеню) живет ее однофамилица, приехавшая из Австрии. Она также сказала, что эта женщина с немецкими корнями замужем за неким Расселом Райаном.
Когда «Кобыла» открыла дверь, Леливельд с порога заявил:
– Миссис Райан, я хочу задать вам несколько вопросов о вашей службе в Польше, в концлагере Майданек, в годы войны.
– О боже! Я знала, что это случится, – всхлипнула она. «Как будто она ждала меня», – вспоминал Леливельд.
Журналист вошел в дом, где царил идеальный немецкий порядок. «Кругом были разложены салфеточки, на стенах висели часы с кукушками и альпийские пейзажи». Усевшись напротив, он выслушал ее «слезливый, проникнутый жалостью к себе рассказ», где она заявляла о своей невиновности.
Результатом этого короткого разговора явилась драматическая статья «Надсмотрщица нацистского лагеря стала нью-йоркской домохозяйкой».[608] Выразив Визенталю благодарность за предоставленную информацию, Леливельд сообщил читателям, что Гермина Браунштайнер отбыла в Австрии тюремный срок, но, приехав в Соединенные Штаты в 1959 году, назвалась несудимой.
В статье, вышедшей 14 июля 1964 года, репортер ярко описал свою встречу с ней:
Я увидел высокую ширококостную женщину с суровой линией рта и седеющими светлыми волосами. На ней были шорты в розовую и белую полоску и безрукавка. «Я делала только то, что и сейчас делают надсмотрщики в тюрьмах, – сказала она с сильным немецким акцентом. – По радио теперь без конца говорят о мире и свободе. Хорошо. Но тогда зачем беспокоить людей пятнадцать или шестнадцать лет спустя? Я уже достаточно наказана: пробыла в тюрьме три года. Три года – представляете себе?! И теперь им опять чего-то от меня надо?»
Когда Леливельд дозвонился до Рассела Райана, тот сказал ему: «Сэр, моя жена и мухи не обидит. Вы в целом мире не найдете второго такого же порядочного человека. Она объяснила мне, что должна была исполнять свой долг». При этом Райан признался: до сих пор супруга ничего не говорила ему ни о работе в концлагере, ни о тюремном заключении.
Иммиграционной службе она также предпочла не сообщать ничего лишнего. Как отметил Леливельд в своей статье, сотрудник этого ведомства сказал, что получение информации о судимости способно повлечь за собой пересмотр гражданского статуса миссис Райан, но он также «отметил, что такие пересмотры редко приводят к лишению гражданства».
Прогноз чиновника оказался неверным, однако это стало ясно лишь через семь лет. В 1971 году в результате долгих юридических баталий Браунштайнер лишилась американского паспорта. Ее экстрадиции одновременно потребовали Польша и Западная Германия. Гермина предпочла отправиться в ФРГ, понимая, что там приговор будет мягче.
В 1973 году она прибыла в ФРГ и через два года в Дюссельдорфе села на скамью подсудимых как фигурантка по самому громкому из всех дел, возбужденных против персонала Майданека. Процесс продолжался до 1981 года и завершился приговором к пожизненному заключению. В 1996 году Гермину Браунштайнер-Райан освободили по состоянию здоровья. Она поселилась в доме престарелых, где уже жил ее американский муж, который от нее не отказался. «Кобыла» умерла в 1999 году.[609]
Для Леливельда встреча с ней была лишь эпизодом, и за ее дальнейшей судьбой он не следил. Вернувшись из Маспета, он узнал, что его отца-раввина избили в штате Миссисипи в ходе беспорядков, которыми обернулось «Лето свободы».[610] Эти события отвлекли внимание молодого репортера, а осенью он отправился в Африку. Впоследствии Джозеф Леливельд стал звездой американской журналистики и удостоился Пулитцеровской премии. С 1994 по 2001 год он был главным редактором «Нью-Йорк таймс».
В начале 2014 года мы встретились с ним в кафе неподалеку от его квартиры в Верхнем Вест-Сайде, и он, по всей видимости, искренне удивился, когда я сказал, что написанный им отчет о короткой поездке в Маспет положил начало истории преследования бывших нацистов в США.
– Разве вы не знаете, к каким последствиям привела публикация вашей статьи? – спросил я.
– До сих пор не знал, – ответил он.
* * *
Илай Розенбаум не любит термин «охотник за нацистами», поскольку убежден, что по милости бульварной прессы, дешевых романов и фильмов для широкого зрителя это словосочетание обросло коннотациями, скорее имеющими отношение к мифу, чем к реальности, а миф всегда все гиперболизирует. Но, как бы Розенбаум ни протестовал против того, чтобы его называли главным американским «охотником за нацистами», он вполне заслужил этот титул, посвятив большую часть жизни преследованию фашистов на территории США.
Вследствие его усилий военные преступники лишались гражданства и покидали страну: либо их депортировали, либо с ними заключалась своеобразная сделка, по условиям которой они уезжали «добровольно». «Добровольность» была, конечно же, весьма условной: нацисты испытывали на себе постоянное давление со стороны Розенбаума и его коллег из Министерства юстиции.
Своими подвигами Илай Розенбаум вдохновил Алана Эльснера, одного из опытнейших корреспондентов агентства «Рейтер», на создание остросюжетного романа «Охотник за нацистами», опубликованного в 2007 году. Вторя своему прототипу, герой признается:
Я до сих пор балдею от этих слов – «охотники за нацистами»! Когда их слышишь, представляешь себе отважных искателей приключений, которые преследуют безжалостных гестаповских палачей и настигают их в укрепленных убежищах посреди южноамериканских джунглей. О, если бы в этом была хоть доля правды. На деле охота за нацистами выглядит гораздо менее эффектно. Я никакой не искатель приключений, не секретный агент и даже не частный детектив, а обыкновенный юрист. Ношу темные костюмы с неброскими галстуками. Целыми днями роюсь в архивах, штудирую микрофильмы. Иногда с кем-то встречаюсь, иногда присутствую на заседаниях суда. Нацисты, с которыми я имею дело, совсем не похожи на грозных военачальников. Чаще всего они оказываются неприметными старичками, ведущими скучную безвестную жизнь в пригородах Кливленда или Детройта.[611]
Правда, впереди героя все-таки ждут приключения, соответствующие растиражированному образу «охотника за нацистами», который был отвергнут прототипом как не соответствующий реальности.
Илай Розенбаум родился в 1955 году в еврейской семье, бежавшей из Германии в конце тридцатых. Его детство прошло в городке Уэстбери на Лонг-Айленде. В школе он и его друзья прочли дневник Анны Франк, однако желание заниматься проблемами холокоста возникло гораздо позднее. Илай знал, что многие европейские родственники их семьи погибли, но родители не любили об этом говорить. «По тому, как эту тему упорно замалчивали, я понял, насколько она серьезна и болезненна»,[612] – вспоминает Розенбаум.
Постепенно сын все же узнавал то, о чем мать и отец предпочитали ему не рассказывать. В двенадцатилетнем возрасте он посмотрел на черно-белом экране телеверсию бродвейского спектакля по пьесе Петера Вайса «Дознание», в основу которой легли материалы франкфуртского суда над работниками Освенцима. «Тогда я впервые услышал, что творилось в концлагерях, – говорит Розенбаум, – и был потрясен. Потрясен до глубины души». Особенно его поразили свидетельские показания польской католички, описавшей чудовищные медицинские эксперименты, которые производились над ее ногой. А через пару лет подросток прочел книгу Визенталя «Убийцы среди нас» и вновь ужаснулся, поняв, скольким преступникам удалось избежать наказания.
Недавние открытия приобрели личностную окраску благодаря нежданному признанию отца. В северной части штата Нью-Йорк у Розенбаума-старшего была назначена деловая встреча, после которой он собирался покататься на лыжах вместе с сыном. Начавшаяся метель замедлила их продвижение по магистрали. Тогда отец оседлал любимого конька – принялся рассказывать о своем военном прошлом. Первоначально он служил в Северной Африке, а потом его перевели в Европу, в отдел пропаганды 7-й армии, поскольку там были очень нужны люди, владеющие немецким языком. Служащие этого подразделения устанавливали возле линии фронта громкоговорители и призывали германских солдат сдаваться, обещая, что с ними будут хорошо обращаться. Об этом старший Розенбаум много раз рассказывал Илаю. А еще он рассказывал о внутриармейских боксерских поединках, в которых участвовал, и о том, как однажды напился с приятелями, не столько разозлив, сколько позабавив командира.
Вероятно, из-за того, что относительно нейтральные истории давно закончились, в этот раз отец поделился с сыном тем, о чем до сих пор молчал.
– А ведь я был в Дахау на следующий день после освобождения, – выпалил он.
Что такое Дахау, Илай уже знал. Когда 7-я армия вошла в лагерь, Розенбаум был в другом месте, но поблизости, и до его части быстро дошли ужасающие слухи. Вместе с другим солдатом он по приказу начальства отправился изучать обстановку.
– И что ты там увидел? – не мог не спросить сын.
Снежная буря к тому времени разыгралась не на шутку. «Продолжать путь стало страшно, – вспоминает Илай Розенбаум. – Мы оба уставились на дорогу, я стал ждать ответа, но его не было». Заглянув отцу в лицо, мальчик увидел, что глаза у него на мокром месте, а губы шевелятся, но слова будто застряли в горле. После долгой паузы старший Розенбаум сменил тему.
«Я все понял, – говорил Илай, объясняя, почему родители избегали говорить с ним на эту тему. – Сам факт, что произошедшее было настолько чудовищно, что он просто не мог об этом говорить, сказал мне, что мне нужно было знать».
С тех пор слух Илай чутко улавливал любую информацию о холокосте – благо американская пресса семидесятых годов часто рассказывала читателям о преступлениях нацистов. Ральф Блюменталь, репортер «Нью-Йорк таймс», освещавший дело Гермины Браунштайнер, много писал и о других нацистах, бежавших из Европы за океан, а молодой журналист Говард Блам выпустил книгу «Их разыскивает полиция: нацисты в Америке».[613]
Главный герой этого публицистического бестселлера – Энтони Де Вито, ветеран Второй мировой войны, который, как и отец Илая Розенбаума, побывал в Дахау вскоре после освобождения. Вернувшись домой с женой-немкой, он поступил на работу в Службу иммиграции и натурализации, где ему однажды поручили заниматься делом Браунштайнер. С тех пор он посвятил себя преследованию пятидесяти девяти нацистов, проживавших в США (список ему предоставил сотрудник Всемирного еврейского конгресса[614]).
В 1974 году, после нескольких лет непрерывной борьбы с начальством, Де Вито уволился из иммиграционной службы, заявив, что ее руководители всячески препятствуют розыску военных преступников. «Он был единственным, кто жаждал возмездия»,[615] – писал Блам. Созданный журналистом портрет крестоносца, борющегося с укрывательством бывших нацистов (некоторые из них сотрудничали с ЦРУ и другими правительственными структурами), привлек всеобщее внимание, в том числе и внимание Илая Розенбаума, бывшего в ту пору абитуриентом юридического факультета Гарвардского университета. «Я попался на эту удочку, – вспоминает он теперь. – Проглотил наживку вместе с крючком».
Позднее Розенбаум пришел к выводу, что Блам преувеличил заслуги Де Вито, приуменьшив роль правительства, которое изначально прилагало усилия, чтобы не впускать военных преступников в страну. Сам же Де Вито поверил дифирамбам в свой адрес и, преследуя нацистов, стал путать реальность с вымыслом. «Его жизнь превратилась в триллер, – говорит Розенбаум. – Он из тех, кто слишком увлекается чтением романов». Как бы то ни было, именно книга Блама помогла многим американцам узнать о том, что чиновники допустили ряд серьезных ошибок, позволив нескольким нацистским преступникам укрыться на территории Соединенных Штатов.
* * *
Правда, заметили это не только Блам и Де Вито. В 1973 году к Элизабет Гольцман, уроженке Бруклина, недавно избранной в конгресс от Демократической партии, подошел сотрудник Службы иммиграции и натурализации с просьбой о неофициальной встрече. Встреча состоялась, положив начало событиям, в результате которых через шесть лет при Министерстве юстиции США возникло Управление специальных расследований.
Как объяснила Гольцман, это учреждение было призвано служить «эффективным органом борьбы с нацистами».[616] Оно не имело права привлекать кого-либо к суду за преступления, совершенные за пределами США, однако имело право уличать во лжи того, кто при въезде в страну скрыл свое прошлое. Результатом разоблачения могло стать лишение гражданства с последующей депортацией, а на родине против депортированных в некоторых случаях возбуждались уголовные дела.
Впервые прочитав о Гермине Браунштайнер, Гольцман восприняла эту историю как редкое упущение со стороны американских властей, уникальное отклонение от нормы. Потому она не сразу поверила чиновнику иммиграционной службы, который явился к ней в кабинет с сообщением о том, что его ведомство располагает сведениями о пятидесяти трех нацистских преступниках, однако не принимает в связи с этим никаких мер. «Мне показалось невероятным, – вспоминает Гольцман, – чтобы после тех испытаний, через которые Америка прошла в годы войны, правительство позволило нацистским преступникам здесь обосноваться». И все же этот разговор посеял в ее душе сомнения, усилившиеся после того, как она прочла статью о Валериане (Вьореле) Трифе.[617]
В молодости Трифа руководил студенческим звеном румынской фашистской организации «Железная гвардия» и впоследствии был признан одним из зачинщиков еврейского погрома в Бухаресте в 1941 году. После войны он эмигрировал за океан, стал священником Северо-Американской митрополии Православной церкви и со временем возглавил Румынское епископство. Начиная с пятидесятых годов зубной врач Чарльз Кремер, родившийся в Бухаресте в еврейской семье, собирал против Трифы улики, стремясь привлечь его к ответственности. Архиепископ Валериан опровергал все обвинения, утверждая, будто таким очернением власти современной Румынии пытаются отомстить ему за антикоммунистическую деятельность.
Через несколько месяцев после встречи с человеком, сообщившим ей о проживающих в США нацистах, Элизабет Гольцман присутствовала на заседании иммиграционного подкомитета и смогла задать несколько вопросов Леонарду Чэпмену – уполномоченному Службы иммиграции и натурализации, бывшему командиру корпуса морской пехоты.
– Можете ли вы подтвердить, что в вашем учреждении имеется список предполагаемых военных преступников, живущих в Соединенных Штатах? – спросила Гольцман, ожидая услышать «нет», однако услышала «да».
«Я чуть не упала со стула», – вспоминает она. На вопрос о том, сколько в списке людей, Чэпмен ответил вполне определенно:
– Пятьдесят три.
Но когда Гольцман пришла в себя настолько, чтобы спросить о действиях иммиграционной службы в отношении этих пятидесяти трех лиц, уполномоченный предпочел скрыться «за дымовой завесой общих слов». Разочарованная таким ответом, Гольцман поинтересовалась, возможно ли ей ознакомиться с документами, на что Чэпмен, к ее удивлению, ответил утвердительно.
Документы находились на Манхэттене, и в конце следующей недели по дороге домой на выходные Гольцман заехала в офис, где ее ожидала аккуратная стопка бумаг. Просматривая их одну за другой, Гольцман видела примерно одно и то же: каждый, кто фигурировал в списке, обвинялся в совершении тяжкого преступления (часто речь шла об убийстве евреев). Однако, если иммиграционная служба вообще проявляла к предполагаемым нацистам какой-либо интерес, дело ограничивалось поиском домашнего адреса и визитом, в ходе которого сотрудники не получали от человека никаких сведений – разве что справлялись о состоянии его здоровья. Никакого следствия не проводилось, поиском документов и свидетелей никто не занимался.
«Иммиграционная служба бездействует! Это возмутительно!» – заключила Гольцман и развернула кампанию с требованием создать особый отдел для рассмотрения подобных случаев. Сколько всего нацистов проживает в стране, она не знала, но убедилась в том, что чиновники в лучшем случае преследуют их без особого рвения, а в худшем – не преследуют вовсе. Энтони Де Вито и адвокат Виктор Скиано, помогавший ему в деле Браунштайнер, пытались изменить ситуацию, но, очевидно, потерпели поражение. Им обоим пришлось уволиться из иммиграционной службы, а кроме них, насколько Гольцман могла судить, никто в этом учреждении не желал призывать нацистов к ответу.
Заручившись поддержкой демократа Джошуа Эйлберга, члена палаты представителей от Пенсильвании, а также других коллег из обеих партий, Гольцман добилась своего: в 1977 году Служба иммиграции и натурализации объявила об открытии особого отдела, ответственного за судебное преследование нацистских преступников. Директором нового органа генеральный прокурор Гриффин Белл назначил юриста Мартина Мендельсона, который, как и Элизабет Гольцман, вырос в Бруклине. «Сам я несведущ в подобных вопросах, – сказал Белл Мендельсону, – но эта бруклинская дама сводит нас с ума, так что вы уж, пожалуйста, ее порадуйте».[618]
Было ясно: разбираться в событиях, произошедших несколько десятилетий назад, – задача не из легких. «Сохранившиеся свидетельства напоминали кусочки мозаики, которые деформировались от времени и теперь не соединялись друг с другом», – вспоминает Мендельсон. Установить истину бывало непросто даже тогда, когда удавалось разыскать свидетелей. Многие выжившие жертвы не могли узнать своих мучителей. «В лагере я смотрел им под ноги, а не в лицо», – сказал один бывший узник.
Для того чтобы отдел функционировал, Мендельсону требовалась команда первоклассных специалистов. Однако найти таких среди сотрудников иммиграционной службы оказалось крайне трудно. Даже подавший в отставку следователь Де Вито был, по мнению Мендельсона, «мошенником», который так преувеличил свои заслуги, что и сам поверил, будто он «второй Симон Визенталь».
Деятельность нового отдела не приносила плодов, тем не менее Элизабет Гольцман не сдавалась. В 1978 году, в результате ее трехлетних усилий, был принят закон, названный именем автора. Теперь иммиграционная служба получила право выдворять из страны всех, кто причастен к совершенным нацистами массовым убийствам. «Успех этой законодательной инициативы доказывает, что еще не поздно недвусмысленно обозначить нашу позицию в отношении военных преступлений», – заявила член конгресса, обращаясь к прессе.[619]
В январе 1979 года Гольцман заняла пост председателя иммиграционного подкомитета палаты представителей и с удвоенной энергией принялась за новую задачу – передать дела бывших нацистов из ведения Службы иммиграции в ведение Министерства юстиции, поскольку оно располагало значительно более обширными возможностями. Мендельсон, огорченный собственными неудачами, полностью поддержал эту идею. Правда, министерские чиновники, как выяснилось, вовсе не хотели брать на себя дополнительные обязанности, но Гольцман не оставила им выбора. «Либо вы возьметесь за дело добровольно, либо я впишу это в закон», – заявила она.
В том же году при Уголовном отделе Минюста США появилось Управление специальных расследований. Это был гораздо более мощный орган, чем просто подразделение иммиграционной службы. При первоначальном бюджете в 2 миллиона долларов удалось собрать команду из пятидесяти двух человек: юристов, следователей, историков и других специалистов.[620]
Когда это произошло, Илай Розенбаум возвращался в Гарвард из Филадельфии, со свадьбы друга. Остановившись, чтобы выпить газировки, он купил заодно и газету, в которой коротко сообщалось об открытии Бюро специальных расследований при Министерстве юстиции США. Розенбаум, студент второго курса юридического факультета, как раз собирался искать работу на лето. «Вот бы мне туда попасть!» – подумал он.
Вернувшись в свою кембриджскую[621] квартиру около полуночи, Илай позвонил в министерство и спросил номер телефона нового бюро, а в девять часов утра уже разговаривал с Мартином Мендельсоном, который перевелся туда из иммиграционной службы. Мендельсон задал молодому человеку только один вопрос:
– Вы знакомы с Аланом Дершовицем, известным гарвардским профессором-юристом?
Розенбаум ответил:
– Да, в прошлом семестре я посещал его лекции.
Мендельсон позвонил Дершовицу, и, когда тот подтвердил ему, что «парень хороший», Илай на одном этом основании получил место практиканта. «Сейчас те, кто хочет у нас работать, проходят гораздо более сложную проверку», – говорит Розенбаум.
Вскоре покинув министерское бюро, Мендельсон занялся преследованием военных преступников как частный юрист, а принятый им студент стал делать первые шаги на пути, который оказался не совсем прямым, но все же достаточно быстро привел его к руководящей должности. Розенбаум занимал пост директора Управления специальных расследований дольше всех своих предшественников и снискал славу ведущего «охотника за нацистами» в США.
* * *
Большинство военных преступников, эмигрировавших в Северную Америку после войны, были родом не из Германии или Австрии, а с оккупированных Гитлером территорий. Объясняется это следующими историческими фактами: многие беженцы из захваченных европейских стран и выжившие жертвы холокоста попали в лагеря для перемещенных лиц, расположенные в Германии, Австрии и Италии. В 1948 году президент Трумэн подписал закон,[622] согласно которому двести тысяч перемещенных лиц могли въехать на территорию США в течение двух ближайших лет. Но поскольку антисемитизм процветал в ту пору и в Америке, благоприятные условия создавались прежде всего не для евреев, а для представителей других этнических групп, в частности, для коренных жителей прибалтийских стран, поглощенных Советским Союзом, а также для фольксдойче, решивших покинуть территории, освобожденные от германской оккупации.
Со временем в закон были внесены поправки, и восемьдесят тысяч евреев все-таки въехали в США. В общей сложности до 1952 года Штаты приняли на постоянное место жительства четыреста тысяч перемещенных лиц. Те, кто бежал с территории прибалтийских стран и Украины, рассматривались как жертвы коммунизма, однако в их ряды затесалось немало коллаборационистов. Еще больше людей, помогавших нацистам, было среди этнических немцев.
Аллан Райан, возглавлявший Управление специальных расследований с 1980 по 1983 год, констатировал: «Приняв Акт о перемещенных лицах, законодатели забросили сеть в воды, которые, как всем было известно, кишели акулами. Неудивительно, что немало акул оказалось у нас».[623] Райан подчеркивает: неправомерно утверждать, будто большинство послевоенных иммигрантов сотрудничали с нацистами. Но даже если виновны лишь 2,5 %, выходит, что в Америке обосновалось примерно десять тысяч военных преступников.
Эти цифры взяты Райаном наугад, и многие, в том числе Розенбаум, считают их завышенными. Однако люди, въезжавшие в страну согласно Акту о перемещенных лицах, действительно не проходили серьезной проверки, значит, среди тех, кто выдавал себя за жертву, неизбежно оказывались и палачи. Получив гражданство, они стремились скорее слиться со средой и вели себя отнюдь не так, как голливудские экранные злодеи, вынашивающие новые коварные планы. По замечанию Райана, в США бывшие нацисты становились «тихими соседями и образцовыми гражданами».[624]
До 1973 года, когда давление, оказываемое на нацистских военных преступников, стало нарастать, правительство потребовало депортации лишь девяти из них и в большинстве случаев не добилось успеха. Работа Бюро специальных расследований, открытого в 1979 году, должна была компенсировать три десятилетия почти полного бездействия. Цель создания этого органа заключалась в том, чтобы продемонстрировать общественности: власти Соединенных Штатов серьезно (хотя и запоздало) намерены очистить страну от преступников, которые получили гражданство, предоставив ложную информацию о своем прошлом.
Готовясь к прохождению практики в новом следственном бюро, Илай Розенбаум размышлял о темных силах, плетущих интриги в правительственных структурах (нечто такое описал в своей книге Блам, опираясь на заявления, сделанные Де Вито после увольнения из иммиграционной службы). «У меня, – думал Розенбаум, – будет доступ к документам, значит, к концу лета я смогу вывести предателей на чистую воду».
Как практиканту ему поручили исследовать юридическую сторону сложных, но интересных дел вместе с другими членами новой команды – людьми чрезвычайно умными и преданными своей работе. «Конечно, никакого заговора я не раскрыл», – усмехается Розенбаум. Зато у него появилась новая цель, более реалистичная, – вернуться в Управление специальных расследований после университета, что он и сделал.
Новый орган столкнулся с теми же препятствиями, о которых говорил Мендельсон, пытаясь активизировать деятельность иммиграционной службы. Во внутреннем докладе, подготовленном Министерством юстиции США в 2010 году, сказано: «“Охота за нацистами” по прошествии стольких лет после окончания войны – дело, требующее недюжинного ума, терпения и эмоциональной стойкости».[625]
Одна из дополнительных сложностей была связана с получением информации из-за «железного занавеса». Гольцман и ее коллегам удалось установить с советским руководством отношения, позволяющие получать от граждан Союза свидетельства, полезные для следствия. Однако американские судьи с большой осторожностью воспринимали все, что приходило с Востока, – в документальной ли форме или в форме запротоколированных устных показаний.
И без того непростая ситуация осложнилась после того, как украинцы и прибалты стали заявлять, будто те, кто оказался под следствием, оклеветаны коммунистами. Разделяя эту точку зрения, журналист Пат Бьюкенен, впоследствии выдвигавший свою кандидатуру на пост президента, назвал министерское следственное бюро распространителем дезинформации, фабрикуемой в Кремле.
Иногда попытки привлечь бывшего нациста к ответственности давали быстрые и притом неожиданные результаты. В 1981 году под подозрение попал шестидесятиоднолетний железнодорожный рабочий Альберт Дойчер – украинский немец, приехавший в США в 1952 году. Как выяснилось, он входил в состав военизированной группы, расстреливавшей евреев в Одессе. Как только был подан иск, Дойчер бросился под товарный поезд.
В большинстве же случаев юридические баталии затягивались на годы. Некоторые дела, которыми занималось Бюро специальных расследований, были возбуждены еще до его создания. Показателен случай Валериана Трифы, румынского архиепископа, обвиненного в подстрекательстве к еврейским погромам. Он упорно все отрицал до тех пор, пока ему не показали фотографию, на которой он был запечатлен в форме «Железной гвардии». Но, даже признав факт своей принадлежности к этой фашистской организации, Трифа продолжал уверять, будто не совершил ничего предосудительного. Когда его делом занялось Управление, он сам отказался от американского гражданства, надеясь, что его оставят в покое. Надежды не оправдались, и через два года, в 1982-м, Трифа согласился на депортацию.
Но и на этом история не закончилась. Одна из сложнейших задач министерских «охотников за нацистами» состояла в том, чтобы найти страну, которая согласится принять выдворяемого преступника и, возможно, продолжит преследовать его в судебном порядке. Израильтяне судить Трифу не захотели: в Тель-Авиве дали понять, что случай Эйхмана – скорее исключение, нежели правило, и новых процессов над нацистами Государство Израиль устраивать не готово. В 1984 году архиепископа Валериана приняла Португалия, где он жил открыто и высказывался без стеснений: «Все эти разговоры про холокост еще аукнутся евреям».[626] Через три года Трифа умер.
* * *
Незадолго до выпуска из университета Илай Розенбаум, копаясь на полках кембриджского букинистического магазина, нашел книгу о концлагере Дора (до сих пор он о таком не слышал), написанную бывшим узником, борцом французского Сопротивления Жаном Мишелем. Даже Розенбаума, много читавшего о зверствах нацистов, потрясли воспоминания автора о том, в каких условиях содержались заключенные, чей труд использовался при производстве знаменитых германских снарядов «Фау-2».
В книге говорилось: «Рабы ракет непрестанно трудились под страхом смерти от рук садистов-эсэсовцев или капо».[627] Заключенные, доставленные из разных оккупированных стран, строили туннели при помощи самых примитивных орудий, а подчас и вовсе голыми руками. «Камни и машины, которые приходилось перетаскивать, были настолько тяжелы, что узники, эти ходячие скелеты, выбивающиеся из последних сил, порой погибали, раздавленные грузом. Ядовитая пыль жгла легкие. А выдаваемой еды не хватало бы даже тем, кто не работал»,[628] – писал Мишель. После восемнадцатичасового рабочего дня, когда заключенным приходилось спать прямо в туннелях, – в таких условиях могли выжить только очень сильные мужчины. И из шестидесяти тысяч подневольных работников выжило только тридцать тысяч.
Ознакомившись с воспоминаниями Мишеля, Розенбаум прочел замечательную книгу Фредерика Ордуэя и Митчелла Шарпа «Ракетная команда»,[629] в которой рассказывается о Вернере фон Брауне и его коллегах, немецких ученых, многие из которых после войны были вывезены в США и сыграли ключевую роль в разработке американской ракетно-космической программы. К их числу принадлежал Артур Рудольф, под чьим руководством велось проектирование ракеты «Сатурн-5», доставившей на Луну первых астронавтов. Как отмечается в книге американских авторов, при Гитлере Рудольф был одним из управляющих производственным комплексом Дора, а следовательно, эксплуатировал «рабов ракет».
Розенбаум не раз говорил, что Управление специальных расследований часто возбуждает дела против бывших нацистов после получения сигнала от зарубежных правительственных структур или средств массовой информации. Но в этом случае тогдашний студент-юрист вознамерился сам проявить инициативу, как только окончит университет. Если фон Браун в 1977 году умер, то Рудольф был еще жив.
Поступив в следственное бюро на постоянную работу, Розенбаум в тот же день встретился с Нилом Шером, заместителем директора. Услышав о Рудольфе, тот первым делом спросил, не был ли он завербован для работы в США в ходе операции «Скрепка». Розенбаум ответил утвердительно. Тогда Шер предупредил молодого сотрудника, что дела ученых, попавших в страну в рамках этой программы, довольно бесперспективны: обвинить их в совершении конкретных преступлений очень трудно. Но навести справки заместитель директора все-таки разрешил, прибавив: «Только не тратьте слишком много времени».[630]
Розенбаум проигнорировал это предостережение. Вместе с помощником он откопал кое-какие документы в национальном архиве, а затем отправился в Западную Германию изучать материалы процесса против военных преступников концлагеря Дора-Нордхаузен. Это был один из судов, организованных американской армией в 1947 году в Дахау. В качестве обвиняемого Артур Рудольф не фигурировал, однако 2 июня 1947 года его допрашивал майор Юджин Смит, и на этом допросе ученый признался в том, что присутствовал при казни «шести или двенадцати» заключенных: эсэсовцы вешали их на электрическом кране, используемом для перемещения частей ракет, а других узников заставляли смотреть. «Все должны были видеть, что ожидает саботажников»,[631] – пояснил Рудольф.
Теперь Розенбауму легко удалось убедить Шера провести следствие по этому делу. Тогда, в 1982 году, немецкий ученый вел комфортную жизнь пенсионера в городе Сан-Хосе, Калифорния. Уверенный в своей репутации выдающегося американского ракетостроителя, он как будто нисколько не обеспокоился, когда Райан (директор Управления), Шер и Розенбаум нанесли ему визит. Рудольф встретил их один, без адвоката, и всячески показывал, что готов к сотрудничеству. По его словам, он старался облегчать жизнь заключенных, однако в это слабо верилось с учетом сохранившихся свидетельств жестоких убийств, которые совершались в лагере.
На следующую встречу Рудольф явился уже с адвокатами и спросил, может ли он каким-то образом предотвратить возбуждение уголовного дела. Стороны заключили соглашение: Рудольф откажется от гражданства США и покинет страну, но, поскольку обвинение ему предъявлено не будет, он сможет и впредь получать пенсию. С точки зрения Розенбаума, это была победа: «Тяжба растянулась бы на годы. А так мы сразу договорились, что он проиграл».
Для Рудольфа удар оказался не таким уж сокрушительным, хоть он и сетовал на неблагодарность американских властей, которые сначала воспользовались им, а потом выпроводили. Что же касается самого факта перевербовки нацистов американцами для нужд собственной оборонной промышленности, то Розенбаум не вполне согласен с теми, кто резко осуждает этот шаг. По его мнению, в преддверии холодной войны такие меры были оправданны. О Рудольфе он говорил: «Я не буду задним числом критиковать решение правительства сотрудничать с ним». Однако он считает, что немецкого ученого следовало отправить в Германию раньше – как только он перестал быть нужен Соединенным Штатам.
Дело Рудольфа стало для Розенбаума самым крупным на раннем этапе его карьеры. Тогда он еще не знал, как долго будет заниматься охотой за нацистами – точнее, как долго просуществует Управление специальных расследований при Минюсте США. Его коллега Элизабет Уайт, специалист по новейшей истории Европы, была принята в штат в 1983 году. «Тогда меня предупредили: “Бюро протянет года три, от силы пять”, – вспоминает она, с улыбкой прибавляя: – Первые двадцать пять лет так говорили всем, кто поступал к нам на работу».[632] Поскольку бывшие нацисты к тому времени успели состариться, предполагалось, что преследовать скоро будет некого. Однако Элизабет Уайт проработала в следственном бюро двадцать семь лет, за это время существенно расширив список бывших нацистов, которых не следовало впускать в США.
Розенбаум с годами стал рьяным «охотником» и особенно наловчился в нанесении подозреваемым неожиданных визитов. Тем не менее ему нередко приходилось испытывать разочарование. «Часто я чувствовал, что передо мной нацист до мозга костей, но не мог ничего доказать, – признается он. – Такие случаи были неизбежны. Для того чтобы доводить до логического завершения все дела, у нас не хватало людей. Приходилось расставлять приоритеты».
После трех лет службы в Бюро Розенбаум решил было свернуть на более традиционный путь и устроился в большую манхэттенскую юридическую контору, но вскоре понял: корпоративное право – не его стезя. Ведь он уже «имел несчастье» поработать над делами, которые для него «действительно что-то значили».
В 1984 году Розенбаум к ним вернулся – правда, он не восстановился в штате Бюро специальных расследований, а поступил на должность главного юрисконсульта Всемирного еврейского конгресса. В первые же два года работы в этом качестве он, продолжая разоблачать бывших слуг Третьего рейха, вступил в конфронтацию с другим «охотником за нацистами». Противником Розенбаума оказался кумир его юности – Симон Визенталь.
Глава 13 В Ла-Пас и обратно
Сорок четыре депортированных ребенка – это не просто статистика, а сорок четыре трагедии, боль от которых не утихла и сорок лет спустя.[633]
Б. и С. КларсфельдСерж Кларсфельд, французский «охотник за нацистами», признавал, что капитан гауптштурмфюрер СС Клаус Барбье, шеф лионского гестапо, был не чета Эйхману, Менгеле или освенцимскому коменданту Хёссу. «Барбье не состоял в совете директоров. Скорее он принадлежал к менеджерам среднего звена, – говорит Кларсфельд, подчеркивая, однако, что это не умаляет тяжести преступлений, совершенных эсэсовцем. – Для нашей страны он стал олицетворением гестаповской жестокости. Высшие чины с жертвами не контактировали: они действовали через таких, как Барбье. Он лично обеспечил тем, кому удалось выжить после встречи с ним, неизгладимые воспоминания. Это был один из самых фанатичных местных палачей».[634]
Барбье ответствен за смерть тысяч людей в годы нацистской оккупации Франции, и многих из них он замучил собственными руками. Даже в ту пору, когда вся Европа погрязла в насилии, он выделялся на фоне других убийц особой жестокостью, которая вполне оправдывала его прозвище – «лионский мясник».
Самая знаменитая жертва Клауса Барбье – Жан Мулен, лидер французского Сопротивления. Барбье беспощадно пытал его, чтобы заставить говорить, но так ничего и не добился. Герой умер в поезде по пути в германский концентрационный лагерь.
Помимо борьбы с Сопротивлением, «лионский мясник» занимался арестами евреев и снискал на этом поприще громкую «славу». 6 апреля 1944 года по сигналу, полученному от доносчика-француза, он прибыл в крошечную деревушку Изье, где располагался приют для еврейских детей.
Местный житель, сельскохозяйственный рабочий, наблюдал сцену захвата. «Нацисты волокли ребятишек к грузовикам, точно мешки с картошкой»,[635] – вспоминал он. Перепуганные дети звали на помощь, но, как только он двинулся им навстречу, один из солдат остановил его. Ему оставалось лишь стоять и беспомощно смотреть. Когда какой-то мальчик попытался выпрыгнуть из кузова и убежать, нацисты принялись «жестоко бить паренька прикладами и пинать сапогами по голеням».[636]
Барбье незамедлительно передал в парижскую штаб-квартиру гестапо отчет об аресте детей и закрытии приюта. «Эта телеграмма, – пишет Кларсфельд, – вошла в историю как доказательство жестокости, превзошедшей даже то остервенение, которое было продемонстрировано в борьбе с партизанами».[637] Сорок четыре ребенка в возрасте от трех до тринадцати лет и семь воспитателей были оперативно переправлены в Освенцим. Выжила только одна женщина, навсегда запомнившая, как маленькую девочку вырвали у нее из рук, чтобы отправить вместе с остальными в газовую камеру. Для Кларсфельда эта история – не просто один из множества военных эпизодов, но трагедия, вызывающая личностный отклик. В то время он сам был ребенком и прятался вместе с сестрой в похожей деревушке. За несколько недель до ареста Нина Аронович, одна из девочек, живших в Изье, написала своей тете в Париж, что чувствует себя в безопасности:
Мне здесь очень хорошо. Кругом такая красота: горы и Рона, которую видно, если забраться повыше. Вчера мы с мадемуазель Марсель (это наша учительница) ходили купаться, а в воскресенье праздновали день рождения Полет и двух других ребят. Было очень весело! [638]
Серж Кларсфельд и его жена Беата решили сделать все возможное, чтобы мир узнал имена жертв Барбье, а он сам поплатился за содеянное. Кроме того, они хотели во всеуслышание объявить о том, что после войны «лионский мясник» служил в спецподразделении армии США и именно американцы помогли ему эмигрировать в Боливию так называемой «крысиной тропой».[639] Несмотря на двадцатилетнюю дистанцию, отделяющую время событий от времени расследования, Беата и Серж выполнили все поставленные задачи. Поднятая Кларсфельдами «волна» заставила американские власти впервые серьезно задуматься о собственной роли в судьбе нацистских преступников.
* * *
Лионский суд дважды заочно приговорил Клауса Барбье к смерти: в 1947 и 1954 годах. В 1960 году одна из ассоциаций жертв нацизма инициировала в Мюнхене расследование преступлений, совершенных Барбье во Франции, но тот давно исчез: еще в 1951 году он вместе с семьей покинул родину и под именем Клауса Альтмана обосновался в Боливии. Там он преуспевал как предприниматель и пользовался доверием политиков правого крыла, а также военных. Летом 1971 года Беата Кларсфельд узнала, что мюнхенский прокурор закрывает дело Барбье. В то время «лионский мясник» имел все основания чувствовать себя в безопасности, поскольку пользовался особым расположением боливийского диктатора Уго Бансера.
Однако Барбье недооценил пылкость и упорство Кларсфельдов. Они начали с главного: по крупицам собрали все сохранившиеся сведения о его деятельности в годы оккупации Франции, а также о сотрудничестве с США. Стало очевидно, что началось оно сразу после войны. Беата поделилась своими открытиями с прессой и, собрав группу единомышленников (среди которых были ветераны Сопротивления), отправилась в Мюнхен, чтобы убедить прокурора не отказываться от расследования преступлений Барбье.
Серж разыскал Раймона Грейссмана, возглавлявшего еврейскую общину оккупированного Лиона. Тот подтвердил, что Барбье доподлинно знал, какая судьба уготована арестованным. «Расстрелять их сейчас или депортировать – разницы нет»[640] – так однажды выразился «лионский мясник» в присутствии Грейссмана.
Сестра Мулена написала письмо в поддержку инициативы Кларсфельдов, а в Мюнхене Беата держала плакат над головой Фортюне Бенгиги – женщины, депортированной в Освенцим за год до того, как из деревни Изье в лагерь прибыли три ее сына. На плакате было написано: «Я буду голодать до тех пор, пока не возобновится следствие по делу Клауса Барбье – убийцы моих детей».[641]
Мюнхенский прокурор Манфред Людольф не только согласился продолжать расследование, но и предоставил французской делегации две фотографии: на одной был изображен Клаус Барбье в 1943 году, а на другой – очень похожий на него пожилой человек, сидящий за столом со своими коллегами-предпринимателями. Второй снимок, датированный 1968 годом, был сделан в Боливии, в Ла-Пасе. «Это пока все, чем я располагаю, – сказал прокурор. – Если вы так решительно настроены, то почему бы вам не помочь мне разыскать этого человека?»[642]
Растиражировав фотокарточки, Кларсфельды стали собирать письменные показания людей, которые могли узнать Барбье на более позднем, боливийском снимке. После того как военная фотография «лионского мясника» появилась во французских и немецких газетах, немец, живущий в Лиме, сообщил Людольфу, что знаком с «герром Альтманом», который недавно приезжал в перуанскую столицу. Прокурор передал информацию Кларсфельдам, и вскоре они получили адрес разыскиваемого преступника. В этом им помогло еще и то, что даты рождения детей Альтмана и детей Барбье в точности совпадали.
Беата, как всегда, была готова действовать безотлагательно. Прилетев в Лиму, а оттуда в Ла-Пас, она рассказала журналистам историю «лионского мясника», а заодно осудила режим Бансера, который его покрывал. «Мне хотелось помочь боливийцам увидеть связь между происходящим в их стране и тем, что происходило в Германии при Гитлере»,[643] – вспоминает она. Разумеется, власти не были признательны иностранке за такую помощь, и ей пришлось покинуть Боливию. Во время пересадки в Лиме ее два часа продержали в отделении полиции, чтобы она не могла передвигаться по городу. «Мы беспокоимся о вашей же безопасности, – сказал один из полицейских. – Местные фашистские организации в ярости оттого, что вы развернули кампанию против них в Южной Америке. Вас могут убить».[644]
К началу 1972 года Кларсфельдам удалось «расшевелить» французские власти. В письме Бансеру президент Жорж Помпиду заявил: народ Франции не потерпит того, чтобы преступления недавнего прошлого «были забыты вследствие безразличия».[645] Беата вернулась в Ла-Пас вместе с еще одной матерью, чьи двое детей попали из деревни Изье в Освенцим и там погибли. Поскольку женщины привлекли к себе внимание, боливийское руководство их впустило, но настоятельно рекомендовало им не делать публичных заявлений. Первоначально Беата действительно воздерживалась от громких высказываний, но, как только представилась возможность, организовала пресс-конференцию. Затем иностранки приковали себя цепями к скамье перед офисом судоходной компании, где работал «лионский мясник». На плакате они написали по-испански: «Именем миллионов жертв нацизма Барбье-Альтман должен быть экстрадирован!»
Вторая поездка Беаты в Ла-Пас тоже окончилась быстро, однако воздействовать на общественное мнение Кларсфельдам и их единомышленникам все же удалось. О Барбье, который уже перестал скрываться под фамилией Альтман, все чаще и чаще писали в газетах. Тем не менее Беата и Серж понимали: даже при более активной поддержке со стороны Германии и Франции шансы на выдачу преступника почти равны нулю. Сотрудник боливийского Министерства внутренних дел заявил: «Все, кто получил убежище в нашей стране, неприкосновенны».[646] Кроме того, он сообщил Беате, что в Боливии действует восьмилетний срок давности в отношении тяжких преступлений, следовательно, деятельность Барбье в годы войны рассматривается как «дело прошлое».
«Лионский мясник» полагал, будто находится под надежной защитой режима Бансера и потому может относиться к выпадам Кларсфельдов с пренебрежением. Как и множество других нацистских преступников, он заявил, что просто исполнял свой долг и каяться ему не в чем: «Я уже все забыл, а если они не забыли, это их проблемы».[647]
Кларсфельды оказались перед выбором: продолжать требовать выдачи Барбье в надежде на изменение ситуации или же перейти к более решительным мерам. Как пишет Беата в своих мемуарах, опубликованных в 1972 году на французском языке, а в 1975-м – на английском, ее не раз спрашивали: «А почему вы просто не убьете этого палача?» – «Никто из тех, кто задавал подобные вопросы, сам бы так не поступил, – говорит она, прибавляя: – К тому же, убив его, мы бы просто свели с ним счеты… но никому бы ничего не доказали».[648] Кларсфельдам было важно, чтобы Барбье предстал перед судом. Тогда весь мир увидел бы неопровержимые доказательства его вины и в очередной раз убедился бы в том, как ужасен нацизм.
Правда, позднее супруги признались: они все же не исключали применения силы, в случае если законные средства окажутся бессильны. «Мы даже пробовали организовать похищение»,[649] – сказал мне Серж при нашей личной встрече в Париже в 2013 году. В декабре 1972 года он летал в Чили на встречу с французским марксистом Режи Дебре – соратником аргентинца Че Гевары, ветерана революции на Кубе, в борьбе против боливийской диктатуры. (В 1967 году, после того как Гевара был убит, Дебре получил тридцатилетний срок, однако под нажимом мировой общественности власти Боливии освободили его в 1970-м.) План заключался в том, чтобы объединить усилия с боливийскими повстанцами, пересечь границу и схватить Барбье.
Кларсфельд привез с собой пять тысяч долларов на покупку машины для этой операции, но она сломалась, с чем, по словам Сержа, и связан провал. Однако, вероятно, осуществить замысел не удалось бы в любом случае, поскольку ситуация в Чили быстро менялась в худшую сторону: военный переворот 1973 года положил конец президентству марксиста Сальвадора Альенде.[650]
Более десяти лет Кларсфельдам не удавалось добиться ощутимых успехов в деле Барбье. Не отказываясь от своих намерений в его отношении, Беата и Серж параллельно преследовали трех других эсэсовцев, служивших во Франции: Лишку, Хагена и Хайнрихзона – они жили в Западной Германии и потому были не столь недосягаемы. В 1980 году их наконец-то осудили за участие в депортации пятидесяти тысяч евреев из Франции в лагеря смерти; Кларсфельдам было чему радоваться.
При этом в деле Барбье они и не думали останавливаться. Наоборот. Если в семидесятые годы убийство категорически отвергалось Кларсфельдами как способ возмездия, то в конце восьмидесятых, по их словам, они дозрели до крайних мер. Бансер, защитник Барбье, был к тому времени уже свергнут, но новый диктатор также не собирался выдавать «лионского мясника». В 1982 году к Кларсфельдам пришел боливиец, живший во Франции, и заявил, что возвращается на родину с намерением убить Барбье. «Мы одобрили это решение», – сказал мне Серж, пояснив: в ситуации, когда диктатура защищает нацистского преступника, у них просто не было другого выбора, поэтому кровопролитие было бы оправданно.
Однако боливиец вскоре сообщил из-за океана, что милитаристский режим вот-вот падет. Тогда Кларсфельды отказались от плана убийства и возобновили попытки повлиять на политиков своей страны, чтобы те все-таки добились передачи Барбье в руки французского правосудия. К тому же у Беаты и Сержа появился в правительственных кругах очень полезный единомышленник. «Дебре, – вспоминает Кларсфельд, – превратился из террориста в советника президента Миттерана».
Вскоре власть в Боливии перешла от милитаристов к гражданскому правительству, и 25 января 1983 года Барбье был арестован – формально за обман при заключении делового соглашения с государственной структурой. Новым властям явно не терпелось избавиться от человека, создававшего столько проблем. Когда Западная Германия отказалась принять своего уроженца,[651] стало очевидно, что Кларсфельды не напрасно воздействовали на правительство Франции. Боливийцы выслали Барбье в Гвиану, откуда его забрал французский военный самолет.
Готовясь к судебному процессу, Серж опубликовал книгу «Дети Изье: Человеческая трагедия», рассказав в ней о каждом из сорока четырех маленьких мучеников. Вместо сухой статистики читателям были названы имена и показаны лица – немые, но оттого не менее убедительные свидетельства преступления, совершенного нацистами. Кларсфельды вместе написали введение, в котором подчеркнули: таких, как «лионский мясник», необходимо призывать к ответу прежде всего для того, чтобы содеянное ими обрело документальную форму. «Мы выследили и разоблачили Клауса Барбье, думая о детях Изье – только о них, и ни о ком другом»,[652] – сказано в предисловии.
Слушания начались лишь в 1987 году. Подсудимый так и не признал свою вину. Дело рассматривалось в Лионе – там, где он зверствовал на посту шефа гестапо. Приговоренный к пожизненному заключению за преступления против человечества, он умер через четыре года в лионской тюрьме в возрасте семидесяти семи лет.
* * *
Из всего, что говорили и делали Кларсфельды, добиваясь ареста «лионского мясника», лишь одно вызывало вопросы – заявление о его сотрудничестве с американской разведкой, при помощи которой ему и удалось бежать в Боливию. Узнав о передаче Барбье в руки французского правосудия, Аллан Райан, возглавлявший Бюро специальных расследований при Министерстве юстиции США, признался, что был застигнут врасплох этой историей и, в частности, сообщениями о том, что Барбье работал на американскую разведку. «Я ни сном ни духом об этом не знал и прямо об этом заявил», – сказал Райан.
Но когда со стороны конгресса и средств массовой информации на него посыпались вопросы, он твердо решил все выяснить. 11 февраля 1983 года, менее чем через три недели после прибытия нацистского преступника во Францию, Райан встретился с начальником армейской контрразведки, который приготовил для него целую стопку документов. Самый поздний из них датировался 27 мая 1951 года. Это был доклад двух агентов о том, как они снабдили «лионского мясника» фальшивым паспортом, оформленным на фамилию Альтман, сопроводили до Генуи, а оттуда отправили в Южную Америку. «В факте взаимодействия Барбье с нашими спецслужбами сомневаться не приходилось, – констатирует Райан. – Если бы мы не собрали полную картину, это сделал бы какой-нибудь журналист или доморощенный “охотник за нацистами”».[653]
Несколькими десятилетиями ранее высшее руководство США стало бы все отрицать, прикрываясь заботой о государственной безопасности. Но теперь, когда было создано Бюро специальных расследований и правительство официально заявляло о своем намерении преследовать бывших нацистов, игнорировать подобные открытия было трудно. Тем не менее генеральный прокурор Уильям Френч Смит попытался это сделать. К негодованию Райана, он решил не проводить следствия, однако не стал во всеуслышание объявлять о своем решении. Министерство юстиции просто уклонялось от ответа на вопросы журналистов и конгрессменов, желающих знать, почему оно ничего не предпринимает. Райану тоже было велено молчать, но он едва сдерживал возмущение.
14 марта ему позвонил Джон Мартин из телерадиовещательной компании Эй-би-си. Журналист работал над сюжетом для вечернего выпуска новостей и хотел выяснить, есть ли в деле какие-нибудь подвижки. «Он явно намекал на то, что мы многого недоговариваем»,[654] – вспоминает Райан. Узнав о готовящемся телерепортаже, Смит в течение получаса пересмотрел свое решение, и вечером Мартин смог сообщить телезрителям о начале расследования.
Райан быстро собрал в своем Управлении небольшую следственную группу. То, что Барбье сотрудничал с контрразведкой США и извлек из этого сотрудничества выгоду, сомнению не подлежало. Однако предстояло выяснить, насколько американские офицеры были осведомлены о «заслугах» «лионского мясника» и о том, что французы его разыскивают. Еще нужно было установить, работал ли Барбье на ЦРУ и продолжал ли поддерживать связь с американцами после 1951 года, когда он обосновался в Боливии.
По результатам тщательнейшего расследования бюро подготовило доклад, который, несмотря на бесстрастный тон, обрисовывал картину, не уступающую шпионским романам Джона Ле Карре. Еще в январе 1947 года сотрудники контрразведки проинформировали свое начальство о том, что в годы войны Барбье возглавлял лионское отделение гестапо, а теперь состоит в «опасном заговоре»[655] с другими бывшими эсэсовцами. Однако в ту пору основная задача спецслужб США заключалась отнюдь не в преследовании бывших нацистов, а в том, чтобы следить за деятельностью коммунистов в оккупированной Германии.
Роберт Тейлор, один из американских разведчиков, узнал от бывшего агента германской разведки во Франции, что Барбье может быть очень полезен в этом отношении. Вместе со своим непосредственным начальником Тейлор решил использовать «лионского мясника» как информатора, пока не докладывая о нем в штаб-квартиру, поскольку руководство будет обязано потребовать его ареста. Барбье показался Тейлору «умным и честным человеком со стальными нервами», «убежденным антикоммунистом и нацистом», который считает, будто партийная верхушка «предала идеалы национал-социализма».[656] За два месяца успев оценить, насколько Барбье может быть полезен, Тейлор и его начальник решили открыто попросить руководство оставить бывшего нациста на свободе до тех пор, пока тот с ними сотрудничает.
В октябре 1947 года «лионский мясник» все же был арестован и подвергнут «тщательному допросу»[657] в командном центре американской контрразведки в Европе, однако вышел сухим из воды. Его признали особо ценным информатором, поскольку он располагал сведениями о французских разведчиках, среди которых, как считали американцы, было множество коммунистов. Была и еще одна (пожалуй, даже более веская) причина не идти на конфронтацию с Барбье: он «слишком хорошо знал цели, преследуемые американскими спецслужбами, их финансовые возможности, агентов, субагентов и т. д.».[658]
Французы неоднократно предпринимали попытки разыскать бывшего гестаповца. Посол Франции в Вашингтоне обращался с просьбой о помощи в Госдепартамент и в Высшую комиссию США по проблемам Германии. А сотрудничество Барбье с американскими спецслужбами тем временем продолжалось.
Озвучивая результаты расследования в докладе, Райан предпочел избежать излишней категоричности. Он отметил, что офицеров, которым принадлежит идея использования бывшего гестаповца в качестве информатора, «нельзя осуждать»: в целом они «патриоты и добросовестные работники, перед которыми поставили трудную задачу», и в их решении «нет ничего циничного или безнравственного».[659] В докладе подчеркивалось, что изначально эти американские офицеры могли не знать истинных масштабов совершенных Барбье преступлений. «Вербуя его, они, вероятно, полагали, будто он обыкновенный наемный осведомитель»,[660] – говорит Дэвид Маруэлл, историк, сотрудничавший со следственным бюро.
Однако в 1949 году стало очевидно, что «лионский мясник» разыскивается как нацистский преступник, и тогда контрразведка стала скрывать факт своего сотрудничества с ним, крайне уклончиво отвечая на вопросы Высшей комиссии США по проблемам Германии. Поскольку у военного руководства не было оснований не доверять контрразведчикам, оно действительно не знало о том, что они поддерживают с Барбье связь. Именно поэтому многократные попытки французов получить от американцев его координаты не увенчивались успехом.
Сотрудники ЦРУ, согласно опубликованному докладу, также были введены контрразведкой в заблуждение. Две разведывательные структуры жестко конкурировали и относились друг к другу с большой подозрительностью. Фактов, указывающих на то, что после отъезда в Южную Америку Барбье сотрудничал с ЦРУ или какой-либо иной правительственной организацией, следствие не обнаружило.
На основании всего вышесказанного директор Управления специальных расследований заключил: «Пользоваться помощью бывшего нациста, пусть даже сотрудника гестапо, – одно дело, пользоваться помощью разыскиваемого военного преступника – другое».[661] Контрразведка перешла эту грань, что, по убеждению Райана, недопустимо: «Страх оконфузиться – не повод для того, чтобы одна правительственная структура дезинформировала другую».[662]
Кроме того, в докладе следственного бюро прямо говорится о непосредственном участии контрразведки США в бегстве Барбье: он был не первым нацистом, покинувшим Германию при помощи американцев, но первым и единственным, кого они спасли, воспользовавшись «крысиной тропой». Хорватскому священнику Крунославу Драгановичу, который отправил по этому маршруту многих военных преступников из своей страны, заплатили за то, чтобы он обеспечил «лионскому мяснику» и его семье возможность доплыть на теплоходе от Генуи до Буэнос-Айреса, а оттуда перебраться в Боливию.
В своих мемуарах Райан называет доклад «хроникой бесчестия»,[663] но при этом с гордостью отзывается о проделанной работе и о том отклике, который она вызвала. Направляя копию отчета о расследовании правительству Франции, госсекретарь Джордж Шульц официально выразил сожаление в связи с тем, что по вине Соединенных Штатов преступник так долго скрывался от правосудия. Пресса, проявлявшая живейший интерес к этой теме, с похвалой отозвалась о способности Вашингтона признавать прошлые ошибки. Из всех одобрительных отзывов Райана в первую очередь порадовало письмо, полученное генеральным прокурором Смитом от французского министра юстиции Робера Бадинтера. «Это весьма скрупулезное исследование свидетельствует о стремлении к истине, которое делает честь вашему обществу»,[664] – писал Бадинтер.
Меры, принятые Сержем и Беатой Кларсфельд для привлечения Клауса Барбье к ответственности, произвели волновой эффект, превзошедший все их ожидания.
Глава 14 Война и ложь
Есть в жизни всех людей порядок некий, Что прошлых дней природу раскрывает…[665]
У. Шекспир. «Генрих IV», часть II, акт III, сцена 1Если преследование Барбье было продиктовано благородным стремлением восстановить юридическую и историческую справедливость и увенчалось бесспорной победой, то дело Курта Вальдхайма оказалось далеко не столь однозначным.
В 1986 году, когда он, бывший Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, оказался лидирующим кандидатом на пост президента Австрии, общественности стали известны некоторые факты его военного прошлого. Это не только обострило предвыборные дебаты, но и вызвало глубокие разногласия в кругу «охотников за нацистами», а также между австрийской еврейской общиной и Всемирным еврейским конгрессом (ВЕК), штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке. В завязавшейся борьбе никто не победил, однако многие вышли из нее с запятнанными репутациями.
29 января 1986 года, во время пленарной ассамблеи Всемирного еврейского конгресса в Иерусалиме, Генеральный секретарь этой организации Исраэль Зингер коротко сообщил Илаю Розенбауму, что тот должен поехать в Вену навести кое-какие справки:
– Дело касается доктора Курта Вальдхайма. Хотите верьте, хотите нет, но он, похоже, нацист. Причем настоящий.[666]
Розенбаум, недавно уволившийся из манхэттенской юридической конторы и поступивший в ВЕК на должность юрисконсульта, отнесся к этой новости скептически. Ни для кого не было секретом, что Вальдхайм служил в вермахте и получил ранение на Восточном фронте, но в НСДАП, по всей вероятности, не состоял и ничего сверх выполнения обязанностей солдата не делал. Из опыта работы в Управлении специальных расследований при Министерстве юстиции США Розенбаум знал, насколько непросто заставить кого-то лично отвечать за преступления Третьего рейха, и потому попытался отказаться от командировки. «Шансов слишком мало», – сказал он Зингеру.
Хотя ему было только тридцать лет, он чувствовал усталость при одной мысли о возвращении к прежнему занятию. Но Зингер, чьи родители в свое время бежали из Австрии, не собирался сдаваться. Он устроил Розенбауму встречу с Леоном Зельманом – бывшим узником Освенцима и Маутхаузена, который теперь руководил еврейским центром, расположенным в маленьком офисе напротив венского собора Святого Стефана. Зельман старался привлекать евреев в Вену и боролся с проявлениями глубоко укоренившегося австрийского антисемитизма. Приехав на ассамблею, он сообщил Розенбауму, что недавно обнаружились ранее неизвестные факты военного прошлого Вальдхайма, и в подтверждение своих слов раскрыл венский еженедельник «Профиль».
В одной из статей говорилось о споре, который разгорелся в связи с решением Австрийской военной академии повесить на своем здании мемориальную доску с именем генерала Александра Лера, командовавшего военно-воздушными силами страны перед аншлюсом. В годы войны он служил в люфтваффе и, в частности, руководил внезапной бомбежкой Белграда 6 апреля 1941 года, которая разрушила значительную часть города и унесла жизни тысяч мирных людей. В 1947 году Лер предстал перед югославским судом и был повешен как военный преступник. В конце статьи упоминалось о том, что, «по слухам», в период, когда австрийский генерал командовал группой армий «Е», действовавшей на территории Югославии и Греции, под его началом служил Курт Вальдхайм.
Автор подчеркивал: политик носил тогда всего лишь младший офицерский чин. Тем не менее, как полагал Зельман, эта информация могла произвести настоящий взрыв. Розенбаум же был по-прежнему настроен скептически, поскольку в годы председательства Вальдхайма в ООН его биография тщательно изучалась. Если он действительно служил под началом казненного военного преступника, почему этот факт до сих пор не «всплыл»? Потом, даже окажись «слух» правдивым, оснований для порицания Вальдхайма все равно не было, поскольку генерала Лера повесили за преступления, совершенные до перевода на пост командующего группой «Е», а следовательно, молодой офицер не мог в них участвовать.
Но прежде чем Розенбаум успел озвучить свои сомнения, Зельман пояснил, почему факт, упомянутый в журнальной статье, так насторожил его. В автобиографии, а также во всех других опубликованных жизнеописаниях и письмах Вальдхайма умалчивалось о службе на Балканах. Политик предпочитал утверждать, будто в 1941 году, после ранения на Восточном фронте, он окончил свою военную карьеру и вернулся в Австрию. Дальнейшие события он всегда описывал так, как в 1980 году представил их американскому конгрессмену Стивену Соларзу: «Став негодным к армейской службе, я возобновил обучение на юридическом факультете Венского университета, который и окончил в 1944 году».[667]
– Здесь какое-то несовпадение, – продолжал Зельман. – Если в 1941-м Вальдхайм был уволен из действующей армии, то как он мог служить под началом Лера? Ведь того перевели из люфтваффе в сухопутные войска только в 1942-м! Где-то кроется обман.
Зельман предложил Розенбауму по окончании ассамблеи поехать в Вену и осторожно навести справки. Американец сомневался, что его ожидают открытия, и хотел поскорее вернуться в Нью-Йорк, однако пришлось согласиться. Благо искать ответы на вопросы, поднятые журнальной статьей, ему, по-видимому, предстояло не одному: можно было надеяться на помощь Зельмана.
Надежда не оправдалась. В первый же день по прибытии в Вену, как только Розенбаум спросил: «С чего начнем?», коллега побледнел и словно бы сразу стал старше.
– Видите ли, дорогой Илай, мое положение здесь и так довольно тяжелое, – ответил он испуганно. – Я люблю этот город, но знаю, что скрывается под поверхностью.
То есть как еврей, живущий в Вене, он не хотел участвовать в расследовании. Когда Розенбаум спросил, может ли он по крайней мере держать его в курсе, тот с сочувствием ответил:
– Нет, пожалуйста, не нужно. Я предпочел бы остаться в стороне.
Зельман прибавил, что хотел бы узнать конечный результат и что Розенбаум может обратиться к нему в случае каких-то неприятностей, однако дальше их сотрудничество простираться не должно. «Видимо, быть бесстрашным старым евреем в Иерусалиме – это одно дело, а в Вене – совсем другое», – заключил Розенбаум.
* * *
Но проблема, как выяснилось, заключалась не просто в бесстрашии или страхе. Зельман знал: любая попытка раскрыть тайну военного прошлого Вальдхайма во время предвыборной гонки вызовет у его сторонников агрессивную реакцию. Могут последовать выпады как против евреев, так и против конкурентов-социалистов. Сам Вальдхайм представлял консервативную австрийскую Народную партию. От Социалистической партии выдвинули Курта Штайрера. У консерваторов шансов на победу было гораздо больше, поскольку их кандидат пользовался расположением соотечественников как бывший генсек ООН. Его афиши гласили: «Доктор Курт Вальдхайм – австриец, которому доверяет весь мир». Розенбаум с грустной усмешкой заметил, что он «самый известный уроженец Австрии после Гитлера».
Пользуясь сведениями, полученными от Зингера, молодой американец установил связь с другими людьми, которые тоже интересовались прошлым Вальдхайма. В большинстве своем они были связаны с правящей Социалистической партией. Именно благодаря им появилась статья в журнале «Профиль», однако, к их разочарованию, она не имела особого отклика. К моменту прибытия Розенбаума, которое они восприняли как новый шанс, у них появилась еще кое-какая информация.
Один из тех, с кем он договорился о встрече, запретил разглашать свое настоящее имя. В воспоминаниях Розенбаума этот человек фигурирует под псевдонимом «Карл Шуллер». Итак, Шуллер при помощи нескольких единомышленников уже начал неофициальное расследование. В управляемом американцами берлинском архиве, где хранились списки захваченных нацистов, упоминаний о Вальдхайме не нашлось. Более плодотворными оказались изыскания, предпринятые в государственном архиве Австрии. Папка с военными документами Вальдхайма была запечатана, но друг Шуллера, работающий в правительстве, сумел скопировать несколько страниц.
Вальдхайм позиционировал себя как выходца из антифашистской семьи, и до 1938 года он действительно вел кампанию против присоединения Австрии к Германии, но аншлюс, согласно найденным документам, быстро изменил его образ мыслей. Вскоре Вальдхайм стал членом студенческой национал-социалистической лиги и, что еще существеннее, записался в СА – штурмовой отряд.
В дополнение к этим и без того компрометирующим сведениям Шуллер показал Розенбауму фотографию с военной печатью, сделанную 22 мая 1943 года. На полевом аэродроме стояли четыре офицера. Согласно подписи, один из них служил в итальянской армии, другой носил чин бригаденфюрера СС, а третьим был лейтенант Курт Вальдхайм. Аэродром располагался в Подгорице, следовательно, в 1943 году будущий политик находился вовсе не в Вене, как утверждал впоследствии, а в столице Черногории. Он действительно служил на Балканах под командованием Лера.
Информация, которую удалось раздобыть Шуллеру и его коллегам, была далеко не исчерпывающей. Однако первоначальный скептицизм Розенбаума сменился уверенностью в том, что их открытие вызовет живейший отклик прессы. Желая узнать, убедился ли Шуллер в достоверности полученных сведений, американец задал, как ему представлялось, очевидный вопрос:
– Вы показывали эти фотографии и документы Визенталю? Я бы мог ему позвонить и…
– Ни в коем случае! – прервал его Шуллер. – Визенталь знает, что вы здесь?
Когда Розенбаум ответил, что еще не говорил с ним, Шуллер облегченно вздохнул:
– Вот и хорошо. Он не должен быть в курсе того, чем вы тут занимаетесь.
Затем он объяснил, что Визенталь ненавидит социалистов и потому поддерживает Народную партию. Если он что-то пронюхает, то «прямиком побежит к Вальдхайму».
Согласно его воспоминаниям, Розенбаум попытался возразить, сказав, что считает ошибкой оставлять Визенталя в неведении:
– Но мы же в Вене, прямо у Визенталя под носом. Если мы не привлечем его сразу, то просить о помощи потом будет затруднительно.[668]
Однако Шуллер остался непреклонен и даже заявил, что откажется сотрудничать с американцем, если тот свяжется с Визенталем. Розенбауму пришлось сдаться. Последствия оказались гораздо серьезней, чем он мог предположить.
* * *
Когда руководство Всемирного еврейского конгресса узнало о результатах командировки своего юрисконсульта, президент организации Эдгар Майлз Бронфман (миллиардер, председатель совета директоров компании «Сиргем») поднял вопрос о том, следует ли обнародовать полученные сведения.[669] Всем было ясно: поскольку до сих пор охота за нацистами не входила в сферу деятельности конгресса, стоит его сотрудникам вмешаться в это дело, их тут же объявят клеветниками, стремящимися сорвать предвыборную кампанию Вальдхайма. Но если до выборов они будут молчать, это может выглядеть как попытка защитить его. Вооружившись служебной запиской, полученной от Розенбаума, Зингер убедил Бронфмана принять безотлагательные меры. Тот отослал записку обратно, чиркнув на ней от руки: «Действуйте. Э. М. Б.».
Розенбаум связался с редакцией «Нью-Йорк таймс», и Джон Тальябуэ, один из самых талантливых корреспондентов, взялся написать репортаж. Журнал «Профиль» также продолжал расследование, и в его номере за 2 марта 1986 года было сообщено о том, что нынешний кандидат в президенты от консерваторов состоял в нацистской студенческой лиге и в СА. Днем ранее Тальябуэ взял у него интервью, которое мгновенно произвело международную сенсацию, выйдя в печать 3 марта под заголовком «Архивные документы подтверждают: Вальдхайм служил под началом военного преступника».[670] Из статьи Тальябуэ читатели узнали, что политик служил в отряде генерала Лера, жестоко подавлявшего партизанское движение в Югославии и депортировавшего греческих евреев из Салоник в концлагеря. В марте 1942 года там же, в Салониках, Вальдхайм был прикреплен к армейскому командованию, где выполнял обязанности переводчика при германских и итальянских офицерах в Югославии.
Готовя материал для журнала «Ньюсуик»,[671] я сумел встретиться с Вальдхаймом в альпийском курортном городке Земмеринге. Политик устал после долгого предвыборного дня и не горел желанием в очередной раз комментировать факты, озвученные в «Профиле» и «Нью-Йорк таймс». И все же он согласился дать мне интервью в своей гостинице, решив, очевидно, что это позволит ему минимизировать ущерб для репутации. Несмотря на дурное настроение, Вальдхайм достаточно хорошо контролировал свои эмоции, чтобы по возможности производить впечатление человека, который способен с легкостью устранить «недоразумение», ставшее причиной скандала.
Именно это слово употребил Вальдхайм, когда речь зашла о слухах о его членстве в СА и нацистской студенческой лиге. Кандидат в президенты заверил меня в том, что на самом деле он не состоял ни в одной фашистской организации. Правда, будучи студентом, он участвовал в командных соревнованиях по верховой езде, и позднее его вместе с другими университетскими спортсменами внесли в списки СА, но это было сделано без его ведома. Кроме того, в молодости Вальдхайм посетил «несколько заседаний дискуссионного клуба» – только и всего. «Ни в какие организации я не вступал. Вышло недоразумение», – заявил он мне.
В отличие от СС, СА (штурмовые отряды) по окончании войны не были признаны преступной организацией, и их члены не подвергались особому порицанию. К тому же, отправившись на фронт, Вальдхайм в принципе не мог оставаться в составе СА. Вопрос главным образом заключался не в том, что будущий политик делал перед началом войны, а в том, можно ли ему доверять, если на пути к посту Генерального секретаря ООН он постоянно лгал, скрывая от общественности свое прошлое. Намеренно ли он умалчивал о службе на Балканах под руководством Лера? Если да, то, вероятно, у него были и другие тайны?
Того, что ему довелось служить на Балканах, Вальдхайм отрицать не стал. «Я был солдатом вермахта, и это ни для кого не секрет», – сказал он. Однако до недавнего времени общественность знала лишь о первой части его военной биографии, меж тем как в документах ясно говорилось: поправившись после полученного в России ранения в ногу, Вальдхайм вернулся в действующую армию. Его отправили в Салоники, а учебу на юридическом факультете он продолжал заочно.
Я спросил, почему он никогда не озвучивал этих фактов и не упомянул о них в недавно опубликованной автобиографии. Политик ответил:
– Я не стал вдаваться в подробности, которые, на мой взгляд, не существенны.
Я не поверил этому объяснению, но самому Вальдхайму оно, по-видимому, показалось достаточно убедительным. Он заговорил заметно оживленнее, когда я коснулся одного из его заявлений в интервью «Нью-Йорк таймс». Беседуя с Тальябуэ, Вальдхайм сказал, будто не подозревал о депортации евреев из Салоник. В 1943 году, когда он служил в этом греческом городе, с железнодорожной станции один за другим отправлялись в Освенцим набитые людьми поезда. Однако будущий президент Австрии продолжал утверждать: он был в первую очередь переводчиком и именно в этом качестве запечатлен на фотографии с итальянским и германским генералами. «Разумеется, я глубоко сожалею о тех событиях, – сказал Вальдхайм, имея в виду холокост. – Уверяю вас, тогда я о них ничего не знал… О депортациях из Салоник я впервые услышал совсем недавно».
Чем дольше мы беседовали, тем настойчивее звучали слова Вальдхайма: «Хотите верьте, хотите нет, но я говорю правду. Я просто хочу поскорее покончить с этой историей, потому что те, кто утверждает, будто я был в курсе, лгут. Я ни в чем таком не был замешан и даже не имел об этом понятия. Против меня идет хорошо организованная кампания».
Вопреки желанию кандидата в президенты, «эта история» оканчиваться не собиралась. Напротив, она только началась.
* * *
Для Симона Визенталя разразившийся скандал явился неожиданностью. Как он с горечью заметил в своих мемуарах, ему все стало известно только тогда, когда юрисконсульт Всемирного еврейского конгресса приезжал в Вену, но «не нанес мне визита и даже не позвонил». Опасения Розенбаума оправдались: поскольку Визенталь уже сотрудничал с конгрессом, он был обижен тем, что сотрудники этой организации, не проконсультировавшись с ним, затеяли «на его поле» расследование, результаты которого предали широкой огласке.
Вопрос о военном прошлом Вальдхайма возник не впервые. В 1979 году израильтяне уже просили Визенталя узнать, не состоял ли тот в нацистской партии (это могло бы объяснить проарабскую позицию, занимаемую им в ООН). Визенталь доложил, что связался с Акселем Шпрингером, знаменитым западногерманским издателем, а тот согласился навести справки в берлинском архиве, куда имел свободный доступ. Сведений о принадлежности Вальдхайма к какой-либо фашистской организации найти не удалось. Удалось обнаружить упоминание о его службе на Балканах, но то, что он этот факт замалчивает, в ту пору не было столь очевидно и особых подозрений не вызывало.
В 1986 году, когда газеты заговорили о Вальдхайме как о члене нацистского молодежного союза, Визенталь не усмотрел в этом повода для беспокойства. Цитируя своего друга Петера Михаэля Лингенса, выдающегося австрийского журналиста, он отметил: членство в подобных организациях порой бывало нужно «даже для того, чтобы просто получить комнату в студенческом общежитии». Не слишком огорчило Визенталя и то, что, как участник соревнований по верховой езде, будущий генсек ООН числился в СА. Строго говоря, на его причастность к военным преступлениям никакие свидетельства не указывали.
И все-таки, хоть он и злился на Всемирный еврейский конгресс, Визенталь осудил Вальдхайма – не за деятельность в годы войны, а за отрицание осведомленности о происходившем вокруг. То, что офицер вермахта, служащий в Греции, мог не знать о депортации салоникских евреев, показалось Визенталю невероятным. «Он ведет себя так, словно его охватила паника, – сказал мне “охотник за нацистами”. – Зачем он лжет, я не понимаю».[672]
После заявления Визенталя ему позвонил Вальдхайм[673] и повторил то же, что говорил мне. В ответ он услышал:
– Вы не могли ничего не заметить. Депортация продолжалась шесть недель. Чуть ли не каждый день арестовывали около двух тысяч евреев. Их увозили те же поезда, которые доставляли обмундирование и боеприпасы для вермахта, то есть для ваших людей.
Вальдхайм продолжал настаивать, что ничего не знал. Визенталь напомнил ему, что евреи составляли почти треть населения Салоник и нельзя было не заметить, как закрываются их лавки, а их самих целыми семьями ведут по улицам. Получив неизменный ответ, «охотник за нацистами» заключил:
– Я вам не верю.
Не поверил Визенталь и в то, что Вальдхайм мог не знать о зверствах, совершаемых в Югославии. Ведь совершались они теми же войсками, в которых он состоял. Будучи разведчиком, а вовсе не простым переводчиком, как он убеждал, Вальдхайм «входил в число наиболее информированных офицеров».[674]
При всем этом Визенталь не собирался аплодировать американцам, развернувшим наступательную операцию против Вальдхайма. Наоборот, он заявил, что при всей претенциозности своего названия ВЕК – «не более чем мелкая еврейская организация мизерного значения».[675] Вальдхайм – лжец и оппортунист, однако к массовым убийствам непричастен, а ВЕК, недолго думая, объявил его «нацистским фанатиком и чуть ли не военным преступником».[676]
Защитники Вальдхайма высказывали в адрес еврейского конгресса тот же упрек, добавив, что за попытками очернить кандидата в президенты стоит сионистский заговор. В ответ на это Розенбаум справедливо отметил: автор газетной статьи, написанной по результатам проведенного расследования, обвиняет Вальдхайма не в военных преступлениях, а только во лжи. Впоследствии американец признался: он и его коллеги были поражены агрессивной реакцией австрийской прессы и, растерявшись, не смогли удачно ответить на все многочисленные вопросы. Когда их спросили, пытаются ли они повлиять на итог выборов, они сказали, что им лишь интересно, как при наличии стольких темных пятен в биографии Вальдхайму в восьмидесятые годы удалось два срока пробыть на посту Генерального секретаря ООН. «Это прозвучало настолько фальшиво, – вспоминает Розенбаум, – что никто в это не поверил. На самом деле мы, конечно, очень хотели, чтобы Вальдхайм отказался – добровольно или вынужденно – от предвыборной гонки».[677]
И Всемирный еврейский конгресс, и растущая армия репортеров были намерены выяснить, не таятся ли в прошлом Вальдхайма еще более компрометирующие факты. Изучение архивных документов ВЕК поручил Роберту Эдвину Херцштейну из Университета Южной Каролины. Полученные им сведения вызвали новые вопросы: какую роль играл Вальдхайм в балканских операциях вермахта? Как его имя оказалось в списке лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, составленном союзниками в 1948 году? Почему ни одно государство мира не требует его экстрадиции? В частности, почему дело против него не возбуждено в Югославии?
Вальдхайм и близко не был простым переводчиком. Он был офицером разведки и докладывал своему начальству о захвате британских спецотрядов (дальнейшая судьба которых неизвестна), а также допрашивал пленных. Кроме того, в его обязанности входил сбор информации о деятельности югославских партизан.
Развернув масштабную кампанию в свою защиту, Вальдхайм отправил сына Герхарда в Вашингтон, чтобы тот представил Министерству юстиции США тринадцатистраничное письмо, опровергающее его причастность к массовым убийствам. Отвечая на прозвучавшие обвинения, австрийский политик заявил, что не имел никакого отношения к резне, устроенной в трех югославских деревнях в октябре 1944 года. В то время германская армия почти повсеместно отступала, и Лер выводил свои войска из южной части Балкан, пробиваясь на север через Македонию. Для благополучного продвижения необходимо было контролировать участок дороги между городами Штип и Кочани. По данным, которыми располагал ВЕК, 12 октября Вальдхайм подписал доклад о «возросшей активности бандитов (партизан. – Прим. авт.) на дороге Штип – Кочани».[678]
Неудивительно, что нацисты выместили ярость на жителях трех деревень, лежавших на их пути. Вопрос в том, в какой степени кровопролитие было спровоцировано докладом Вальдхайма. В письме, которое он передал с сыном в Вашингтон, утверждалось, что германские войска заняли села 20 октября – через восемь дней после сообщения об активизации деятельности партизан. Если Вальдхайм не лгал, то причинно-следственная связь между его докладом и последующими событиями не представлялась безусловной.
В сопровождении югославского журналиста я отправился в Македонию. Сведения, полученные мною на месте событий, опровергали слова Вальдхайма, который говорил: «Жертвы имелись с обеих сторон», тем самым подразумевая: то, что германская армия делала на Балканах, было обычными боевыми действиями (безусловно, жестокими), а не военным преступлением. Выжившие обитатели деревень придерживаются противоположного мнения. Они называют случившееся не иначе как бойней и единогласно утверждают: произошла она не двадцатого октября, а четырнадцатого.
Петар Коцев из села Крупиште едва успел вернуться домой с полей, когда нацисты собрали всех местных мужчин и построили в шеренги по десять человек. Он встал в передний ряд одиннадцатым, и в последний момент солдаты его оттолкнули, а десятерых тут же расстреляли, после чего открыли огонь по всем остальным. Петар бросился бежать, укрылся примерно в полутора километрах от деревни, в устье реки, среди холмов, и пробыл там около месяца. «Когда я вернулся, – вспоминает он, – от нашего дома оставались только стены. Все сгорело».
Ристо Огнянов показал мне небольшой монумент, установленный в память о сорока девяти погибших жителях деревни. На этом самом месте нацисты приказали Ристо и его односельчанам сесть на корточки. Как только раздались выстрелы, он повалился на землю, притворившись мертвым. Потом солдаты стали стрелять упавшим по ногам, проверяя, все ли убиты. Ристо спасло то, что он лежал под двумя трупами. Когда нацисты ушли, он и еще двое выживших выползли из-под груды окровавленных тел. «Для меня 14 октября – второй день рождения, – сказал Огнянов со слезами на глазах. – Начало моей второй жизни».
В других деревнях я слышал похожие истории, которые, конечно, не свидетельствовали о прямой причастности Вальдхайма к массовым убийствам, однако доказывали, что резня была устроена всего лишь через два дня после написания доклада, а значит, он, вероятно, – одно из звеньев цепи, ведущей к кровопролитию.
До тех пор мне ни разу не доводилось разговаривать с Илаем Розенбаумом. Интервью у него, как и у других членов Всемирного еврейского конгресса, брал мой нью-йоркский коллега. Но после выхода моей статьи Розенбаум позвонил мне сам и спросил:
– Свидетели, с которыми вы разговаривали, уверены, что не путают дату?
– Абсолютно, – подтвердил я.
* * *
Разразился скандал, в результате которого за пределами Австрии многие стали смотреть на Вальдхайма с подозрением. Но среди соотечественников оказалось предостаточно таких, кто поверил, будто политика оклеветали. В мае ему не хватило нескольких процентов до победы в первом туре, и на начало июня был назначен второй тур. В этой связи Вальдхайм и его сторонники удвоили усилия по отражению атаки, возглавляемой Зингером, генсеком Всемирного еврейского конгресса, и Ицхаком Шамиром, министром иностранных дел Израиля.
На предвыборном митинге, который я посетил,[679] кандидат в президенты много говорил о клеветнических «голосах из-за рубежа». «Ни герр Зингер, американец, ни герр Шамир, израильтянин, не имеют права вмешиваться в жизнь другого государства, – заявил он, явно намекая на то, что евреев нужно проучить, а затем переменил тему: – Дамы и господа, довольно о прошлом! В настоящем у нас есть и более важные проблемы».
Сосредоточив усилия на «антиклеветнической» кампании, Вальдхайм отказался от дебатов со своим оппонентом-социалистом и заявил, что больше не будет общаться с иностранной прессой. Когда я подошел, чтобы узнать, не сделает ли он для меня исключение, его злоба обрушилась на мою голову: «В своем репортаже, скажу вам прямо, вы так исказили истину, что впредь я не намерен отвечать на ваши вопросы. Когда речь идет обо мне, вы видите только негативное, а позитивного предпочитаете не замечать». Все обвинения в свой адрес Вальдхайм назвал «вымыслом», но, заметив у меня в руке диктофон, прибавил: «Это не официальное заявление».
Венский психиатр Эрвин Рингель указывал на абсурдность предвыборной кампании Вальдхайма, который вначале похвалялся тем, как его уважают за границей, а под конец предвыборной гонки объявил себя жертвой международного заговора. «Сперва нам говорили: “Голосуйте за Вальдхайма, потому что весь мир его любит”, теперь же говорят: “Голосуйте за Вальдхайма, потому что весь мир его ненавидит”»,[680] – писал Рингель.
Но в электоральном плане такая тактика себя оправдала. Во втором туре Вальдхайм победил с хорошим отрывом. И заявил в адрес тех, кто ответствен за направленную против него «клеветническую кампанию»: «Даже если члены Всемирного еврейского конгресса будут рыться в архивах до скончания века, им не удастся найти ничего компрометирующего меня».[681]
Однако впоследствии ВЕК все же отпраздновал успех, хотя и небезоговорочный. В апреле 1987 года Управление специальных расследований, где раньше работал Розенбаум, опубликовало собственный отчет. В нем говорилось, что в годы службы на Балканах Вальдхайм «способствовал созданию благоприятных условий для деятельности нацистских вооруженных сил, совершавших многочисленные акты насилия по отношению к мирным жителям»,[682] такие, как резня в районе Кочане-Штип и депортация греческих евреев. На основании этого отчета Вальдхайм попал в список лиц, которым запрещено въезжать на территорию США, а также выступать перед Организацией Объединенных Наций, которую он прежде возглавлял.
Отработав на посту президента один срок, политик не стал участвовать в следующих выборах.
Роберт Херцштейн, историк, которому ВЕК поручил исследование материалов по делу Вальдхайма, обобщил результаты проделанной работы в отдельной книге. Соглашаясь с решением минюста о включении австрийца в «список особого внимания», Херцштейн отмечает, что Вальдхайм «не злодей, а просто амбициозный и умный человек… один из тех, кто, как и многие люди его поколения, решил избавиться от неприятного груза прошлого путем забвения».[683] Вывод, к которому пришел историк, таков: «Учитывая известные нам факты, справедливо будет сказать, что, оказывая содействие многим военным преступникам, сам Вальдхайм таковым не являлся. Его роль ограничивалась бюрократическим соучастием как в преступной, так и в легитимной деятельности соответствующих воинских подразделений. <…> Он был лишь посредником. Другие лица, выполнявшие ту же функцию, как правило, не преследовались западными союзниками после войны».[684]
Лидеры Всемирного еврейского конгресса высказались категоричнее. Исполнительный директор этой организации Илан Штейнберг, невзирая на отсутствие прямых свидетельств вины Вальдхайма, заявил: «Он предстал бы перед судом, если бы мир был не столь несовершенен».[685]
Беата Кларсфельд тоже заняла в отношении австрийского политика вполне однозначную позицию: являясь на предвыборные митинги в составе небольших групп протеста, она пускала воздушные шарики с надписью «Блажен, кто не помнит» и держала плакаты, на которых говорилось, что Вальдхайм – лжец и военный преступник. Его сторонники выхватывали и рвали эти плакаты.[686] «Я пытаюсь показать людям, – сказала она мне тогда же, – что избирать в президенты такого, как Вальдхайм, опасно для Австрии. Гражданам страны нужно открыть на это глаза».
На деле такие предостережения, казалось, только помогали кандидату от консерваторов. На одном из митингов, когда Беата попыталась прервать речь Вальдхайма, ей не позволили взять микрофон. «Сядьте, госпожа Кларсфельд, – сказал мэр Вены Эрхард Бузек, председательствовавший на собрании. – Вы здесь гостья. Митинг организован не в вашу поддержку».[687] «Убирайтесь, фрау Кларсфельд!» – закричали присутствующие.
Зингер, Генеральный секретарь Всемирного еврейского конгресса, в интервью журналу «Профиль» произнес слова, которые прозвучали как прямая угроза и имели большой резонанс, отнюдь не улучшив ситуацию. «Австрийское общество должно понимать, что, если Вальдхайм будет избран, последующие годы не будут легкими для страны»,[688] – заявил Зингер, добавив, что обвинения, выдвинутые еврейской организацией против политика, отразятся не только на нем самом, но и на всех австрийцах: произойдет спад в развитии туризма и торговли.
Даже Розенбаум впоследствии признал «несдержанность»[689] этого высказывания, однако руководство не желало ничего взвешивать. Эдгар Бронфман, президент еврейского конгресса, написал в своих мемуарах, что считает тогдашнюю тактику верной: «Многие еврейские лидеры смотрели на эту “атаку” как на сотрясание воздуха, не имеющее законной силы. Однако для меня она была связана с неким нравственным императивом. И перед какой бы аудиторией я ни выступал, люди на 100 % со мной соглашались».[690] Бронфман также подчеркивал, что кампания против Вальдхайма привела к «колоссальному росту популярности ВЕК и вывела нас на первый план».
Как бы то ни было, это внимание негативно сказалось на членах небольшой еврейской общины Австрии. Визенталь прямо назвал ВЕК виновником распространения новой волны неприкрытого антисемитизма. «До того как все это началось, у нас было множество понимающих друзей среди молодых австрийцев, – сказал он. – Теперь все наши усилия по созданию диалога пошли насмарку».[691]
Другие лидеры австрийского еврейства также выражали недовольство Всемирным еврейским конгрессом в связи с тем, что его руководители действовали, не советуясь с ними и не учитывая их интересов. Пауль Грош оценил кампанию против Вальдхайма как «очень эффективную с точки зрения собственной раскрутки при помощи американских СМИ», но «в целом очень дилетантскую, особенно если учитывать, к каким негативным последствиям это привело в Австрии», она «принесла много вреда (австрийским евреям. – Прим. ред.)».[692] На европейском съезде Всемирного еврейского конгресса, где Грош представлял Австрию, очень многие согласились с ним в том, что впредь заокеанское руководство организации должно советоваться с местными общинами, прежде чем совершать шаги, которые для них чем-то чреваты. Зельман (в свое время именно он предложил генсеку конгресса расследовать дело Вальдхайма, однако предпочитал об этом умалчивать) отметил, что ВЕК просто не имел права оставить эту историю без внимания, но кампания велась с позиции американских евреев, не совпадающей с позицией евреев австрийских.
В отношениях еврейства с коренным населением Австрии Зельмана обеспокоило явление, которое он определил как возрождение мышления в категориях «мы» и «вы». «Главная ошибка американских лидеров в том, – прибавил он, – что они отождествили Вальдхайма со всеми здешними жителями старше 65 лет. Это недопустимо». Визенталь высказался еще резче: «Они позволили себе угрожать всей Австрии – семи с половиной миллионам людей, пять из которых родились после 1945 года или были во время войны маленькими детьми. <…> Причем сначала они предъявили обвинение, а потом заглянули в документы».
Последнее утверждение Визенталя было не совсем точным. Разворачивая кампанию против Вальдхайма, ВЕК уже располагал достаточно весомыми уликами. Правда, по собственному признанию руководства конгресса, их набор был далеко не полон, то есть поиск следовало продолжать. По мнению Гроша, такая тактика отрицательно сказалась на всеобщем восприятии результатов расследования. «Поскольку информация, компрометирующая Вальдхайма, обнародовалась маленькими дозами, это вызвало эффект прививки, – подметил он. – Если на протяжении нескольких дней выпивать по капле яда, то со временем потеряешь к нему восприимчивость и сможешь выпить целый стакан».
Оборонительная реакция, выказанная многими австрийцами, имела веское основание. В первые послевоенные годы они успешно позиционировали себя как первых жертв Третьего рейха, а не как его восторженных сторонников (хотя таких в Австрии было более чем достаточно). Для многих австрийцев, включая демобилизованных солдат вермахта, момент истины так и не настал. «Когда они вернулись, никто не сказал им, что несколько лет их жизни было потрачено на неправое дело», – говорит Эрика Вайнцирль, директор венского Института новейшей истории. Между тем жителям Германии приходилось выслушивать такое чуть ли не каждый день. В частности, у них вырабатывалось сознание ответственности за холокост и другие массовые убийства.
Когда обвинения в адрес Вальдхайма просочились на первые полосы газет, я находился в Бонне, и многие знакомые мне немцы даже не пытались скрыть злорадство. Им нравилось видеть, как с их соседей срывают маску безвинно пострадавших. «В Австрии вам скажут, что Бетховен – австриец, а Гитлер – немец», – шутили в Германии. Один боннский чиновник, служивший в вермахте в конце войны, признался мне: «Я, как и многие мои соотечественники, считаю, что австрийцы сейчас получают по заслугам».[693]
Так или иначе, скандал вокруг Вальдхайма действительно имел и положительную сторону. Некоторые граждане Австрии, в частности молодые учителя, стали придерживаться более объективного взгляда на недавнее прошлое своей страны. Наступило время, которое министр иностранных дел Петер Янкович назвал периодом самоанализа и переоценки ценностей. На лекциях и конференциях теперь часто обсуждалась проблема антисемитизма, а дипломаты убеждали мировую общественность в том, что в их стране вовсе не приветствуется неонацистский образ мысли. Вероятно, поначалу это делалось в рамках пиар-кампании, и все-таки в обществе заговорили о том, о чем раньше молчали.
Невзирая на некоторые продуктивные последствия, конфликт оказался болезненным для всех задействованных сторон. В первую очередь это касается противоборства между Визенталем и Всемирным еврейским конгрессом, который только усилился после победы Вальдхайма.
Илай Розенбаум не раз говорил мне, что в юности считал Симона Визенталя героем, но кампания 1986 года сделала их противниками. Юрисконсульт Всемирного еврейского конгресса и другие члены этой организации принялись утверждать, будто австрийский «охотник за нацистами» всеми силами пытается остановить наступление на Вальдхайма. Визенталь ставил под сомнение многие свидетельства, говоря, что имеющиеся документы не доказывают факта участия политика в военных преступлениях. Особенно американцев оскорбила попытка возложить на них ответственность за тот антисемитизм, который слишком открыто проявился в предвыборной кампании Народной партии. Высказываясь о Визентале, Розенбаум сказал Зингеру:
– Мне неприятно это говорить, но он уподобляется антисемитам, которые заявляют: «Евреи сами виноваты в своих бедах».
Генеральный секретарь разделил негодование коллеги. Пробежав глазами последние заявления венского «охотника за нацистами», он воскликнул:
– Да что с ним не так? Кто-то должен ему напомнить: антисемитизм вызывают не евреи, антисемитизм вызывают антисемиты.
Немного погодя Зингер обвинил Визенталя в том, что он оказался «в одной постели с этими свиньями из Народной партии» из-за того, что защищал их кандидата.[694]
Когда Вальдхайм, несмотря на все нанесенные ему удары, вышел с поля боя победителем, Розенбаум решил громко озвучить то, что не давало ему покоя. Он подготовил для Зингера черновик ответа на статью в венской еврейской газете «Аусвег», где Визенталь в очередной раз выступил с критикой деятельности Всемирного еврейского конгресса. «Своей победой доктор Вальдхайм, несомненно, обязан господину Визенталю», – написал Розенбаум, пояснив, что, какие бы факты ни обнаруживались, «известнейший в мире “охотник за нацистами” тут же находил им неправдоподобное “объяснение”».[695]
Кроме того, Розенбаум упомянул об отказе, которым Визенталь ответил на запоздалое предложение членов еврейского конгресса проанализировать имеющуюся у них документацию. «Пытаясь обелить Курта Вальдхайма, он поставил несмываемое пятно на собственной репутации. Он унизил себя и оскорбил еврейский мир. Нам остается лишь пожалеть его»,[696] – резюмировал Розенбаум. Один из коллег смягчил формулировки, прежде чем отправлять статью в «Аусвег», и тем не менее ее так и не напечатали.
В своей книге, вышедшей позднее, Розенбаум развил теорию, суть которой отражается в заглавии: «Предательство: Нерассказанная история расследования и сокрытия фактов биографии Курта Вальдхайма» («Betrayal: The Untold Story of the Kurt Waldheim Investigation and Cover-up»). По убеждению автора, и у кандидата в президенты, и у «охотника за нацистами» «были свои тайны, и эти тайны ожидала одна и та же участь».[697]
Тайна Визенталя заключалась в том, что в 1979 году, когда израильтяне попросили его проверить прошлое Вальдхайма, он объявил генсека ООН невиновным. «Применительно к делу преследования нацистов это преступная халатность»,[698] – пишет Розенбаум, подчеркивая, что именно по этой причине Визенталь в дальнейшем стремился опровергнуть все обвинения Всемирного еврейского конгресса в адрес австрийского политика: в противном случае стало бы ясно, что «он потерпел страшный провал».[699]
Придя к такому выводу, Розенбаум посвятил большую часть книги о деле Вальдхайма осуждению всего, чем занимался Визенталь на протяжении своей карьеры. Вторя руководителю «Моссада» Иссеру Харелю, по словам которого слава Визенталя основывается на ложно присвоенных заслугах в поимке Эйхмана, Розенбаум создал портрет человека, привыкшего «вольно обращаться с фактами собственной жизни».[700]
По мнению Розенбаума, в автобиографиях Визенталя преувеличены и тяготы, пережитые им в войну, и его послевоенные достижения. «Те из нас, кто действительно преследовал нацистских преступников, знают, что этот человек не так грандиозен, как миф о нем»,[701] – утверждает Розенбаум, называя кумира своей юности «совершенно некомпетентным»[702] в охоте за нацистами, и тут же восклицает: «Но кому хватило бы дерзости – или глупости, – чтобы подняться и во всеуслышание об этом заявить?!»[703]
С этого момента Розенбаум решил взять на себя роль разоблачителя легендарной фигуры. В то же время он признает: благодаря Визенталю дело преследования нацистов не угасло в годы холодной войны. «Если бы не Симон Визенталь и не Тувья Фридман, стремление восстановить справедливость сошло бы на нет еще в конце шестидесятых», – сказал мне Розенбаум в 2013 году. И все-таки после скандала вокруг Вальдхайма он приходит в негодование всякий раз, когда о Визентале говорят как о человеке, снискавшем заслуженную славу выдающегося «охотника за нацистами».
Разгоревшаяся неприязнь Розенбаума к Визенталю имеет несколько причин, и некоторые из них сугубо личные. После ухода из правительственных структур Мартин Мендельсон, юрист, некогда принявший Илая практикантом, продолжил заниматься преследованием нацистов и неоднократно сотрудничал как с Симоном Визенталем лично, так и с лос-анджелесским Центром Симона Визенталя. Бывший начальник объясняет неутихающую злобу Розенбаума разочарованием: «Сначала Илай его боготворил, а потом, когда увидел, что он стоит на глиняных ногах, что он не бог, а человек, стал его ниспровергать».
Другой бывший коллега Розенбаума по Бюро специальных расследований[704] предлагает свое объяснение: молодой преследователь нацистов почувствовал себя оскорбленным, когда Визенталь с презрением отверг его попытку начать дело против Вальдхайма. Илаю показалось, что с ним обошлись как с ребенком.
Конфликт двух отдельных личностей вызвал напряжение между целыми сообществами: европейским и американским еврейством. Как в частных беседах, так и на публике Визенталь неизменно осуждал склонность Всемирного еврейского конгресса и аналогичных организаций, расположенных в США, «говорить от имени всех евреев». По его мнению, американцы часто игнорируют проблемы европейских евреев, не осознавая специфики их ситуации. Агрессивный настрой североамериканских еврейских активистов Визенталь объяснял «своеобразным чувством вины, которое подсознательно возникает у них оттого, что в годы войны они мало сделали для спасения евреев Европы».[705] А десятилетия спустя скандал с Вальдхаймом «позволил им принять эффектную позу».
Временами напряженность ощущалась даже в отношениях Визенталя с организацией, основанной в Лос-Анджелесе в 1977 году и выплатившей австрийскому «охотнику за нацистами» компенсацию за использование его имени, что существенно помогло ему в сборе средств на собственные проекты. Визенталь и Центр Симона Визенталя часто работали совместно, но между ними возникали и разногласия. По воспоминаниям раввина Марвина Хира,[706] основателя и главы лос-анджелесского Центра, разговаривая с ним по телефону, Визенталь не раз кричал: «Да как вы можете так поступать?!»
В пору предвыборной кампании Вальдхайма Хир высказывался в адрес австрийского политика гораздо резче Визенталя. Неудивительно, что однажды, когда между венским «охотником за нацистами» и Всемирным еврейским конгрессом разгорелся очередной спор, Зингер отправил Хиру прямолинейное послание: «СКАЖИТЕ ВИЗЕНТАЛЮ, ЧТОБЫ ЗАТКНУЛСЯ. ВСЕМУ ЕСТЬ ПРЕДЕЛ».[707]
Хир действительно спорил с Визенталем – по определенным вопросам. «Симон, – говорил он, – посадить Вальдхайма мы не можем, но хотя бы что-то сделать должны. Нужно помешать ему взобраться на вершину». Центр, возглавляемый Хиром, одобрил решение о включении австрийского политика в список лиц, которым запрещен въезд на территорию США. Визенталь это решение осудил. Напряжение возросло.
Хир, несмотря ни на что, признает: фактов, указывающих на какие-либо конкретные военные преступления Вальдхайма, выявлено не было. Вопреки гневным призывам Зингера, глава лос-анджелесской организации не собирался предпринимать попытку надавить на Визенталя (который все равно не стал бы ничего слушать) и не рискнул бы полностью порвать отношения с ним. Хир подчеркивает, что Визенталь гордился Центром, а Центр гордился правом носить имя человека, посвятившего жизнь тому, чтобы нацисты ответили за содеянное. В глазах Хира он был «культовой фигурой» и остался ею даже после скандала с Вальдхаймом.
* * *
Хотя Розенбаум и другие сотрудники Всемирного еврейского конгресса упрекали Визенталя в замалчивании нацистского прошлого нового президента Австрии, ирония заключалась в том, что преследователь нацистов никогда не жалел сил на то, чтобы сделать очевидной роль австрийцев в Третьем рейхе. Он не раз отмечал: составляя всего 10 % населения гитлеровской Германии, австрийцы ответственны примерно за половину военных преступлений. Три четверти комендантов концлагерей были уроженцами Австрии.[708]
Широкую огласку получили многочисленные конфликты Визенталя с социалистом Бруно Крайским, занимавшим должность австрийского канцлера с 1970 по 1983 год, из-за мягкого отношения последнего к бывшим нацистам, а также из-за категорических расхождений во взглядах на ближневосточные политические проблемы.
Несмотря на то что Крайский происходил из семьи нерелигиозных австрийских евреев, он взял на себя роль защитника стран третьего мира и резко осуждал Израиль, отрицая саму идею существования единого «еврейского народа». Визенталь язвительно замечал, что Крайский считает себя выше восточноевропейских евреев, таких, как он. «Он не желает иметь с нами ничего общего, – заявил Визенталь. – Ему жаль, что он вообще связан с евреями, а уж родство с нами для него и вовсе невыносимо».[709] Визенталь предположил, что выросший в антисемитской Австрии Крайский «захотел показать окружающим, будто ничем от них не отличается. <…> [Австрийский] еврей, стремящийся к полной ассимиляции, должен принять антисемитскую позицию».[710]
Визенталь резко критиковал те назначения, которые делал Крайский, и те союзы, которые он заключал. Первая волна критики обрушилась на социалиста в 1970 году, когда он, заняв пост канцлера, включил в состав своего правительства четверых бывших нацистов. В дальнейшем Визенталь осуждал его за сотрудничество с Фридрихом Петером, главой либеральной партии, в рядах которой было немало бывших слуг рейха. Как только Крайский склонился к тому, чтобы назначить Петера вице-канцлером, Визенталь распространил информацию о службе лидера либералов в айнзацгруппе СС, убивавшей евреев. Петеру пришлось оправдываться: он действительно состоял в эскадроне смерти, но в убийствах не участвовал.
Рассерженный Крайский назвал Визенталя «еврейским фашистом» и «мафиози»,[711] добавив, что он «реакционер, какие встречаются среди нас, евреев, точно так же, как убийцы и шлюхи».[712] Едва ли не теми же словами, какие сам Визенталь десятилетие спустя бросил в адрес Всемирного еврейского конгресса, Крайский обвинил его в том, что он зарабатывает себе на жизнь, «трубя на весь мир, будто Австрия – антисемитская страна».[713]
По некоторым сведениям, канцлер угрожал Визенталю закрытием его Центра исторической документации по еврейскому вопросу, а в довершение всего подхватил распространяемые польским коммунистическим правительством слухи о том, что Визенталь некогда с ними сотрудничал. Этого обвинение Крайскому потом пришлось опровергнуть, чтобы Визенталь отказался подавать на него в суд за клевету.
Бесспорно, ненависть Визенталя к канцлеру и его единомышленникам-социалистам способствовала развитию у него симпатии к Народной партии. Связь с нею он всегда отрицал, однако оппоненты, среди которых были Илай Розенбаум и Беата Кларсфельд, не слишком верили подобным заявлениям. Когда же разразился скандал вокруг Вальдхайма, обвинения, выдвинутые Всемирным еврейским конгрессом против кандидата в президенты, а заодно и против предполагаемого защитника последнего, поддержала не только Беата. Сам Визенталь вспоминал: «Серж Кларсфельд, выступая на французском телевидении, прямо-таки набросился на меня».[714]
Однако даже те, кто одобрял позицию Всемирного еврейского конгресса, зачастую не спешили соглашаться с Розенбаумом, утверждавшим, будто Визенталь что-то скрыл в 1979 году, когда израильтяне попросили его навести справки относительно тогдашнего генсека ООН. Историк Херцштейн, перед которым ВЕК поставил ту же задачу (изучить факты военной биографии Вальдхайма), отметил, что в подконтрольном США берлинском архиве доверенному лицу Визенталя сообщили, будто австрийский политик не числился ни в рядах СС, ни в членах НСДАП. «Внимательно изучив предоставленный ему отчет, Визенталь, не греша против истины, ответил израильтянам, что в Берлинском центре документации не обнаружено ничего компрометирующего»,[715] – говорит Херцштейн.
О принадлежности Вальдхайма к кавалерийскому штурмовому отряду и нацистской молодежной лиге Визенталь, по словам американского историка, знать не мог, поскольку указанные группы не были внесены в реестр нацистских организаций берлинского архива, и сведений об их членах там не имелось. В этом убедились и те, кто занялся изучением военной биографии Вальдхайма семью годами позднее.
Другой историк, Питер Блэк (в восьмидесятые он работал во Всемирном еврейском конгрессе, а теперь является одним из ведущих научных сотрудников вашингтонского Мемориального музея холокоста) с похвалой отзывается об исследовательской работе, проделанной Розенбаумом, но, как и Херцштейн, утверждает, что Визенталь ничего не скрывал. «Не могу себе представить, чтобы он состоял в каком-то заговоре и вообще руководствовался недобрыми побуждениями», – говорит Блэк. Вероятно, «охотник за нацистами» просто изучил личное дело Вальдхайма «не слишком тщательно» и решил, что тот «принадлежал к немалому числу германских офицеров, которые умудрялись числиться, где положено, и в то же время оставаться в стороне».[716]
По мнению Блэка, Визенталь не имел оснований воспринимать сам факт военной службы Вальдхайма как тревожный признак, потому что до конца восьмидесятых годов историками еще не был детально изучен вопрос об участии солдат вермахта в преступлениях против человечества на оккупированных территориях Греции, Югославии и Советского Союза.
Невзирая ни на какие доводы в защиту кумира своей юности, Розенбаум не желал отказываться от пылких обвинений в его адрес. В ходе баталии между Визенталем и Всемирным еврейским конгрессом многие получили раны, которые, возможно, до сих пор не зажили. С одной стороны, это был скандал в кругу «охотников за нацистами». С другой – очередной раунд их борьбы с теми, кто служил Третьему рейху.
Глава 15 Погоня за призраками
…На этой промежуточной станции невинные ждут своего мучителя, чтобы выдать ему маленькую порцию мести. Бог говорит, что месть полезна человеческой душе.[717]
У. Голдман. «Марафонец»Если верить всему, что пишут, то, «охотники за нацистами», как правило, не ограничивались «маленькими порциями мести». В 2007 году Дани Баз, отставной полковник израильских военно-воздушных сил, опубликовал на французском языке книгу «Ни забвения, ни прощения: По следам последних нацистов» (Ni oubli ni pardon: Au coeur de la traque du dernier nazi), определив ее жанр как мемуары. Вскоре она вышла на английском под названием «Тайные палачи: Потрясающая правдивая история карательного отряда, который выслеживал и убивал нацистских военных преступников» (The Secret Executioners: The Amazing True Story of the Death Squad Who Tracked Down and Killed Nazi War Criminals).
В то время еще продолжались поиски Ариберта Хайма – одного из наиболее известных нацистских убийц, которым после войны удалось сбежать. Уроженец Австрии, он работал врачом в Маутхаузене, где и получил заслуженное прозвище «доктор Смерть». Хайм убивал евреев инъекциями бензина и других отравляющих веществ в сердце, а также производил крайне жестокие опыты, в частности удалял органы здоровых заключенных, которые после этого умирали прямо на столе.[718] Неудивительно, что впоследствии его разыскивали все, начиная с германского правительства и кончая Центром Симона Визенталя (в списке беглых нацистских преступников, составленном этой организацией, «доктор Смерть» занимал одну из первых строк). Но Баз сделал шокирующее заявление: на протяжении четверти века поиски Хайма были не чем иным, как погоней за призраком.
Автор книги «Тайные палачи», по его собственному утверждению, входил в состав еврейской карательной бригады, которая казнила Хайма еще в 1982 году. Эту группу под кодовым названием «Сова» финансировали богатейшие из выживших жертв холокоста, а все ее члены, в прошлом сотрудники американских или израильских спецслужб, отличались превосходной подготовкой. «Я изменил имена своих товарищей по оружию, чтобы не нарушать режима секретности, действовавшего в нашей организации, которая пользовалась огромным бюджетом, сопоставимым с бюджетами крупнейших тайных агентств. Факты, изложенные в этой книге, строго соответствуют реальности»,[719] – пишет Баз, после чего разворачивает увлекательное повествование.
По словам автора книги, бойцы «Совы» выследили и убили десятки нацистов, но Хайма им было поручено захватить живым, чтобы он предстал перед трибуналом жертв холокоста. «Перед смертью мы заставляем этих крыс взглянуть в глаза своим жертвам»,[720] – пояснил Базу один из опытнейших членов группы. Несмотря на слухи о том, что Хайм скрывается в экзотических уголках земного шара, его якобы удалось обнаружить в США. Мстители проследовали за ним из северной части штата Нью-Йорк в Канаду. Он был похищен из монреальской больницы и доставлен в Калифорнию, где члены карательного отряда осудили, а затем казнили его.
Существует множество других историй о тайных убийствах военных преступников. Мартин Борман, могущественный начальник канцелярии НСДАП и личный секретарь Гитлера, исчез из бункера фюрера после того, как тот покончил с собой. Международный военный трибунал в Нюрнберге приговорил двенадцать высших чиновников рейха к смерти, из них только один, Борман, был приговорен заочно. Его, казалось бы, бесследное исчезновение породило множество домыслов. Одни говорили, что вскоре после выхода из бункера Бормана убили, другие – что он покончил с собой, надкусив капсулу с цианидом, третьи – что видели его на севере Италии или в Чили, Аргентине, Бразилии и т. д. А в 1970 году таблоид «Ньюз оф зе уорлд» напечатал серию репортажей бывшего агента британской разведки Рональда Грэя, позднее написавшего на материале этих статей книгу «Я убил Бормана!».
«Борман мертв. Уничтожен выстрелом из пистолета-пулемета “Стэн“. И на спусковом крючке был мой палец»,[721] – писал Грэй. После войны он, по его словам, служил на севере Германии, неподалеку от границы с Данией. В марте 1946 года к нему подошел неизвестный, попросивший его переправить человека за рубеж за 50 000 датских крон (на тот момент это был эквивалент 8400 долларов). Грэй согласился, поняв, что ему, вероятно, представится возможность арестовать контрабандистов, помогающих нацистским преступникам благополучно бежать из страны. Когда человек, о котором шла речь, оказался в кузове его военной машины, он узнал Мартина Бормана. Была ночь, но луна светила ярко.
Достигнув назначенного пункта на датской границе, грузовик остановился. На дорогу вышли два человека. Выйдя из автомобиля, Борман сразу же к ним побежал. Поняв, что попал в засаду, Грэй выстрелил. Борман упал. Встречающие открыли ответный огонь. Британец притворился мертвым. Лежа на земле, он видел, как двое куда-то поволокли безжизненное тело Бормана. Встав, Грэй осторожно проследовал за ними к берегу фьорда: они погрузили труп в маленькую весельную лодку и, отплыв на 35–40 метров, бросили его в воду. «По звуку всплеска я понял, что соотечественники Бормана утяжелили его тело чем-то вроде цепей, – писал британец. – Меня вдруг поразила мысль: и лодка, и цепи, вероятно, предназначались мне».
Эта версия судьбы Мартина Бормана оказалась не последней. В 1974 году военный историк и известный журналист Ладислас Фараго опубликовал книгу «Отголоски: Мартин Борман и Четвертый рейх» (Aftermath: Martin Bormann and the Fourth Reich). В ней он утверждает, что обнаружил нациста в одной из больниц Боливии (ради этой встречи, которая длилась всего пять минут, пришлось вести многоступенчатые переговоры и подкупать караульных на боливийско-перуанской границе). «Когда меня, как было условлено, ввели в комнату, – пишет Фараго, – я увидел маленького старичка, лежащего на большой свежезастеленной кровати. Его голову подпирали три пуховые подушки. Он посмотрел на меня пустыми глазами и что-то пробормотал себе под нос».[722] Единственные внятные слова, сказанные военным преступником своему посетителю, были таковы: «Черт подери, я же старый человек – неужели не видно?! Так дайте мне спокойно умереть!»
Подобные истории просачивались в многочисленные таблоиды, а порой и в серьезные издания. При всем разнообразии их объединяло одно: они только претендовали на «правдивость». Истинное же положение вещей выяснилось благодаря совместному проекту газеты «Нью-Йорк таймс» и западногерманского телеканала ZDF, которым удалось собрать убедительные доказательства того, что после войны «доктор Смерть» поселился в Каире, принял ислам и взял новое имя – Тарик Хусейн Фарид. Сохранился целый портфель его бумаг: письма, медицинские и финансовые документы, газетная статья о розыске. В бумагах фигурировали обе фамилии: Хайм и Фарид. Даты рождения нациста и его египетского «двойника» совпадали (28 июня 1914 г.), а умер последний в 1992 году – через десять лет после той казни, о которой писал Баз.
В интервью «Нью-Йорк таймс» Рюдигер, сын Ариберта Хайма, не только подтвердил личность отца («Тарик Хусейн Фарид – это имя, которое он взял после обращения в ислам»,[723] – сказал Хайм-младший), но и признался, что навещал его в Каире незадолго до смерти от рака прямой кишки. Впоследствии репортеры Николас Кулиш и Суад Мехеннет написали книгу, в которой подробно изложены факты послевоенной жизни Хайма: до 1962 года он работал врачом в курортном Баден-Бадене, а когда понял, что его могут арестовать, бежал в Египет. Сын и другие родственники врача-убийцы, а также египтяне, знавшие его под новым именем, многое сообщили журналистам.
В найденных бумагах часто упоминался Визенталь, который, по убеждению Хайма, организовал «сионистский заговор», чтобы его выследить. В данном случае «охотнику за нацистами» не удалось достичь цели, но «доктор Смерть» приписывал ему огромное влияние на правительственные структуры ФРГ. Это по меньшей мере доказывало, что Хайм (как, вероятно, и многие другие беглые военные преступники) боялся Визенталя, с легкой руки массовой культуры воображая его почти всесильным мстителем. Этот образ, безусловно, представлял собой гиперболу, однако нельзя не признать: сила Визенталя заключалась, кроме прочего, в умении удачно использовать беллетристические преувеличения своего влияния, чтобы внушать преследуемым страх.
Что же касается Бормана, то и рассказ Грэя, якобы застрелившего его на границе, и рассказ Фараго о встрече с ним в больничной палате оказались вымыслом. Останки Бормана были обнаружены на берлинской стройплощадке еще в 1972 году, но только в 1998-м анализ ДНК подтвердил: найденные кости действительно принадлежали одному из самых влиятельных лиц рейха.[724] Согласно заключению экспертов, Мартин Борман умер 2 мая 1945 года, то есть вскоре после выхода из бункера, когда в город уже входила Красная армия. До того как это было установлено доподлинно, Бормана неоднократно «видели» в разных странах, преимущественно латиноамериканских.
Баз прав в одном: «охотники за нацистами» порой преследовали тех, кого уже нет. Однако в их случае это было естественным следствием работы воображения при отсутствии достоверной информации. Они могли ошибаться, но не распространяли заведомо лживых историй, под влиянием которых люди начинали думать, будто кампании по выявлению и задержанию военных преступников проводятся по голливудским сценариям.
На самом же деле охота за нацистами (кто бы ею ни занимался – правительство или частное лицо) представляла собой долгий процесс, зачастую осложненный юридическими баталиями. В большинстве случаев поборникам справедливости не приходилось вступать с врагом в перестрелки и рукопашные бои, без которых немыслимы «правдивые» истории бульварной прессы. Но бывали и исключения, когда жизнь словно подражала беллетристике.
Один из героев нашумевшей книги Говарда Блума «Их разыскивает полиция: нацисты в Америке» (Wanted! The Search for Nazis in America), опубликованной в 1977 году, – Черим Сообцоков, уроженец Советского Союза, черкес по национальности. На первый взгляд «Том», как его называли в Патерсоне (США, штат Нью-Джерси), был типичным преуспевающим иммигрантом. В газете «Паттерсон ньюз» писали, что в 1942 году, когда на Кавказ прорвались германские войска, его отправили в Румынию «в качестве полураба».[725] После войны он с группой земляков отправился в Иорданию, а оттуда в 1955 году перебрался в Соединенные Штаты. В Патерсоне Сообцоков начинал как мойщик машин, но вскоре получил административную должность в профсоюзе водителей грузовиков, а затем и в местном отделении Демократической партии. Вершина его карьеры – пост инспектора по снабжению округа Пассейик. Для многих, особенно для кавказцев, он был «своим человеком», помогавшим быстро и легко решать разнообразные проблемы. Ширились полезные связи Сообцокова, росло благосостояние.
Но не все иммигранты-черкесы верили в его якобы безукоризненное прошлое – как и в то, что он защищает их интересы. В начале семидесятых, когда Сообцоков попал в список нацистских преступников, проживающих на территории США, и за дело взялся Энтони Де Вито из иммиграционной службы, соседи стали с охотой отвечать на вопросы следствия. Черкес Кассим Хуако сообщил, что Сообцоков вызвался помогать нацистам, как только те появились в их краях. «Черим ходил по деревням вместе с немцами. Арестовывал евреев и коммунистов. Я сам видел его среди солдат, которые угоняли людей»,[726] – заявил Хуако. Кроме того, Сообцокова, одетого в эсэсовскую форму, видели в Румынии: по словам земляков, он уговаривал их вступить в Кавказский военный отряд, подконтрольный нацистам.
Несмотря на то что до 1945 года Сообцоков служил в войсках СС, после войны ему удалось выдать себя за обыкновенного беженца. В 1947 году он вместе с другими черкесами перебрался из Италии в Иорданию, где некоторое время работал сельскохозяйственным инженером. Однако вскоре у него появился новый работодатель – ЦРУ. Американская разведка искала кавказцев, которых можно было отправить в Советский Союз в качестве шпионов, и Сообцоков ей в этом с радостью помогал.
О его прошлом в ЦРУ догадывались. В отчете 1953 года о нем сказано, что он «последовательно демонстрирует выраженную реакцию на все вопросы, касающиеся военных преступлений, и, несомненно, умалчивает о собственных поступках, подпадающих под эту категорию».[727] Однако, вне зависимости от того, что он скрывал, разведка хотела использовать его с максимальной выгодой. После переезда в США Сообцоков продолжал сотрудничать с ЦРУ, но данные, которые он поставлял, становились все более и более противоречивыми, и в 1960 году ЦРУ отказалось от его услуг.
В семидесятые, когда иммиграционная служба занялась расследованием дела Сообцокова, один из высших служащих Разведывательного управления заявил: прошлое черкесского иммигранта вызывало некоторые сомнения, однако конкретных фактов, указывающих на его причастность к военным преступлениям, не выявлено, между тем сотрудничество с ним оказалось полезным для государства. Служба иммиграции и натурализации была вынуждена закрыть дело.
В восьмидесятые годы к Сообцокову проявило интерес Управление специальных расследований. Сотрудникам этого недавно основанного учреждения удалось выяснить, что, подавая заявление на американскую визу, черкес сообщил некоторые сведения, касающиеся его сотрудничества с нацистами. И дело снова пришлось закрыть, поскольку, прежде чем требовать, чтобы человека лишили гражданства, нужно было уличить его во лжи, а Сообцоков, въезжая в страну, не солгал, хотя, конечно, и не рассказал всей правды.
При всех неприятностях, которые ему пришлось претерпеть, он, казалось, ощущал себя победителем и даже подал на Говарда Блума в суд за клевету. Журналист был вынужден согласиться на урегулирование спора без судебного разбирательства, но ни от чего, что написано в книге «Их разыскивает полиция: нацисты в Америке», не отступился.[728]
15 августа 1985 года возле дома Сообцокова взорвалась самодельная бомба. Он был тяжело ранен и 6 сентября умер. Виновного не нашли, хотя представители ЦРУ заявляли, что взрыв могла устроить Лига защиты евреев.[729]
Через восемь лет произошло еще одно убийство, напоминающее страницу из триллера. На сей раз местом действия стала квартира, расположенная в фешенебельном 16-м округе Парижа, а жертвой – восьмидесятичетырехлетний Рене Буске, бывший шеф полиции вишистского режима, организовавший депортацию из оккупированной Франции десятков тысяч евреев, включая детей.
После войны Буске предстал перед судом, но получил условный срок на том основании, что он якобы помогал Сопротивлению. В дальнейшем он успешно занимался бизнесом, и о его активном участии в холокосте все как будто забыли. Несколько десятилетий спустя, когда французское общество обратилось к проблеме своего коллаборационистского прошлого, о Буске опять заговорили. Предпринимались даже попытки выдвинуть против него новые обвинения. Но и тогда он, нисколько не смутившись и ничего не испугавшись, продолжал дважды в день выгуливать свою собаку в Булонском лесу.[730]
8 июня 1993 года человек по имени Кристиан Дидье позвонил в дверь квартиры Буске и сказал, что привез документы из суда. Ему открыли. Войдя в квартиру, Дидье, как он впоследствии рассказал репортеру теленовостей, сразу же выстрелил в Буске и попал, но тот побежал ему навстречу. «В этом старике была уйма энергии, – продолжал Дидье. – Я выстрелил второй раз, а он все бежал на меня. Только после третьего выстрела стал запинаться. В четвертый раз я прострелил ему голову или шею. Тогда он залился кровью и упал».
Покинув место преступления, Дидье признался в содеянном по телевидению, однако раскаяния не выказал. По его словам, Буске «олицетворял собой зло», а он сам – «добро». Застрелить бывшего коллаборациониста было «все равно что убить змею». На самом деле Дидье, по всей вероятности, руководило желание прославиться любой ценой. Ранее он совершил покушение на Клауса Барбье, проник в сад президентского дворца и пытался прорваться на телестудию. Некоторое время Дидье лечился в психиатрической больнице, а за убийство Буске получил десять лет тюрьмы, но вышел, отбыв лишь половину срока. После освобождения он сказал, что сожалеет о совершенном преступлении, однако прибавил: «Если бы я убил этого человека пятьдесят лет назад, мне бы дали медаль».[731] Теперь, ища объяснение своему поступку, Дидье руководствовался новой извращенной логикой: «Убив его, я надеялся убить зло в себе».[732]
Те, кто пытался привлечь Буске к уголовной ответственности, восприняли его убийство как неудачу. «Евреи добивались правосудия, а не возмездия»,[733] – сказал Серж Кларсфельд. Хотя сам он в свое время тоже не отвергал мысли об убийстве Барбье, его главная цель всегда заключалась в том, чтобы военного преступника арестовали и осудили, и с Барбье это в итоге произошло. Благодаря Кларсфельду справедливость восторжествовала, а общество больше узнало о холокосте. Процесс над Буске, если бы таковой состоялся, помог бы продолжить начатое, заставив людей задуматься над тем, как активно фрацузские коллаборационисты участвовали в преступлениях нацистских захватчиков. Только в голливудских фильмах все аплодируют, когда герой убивает злодея. Настоящих «охотников за нацистами» такое «правосудие» не устраивает.
* * *
В 1985 году в очередной раз возобновилась охота на Йозефа Менгеле[734] – освенцимского доктора по прозвищу «Ангел Смерти», который стал для массового сознания олицетворением абсолютного зла благодаря успешно экранизированному бестселлеру Айры Левина «Мальчики из Бразилии». Четверть века назад военный преступник получил гражданство Парагвая, но его точное местонахождение известно не было. В прессе то и дело появлялись сообщения о том, что Менгеле видели в одной из латиноамериканских стран или даже в Европе, в частности в ФРГ. В 1979 году, под возросшим давлением со стороны мировой общественности, власти Парагвая лишили нациста гражданства, однако после этого диктатор Альфредо Стресснер заявил, будто ничего больше о нем не знает. «Охотники за нацистами» не поверили парагвайскому президенту, и, при всем разнообразии высказываемых ими гипотез, в главном они были единодушны. 16 апреля 1985 года, находясь в Бонне и готовя первый отчет об этом деле, я написал нью-йоркским редакторам: «То, что Менгеле жив, ни у кого не вызывает сомнений».
Визенталь то и дело сообщал, будто ему удалось напасть на след преступника и тот едва ускользнул. Венского преследователя нацистов порой упрекали в распространении сплетен, однако в случае с Менгеле не он один держал прессу в напряжении, выдавая желаемое за действительное, чтобы оправдать затраченные усилия. В мае франкфуртский юрист Фриц Штайнакер, до сих пор отвечавший на вопросы журналистов неизменным «Без комментариев», неожиданно заявил: «Да, я представлял и продолжаю представлять интересы Менгеле». Сын Рольф и другие родственники Менгеле, проживающие в его родном баварском городе Гюнцбурге и владеющие предприятием по производству сельхозоборудования, все отрицали, но Визенталь не сомневался: упорное молчание семьи свидетельствует о том, что преступник жив, находится в бегах и родные знают, где он. «Если бы они могли объявить его мертвым, их бы сразу оставили в покое», – заметил Визенталь.
Кларсфельды были с этим согласны. Беата отправилась в Парагвай, чтобы обвинить власти латиноамериканской страны в укрывательстве. «Менгеле находится под защитой президента Стресснера», – заявил Серж. Сам Симон Визенталь, Центр Симона Визенталя в Лос-Анджелесе, Кларсфельды, правительство Западной Германии и правительство Израиля объявили за поимку освенцимского доктора вознаграждение, суммарный размер которого к маю 1985 года возрос до 3,4 миллиона долларов. Ганс-Эберхард Кляйн, франкфуртский прокурор, занимавшийся поисками Менгеле в ФРГ, объяснил: «У нас горы папок с показаниями людей, якобы видевших его, но ни один сигнал еще не помог нам добиться успеха». Именно поэтому сумма обещанного вознаграждения увеличивалась. Тогда же, в мае, Кляйн и члены его следственной группы приняли во Франкфурте американскую и израильскую делегации, чтобы скоординировать усилия трех стран.
Месяц спустя выяснилось, что охота на Менгеле на протяжении последних шести лет являла собой очередной пример погони за призраками. Он утонул, купаясь в море, предположительно от инсульта. Произошло это в Бразилии, в муниципалитете Бертиога. Его останки, подлинность которых впоследствии подтвердила судебная экспертиза, покоились близ Сан-Паулу. Рольф Менгеле наконец-то признался в том, что Визенталь и многие другие давно подозревали: он не просто знал о местонахождении отца, но в 1977 году даже навестил его, а через два года снова приехал в Бразилию для «выяснения обстоятельств смерти». В 1992 году был сделан тест ДНК, уничтоживший последние сомнения. Нацистский преступник, избежавший наказания, утонул на шестьдесят восьмом году жизни, но даже после этого ему долго удавалось обманывать своих преследователей.
Вопрос относительно судьбы Менгеле решился. Но оставалось неясным, как он, самый разыскиваемый нацистский палач после Эйхмана, сумел уйти от правосудия. Его имя стало широко известно в ходе Нюрнбергского процесса. Комендант Освенцима Рудольф Хёсс, выступавший тогда как свидетель, упомянул об «экспериментах над близнецами, которые проводил офицер СС доктор Менгеле».[735]
В дальнейшем многие бывшие узники рассказывали о его беспрецедентной роли в пытках и убийствах заключенных. С нетерпением встречая новые партии, он неизменно участвовал в «сортировке», в результате чего тысячи людей сразу же отправлялись в газовые камеры. Близнецов Менгеле зачастую оставлял в живых, но лишь затем, чтобы увлеченно над ними экспериментировать. Он вводил красители в глаза детей, делал многочисленные переливания крови и спинномозговые пункции, обжигал польских монахинь рентгеновскими лучами повышенной интенсивности, производил операции на половых органах, прививал здоровым заключенным тиф и другие заболевания. В своих докладах лагерное начальство с похвалой отзывалось о докторе и его «ценном вкладе в развитие антропологии с использованием доступного биологического материала». От ненужного «биологического материала», то есть от узников, чудом выживших после экспериментов, Менгеле избавлялся собственноручно.
Роберт Кемпнер, немецкий еврей, юрист по профессии, покинул Германию в 1935 году и вернулся десять лет спустя в составе американской группы обвинителей Международного военного трибунала. По его словам, имя Менгеле упоминалось в 1947 году на Нюрнбергском процессе по делу врачей – первом из так называемых последующих (или малых) Нюрнбергских процессов. «Там же, в Нюрнберге, мы и начали поиски, но в Германии Менгеле найти не удалось. Он уже где-то скрывался», – сказал Кемпнер во время нашей личной беседы в 1985 году.
От него же я узнал, что сразу после войны «Ангел Смерти» попал в американский лагерь, но тюремщики не поняли, с кем имеют дело. Его спасло отсутствие стандартной эсэсовской татуировки (в свое время он отказался ее делать, поскольку был высокого мнения о собственной внешности и не хотел иметь на теле отметину).[736] Уже тогда Менгеле значился в списках военных преступников, но неудивительно, что в послевоенном хаосе ему удалось выскользнуть из рук американцев. «Эти люди просто испарялись. Они были гораздо хитрее наших ребят», – сказал мне Кемпнер, прибавив, что, в отличие от Клауса Барбье, Менгеле не заключал сделок со спецслужбами США: «Он был состоятельным человеком и потому действовал независимо».
Тем не менее, памятуя о деле Барбье, Министерство юстиции США посчитало необходимым в этом убедиться. Управление специальных расследований проделало большую работу, отчет о которой был опубликован в 1992 году. Удалось установить, что, находясь в американской оккупационной зоне, Менгеле некоторое время жил под вымышленным именем и работал на ферме, однако бегство из Европы он совершил «без помощи или ведома США».[737] Никаких свидетельств его связи с разведкой обнаружено не было.
Первоначально Менгеле поселился в Буэнос-Айресе, причем одно время проживал в Оливосе – том же пригороде, где жил Эйхман. Во время операции по захвату последнего шеф «Моссада» Иссер Харель слышал, что Менгеле живет где-то поблизости, однако подтвердить эту информацию не удалось.
К печально известному освенцимскому врачу израильтянин испытывал вполне определенные чувства: «Среди всех злодеев, участвовавших в попытке стереть еврейский народ с лица земли, этот выделялся тем, что исполнял свою роль с чудовищным наслаждением».[738] Когда речь зашла о стоимости похищения Эйхмана, Харель сказал одному из членов группы: «Чтобы оправдать затраченные средства, мы попытаемся увезти с собой еще и Менгеле».[739]
Но, как бы шеф «Моссада» ни жаждал захватить его, он не хотел делать ничего, что «могло бы поставить под угрозу выполнение главной задачи – операции “Эйхман”». В Буэнос-Айресе уже вовсю кипела работа: подчиненные Хареля следили за Эйхманом, подыскивали безопасные дома и транспортные средства, продумывали как само похищение, так и его возможные последствия. Они учитывали, что, вероятно, им представится возможность захватить и Менгеле, однако признавали: прежде всего нужно сосредоточиться на основной цели. «Никто из нас не выразил особого желания заниматься Менгеле, – пишет Цви Аарони (он сыграл одну из ведущих ролей при похищении Эйхмана и провел первый допрос). – Не потому, что мы боялись. Боялись мы только одного: эта дополнительная задача могла помешать успеху операции “Эйхман”».[740] По словам Аарони, Харелю не терпелось добраться до Менгеле, но Рафи Эйтан, непосредственный руководитель группы захвата, отговорил шефа «Моссада», сославшись на еврейскую пословицу: «Захочешь поймать слишком много – не поймаешь ничего».
Когда Эйхман был похищен, Аарони по настоянию Хареля стал расспрашивать его о Менгеле. Поначалу пленник все отрицал, но потом признался: однажды он видел доктора в ресторане в Буэнос-Айресе, однако встреча была случайной. Адреса Менгеле Эйхман не знал. Тот только сказал ему, что живет в маленькой гостинице, которую содержит немка. Аарони в это поверил – в отличие от Хареля. «Он вам лжет! – утверждал шеф «Моссада». – Он знает, где Менгеле!»[741] По мнению Аарони, Харель «казался одержимым» поимкой доктора.
Как выяснилось, Менгеле уехал из Аргентины в Парагвай, когда узнал, что в ФРГ подписано постановление о его аресте. Это произошло за год до похищения Эйхмана – события, которое должно было рассеять в глазах доктора-убийцы последние сомнения (если таковые вообще имелись) относительно целесообразности переезда в страну, где бывшим нацистам предоставляется еще более надежная защита. Однако и в Парагвае оказалось недостаточно безопасно. После того как Эйхмана доставили в Иерусалим, Харель отправил Аарони и других агентов разыскивать Менгеле в нескольких латиноамериканских странах. При помощи других бывших нацистов «Ангел Смерти» поселился близ Сан-Паулу и снова стал сельскохозяйственным рабочим.
Эта перемена вызвала у него сентиментальную жалость к себе, которая стала еще острее, когда он узнал, что западногерманские газеты рассказывают читателям о его преступлениях в Освенциме. «Расположение духа у меня просто ужасное, – писал Менгеле в своем дневнике. – Особенно после всего этого бреда по поводу Б [лагеря Освенцим – Биркенау]. В таком настроении не радуешься солнечному дню. Превращаешься в несчастное создание, неспособное любить жизнь».[742]
Аарони сообщает, что в 1962 году ему удалось, подкупив нескольких южноамериканских знакомых Менгеле, напасть на след Вольфганга Герхарда – нациста, поселившегося в Сан-Паулу и предоставившего доктору убежище. «Мы даже не представляли, насколько близки к цели»,[743] – пишет израильтянин. Его группа принялась изучать местность, и он даже допускает, что мельком видел самого Менгеле в сопровождении двоих мужчин на лесной тропе. Но, к удивлению Аарони, Харель внезапно перебросил группу на другое задание – поиск восьмилетнего мальчика, которого религиозные экстремисты тайно вывезли из Израиля вопреки распоряжению суда. Найдя ребенка, агенты вернули его матери. А после этого в Южную Америку их больше не отправили.
Интерес к Менгеле со стороны израильской разведки угас вследствие смены руководства. В 1963 году Харель уступил пост главы «Моссада» Меиру Амиту, который вскоре занялся подготовкой к очередному арабо-израильскому конфликту – Шестидневной войне 1967 года. «Теперь мы не придавали поискам Менгеле большого значения, потому и не нашли его»,[744] – сказал мне Эйтан, руководивший операцией «Эйхман» и продолживший работать в «Моссаде» после перемен «наверху», в результате которых охота за нацистами перестала быть для израильской разведки задачей первостепенной важности.
В 1985 году, когда всем стало известно о смерти освенцимского доктора, Рольф Менгеле в интервью западногерманскому журналу «Бунте»[745] объяснил, почему его отца не нашли при жизни: «Его домишко был так мал и так беден… что никто не мог ничего заподозрить». Преследователи знали Йозефа Менгеле как выходца из богатой семьи и потому «искали человека, который живет на белой вилле у моря, ездит на “Мерседесе” и держит отряд телохранителей с немецкими овчарками». Очевидно, Рольф Менгеле подразумевал, что «охотники за нацистами» в большинстве своем слишком увлеклись просмотром голливудских фильмов и рассчитывали увидеть вместо реального нацистского преступника экранного злодея в исполнении Грегори Пека.
За долговременное сокрытие правды Менгеле-младший извиняться не стал: «До нынешнего момента я хранил молчание, думая о безопасности людей, с которыми отец был связан на протяжении тридцати лет».[746] Сам доктор тоже ни в чем не раскаивался. Обращаясь к сыну, он писал: «Не вижу ни малейшей причины искать оправдание своим решениям и поступкам».[747]
Запоздалое признание Рольфа Менгеле в том, что семья и многочисленные друзья освенцимского убийцы на протяжении стольких лет помогали ему скрываться от правосудия, поставило под сомнение тщательность расследования, проведенного во Франкфурте прокурором Кляйном. Как оказалось, прокуратура не выдавала ордеров на обыск домов и офисов семьи Менгеле, да и допросы, по-видимому, проводились поверхностно. Дитер Менгеле, племянник беглеца, сказал, что его воообще не беспокоил никто из следователей. По словам Кляйна, родственники разыскиваемого находились только под «частичным наблюдением», что бы это ни значило.
В докладе Бюро специальных расследований при Министерстве юстиции США[748] констатировалось очевидное: «То, что освенцимскому “Ангелу Смерти”, совершившему столько преступлений, позволили дожить до старости и умереть в Бразилии, – однозначный провал». При столь неутешительном выводе авторы отчета отмечают: ФРГ, Израиль и США запоздало инициировали «беспрецедентный международный розыск», что свидетельствовало об их желании избежать этого провала. И, главное, крайнюю бедность той жизни, которую Менгеле вел на протяжении многих лет, а также постоянный страх перед преследовавшими его израильскими агентами можно рассматривать как своеобразное наказание для преступника, хотя и недостаточное. Он «сам себя заточил, превратившись в узника своих ночных кошмаров».
Йозеф Менгеле смог убежать от «охотников», но их тени, нависавшие над ним все больше, не давали ему покоя.
Глава 16 Замыкая кольцо
Тот, кому посчастливилось выжить, в дальнейшем несет определенные обязательства. Я постоянно спрашиваю себя: «Что я могу сделать для погибших?»[749]
С. ВизентальВ апреле 1994 года съемочная группа канала Эй-би-си через объектив телекамеры неотступно следила за Эрихом Прибке, обнаруженным в Сан-Карлосе-де-Барилоче – на аргентинском курорте в предгорье Анд, застроенном альпийскими домиками немецких иммигрантов девятнадцатого века. Как и многие другие нацистские преступники, Прибке, гауптштурмфюрер СС, после войны бежал из Европы и зажил на первый взгляд нормальной жизнью: держал гастрономический магазин и время от времени даже ездил в Европу, не утруждая себя сменой имени. Прошлое осталось далеко позади. Так, во всяком случае, ему казалось до встречи с репортером Сэмом Дональдсоном.
Личный вклад Эриха Прибке[750] в дело истребления ни в чем не повинных людей заключался в организации казни 335 мужчин и мальчиков, 75 из которых были евреями, в Адреатинских пещерах на окраине Рима 24 марта 1944 года. В качестве мести местному населению за смерть 33 германских солдат от рук партизан шеф римского гестапо Херберт Капплер приказал расстрелять по десять итальянцев за каждого убитого немца (в отличие от Прибке, Капплер вовремя не покинул Италию и получил пожизненный срок, но в 1977 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего прожил еще год). Сообщалось также, что Прибке участвовал в депортации итальянских евреев в Освенцим.
– Господин Прибке! – окликнул его репортер, когда он садился в машину. – Сэм Дональдсон, американское телевидение. Правда ли, что в 1944 году вы работали в Риме в гестапо?
Прибке, как будто не слишком смутившись, открыто признал свою причастность к массовому убийству.
– В Риме? Да. Видите ли, коммунисты подорвали группу наших солдат. За каждого немца должны были умереть десять итальянцев, – сказал он на хорошем английском, хотя и с акцентом.
Рубашка поло, ветровка, баварская шляпа… С виду этот пожилой мужчина как будто ничем не отличался от других немцев, которые решили поселиться в живописном горном городке.
– Убитые были гражданскими лицами?
– Нет, в основном террористами, – ответил Прибке, проявляя первые признаки беспокойства.
Репортер продолжал наседать:
– Но среди расстрелянных были дети!
– Нет, – настаивал Прибке.
Когда Дональдсон указал, что тогда были убиты четырнадцатилетние мальчики, бывший нацист покачал головой и повторил:
– Нет.
– Они ничего не сделали. За что вы их расстреляли?
– Это был приказ. На войне такое случается.
Теперь Прибке явно не терпелось завершить разговор.
– То есть вы просто выполняли приказы?
– Разумеется. Но я никого не расстреливал.
Когда Дональдсон вновь повторил, что он расстрелял 335 гражданских лиц в Ардеатинских пещерах, Прибке опять запротестовал:
– Нет, нет и нет!
После очередной ссылки Прибке на приказ Дональдсон заявил:
– Приказ – это не оправдание.
Явно раздраженный непонятливостью американского журналиста, Прибке повторил:
– В то время приказы выполнялись.
– И гибли гражданские лица, – продолжил Дональдсон.
– Да, гибли гражданские лица. Во всех частях света люди умирали и продолжают умирать. – Нервно улыбнувшись и дернув головой, Прибке добавил: – Вы живете в нынешнее время, а мы жили в 1933 году [когда Гитлер пришел к власти]. Можете вы это понять? Начиная с тридцать третьего года вся Германия была… нацистской. Мы не совершали преступлений. Мы делали то, что нам приказывали. Мы не преступники.
Дональдсон продолжил наступление:
– Вы депортировали евреев в концентрационные лагеря?
Прибке замотал головой.
– Евреев? Нет… Я ничего не имел против евреев. Я из Берлина. В Берлине немцы и евреи жили вместе. Нет, никого я не депортировал.
После этих слов Прибке сел в машину, захлопнул дверцу и бросил докучливому репортеру через открытое окно:
– Вы не джентльмен!
Автомобиль тронулся с места, а журналист язвительно рассмеялся:
– Я не джентльмен![751]
Во время Второй мировой войны Дональдсон, родившийся в 1934 году, был еще ребенком и не мог в ней участвовать. Но, став взрослым, он много думал о тех событиях, в частности о том, как Гитлеру удалось загипнотизировать немецкий народ. Работая на канале Эй-би-си, Дональдсон показывал практикантам «Триумф воли» Лени Рифеншталь как «первый настоящий пропагандистский фильм».[752]
К тому моменту, когда продюсер Хэрри Филлипс разыскал Прибке и установил за ним двухнедельное наблюдение,[753] интерес мировой общественности к нацистам и их преступлениям стал, по мнению Дональдсона, угасать. Однако интервью с Прибке потрясло мир. Наконец-то были сделаны первые серьезные попытки привлечь римского гестаповца к ответственности. В 1995 году Аргентина экстрадировала его в Италию, завязалась продолжительная юридическая битва. Сначала военный суд постановил, что Прибке должен быть освобожден на основании истечения срока исковой давности, но его снова арестовали, снова судили и в 1998 году приговорили к пожизненному заключению, которое, приняв во внимание старость подсудимого, заменили домашним арестом.
Прибке умер в Риме в 2013 году в возрасте ста лет. Католическая церковь отказалась хоронить его в итальянской столице. Поскольку Аргентина и Германия тоже запретили погребение на своей территории, было решено отправить тело в маленький горный городок Альбано-Лациале к югу от Рима. Провести панихиду согласилось Священническое братство Святого Пия X – католическая группа, отрицающая церковные реформы последних десятилетий и с сомнением относящаяся к холокосту. Пока гроб везли в церковь, полиция пыталась сдерживать разъяренных манифестантов, которые колотили катафалк.[754]
На суде Прибке до самого конца продолжал невозмутимо утверждать, что не признает себя виновным, поскольку исполнял свой долг. Правда, действуя из расчета 10:1, следовало расстрелять 330 человек, а было расстреляно 335 – шеф гестапо внес в список пять лишних фамилий. «Я ошибся», – признался он в интервью газете «Зюддойче цайтунг», но эта «ошибка», безусловно, воспринималась им как мелкая погрешность бухгалтерского свойства, не влияющая на общий успех хорошо организованной операции: жертвы со связанными за спиной руками были приведены в пещеры, где их заставляли опускаться на колени и убивали выстрелом в затылок.
Вспоминая свою многолетнюю работу на телевидении, Дональдсон с особой гордостью отзывается о нашумевшем репортаже из аргентинского городка: «Когда меня спрашивают: “Какое из всех ваших интервью вы считаете для себя главным?” – люди ждут, что я назову Рейгана или Садата,[755] но я отвечаю: “Самым интересным и важным было интервью с Прибке”».
Строго говоря, Дональдсон не относится к «охотникам за нацистами», однако, безусловно, разделяет их убеждения, как и другие журналисты, которые рассказывают об ужасах Второй мировой войны не только из любви к сенсационным заголовкам. «Я считаю, что о тех событиях забывать нельзя, поскольку придерживаюсь проверенной истины, которую сформулировал Сантаяна:[756] “Тот, кто не помнит прошлого, обречен на его повторение”».
Как правило, репортеры освещают открытия, уже совершенные «охотниками за нацистами», или руководствуются полученными от них сигналами. Однако интервью, взятое Дональдсоном у Прибке, явилось результатом самостоятельного журналистского расследования. Выйдя в эфир, оно поставило печать на судьбе бывшего эсэсовца. Комфортная жизнь в Аргентине закончилась. Его экстрадировали и осудили.
* * *
В 2015 году мир отпраздновал семидесятилетие освобождения Освенцима и других концентрационных лагерей, юбилей окончания самой кровопролитной войны за всю историю человечества. Неудивительно, что нацистов, которых следовало бы привлечь к ответственности, с каждым годом становилось все меньше и меньше. Все старшие офицеры, вероятно, уже умерли, а лагерные надсмотрщики, которым в 1945 году было двадцать, шагнули в новый век людьми преклонного возраста. Поскольку дожить до 2015 года могли только представители младшего состава, преследователи нацистов заспорили о том, стоит ли разыскивать их или же сагу об охоте на слуг рейха пора завершить.
По иронии судьбы, в начале нового тысячелетия в одной довольно-таки старой истории из разряда дел против низшего лагерного персонала наметился неожиданный поворот, в результате которого долгожителям из числа бывших нацистов пришлось принять новые правила игры. Процесс продолжался на протяжении нескольких десятилетий в США, Израиле и Германии, на каждом шагу порождая принципиальные вопросы, оставшиеся не вполне решенными даже после 2012 года, когда обвиняемый Джон Демьянюк (вышедший на пенсию автомеханик из Кливленда) скончался в баварском доме престарелых в возрасте 91 года.
Не вызывает споров только первая часть биографии Демьянюка.[757] Подобно многим другим участникам кровавых событий двадцатого века, он имел несчастье вырасти в регионе, жителям которого предстояло испытать на себе жестокость как сталинской, так и гитлеровской политики. Иван Демьянюк (Джоном он стал, получив гражданство США) родился в деревне под Киевом в 1920 году. По окончании всего лишь четырех классов школы начал работать в колхозе. В начале тридцатых годов, вознамерившись полностью уничтожить украинскую оппозицию, недовольную принудительной коллективизацией, Сталин спровоцировал голод, унесший жизни тысяч людей. Семья Демьянюка с трудом выжила.
Когда на территорию Советского Союза вторглись гитлеровские войска, Демьянюк был призван в Красную армию, получил серьезное ранение и после долгого лечения вернулся в строй. В 1942 году он оказался в германском лагере военнопленных, где многие советские солдаты умирали от жестокого обращения, голода и болезней. Однако, с точки зрения Сталина, те, кто позволил захватить себя в плен, были «предателями, бежавшими за границу».[758] Сразу же по возвращении наказанию подвергались не только они сами, но и члены их семей.
Неудивительно, что, учитывая эти обстоятельства, а также тяготы довоенной жизни при советской власти, некоторые военнопленные предпочитали связать свою дальнейшую судьбу с захватчиками и «добровольно» записывались в лагерные охранники или в солдаты Русской освободительной армии генерала Андрея Власова – героя первых лет войны, который, попав в плен, перешел на сторону врага. Власов утверждал, что его целью было свержение Сталина, а не служение Гитлеру, тем не менее фактически он сражался на стороне нацистских оккупантов.
Демьянюк, по его собственным словам, сначала состоял в украинском отряде СС (о чем свидетельствует татуировка с номером группы крови на внутренней стороне плеча), затем в Русской освободительной армии Власова, но в боевых действиях не участвовал. После войны, оказавшись в лагере для перемещенных лиц, он скрыл факт сотрудничества с нацистами, что позволило ему избежать участи других власовцев (их принудительно отправили на родину, где сам Власов и многие его сторонники были казнены).
В американском лагере Демьянюк женился на украинке и получил место шофера при армии США. Подавая прошение о присвоении ему статуса беженца, он сказал, будто на протяжении большей части войны выполнял сельскохозяйственные работы в Собиборе – деревне, ставшей печально известной благодаря нацистскому концентрационному лагерю, расположенному поблизости. По утверждению Демьянюка, он выбрал именно этот населенный пункт, потому что там было много украинцев.
В 1952 году он вместе с женой и дочерью перебрался в Соединенные Штаты. В семье появилось еще двое детей, а ее глава прекрасно адаптировался в кливлендской общине украинских беженцев, где прослыл убежденным антикоммунистом и христианином, мечтающим об освобождении родины от гнета советской власти.
Однако в 1975 году Майкл Ханусяк, редактор «Юкрейниан дейли ньюз» и бывший член Коммунистической партии США, составил список семидесяти предполагаемых военных преступников из числа украинцев, проживающих в Америке. В этом списке значился и Демьянюк – солдат СС, служивший надсмотрщиком в Собиборе. И ФБР, и украинская община заподозрили, что Ханусяк распространяет ложную информацию, переданную ему из Москвы. Но иммиграционная служба в то время уже испытывала давление со стороны члена конгресса Элизабет Гольцман в связи с бездействием в отношении бывших нацистов и потому начала наводить справки.[759]
Следователь послал старые фотографии Демьянюка и других подозреваемых в Израиль, чтобы проверить, узнают ли их выжившие жертвы Холокоста. Сотрудница израильской полиции Мириам Радивкер, прежде работавшая в Советском Союзе и Польше, показала снимки бывшим узникам лагерей. Один из них, увидев Демьянюка, воскликнул: «Иван! Иван из Треблинки! Иван Грозный!» Этим прозвищем заключенные наградили надсмотрщика, который обслуживал газовые камеры, а также с наслаждением избивал и расстреливал людей.
Поскольку в полученных из Америки документах говорилось, что подозреваемый служил в Собиборе, а не в Треблинке, Радивкер отнеслась к показаниям бывшего узника с удивлением и недоверием. Но потом еще два человека назвали Демьянюка «Иваном Грозным» – один более уверенно, другой менее (свидетель сослался на то, что снимок был сделан в другое время). Описания внешности треблинского надсмотрщика, при всем сходстве, не вполне соответствовали физическим данным Демьянюка. Самое существенное расхождение касалось роста. Радивкер передала собранные показания американским следователям, предоставив им разбираться во всем самостоятельно.
В 1977 году кливлендская прокуратура предъявила Демьянюку обвинение как надсмотрщику Треблинки, заслужившему прозвище «Иван Грозный». Через два года дело было передано на рассмотрение новому следственному органу – Бюро специальных расследований при Министерстве юстиции США. Поскольку треблинские документы нацисты уничтожили, один из сотрудников сделал запрос в Москву, предполагая, что в советских архивах хранятся списки военнопленных, которые содержались в эсэсовском учебном лагере Травники и готовились к исполнению обязанностей надсмотрщиков.
В начале 1980 года советское посольство в Вашингтоне передало следственному бюро пакет с копией удостоверения солдата СС Ивана Демьянюка. Дата рождения и отчество соответствовали анкете кливлендского подозреваемого. Удостоверение опубликовали в нескольких украинских газетах. Аллан Райан, поступивший в Бюро специальных расследований на должность заместителя директора, сравнил эсэсовскую фотографию с фотографией Демьянюка, вклеенной в заявление на получение американской визы. «Несомненно, на двух снимках был запечатлен один и тот же человек»,[760] – заключил Райан. Несмотря на то что, согласно удостоверению, Демьянюк направлялся в Собибор, а не в Треблинку, следователь подумал: «Попался, сукин сын!»[761]
Однако не все были уверены в справедливости обвинения. Ранее газета «Юкрейниан дейли ньюз» опубликовала показания другого украинца, служившего в СС, который провел много лет в советской тюрьме, после чего остался жить в Сибири. Он утверждал, что служил вместе с Демьянюком – не в Треблинке, а в Собиборе. Джордж Паркер, сотрудник Министерства юстиции, занимавшийся делом Демьянюка, сообщил об этом директору Бюро специальных расследований Уолтеру Роклеру, порекомендовав задуматься над дальнейшими действиями: может быть, надлежало просто добавить службу в Собиборе к уже сформулированному обвинению, а может быть – заменить Треблинку на Собибор. Но в Управлении произошли кадровые перестановки, и Аллан Райан, занявший место Роклера, предпочел продолжать преследовать Демьянюка как треблинского «Ивана Грозного».
Начались судебные разбирательства, в результате которых обвиняемый лишился гражданства. Украинская община США громко заявила о том, что невинный человек пострадал из-за улик, сфабрикованных Москвой. Но никакие протесты не помешали властям удовлетворить просьбу Израиля об экстрадиции Демьянюка. 27 января 1986 года[762] его посадили на самолет авиакомпании «Эль Аль» и отправили в Тель-Авив. Впервые после дела Эйхмана Государство Израиль решило судить на своей территории предполагаемого нацистского преступника.
Министр иностранных дел Ицхак Шамир заявил, что такое решение принято ради «исторической справедливости»,[763] однако не всем оно показалось бесспорным. Когда премьер-министр Шимон Перес поинтересовался мнением Авраама Шалома, который в свое время был заместителем командующего операцией «Эйхман», а теперь возглавлял «Шин-Бет» (службу внутренней безопасности), тот ответил, что фигура Демьянюка недостаточно крупна: «Второго Эйхмана быть не может. Чем мельче добыча, тем незначительнее эффект».[764]
На суде в Иерусалиме бывшие узники Треблинки, показавшие под присягой, что узнали «Ивана Грозного», дали волю эмоциям. «Вот он! – воскликнул Пинхас Эпштейн, указывая на Демьянюка. – Он мне каждую ночь снится! <…> Он втравился в меня, в мою память!»[765] Зрители аплодировали свидетелям, то и дело выкрикивая ругательства как в адрес обвиняемого («Лжец! Ты убил моего отца!» – бросил Демьянюку один польский еврей), так и в адрес его израильского адвоката Йорама Шефтеля («Капо! Нацист! Бессовестный ублюдок!» – кричали ему). В апреле 1988 года Демьянюка признали виновным и приговорили к смертной казни.
Но к тому времени, когда защита подала апелляцию в Верховный суд Израиля, стало известно, что настоящего «Ивана Грозного» звали Иваном Марченко. Об этом сообщили в передаче «60 минут» американского канала Си-би-эс со ссылкой на признание польской женщины, которая во время войны зарабатывала проституцией. Ее муж, в чьем магазине Марченко покупал водку, запомнил, что он открыто говорил о своей работе при газовых камерах.[766] Присоединившись к ранее имевшимся нестыковкам, эти показания обернулись для обвиняющей стороны полным провалом.
В июле 1993 года Верховный суд Израиля оправдал Демьянюка, а Суд Шестого округа США позволил ему вернуться в Америку. Более того, его гражданство восстановили, а Бюро специальных расследований было признано виновным в профессиональной ошибке. Защитники Демьянюка пошли еще дальше: они перерыли мусорные ящики возле офиса, пытаясь доказать, что сотрудники Управления намеренно скрывали факты, свидетельствовавшие в пользу подследственного. «Попытки обвинить нас в столь вопиющих нарушениях нанесли нам рану, которая до сих пор болит», – признался мне бывший директор Райан в 2015 году. Илай Розенбаум, возглавлявший Управление начиная с 1995 года, сказал: «Наша репутация сильно пострадала, и мы это заслужили».[767]
Однако в невиновность Демьянюка «охотник за нацистами» по-прежнему не верил: «Было ясно, что он лжет. Он служил надзирателем в лагере смерти, как минимум в Собиборе». Под руководством Розенбаума Управление предприняло новое расследование и с большим трудом добилось повторного возбуждения уголовного дела, опираясь на сей раз не на устные показания предполагаемых свидетелей, а на документы: удостоверение СС и новые материалы, полученные из германских и советских архивов. Удалось выяснить, что солдатом Русской освободительной армии Власова Демьянюк никогда не был. Как и крестьянином в Собиборе. В 2002 году Суд Шестого округа США опять лишил его гражданства. В 2009-м, после нескольких лет разбирательств по поводу экстрадиции, он снова отправился в страну, пожелавшую его судить, – теперь ею оказалась Германия.
Демьянюк утверждал, что он слишком стар и болен, чтобы совершить перелет в Европу и там предстать перед судом. К мюнхенскому самолету его доставили на носилках, а в зал суда – на каталке. Ему было восемьдесят девять лет, и выглядел он полуживым, однако противники уверяли, что это симуляция. Незадолго до отправки в Мюнхен Центр Симона Визенталя опубликовал видео, показывающее, как Демьянюк шагает по улице и садится в машину без посторонней помощи.
В мае 2011 года суд признал, что обвиняемый служил охранником в Собиборе. Если в ходе предыдущих аналогичных процессов, проводившихся в Германии, сам факт работы в концлагере считался недостаточным основанием для вынесения обвинительного приговора, то Демьянюк был признан соучастником убийства 29 060 человек, умерших за время его службы, и приговорен к пяти годам тюрьмы. Ему зачли два года предварительного заключения и разрешили находиться в доме престарелых, пока защита готовится к опротестованию вердикта. 17 марта 2012 года Демьянюк умер.
Поскольку поданная адвокатами апелляция на тот момент еще не была рассмотрена, сын осужденного заявил, что решение суда в отношении покойного потеряло законную силу. Кроме того, он озвучил точку зрения, которой придерживались многие украинцы, проживающие в США: найдя «козла отпущения», Германия «возложила на беззащитных украинских военнопленных вину за преступления, совершенные немецкими нацистами».[768] Публицист и политик Пэт Бьюкенен резко осудил действия Бюро специальных расследований в отношении «американского Дрейфуса», как он окрестил Демьянюка. «Сколько их было в истории нашей страны – людей, которые подвергались столь упорному и беспощадному преследованию?»[769] – вопрошал Бьюкенен.
То, что изначально Иван Демьянюк был принят за треблинского «Ивана Грозного» и ошибочно приговорен израильским судом к смертной казни, безусловно, позволяет сторонникам осужденного указывать на несовершенство следственной и судебной систем. И все же в ходе трех десятилетий юридических баталий истина была установлена. Более того, мюнхенский вердикт создал прецедент в отношении рассмотрения дел военных преступников на территории Германии. Для этих людей, которых с каждым годом становится все меньше, внезапно изменились правила игры.
* * *
До процесса над Демьянюком германское правосудие требовало от прокуроров доказательства участия бывшего нациста в конкретных преступлениях. Поэтому в большинстве случаев предъявить обвинение не удавалось: установить и подтвердить сам факт совершения массового убийства не трудно, однако крайне трудно доподлинно установить имена тех, кто несет за него личную ответственность. По данным мюнхенского Института истории Новейшего времени, в период с 1945 по 2005 год в ФРГ под следствием оказалось 172 294 человека, 6656 из которых были осуждены, но только 1147 суд признал виновными в убийстве.[770] Учитывая то, сколько людей пали жертвами Третьего рейха, нельзя не констатировать, что лишь очень немногие из военных преступников ответили за содеянное.
Дело Демьянюка нарушило сложившуюся традицию. Мюнхенский суд признал обвиняемого причастным к кровопролитию, не требуя от прокуроров доказательств его участия в конкретных убийствах. Иными словами, победила точка зрения, согласно которой все, кто служил в лагерях смерти, виновны. Курт Шримм, глава Центра по расследованию преступлений национал-социализма, вскоре дал понять, что намерен добиваться возведения этого принципа в статус стандарта. В сентябре 2013 года он заявил о намерении разослать государственным обвинителям информацию по тридцати охранникам Освенцима. «По нашему мнению, – сказал Шримм, – сам факт службы [в концентрационном лагере], вне зависимости от индивидуальной вины, делает этих людей соучастниками убийства».[771] Младшему из тех, кто попал в список, на тот момент исполнилось восемьдесят шесть лет, старшему – девяносто семь. Нетрудно было предположить, что многие из них не предстанут перед судом по причине болезни или смерти. В начале 2015 года тринадцать дел все еще расследовалось, а из закрытых только по одному был вынесен обвинительный приговор.[772]
В апреле 2015 года в германском городе Люнебурге состоялся суд над девяностотрехлетним Оскаром Гренингом – бывшим бухгалтером Освенцима, обвиняемым в причастности к убийству 300 000 узников. Он признался в том, что служил охранником и вел учет денег, которые изымались у заключенных перед отправкой в газовые камеры. Вторя многим другим сотрудникам концлагерей, привлекавшимся к ответственности ранее, Гренинг назвал себя маленьким винтиком в огромной машине убийства. «Я прошу меня простить, – сказал он. – В моральном отношении я причастен к произошедшему, но виновен ли я с точки зрения уголовного права, решать вам».[773] То есть, в отличие от многих других фигурантов по аналогичным делам, освенцимский бухгалтер выразил раскаяние, но при этом, так же как и они, считал себя невиновным.
В июле 2015 года суд вынес по делу Гренинга еще более суровый приговор, нежели тот, которого требовало обвинение: четыре года лишения свободы вместо трех с половиной. Судья Франц Компиш пришел к выводу, что, записываясь в ряды СС и поступая в Освенцим на «безопасную конторскую работу», обвиняемый действовал добровольно и потому является соучастником массового убийства. «Ваша эпоха, вероятно, оказала на вас влияние, – заявил Компиш Гренингу, – и все же вы были свободным человеком».[774]
По мнению Курта Шримма, смысл поздних антинацистских процессов заключается не только в том, чтобы наказать бывших лагерных охранников, сколько в том, чтобы продемонстрировать: германское правосудие по-прежнему стремится хотя бы отчасти восстановить справедливость. «На мой взгляд, учитывая то, какое чудовищное преступление совершил нацизм, мы не имеем права говорить: “Прошло слишком много времени. Давайте все забудем”. Это было бы неуважением по отношению к погибшим и выжившим»,[775] – сказал Шримм.
Огласив судьбоносное для других бывших нацистов решение по делу Демьянюка, германский суд фактически принял точку зрения, которую отрицал несколько десятилетий назад, когда начался спор о том, что является достаточным основанием для обвинения тех, кто служил рейху. Уильям Денсон, главный обвинитель от армии США на процессе против персонала Дахау, который начался в конце 1945 года, придерживался теории «общего умысла». Он не считал необходимым доказывать индивидуальную вину каждого сотрудника концлагеря: по его мнению, достаточно было того, что «все обвиняемые служили винтиками в механизме уничтожения людей».[776] Подобной точки зрения придерживался и Фриц Бауэр, германский прокурор, стремившийся призвать соотечественников к ответу за содеянное в годы господства национал-социализма. Во время Освенцимского процесса во Франкфурте-на-Майне он утверждал: «Любой, кто так или иначе обслуживал машину убийства, является преступником – разумеется, при условии, что он знал о назначении этой машины».[777]
Если бы суды Германии стали руководствоваться указанным принципом начиная с пятидесятых или шестидесятых годов, на скамье подсудимых, а затем и в тюрьмах оказались бы тысячи людей. Как отметил Петр Сивински, директор Государственного музея концлагеря Освенцим, «такое часто бывает: время расплаты за преступление приходит тогда, когда расплачиваться уже почти некому».[778] Ту позицию, которой власти Германии придерживались ранее, Сивински назвал несправедливой: «Если мафиозная группа расстреливает людей, неважно, кто из ее членов спускал курок, а кто стоял за углом и смотрел, не идет ли полицейский. Виноваты все. Ужасно, что до недавнего времени германское правосудие этого не понимало».
Немецкий журнал «Шпигель» расставил акценты несколько иначе. В статье, опубликованной 25 августа 2014 года под заголовком «Освенцимские процессы: Почему последние лагерные надсмотрщики не будут наказаны», Клаус Вигрефе подчеркивает: прежняя позиция германских судов объяснялась не только жесткими юридическими ограничениями. «Большинство преступников Освенцима не понесли наказания не потому, что некоторые политики и судьи этому препятствовали, а потому, что слишком мало оказывалось тех, кто был в этом заинтересован. В послевоенные годы многие немцы равнодушно относились к освенцимским убийствам»,[779] – говорится в статье.
Как бы то ни было, Сивински и многие другие представители международной общественности одобрили решение по делу Демьянюка, а также намерение Шримма в дальнейшем действовать на основании этого прецедента. «Мы обязаны принимать во внимание не только юридические, но и моральные соображения, – сказал Сивински. – Некоторые люди считают, что судить тех, кому перевалило за девяносто, безнравственно. Но не судить их было бы еще большей нравственной ошибкой. Это означало бы торжество несправедливости».
* * *
Власти США придерживаются того же мнения, о чем свидетельствуют их действия в отношении Демьянюка и других нацистских преступников. 23 июля 2014 года судья Окружного суда Восточной Пенсильвании Тимоти Райс постановил экстрадировать в ФРГ восьмидесятидевятилетнего филадельфийского пенсионера Йоханна Брайера, в недалеком прошлом мастера-инструментальщика, а в далеком – охранника Освенцима.
Требование об экстрадиции Германия мотивировала так же, как и в случае с Демьянюком: Брайер служил в отряде СС «Мертвая голова»,[780] то есть «был членом организации, которая занималась целенаправленным уничтожением людей, отдавая и выполняя соответствующие приказы». Факта службы в Освенциме Брайер не отрицал, но при этом уверял, что в убийствах не участвовал.
Комментируя свое решение, судья не ограничился сухой юридической терминологией. «Как отмечает германская сторона, тот, кто работал в охране лагеря смерти в 1944 году (в пору расцвета нацистского террора), не мог не знать о сотнях тысяч людей, которых жестоко убивали в газовых камерах и тут же сжигали. Он не мог не видеть нескончаемого парада товарных поездов, набитых мужчинами, женщинами и детьми, которые просто исчезали в считаные часы. Он не мог не слышать криков и не улавливать запахов смерти, которые витали в воздухе. Следовательно, говоря о своей непричастности к этому ужасу, Брайер обманывает себя и других», – написал Райс, добавив, что «никакой закон об исковой давности не должен избавлять убийцу от возмездия».[781]
В день объявления решения об экстрадиции обвиняемый скончался. Это был не первый случай, когда человек, подозреваемый в причастности к военным преступлениям, умер прежде, чем его успели депортировать из США к месту проведения судебного процесса. Разбирательства зачастую оказывались сложными, если начинались вообще. Те, кто годами боролся с бывшими нацистами, восприняли решение об экстрадиции Брайера как победу, однако известие о его смерти отравило ее. Казалось, была упущена еще одна возможность – не столько покарать преступника, сколько преподать обществу урок исторической справедливости, показать, что человек всегда несет ответственность за свои поступки, какие бы приказы он ни получал.
Смерть Брайера также заставила задуматься о том, почему дело против него было заведено так поздно и многого ли удалось достичь в отношении преследования ему подобных. Илай Розенбаум, директор Управления специальных расследований при Министерстве юстиции США, сообщает, что с 1978 года, года своего создания, по 2015-й эта организация выиграла 108 дел против бывших нацистов. 86 человек были лишены гражданства, а депортированы, экстрадированы или иначе выдворены из страны – 67.[782]
Бывший член конгресса Элизабет Гольцман, которой Бюро специальных расследований обязано своим появлением, считает, что это достойный результат, особенно с учетом того, как трудно разбираться в событиях, произошедших несколько десятилетий назад. «Я очень горжусь теми, кто проделал такую работу, – говорит она. – Мы сумели поставить дело профессионально и получаем доказательный материал со всего мира. Сотрудники бюро преодолели все трудности. В этот период ни одна другая страна не смогла добиться большего, чем добились мы».[783]
Илай Розенбаум, вернувшийся в Бюро специальных расследований в 1988 году, а в 1995-м возглавивший эту организацию, согласен с такой оценкой. Он признает, что во время холодной войны власти США преследовали бывших нацистов не слишком активно, а порой даже использовали их в борьбе против Советского Союза. Однако даже в сороковые и пятидесятые годы Соединенные Штаты собирали информацию о военных преступниках и старались препятствовать их проникновению на территорию страны.
Что же касается отдельных фактов сотрудничества со слугами рейха, для которых делалось исключение из правил, то это явление, по мнению Розенбаума, следует рассматривать в контексте эпохи, когда противостояние сверхдержав казалось борьбой не на жизнь, а на смерть. «Спецслужбы постоянно задействуют плохих людей», – отмечает он.
Правы ли те, кто говорит, что деятельность, которую Бюро специальных расследований развернуло в отношении бывших нацистов (таких, как лагерные охранники, выданные Германии в последние годы), принесла лишь скромные запоздалые плоды? В каком-то смысле да. И все-таки эта организация продемонстрировала мировой общественности, что Соединенные Штаты Америки больше не намерены игнорировать вину тех нацистских преступников, которые дожили до наших дней и могут быть обнаружены, лишены гражданства и выдворены из страны.
В 2010 году в результате слияния Бюро специальных расследований с Отделом внутренней безопасности при Министерстве юстиции США появился новый орган – Отдел по защите прав человека и специальным расследованиям, однако Розенбаум и его коллеги продолжают заниматься делами последних нацистов.
Как отмечает Гольцман, их усилия «показательны в историческом отношении, поскольку дают понять, что Соединенные Штаты не желают предоставлять убежище участникам преступлений против человечества». Это «сигнал для молодого поколения», демонстрирующий, как нужно относиться к геноциду и как преследовать военных преступников. Гольцман также надеется, что проделанная работа позволит предотвратить новые массовые убийства, хотя события в Камбодже и Руанде,[784] увы, не оправдывают подобных надежд.
* * *
Эфраим Зурофф, директор израильского филиала Центра Симона Визенталя, объяснил мне во время нашей встречи в Иерусалиме: «Существует естественная напряженность между силовыми структурами и прочими правительственными организациями, с одной стороны, и людьми, не облеченными властью, такими как мы, с другой. Наша сила основывается на поддержке общественности. Источник этой силы – не избирательные урны, а скорее чековые книжки [спонсоров]».[785]
Зурофф родился в 1948 году, вырос в Бруклине, в 1970-м перебрался в Израиль. С 1980 по 1986 год работал в израильском отделении Бюро специальных расследований, затем основал филиал Центра Симона Визенталя. Зуроффа часто называют последним «охотником за нацистами», чем он очень гордится. Многие полагают, будто он как-то связан с Визенталем, но это не так (тот всегда работал самостоятельно). Преследователь военных преступников, по словам Зуроффа, это «на треть детектив, на треть историк и еще на одну треть лоббист». Он отмечает, что сами «охотники за нацистами» никого не преследуют в судебном порядке, но создают предпосылки для такого преследования.
Своими действиями и высказываниями Зурофф, как и Визенталь (если не в большей степени), вызывает неоднозначную реакцию общественности. Его нередко упрекают в том, что он поднимает шумиху ради шумихи и борется не столько с противниками, сколько с предполагаемыми союзниками. Используемая им тактика внушает опасения ряду еврейских общин прибалтийских государств, власти которых он часто обвиняет в укрывательстве собственного коллаборационистского прошлого и попытках переписать историю, приуменьшив значение холокоста. «Евреи, проживающие в Прибалтике, очень уязвимы, – признает Зурофф. – У них недостаточно ресурсов для самостоятельной борьбы». Поэтому он, по его собственным словам, старается их поддержать. Но сами прибалтийские евреи, как и их венские собратья во время кампании против Вальдхайма, опасаются, что громкие высказывания «охотника за нацистами» только всколыхнут глубоко укоренившийся антисемитизм местного населения.
Зурофф совершил несколько широко освещавшихся путешествий с целью поиска нацистских преступников. Так, летом 2008 года он отправился в Аргентину и Чили «по следам Ариберта Хайма». Когда же стало известно, что доктор концлагеря Маутхаузен умер в Каире еще в 1992 году, Зурофф был потрясен и первое время с недоверием относился к этому факту, который, согласно его заявлениям, еще следовало доказать.[786]
Недавно израильский «охотник за нацистами» развернул новую кампанию под названием «Операция “Последний шанс”». В 2013 году он организовал в крупнейших городах Германии расклейку плакатов с фотографией Освенцима и надписью: «Поздно, но еще не слишком». Таким образом Зурофф призывал людей сообщать об известных им лицах, которые участвовали в преступлениях нацистов и до сих пор живы. В результате ему назвали 111 человек. Сведения о четверых он передал в прокуратуру Германии, но только в отношении двоих была проведена проверка. Один, бывший охранник Дахау, страдал болезнью Альцгеймера. Другой, коллекционер оружия и амуниции нацистского периода, уже умер.[787]
Операцию «Последний шанс» общественность восприняла скептически, и не только из-за отсутствия очевидных результатов. «Многим бывшим нацистам действительно удалось прожить долгую спокойную жизнь, меж тем как их уцелевшие жертвы продолжали страдать под гнетом страшных воспоминаний, – признает Дидра Бергер, директор берлинского отделения Американского еврейского комитета. – Такая несправедливость возмутительна. Но в ходе подобных кампаний у общества возникает ощущение, будто на него нападают. Отсюда всевозможные встречные реакции». Тем не менее заниматься последними делами, которые можно довести до суда, по мнению Бергер, необходимо. «Приговор не так важен, – добавляет она, – как то, что немногие жертвы, дожившие до сегодняшнего дня, наконец-то смогут дать показания и почувствовать моральное удовлетворение».[788]
Однако даже в кругу «охотников за нацистами» не все одобряют преследование последних лагерных охранников, оставшихся в живых. Восторжествовавший после процесса над Демьянюком принцип, согласно которому человек может быть признан виновным на основании занимаемой им должности, Серж Кларсфельд назвал «сугубо советским».[789] Он сам, как и его жена Беата, скептически отнесся не только к кампании Зуроффа, но и к нынешней позиции германских следственных органов. По мнению Сержа, руководство людвигсбургского Центра просто боится потерять рабочие места.
При том, что нацистов становится все меньше и меньше, споры в среде их преследователей не утихают. Илай Розенбаум, к примеру, по-прежнему с обидой отзывается о Симоне Визентале, своем оппоненте в деле Вальдхайма, а также о других независимых расследователях, которые, по мнению директора американского следственного бюро, преувеличивают свои заслуги. Не говоря об этом открыто, он, безусловно, относит к указанной категории и Зуроффа. «Создается ощущение, что весь мир считает, будто выслеживать военных преступников могут исключительно доморощенные “охотники”, а разведка США намеренно препятствует торжеству справедливости, – заявил Розенбаум в 2011 году на симпозиуме, посвященном делу Эйхмана, в юридическом колледже Университета Лойолы в Лос-Анджелесе. – Между тем оба предположения ошибочны».[790]
На подобные критические замечания Зурофф отвечает: «Я еще не встречал ни одного “охотника за нацистами”, который захотел бы сказать хвалебное слово в адрес другого “охотника за нацистами”. Это объясняется завистью, духом соперничества и тому подобными вещами». Говоря, что не принимает колкостей коллег близко к сердцу, Зурофф тем не менее обижен на Кларсфельдов. «Они говорят обо мне, будто я пытаюсь охотиться за военными преступниками, не выходя из собственной гостиной, – сетует он, добавив: – То, чего Кларсфельды достигли во Франции, потрясающе. Не спорю. Они обнаружили и систематизировали массу документов. Но нацистов они больше не преследуют».
В 2000 году при людвигсбургском Центре по расследованию преступлений национал-социалистов открылся архив. Это направление деятельности планируется расширять по мере того, как количество новых дел будет уменьшаться. Уже сегодня Центр регулярно проводит для посетителей, прежде всего для групп школьников, образовательные программы, посвященные Третьему рейху и холокосту. О закрытии учреждения речь не идет. «У нас по-прежнему есть неизученный материал и люди, которым могут быть предъявлены обвинения»,[791] – говорит заместитель директора Томас Вилль.
Эфраим Зурофф заявляет о своих намерениях еще решительнее: «Вы не дождетесь пресс-конференции, на которой я объявлю: “Все, сдаюсь, с меня хватит. Поеду на Таити отдыхать под пальмой”. Я так не скажу, даже когда они [нацисты] все умрут».
* * *
«Мы не отдаем людей под суд, чтобы сделать символический жест или послужить высшей нравственной цели, – писал Аллан Райан. – Мы отдаем людей под суд, если они нарушили закон. Другого основания быть не может».[792] Как человек, возглавлявший Бюро специальных расследований в начале восьмидесятых годов, Райан не мог высказаться иначе. Но по крайней мере в одном он заблуждался: «охотники за нацистами» служили «высшей нравственной цели» и, невзирая на законы военного времени, преследовали тех, кто совершал антигуманные варварские поступки.
Всех, кто причастен к массовым убийствам, невозможно призвать к ответу – небольшая группа мужчин и женщин, известных как «охотники за нацистами», всегда это понимала. Гессенский генеральный прокурор Фриц Бауэр, инициировавший Освенцимские процессы шестидесятых годов во Франкфурте-на-Майне, отмечал, что обвиняемые выбраны из множества им подобных на роль «козлов отпущения». В ситуации, когда многие не менее виновные оставались на свободе, задача Бауэра заключалась не только в том, чтобы наказать хотя бы кого-то, но и в том, чтобы открыть обществу глаза на произошедшее.
Задача оказалась нелегкой, однако никакая другая страна мира не сделала в плане осмысления собственных чудовищных ошибок столько, сколько сделала Германия. Эта заслуга в немалой степени принадлежит Фрицу Бауэру и другим «охотникам за нацистами», таким как польский следователь Ян Зейн – инициатор первого освенцимского процесса, который состоялся вскоре после войны. Именно эти люди заставили общество взглянуть в лицо своему недавнему прошлому.
Рихард фон Вайцзеккер, сын одного из ведущих дипломатов Третьего рейха, служил в германской армии с момента ее вторжения на территорию Польши и похоронил брата, который сражался вместе с ним. Позднее, став президентом сначала Западной, а затем и объединенной Германии, Рихард фон Вайцзеккер неустанно напоминал соотечественникам о том, какую вину несет на себе их страна. В своем знаменитом обращении к парламенту по случаю сороковой годовщины капитуляции рейха он сказал: «В мире едва ли найдется государство, которое за все время своего существования не запятнало бы себя войной и насилием. Однако геноцид евреев – это преступление, не имеющее аналогов в мировой истории».[793]
Вайцзеккер счел необходимым поведать согражданам о том, какие чувства он испытал, узнав об окончании войны: «Это был день освобождения». После ухода с поста президента он согласился дать мне интервью и в ходе нашей беседы признал: тогда, в 1945 году, далеко не все соотечественники разделили его радость, поскольку то время принесло жителям Германии много страданий. «Но теперь, – подчеркнул экс-президент, – этот вопрос уже не вызывает сколько-нибудь серьезных споров. Капитуляция принесла нам освобождение».[794] Совсем не так обыкновенно говорят руководители побежденных держав. С этими словами, несомненно, согласился бы Фриц Бауэр, если бы прожил достаточно долго, чтобы их услышать.
Что же касается современных жителей Германии, то некоторые из них испытывают раздражение от постоянных упоминаний об исторической вине перед другими народами. Мартин Вальзер (знаменитый писатель, в чьих произведениях рассказывается о том, как немцы перестраивали свои жизни после падения рейха) не раз вызывал неоднозначную реакцию, говоря, что регулярные упоминания о недавнем прошлом стали для Германии чем-то вроде ритуала. Очевидно, имея в виду ту риторику, которая использовалась Вайцзеккером и другими представителями власти, Вальзер подчеркивает: память о лагерях смерти не должна использоваться в политических целях. «По моему опыту, об Освенциме часто заговаривают, когда хотят, чтобы оппонент замолчал, – пояснил он мне, когда в связи с одним из его выступлений разгорелась бурная дискуссия. – Если в ход пускают этот аргумент, человеку уже нечего возразить».[795] Когда я спросил Вальзера, хочет ли он сказать, что уже довольно говорить о холокосте, он ответил: «Эта страница никогда не будет закрыта. Думать иначе было бы сумасшествием. Но нельзя решать за немцев, как им нести бремя позора своей страны».[796]
Иными словами, то, что нацистское прошлое позорно, сомнению не подлежит. Каждый судебный процесс над нацистскими преступниками, проходил ли он в Нюрнберге, Кракове, Иерусалиме, Лионе или Мюнхене, вносил свою лепту в формирование и утверждение именно такого отношения граждан современной Германии к национал-социализму. И даже тогда, когда усилия «охотников за нацистами» не приводили к успеху, они напоминали людям о том, почему такие, как Менгеле, должны прятаться до конца своих дней.
Если же говорить в отдельности о Кларсфельдах, то, обличая преступников, причастных к холокосту во Франции, Беата и Серж не только рассказывали миру об ужасах нацизма, но и развеивали миф о том, что евреев преследовали исключительно немцы. Именно Кларсфельдами собрана значительная часть тех документов, на основании которых в 1998 году был осужден полицейский чиновник Морис Папон, депортировавший евреев с юго-запада Франции в лагеря смерти. В качестве одного из юристов обвиняющей стороны выступил сын Кларсфельдов Арно,[797] названный в честь деда, погибшего в Освенциме.
Сведения, полученные и зафиксированные Сержем Кларсфельдом в результате кропотливого труда, послужили опорой для множества начинаний, направленных на то, чтобы Франция признала факты своего прошлого, которые игнорировались в первые послевоенные годы. Благодаря архиву Кларсфельда Курт Вернер Шехтер, французский еврей, родившийся в Австрии, смог потребовать у французской государственной железнодорожной компании SNCF компенсацию за то, что его родители с ее помощью были отправлены в концентрационный лагерь.
В 2003 году парижский суд отклонил иск,[798] однако с тех пор государственная железнодорожная компания не отрицает своего соучастия в трагических событиях. В 2010 году руководство SNCF выразило в этой связи «глубокое сожаление»,[799] а в декабре 2014-го Франция и Соединенные Штаты приняли решение выплатить в общей сложности 60 миллионов долларов жертвам холокоста, которых французская железная дорога отправила навстречу смерти. Правительство Франции приняло расходы на себя.
В то же время на парижской выставке «Коллаборационизм: 1940–1945» общественности была представлена телеграмма шефа полиции Рене Буске, обращенная к префектам департаментов с призывом «лично проконтролировать меры в отношении иностранных евреев».[800] Эти «меры», разумеется, предполагали отправку в пересыльные лагеря, а оттуда – в лагеря смерти.
Несмотря на то, скольким нацистским преступникам удалось избежать ответственности, Кларсфельды считают, что настала пора подведения итогов. Время тяжелой и зачастую опасной борьбы подходит к концу. «Я доволен, – сказал мне Серж. – На мой взгляд, историческая справедливость восстановлена. Правосудие в принципе не может быть вполне эффективным, поскольку ему не под силу воскрешать убитых. Оно имеет символическое значение. Мы полагаем, что в этом плане впервые за всю историю человечества зло получило по заслугам».
В Германии к Беате Кларсфельд до сих пор относятся неоднозначно. В 2012 году Левая партия выдвинула ее в качестве кандидата на пост президента. Президент ФРГ избирается членами Федерального собрания, и Беату с большим отрывом обошел бывший гэдээровский оппозиционер лютеранский пастор Йоахим Гаук (его поддержали ведущие политические партии). Однако сам факт выдвижения ее кандидатуры представляется Сержу очень показательным. «Это значит, – утверждает он, – что германское общество продвинулось вперед, в чем есть и наша заслуга. После того как Беата ударила Кизингера, я сказал ей: “Когда ты состаришься, народ Германии скажет тебе спасибо”».[801]
Провокационную тактику, которой Кларсфельд придерживалась на протяжении многих лет, по-прежнему многие не одобряют. Однако перед началом голосования канцлер Ангела Меркель пожала Беате руку, и это выглядело символично. А 20 июля 2015 года посол ФРГ во Франции Сузанне Вазум-Райнер наградила обоих Кларсфельдов орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», выразив им благодарность за усилия по «восстановлению доброго имени» государства.[802] Для Беаты, однажды давшей пощечину канцлеру, получение высшей награды родной страны стало, безусловно, чрезвычайно волнующим событием.
* * *
Один из своих главных успехов Симон Визенталь видел в том, что ему удалось пережить большинство преступников, по чьей вине он сам и миллионы его собратьев оказались в лагерях смерти. «Я старался делать так, чтобы люди не забывали тех событий», – сказал он мне во время нашей последней встречи. В 2005 году Визенталь умер. Теперь Австрия – страна, которая стала для него послевоенным домом и которую он часто упрекал в нежелании признавать ошибки нацистского прошлого, – высоко ценит его заслуги. Новые владельцы принадлежавшей Визенталю половины дома в 19-м округе Вены, повесили в честь прославленного «охотника за нацистами» мемориальную доску. Дочь Паулинка не только дала на это разрешение, но и сформулировала надпись: «Здесь жили Симон Визенталь, посвятивший жизнь борьбе за справедливость, и его жена, сделавшая это возможным».
Охота за нацистами почти окончена, по крайней мере, если понимать ее буквально – как преследование ныне живущих военных преступников. Однако наследие, оставленное людьми, которые отдали свои силы этому делу, никогда не утратит своей ценности.
Благодарности
Я безмерно признателен тем, кто давал мне интервью во время моей работы над книгой, – имена этих людей большей частью представлены в конце библиографического списка. Однако этот перечень отражает не всю историю проекта: я благодарен еще и многим другим своим коллегам и знакомым (кто-то из них здесь упомянут, кто-то – нет), которые, узнав о моем замысле, помогали мне устанавливать нужные контакты и находить полезные источники. Еще в ходе работы над предыдущими книгами я понял: рассказывая людям о своем исследовании, почти всегда получаешь множество ценных советов. Так, изучая историю охоты за нацистами, я смог собрать массу устных и письменных свидетельств, которые позволили мне охватить целую послевоенную эпоху.
Брэд Бауэр (в прошлом сотрудник архива Гуверовского института, а в настоящее время главный архивариус Мемориального музея холокоста в Вашингтоне) неоднократно оказывал мне неоценимую помощь. Благодаря ему я связался с Бенджамином Ференцем, главным прокурором Нюрнбергского процесса по делу об айнзацгруппах, а также с Геральдом Швабом, исполнявшим в Нюрнберге роль переводчика. Кроме того, Брэд познакомил меня со своими коллегами из музея, в числе которых такие высококлассные специалисты, как Питер Блэк, Генри Майер и Алина Скибинска, сотрудница варшавского отделения.
Мария Кала, директор краковского Института судебной экспертизы, представила меня старейшим служащим этого учреждения, которым довелось работать под началом Яна Зейна. Артур, его внучатый племянник, проживающий попеременно в Стокгольме и Кракове, рассказал мне историю семьи, и я понял, почему именно Зейн взял на себя роль следователя по делу коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса. Я также хочу поблагодарить молодого Марцина Зейна, который помог мне установить видеосвязь с Юзефом Зейном, племянником Яна, и его женой Францишкой. Спасибо Юстине Майевской за информацию, собранную в Варшаве.
Выражаю особую признательность Гэри Смиту, директору Американской академии в Берлине, и его коллегам Ульрике Граалфс и Джессике Биле: они приняли меня в качестве приглашенного научного сотрудника, когда я проводил исследования в Германии. В работе с немецкими источниками мне помогала Линда Эггерт, моя бывшая студентка, обучавшаяся в нью-йоркском Бард-колледже по программе «Глобализация и международные отношения». Режиссер Илона Циок прислала мне свой документальный фильм, содержащий массу новой информации о Фрице Бауэре, а также множество дополнительных материалов. Томас Вилль любезно рассказал об истории и сегодняшней деятельности людвигсбургского Центра по расследованию преступлений национал-социалистов.
Израильтянин Дэн Эфрон, мой бывший коллега по журналу «Ньюсуик», помог мне установить связи, благодаря которым я взял интервью у ведущих участников дела Адольфа Эйхмана. Хотелось бы отдельно поблагодарить Дрора Мореха – режиссера интереснейшего документального фильма «Привратники» об израильских службах внутренней безопасности. Илай Розенбаум не только ответил на мои вопросы о его работе в Управлении специальных расследований при Министерстве юстиции США, но и представил меня Габриэлю Баху – единственному ныне живущему прокурору по делу Эйхмана. Кроме того, Розенбаум указал и предоставил мне множество источников ценной информации по различным темам.
В числе тех, кто неоднократно мне помогал, нельзя не назвать сотрудниц Гуверовского института Кэрол Леднэм и Ирену Черниховску. Дэвид Маруэлл, директор нью-йоркского Музея еврейского наследия, в прошлом историк Бюро специальных расследований, щедро поделился со мною своими обширными знаниями по интересующим меня предметам. Мои бывшие коллеги из журнала «Ньюсуик» Джойс Барнейтан и Стив Страссер помогли мне связаться с Германом Обермайером, который знал человека, приводившего в исполнение смертные приговоры Нюрнбергского процесса. Михаэль Хот, мой давний друг, познакомил меня с Петером Зихелем, командовавшим первой операцией ЦРУ в Берлине. А двоюродный брат Том Нагорски, работавший в телекомпании Эй-би-си, рассказал мне о том, как его бывшие коллеги выследили Эриха Прибке.
Трое из тех, у кого я брал интервью, ушли из жизни до публикации этой книги: Авраам Шалом, человек номер два в группе захвата Эйхмана, нюрнбергский переводчик Геральд Шваб и Юзеф Зейн. Симон Визенталь умер более десяти лет назад, однако мне посчастливилось неоднократно встречаться и беседовать с ним в бытность репортером журнала «Ньюсуик». Когда я приехал в Израиль, дочь Визенталя Паулинка и ее муж Герард Кризберг оказали мне радушный прием.
На раннем этапе работы над этим проектом я сотрудничал с институтом «Восток – Запад» и хочу поблагодарить за дружескую поддержку моих замечательных коллег: Сару Стерн, Драгана Стояновского, Алекса Шульмана и практикантку Лесли Дьюиз.
Когда речь заходит об Элис Мэйхью, первоклассном редакторе издательства «Саймон энд Шустер», все, что бы я ни сказал, кажется приуменьшением ее заслуг. От начала и до конца моей работы она, как всегда, умело и чутко руководила мною, вдохновляя меня своим энтузиазмом. Спасибо и другим сотрудникам издательства, благодаря которым свершилось привычное для них чудо рождения книги, в частности Стюарту Робертсу, Джеки Сиоу, Джой О’Мира, Джулии Проссер. Спасибо моему литературному редактору Фреду Чейсу. Этот проект мог бы не состояться без деятельной поддержки моего верного агента Роберта Готтлиба. Благодарю также его коллег из «Тридент медиа груп» Клер Робертс и Эрике Сильверман.
Судьба подарила мне множество друзей. Я очень признателен вам, Дэвид Сэттер, Ардит и Стив Хоудс, Фрэнсин Шейн, Роберт Мореа, Александра и Энтони Джулиано, Эва и Барт Камински, Моника и Фрэнк Уорд, Линда Оррилл, Ришард Хоровиц и Аня Богуш, Ренильде и Билл Дроздяк, Анна Берковиц, Виктор и Моника Маркович, Сандра и Боб Голдман, Илейн и Марк Прейгер, Люси и Скотт Лихтенберг, Джефф Бартолет, Фред Гутерль, Арлин Гетц, Лесли и Том Фройденхайм. Приношу извинения за то, что этот список далеко не полон.
Наконец, я благодарю свою семью: отца Зигмунта, которого больше нет среди нас, маму Мари, которая не перестает живо интересоваться моей работой и неизменно меня подбадривает. Спасибо моим сестрам Марии и Терри, а также их спутникам Роберто и Диане.
Я горжусь своими взрослыми дочерьми и сыновьями: Евой, Соней, Адамом и Алексом. Надеюсь, они понимают, как много значат для меня их любовь и каждодневная поддержка. Мои дети уже создают собственные семьи. Теперь у меня есть зять Эран, невестка Сара и семеро чудесных внуков: Стелла, Кей, Сидни, Чарльз, Майя, Кайя и Кристина.
Что же касается Криси – женщины, которая покорила мое сердце, когда я приехал по обмену в краковский Ягеллонский университет, – то она мой главный советчик по любым вопросам и первый читатель каждой строчки этой книги. Всем, чего я добился, я во многом обязан ей.
Библиография
Архивные источники
Архив Гуверовского института войны, революции и мира (Стэнфордский университет, шт. Калифорния).
Архив Музея холокоста (г. Вашингтон, округ Колумбия).
Архив Яна Зейна (Институт судебной экспертизы, г. Краков, Польша).
Государственный архив г. Колледж-парка (шт. Мэриленд).
Отдел рукописей и документов Нью-Йоркской публичной библиотеки.
Книги
Aharoni, Zvi, and Wilhelm Dietl. Operation Eichmann: The Truth About the Pursuit, Capture and Trial. New York: John Wiley & Sons, 1997.
Annan, Noel. Changing Enemies: The Defeat and Regeneration of Germany. New York: W. W. Norton, 1996.
Arendt, Hannah. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: Penguin, 1977.
–. The Last Interview and Other Conversations. Brooklyn: Melville House, 2013.
–. The Origins of Totalitarianism. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1979.
Averbach, Albert, and Charles Price, eds. The Verdicts Were Just: Eight Famous Lawyers Present Their Most Memorable Cases. Rochester: The Lawyers Co-operative Publishing Company, 1966.
Backhaus, Fritz, Monika Boll, and Raphael Gross. Fritz Bauer Der Staatsanwalt: NS-Verbrechen vor Gericht. Frankfurt: Campus, 2014 (Catalogue for the Fritz Bauer exhibition at the Jewish Museum of Frankfurt).
Bascomb, Neal. Hunting Eichmann: How a Band of Survivors and a Young Spy Agency Chased Down the World’s Most Notorious Nazi. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2009.
Bauer, Yehuda. Flight and Rescue: Brichah. New York: Random House, 1970.
Baz, Danny. The Secret Executioners: The Amazing True Story of the Death Squad That Tracked Down and Killed Nazi War Criminals.London: John Blake, 2010.
Beevor, Antony, and Luba Vinogradova, eds. A Writer at War: Vasily Grossman with the Red Army, 1941–1945. New York: Pantheon, 2005.
Beschloss, Michael. The Conquerors: Roosevelt, Truman and the Destruction of Hitler’s Germany, 1941–1945. New York: Simon & Schuster, 2002.
Bessel, Richard. Germany 1945: From War to Peace. London: Pocket Books, 2010.
Biddiscombe, Perry. The Denazification of German: A History, 1945–1950. Stroud, Gloucestershire, 2007.
Blum, Howard. Wanted! The Search for Nazis in America. New York: Touchstone, 1989.
Botting, Douglas. From the Ruins of the Reich: Germany, 1945–1949. New York: Crown, 1985.
Bower, Tom. Klaus Barbie: Butcher of Lyons. London: Corgi, 1985.
Bronfman, Edgar M. The Making of a Jew. New York: G. P. Putnam’s Sons, 1996.
Browning, Christopher R. Ordinary Men: Reserve Battalion 101 and the Final Solution in Poland. New York: Harper Perennial, 1993.
Clay, Lucius D. Decision in Germany. New York: Doubleday, 1950.
Dann, Sam, ed. Dachau 29 April 1945: The Rainbow Liberation Memoirs.Lubbock: Texas Tech University Press, 1998.
Davies, Norman. Heart of Europe: A Short History of Poland. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Earl, Hilary. The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial, 1945–1958: Atrocity, Law, and History. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
El-Hai, Jack. The Nazi and the Psychiatrist: Hermann Göring, Dr. Douglas M. Kelley, and a Fatal Meeting of the Minds at the End of WWII. New York: PublicAffairs, 2013.
Elsner, Alan. The Nazi Hunter. New York: Arcade, 2011.
Farago, Ladislas. Aftermath: Martin Bormann and the Fourth Reich. New York: Simon & Schuster, 1974.
Ferencz, Benjamin B. Less Than Slaves: Jewish Forced Labor and the Quest for Compensation. Bloomington: Indiana University Press, 2002.
Forsyth, Frederick. The Odessa File. New York: Viking, 1972.
Frei, Norbert. Adenauer’s Germany and the Nazi Past: The Politics of Amnesty and Integration. New York: Columbia University Press, 2002.
Friedman, Tuvia. The Hunter. London: Anthony Gibbs & Phillips, 1961.
Frieze, Donna-Lee, ed. Totally Unofficial: The Autobiography of Raphael Lemkin. New Haven: Yale University Press, 2013.
Gellately, Robert, ed. The Nuremberg Interviews: Conducted by Leon Goldensohn. New York: Alfred A. Knopf, 2004.
Gilbert, G. M. Nuremberg Diary. Boston: Da Capo, 1995.
Goldman, William. Marathon Man. New York: Dell, 1988.
Gray, Ronald. I Killed Martin Bormann! New York: Lancer, 1972.
Greene, Joshua M. Justice at Dachau: The Trials of an American Prosecutor. New York: Broadway, 2003.
Gutman, Yisrael, and Michael Berenbaum, eds. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
Harding, Thomas. Hanns and Rudolf: The True Story of the German Jew Who Tracked Down and Caught the Kommandant of Auschwitz. New York: Simon & Schuster, 2013.
Harel, Isser. The House on Garibaldi Street. London: Frank Cass, 2004.
–. «Simon Wiesenthal and the Capture of Eichmann». Unpublished manuscript.
Harris, Whitney R. Tyranny on Trial: The Evidence at Nuremberg. Dallas: Southern Methodist University Press, 1954/Barnes & Noble Books, 1995.
Hausner, Gideon. Justice in Jerusalem. New York: Harper & Row, 1966.
Heberer, Patricia, and Jürgens Matthäus, eds. Atrocities on Trial: Historical Perspectives on the Politics of Prosecuting War Crimes. Lincoln: University of Nebraska Press, 2008.
Heidenberger, Peter. From Munich to Washington: A German-American Memoir. Xlibris, 2004.
Helms, Richard, with William Hood. A Look Over My Shoulder: A Life in the Central Intelligence Agency. New York: Random House, 2003.
Herzstein, Robert Edwin. Waldheim: The Missing Years. New York: Arbor House/William Morrow, 1988.
Higgins, Jack (pseudonym of Harry Patterson). The Bormann Testament. New York: Berkley, 2006.
Hoess, Rudolf. Commandant of Auschwitz: The Autobiography of Rudolf Hoess. London: Phoenix, 2000.
Holtzman, Elizabeth, with Cynthia L. Cooper. Who Said It Would Be Easy? One Woman’s Life in the Political Arena. New York: Arcade, 1996.
Höss, Rudolf, Perry Broad, and Johann Paul Kremer. KL Auschwitz Seen by the SS. Warsaw: Interpress, 1991.
Josephs, Jeremy. Swastika Over Paris: The Fate of the French Jews. London: Bloomsbury, 1990.
Kelley, Douglas M. 22 Cells in Nuremberg: A Psychiatrist Examines the Nazi Criminals. New York: Greenberg, 1947.
Kempner, Robert M. W. Ankläger einer Epoche: Lebenserrinrungen. Frankfurt: Ullstein Zeitgeschichte, 1986.
Kennedy, John F. Profiles in Courage. New York: Harper Perennial, 2006.
Kershaw, Ian. Hitler 1889–1936: Hubris. London: Penguin, 1998.
–. Hitler 1936–45: Nemesis. New York: W. W. Norton, 2000.
Klarsfeld, Beate. Wherever They May Be! New York: Vanguard, 1972.
Klarsfeld, Serge. The Children of Izieu: A Human Tragedy. New York: Harry N. Abrams, 1985.
Klarsfeld, Serge, with Anne Vidalie. La Traque des Criminals Nazis. Paris: Tallandier/L’Express, 2013.
Kuenzle, Anton, and Gad Shimron. The Execution of the Hangman of Riga: The Only Execution of a Nazi War Criminal by the Mossad. London: Valentine Mitchell, 2004.
Kulish, Nicholas, and Souad Mekhennet. The Eternal Nazi: From Mauthausen to Cairo, the Relentless Pursuit of SS Doctor Aribert Heim. New York: Doubleday, 2014.
Lang, Jochen von, and Claus Sibyll, eds. Eichmann Interrogated: Transcripts from the Archives of the Israeli Police. New York: Vintage, 1984.
Leide, Henry. NS-Verbrecher und Staatssicherheit: Die geheime Vergangensheitspolitik der DDR. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007.
Lelyveld, Joseph. Omaha Blues: A Memory Loop. New York: Picador, 2006.
Levi, Primo. The Drowned and the Saved. New York: Vintage, 1989.
Levin, Ira. The Boys from Brazil. New York: Random House, 1976.
Lewis, Sinclair. It Can’t Happen Here. New York: New American Library, 2005.
Lichtblau, Eric. The Nazis Next Door: How America Became a Safe Haven for Hitler’s Men. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2014.
Lingeman, Richard. Sinclair Lewis: Rebel from Main Street. New York: Random House, 2002.
Lipstadt, Deborah E. The Eichmann Trial. New York: Schocken, 2011.
Malkin, Peter Z., and Harry Stein. Eichmann in My Hands. New York: Warner, 1990.
Mann, Abby. Judgment at Nuremberg. New York: Samuel French, 2001.
Maser, Werner. Nuremberg: A Nation on Trial. New York: Charles Scribner’s Sons, 1979.
Miale, Florence R., and Michael Selzer. The Nuremberg Mind: The Psychology of the Nazi Leaders. New York: Quadrangle, 1975.
Michel, Jean. Dora. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1980.
Milgram, Stanley. Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper Colophon, 1975.
Mowrer, Edgar Ansel. Germany Puts the Clock Back. Paulton and London: Penguin, 1938.
–. Triumph and Turmoil: A Personal History of Our Times. New York: Weybright & Talley, 1968.
Musmanno, Michael A. The Eichmann Kommandos. New York: Macfadden, 1962.
–. Ten Days to Die. New York: Macfadden, 1962.
Nagorski, Andrew. The Greatest Battle: Stalin, Hitler, and the Desperate Struggle for Moscow That Changed the Course of World War II. New York: Simon & Schuster, 2007.
–. Hitlerland: American Eyewitnesses to the Nazi Rise to Power. New York: Simon & Schuster, 2012.
Naimark, Norman M. The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1995.
Naumann, Bernd. Auschwitz: A Report on the Proceedings Against Robert Karl Ludwig Mulka and Others Before the Court at Frankfurt. New York: Frederick A. Praeger, 1966.
Obermayer, Herman J. Soldiering for Freedom: A GI’s Account of World War II. College Station: Texas A&M University Press, 2005.
Ordway, Frederick I. III, and Mitchell R. Sharpe. The Rocket Team. New York: Thomas Y. Crowell, 1979.
Overy, Richard. Russia’s War. New York: Penguin, 1998.
Patterson, Harry. The Valhalla Exchange. New York: Stein & Day, 1976.
Pendas, Devin O. The Frankfurt Auschwitz Trail, 1963–1965: Genocide, History, and the Limits of the Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Pick, Hella. Simon Wiesenthal: A Life in Search of Justice. Boston: Northeastern University Press, 1996.
Pierrepoint, Albert. Executioner: Pierrepoint. Cranbrook, Kent: George G. Harrap, 1974.
Piper, Franciszek. Ile Ludzi Zginęło w KL Auschwitz: Liczba Ofiar w Świetle Żrodeł i Badań 1945–1990. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowego Museum w Oświęcimu, 1992.
Posner, Gerald L., and John Ware. Mengele: The Complete Story. New York: McGraw-Hill, 1986.
Powers, Thomas. The Man Who Kept the Secrets: Richard Helms and the CIA. New York: Pocket Books, 1981.
Rabinowitz, Dorothy. New Lives: Survivors of the Holocaust Living in America. New York: Alfred A. Knopf, 1976.
Rashke, Richard. Useful Enemies: John Demjanuk and America’s Open– Door Policy for Nazi War Criminals. Harrison, NY: Delphinium, 2013.
Robinson, Jacob. And the Crooked Shall Be Made Straight: The Eichmann Trial, the Jewish Catastrophe, and Hannah Arendt’s Narrative. New York: Macmillan, 1965.
Rosenbaum, Eli, with William Hoffer. Betrayal: The Untold Story of the Kurt Waldheim Investigation and Cover-Up. New York: St. Martin’s, 1993.
Rückerl, Adalbert. The Investigation of Nazi War Crimes, 1945–1978: A Documentation. Heidelberg: C. F. Müller, 1979.
Lord Russell of Liverpool. The Scourge of the Swastika: A Short History of Nazi War Crimes. London: Greenhill, 2002.
Ryan, Allan A., Jr. Quiet Neighbors: Prosecuting Nazi War Criminals in America. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1984.
Saidel, Rochelle G. The Outraged Conscience: Seekers of Justice for Nazi War Criminals in America. Albany: State University of New York Press, 1984.
Salomon, Ernst von. Der Fragebogen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2011.
Schlink, Bernhard. The Reader. New York: Vintage, 1998.
Schulberg, Sandra. Filmmakers for the Prosecution, The Making of Nuremberg: Its Lesson for Today. New York: Schulberg Productions, 2014.
Searle, Alaric. Wehrmacht Generals, West German Society, and the Debate on Rearmament, 1949–1959. Westport, CT: Praeger, 2003.
Segev, Tom. Simon Wiesenthal: The Life and Legends. New York: Doubleday, 2010.
Sehn, Dr. Jan. Obóz Koncentracyjny Oświęcim-Brzezinka. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, 1960.
–. Wspomnienia Rudolfa Hoessa, Komendanta Obozu Oswięcimskiego. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, 1961.
Shirer, William L. Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent, 1934–1941. New York: Galahad Books, 1995.
–. The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany. Greenwich, CT: Fawcett, 1965.
Smith, Jean Edward. Lucius D. Clay: An American Life. New York: Henry Holt, 1990.
Sonnenfeldt, Richard W. Witness to Nuremberg: The Chief American Interpreter at the War Crimes Trials. New York: Arcade, 2006.
Stafford, David. Endgame, 1945: The Missing Final Chapter of World War II. New York: Back Bay, 2007.
Stangneth, Bettina. Eichmann Before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass Murderer. New York: Alfred A. Knopf, 2014.
Steinke, Ronen. Fritz Bauer: Oder Auschwitz vor Gericht. Munich: Piper, 2013.
Stuart, Heikelina Verrijn, and Marlise Simons. The Prosecutor and the Judge: Benjamin Ferencz and Antonio Cassese, Interviews and Writings. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
Taylor, Frederick. Exorcising Hitler: The Occupation and Denazification of Germany. New York: Bloomsbury, 2011.
Taylor, Telford. The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir. New York: Alfred A. Knopf, 1992.
Tilles, Stanley, with Jeffrey Denhart. By the Neck Until Dead: The Gallows of Nuremberg. Bedford, IN: JoNa Books, 1999.
Townsend, Tim. Mission at Nuremberg: An American Army Chaplain and the Trial of the Nazis. New York: William Morrow, 2014.
Tusa, Ann, and John Tusa. The Nuremberg Trial. New York: Atheneum, 1984.
Walters, Guy. Hunting Evil: The Nazi War Criminals Who Escaped and the Quest to Bring Them to Justice. New York: Broadway, 2009.
Wechsberg, Joseph, ed. The Murderers Among Us: The Wiesenthal Memoirs. New York: McGraw-Hill, 1967.
Weiss, Peter. The Investigation: Oratorio in 11 Cantos. London: Martin Boyars, 2010.
Whitlock, Flint. The Beasts of Buchenwald: Karl and Ilse Koch, Human-Skin Lampshades, and the War-Crimes Trial of the Century. Brule, WI: Cable, 2011.
Wiesenthal, Simon. Justice Not Vengeance. New York: Grove Weidenfeld, 1989.
Wittmann, Rebecca. Beyond Justice: The Auschwitz Trial. Cambridge: Harvard University Press, 2012.
Wojak, Irmtrud. Fritz Bauer, 1903–1968: Eine Biographie. Munich: C. H. Beck, 2011.
Zuroff, Efraim. Occupation: Nazi Hunter. Hoboken, NJ: KTAV, 1994.
–. Operation Last Chance: One Man’s Quest to Bring Nazi Criminals to Justice. New York: Palgrave MacMillan, 2009.
Интервью
Бах Габриэль (2014)
Бергер Дидра (2014)
Берсон Гарольд (2014)
Блэк Питер (2013)
Болль Моника (2014)
Бэррет Джон (2014)
Вилль Томас (2014)
Войяк Ирмтруд (2014)
Гольцман Элизабет (2014)
Дональдсон Сэм (2014)
Зейн Артур (2013–2014)
Зейн Францишка (2014)
Зейн Юзеф (2014)
Зихель Питер (2013)
Зурофф Эфраим (2014)
Кала Мария (2014)
Кларсфельд Беата (2013)
Кларсфельд Серж (2013)
Козловска Мария (2014)
Крайсберг Герард (2014)
Крайсберг (урожд. Визенталь) Паулинка (2014)
Леливельд Джозеф (2014)
Майер Генри (2013)
Мартин Джон (2015)
Марвелл Дэвид (2013–2014)
Маттеус Юрген (2013)
Мендельсон Мартин (2014)
Обермайер Герман (2013)
Персак Кшиштоф (2014)
Райан Аллан (2015)
Розенбаум Илай (2013–2014)
Сивински Петр (2015)
Уайт Элизабет (2013)
Ференц Бенджамин (2013)
Филлипс Хэрри (2015)
Хейденбергер Алисе (2014)
Хейденбергер Петер (2014)
Хир Марвин (2015)
Хлобовска Зофия (2014)
Циок Илона (2014)
Шалом Авраам (2014)
Шваб Геральд (2013)
Шлинк Бернхард (2014)
Шнайдер Петер (2014)
Шульберг Сандра (2013)
Эйтан Рафи (2014)
Избранные интервью прошлых лет
Вайцзеккер Рихард фон (1998)
Вальдхайм Курт (1986)
Вальзер Мартин (1998)
Визенталь Симон (1985–1998)
Гаудасиньский Зыгмунт (1994)
Завадский Мечислав (1994)
Зельман Леон (1986)
Кемпнер Роберт (1985)
Кларсфельд Беата (1986)
Коцев Петар (1986)
Манн Эбби (2001)
Огнянов Ристо (1986)
Пипер Францишек (1994)
Франк Никлас (1998)
Об авторе
Эндрю Нагорски, титулованный журналист, появился на свет в Шотландии. Вскоре после рождения родители-поляки перевезли его в Соединенные Штаты Америки, и с тех пор он не перестает путешествовать. На протяжении многих лет сотрудничества с журналом «Ньюсуик» Нагорски возглавлял редакции в Гонконге, Москве, Риме, Бонне, Варшаве и Берлине. До публикации «Охотников за нацистами» написал пять книг и множество статей. В настоящее время живет в Сент-Огастине (штат Флорида, США).
Примечания
1
Более точно – Барби (нем. Barbie). Но так как его преступная деятельность в основном происходила на территории Франции, в русскоязычных источниках устоялся перевод фамилии Барбье – на французский манер. – Здесь и далее, если не указано особо, прим. пер.
(обратно)2
Patterson Н., The Valhalla Exchange, 166.
(обратно)3
Из интервью автора с Дэвидом Марвеллом.
(обратно)4
Из интервью автора с Никласом Франком, а также публикаций “Horror at Auschwitz”, Newsweek, 15 марта 1999 г.; Andrew Nagorski, “Farewell to Berlin”, Newsweek.com, 7 января 2000 г.
(обратно)5
Abby Mann, Judgment at Nuremberg, 62.
(обратно)6
Подробности казни приводятся по материалам Кингсбери Смита, делавшего репортаж с места событий. Полностью его текст представлен по адресу .
Дополнительная информация получена по материалам книги Уитни Харриса, выступавшего обвинителем на Нюрнбергском процессе, и по распоряжению судьи Роберта Джексона, присутствовавшего во Дворце правосудия в ночь с 15 на 16 октября. Подробнее см.: Harris Whitney R. Tyranny on Trial: The Evidence at Nuremberg, 485–88.
(обратно)7
Taylor Т., The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir, 588.
(обратно)8
Издание на русском языке: Гилберт Г. Нюрнбергский дневник / Пер. с англ. А. Уткина. М.: Вече, 2012.
(обратно)9
G. M. Gilbert, Nuremberg Diary, 431.
(обратно)10
Из интервью автора с Гарольдом Берсоном.
(обратно)11
Taylor Т., 600.
(обратно)12
Там же, с. 602.
(обратно)13
Там же, с. 623.
(обратно)14
Здесь и далее слова Обермайера приводятся по двум источникам: личному интервью с автором и его статье “Clean, Painless and Traditional” в университетском журнале “Dartmouth Jack-O-Lantern” в декабре 1946 года.
(обратно)15
Tusa А., Tusa J., The Nuremberg Trial, 487 и иные источники, например, -sketches/john-c-woods/.
(обратно)16
Gilbert, 255.
(обратно)17
Там же, с. 432.
(обратно)18
Stanley Denhart J., By the Neck Until Dead: The Gallows of Nuremberg, 136.
(обратно)19
Maser W., Nuremberg: A Nation on Trial, 255.
(обратно)20
Там же, с. 254.
(обратно)21
Taylor T., The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir, 588. В этом фрагменте также упоминаются фотографии повешенных нацистов.
(обратно)22
Pierrepoint A., Executioner: Pierrepoint, 158.
(обратно)23
Maser, 255.
(обратно)24
Tusa and Tusa, 487.
(обратно)25
Obermayer H., “Clean, Painless and Traditional”, Dartmouth Jack-O-Lantern, December 1946.
(обратно)26
Pierrepoint, 8.
(обратно)27
Browning, Christopher R. Ordinary Men: Reserve Battalion 101 and the Final Solution in Poland, 58.
(обратно)28
Илья Эренбург. «Убей!» («Красная звезда», 24 июля 1942 г.). В оригинале цитируется по англоязычному источнику.
(обратно)29
Автор цитирует слова Ильи Эренбурга по изданию Overy R., Russia’s War, 163–64.
(обратно)30
Согласно «Декларации об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства», опубликованной 30 октября 1943 г.
(обратно)31
Beschloss M., The Conquerors: Roosevelt, Truman and the Destruction of Hitler’s Germany, 1941–1945, 21.
(обратно)32
Там же, с. 26.
(обратно)33
Эту историю подробно рассказывает Эллиот Рузвельт, сын президента Рузвельта, в своих мемуарах под названием «Его глазами»; русское издание: Рузвельт Э. Его глазами / Пер. с англ. А. Д. Гуревича и Д. Э. Кунинойна. М.: АСТ, 2003.
(обратно)34
Здесь и далее подробности приводятся по статье Cobain I., “Britain Favoured Execution over Nuremberg Trials for Nazi Leaders”, The Guardian, 25 октября 2012.
(обратно)35
Bessel R., Germany 1945: From War to Peace, 11.
(обратно)36
Там же, с. 18.
(обратно)37
Naimark, Norman H. The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949, 72.
(обратно)38
Stafford D. Endgame, 1945: The Missing Final Chapter of World War II, 315.
(обратно)39
Taylor F. Exorcising Hitler: The Occupation and Denazification of Germany, 54.
(обратно)40
Naimark, 74.
(обратно)41
Botting D., From the Ruins of the Reich: Germany, 1945–1949, 23.
(обратно)42
Taylor F., 70.
(обратно)43
Там же, с. 73.
(обратно)44
Bessel, 68–69.
(обратно)45
Подробности освобождения лагеря Дахау здесь и далее приводятся по изданию Dunn S. ed., Dachau 29 April 1945: The Rainbow Liberation Memoirs.
(обратно)46
Согласно данным архива Мемориального музея холокоста в США.
(обратно)47
Dunn, ed., 14.
(обратно)48
О письме лейтенанта Коулинга – там же, 22–24.
(обратно)49
Там же, с. 32.
(обратно)50
Там же, с. 77.
(обратно)51
Там же, с. 91–92.
(обратно)52
Там же, с. 24.
(обратно)53
Здесь и далее все цитаты Тувьи Фридмана приводятся по изданию Friedman T., The Hunter, 50–102.
(обратно)54
Davies N., Heart of Europe: A Short History of Poland, 72.
(обратно)55
Taylor F., 226.
(обратно)56
Здесь и далее все цитаты Симона Визенталя приводятся по изданию Wechsberg J., ed., The Murderers Among Us: The Wiesenthal Memoirs, 45–49.
(обратно)57
Подробности биографии Симона Визенталя приводятся по изданиям Segev T., Wiesenthal S.: The Life and Legends, 35–41; и Wechsberg, ed., 23–44.
(обратно)58
Nagorski A., “Wiesenthal: A Summing Up”, Newsweek International, 27 апреля 1998 года.
(обратно)59
Wechsberg, ed., 28.
(обратно)60
Русское издание: Сегев Т. Симон Визенталь. Жизнь и легенды / Пер. с иврита Б. Борухова. М.: Текст, 2014.
(обратно)61
Segev, 27.
(обратно)62
Wechsberg, ed., 8.
(обратно)63
Friedman, 146.
(обратно)64
Wechsberg, ed., 47–49.
(обратно)65
Forsyth F., The Odessa File, 92.
(обратно)66
Форсайт Ф. Досье «Одесса» / Пер. с англ. В. Саввова. М.: ВААП-информ, 1991.
(обратно)67
Wechsberg, ed., 11.
(обратно)68
Женское движение в составе гитлерюгенда, куда входили девушки в возрасте от 14 до 18 лет.
(обратно)69
Saul K. Padover papers, 1944–45, The New York Public Library Manuscript and Archives Division.
(обратно)70
Здесь и далее приводятся слова Хейденбергера из интервью с автором.
(обратно)71
Beschloss, 275.
(обратно)72
Здесь и далее все детали биографии Денсона приводятся по изданию Greene J. M., Justice at Dachau: The Trials of an American Prosecutor, 17–20.
(обратно)73
“William Denson Dies at 85; Helped in Convicting Nazis”, New York Times, 16 декабря 1998 года.
(обратно)74
Greene, 13.
(обратно)75
Там же, с. 19.
(обратно)76
Там же, с. 24.
(обратно)77
Там же, с. 26.
(обратно)78
Там же, с. 36.
(обратно)79
Здесь и далее все подробности судебных процессов в Дахау, а также высказывания Уильяма Денсона – там же, 39–44, 53–54.
(обратно)80
Двукратный лауреат Пулитцеровской премии, известный политический обозреватель, автор классического труда «Общественное мнение».
(обратно)81
Военный корреспондент, освещавший события Второй мировой войны, корейской войны и войны во Вьетнаме; первая женщина, получившая Пулитцеровскую премию.
(обратно)82
Heidenberger P., From Munich to Washington: A German-American Memoir, 53.
(обратно)83
Там же, с. 57.
(обратно)84
Greene, 44.
(обратно)85
Там же, с. 64.
(обратно)86
Там же, с. 101.
(обратно)87
Там же, с. 103–4.
(обратно)88
Lord Russell of Liverpool, Scourge of the Swastika: A Short History of Nazi War Crimes, 251.
(обратно)89
“Nazi War Crime Trials: The Dachau Trials”, jewishvirtuallibrary.org.
(обратно)90
Lord Russell of Liverpool, 252.
(обратно)91
Greene, 2, 349.
(обратно)92
“Chief Prosecutor Returns Home”, The New York Times, 24 октября 1947 года; Greene, 316.
(обратно)93
Whitlock F., The Beasts of Buchenwald: Karl and Ilse Koch, Human-Skin Lampshades, and the War-Crimes Trial of the Century, 196.
(обратно)94
Greene, 226–27.
(обратно)95
Там же, с. 128.
(обратно)96
История Хуши – там же, с. 80–85, 345.
(обратно)97
Там же, с. 127.
(обратно)98
Там же, с. 348.
(обратно)99
Whitlock, 199.
(обратно)100
Greene, 266.
(обратно)101
Там же, с. 263.
(обратно)102
Heidenberger, 61.
(обратно)103
Greene, 263–64.
(обратно)104
Там же, с. 273.
(обратно)105
Heidenberger, 58.
(обратно)106
Musmanno M. A., The Eichmann Kommandos, 70.
(обратно)107
Масманно М. Специальные команды Эйхмана. Карательные операции СС. 1939–1945 / Пер. с англ. А. Андреева. М.: Центрполиграф, 2010.
(обратно)108
Также известен как Клинтон и Мидтаун-Уэст. – Прим. ред.
(обратно)109
Один из пяти секторов на побережье Нормандии, куда производилась высадка союзных войск в ходе операции «Оверлорд» в июне – августе 1944 г. – Прим. ред.
(обратно)110
По словам Эли М. Розенбаума на 102-м ежегодном заседании Американского общества международного права (ASIL), Вашингтон (округ Колумбия), 10 апреля 2008 года.
(обратно)111
Подробности биографии Бенджамина Ференца получены в ходе интервью с автором, а также по материалам сайта (“Benny Stories”).
(обратно)112
Здесь и далее слова Ференца цитируются, если не оговорено иное, по материалам сайта (“Benny Stories”).
(обратно)113
Историю о воровстве Бенджамин Ференц рассказал автору в личном интервью, в краткой версии она упоминается на сайте (“Benny Stories”).
(обратно)114
(“Benny Stories”).
(обратно)115
United States Holocaust Memorial Museum, “Subsequent Nuremberg Proceedings, Case #9, The Eisatzgruppen Case”, Holocaust Encyclopedia.
(обратно)116
(“Benny Stories”).
(обратно)117
Heikelina Simons V. S., The Prosecutor and the Judge: Benjamin Ferencz and Antonio Cassese, Interviews and Writings, 18.
(обратно)118
Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, Vol. IV, 30.
(обратно)119
Там же, с. 39.
(обратно)120
Frieze D.-L., ed., Totally Unofficial: The Autobiography of Raphael Lemkin, 22.
(обратно)121
(“Benny Stories”).
(обратно)122
Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, Vol. IV, 30.
(обратно)123
Там же, с. 53.
(обратно)124
Musmanno, The Eichmann Kommandos, 65.
(обратно)125
Там же, с. 126.
(обратно)126
Подробности биографии Майкла Масманно: Barcousky L., “Eyewitness 1937: Pittsburgh Papers Relished ‘Musmanntics’ ”, Pittsburgh Post-Gazette, 7 марта 2010 г.
(обратно)127
Участники движения за права рабочих, анархисты, в 1920 году обвиненные в убийстве и приговоренные к казни. Процесс вызвал широкий резонанс среди общественности, поскольку обвинение выглядело сфабрикованным по политическим мотивам.
(обратно)128
Юридический термин англосаксонского права, используемый в ситуации, когда настоящий истец или ответчик неизвестен либо появление его имени в деле по определенным причинам нежелательно. Также применяется для обозначения неопознанного трупа мужчины или больного, чье имя больница не в состоянии выяснить. Женщина в той же ситуации называлась Джейн Доу, ребенок – Беби Доу.
(обратно)129
Associated Press, “Decrees Santa Claus Is Living Reality”, опубликовано в “The New York Times” 23 декабря 1936 г.
(обратно)130
(“Benny Stories”).
(обратно)131
Дискуссия Масманно и Оленорфа цитируется по изданию Musmanno, The Eichmann Kommandos, 78–79.
(обратно)132
(“Benny Stories”).
(обратно)133
Musmanno, The Eichmann Kommandos,148.
(обратно)134
Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, Vol. IV, 369–70.
(обратно)135
Stuart and Simons, 20.
(обратно)136
(“Benny Stories”).
(обратно)137
Из интервью автора с Бенджамином Ференцем.
(обратно)138
Из интервью автора с Гарольдом Берсоном.
(обратно)139
Sonnenfeldt R. W., Witness to Nuremberg: The Chief American Interpreter at the War Crimes Trials, 13.
(обратно)140
Mann, 48.
(обратно)141
Lord Russell of Liverpool, xi.
(обратно)142
Здесь и далее текст репортажей цитируется по материалам сайта .
(обратно)143
Журналист и историк, автор книг: Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent, 1934–1941 (в рус. пер.: Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента / Пер. с англ. Л. А. Игоревского. М.: Центрполиграф, 2002) и The Rise and Fall of the Third Reich (в рус. пер.: Взлет и падение Третьего рейха / Пер. с англ. О. А. Ржешевского. М.: АСТ, 2015), отразивших годы его пребывания в нацистской Германии.
(обратно)144
Greene, 14.
(обратно)145
Kennedy J. F., Profiles in Courage, 199.
(обратно)146
“Punishing the German”: Frieze, ed., 118.
(обратно)147
(“Benny Stories”).
(обратно)148
Из интервью автора с Германом Обермайером.
(обратно)149
Из интервью автора с Джеральдом Швабом.
(обратно)150
Stuart and Simons, 23.
(обратно)151
Harris, 35.
(обратно)152
Там же, с 34.
(обратно)153
Там же, с. 14.
(обратно)154
Mann, 13.
(обратно)155
Musmanno, The Eichmann Kommandos,175–76.
(обратно)156
Shirer W. L., Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent, 1934–1941, 284.
(обратно)157
Dr. Sehn J., Obóz Koncentracyjny Oswięcim-Brzezinka.
(обратно)158
Mącior W., “Professor Jan Sehn (1909–1965)”, Gazeta Wyborcza, Краков, 12 октября 2005 года.
(обратно)159
Подробности биографии Яна Зейна получены в ходе интервью автора с его внучатым племянником Артуром Зейном.
(обратно)160
В 1795 г., во время 3-го раздела Польши (Речи Посполитой), это государство все еще называлось Священной Римской империей. В 1804 г. оно было переименовано в Австрийскую империю, которая лишь в 1867 г. стала дуалистической Австро-Венгерской монархией. – Прим. ред.
(обратно)161
Markiewicz J., Kozłowska M., “10 rocznica smierci Prof. J. Sehna”, Wspomnienie na U. J., XII, 1975, Jan Sehn Archives.
(обратно)162
Здесь и далее слова Юзефа Зейна и его супруги Францишки Зейн цитируются по результатам интервью с автором.
(обратно)163
Здесь и далее все цитаты Марии Козловской приводятся по результатам ее интервью с автором.
(обратно)164
Davies, 64.
(обратно)165
Подробности ранней истории лагеря Освенцим приводятся по результатам интервью автора с бывшими узниками, ранее опубликованным в материале Nagorski A., “ATortured Legacy”, Newsweek, 16 января 1995 г.
(обратно)166
Harding T., Hanns and Rudolf: The True Story of the German Jew Who Tracked Down and Caught the Kommandant of Auschwitz, 165.
(обратно)167
Hoess R., Commandant of Auschwitz: The Autobiography of Rudolf Hoess, 172.
(обратно)168
Там же, 173; а также Harding, 201–2.
(обратно)169
Harding, 201–2. В книге содержится подробнейший рассказ о побеге и пленении Хёсса.
(обратно)170
История о поимке Хёсса, включая слежку за его семьей и допросы жены и детей, а также подробности его доставки в тюрьму: там же, 234–45.
(обратно)171
Gellately, R. ed., The Nuremberg Interviews: Conducted by Leon Goldensohn, 295.
(обратно)172
Там же.
(обратно)173
Harris, 334.
(обратно)174
Цитаты из показаний Хёсса: там же, 336–37.
(обратно)175
Gellately, ed., 304–5.
(обратно)176
Gutman Y, Berenbaum M., Anatomy of the Auschwitz Death Camp, 70–72.
(обратно)177
Gilbert, 266.
(обратно)178
Harris, 336–37.
(обратно)179
Telford Taylor, 362.
(обратно)180
Harris, 335.
(обратно)181
Gilbert, 249–51, 258–60.
(обратно)182
Gellately, ed., 315.
(обратно)183
По свидетельству Яна Маркиевича и материалам архивов Яна Зейна.
(обратно)184
Информация о привычках Зейна, о распорядке его дня и допросах Хёсса получена в ходе интервью автора с Зофией Хлобовской, Марией Козловской и Марией Кала.
(обратно)185
Dr. Sehn J., ed. Wspomnienia Rudolfa Hoessa, Komendanta Obozu Oświęcimskiego, 14.
(обратно)186
Hoess, 176.
(обратно)187
Там же, с. 77.
(обратно)188
Далее все цитаты Хёсса и подробности его деятельности в Дахау и Заксенхаузене: там же, с. 29–106.
(обратно)189
История взаимоотношений с Элеонорой Ходис: Harding, 142–46.
(обратно)190
О службе в Освенциме: Hoess, Commandant of Auschwitz, 107–68.
(обратно)191
Dr. Sehn J., ed., Wspomnienia Rudolfa Hoessa, Komendanta Obozu Oświęcimskiego, 32.
(обратно)192
Sehn, Obòz Koncentracyjny Oświęcim-Brzezinka, 32.
(обратно)193
Hoess, Commandant of Auschwitz, 19.
(обратно)194
Gutman and Berenbaum, 64.
(обратно)195
Sehn, Obòz Koncentracyjny Oświęcim-Brzezinka, 10.
(обратно)196
Belling J., “Judge Jan Sehn,” .
(обратно)197
Из интервью автора с Петром Цивинским.
(обратно)198
Piper F., Ilu Ludzi Zgineło w KL Auschwitz.
(обратно)199
Gutmanand Berenbaum, 67.
(обратно)200
Из интервью автора с Францишеком Пипером.
(обратно)201
Подробности приводятся по результатам интервью с Марией Козловской и Зофией Хлобовской, а также материалам архивов Яна Зейна.
(обратно)202
Копия телеграммы, предоставленная Эли Розенбаумом.
(обратно)203
Военный губернатор (англ.). – Прим. ред.
(обратно)204
Записи Сола Падовера, The New York Public Library Manuscript and Archives Division.
(обратно)205
Taylor F., 273.
(обратно)206
Нюрнбергские расовые законы – два дискриминационных расистских закона («Закон о гражданине Рейха» и «Закон об охране германской крови и германской чести»), фактически лишившие евреев, цыган и ряд других национальных меньшинств германского гражданства.
(обратно)207
Подробности истории Питера Зихеля получены в ходе интервью с автором.
(обратно)208
Werwolf (нем.) – волк-оборотень – немецкое ополчение, созданное в конце войны и действовавшее в тылу союзников. – Прим. ред.
(обратно)209
Biddiscombe P., The Denazification of Germany: A History, 1945–1950, 37.
(обратно)210
По материалам Потсдамской конференции трех держав 17 июля – 2 августа 1945 г.
(обратно)211
Taylor F., 247–50.
(обратно)212
Annan N., Changing Enemies: The Defeat and Regeneration of Germany, 212.
(обратно)213
Taylor F., 268.
(обратно)214
Smith J. E., Lucius D. Clay: An American Life, 302.
(обратно)215
Там же, с. 271.
(обратно)216
Schulberg S., Filmmakers for the Prosecution, The Making of Nuremberg: Its Lessons for Today, iii.
(обратно)217
Biddiscombe, 183.
(обратно)218
Taylor F., 285.
(обратно)219
Biddiscombe, 191.
(обратно)220
Там же, с. 199.
(обратно)221
Smith, 240.
(обратно)222
Lucius D. Clay, Decision in Germany, 262.
(обратно)223
Annan, 205.
(обратно)224
Taylor F., 321.
(обратно)225
Heberer P., Matthäus J., eds., Atrocities on Trial: Historical Perspectives on the Politics of Prosecuting War Crimes, 175.
(обратно)226
Leide H., NS-Verbrecher und Staatssicherheit: Die geheime Vergangenheitspolitik der DDR, 45–46.
(обратно)227
Там же, с. 414.
(обратно)228
().
(обратно)229
Копия телеграммы, предоставленная Эли Розенбаумом.
(обратно)230
Greene, 321.
(обратно)231
Clay, 253–54.
(обратно)232
Там же, с. 254.
(обратно)233
Smith, 301.
(обратно)234
Greene, 323.
(обратно)235
Выступление Денсона на слушаниях сената: там же, 328–329.
(обратно)236
Там же, с. 336.
(обратно)237
Там же, с. 340.
(обратно)238
Clay, 254.
(обратно)239
Frei N., Adenauer’s Germany and the Nazi Past: The Politics of Amnesty and Integration, 6–7.
(обратно)240
Whitlock, 258.
(обратно)241
Из интервью автора с Петером Хейденбергом.
(обратно)242
Greene, 347; Whitlock, 259–61.
(обратно)243
Whitlock, 260.
(обратно)244
Stuart and Simmons, 17.
(обратно)245
Greene, 351–52.
(обратно)246
Из интервью автора с Бенджамином Ференцем.
(обратно)247
Smith, 297.
(обратно)248
Hilary E., The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial, 1945–1958: Atrocity, Law, and History, 276.
(обратно)249
Там же, с. 277–86.
(обратно)250
Там же, с. 286.
(обратно)251
Stuart and Simmons, 24.
(обратно)252
Earl, 286.
(обратно)253
Stuart and Simons, 31–32; and (“Benny Stories”).
(обратно)254
Из интервью автора с Бенджамином Ференцем.
(обратно)255
(“Benny Stories”).
(обратно)256
Из интервью автора с Бенджамином Ференцем.
(обратно)257
Schulberg S., Filmmakers for the Prosecution, а также .
(обратно)258
Из переписки автора с Сандрой Шульберг.
(обратно)259
Sandra Schulberg, 6.
(обратно)260
Там же, с. 37.
(обратно)261
Там же, с. 42–45.
(обратно)262
Копия письма, предоставленная профессором Джоном К. Барреттом. Ответ Джексона хранится в Библиотеке конгресса.
(обратно)263
Schulberg S., 46–47.
(обратно)264
Там же, с. 47.
(обратно)265
Там же, с. 50.
(обратно)266
Там же, с. 49.
(обратно)267
Из переписки автора с Сандрой Шульберг.
(обратно)268
Из документального фильма «Фриц Бауэр: смерть в рассрочку».
(обратно)269
Pick H., Simon Wiesenthal: A Life in Search of Justice, 98.
(обратно)270
Здесь и далее подробности жизни Визенталя в Линце: Segev, 68–70.
(обратно)271
Pick, 102.
(обратно)272
Wechsberg, ed., 51.
(обратно)273
Wiesenthal, 40.
(обратно)274
Там же, с. 56.
(обратно)275
Wechsberg, ed., 58.
(обратно)276
Segev, 79, 423.
(обратно)277
Pick, 95.
(обратно)278
Segev, 78–80.
(обратно)279
Wiesenthal, 273.
(обратно)280
Segev, 85, 82.
(обратно)281
Там же, с. 105. Подробнее см.: Bauer Y., Flight and Rescue: Brichah.
(обратно)282
Nagorski A., “Wiesenthal: A Summing Up”, Newsweek International, 27 апреля 1998 года.
(обратно)283
Wiesenthal, 55.
(обратно)284
Wechsberg, ed., 65.
(обратно)285
Из интервью автора с Паулинкой Крейсберг (в девичестве Визенталь).
(обратно)286
Segev, 86–88; а также материалы сайта .
(обратно)287
.
(обратно)288
Подробности сотрудничества Визенталя с израильской разведкой: Segev, 90–95.
(обратно)289
Friedman, 180.
(обратно)290
Подробности дела Маттнера: там же, с. 180–82.
(обратно)291
Heberer and Matthäus, eds., 235.
(обратно)292
Friedman, 191.
(обратно)293
Там же, с. 193.
(обратно)294
Heberer and Matthäus, eds., 235.
(обратно)295
Friedman, 188–90.
(обратно)296
Там же, с. 199.
(обратно)297
Там же, с. 210–11.
(обратно)298
Там же, с. 211.
(обратно)299
Там же, с. 146.
(обратно)300
Wechsberg, ed., 100.
(обратно)301
Там же, с. 100–101; и Wiesenthal, 67–69.
(обратно)302
Wechsberg, ed., 101–2.
(обратно)303
Wiesenthal, 69.
(обратно)304
Например, Walters G., Hunting Evil: The Nazi War Criminals Who Escaped and the Quest to Bring Them to Justice, 80.
(обратно)305
Friedman, 122.
(обратно)306
Kempner R. M. W., Ankläger Einer Epoche: Lebenserrinrungen, 445.
(обратно)307
Wiesenthal, 70.
(обратно)308
Friedman, 203. Перемещения Эйхмана после войны подробно освещены в издании Neal Bascomb’s Hunting Eichmann: How a Band of Survivors and a Young Spy Agency Chased Down the World’s Most Notorious Nazi.
(обратно)309
Friedman, 204.
(обратно)310
Там же, с. 215.
(обратно)311
Подробности встречи: Wiesenthal, 76.
(обратно)312
Segev, 102.
(обратно)313
Wechsberg, ed., 123.
(обратно)314
Wiesenthal, 76–77; and Weschsberg, ed., 124.
(обратно)315
Wiesenthal, 77.
(обратно)316
Pick, 133.
(обратно)317
Segev, 117.
(обратно)318
Heberer and Matthäus, eds., 191.
(обратно)319
Deborah Lipstadt, The Eichmann Trial, 27.
(обратно)320
Irmtrud Wojak, Fritz Bauer 1903–1968: Eine Biographie, 15.
(обратно)321
Там же, с. 13.
(обратно)322
Steinke R., Fritz Bauer: Oder Auschwitz vor Gericht, 26, 29.
(обратно)323
В оригинале: Fritz Bauer: Tod Auf Raten, CV Films, 2010.
(обратно)324
Из интервью автора с Илоной Циок.
(обратно)325
Тексты любезно предоставила Моника Болль, куратор выставки в Еврейском музее Франкфурта.
(обратно)326
Здесь и далее цитаты из выступления Бауэра перед студентами приводятся по изданию: Wojak, 62.
(обратно)327
Там же, с. 97–98.
(обратно)328
Steinke, с. 83–85.
(обратно)329
Там же, с. 97–98.
(обратно)330
Согласно материалам выставки в Еврейском музее Франкфурта.
(обратно)331
Из интервью автора с Ирмтруд Войяк.
(обратно)332
По материалам выставки в Еврейском музее Франкфурта и издания Steinke, 106–8.
(обратно)333
Steinke, 109.
(обратно)334
Wojak, 183.
(обратно)335
Там же, с. 179.
(обратно)336
Там же, с. 221.
(обратно)337
Shirer W., The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany, 1061–63.
(обратно)338
Searle A., Wehrmacht Generals, West German Society, and the Debate on Rearmament, 1949–1959, 238–39.
(обратно)339
Wojak, 273–74.
(обратно)340
Письмо австрийскому коммунисту Карлу Б. Франку от 2 марта 1945, представленное на выставке в Еврейском музее Франкфурта.
(обратно)341
Steinke, 144.
(обратно)342
Wojak, 275.
(обратно)343
Searle, 244.
(обратно)344
Frei, 268.
(обратно)345
Steinke, 137.
(обратно)346
«Минуточку, сеньор» (исп.).
(обратно)347
Higgins J., The Bormann Testament, 49–50.
(обратно)348
Роман 1962 г., изначально опубликованный под названием «Завещание Каспара Шульца».
(обратно)349
Из интервью автора с Рафи Эйтаном.
(обратно)350
“Vital Statistics: Population in Israel”, .
(обратно)351
Из интервью автора с Авраамом Шаломом.
(обратно)352
Подробности встречи приводятся по Isser Harel, The House on Garibaldi Street, 4.
(обратно)353
Там же, с. 2–3.
(обратно)354
Подробности встречи Дарома и Бауэра: там же, c. 4–9.
(обратно)355
Подробности миссии Горена: там же, с. 10–12.
(обратно)356
Подробности путешествия Гофштетера в Аргентину и встречи с Германом и его дочерью: там же, с. 12–22.
(обратно)357
Bascomb, 111–12.
(обратно)358
Harel, The House on Garibaldi Street, 27.
(обратно)359
Friedman, 246–49.
(обратно)360
Harel, The House on Garibaldi Street, 32–35.
(обратно)361
Aharoni Z., Dietl W., Operation Eichmann: The Truth About the Pursuit, Capture and Trial 85.
(обратно)362
Там же, с. 84.
(обратно)363
Harel, The House on Garibaldi Street, 36–37.
(обратно)364
Подробности биографии Аарони: там же, c. 35; и Bascomb, 130–31.
(обратно)365
Harel, The House on Garibaldi Street, 36.
(обратно)366
Aharoni and Diet l, 88.
(обратно)367
Подробности поисков: там же, c. 90–100. В книге Иссера Хареля есть незначительные отличия: он утверждает, что для операции привлекли настоящего посыльного из отеля, который ничего не знал о миссии.
(обратно)368
Там же, с. 102–25.
(обратно)369
Wiesenthal, 77.
(обратно)370
Там же, с. 77–78.
(обратно)371
Harel I., “Simon Wiesenthal and the Capture of Eichmann” (неопубликованная рукопись), 230.
(обратно)372
Aharoni and Diet l, 86–87.
(обратно)373
Harel, The House on Garibaldi Street, 85–87.
(обратно)374
Из интервью автора с Рафи Эйтаном.
(обратно)375
Aharoni and Diet l, 126.
(обратно)376
Из интервью автора с Авраамом Шаломом.
(обратно)377
Malkin P. Z., Stein H., Eichmann in My Hands, 127.
(обратно)378
Из интервью автора с Рафи Эйтаном.
(обратно)379
Harel, The House on Garibaldi Street, 150–52.
(обратно)380
Malkin and Stein, 142, 183.
(обратно)381
Подробности похищения Эйхмана: Harel, The House on Garibaldi Street, 162–69; Aharoni and Diet l, 137–44, а также из интервью автора с Рафи Эйтаном и Авраамом Шаломом.
(обратно)382
Malkin and Stein, 186–87.
(обратно)383
Bascomb, 262–63.
(обратно)384
Malkin and Stein, 204–5.
(обратно)385
Там же, с. 216.
(обратно)386
Harel, The House on Garibaldi Street, 182.
(обратно)387
Aharoni and Diet l, 152–53.
(обратно)388
Harel, The House on Garibaldi Street, 179–80.
(обратно)389
Из интервью автора с Авраамом Шаломом.
(обратно)390
Harel, The House on Garibaldi Street, 237, 249.
(обратно)391
Там же, с. 252–56.
(обратно)392
Bascomb, 290.
(обратно)393
Friedman, 266.
(обратно)394
Segev, 148.
(обратно)395
Pick, 147.
(обратно)396
Wiesenthal, 70.
(обратно)397
Из интервью с Паулинкой и Джерардом Крайсберг.
(обратно)398
Harel, The House on Garibaldi Street, 275.
(обратно)399
Steinke, 23.
(обратно)400
На русском языке вышла в 1992 году под названием «Похищение палача». Настоящие имена агентов скрыты, вместо них используются псевдонимы.
(обратно)401
Harel, “Simon Wiesenthal and the Capture of Eichmann,” 3, 23.
(обратно)402
Там же, с. 3, 5.
(обратно)403
Из интервью автора с Авраамом Шаломом.
(обратно)404
Harel, The House on Garibaldi Street, 196–97.
(обратно)405
Леви П. Канувшие и спасенные / Пер. с итал. Е. Дмитриевой. М.: Новое издательство, 2010.
(обратно)406
Примо Леви – итальянский химик и писатель еврейского происхождения, узник Освенцима. Покончил с собой в 1987 году. «Канувшие и спасенные» («I sommersi e i salvati»), книга о холокосте, – его последнее произведение.
(обратно)407
Здесь и далее цитаты из стенограммы заседания кабинета министров приводятся с опорой на следующий источник: Friedman M. Ben-Gurion’s Bombshell: We’ve Caught Eichmann // The Times of Israel, April 8, 2013.
(обратно)408
Hausner G. Justice in Jerusalem, 288.
(обратно)409
Bascomb, 298–99.
(обратно)410
См. там же, с. 304–305.
(обратно)411
См.: Bernstein A. Israeli Judge Moshe Landau, Who Presided over Nazi Officer’s Trial, Dies at 99 // Washington Post, May 3, 2011; а также Lipstadt, 34.
(обратно)412
См.: Aderet O. The Jewish Philosopher Who Tried to Convince Israel Not to Try Eichmann // Haaretz, December 28, 2013.
(обратно)413
Цит. по: Lipstadt, 31.
(обратно)414
Там же с. 34.
(обратно)415
Hausner, 323.
(обратно)416
Здесь и далее высказывания Габриэля Баха цитируются по стенограммам его личных бесед с автором этой книги.
(обратно)417
См.: Astor Y. Snatching Eichmann // Zman, May 2012, 130.
(обратно)418
См.: Lang J., Sybill C. Eichmann Interrogated: Transcripts from the Archives of the Israeli Police, xix.
(обратно)419
См. там же, с. 17.
(обратно)420
Там же, с. 4.
(обратно)421
Там же, с. 5.
(обратно)422
Там же, с. 6.
(обратно)423
Там же, с. 76–77.
(обратно)424
Там же, с. 156–157.
(обратно)425
Господин капитан (нем.).
(обратно)426
Там же, с. 9.
(обратно)427
Hoess, 155.
(обратно)428
Lang, Sybill, 101–102.
(обратно)429
Там же, с. 142–144.
(обратно)430
Там же, с. 6.
(обратно)431
Arendt H. The Last Interview and Other Conversations, 128.
(обратно)432
Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме / Пер. с англ. С. Кастальского и Н. Рудницкой. М.: Европа, 2008.
(обратно)433
Arendt H. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, 153.
(обратно)434
Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И. В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А. Д. Ковалева, Ю. Б. Мишкенене, Л. А. Седова; Послесл. Ю. Н. Давыдова; Под ред. М. С. Ковалевой, Д. М. Носова. М.: ЦентрКом, 1996.
(обратно)435
Arendt H. The Last Interview and Other Conversations, 20.
(обратно)436
Lipstadt, 152.
(обратно)437
Arendt H. The Last Interview and Other Conversations, 130.
(обратно)438
Там же, с. 46.
(обратно)439
Arendt, H. Eichmann in Jerusalem, 48–49.
(обратно)440
Там же, с. 54
(обратно)441
Там же, с. 287.
(обратно)442
Hausner, 325–332.
(обратно)443
Arendt H. Eichmann in Jerusalem, 46.
(обратно)444
Hausner, 348.
(обратно)445
Arendt H. Eichmann in Jerusalem, 47.
(обратно)446
Там же, с. 287–288.
(обратно)447
Там же, с. 117.
(обратно)448
Hausner, 341.
(обратно)449
Arendt H. Eichmann in Jerusalem, 118.
(обратно)450
Lowenfeld J. Rudolf Kastner Gets a New Trial // Yom Ha Shoah, April 26, 2011.
(обратно)451
Arendt H. Eichmann in Jerusalem,125.
(обратно)452
Musmanno M. The Eichmann Kommandos,16.
(обратно)453
Averbach A., Price, Ch. The Verdicts Were Just: Eight Famous Lawyers Present Their Most Memorable Cases, 98.
(обратно)454
Musmanno M. No Ordinary Criminal // New York Times, May 19, 1963.
(обратно)455
Видкун Квислинг (1887–1945) – премьер-министр Норвегии, активно сотрудничавший с фашистской Германией. В ряде европейских стран его имя воспринимается как синоним слова «коллаборационист».
(обратно)456
Пьер Лаваль (1883–1945) – деятель французского коллаборационистского «правительства Виши», премьер-министр Франции с 1942 по 1944 год.
(обратно)457
Letters to the Editor: Eichmann in Jerusalem // New York Times, June 23, 1963.
(обратно)458
Robinson J. And the Crooked Shall Be Made Straight: The Eichmann Trial, the Jewish Catastrophe, and Hannah Arendt’s Narrative, 58–59.
(обратно)459
Там же, с. 147.
(обратно)460
Там же, с. 160–162.
(обратно)461
Wiesenthal, 231.
(обратно)462
Robinson, 159.
(обратно)463
Цитируется по стенограмме личной беседы Рафи Эйтана с автором этой книги.
(обратно)464
Stangenth, B. Eichmann vor Jerusalem: Das unbehelligte Lebeneines Massenmörders.
(обратно)465
Stangneth, B. Eichmann Before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass Murderer, 222.
(обратно)466
Там же, с. 23.
(обратно)467
См. Arendt H. The Last Interview and Other Conversations, 26–27.
(обратно)468
Там же, с. 50–51.
(обратно)469
Там же, с. 44–45.
(обратно)470
Там же, с. 10–11.
(обратно)471
Milgram S. Obedience to Authority: An Experimental View, 6.
(обратно)472
Там же, с. 8.
(обратно)473
Там же, с. 11.
(обратно)474
Милгрэм С. Подчинение авторитету: Научный взгляд на власть и мораль / Пер. с англ. Г. Ястребова. М.: Альпина нон-фикшн, 2016.
(обратно)475
См.: Ferran L., Momtaz R., Meek J. G. British PM on New ISIS Beheading // ABC News, September 14, 2014.
(обратно)476
Kelley D. 22 Cells in Nuremberg: A Psychiatrist Examinesthe Nazi Criminals, 71.
(обратно)477
Gilbert, 260.
(обратно)478
Kelley D. 22 Cells in Nuremberg, 3.
(обратно)479
Психодиагностический тест, разработанный швейцарским ученым Германом Роршахом в 1921 году. Испытуемому предлагается проинтерпретировать рисунок из десяти чернильных пятен, расположенных симметрично относительно вертикальной оси.
(обратно)480
См.: El-Hai, J. The Nazi and the Psychiatrist: Hermann Göring, Dr. Douglas M. Kelley, and a Fatal Meeting of the Minds at the End of WWII, 218–220.
(обратно)481
Arendt H. The Last Interview and Other Conversations, 41.
(обратно)482
См.: Hausner, 464.
(обратно)483
Автор имеет в виду гражданский суд, соблюдающий установленный законом процессуальный порядок, исключая из рассмотрения военно-полевой суд, действующий вне норм уголовного законодательства. В 1948 г. по приговору израильского военного трибунала был расстрелян капитан Меир Тувианский, впоследствии полностью реабилитированный.
(обратно)484
Хронология событий, связанных с оглашением приговора, апелляциями и казнью, приводится с опорой на книгу Нила Баскомба (Bascomb, 316–318).
(обратно)485
Цит. по: Bascomb, 319.
(обратно)486
Здесь и далее высказывания Шалома Нагара цитируются по этому изданию (Astor Y. Snatching Eichmann // Zman, May 2012, 130).
(обратно)487
Шлинк Б. Чтец / Пер. с нем. Б. Хлебникова. СПб.: Азбука, 2004.
(обратно)488
Информация о встрече Гнилки с Вулканом и передаче документов Бауэру представлена в следующих источниках: Pendas D. O. The Frankfurt Auschwitz Trial, 1963–1965: Genocide, History, and the Limitsof the Law, 46–47; Wittmann R. Beyond Justice: The Auschwitz Trial, 62–63.
(обратно)489
Michels C. Auf dem Büfett lagen die Erschiessungslisten // FrankfurterRundschau, March 27, 2004.
(обратно)490
Wittman, 62.
(обратно)491
Michels C. Auf dem Büfett lagen die Erschiessungslisten.
(обратно)492
Информация получена в Еврейском музее Франкфурта, на выставке, посвященной Фрицу Бауэру.
(обратно)493
Steinke, 155–157.
(обратно)494
Wittmann, 256.
(обратно)495
Там же, с. 8.
(обратно)496
Naumann, B. Auschwitz: A Report on the Proceedings Against Robert Karl Ludwig Mulka and Others Before the Court at Frankfurt, 415.
(обратно)497
Цит. по: Arendt H. Introduction // Naumann, B. Auschwitz, xiv.
(обратно)498
Цит. по: Steinke, 180.
(обратно)499
См. документальный телефильм Р. Бикеля и Д. Вагнера «Уголовное дело 4 Ks 2/63» («Strafsache 4 Ks 2/63», 1993).
(обратно)500
Обстоятельства ареста и смерти Бэра изложены в книге Д. Пендаса (Pendas, 48–49).
(обратно)501
См.: Wittman, 139.
(обратно)502
См.: Pendas, 117–118.
(обратно)503
См.: Wittman, 88.
(обратно)504
См. там же, с. 75, 197.
(обратно)505
См. там же, с. 140.
(обратно)506
См.
(обратно)507
Израильский мемориальный комплекс, посвященный холокосту. Включает в себя институт, присуждающий звания «праведников народов мира» неевреям, которые спасали евреев, рискуя собственными жизнями.
(обратно)508
Pendas, 158.
(обратно)509
См.: Wittman, 80–81.
(обратно)510
Naumann, 410.
(обратно)511
Там же, с. 409.
(обратно)512
См. документальный телефильм «Уголовное дело 4 Ks 2/63».
(обратно)513
См.: Pendas, 262.
(обратно)514
Wittman, 176–177.
(обратно)515
Там же.
(обратно)516
Там же, 180.
(обратно)517
Цит. по: Pendas, 263.
(обратно)518
Цит. по: Naumann, 415.
(обратно)519
См. там же, с. 412–413.
(обратно)520
Цит. по: Wittman, 255.
(обратно)521
Naumann, 8.
(обратно)522
Arendt H. Introduction // Naumann, B. Auschwitz, 22.
(обратно)523
Там же, с. 29.
(обратно)524
Цит. по: Pendas, 256.
(обратно)525
См. там же, с. 253.
(обратно)526
Цит. по: Pendas, 256.
(обратно)527
Цит. по: Pendas, 257.
(обратно)528
Wittmann, 190.
(обратно)529
Arendt H. Introduction // Naumann, B. Auschwitz, xvii.
(обратно)530
См.: Biddiscombe P. The Denazification of Germany: A History 1945–1950, 212–13; а также другие источники, например: Eichmann to Testify on Dr. Globke’s Rolein Deportation of Greek Jews // JTA, January 31, 1961.
(обратно)531
Информация получена в Еврейском музее Франкфурта на выставке, посвященной Фрицу Бауэру.
(обратно)532
См.: Bonn Denounces Globke Trial in East Germany as Communist Maneuver // JTA, July 10, 1963.
(обратно)533
См.: Wittmann, 15.
(обратно)534
Из личной беседы автора этой книги с Томасом Виллем.
(обратно)535
См.: Pendas, 253.
(обратно)536
См. там же, с. 182–183.
(обратно)537
См. там же, с. 179–180.
(обратно)538
Вайс П. Дознание / Пер. Н. Бунина и Е. Григорьева // Вайс П. «Дознание» и другие пьесы. М.: Прогресс, 1981.
(обратно)539
Здесь и далее высказывания Бернхарда Шлинка цитируются по стенограмме его интервью автору этой книги.
(обратно)540
Реж. М. Чомски.
(обратно)541
Информация получена в личной беседе автора этой книги с Петером Шнайдером.
(обратно)542
Из личной беседы автора книги с Марией Козловской.
(обратно)543
Цит. по: Steinke, 218.
(обратно)544
См. документальный фильм «Фриц Бауэр: Смерть в рассрочку» (Fritz Bauer: Tod auf Raten; реж. Илона Циок, 2010).
(обратно)545
См.: Steinke, 263.
(обратно)546
Там же, с. 257.
(обратно)547
См. Wojak, 443.
(обратно)548
Там же, с. 445.
(обратно)549
Информация получена в Еврейском музее Франкфурта на выставке, посвященной Фрицу Бауэру.
(обратно)550
Цит. по: Wojak, 453.
(обратно)551
Цит. по: Steinke, 272.
(обратно)552
Из личной беседы с автором книги.
(обратно)553
См. документальный фильм «Фриц Бауэр: Смерть в рассрочку».
(обратно)554
Wojak, 455.
(обратно)555
Из интервью Сержа Кларсфельда автору этой книги.
(обратно)556
Информация о детстве и юности Беаты Кларсфельд получена из следующих источников: Klarsfeld, B. Wherever They May Be! 3–23; Klarsfeld S., Vidalie A. Latraquedescriminelsnazis, 11–13, 31–32; личная беседа автора настоящей книги с Сержем и Беатой Кларсфельд.
(обратно)557
Романтическая комедия режиссера Жюля Дассена (Греция, 1960).
(обратно)558
См.: Alois Brunner // jewishvirtualibrary.org.
(обратно)559
Klarsfeld S. Introduction // Josephs, J. Swastika Over Paris: The Fate of the French Jews, 17.
(обратно)560
См.: Frei, 395, n 46; а также Saxon W. Kurt Kiesinger, 60’s Bonn Leader and Former Nazi, Is Dead at 83 // New York Times, March 10, 1988.
(обратно)561
Цит. по: Klarsfeld, B. Wherever They May Be! 18.
(обратно)562
Здесь и далее воспоминания Беаты Кларсфельд о кампании против Кизингера цитируются по источнику: Klarsfeld B. Wherever They May Be! 19–63.
(обратно)563
Информация получена из следующих источников: Klarsfeld S., Vidalie, A. Latraquedescriminelsnazis, 13, 76; интервью Сержа Кларсфельда автору настоящей книги.
(обратно)564
Klarsfeld B., 22.
(обратно)565
Там же, с. 48.
(обратно)566
Из личной беседы Сержа Кларсфельда с автором этой книги.
(обратно)567
См.: Klarsfeld, B., 112–140.
(обратно)568
См. там же, с. 87.
(обратно)569
См.: Klarsfeld S., Vidalie A., 40–41; Klarsfeld B., 87.
(обратно)570
См.: Heberer, Matthäus, eds., 242, n 22.
(обратно)571
См.: Klarsfeld S., Vidalie A., 43–44.
(обратно)572
Klarsfeld B., 153.
(обратно)573
См. также: Vinocur J. 3 Ex-Nazis Get Jail Terms for War Crimes // New York Times, February 12, 1980.
(обратно)574
Klarsfeld, B., 166.
(обратно)575
Информация о кампании, развернутой Кларсфельдами против Лишки и Хагена, получена из следующих источников: Klarsfeld B., 167–203; Klarsfeld S., Vidalie A., 43–52.
(обратно)576
См.: Vinocur, J. 3 Ex-Nazis Get Jail Terms for War Crimes // New York Times, February 12, 1980.
(обратно)577
Чарльз Линдберг (1902–1974) – американский летчик, прославившийся тем, что в 1927 году в одиночку совершил трансатлантический перелет.
(обратно)578
Цит. по: Kuenzle A., Shimron G. The Execution of the Hangman of Riga: The Only Execution of a Nazi War Criminal by theMossad, 29–31.
(обратно)579
Показания свидетелей по делу Цукурса цитируются по тому же источнику (с. 35–43).
(обратно)580
Там же, с. 20.
(обратно)581
Там же, с. 125–126.
(обратно)582
Там же, с. 127.
(обратно)583
Reports from Abroad // New York Times, March 14, 1965.
(обратно)584
См., напр.: Aharoni Z., Meidad Y. // The Telegraph, August 16, 2012.
(обратно)585
См.: Kuenzle A., Shimron, G. The Execution of the Hangman of Riga, 8–9.
(обратно)586
Associated Press // Latvian Musical on Nazi Collaborator Stirs Anger, October 30, 2014.
(обратно)587
Yashar A. Israel Condemns Latvia’s ‘Butcher of Riga’ Musical // israelinternational news.com, October 23, 2014.
(обратно)588
Associated Press // Latvian Musical on Nazi Collaborator Stirs Anger, October 30, 2014.
(обратно)589
В популярном романе Айры Левина эти слова произносит доктор Йозеф Менгеле, освенцимский «Ангел Смерти», говоря о Симоне Визентале.
(обратно)590
Левин А. Мальчики из Бразилии / Пер. с англ. И. Полоцка // Годар Э., Левин А., Томпсон Дж. Профессионал. Мальчики из Бразилии. Несколько хороших парней. Минск: БАДППР, 1994.
(обратно)591
Реж. Ф. Шеффнер; Великобритания, США, 1978 г.
(обратно)592
См.: Pick, 152.
(обратно)593
Форсайт Ф. Досье «Одесса». М.: Эксмо, 2007.
(обратно)594
Реж. Р. Нан; Великобритания, Германия, 1974 г.
(обратно)595
См.: Wiesenthal, 96–103.
(обратно)596
Там же.
(обратно)597
Цит. по: Segev, 326.
(обратно)598
Информация получена из личной беседы автора настоящей книги с Мартином Мендельсоном.
(обратно)599
Из интервью Сержа Кларсфельда автору этой книги.
(обратно)600
Wiesenthal, 209.
(обратно)601
Информация получена из бесед автора с Симоном Визенталем; см. также: Wiesenthal, 7.
(обратно)602
Франк А. Убежище. Дневник в письмах. М.: Текст, 2015.
(обратно)603
Информация об этом инциденте, его оценках и последствиях получена из источников: Wiesenthal, 335–340; Wechsberg, ed., 172–183.
(обратно)604
Подразделение гестапо, занимавшееся «еврейским вопросом». – Прим. ред.
(обратно)605
См.: Wiesenthal, 139–157.
(обратно)606
Farnsworth C. A. The Sleuth with 6 Million Clients // New York Times, February 2, 1964.
(обратно)607
Здесь и далее воспоминания Джозефа Леливельда цитируются по следующим источникам: интервью автору этой книги, а также: Lelyveld J. Omaha Blues: A Memory Loop, 175–82.
(обратно)608
Lelyveld J. Former Nazi Camp Guard Is Now a Housewife in Queens // New York Times, July 14, 1964.
(обратно)609
См.: Martin, D. A Nazi Past, a Queens Home Life, an Overlooked Death // New York Times, December 2, 2005.
(обратно)610
В июне 1964 года волонтеры-правозащитники развернули в штате Миссисипи кампанию по привлечению чернокожего населения к участию в выборах. Это вызвало враждебную реакцию со стороны многочисленных белых расистов. В результате несколько человек были убиты, десятки получили побои и ранения, пострадали дома, принадлежавшие афроамериканцам, и церкви, в которых они собирались.
(обратно)611
Elsner A. The Nazi Hunter, 2.
(обратно)612
Здесь и далее, за исключением особо отмеченных случаев, высказывания Илая Розенбаума цитируются по стенограмме интервью, данного автору этой книги.
(обратно)613
Blum H. Wanted! The Search for Nazis in America.
(обратно)614
По утверждению Блама, сведения были предоставлены Оскаром Карбахом, о котором он говорит как о президенте Всемирного еврейского конгресса. Однако Рошель Сайдел в своей книге «Взбудораженная совесть» (Saidel, R. G. The Outraged Conscience: Seekers of Justice for Nazi War Criminals in America, 98) пишет, что Карбах занимал в конгрессе должность рядового исследователя.
(обратно)615
Blum, 25.
(обратно)616
Здесь и далее высказывания Элизабет Гольцман цитируются по следующим источникам: Holtzman E., Cooper C. L. Who Said It Would Be Easy? One Woman’s Life in the Political Arena, 90–96; интервью Элизабет Гольцман автору этой книги.
(обратно)617
См.: Saidel, 31–45.
(обратно)618
Здесь и далее воспоминания Мартина Мендельсона приводятся с опорой на интервью, данное им автору этой книги.
(обратно)619
Цит. по: Saidel, 119.
(обратно)620
См. там же, а также: Ryan A. A. Jr., Quiet Neighbors: Prosecuting Nazi War Criminals in America, 249.
(обратно)621
Имеется в виду американский город Кембридж (штат Массачусетс), где находится Гарвардский университет.
(обратно)622
См.: Ryan, 15–18, а также материалы по проблеме перемещенных лиц в Мемориальном музее холокоста (США).
(обратно)623
Там же, с. 22.
(обратно)624
Там же, с. 268.
(обратно)625
Выдержки из черновика доклада размещены на сайте: /~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB331/DOJ_OSI_Nazi_redacted.pdf. Полная версия на момент подготовки настоящего издания опубликована не была, однако цитировалась Эриком Лихтблау в репортажах для газеты «Нью-Йорк таймс», а также в книге «Нацисты по соседству» (Lichtblau E. The Nazis Next Door: How America Became a Safe Haven for Hitler’s Men).
(обратно)626
Цит. по: Goldman A. L. Valerian Trifa, an Archbishop with a Fascist Past, Dies at 72 // New York Times, January 29, 1987; см. также: Saidel, 43–45.
(обратно)627
Jean Michel, Dora, 62.
(обратно)628
Там же, с. 65.
(обратно)629
Ordway F. I. III, Sharpe M. R. The Rocket Team, 79–85.
(обратно)630
Из личной беседы автора этой книги с Илаем Розенбаумом.
(обратно)631
Копия протокола допроса любезно предоставлена автору этой книги Илаем Розенбаумом.
(обратно)632
Из личной беседы автора настоящей книги с Элизабет Уайт.
(обратно)633
Klarsfeld S. The Children of Izieu: A Human Tragedy, 7.
(обратно)634
Там же, с. 15.
(обратно)635
Bower T. Klaus Barbie: Butcher of Lyons, 112.
(обратно)636
Там же, с. 113.
(обратно)637
Klarsfeld S. The Children of Izieu: A Human Tragedy, 15.
(обратно)638
Цит. по: Klarsfeld S., 45.
(обратно)639
«Крысиные тропы» – термин, использовавшийся американскими спецслужбами для обозначения сети маршрутов бегства германских нацистов и итальянских фашистов. Главным направлением «крысиных троп» была Латинская Америка, однако существовали и другие – в США, Канаду, на Ближний Восток. – Прим. ред.
(обратно)640
Цит. по: Klarsfeld B., 234.
(обратно)641
Цит. по: Klarsfeld B., 239.
(обратно)642
Цит. по: Klarsfeld B., 242.
(обратно)643
Там же, с. 255.
(обратно)644
Там же, с. 256.
(обратно)645
Цит. по: Klarsfeld B., 263.
(обратно)646
Цит. по: Klarsfeld B., 273.
(обратно)647
Цит. по: Ryan 279.
(обратно)648
Klarsfeld B., 247–248.
(обратно)649
Информация получена из следующих источников: Bower, 18–19; Klarsfeld, S., Vidalie, A., 55; интервью Сержа и Беаты Кларсфельд автору настоящей книги.
(обратно)650
В результате этого переворота к власти в Чили на 16,5 лет пришел диктатор Аугусто Пиночет. – Прим. ред.
(обратно)651
См.: Ryan, 277–279.
(обратно)652
Klarsfeld S. The Children of Izieu: A HumanTragedy, 7.
(обратно)653
Ryan, 282.
(обратно)654
Там же, с. 285. В своей книге Аллан Райан не называет имени журналиста, однако он назвал его в ходе интервью. Сам Джон Мартин подтвердил информацию.
(обратно)655
Там же, с. 288.
(обратно)656
Там же, с. 289.
(обратно)657
Там же, с. 290.
(обратно)658
Там же, с. 291.
(обратно)659
U. S. Department of Justice. Klaus Barbie and the United States Government: A Report to the Attorney General of the United States, August 1983.
(обратно)660
Из личной беседы автора этой книги с Дэвидом Маруэллом.
(обратно)661
U. S. Department of Justice. Klaus Barbie and the United States Government.
(обратно)662
Там же.
(обратно)663
Ryan, 231.
(обратно)664
Цит. по: Ryan, 323.
(обратно)665
Перевод Е. Бируковой.
(обратно)666
Воспоминания Илая Розенбаума о беседах с Зингером и Зельманом приводятся с опорой на следующий источник: Rosenbaum E. M., Hoffer W. Betrayal: The Untold Story of the Kurt Waldheim Investigation and Cover-up, 1–13.
(обратно)667
Цит. по: Rosenbaum E. M., Hoffer W. Betrayal, 15.
(обратно)668
Разговор Илая Розенбаума с Карлом Шуллером передан с опорой на тот же источник (с. 22–33, 46–49).
(обратно)669
См. там же, с. 57–58.
(обратно)670
Tagliabue J. Files Show Kurt Waldheim Served Under War Criminal // New York Times, March 3, 1986.
(обратно)671
Nagorsky A. Waldheim: A Nazi Past? // Newsweek, March 17, 1986.
(обратно)672
Позднее, в письме редактору журнала «Ньюсуик», опубликованном 7 апреля 1986 года, Визенталь заявил, что прямо не называл австрийского политика лгуном, однако не стал отрицать того недоверия, с которым отнесся к утверждению Вальдхайма, будто он не знал о депортации салоникских евреев.
(обратно)673
Содержание разговора Симона Визенталя с Куртом Вальдхаймом передано с опорой на следующий источник: Wiesenthal, 318–319.
(обратно)674
Там же.
(обратно)675
Там же, с. 315.
(обратно)676
Там же, с. 313.
(обратно)677
Rosenbaum E. M., Hoffer W. Betrayal: The Untold Story of the Kurt Waldheim Investigation and Cover-up, 90–91.
(обратно)678
См.: Nagorski A. Waldheim on the ‘A’ List // Newsweek, April 21, 1986; а также: Herzstein, R. E. Waldheim: The Missing Years, 128–29.
(обратно)679
См.: Nagorski A. Waldheim Under Siege // Newsweek, June 9, 1986.
(обратно)680
Цит. по: Nagorski A. Waldheim Under Siege.
(обратно)681
Цит. по: Waldheim: Home Free? // Newsweek, June 16, 1986.
(обратно)682
Office of Special Investigations, In the Matter of Kurt Waldheim, April 9, 1987, 200–201.
(обратно)683
Herzstein, 23.
(обратно)684
Там же, с. 254.
(обратно)685
Цит. по: Waldheim: Home Free? // Newsweek, June 16, 1986.
(обратно)686
См. там же, а также: Markham J. M. In Austrian Campaign, Even Bitterness Is Muted // New York Times, June 6, 1986.
(обратно)687
Из материалов, представленных автором этой книги в редакцию журнала «Ньюсуик» 30 мая 1986 года.
(обратно)688
Nagorski A. Clumsy Acts, Bad Blood // Newsweek, May 12, 1986.
(обратно)689
Rosenbaum E. M., Hoffer, W. Betrayal, 142.
(обратно)690
Bronfman E. M. The Making of a Jew, 115.
(обратно)691
Nagorski A. Clumsy Acts, Bad Blood // Newsweek, May 12, 1986.
(обратно)692
Здесь и далее высказывания австрийских евреев о деятельности Всемирного еврейского конгресса цитируются по материалам, предоставленным автором этой книги в редакцию журнала «Ньюсуик» 5 июня 1986 года.
(обратно)693
Цит. по: Nagorski, A. Clumsy Acts, Bad Blood // Newsweek, May 12, 1986.
(обратно)694
Rosenbaum E. M., Hoffer, W. Betrayal, 165.
(обратно)695
Там же, с. 300.
(обратно)696
Там же, с. 301.
(обратно)697
Там же, с. 461.
(обратно)698
Там же, с. 463.
(обратно)699
Там же, с. 461.
(обратно)700
Там же, с. 304.
(обратно)701
Там же.
(обратно)702
Там же, с. 472.
(обратно)703
Там же, с. 304.
(обратно)704
Этот сотрудник Бюро специальных расследований просил не называть его имени.
(обратно)705
Wiesenthal, 321.
(обратно)706
Здесь и далее воспоминания Марвина Хира приведены с опорой на его интервью автору этой книги.
(обратно)707
Rosenbaum E. M., Hoffer, 149.
(обратно)708
Из интервью Симона Визенталя автору этой книги, стенограмма которого была передана в редакцию журнала «Ньюсуик» 21 мая 1986 года.
(обратно)709
Wiesenthal, 301.
(обратно)710
Там же.
(обратно)711
Herzstein, 25.
(обратно)712
Muravchik J. The Jew Who Turned the Left Against Israel // The Tablet, July 29, 2014.
(обратно)713
См.: Segev, 292–293.
(обратно)714
Wiesenthal, 320.
(обратно)715
Herzstein, 229.
(обратно)716
Из личной беседы автора этой книги с Питером Блэком.
(обратно)717
В романе Уильяма Голдмана «Марафонец» («Marathon Man»), опубликованном в 1974 году и ставшем бестселлером, эти слова произносит Томас Леви, обращаясь к освенцимскому дантисту Кристиану Селлю (это вымышленная фигура), перед тем как его убить.
(обратно)718
См.: Kulish N., Mekhennet S. The Eternal Nazi: From Mauthausen to Cairo, the Relentless Pursuit of SS Doctor Aribert Heim; Mekhennet S., Kulish N. Uncovering Lost Path of the Most Wanted Nazi // New York Times, February 4, 2009.
(обратно)719
Baz D. The Secret Executioners: The Amazing True Story of the Death Squad That Tracked Down and Killed Nazi War Criminals, xiii.
(обратно)720
Там же, с. 10.
(обратно)721
Gray R. I Killed Martin Bormann! 5.
(обратно)722
Farago L. Aftermath: Martin Bormann and the Fourth Reich, 428.
(обратно)723
Mekhennet S., Kulish N. Uncovering Lost Path of the Most Wanted Nazi // New York Times, February 5, 2009.
(обратно)724
New Genetic Tests Said to Confirm: It’s Martin Bormann // New York Times, May 4, 1998.
(обратно)725
Цит. по: Blum, 47–48.
(обратно)726
Там же, с. 57.
(обратно)727
Цит. по: Breitman R. Tscherim Soobzokov ().
(обратно)728
См. Blum, 258–263.
(обратно)729
См. там же, с. 263.
(обратно)730
Информация о деятельности Рене Буске и о его убийстве представлена с опорой на следующие источники: Goslan R. J. Memory and Justice Abused: the 1949 Trial of René Bousquet // Studies in 20th Century Literature, Vol. 23, 1–1–1999; Webster P. The Collaborator’s Pitiless End // The Guardian, June 8, 1993; а также Johnson D. Obituary: René Bousquet // The Independent, June 9, 1993.
(обратно)731
Цит. по: Chalandon S. L’assassinat de René Bousquet: larmes du Crime // Liberation, April 4, 2000.
(обратно)732
Там же.
(обратно)733
Из интервью Сержа Кларсфельда автору этой книги.
(обратно)734
История поисков Йозефа Менгеле воссоздана с опорой на следующие источники: Hunting the Angel of Death // Newsweek, May 20,1985; Reaching a Verdict on the Mengele Case // Newsweek, July 1, 1985; Who Helped Mengele // Newsweek, June 24, 1985, а также более подробные отчеты, переданные автором этой книги в центральный офис журнала «Ньюсуик», и записи младших коллег-репортеров за соответствующий период (личный архив).
(обратно)735
Posner G. L., Ware J. Mengele: The Complete Story, 76.
(обратно)736
См. там же, с. 63.
(обратно)737
Office of Special Investigations, In the Matter of Josef Mengele, October 1992, 193.
(обратно)738
Harel, 210.
(обратно)739
Там же, с. 211.
(обратно)740
Aharoni, Dietl, 149.
(обратно)741
Там же, с. 150.
(обратно)742
Цит. по: Posner, Ware, 163.
(обратно)743
Aharoni, Dietl, 151.
(обратно)744
Из интервью Рафи Эйтана автору этой книги.
(обратно)745
Цит. по: Mengele: The Search Ends // Newsweek, July 1, 1985.
(обратно)746
Там же.
(обратно)747
Цит. по: Reaching a Verdict in the Mengele Case, Newsweek, July 1, 1985.
(обратно)748
Office of Special Investigations, In the Matter of Josef Mengele, October 1992, 196–197.
(обратно)749
Wiesenthal, 351.
(обратно)750
Информация о службе Эриха Прибке в Италии, его жизни в Аргентине и экстрадиции представлена с опорой на следующие источники: Smale A. Erich Priebke, Nazi Who Carried Ou Massacre of 335 Italians, Diesat 100 // New York Times, October 11, 2013; Erich Priebke: ‘Just Following Orders’ // The Economist, October 26, 2013; Erich Priebke // jewishvirtuallibary.org.
(обратно)751
Разговор воспроизведен по видеозаписи, размещенной на хостинге «Ютюб» (youtube.com).
(обратно)752
Из интервью Сэма Дональдсона автору этой книги.
(обратно)753
Информация получена в ходе личной беседы автора этой книги с Хэрри Филлипсом. См. также: Lissit R. Out of Sight // American Journalism Review, December 1994.
(обратно)754
Povoledo E. Funeral for Ex-Nazi in Italy Is Halted as Protesters Clash // New York Times, October 16, 2013.
(обратно)755
Мухаммад Анвар ас-Садат (1918–1981) – президент Египта с 1970 по 1981 год, лауреат Нобелевской премии мира.
(обратно)756
Джордж Сантаяна (1863–1952) – американский философ.
(обратно)757
См.: Rashke, x – xiii, 548–49; McFadden R. D. John Demjanuk, 91, Dogged by Charges of Atrocities as Nazi Camp Guard, Dies // New York Times, March 17, 2012.
(обратно)758
Nagorski A. The Greatest Battle: Stalin, Hitler, and the Desperate Struggle for Moscow That Changed the Course of World War II, 70.
(обратно)759
Информация о предварительном следствии в США и Израиле дана с опорой на источник: Rashke, 149–154.
(обратно)760
Цит. по: Ryan, 106.
(обратно)761
Там же, с. 107.
(обратно)762
См. там же, с. 313.
(обратно)763
Там же, с. 348.
(обратно)764
Из интервью Авраама Шалома автору этой книги.
(обратно)765
Цит. по: Rashke, 361–69.
(обратно)766
См. там же, с. 466–468.
(обратно)767
Из личной беседы автора этой книги с Илаем Розенбаумом.
(обратно)768
McFadden, R. D. John Demjanuk, 91, Dogged by Charges of Atrocities as Nazi Camp Guard, Dies // New York Times, March 17, 2012.
(обратно)769
Buchanan P. J. The True Haters, /pjb-the-true-haters-1495, April 14, 2009.
(обратно)770
Данные получены из информационной брошюры Центра по расследованию преступлений национал-социализма, выпущенной в декабре 2012 года.
(обратно)771
Eddy M. Germany Sends 30 Death Camp Cases to Local Prosecutors // New York Times, September 3, 2013.
(обратно)772
Данные предоставлены Томасом Виллем, заместителем директора Центрального бюро по расследованию преступлений национал-социализма.
(обратно)773
Auschwitz Trial: Oskar Groening Recalls ‘Queue of Trains’ // BBC News, April 22, 2015.
(обратно)774
Smale A. Oskar Gröning, Ex-SS Soldier at Auschwitz, Gets Four-Year Sentence // The New York Times, July 15, 2015.
(обратно)775
Цит. по: Crossland D. Late Push on War Crimes: Prosecutors to Probe 50 Auschwitz Guards // Spiegel Online International, April 8, 2013.
(обратно)776
Цит. по: Greene, 44.
(обратно)777
Цит. по: Wittmann, 256.
(обратно)778
Здесь и далее высказывания Петра Сивинского приводятся с опорой на стенограмму интервью, данного им автору настоящей книги.
(обратно)779
Цитируется по англоязычной версии статьи («The Auschwitz Files: Why the Last SS Guards Will Go Unpunished»), опубликованной на сайте / 28 августа 2014 года.
(обратно)780
Отряды СС «Мертвая голова» (нем. SS-Totenkopfverbände, SS-TV) – подразделения СС, отвечавшие за охрану концентрационных лагерей Третьего рейха. – Прим. ред.
(обратно)781
United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, “In the Matter of the Extradition of Johann (John) Breyer”, Misc. No. 14–607-M. Возможность ознакомиться с указанным документом любезно предоставлена автору этой книги Илаем Розенбаумом.
(обратно)782
Информация передана автору этой книги Илаем Розенбаумом в электронном письме. Данные охватывают период работы Управления специальных расследований с момента основания по 2010 год, а также первые пять лет функционирования новой структуры – Отдела по защите прав человека и специальным расследованиям.
(обратно)783
Из интервью Элизабет Гольцман автору настоящей книги.
(обратно)784
Жертвами геноцида в Камбодже, устроенного «красными кхмерами» во главе с Пол Потом в 1975–1979 годах, стали, по разным оценкам от 1,7 до 3 млн человек. В ходе геноцида племени тутси в Руанде 6 апреля – 18 июля 1994 года, осуществленного представителями племени хуту по приказу правительства, погибло от 500 тысяч до 1 млн человек. – Прим. ред.
(обратно)785
Здесь и далее высказывания Эфраима Зуроффа приводятся с опорой на стенограмму интервью, данного им автору настоящей книги.
(обратно)786
См.: Zuroff, Operation Last Chance: One Man’s Quest to Bring Nazi Criminals to Justice, 199, 206.
(обратно)787
Сведения получены из интервью Эфраима Зурофффа и электронной переписки с ним, состоявшейся 11 февраля 2015 года.
(обратно)788
Из интервью Дидры Бергер автору этой книги.
(обратно)789
Из интервью Сержа Кларсфельда.
(обратно)790
Rosenbaum E. M. The Eichmann Case and the Distortion of History // Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review, Spring 2012.
(обратно)791
Из личной беседы автора книги с Томасом Виллем.
(обратно)792
Ryan, 335.
(обратно)793
Цит. по: Saxon W. Richard von Weizsäcker, 94, Dies: First President of Reunited Germany // New York Times, January 31, 2015.
(обратно)794
Интервью Рихарда фон Вайцзеккера было опубликовано в журнале «Ньюсуик» 15 марта 1999 года (см.: Voices of the Century //Newsweek, March 15, 1999).
(обратно)795
Из интервью Мартина Вальзера автору этой книги (см. Hitler Boosts Ratings // Newsweek, December 21, 1998).
(обратно)796
Там же.
(обратно)797
См.: Nivelle P. Maurice Papon Devant Ses Juges // Liberation, February 10, 1998.
(обратно)798
См.: Riding A. Suit Accusing French Railways of Holocaust Role Is Thrown Out // New York Times, May 15, 2003.
(обратно)799
См.: France Agrees Holocaust SNCF Rail Payout with US // BBC Europe, December 5, 2014.
(обратно)800
См.: De la Baume M. France Confronts an Ignoble Chapter”, New York Times, December 16, 2014.
(обратно)801
Из интервью Сержа и Беаты Кларсфельд автору этой книги.
(обратно)802
См.: Nazi-Hunting Couple Honored by Germany, The Forward, July 21, 2015.
(обратно)


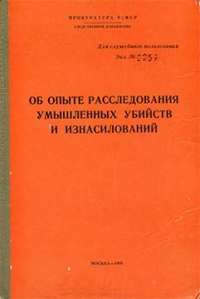
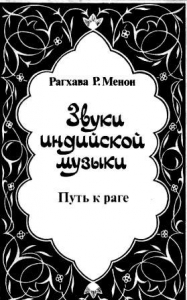


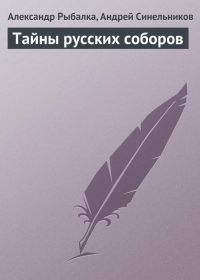
Комментарии к книге «Охотники за нацистами», Эндрю Нагорски
Всего 0 комментариев