Николай Сотников «И дольше века длится век…». Пьесы, документальные повести, очерки, рецензии, письма, документы
Автор проекта, составитель, автор примечаний и комментариев Н. Н. Сотников, ответственный секретарь Комиссии по литературному наследию Н. А. Сотникова
Эпиграфы ко всей книги
Да кто ж его отец?
Я. Б. Княжнин
Эпиграф к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина
… Что видишь, всё твоё; везде в своём дому, не просишь ни о чём, не должен никому.
М. В. Ломоносов (Из «Стихов, сочинённых на дороге в Петергоф»)
«Я был революционером, потому что я не мог им не быть».
А. Н. Рубакин, профессор медицины, очеркист, прозаик, член Союза писателей, сын выдающегося книговеда Н. А. Рубакина
«Когда я вырос, и отца не стало, я, приезжая в родной аул Цада, любил ходить его тропами. И тогда наши старики-аксакалы сказали мне: "Не ходи тропами отца. Ищи свои тропы!”»
Расул Гамзатов (Из телепередачи).
Дорогому Николаю Афанасьевичу с любовью Расул Гамзатов. 26.XII-1973.
(Надпись на авантитуле первого однотомника в Москве «В горах моё сердце» Расула Гамзатова)
«Я бы очень хотел, чтобы ты подхватил мои труды и по возможности их продолжил».
Н. А. Сотников – своему сыну Н. Н. Сотникову в день последней их встречи в июне 1978 года.
«Это очень важно – отцовское дело продолжать».
Олег Лойко, профессор, поэт, прозаик. Изречение из романа «Франциск Скорина» (перевод с белорусского).
«Воспитание дано мне было отцом моим по тому веку наилучшее»
(Из монолога Стародума, героя пьесы Дениса Фонвизина «Недоросль» )
По отцу и сыну честь.
Одно из самых популярных русских изречений XVIII–XIX веков
Николай Ударов. Друзей архивы разбирая
Меня взять на опёку просят осиротевшие слова. Ещё одна людская осень предъявит нам свои права. Мне говорят – я научился чужие судьбы понимать. Мне говорят – во мне открылся дар эти судьбы продолжать. Мне говорят: «К чужим архивам ты прямо сердцем прикипел. Вот – настоящая стихия для важных и отважных дел!»… Ко мне заказы поступают. Отказ встречают мой в штыки. Никак того не понимают: не все архивы мне близки! Ведь я, верша свой труд громадный, гражданский долг свой выполнял и труд учителя с отрадой и вдохновеньем продолжал. Спасал я рукописи друга, который для меня – как брат… И как бы ни было мне трудно, трудом я этим был богат. И вот теперь – архив отцовский… Работать с ним всего сложней. Разнообразный, разношёрстный, он всех архивов мне родней. Творений многих я свидетель, но судьбы разные у нас. Проблема вновь – «Отцы и дети»! Огонь проблемы не угас. Восстановить не всё сумею, но постараюсь всё спасти, чтобы крылатые идеи до дней грядущих донести. Надеюсь, что найдётся кто-то, чтоб мой архив поднять со дна. Такая адская работа для сердца верного нужна. Да, нет забот неблагодарней, но благородней нет забот! …Из океана цвет янтарный волна однажды принесёт. Николай Ударов[1]Краткая автобиография Н. А. Сотникова
Я, Сотников Николай Афанасьевич, являюсь ровесником века. Поэтому все события моей жизни очень легко просчитываются. Я вырос в семье революционера, активного участника событий в Горловке в 1905 году. Моя мать Васса Григорьевна была верной соратницей отца, потомка запорожцев, токаря-ремонтника Афанасия Григорьевича. С отроческих и даже детских лет я воспитывался в духе революционном, только ещё не знал, как и где я смогу приняться самое активное участие в событиях Гражданской войны. А тут на короткую побывку в Полтаву, где мы тогда жили, прибыл мой дальний родственник и с гордостью сообщил, что он воюет под знамёнами самого Котовского! Выбор мною был сделан сразу же, и мы вдвоём пробрались в расположение бригады Котовского. Один наш путь – целая серия полнометражного фильма. Путь этот был дальний и опасный, но он многому научил меня, став своеобразной школой перед началом боевых действий.
У людей моего поколения невероятно сложные, полные драматургических ходов биографии. Я знал одного нашего писателя, у которого в анкете всё просто: гимназия, Петроградский университет, а дальше – исключительно «литературная работа на дому», заветная цель каждого преданного литературе человека. Мне заполнять анкеты не очень-то просто: никаких граф не хватит! Поэтому я некоторые страницы своей биографии сокращаю, можно даже сказать, упрощаю. К тому же мне довольно часто приходилось в одно и то же время совмещать разные должности, когда – штатные, когда – договорные, а когда – и чисто общественные.
Для автобиографии художественной время ещё не пришло, как и для мемуаров в собственном смысле этого слова. Посему ограничусь короткими строками.
Одно время был в рядах Южной группы Якира. Ранен, контужен, дважды болел тифом. Чудом остался жив: видимо, сыграл свою добрую роль крепкий организм и добрая запорожская наследственность. У нас в роду были все долгожители. Демобилизовался я в 1921 году. Был направлен в Институт народного хозяйства, но мне, прирождённому гуманитару, там было никак не прижиться – всё тянуло в мир литературы и искусства. И вот появилась возможность приобщиться к миру кино в Госкинотехникуме, предшественнике ВГИКА. В техникуме я и работал, и учился, постигая многие азы киноискусства и кинопроизводства, что мне очень в дальнейшем пригодилось.
Приобщился я в Москве и к издательскому делу, что тоже писательству шло на пользу. А тут появилась возможность переехать в Ленинград, продолжить издательскую работу и заняться учёбой в первоклассном по тем временам учебном заведении – Высших курсах искусствознания при Институте истории искусства. Среди наших учителей были первоклассные педагоги! Достаточно сказать, что мне посчастливилось учиться истории и теории литературы и отчасти – кино у Юрия Тынянова, а истории архитектуры, прежде всего – Петербурга, Петрограда, Ленинграда – у Петра Николаевича Столпянского. С некоторыми своими однокурсниками (от слова не только КУРС, но и КУРСЫ) я подружился, и дружба эта продолжается до сих пор.
К величайшему сожалению, эти Курсы слили с университетом, и нам предложили стать студентами (а мы были как бы слушателями, даже в какой-то мере аспирантами). На это предложение никто не согласился: мы были уже не юнцы, многие штатно работали, публиковались и начинать всё с нуля не могли.
Так я остался без полнокровного высшего образования, о чём весьма сожалею, но учился и продолжаю учиться с вдохновением юноши.
Вторично я стал добровольцем Красной Армии уже в 1941 году – сперва в Народном ополчении, а затем в общеармейских рядах. Мой путь военкора и военного киносценариста оборвала тяжелая контузия, после которой пришлось долго и упорно лечиться. Боевые события вступили, говоря языком драматургии, в развязку, и я добился отправки меня на решающий, Первый Белорусский, фронт, с войсками которого и вступил в поверженный Берлин.
Наши киносценаристы и особенно кинодокументалисты так строят свои киноленты, что у зрителей, особенно молодых возрастов, может возникнуть невольное ощущение: вот отсалютовали личным оружием у стен рейхстага и – сразу же на колёса и домой! Демобилизоваться, прежде всего дисциплинированному, тем более отличившемуся офицеру было очень тяжело! Я лично просто потерял счёт рапортам с просьбой об увольнении, но вернулся в родной город на Неве почти через 14 месяцев после победного салюта. Горжусь, что именно как журналист был награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
И всё-таки я всюду и всегда оставался прежде всего писателем. Сравнительно недавно Книжная палата официально подтвердила мой 40-летний литературный стаж. Описания были столь тщательны, что я был, признаться, удивлён: пришлось вспомнить о публикациях, давно мною позабытых.
И всё-таки по материальным и семейным причинам я не мог полностью переключиться на домашнюю творческую работу. Правда, в работах штатных на киностудиях, в аппаратах Правлений Союза писателей, как и в довоенные годы – в газетах и издательствах я продолжал творческую учёбу, расширял круг знакомств, овладевал новыми приёмами работы, в том числе и педагогической. С начала 50-х годов эта работа протекала в Московской секции драматургов, был Ответственным секретарём Комиссии по драматургии Союза писателей СССР, около девяти лет – на посту Ответственного секретаря Совета по драматургии театра, кино, радио и телевидения Союза писателей России.
Обозначилась в моей послевоенной судьбе и новая для меня сфера творческой деятельности – перевод драматургических произведений писателей народов России, прежде всего Дагестана, Татарии, Марийской и Чувашской республик, переводил и украинских драматургов, с детских лет владея украинским языком. Остальные переводы я осуществлял по подстрочникам, но с непременным погружением в культурно-бытовые реалии того или иного народа. Мечтаю написать статью обобщающего характера об особенностях художественного перевода именно пьес – эту специфику я чувствую всё острее и острее.
И всё же главным было и остаётся личное творчество. В настоящее время репетируется моя пьеса «Встреча в веках» об истории создания М. И. Глинкой оперы «Иван Сусанин», продолжается многолетний и, пожалуй, самый заветный труд над темой истории гимна «Интернационал». Одновременно работаю и как очеркист: речь идёт о циклах «Были пламенных лет» и «Памятные встречи». Отдельные главы и фрагменты печатались в газете «Литературная Россия», в журналах «Урал», «Волга», «Север». Не оставляю и дорогой для меня темы истории династии Дуровых. Одной из первых передач нашего телевидения для Интервидения была большая передача с участием Натальи Дуровой. Автором телесценария предложили выступать мне. Так я впервые в жизни стал драматургом телевидения.
Не прерываю своей дружбы с радиожурналистами и в Москве, и в тех городах, куда направлялся в творческие командировки. В самое последнее время приобщился к устным выступлениям в самых разных аудиториях по линии Бюро пропаганды литературы и общества «Знание», так как ценю живое общение с будущими возможными читателями. Мне очень помогают реакция аудитории, вопросы, записки. Всё это писателю даёт отличный творческий заряд!
По мере сил и возможностей не забывал и своей работы в качестве театрального рецензента, прежде всего – для журнала «Театральная жизнь». Порою, но всё же редко, реже, чем хотелось бы, выступаю и с публицистическими статьями и проблемными очерками. Некоторые из таких публикаций имели большой общественный резонанс. Горжусь тем, что после публикаций одного очень острого материала мне даже угрожали по телефону! Даже номер где-то нашли, причём, домашний!
Собирался написать деловую краткую автобиографию, но, как видите, не получилось – вышло нечто похожее на публицистическую статью, на радиовыступление. Что поделать – таков творческий темперамент у человека в 66 лет.
Главное, что работа идет, что планы хотя и не так быстро, как бы хотелось, выполняются. Бойко стучит моя пишущая машинка – подарок командования 61-й армии «За освещение Берлинской операции», как было сказано в приказе. Эта пишущая машинка связует для меня времена моей судьбы.
Н. А. Сотников
1966
Леонид Соболев. Творческая характеристика писателя Н. А. Сотникова
Я знаю Николая Сотникова с довоенных лет как редакционного работника, киносценариста, неутомимого общественного деятеля в Доме печати. Меня всегда поражали разносторонность его интересов, глубокая и обширная эрудиция.
Какие бы явления в жизни он ни брал в качестве предмета своих литературных произведений (многочисленных очерков, очерковых книг, киносценариев, театральных статей и рецензий, пьес и новелл), к каким бы периодам жизни своего народа он ни обращался, он прежде всего искал в человеке, в природе, в искусстве прекрасное.
Повествует ли он о военных подвигах бойцов и командиров в своих «Окопных тетрадях», в фильмах «Прорыв блокады Ленинграда» и «Снайперы», повествует ли о трудовых подвигах сталевара Ивана Кайолы в киноочерке «Грядущему навстречу», горьковских земледельцев в киноочерке «Иван Емельянов, крестьянский сын», он непременно подчёркивает в своих героях богатство натуры, смелость и мужество, изобретательность ума, силу русского народного характера, увлечённость в труде.
Любовь к гор оду на Неве писатель пронёс через всю свою жизнь. По его фильмам можно изучать историю города и историю искусства. Это прежде всего киноленты «Город русской военной славы», «Город поэта», «Зодчий Росси», «За рекой Сестрой». Автора всегда волнуют следы героической славы и одновременно светлые приметы новизны настоящего.
Выдающиеся люди русской науки и русского искусства относятся к числу любимейших героев Николая Сотникова. Это Михаил Глинка, основатель дуровской династии Владимир Дуров, учёный-энциклопедист, прозаик и поэт народоволец академик Николай Морозов. Следует отметить, что зачастую довольно сложные вопросы Сотников, не упрощая, не делая избыточных сокращений, делает увлекательными и понятными для самых широких кругов зрителей и читателей. А ведь дар популяризатора – один из редчайших в художественном творчестве!
Нельзя не сказать о глубоком интересе писателя к народному творчеству. Ещё в довоенные годы его внимание привлёк народный хор «Гдовская старина», созданный учителем Савельевым, который стал героем киноочерка «Народный учитель». В блокадные годы писатель вместе с режиссёром С. Морщихиным организует ансамбль 42-й армии, который был известен не только в армейских дивизиях и полках, но и в масштабах Ленинградского фронта и блокадного города. Участники этого ансамбля являли собой редчайший союз самодеятельной непринужденности и даже лихости и высокого профессионализма, являясь артистами-профессионалами. Сотников фактически становится заведующим литературной частью музыкального коллектива, составляет песенный и чтецкий репертуар, сам пишет тексты в прозе и в стихах. Широко известной была его боевая песня «Вперёд, сорок вторая, в году сорок втором!»
В послевоенные годы, являясь ответственным сотрудником Правления Союза писателей России, Сотников большое внимание уделяет художественной самодеятельности, народным театрам, проводит всероссийские семинары, отбирает и редактирует пьесы, готовит к печати репертуарные сборники, которые издательство «Советская Россия» выпускает в свет большими тиражами. Особое внимание Сотников уделяет дефицитному жанру комедии.
У каждого автора есть своя главная, заветная тема. Такой темой для Сотникова стала история создания гимна «Интернационал». В 1928 году ему посчастливилось лично познакомиться с автором музыки гимна Пьером Дегейтером. Все минувшие с той поры годы писатель занимается драгоценной для него и для всех нас темой: сценарий фильма, пьеса, десятки очерков, радиовыступления… Воистину тема оказалась неисчерпаемой.
Сотников обладает очень редким даром – даром литературной педагогики. Бывает, что автор и опыт значительные имеет, и довольно широкие познания, и общефилологическая основа у него есть, а найти контакты с молодыми авторами не может, не хватает терпения, деликатности, сосредоточенности, можно сказать, и самоотверженности. Увы, встречаются даже случаи, когда литературный педагог «заимствует» навсегда у своего ученика какой-то особенно яркий образ, сюжетный ход и т. д. Сотникова отличает абсолютное бескорыстие. Он готов в ущерб своим личным творческим делам неделями, а то и месяцами совершенствовать драматургические тексты своих учеников. К тому же он оказался и умелым и инициативным организатором литературной учебы: участники семинаров слушают лекции видных театроведов, литературоведов, историков, совершают литературно-краеведческие экскурсии, непременно посещают несколько наиболее интересных и поучительных в педагогическом отношении спектаклей в местных театрах. Я уже не говорю о бесконечных организационных, административных и даже финансовых вопросах, которые приходится решать быстро и чётко, по-фронтовому.
Стоит ли удивляться тому, что Сотникова знают и любят во многих писательских организациях России. Учеников у него десятки, и каждому он старается помочь, вникая даже в бытовые, жилищные дела. Один дагестанский драматург-сатирик прямо заявил, что «Николай Афанасьевич – наш всероссийский отец»! Это очень редкое и ценное свидетельство признания.
Недаром поиски прекрасного в человеке, во всех многообразных проявлениях его духовной жизни и составляют существо и смысл творческой деятельности Николая Сотникова.
Леонид Соболев[2]
Н.А. Сотников. С берегов Невы до берегов Шпрее
Вдохновение
Н.А. Сотников. Вместо предисловия
Воспоминания о первом дне войны у многих авторов проникнуты благостным чувством покоя, красоты окружающей жизни, очарования прелестным июньским днем… И у меня этот последний мирный день оставил добрый след в душе. В превосходном настроении я проснулся в уютной комнате Дома творчества писателей на Карельском перешейке и сразу направился к берегу моря.
Было мне тогда сорок лет (сорок первый ещё не исполнился), чувствовал я себя физически неплохо, был полон сил и творческих планов, а главное – наконец-то пришли и опыт, и мастерство, и, что самое для писателя главное, – признание. На «Ленфильма» заканчивался производством мой фильм о сталеварах Коробовых[3]* «Отец и сын». Одновременно с ним (сейчас такую ситуацию и представить себе нельзя!) шла работа над вторым фильмом – «Певец из Лилля» о славном шансонье Пьере Дегейтере, авторе музыки гимна «Интернационал». Продолжал свою работу и как кинодокументалист, сосредоточив внимание на историко-архитектурной теме. Приступил к автобиографической повести и одновременно собирал материал о жизни и творчестве моего кумира в музыке Михаила Ивановича Глинки… Впервые я обрёл финансовую независимость, что для писателя чрезвычайно важно – два полнометражных фильма это к тому же и весьма солидные гонорары.
Конечно, о том, что война будет, я не сомневался. В этом меня убеждал и мой военный опыт, немалый, прямо скажем, для сугубо штатского по духу и настрою человека: ведь я был участником всех походов и кампаний за исключением Халкин-Голла и Хасана! Но и ещё раз но – всё-таки теплилась надежда, что Гитлер не решится воевать на два фронта, а в Западной Европе он увяз основательно.
Пока живу – надеюсь. Этот девиз древних питает душу каждого человека, если он не закоренелый пессимист. И вот я стою у Балтийских вод и просто-напросто любуюсь игрой волн, красками неба, силуэтами Ленинграда и Кронштадта. По прибрежному шоссе бегут автомашины, переполненные ленинградцами, торопившимися на отдых. В соседнем пионерлагере звенят ребячьи голоса…
Я постоял немного и спустился к воде. На песчаном пляже поудобней устраивались загорелые купальщицы. Одна из них стояла на мостике, готовясь к прыжку в воду как бы повторяя собой репинскую «Купальщицу» – этюд, написанный великим художником в соседней Куоккале. Из репродукторов неслась ария: «Я вас люблю, люблю безмерно…». Как вдруг эту чарующую мелодию сменила та самая памятная речь Молотова: на рассвете напал на нас лютый враг, безжалостно бомбивший наши мирные города…
Надо было куда-то бежать, что-то предпринимать, срочно сниматься с места. Оставаться здесь в роли отдыхающего было невыносимо! Но случилось так, что я сразу не смог найти своего места в мгновенно разгоревшейся борьбе. Об этом я скажу несколько ниже, а пока постараюсь припомнить, что же я ещё видел в тот день. В памяти наступает какой-то обрыв. До сих пор не восстановить некоторые картины и эпизоды, хотя на память, натренированную издательской, газетной, литературной и кинематографической профессиями, я никогда не жаловался. Столь велико было переживание!
Я отправился в Дом творчества и стал спешно собираться в Ленинград. Но выехать отказалось не так-то просто – шоссе оказалось битком забито, а поток машин двигался уже в другом направлении – к Ленинграду. И машины мчались другие, и публику везли иную. Это начальство, отдыхавшее на Карельском перешейке, со всеми багажами начинало свой путь в эвакуацию. Оно, начальство, панически покидало райские уголки для отдыха, справедливо рассудив, что как бы ни сложились боевые действия, а уж Карельский-то перешеек тылом никак не будет и скорее всего станет наоборот – театром военных действий.
Моя текущая литературная работа, как я уже только что говорил, носила сугубо мирный характер. Это вовсе не означало, что я совсем не писал о войне, о подвигах, о славе, но писателем так называемой оборонной тематики (было такое определение в довоенные годы) меня назвать было никак нельзя.
А о чём писать сегодня – я ещё не знал и в первые дни войны очень томился без нужного для обороны страны дела. И вдруг я узнаю, что в одной из школ Выборгского района идёт запись в добровольческий полк ленинградцев. Формировалось Народное ополчение, и я понял, что моё место в его рядах.
Дома у меня хранилось военное обмундирование, в котором я ещё, казалось, недавно участвовал в Финской кампании. Одевшись по форме, я едва успел встать в шеренгу бойцов одетых ещё в гражданские костюмы, и тут же был выведен из шеренги. Как работник фронтовой печати, я имел звание капитана. У самого же командира формирующейся роты было только три «кубика» старшего лейтенанта. Мы даже не поняли сразу, кто кого должен приветствовать первым.
– Выйдите, выйдите из строя, товарищ капитан, – приказал мне мой новый командир – старший лейтенант. – Обратитесь в штаб полка за назначением.
Меня направили к парторгу полка – тоже сугубо штатскому человеку преподавателю политических дисциплин в педагогическом институте.
– А почему вы не обратились в свой. Октябрьский, райвоенкомат? – деловито спросил меня парторг-капитан.
– В Октябрьском районе сказали, что я призыву не подлежу, а в Дзержинском, к которому относится Союз писателей, проявлена странная инициатива – набран стрелковый взвод очкариков, а меня после просмотра моих документов послали опять в Октябрьский райвоенкомат. Так я и остался – ни к селу, ни к городу. И вдруг случайно узнал о вашем полке.
– У нас уже нет начсоставских должностей в политчасти, – доложил парторг комиссару. – Пускай идёт домой, он – ограниченно годный по возрасту и по здоровью.
– Погоди ты отсылать его, – кивнул в мою сторону комиссар полка. По профессии он был преподавателем в институте иностранных языков. – Писатель может пригодиться и нам в части. Пусть пока побудет с бойцами.
И комиссар велел отыскать для меня какую-нибудь подходящую вакансию.
Ночь я провёл на нарах, наспех установленных в школьном классе с отодвинутыми к стенам партами. Рядом со мной отдыхали ополченцы – люди самых неожиданных профессий: балетмейстер из какого-то ансамбля, инженер-конструктор из проектного института, виолончелист из театрального оркестра. Были там и техник с электролампового завода, и помощник режиссера с киностудии «Ленфильм», и рабочий мельничного комбината, и водитель трамвая… Хорошо, что я с ними познакомился уже в первую ночь. Нигде люди так быстро не знакомятся и не сходятся между собой, как в пути и в армии.
… К утру отыскалась только одна штатная единица, пока ещё свободная – переводчик с немецкого языка. Я призадумался: «А что я буду делать, пока появится первый пленный фашист? Конечно, надо бы освежить в памяти знания немецкого языка ещё с далеких времен учебы моей в Полтавском реальном училище…».
И вдруг комсорг полка мне говорит:
– Ау нас в клубе показывали Ваши фильмы об архитектуре Ленинграда. Всем этим красотам грозит непосредственная опасность. Что если Вы такие беседы среди личного состава проведёте – вроде бы об истории архитектуры и искусство, но с военно-патриотическим уклоном. К тому же у нас не только ленинградцы – есть и из области люди, и иногородние появились. Впоследствии их будет ещё больше. Да и сами-то ленинградцы, прямо скажем, очень многого по истории нашего города не знают!
– Вот это дело! Это нам очень пригодится на первых порах! – решил комиссар и благословил мою лекторскую работу.
– Хорошо бы устроить несколько мысленных прогулок с бойцами по улицам и площадям Ленинграда, – предложил я, и тотчас же моя идея была, как любил говорить наш комиссар, «затверждена». И я стал готовиться к беседам. Мне разрешалось пользоваться школьной библиотекой, делать выписки из книг, справочников… Я тут же пересмотрел каталоги и развёл руками – книг мало, и все они для такого разговора не годились. Тогда мне позволили добывать материал и на стороне – ходить в центр города в музеи, в Публичную библиотеку… Военная служба, как вы видите, первое время меня не очень-то обременяла. Но всё равно – всё надо было делать чётко, быстро, по-военному.
Утром, отправляясь на поиск необходимых книг, я видел, как во дворе школы-казармы ополченцы очищали от обильной смазки только что выданные им винтовки-трехлинейки и внимательно слушали беседу того самого старшего лейтенанта, который вывел меня из строя. До чего интересным показался мне разговор этого командира-строевика!
– Стрельба по самолету! Удобнее всего с колена. Цель сама нанизывается на пулю – на малой высоте, конечно. Не выйти ему из пике – земля для него гроб! Стрелять по танкам – стрелять только по щелям! Иначе – напрасный перевод патронов! Залить свинцом глаза врагу-водителю! И – баста!
Что ж, молодец! Просто, наглядно и доходчиво. Есть чему поучиться. Но в моих темах особенно-то упрощать нельзя! Ни в коем случае нельзя! Хотя бы потому, что от слишком простого изложения сразу же притупится у слушателей внимание. Среди них почти все закончили школу, немало и тех, у кого вузовское образование, в том числе и гуманитарное. Такие слушатели особенно к коллегам ревнивы, придирчивы. С другой стороны, превращать наши беседы в семинары профессора Столпянского тоже не дело! И тут меня осенило: зачем я буду идти по второму, по третьему кругу в поисках материала – ведь у меня дома бережно хранятся конспекты лекций Столпянского, записи его ответов на вопросы слушателей (нас на Высших курсах[4] студентами не называли – величали слушателями, а профессора к нам обращались не иначе как «коллеги»)…
И я отправился к себе домой на Мойку. Мое писательское жилище выручило меня тогда, выручит и не раз в дальнейшем. Все-таки что ни говори, а то, что писатель собрал для своей собственной творческой работы, всегда ему будет дороже и сподручнее любых методических пособий, учебников и монографий. Почему? Да прежде всего потому, что материал уже «пропущен» через конкретно-образное горнило, переплавлен, обработан, ориентирован на восприятие широким читателем, зрителем, слушателем. Вот в чём главная разгадка!
Два-три посещения дома на Мойке дали отличные результаты. Я был готов к беседам и спросил у своего нового начальства: «Когда же выберется время для моихсообщений?»
Имеются в виду Высшие курсы искусствознания при Институте истории искусств.
– В вечерние часы, перед сном, – посоветовал парторг полка. – Я сам приду к Вам на Вашу первую беседу.
И вот она состоялась, моя первая такая беседа. Называлась она «На берегу пустынных волн…». И представьте себе, слушали меня коренные ленинградцы внимательно, хотя, конечно, сам предмет в самых общих чертах им был знаком с младших школьных классов.
Начал я с мысленной прогулки к «Медному всаднику». Подразумевалось, что «Петру Первому Екатерина Вторая» поставила этот монумент там, где «на берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел…».
Бытует легенда, будто Петербург действительно возник на пустом месте. Дело обстояло иначе. «Берега пустынных волн» – это скорее поэтический образ, гипербола, нежели определение исторического положения нашего приневского края.
Что же могло предстать взору Петра Первого на этом месте? На берегах Невы отнюдь не «чернели избы здесь и там – приют убогого чухонца». Здесь в ту пору насчитывалось до пятидесяти поселений! Недаром местные жители так говаривали: «Велик наш край приневский, больно велик! Почитай, деревня на деревне стоит, погост на погосте…».
Стало быть, земли эти наши, кровные, древнерусские. Петр Первый отвоёвывал у шведов наше же достояние, утраченное недалёкими коронованными предшественниками. И мы, русские, а вместе с нами и все советские бойцы, представители других национальностей нашей Родины, должны отстаивать наши исконные владения, должны это понимать, верить в это, как бы ни изощрялась гитлеровская пропаганда, утверждавшая, что этот край должен быть возвращен европейским владельцам. Да, такая линия в пропаганде немецких фашистов прослеживалась вплоть до самого конца войны. Для читателей молодых это, возможно, новый аспект в восприятии истории Великой Отечественной войны. Что ж, как ровесник века, как фронтовик Второй мировой войны могу со всей ответственностью сказать, что нас всех ждёт ещё немало больших и малых открытий не только в истории далекого прошлого, но и в истории совсем, казалось бы, недавней.
Ну, об этом я говорю, выступая сейчас, в 70-е годы, а тогда, в первый военный год, я старался рассказать моим слушателям, среди которых были и коренные ленинградцы, и жители иных городов и весей, и образованные, начитанные люди, и те, кто, к сожалению, довольствовался весьма скромными, конспективными и упрощенными сведениями по истории Земли Русской. Впрочем, я их вовсе не упрекал – в конце концов, это просто чудо, что мне посчастливилось быть учеником профессора Столпянского. У меня сбереглись конспекты его лекций и бесед с нами, слушателями курсов, и я при подготовке своих бесед с бойцами и командирами широко использовал богатейший фактический материал. Но не только фактический материал! Столпянский сумел передать нам ВДОХНОВЕНИЕ, за минувшее десятилетие оно не угасло, а вспыхнуло с новой силой.
Начинал я порою так. Ну уж ленинградцы-то Пулково и Дудергоф непременно знают, а Пулково теперь знают и те, кто в Ленинграде не жил никогда: ведь здесь передний край обороны города на юге. А вот то, что «Пулк» и «Дудору» древний летописец помещал почти у самого берега залива, когда Нева была ещё не рекой, а озером-протоком, названной Нево, мало кто знает наверняка! И дальше продолжал примерно в таком русле.
…Корелия, или Карелия, Ингерманландия, или Ижорская земля, были старинными владениями новгородцев. Предприимчивые, деятельные новгородцы вели большую торговлю со своими иностранными соседями. Из Невы они смело выходили на своих судах в Балтийское и Северное моря и даже в Атлантический океан. У выхода в море, в Невской дельте, они ставили крепости-склады.
Вся большая область по обоим берегам Невы принадлежала Новгороду и называлась Водская пятина. В её составе было пять городов с округами (или присудами): Ладога, или Альдейгобург, Орешек, или Шлиссельбург, Корела, или Кексгольм, Копорье и Ям (ныне Кингисепп).
Нева была жизненным нервом края. Это был путь, связывающий всю Русь с морем, ключ исторического пути «из варяг в греки». Жадные соседи с севера хотели отнять этот ключ. Бои за Неву происходили ещё в 850 году! Шведы бились за обладание Невой ещё в 1140 году и в 1242 году!.. Вот тогда-то воины-новгородцы, ведомые Александром Невским, наголову разбили здесь полчища ярла Биргера. Зря сунулся сюда король Эрик!
Позднее, когда Новгород Великий ослабел было от внутренних неурядиц, шведам удалось оторвать часть лакомой Водской пятины. Русский город Орешек у Ладоги они превратили в крепость Нотебург, чтобы не пускать новгородцев в невские воды. В устье реки Охты (как раз напротив Лавры) поставили сильную крепость Ландскрону, что означает «Венец земли». Строили её итальянские мастера фортификационного искусства.
В 1300 году войско князя Андрея штурмовало Венец и выбило эту «пробку» из горла Невы, закупоривавшую путь «из варяг в греки». На месте было вражеской твердыни осталась тут рыбачья деревушка Усть-Охта. И снова весь край на два десятилетия вернулся в хозяйские руки Новгорода. В посадах Спасском и Городинском жили и трудились русские люди: Вергунины, Гаврилины, Звягины, Мишкины, Омельяновы и другие. Имена-то какие! Русские, исконние! Их сохранили для нас налоговые записи Водской пятины.
Когда я об этом рассказывал моим слушателям, то, сделав паузу, предложил поднять руки тех, кто и сейчас носит эти фамилии! Вот такой чисто драматургические приём пришёл мне в голову! Вергуниных не нашлось, Мишкиных – тоже, а что касается Гаврилиных и Звягиных и тем более Емельяновых, то чуть ли не в каждом батальоне, не то что в полку они встречались! Казалось бы, что особенного! Ну, оказались однофамильцами несколько бойцов, но ведь дело-то в том, что они оказались однофамильцами не только друг другу, но и предкам своим, коренным жителям наших краёв приневских. И такое совпадение переставало быть случайным. Оно действовало вернее многих и многих общих пропагандистских слов.
Иногда я прерывал исторический, точнее военно-исторический (так будет вернее!) рассказ каким-нибудь конкретным примером по топонимике. Ну, скажем, таким. Все вы, конечно, знаете, что в Ленинграде есть Васильевский остров. А вот откуда есть пошло, как говаривал древний летописец, название острова? А было на этом острове усадище новгородского посадника Василия Селезня, отсюда и название – остров Василия, Васильевский остров. А ведь что ни говори, школьные, а ещё прежде гимназические представления порою становились стереотипами, с которыми человек не расставался и в старости. До Петра, мол, почти пустая земля была!
Пал Новгород в 1487 году, покорённый московским царём Иваном Третьим, собирателем Земли Русской. Но его внук Иван Грозный потерял Приневье в 1583 году. Но вновь Нева ненадолго вернулась к Москве. Воспользовавшись «смутным временем», шведы опять завладели Усть-Охтой. На её месте была отстроена крепость Ниеншанц, или Канны, как называли крепость русские люди. Казалось, что новая крепость стала непреодолимой преградой на пути к взморью: любой корабль попадал под огонь шведской артиллерии. Под прикрытием бойниц и валов крепости притаился Ниен – город-богач. В устье Невы было много складов, пакхаузов, амбаров, мельниц, верфей. Ниен торговал с Европой зерном, мукой, пушниной, пенькой и прочими русскими товарами. В городе было около четырехсот домов – деревянных, с садиками, а в центре возвышались и каменные строения: лютеранская церковь, дом шведского коменданта и корпуса военного госпиталя… Теперь на этом месте высятся жилмассивы Малой Охты.
В 1618 году дед Петра Первого Михаил Романов заключил со шведами тяжёлый для России «Столбовой мир», и шведы снова почти на целое столетье закрепили за собою Водскую пятину.
Шведский король Густав Адольф посмеивался над Романовыми: дескать, недооценивают русские такое сокровище, как Нева. «Отсюда, – писал он, – Москва могла бы покрыть своими кораблями Балтийское море и подвергать шведское королевство постоянной опасности…». Густав Адольф ошибался: москвичи хорошо помнили о необходимости выхода к морю, очень нуждались в Неве и лишь выжидали удобного момента для нападения. Пётр Первый сумел выбрать подходящее время для реванша: в августе 1700 года он заключил мир с турками и сразу же объявил войну шведам. Первая встреча с искусными войсками Карла XII под Нарвой была для Петра неудачливой, но поучительной. Уже через год Борис Шереметов побил шведское войско под Эрестфером и Гумельс-гофом. Пётр Апраксин отвлек армию Крангиорта в Лифляндию, а Шереметев внезапно блокировал Орешек. Под стены Нотебурга прискакал и сам бомбардир-капитан Пётр Михайлов. Это, как вы знаете, псевдоним царя. У Петра-полководца быстро прорезались крепкие зубы. Твёрдый орешек он разгрыз так ловко и быстро, что шведы и ахнуть не успели. Случилось невероятное! Крепость, защищённая с трёх сторон водой, попала в кольцо… сухопутных войск! Оказывается, пехотинцы принесли на своих плечах лодки и выплыли в Неву из Ладоги. Взволновался многолюдный приневский край – наши пришли, свои!
Шведы были поставлены в тупик. Грозный комендант Ниеншанца Иоганн Опалёв (между прочим, выходец из России), искренно созвал военный совет. Дело происходило на Первушиной мызе, в поместье майора Конау. Сюда (тут я делал многозначительную паузу!) на островок у теперешнего Летнего сада, собрались самые влиятельные люди округи. Советник Фризиус, первый богач Ниена, снабжавший займами самого короля Карла, боялся, что сокровища города-богача достанутся царю московитов:
– Русские взяли Нотебург. Крангиорт далеко. Скоро царь Питер будет здесь…
И было решено: эвакуировать всё население в Кексгольм, а город Ниен сжечь!
Петру Первому так и не привелось увидеть своими глазами этот город, но мы можем себе представить по описаниям давних лет, как выглядело в те дни устье реки Охты.
Трое суток пылали строения Ниена. Зарево предвещало близкий конец шведскому владычеству в приневском крае. Петр Перый увидел от Ниена одни головешки. По преданию, он воскликнул:
– Ох, та сторона!
Не отсюда ли пошло русское наименование речки и предместья: Охта?!
… А войска Петра Первого продвигались неотвратимо.
За Ниеном начинались предместья генерала Крангиорта. На левый берег Невы вёл Спасский переезд, перевоз или паром. Он приставал как раз напротив Смольного! А на месте Смольного располагалась Смольная деревня. Жители её занимались смолокурением. В этих судоходных краях потреблялось много смолы. Дальше, по направлению к нынешнему Суворовскому проспекту, тянулось старинное русское село Спасское, или Спассовщина, с каменной православной церковью. На месте Таврического дворца стояла Севрина деревня. Ближе к Литейному мосту находились деревни Фроловщина и Палениха. На Старо-Невском проспекте в районе Лавры была деревня Вихтулу. Пётр сразу же переименовал её по созвучию в Викторию, в честь двух побед – своей под Ниеншанцем и Александра Невского – над рыцарями Биргера. По пути к нынешнему центру города находилась деревня Манола. У Фонтанки расположились две деревни – Кандуя и Враловщина. У Невы, там, где теперь Кировский мост, – Первушина деревня, отошедшая в своё время к помещику Конау. Между своей мызой и деревней майор разбил парк. Теперь это – Летний сад. Не на пустом месте и он вырос.
Фонтанку тогда звали «Крутой берег». По её берегам через Невский проспект шла тропа к другой деревне – Усадищу, или Каллине, что подле Калинкина моста. Не трудно догадаться, откуда пошло его название!
За Обводным каналом значилась деревня Ремана. Ближе к Нарвским воротам – Винола. У Волкова кладбища – Гольстингс. Русские переиначили её по-своему, в Алтынец. Точно так же и на Петроградской стороне они переименовали по созвучию речку Куорпиоки в Карповку.
За Алтынцем существовала деревня Сиала, а дальше – деревушки Антала и Куораласси. Немало мелких селений было разбросано среди лесов по берегам рек Кемеоки, или Фонтанки, Глухого протока, или канала Грибоедова, Мьи, или Мойки.
Довольно людно было и на Выборгской стороне. Ближе к Финляндскому вокзалу обнаруживались две деревни – Анока и Адицова. За улицей Комсомола находился артиллерийский парк шведов – примерно у кинотеатра «Гигант». Возле реки Невки были деревни Кискна и Вихари. Вдали виднелась деревенька Торка, а поодаль – деревня Питтукс. По направлению к проспекту Маркса – Эйкие и Макуря. Вообще-то именно вдоль Выборгской дороги преобладали финские деревни.
На Петроградской же стороне было больше русских деревень, скажем, мыза Берёзовая. Да и весь остров назывался Берёзовым. Потом его стали называть островом Городским. Ведь именно здесь началось строительство города Санкт-Питерсбурга. Но тогда Берёзовую мызу окружали распаханные поля. Нивы тянулись до нынешней улицы Куйбышева. А через густой и болотистый лес можно было пробраться к островку Иенисаари, или Люст Еланту, а точнее говоря, – к Заячьему. Там проживали русские рыбаки. Они и не подозревали тогда, что их небольшой островок, приют для зайцев во время наводнений, станет первоосновой великого города – Петропавловской крепостью.
А Васильевский остров ко времени прибытия Петра Первого сильно одичал под властью шведской. Здесь развелись лоси, посему остров стал называться Лосий, или Лосиный, или по-фински – Хирви Саари.
В описях Водской пятины 1500 года упоминались ещё и такие поселения у берегов Невы, как Ахкуево, Корабельница, Кулза, Минкино и другие, месторасположения которых установить пока не удалось. Называлась даже целая Тимофеев-ская волость, а всего – около пятидесяти деревень!
Наиболее густое население было на Песках. Там места сухие, наводнения до них не доходили. Как видно, в древности Пески служили берегом… Балтийскому морю!
Если названия «Васильевский остров», «Петроградская сторона», «Фонтанка», «Летний сад» у всех, даже неленинградцев, что называется, «на слуху», то название «Пески» встретило вопросы. А ведь это там, где ныне Суворовский проспект и Советские улицы.
…Такмы и «путешествовали» – и по городу, и в глубь времен. Порою я делал экскурсы в область истории архитектуры, останавливался на том, как в довоенные годы вместе с кинорежиссерами М. Клигман и В. Николаи в качестве киносценариста работал над фильмами «Художественный облик Ленинграда» и «Архитектура Ленинграда». Рассказывал и о своих художественных фильмах – «Отец и сын» о сталеварах Колобовых и, конечно, о фильме «Певец из Лилля» о замечательном французском шансонье Пьере Дегейтере, авторе музыки гимна «Интернационал». Фильм уже начал создаваться, многие эпизоды были сняты… Пьера Дегейтера играл любимый мною артист Владимир Чесноков, а ставил тоже любимый мною кинорежиссер Владимир Петров, которого знали почти все мои слушатели как постановщика фильма «Петр Первый». Бойцы спрашивали меня о встречах с Петровым, о том, как снимался фильм о Петре. Если на первый вопрос я мог ответить, то на второй – лишь со слов самого Петрова: во время наших с ним бесед он не раз ссылался на опыт постановки киноленты большой, масштабной, зрелищной, исторической. Ведь нам тоже предстояло создавать именно такую картину, хотя и односерийную. Увы! В ту пору я ещё не знал, что негативная пленка погибнет в огне блокадных пожаров и весь режиссерский труд, труд всего съёмочного коллектива канет в небытиё. Останутся только текст киносценария и подготовительные к нему материалы.
Обращение к моему киносценарному опыту было в наших военно-патриотических беседах вполне уместным: зрительская память моих слушателей как бы иллюстрировала мои устные рассказы. К тому же, я не встретил ни одного человека, который был бы равнодушен к киноискусству. Неначитанных, малочитавших встречалось несравнимо больше, но какой-то опыт кинозрительский (и весьма немалый!) был практически у каждого. Конечно, обстановка на фронтах не благоприятствовала думам о теории литературы и теории киноискусства в их сопоставимости, но некоторые намётки и наблюдения, весьма пригодившиеся мне в скором времени, я сделал уже тогда.
Что же касается итогов первых моих бесед с ополченцами, то две реплики я воспринял как высшую похвалу.
– Ну, чужеземцы чёртовы! Не суйтесь лучше! Была эта земля нашей и будет нашей вовек! – сказал в сердцах один из моих слушателей. А другой, по всему видно – коренной ленинградец, только руками развел:
– Спасибо Вам за рассказы Ваши, товарищ лектор! Жили здесь, родились в Питере, а ни о чём подобном даже и не слыхивали! Я, к примеру, около кинотеатра «Гигант» и живу, и работаю – с Выборгской я стороны. Пусть помру здесь у стен Ленинграда, но не дам допустить, чтобы у немцев артиллерийский парк, как у шведов этих, допетровских, был на месте нашего кинотеатра «Гигант». Там зал большой. Мы на его экране ещё фильмы о нашей Победе увидим.
Парторг полка слушал тоже очень внимательно, заинтересованно, с изумлением даже, а потом отвёл меня в сторонку и говорит:
– Конечно, материал Вы знаете здорово – и всё по памяти! Даже в конспект ни разу не заглянули. Я прямо поразился! Одних названий-то сколько, и дат, и фамилий, и события одно за другим следуют, но вот что меня смущает – о политике мало… О Сталине ни слова не сказали. Как же так? Учтите на будущее.
Ну, напрямую я ему не подчинялся и в то же время на рожон лезть не стал. И так примерно ответил:
– Спасибо за то, что внимательно слушали меня, а самое главное – не просто слушали, а с интересом! Это для меня и есть высшая оценка. Разумеется, перед беседой я свои конспекты перечёл, кое-что освежил в памяти. Я же не профессиональный историк или историк архитектуры. Я прежде всего литератор, кинодраматург, очеркист. Вот с этих позиций я к материалу и подошёл. Что же касается политики, то есть такие слова Ленина – о том, что поменьше надо политической трескотни. Ну, произнесу я минут пять некую передовицу газетную. Послушают из вежливости – и всё! А здесь очень далеко народная память ушла, к самым своим истокам. Да, общепатриотический акцент сильнее оказался в этой беседе. Во второй беседе классово-политический акцент будет сильнее. Но и материал там несколько иной.
Вижу, что такой ответ моего рецензента удовлетворил.
Вторую свою беседу я решил назвать так: «Город русской военной славы». Начал я с образа самой Невы, которая в осеннюю пору становится тёмно-серебристой, как латы витязя. Героическая река, река-герой, река-воин. Особенно она величественна у стен Петропавловской крепости. Отсюда начинается наше второе «путешествие». Я говорю своим слушателям о том, что наш город представляется мне каменной и бронзовой летописью героики нашего народа. Ленинградские музеи хранят реликвии победного прошлого. Они говорят о непреходящей силе нашей, способной оградить «полнощных стран красу и диво» от любых посягательств чужеземных захватчиков. И я начинаю сказ о Петропавловской крепости, о соборе Петра и Павла, где нашёл своё вечное упокоение основатель града на Неве, о его славном ботике, для которого был специально построен дом рядом с собором. Потом мы мысленно переходим на Берёзовый остров в первый дом Петра, переносимся через Неву в его первый дворец, отправляемся сперва в Кронштадт, а затем в Выборг, и я обращаю внимание слушателей на то, что на памятниках Петру Первому в Выборге и Кронштадте надписи говорят об одном: «ОБОРОНА СЕГО МЕСТА – НАИГЛАВНЕЙШЕЕ ДЕЛО». С кинематографической скоростью переносимся опять в град на Неве, на сей раз в Военно-Морской музей на стрелке Васильевского острова, и перед нашими глазами оживают жанровые сценки быта новой морской твердыни начала XVIII века. Все вместе мы словно присутствуем на праздновании победы России в Северной войне, видим необыкновенно пышный фейерверк, слышим ликующие возгласы: «Жива Россия! Так мечталось нам, возликуем и мы!»
Нет необходимости говорить, какой отзвук в сердцах моих слушателей рождали эти воскресающие картины славной старины, особенно – картины празднования побед. При этом я неоднократно подчеркивал, что все петровские победы дались очень большой ценой, что путь к ним был долог и мучителен. А мы в большую войну только вступали. Не встречал я за все блокадные дни ни одного «пророка», которые бы отважился назвать, сколько лет продлится Великая Отечественная война и когда она завершится. Разве что в одном почему-то многие сходились в своих прогнозах – весной будет Победа! И тут дело, конечно, не в пророчествах. Весна – это всегда чудо, всегда обновление жизни, всегда надежды на счастье.
Вспоминал я в наших беседах и Семилетнюю войну с немцами в середине XVIII века. И тогда русские полки вошли в Берлин! В Берлин! В Эрмитаже хранятся знамёна, захваченные тогда у немцев. А самые замечательные трофеи – треуголка короля Фридриха, потерянная им в бегстве с поля боя, и куцый его мундир, брошенный им в панике и растоптанный русским сапогом. Я рассказал о картинах художника Коцебу, посвященных разгрому немецких войск при Кунерсдорфе и Гроссельрфельде, процитировал фразу из письма Фридриха, написанного им сразу же после Егерсдорфского боя: «Всё погибло навсегда», а после неё – строку из оды Ломоносова: «Где пышный дух твой, Фредерик!»
Да, мы были в Берлине – и при Фридрихе, и при Наполеоне, а вот в Ленинграде никто из врагов не побывал! Недаром Фридрих Энгельс, большой знаток истории военного искусства и военного дела, писал о русских солдатах: «Русские солдаты являются первыми из самых храбрых в Европе!» Будет, будет и теперь бывалое – мы пройдём по улицам поверженного Берлина.
Ополченцы – люди в основном сугубо штатские и по биографиям, и по характерам. А бои предстоят нам смертельные, жесточайшие, кровавые. Трудно русский национальный характер переломить к жестокости, а ведь война заставит нас это сделать! Иначе нам не спастись и смертного врага не победить. Да, война – это адский, постоянный труд. То, что она – не парады и не смотры, теперь, после 22 июня 1941 года, доказывать не надо. Но то, что война – это прежде всего убийство врага, нашими людьми воспринимается с трудом. Среди ополченцев – музыканты двух симфонических оркестров из театров Ленинграда, инженеры из конструкторских бюро с Выборгской стороны, рабочие высокой квалификации. Многих из них возвратят на обычные и привычные для них рабочие места, а те, кто останется, должны, просто обязаны свыкнуться с мыслью, что только в уничтожении врага – наше спасение. И нынешняя война по степени жестокости превзойдёт все минувшие войны. И по числу жертв – тоже. В этом я убедился зимой 1939 года во время Финской кампании. Сейчас мы столкнемся с силой ещё более жестокой и коварной. И я рассказываю моим слушателям о том, как поменялась форма у апшеронского гвардейского полка в ходе Семилетней войны. В монографии знатока военного обмундирования Висковатова говорилось, что апшеронцы носили белые гамаши. Почему же у них появились красные отвороты на ботфортах? Оказывается, красная кайма появилась после разгрома немцев при Кунесдорфе в 1759 году – русские солдаты до колен были забрызганы вражьей кровью! Это и отразилось в дальнейшем на форме полка. Да, на войне, как на войне! Это труд на ниве смерти.
Чтобы несколько скрасить сей не очень-то безмятежный (скажем так!) пример, я тут же перешёл к серебряным трубам оркестра давнего Павловского полка. Они увиты были георгиевскими лентами, присвоенными гвардейцам за взятие Берлина в XVIII веке. Пример с трубами пришёлся кстати и особенно увлёк наших музыкантов.
И вот в ходе нашей беседы возник (не мог не возникнуть!) вопрос, подспудно мучавший каждого начинающего воина – а сохранила ли история имена рядовых бойцов, не стал ли абсолютно безымянным их труд, их подвиг, не канули ли в Лету их судьбы, имена и деяния?..
Да, решающей всегда была роль рядового воина. И вот он перед нами. В Эрмитаже выставлен портрет русского солдата-победителя Бухвостова. Имя и отчество не указано. Служил он бомбардиром в артиллерии, потом строил корабли. Его портрет расположен в музее по соседству с изображениями полководцев Бориса Петровича Шереметева и Василия Владимировича Долгорукова. Это они вели наши войска от Белого моря до Онежского озера – по неизведанным путям, по глухим лесам и болотам. Это они совершили чудо, внезапно захватив Шлиссельбург!
Шлиссельбург пришлось брать ещё раз, чтобы назвать его Петрокрепостъ, – в январе 1943 года, и мне посчастливилось как фронтовому киносценаристу пережить эти волнующие дни, чтобы запечатлеть эти выдающиеся события на пленке. Глубоко символично, что операция по прорыву блокады Ленинграда проходила в тех же местах, где воины петровские прорывали блокаду всей России – за выход к морю!
Вообще, в нашем городе очень тесно взаимосвязаны между собою большие и малые, известные и малоизвестные страницы истории нашего Отечества. Вот, скажем, многие мои слушатели видели на Выборгской стороне Сампсониевский собор. А ведь его возведение теснейшим образом связано с Полтавской викторией: именно в день «святого» Сампсония, 27 июня 1709 года, под Полтавой были разбиты рати Карла XII! Вот что позволило «ногою твердой стать при море» Балтийском – победа на украинском поле!
Начало же разгрома шведов было положено в морских баталиях. Помню изображение первого такого боя, взятие крупных шведских кораблей «Астрила» и «Гедана» русскими пехотинцами, наступавшими на огромные по тем временам корабли в… обыкновенных лодках! В честь этой победы была выбита медаль с надписью «НЕБЫВАЛОЕ БЫВАЕТ».
Много небывалого, ставшим бывалым прямо у меня на глазах, будет в блокадные дни и потом, в дни битвы за Берлин. Будут и необыкновенные военные хитрости, и чудеса смекалки, и самые обыкновенные лодки выйдут под неукротимым, казалось, огнём противника в кипящую от раскалённого металла воду сперва Невы, потом Днепра, потом Одера…
Ополченцы перестанут быть ополченцами – станут просто бойцами и командирами Красной Армии, и многие из них внесут свой яркий вклад в нашу общую большую Победу.
…Я говорил тогда и незаметно поглядывал на часы – знал, что вот-вот прозвучит сигнал тревоги. Оставались минуты, и я решил посвятить их более близким по времени событиям и именам.
Прежде всего напомнил о том, что знаменитый Мраморный дворец – это не просто подарок Екатерины II графу Орлову-Чесменскому. Это дворец-памятник, воздвигнутый в знак наших побед в турецких войнах. В какой-то степени это можно сказать и о Таврическом дворце, палатах Потёмкина, прозванного Таврическим.
Я ещё не знал доподлинного нашего маршрута на фронт, но примерно представлял себе его и старался построить свой рассказ так, чтобы пеший переход как бы стал зримым продолжением наших бесед. Явно мы пойдём через Кировский мост, к Марсову полю, мимо памятника Суворову. С Кировского моста мы увидим дом, откуда Кутузов отправлялся на фронт, – по левую руку, а по правую – Эрмитаж с его Галереей 1812 года. И я цитирую бойцам-ополченцам пушкинские слова:
Толпою тесною сюда художник поместил начальников народных наших сил, покрытых славою чудесного похода и вечной памятью Двенадцатого года.Среди картин художника Дау мне было особенно отрадно выделить портрет Бибикова, начальника Петербургского народного ополчения… И вот – опять Отечественная война, опять народное ополчение!
… Надо ещё успеть хотя бы несколько слов сказать о Марсовом поле, о здании бывших Павловских казарм на нём… Весь город – мемориал русской военной славы! Куда только ни взгляни – всюду её следы, запечатлённые зодчими и скульпторами, и незримо среди этих шедевров – шедевры русской словесности. Они живы у нас на устах.
Но – наконец звучит сигнал боевой тревоги. Мы уходим на фронт. Эти мгновения живы во мне и по сей день – они трагичны, но они и вдохновенны. И я теперь спустя многие годы горжусь тем, что немецкие захватчики были впервые на нашей земле остановлены именно у стен Ленинграда, что я находился в рядах ополченцев на самых близких подступах к городу Ленина, у знаменитых Пулковских высот, ставших для меня южными границами Отечества.
Н.А. Сотников. Второе предисловие к одним и тем же дням
Перечитал я своё «Вступление» к книге «Были пламенных лет»[5] и огорчился – нет, не так надо представлять современному читателю мои блокадные были! А всё – инициатива издательства ДОСААФ: мы, мол, издательство не литературно-художественное, не писательское, нам надо побольше цифр, фактов, фамилий… Да к тому же потребовали от меня как автора непременной «привязки» к чисто досаафовской тематике! Чего я только ни придумывал, чтобы выполнить это не договорное, конечно, но весьма красноречивое пожелание: и книги специальные читал, и параллели искал определенные, и редкую фактуру в беседах и музеях добывал… Получилось в итоге довольно сносно, но вот особой художественной радости не было!
Одна отрада – пошла моя рукопись в производство, да ещё слишком быстрыми темпами, что порою тоже не совсем на пользу книге. А пока я в Доме творчества в Малеевке ожидаю раннюю весну и пишу это второе предисловие.
Не сомневаюсь, что найдётся не один историк, который придерётся к тем или иным цифрам. Даже самая трагичная цифра (число погибших в блокаду мирных жителей) всё время менялась у нас, ленинградцев, на глазах – то в сторону понижения, то ныне – в сторону повышения. Я лично как участник обороны Ленинграда склонен больше верить в максимальную цифру жертв – и не потому, что я – носитель какой-то особой, абсолютно достоверной информации, а по праву, которое мне даёт звание блокадника, защитника города, одинаково знавшего и передовой край обороны, и быт горожан, и среду военную, и среду сугубо гражданскую, а в военной среде – и ополченцев-добровольцев, и кадровых военных, профессионалов до мозга костей.
К тому же обстоятельства моей военной биографии, особенности моей работы военного корреспондента и фронтового кинодокументалиста позволяли мне видеть блокадные картины, выражаясь кинематографическим языком, «с движения»; «в резкости»; и крупным планом; и панорамой. А это очень важные детали!
Постоянно беседуя с другими участниками войны; даже офицерами и даже старшими офицерами; не говоря уже о солдатах; я не раз убеждался в том; что при всем разнообразии судеб и при всей пестроте впечатлений видели они не так-то уж много. Не так-то уж много видел и обычный житель блокадного города. В этом я убедился и беседуя с ленинградцами-блокадниками; и изучая документальные книги и периодику. Конечно; на войне шире и дольше всех видит тот; к кому стекается максимальная информация; но это информация сугубо военно-оперативная; разведывательная; штабная; специальная отраслевая (по службам обеспечения; по родам войск и т. д.); а к писателю стекается информация другого рода – художественно-публицистическая; эмоционально-образная. И вот здесь МЫ; литераторы; пальму своего первенства никому не отдадим! Наверняка; газетчики из отделов боевой подготовки и информации были нас; спецкоров; очеркистов; сотрудников отделов культуры или литературы и искусства; осведомлённее; но зато мы имели возможность и остановиться; и оглянуться; и всмотреться; и дать своему герою выговориться; а не ограничиться коротким рапортом или боевым донесением.
Меня как фронтовика; как военкора больше всего потрясли в очерках Александра Кривицкого два запоздалых удивления-признания: ОН; человек очень осведомленный и прекрасно подготовленный в профессионально-военном отношении; спустя годы сам удивлялся; возвращаясь к тем или иным боям; памятным событиям; встречам; как многого он не знал, как тщательно военная цензура процеживала фактуру в военной прессе; так тщательно; что порою автор и особых сокращений в своем очерке или статье; или корреспонденции не замечал; и в то же время не мог потом припомнить; а о каком же участке фронта он тогда писал. И второе – самый маленький штаб; самая скромная и незаметная часть, оказывается; даже после весьма скромных боёв и небольших передвижений оставляли после себя для архивов такое обилие документов; что они в подавляющем большинстве своём и по сей день неосвоенными остались!
Александр Юрьевич сам выходец из военной семьи, ещё до войны работал в «Красной звезде»; начитанностью своей в военных вопросах уже тогда коллег по перу поражал; и ему нельзя не верить в этих обобщениях.
Это – документы; фактура; а память людская; память писательская! Разве она полностью освоена; разве она максимально полно с отдачей работает на современность да и на будущее! Нет! К величайшему несчастью; нет! Очень многое под спудом лежит. Кто не хочет поднимать пласты былого; кто не хочет ворошить минувшего; кто раны свои тревожить боится… У каждого свои причины.
А почему я так поздно взялся за свои блокадные были? Если меня спросят; я так скажу. После войны с жадностью набросился я в кинематографе и в литературе на мирную тематику соскучился по ней! Военным писателем, баталистом тем более я не был. Военные познания имел очень скромные. Больше всего на свете любил литературу искусство, архитектуру, природу. Посему и мечтал увлечь предметами своей любви и будущих читателей, и зрителей. Особенно мне казались заманчивыми видовые киноочерки. Телевидения массового в послевоенные годы не было, да и сейчас даже сравнительно большой цветной телеэкран не в силах передать того, чем властен киноэкран в большом зале!
Да, всё это так, но была, конечно, и ещё одна причина. Горе военное было так велико, что хотелось его остудить. И тут я не оригинален. Так или примерно так со мною говорили на эту волнующую тему многие мои товарищи по перу.
А вот потом, спустя годы, я стал понемногу возвращаться к блокадным дням, но не через трагическое, а через прекрасное. Поясню свою мысль. Ещё с довоенных времен я увлекался историей культуры, в том числе и культуры материальной, особенно любил и сейчас люблю архитектуру, эту «музыку в камне». Историю архитектуры нам, слушателям Высших курсов искусствоведения при Институте истории искусств в Ленинграде превосходно преподавал профессор Петр Николаевич Столпянский. Ему я во многом и обязан своими и интересами, и познаниями. Его уроки пригодились мне и в работе над сценариями документальных и научно-популярных фильмов, и в блокадные годы для занятий с бойцами и командирами, и для журналистских заданий, и для моих послевоенных экскурсий, которые я проводил со своими учениками – слушателями драматургических семинаров…
Наверное, с этих поездок всё и началось! Как сейчас вспоминаю лето 1964 года, семинар драматургов-одноактовиков в Комарово, наши автобусные поездки в Ленинград и его знаменитые пригороды. На автобусы у меня, как у руководителя семинаров, средства были, а на оплату экскурсоводов – нет, и я вышел из положения тем, что по ходу движения давал свои комментарии, а потом, увлёкшись, сел на кресло экскурсовода, взял микрофон и начал импровизировать. Так, пожалуй, и была «написана» глава «Окопные тетради», потом – «Вдохновение». Их первоначальные варианты напечатали соответственно журналы «Урал» и «Север». Было это в 1966 году, а двумя годами раньше, к двадцатилетию окончательного снятия блокады Ленинграда для «Литературной России» я написал два маленьких очерка – «В пальмовом раю» и «Весенний сад» о ленинградских ботаниках, об их подвиге в годы блокады. Заключительный очерк – тогда ещё под названием «На рассвете» – был напечатан в журнале «Волга», а написал его я как ответ на писательскую анкету к двадцатипятилетию Победы. В анкете было два вопроса: «Где Вы встретили 22 июня 1941 года?» и «Как и где отпраздновали 9 мая 1945 года?» На первый вопрос я уже отвечал в очерке «Вдохновение», а второй вопрос воскресил в моей памяти германские, берлинские впечатления.
Но и это ещё не всё. Да, появились наброски, более-менее завершённые очерки, но ещё не главы, ещё не слагаемые монолитной книги. К тому же я вплотную занялся театральной драматургией и ушёл с головой в историческую тематику.
И вот однажды, в марте 1968 года, произошла встреча, сыгравшая главную роль в судьбе этой книжки, книжки, которую вы сейчас начали читать.
Позвонил мне по телефону мой давний довоенный ленинградский знакомый, в своё время – мой ученик в литературном кружке при заводе «Красный гвоздильщик». Меня туда известный ленинградский энтузиаст работы с молодыми авторами поэт Алексей Крайский сагитировал, а профком разрешил со временем привлекать к учёбе не только работников этого завода, но и других предприятий. Так я и познакомился с Мишей. Теперь он давно не Миша, а почтенный деятель системы Госкомиздата СССР, крупный чин, но уже в отставке, на пенсии. Живительное дело – мои ученики уже пенсионеры! Даже не верится… И вот у этого Миши – молодая жена, болгарская поэтесса, выпускница Литературного института имени Горького. Живут они в Москве, но часто бывают в Софии, она хорошо говорит по-русски, но пишет только на родном языке. Побывали они как-то вместе в Ленинграде, Миша ей о своей юности рассказал, о том, как мы с ним познакомились, как я его «увёл» в журналистику от станка, а потом разговор слово за слово неминуемо перешёл на блокаду, не мог на эту тему не перейти… Жена Миши в годы войны ребёнком была, мало что помнит, а он воевал на других фронтах. Так что рассказывал с чужих слов. А поэтессе страстно захотелось узнать правду из первых рук, тем более что она задумала цикл стихов о подвиге Ленинграда. Интересно и неожиданно – молодая болгарская поэтесса пытается постигнуть «блокадную суть», как сказал один поэт. И вот Миша просит меня (мы с ним до этого редко и всё мельком встречались) уделить им с женой внимание и рассказать о блокадных былях.
Это не инструктаж и не литературная консультация. Сперва разговор идёт вообще о литературе, о её новостях и новинках, потом вообще о Ленинграде и лишь потом, постепенно мы начинаем возвращать блокадные времена…
Многое, очень многое можно начитать. Я всегда говорил своим ученикам: «Начитайте как можно больше, но с выбором, конечно, со строгим личностным отношением к каждому слову, а потом, прежде чем начать писать самим, всё забудьте! Парадокс? Да! Но психологически очень важный – если всё помнить в момент написания, то своё слово сказано не будет!» Эту фразу я повторил моей болгарской гостье. Она буквально засыпала меня вопросами. На некоторые из нихя отвечал так: «Об этом хорошо сказано в такой-то книге. Прочтите сами!» Как вы видите, я решил остановиться на том, о чем нигде так не прочтешь, ибо это – память сердца.[6]
На вопрос о самом трагичном воспоминании я ответил неожиданным для себя устным рассказом. Я впервые осмелился об этом не только сказать вслух, но и вспомнить – слишком страшны эти блокадные страницы!
Мне, фронтовику, часто приходилось бывать в городе, и это были хождения по мукам. В дни жесточайшей зимы 1941–1942 годов я жил в землянке возле Пулковских высот. За этой полоской ничейной земли начиналась, как хвастливо орала фашистская пропаганда, «великая Германия». Впрочем, эта «великая Германия» дальше не пошла и на этом же месте стала укорачиваться, как шагреневая кожа. В Берлине в мае 1945 года я был свидетелем полного краха гитлеровского рейха[7].
Редакции дивизионных газет, для которых я работал, помещались за пропускным пунктом близ Московских ворот, а армейской – на правом берегу Невы в черте города. Корреспондентский билет был своего рода визой для наших пограничников. Ходил я за «проходную», как мы выражались, не только по журналистским делам, но и для того, чтобы отдать кому-то свой хлебный паёк.
Может быть, это прозвучит неожиданно, но это правда. Именно так и было на самом деле. Постепенно мой фронтовой хлебный паёк становился непригодным для моего пропитания. Сперва шли примеси сои, отрубей, жмыха… Это ещё куда ни шло для моих зубов и десен, но потом в хлеб стали подмешивать целлюлозу! Древесина, а всё же клетчатка! Пока целлюлозный хлеб был свежим, его ещё можно был как-то раскусить, но через час-другой буханку уже надо было рубить топором или ковырять штыком, а то и размачивать в кипятке. А у меня разыгралась цинга, кровоточили десна, шатались зубы, распухали ноги…
Поддерживал мои силы связной полка красноармеец Денежкин, кадровый рабочий, конечно же, доброволец. Семья его не эвакуировалась, жила в блокадном городе, совсем-совсем близко и в то же время бесконечно далеко! Самому ему вырываться домой удавалось буквально несколько раз, но связь с домом была налажена через одного знакомого паренька-шофёра. Я уступал семье Денежкина свою буханку – трехдневный паёк. Желая как-то отблагодарить меня, Денежкин, удивительной доброты и смелости человек, по ночам выходил, точнее говоря, выползал на нейтралку, штыком дробил лед, покрывший неубранные с осени огороды, и под огнем противника вырубал изо льда замёрзшие кочешки капусты или окаменевшие морковки, подчас это была и свекла. Так Денежкин лечил меня от цинги. Порцию витаминов я получал (опять же, благодаря его стараниям!) в чае, настоянном на хвое прифронтовых елок. Увы, вскоре Денежкин попал в медсанбат, и больше мы с ним не встречались…
Но одубевшие хлебные пайки накапливались. Я извлекал внутренности противогаза, клал в сумку свои пайки и направлялся в город отдавать их уцелевшим друзьям и знакомым.
Никакого транспорта не было. Как писал Николай Тихонов, именно тогда ленинградцы узнали цену подлинных расстояний в своём городе! С трудом добираюсь до центра. А это – километров пятнадцать! Поднимаюсь по обледенелой лестнице, стучу. Но дверь не заперта. Иду через кухню. На окнах фанера вместо стёкол. Ветер дует, как в степи! Вхожу в комнату, в которой я бывал столько раз в довоенную пору, в которой было столько книг, в которой так радовались гостям, так часто звенел смех… На кровати лежит давно умерший друг, мой старший товарищ, мой учитель и наставник в делах кинематографических…
Кому же отдать хлеб?.. Кому?.. Может быть, вот этому случайному прохожему?.. Хотя прохожим назвать его можно лишь условно – он медленно-медленно движется вдоль дома, опираясь на стену двумя руками, и вдруг тихо сползает на снег… Он ещё смотрит, но взор его уже угасает… Ему мой хлеб уже не нужен.
Кому же отдать хлеб?.. Стучусь в другую квартиру, в другом доме. И опять – можно не стучаться, можно одному ходить по ледяному дому, в котором совсем ещё недавно жила очень дружная и гостеприимная семья, где так любили музыку. И здесь та же картина, что и прежде – постель, закутанный в одеяло человек, мертвящий тело и душу холод.
Усталость валит и меня с ног! Наверное, я отшагал километров восемнадцать. Да, уж не меньше! Я несказанно рад, что квартира заперта. Вот они, блокадные парадоксы. Заперта – значит, есть надежда на то, что там, за дверью, живы! Жива моя старая приятельница, прекрасный знаток пушкинского Петербурга, лектор, педагог, критик, обаятельная, умная собеседница… Сейчас я её увижу, помогу ей… Дверь открывается… Долгая-предолгая пауза, которая кажется вечностью. Слова благодарности – как всегда, чуть старомодные, изысканные. Она просит меня извинить, она больна, в квартире не прибрано, к тому же она плохо выглядит. А за хлеб, конечно же, огромное спасибо. Она этого никогда не забудет: шутка ли сказать – с фронта пришёл человек, чтобы дать ей целую буханку хлеба! Ничего страшного, что он крепкий, она сделает из него суп, да-да, суп. Это будет очень вкусно, и хватит на несколько дней… Она протягивает мне высохшую руку и берет этой рукой хлеб, потом вновь протягивает мне руку для рукопожатия. Рука у неё лёгонькая, очень холодная и вся высохшая. И всё-таки я верю, что ей поможет буханка хлеба! Вы понимаете, почему она не пустила меня в квартиру? Прежде всего потому, что не хотела показывать мне своё изнурённое лицо, его увядшую прелесть. И её слова о непорядке в доме – тоже не дипломатия. То, что такой разговор идёт в первую блокадную зиму под гул артобстрелов и воздушных налётов, – уже само по себе чудо!
… Не меньше часа взбираюсь по обледеневшей лестнице на шестой этаж другого старого дома в центре города, чтобы отдать вторую буханку хлеба другой моей знакомой, соратнице и помощнице по литературным делам довоенной поры… /Довоенной поры! Так мы и тогда говорили, а ведь с начала войны прошло-то всего-навсего полгода, а кажется – целая эпоха миновала!
И тут я должен сделать небольшое отступление. Дом, на шестой этаж которого я с таким трудом взбирался по ледяным ступеням, стоял недалеко от Владимирского собора на Петроградской стороне. В садике у собора и в окрестных переулках была блокадная барахолка. Хлеб там котировался на вес золота. Это не преувеличение, а истинная цена! За буханку хлеба там можно было получить золотое кольцо с бриллиантом. Предлагали и рояли.
В этих обменных операциях было нечто позорное. Моя приятельница не шла на подобные компромиссы, хотя у неё ещё оставались какие-то драгоценности, фамильные, не ахти какие редкостные и дорогостоящие, но дорогие ей своей памятью о предках, потомственных интеллигентах, живших в мире искусства и миром искусства. И она не понесла их на ближнюю барахолку, видимо, сознавая, что кусок хлеба её уже не спасёт.
Я застал эту гордую женщину во всем величии женской красоты! Она лежала на кровати причёсанная, с перстнями на пальцах и с серьгами в ушах, но уже мёртвая… Так встретила свою смерть эта ленинградка.
… Опять некому отдать хлеб. Какая мука!
Эта история произвела на моих гостей огромное впечатление, особенно – на поэтессу. Она сперва делала какие-то пометки в своём блокноте, а потом остановилась, замерла и слушала, буквально не переводя дыхание, заключительные слова моего устного рассказа.
– И Вы обо всём этом ещё не написали? – воскликнула она. – Как можно! Это же клад! Это же готовые новеллы, очерки, рассказы!
Её муж посмотрел на меня и развел руками:
– Николай Афанасьевич этим нас удивлял ещё в довоенном литобъединении, когда рассказывал нам о том, что видел и слышал в годы Гражданской войны! Начинал-то он как прозаик, а вот, видишь, ушёл в документалистику, в кинопублицистику, в драматургию… Николай Афанасьевич, а Вы мне как-то говорили, что ещё в годы блокады задумали сценарий художественного фильма о блокадниках-ленинградцах…
– Да, – ответил я, – был такой замысел. Вернуться к нему я смог лишь в конце 40-х годов, а тут – так называемое «Ленинградское дело», и впоследствии в общем допускались лишь какие-то частные истории либо же, напротив, – слишком общие, иллюстративные, а у меня главным героем должен был стать… ну, конечно же, фронтовой журналист, которого откомандировывают на фронт, и он буквально через несколько месяцев после начала войн вновь возвращается к своей главной мирной профессии. Как вы понимаете, такой герой и многое видит, и обладает определённой независимостью в действиях и суждениях, и склонен к обобщениям. А кому, скажите, такой герой нужен? Разве что зрителю. Так до него дорога дальше, чем до Луны! Вот мои довоенные фильмы запускали в производство после трёх виз, трёх подписей, а теперь (мы тут с одним молодым кинодраматургом на эту тему долгонько беседовали!) и пятнадцати подписей мало!
– Но ведь с книгой-то проще! Попробуйте повесть сделать! – уговаривал меня Миша.
– Поздно, Миша, не тот запал, перегорело многое, да и психологически тяжело. Стану вспоминать не только горькое, но и светлое: как с Галей познакомился, как она меня в госпитале своём на Петроградской стороне спасла, как мы вместе с ней после снятия блокады на Берлинское направление оба напросились! А ведь могли, вполне могли в Ленинграде остаться! Как знать, может, она бы после родов и жива бы осталась, не погибла бы на второй день после рождения сына, и жильё у нас было бы, и работа стабильная. Ведь мы вернулись к разбитому корыту!.. Как вы оба уже догадались, такая киноповесть могла бы быть только чисто автобиографической. Разумеется, я мог бы взять какую-нибудь судьбу, выстроить сюжет, но не хочется заниматься таким конструированием! Лучше расскажу-ка я в очерковой форме о конкретных людях, об их делах, их борьбе, их переживаниях и надеждах!.. В одном вы оба правы: надо, пока есть силы ещё какие-то, пока совсем болезни не одолели, сделать очерковый цикл и назвать его… ну, хотя бы «Были пламенных лет». У Довженко «Повесть пламенных лет», а у меня – некоторые были блокадного Ленинграда. И одну главу, заключительную, думаю сделать берлинской, майской, победной, чтобы была в цикле завершенность и логическая, и эмоциональная. Не стану претендовать на энциклопедичность, универсальность, какую-то особенную широту. Пусть вспомнится то, что особенно дорого, а там видно будет.
…Гости мои ушли, а я долго-долго, далеко за полночь, сидел над раскрытой папкой, на которой тут же крупно написал: «БЫЛИ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ».
Н.А. Сотников. Война пришла в наш дом не сразу
22 июня немцы бомбили Кронштадт. Я видел этот бой, стоя напротив острова Котлин в Коломяках[8].
Первые мгновения войны, её первые часы и дни у меня, участника Гражданской войны, войны Финской и походов на Западную Украину и в Западную Белоруссию, вызвали чувство, нет, не страха, а чувство яростного возмущения: я своими глазами видел, как всё шоссе было усеяно забитыми кладью машинами! Это новая «знать» спешно покидала не только пригород, но и вообще городские пределы. Спасалась бегством номенклатура среднего и младшего ранга, те самые чинодралы, которые ещё день назад, бия себя кулаками в грудь, кричали о патриотизме и призывали к новым успехам «на всех фронтах строительства и защиты социалистического Отечества».
Как я потом узнал и увидел, бежала знать и из Ленинграда – под самыми разными предлогами, не страшась порою ни закона, ни административной, ни партийной ответственности [9].
У нас в Ленинградской писательской организации дело обстояло несравнимо лучше. Писательская молодежь (а молодых писателей тогда было немало, не то, что в 60-е и 70-е годы!) уходила в райвоенкомат Дзержинского района. Просились в добровольцы и люди постарше, но их просили подождать. Наша, писательская «знать» сразу же запросилась не на фронт, а на Восток и заполнила тот самый эшелон, который был предоставлен детям представителей художественной интеллигенции Ленинграда. «Спасите наши души!» – таков был вопль всей этой «знати». Ее настроения, её подлинную, а вернее, подленькую, сущность прекрасно уловила замечательная женщина, гражданин и поэтесса бывшая жена Алексея Николаевича Толстого Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая в своём стихотворении 1941 года «А беженцы на самолетах…»[10]. О публикации этого стихотворения в те времена не могло быть и речи, но в наших узких кругах творческих работников оно хождение имело уже тогда и покоряло нас своей жесточайшей правдой, горестным сарказмом и прозорливостью.
Я лично знал Наталью Васильевну, не раз встречался с нею в доме Алексея Николаевича в Детском Селе[11]. В ту пору я много занимался издательскими делами в «Прибое» и в «Пролетарии», и среди моих постоянных авторов были и К. Федин, и Ю. Тынянов, и Б. Лавренёв, и В. Каверин. С Алексеем Николаевичем я не раз советовался по душам. Он удивительно широко умел смотреть на литературный процесс и на издательское дело. В наши общие разговоры легко и органично входила и Наталья Васильевна. Она уже и в те довоенные годы отлично знала каждому пишущему цену не только литературную, но и человеческую, и, как мне кажется, очень точно предвидела то, кто кем окажется в тяжёлую годину.
Я лично наизусть помню только первую строфу и совершенно убийственный эпитет из следующей: «А беженцы на самолетах взлетают в небо, как грачи, актеры в тысячных енотах, лауреаты и врачи…». А это сочетание прямо до сих пор глаз, слухи сердце режет: «… и просто мелкий большевик». Вот эти-то «мелкие большевики» и оказались на деле самой большой опасностью во все периоды нашей истории, начиная со времён предреволюционных и посейчас. Нет нужды уточнять, что самолётные рейсы были крайне малочисленными, посадки и лимиты строго регламентировались как минимум на городском уровне. Значит, у всех этих «летунов» были свои люди наверху. Разумеется, и самый «верх» составлял списки тех, кто подлежал крайне желательной эвакуации как национальное достояние. Но таких имен всегда было и есть крайне мало, а вот тех, кто выражает национальное недостоинство, всегда хватало с лихом!
До сих пор перед глазами стоят и вагоны того самого «эшелона на Восток». Наши писательские жёны отбирали для первоочередной эвакуации прежде всего малышей, но и малышей потеснили «тузы», «короли» и «валеты». Перераспределение происходило в Перми, где командовали опять же представители сей «знати», которые в результате всех интриг вытолкнули писательских жён и малышей в деревню Чёрная (очень, между прочим, эмоционально означенное название!). Обо всем этом мы узнавали в блокадном уже Ленинграде много месяцев спустя, но и в ту пору горькое предчувствие томило каждого из нас.
Когда стало формироваться Народное ополчение, то был создан так называемый писательский взвод – великолепное проявление, с одной стороны, патриотизма, а с другой – головотяпства. Если в армии Народного ополчения литераторов стремились использовать для работы по специальности, то Дзержинский райвоенкомат создал слабосильный «взвод очкариков» (их так сразу же и окрестили). Их сразу же бросили на передовую. Командовал этим взводом чудесный человек и своеобразный прозаик, герой челюскинской эпопеи Сергей Семёнов. Погиб в рядах этого взвода человек, которого я лично хорошо знал, – мой довоенный приятель поэт Евгений Панфилов. До сих пор история этого подразделения болью отзывается в моём сердце!
Однажды, уже в 70-е годы, мне довелось выступать на пленуме военно-патриотической комиссии Всероссийского театрального общества, речь шла прежде всего о репертуаре. Я в своем выступлении категорически протестовал против сильнейшей струи жертвенности, тем более жертвенности напрасной! В этом спектакле все погибли, в этом – тоже… А кто же в живых остался? Кто же победил? Нам непременно победителя показывать надо! А победить можно было и словом, как это блистательно сделала Крандиевская-Толстая. О том, какой страшный риск таился в её стихотворении, я думаю, и говорить не надо! А она, ученица русской литературы, с детских лет лично знавшая М. Горького, В. Короленко, Г. Успенского, не могла поступить иначе. Не могла! Толстовский девиз «Не могу молчать!» был в её сердце. Осталась в блокадном городе. Должна была остаться. Себе приказала.
Что же касается меня, то я себе приказал отправиться в одну из школ Выборгского района, где формировался полкленинградцев-добровольцев.
«Вот – величайшие достижения гения нашего народа! И вы, стоящие на переднем рубеже обороны Ленинграда, призваны их спасти и сохранить, а фашистские головорезы спят и видят втоптать их в грязь!» – таковы были итоговые тезисы моих политбесед.
Я всячески избегал сложных словесных конструкций, обильной терминологии, нагнетания незнакомых бойцам имён… Доходчивость, задушевность, сердечность – вот главные принципы наших бесед у черты обороны города. Правда, начинали бойцы знакомиться со мной ещё на сборных пунктах, но вскоре мы в 42-й армии встали у Пулковских высот, словно неприступная стена. От этой невидимой стены до совершенно реальных стен рейхстага и пролёг мой боевой путь.
И тут родилась чудная форма пропаганды – окопные тетради! Внешне – тетради как тетради, обычные, школьные. Прочти – передай товарищу! Написал сам, попроси соседа написать тоже – о себе, о друзьях-товарищах, о доме, о фронте, о заветных чувствах и мыслях… Дивные были это слова! Жаль, что сбереглось так мало! Эти окопные тетради необыкновенно сближали людей, знакомили их друг с другом несравнимо порою лучше, чем собрания, которые носили куда более официозный характер. Когда-то ещё выйдет номер газеты, когда она придёт именно в твой взвод, в твоё отделение!.. А вот окопная тетрадка обежала путь, порою весьма длинный, и в твоё же отделение и вернулась! Один круг, два, три опишет такая тетрадка и вернётся ко мне. Бездна материала! Что-то сгодится для дивизионной и армейской газеты «Ущр по врагу», о чём-то можно и нужно будет сообщить в нашу фронтовую – «На страже Родины», что-то для очередных бесед использую, а бывали страницы с таким дальним прицелом, что мне казалось, будто мне, уже в далёкие послевоенные годы, адресованы те или иные слова.
Вскоре меня прикомандировали к Объединенной киностудии[12] и привлекли к сценарной работе, посчитав её главной, однако, полностью не освободив от прежних обязанностей. С одной стороны, нагрузка возросла, а с другой – появилась несравнимая ни с чем возможность самостоятельного планирования времени, что, согласитесь, и в обычной-то гражданской жизни большая редкость и подлинное чудо, а в армии да ещё в военное время вообще чудо из чудес! Так я получил возможность СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО БЛОКАДНОМУ ГОРОДУ и видеть то, что совершенно было бы недоступно мне в иных ситуациях. Мне дозволялось и самостоятельное планирование, и посещение музеев и библиотек, давалась возможность завязывать деловые и творческие контакты, то есть делать то, что я, как профессиональный писатель, делал в совсем ещё недавние довоенные дни.
Повезло мне в этом смысле как литератору и позволило всё это не только построить по-своему работу в военные годы, но и определило во многом мои планы на последующую жизнь. Во всяком случае, книгу «Были пламенных лет» я бы в противном случае никогда бы не написал!
Таким образом, блокаду мне довелось видеть как бы с разных сторон, с разных ракурсов, выражаясь кинематографически. Оказавшись в ближних тылах, я всегда имел возможность, миновав контрольно-пропускной пункт у Московских ворот (тогда они были разобраны, воссозданы уже в послевоенные годы) и опять попасть прямо в окопы к своим фронтовым друзьям-товарищам.
Признаю́сь честно, от начальства мне частенько доставалось, как оно выражалось, за «панибратство», за «отсутствие чувства субординации». Но для меня, по духу человека штатского, звания и должности носили формально-деловой характер и никогда не определяли ни человеческой сущности, ни сущности человеческих отношений. Посему бойцы и младшие командиры встречали меня душевно, запросто, что видно и из сохранившихся в моем фронтовом архиве фотографий. Вот так же запросто я и вникал в секреты боевого мастерства у наших славных снайперов – Феодосия Смолячкова, Александра Говорухина, Николая Остудина и Ивана Добрика. Эти парни столько фрицев уложили, что собой, ну, может, целый батальон пехотный заменить смогли!
То, что у меня не было одной, неизменной точки наблюдения за происходящими событиями, оказалось, пожалуй, самым главным в моём фронтовом опыте: широкая кинематографическая панорама жизни, сражающейся со смертью, предстала перед моим, отнюдь уже не юношеским взором. Бывало даже так: в течение одного дня я был то фронтовиком, то блокадником, то почти военным человеком, то опять сугубо штатским, насколько это возможно в городе-фронте, в осаде. И я не раз подумал о том, что это необычная вольность (и это-то при моём очень скромном воинском звании: сперва меня аттестовали заново на интенданта IIIранга, а затем я стал старшим лейтенантом – дальше роста не было[13] – надо было соглашаться на ряд должностей административного характера, а этого мне делать решительно не хотелось!) сродни той вольности, которая была у моих давних предков – казаков запорожских, от которых я унаследовал не только фамилию.[14]*
Зима сорок первого года, сорок второй год принесли мне немало ярких впечатлений и открытий: это и творческая дружба с воинами и с блокадниками, и возрождение кинохроники и кинодокументалистики, и создание профессионального ансамбля 42-й армии, и, конечно же, повседневная работа в дивизионной, армейской и фронтовой печати.
Объявилась война сразу, а пришла в наш дом и в наши сердца далеко не вдруг: к тому, что она, война, идёт и будет идти долго, надо было привыкать. Тогда, в сорок первом, я не раз вспоминал свой боевой опыт времён Гражданской войны и совсем недавний и постоянно задавал себе вопрос: «Что можно взять на вооружение в плане духовного опыта, а что нет?» Этот вопрос, по-моему, был и остаётся главным в военно-исторической теме в литературе и в других видах искусства. Одно изречение вспоминалось постоянно – это слова комбрига Котовского, у которого во взводе охраны штаба я начинал свой воинский путь: «Не тот боец, кто испытал тягость поражений, а тот, кто испытал вкус победы!»
Один эпизод по-кинематографически ярко вижу я до сих пор. У самых Пулковских высот, где красуются гранитные и мраморные творения Воронихина, – первые разрозненные, измождённые, крайне удручённые группы отступающих солдат и младших командиров. Зрелище это куда более тягостное, нежели встречи с многочисленными беженцами из числа самых что ни есть мирных граждан. Среди них – старики, женщины, дети… Как их упрекнуть в отсутствии боевого, наступательного духа! Другое дело – бойцы с оружием в руках. Их непременно надо остановить, заставить себя слушать, дать им опомниться, вернуть их в строй, а главное – настроить их души, перестроить их настроение.
Мне таких приказов тоже формально никто не давал. И этот приказ, как и многие другие самоприказы, я отдал себе сам. И помогла мне вновь юность моя. Я вспомнил 1918 год, такие же группы солдат старой русской армии – кто из плена, как в пьесе Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия», кто из окружения недавнего, кто просто так, отсиживался по лесам да по хуторам… И вот они маленькими группами тянутся на Родину. А я, ещё в сущности мальчишка, недавний ученик-реалист из Полтавы, иду им навстречу со словами привета, понимания, участия. Мы делаем привал, кто-то поправляет одежду, прилаживает обувку… Первые слова, первые взаимные взгляды – глаза в глаза.
«Нет, – говорю я им, – не погибла Родина, не погибла наша армия. Где она? Да вот она! Это – вы. Вы и есть будущая армия!»
Примерно так я вёл свои первые беседы в том самом девятнадцатом году на Украине. Так я говорил и тогда у самых Пулковских высот в самые страшные первые дни Великой Отечественной. Это и были первые наши шаги к Победе в мае сорок пятого.
Н.А. Сотников. Окопные тетради
Прежде всего, давайте условимся, что так называемые ОКОПНЫЕ ТЕТРАДИ, придуманные мною на рубежах обороны Ленинграда в 1941 году, и просто тетради, побывавшие в окопах, – это не одно и то же, хотя материал, так сказать, един – ученическая школьная тонкая тетрадка. ОКОПНЫЕ ТЕТРАДИ – это своеобразная газета (а порою и журнал), в которой между читателями и авторами почти нет границы, это продукт коллективного творчества, между прочим, не предусмотренный никакими приказами и инструкциями, за что меня неоднократно ругали и командиры, и вышестоящие политработники. Просто тетрадь, побывавшая в окопах, это разновидность журналистского блокнота, но она менее долговечна. Зато она позволяет мне как журналисту, писателю, сценаристу вести довольно длинную строку, почти такую, как на пишущей машинке по числу знаков, что очень удобно в работе. Естественно, я такую тетрадку никому не даю, это мой личный черновик. Как это ни странно, но именно такие тетрадки у меня сохранились до конца войны и основательно помогли мне в послевоенных литературных трудах.
ОКОПНЫЕ же ТЕТРАДИ прошли через десятки, если не через сотни рук, рук отнюдь не стерильных (окопная грязь, ржавчина, смазка оружия и т. д., и т. п.). Как хорошо, что я наиболее ценные записи переписывал начисто уже в свои, собственные, тетради. Вот на них-то я и буду ссылаться в этом очерке.
Живительное дело, мои послевоенные слушатели (а я, как писатель, очень любил живое общение с читателями) изо всех намеченных мною тем более всего интересовались именно ОКОПНЫМИ ТЕТРАДЯМИ. Вероятно, привлекла новизна: такого ещё не было, такого они не знали.
Ну, а теперь, как родились эти самые ОКОПНЫЕ ТЕТРАДИ. И, увы, о том, как они прекратили свои короткие жизни.
Наш полк Народного ополчения уходил с Выборгской стороны на огневые позиции. На улицах ещё было людно. Позванивали трамваи, хлопали дверцы автобусов.
Сейчас, спустя много лет, перечитываю эти строчки и вспоминаю публицистические заметки Ольги Федоровны Берггольц о самом начале войны. Оказывается, первое время продолжали работать рестораны с оркестрами, надо было очень внимательно приглядеться к прохожим на Невском проспекте, чтобы уловить военную новизну… Недаром я решился назвать один из своих очерков так: «Война пришла в наш дом не сразу»!
Лично я это «не сразу» ощущал, возможно, меньше, чем другие: помогал мне в этом мой военный опыт, армейская школа с юношеских лет, профессия литератора, у которого, что ни говори, а чувство предвидения, прогноза – в крови. Ведь в этом – суть художественного творчества.
Да, где-то я проявил беспечность: можно было кое-какими простейшими продуктами и товарами запастись, организовать свой личный тыл практичнее, но я был буквально одержим своим устройством в строй и многое упустил. Прилавки пустели решительно и неуклонно.
Дома у меня, на Мойке, никаких запасов не было, так как я намеревался прожить до конца лета с выходом на осень в Комарово. Соседи по нашей коммунальной квартире проявили куда большую, чем я, практичность и эвакуировались при первой же возможности. Таким образом я впервые в жизни оказался жильцом как бы отдельной квартиры, которую мне неудержимо хотелось посетить перед отправкой на фронт. В то же время мне чисто психологически не следовало слишком заметно выделяться из ополченческих рядов, и я в строю пошёл на фронт вместе со всеми.
… Литейный мост, Литейный проспект, Владимирский, Загородный, Международный (ныне – Московский). Вот и Московская застава. Фронтовая полоса начиналась у новостройки огромного Дома Советов. Там уже стояли наши замаскированные танки.
Повсюду велись оборонные работы: город превращался в крепость. Домохозяйки, школьники, пенсионеры, молодые бойцы отрядов самообороны строили доты у своих домов, дзоты – на улицах и в переулках. Устанавливались надолбы и рогатки на перекрестках. Возникали баррикады даже из трамвайных вагонов тех маршрутов, которые уже никуда не вели.
Отовсюду шли ополченцы на ближний фронт: от Нарвской и Московской застав, с Петроградской и Выборгской сторон, с Васильевского острова. Всех их встречали плакаты «Народ и армия непобедимы!» Корецкого, «Поднимайтесь, советские люди!» и «Родина зовёт» Толкачева, «Били, бьём и будем бить!» и «Вступайте в ряды Народного ополчения!» Серова.
И вот ещё что очень важно подчеркнуть: новобранцы шли по путям недавних битв за социализм мимо фабрики «Равенство», где родилась первая в нашей стране ударная бригада, мимо завода «Красный выборжец», где возник первый в Советском Союзе договор на социалистическое соревнование, мимо Пролетарского завода имени Ленина (это предприятие было прославлено первым Днём индустриализации), мимо Металлического завода – первенца первого встречного плана. Новейшая история шла нам навстречу и властно напоминала о том, какие у нас были выдающиеся завоевания во всех сферах жизни. Есть нам, за что бороться, есть, что защищать! Этот мотив я всячески обыгрывал и как пропагандист, и как газетный журналист.
По пути следования у нас возникла какая-то сравнительно продолжительная остановка, и я отпросился сбегать к себе домой. Хотя шёл я сравнительно быстро, но не мог не отметить для себя вехи на пути – вехи в истории: вот книжная типография Смирдина, выпускавшая первые книги Пушкина, вот квартира Рылеева, неподалеку дом, где жил юный Лермонтов… Воистину, говоря пушкинскими словами, «здесь каждый шаг в душе рождает воспоминанья прежних лет».
Но вот и громада моего дома. С горечью прошёлся я по опустевшей квартире, постоял у книжных полок… С родным жильём прощаются, как с родными людьми. А что у меня теперь будет? Землянки, блиндаж, возможно, госпитальные палаты, теплушки в поездах, чужое временное жильё… Так в итоге всё и произошло в моей судьбе.
Хотел взять с собой хотя бы несколько книг, но раздумал, а вот школьными тетрадками запасся. И не прогадал! Они сослужили добрую службу – и не мне одному.
Вышел, добрался до места временной нашей остановки… Никого! А тут, на счастье, последний трамвай 39-го маршрута. Он и привёз меня на войну. Вагон подошёл к кольцу за Средней Рогаткой, приостановился, сердито заскрежетав колёсами на повороте, и заторопился обратно в город. Позже я узнал его: он стал баррикадой…
Из-за Пулковских высот густо летели на нас немецкие снаряды, и я укрылся за насыпью железной дороги. Неподалёку от нас на поле гражданского аэродрома размещались огневые позиции наших миномётчиков, а немцы всё больше и больше зарывались в землю, больше не решаясь наступать. Как выяснилось, их сильно напугал мифический «пояс Ворошилова», который якобы подобно линии Мажино проходил на городских руб ежах. А на самом деле «железобетонным» поясом были наши наспех вырытые землянки и канавы неполного профиля. Зато через наши души проходил никому не видимый мощнейший вал обороны!
В разрушенном селении Каменка помещался штаб нашего полка. Стал накрапывать дождь, но утомлённые ополченцы устроились на короткий отдых в придорожных кюветах. Вскоре из-за холма потянулась к нам цепочка женщин, которые не успели вырыть для нас окопы полного профиля. Они передавали нам свои лопаты и горестно вздыхали. Бойцы, получив лопаты, двинулись в полумраке к своим будущим позициям и там принялись зарываться в землю, ибо на войне, да ещё на передовой это первейшая забота и необходимость.
Временами ополченцы устраивали перерыв, но не для того, чтобы посидеть или тем более полежать: они проходили тренировки под прикрытием железнодорожной насыпи. Вообще, надо сказать, у ополченцев в целом дисциплина была на высоком уровне, да и возраста у нас оказались посолиднее: многим – за сорок, за пятьдесят и даже более того. В других частях среди рядовых таких «стариков» не встречалось.
Неожиданно из-за насыпи появился парторг части и, увидев меня, поручил мне быть в полку политинформатором, чему я очень обрадовался: ведь это почти моя профессия!
Не мешает сказать о том, что парторг почему-то твёрдо решил, что я – член партии, а я был беспартийным, так как вместе со многими единомышленниками вышел из рядов партии в знак несогласия с НЭПом. Об этом у нас мало говорят и пишут, а ведь ТОГДА были и психические расстройства на этой почве (опять буржуи над нами!), и даже самоубийства. В литературе эта волнующая тема прошла как-то вскользь, но я не скажу, что антинэповских мотивов не было совсем: вспомним и «Гадюку» Алексея Толстого, и высказывания Николая Тихонова, и стихи, например, Михаила Светлова. Однако вал и жар индустриализации оказался необыкновенно целебным лекарством, и колеблющиеся воспряли духом. Подумывал о возвращении в партийные ряды и я, но весьма солидные должности (номенклатурные, как их потом стали называть) доставались мне при минимуме придирок к анкетным данным, в том числе и к графе «ОБРАЗОВАНИЕ»: ведь полнокровного высшего законченного образования я так и не получил. Но это, впрочем, тема для другой главы или даже другого очерка.
Мне как политинформатору был определён свой распорядок суток: до ночи спать, а затем в темноте ходить по ротам, собирать от политруков сведения об окопной жизни и готовить политдонесения.
И вот я брожу все ночи подряд по нашему участку фронта, который проходит с удивительной точностью по воображаемой линии Пулковского меридиана. В просветах туч иногда вижу я руины нашей знаменитой обсерватории. Через эту точку, обозначенную на всех картах, сейчас в обе стороны летят снаряды.
Ночь сырая, глухая. Все спят в окопах за исключением дозорных. Начинаю приспосабливаться к новой для себя обстановке. Порою враг спросонья обстреливал придорожные заснеженные кусты. Посему я решил ходить напрямик открытым полем. Так было безопасней. Когда на меня пикировал фашистский стервятник, я не падал в снег, чтобы не увеличивать площади пулеметного обстрела, а лишь останавливался и грозил врагу кулаком. Он меня – свинцом, а я его – кулаком! Так мы с ними без переводчиков и разговаривали!
Продолжаю идти в кромешной тьме, ориентируясь по вспышкам цветных немецких ракет. Прихожу в первую роту. Бужу в землянке политрука. Оставляю ему одну из своих ОКОПНЫХ ТЕТРАДЕЙ: пиши, мол, сам о том, что у тебя в роте было вчера.
Добираюсь до следующего подразделения. Там тоже поднимаю политрука и даю ему тетрадку, а на обратном пути из третьей роты этого батальона забираю свои тетрадки с крайне интересными записями!
Бывало, что я кое-что записывал или дописывал со слов. Чаще всего это приходилось делать в боевом охранении, где люди не могли менять даже на короткое время винтовку на карандаш.
Перечитываю тетрадки. Оказывается, стали писать не только политруки, но и рядовые бойцы! Я несказанно обрадовался и стал для рядовых оставлять ещё одну тетрадку.
Газеты, увы, доходили до передовых позиций с перебоями, а тут, глядишь, и своя газета появилась! Последние известия – да ещё с соседнего участка!
Однажды один безымянный автор, но, судя по всему, человек и знающий астрономию, и не без литературных способностей, написал целую оду во славу нашей астрономической науки и выразил уверенность в победе и восстановлении родной обсерватории.
После таких находок я возвращался в родную землянку богачом! Веселей становилось на душе. Какие замечательные люди стоят на страже родного города! Они плохо вооружены, слабо экипированы, животы у них подтянуты из-за скудных пайков, а гляди – бодры, остроумны, готовы к новым испытаниям!
Порою ОКОПНЫЕ ТЕТРАДИ раскрывали и состояние духа врага:
«Немец нервничает. Стреляет с перепугу куда попало. Шёл он господином к Ленинграду в полный рост, а тут, у самого города, какие-то ополченцы заставляют его зарываться в землю, как слепого крота!»
В другой тетрадке говорилось о враге так:
«Не могут они понять, что у нас действует железный закон: “Позади Ленинград, и отступать некуда!”»
А ведь и верно: враги ни шагу вперед не прошли за все 900 дней!
Третий боец пишет:
«Только через мой труп мог бы проползти гад к моему родному городу, где я родился и вырос!»
При свете коптилки снова разбираю добытые в моих ночных походах сокровища. Народ в ротах ополченцев культурный: много вузовских преподавателей, инженеров, есть артисты, музыканты… А я как сценарист монтирую живо изложенные эпизоды в единое политдонесение, ну, а то, что не годилось в сводку по особой эмоциональности, при особой редактуре подходило для нашей дивизионной газеты. Правда, бывают такие словечки в такой концентрации, что никакая редактура не поможет: слишком крепко, забористо кроют врага наши люди!
Встречаются и такие коротенькие репортажи прямо с места действия:
«Два бойца вышли из траншей за “языком”. Во мраке зимней ночи они напоролись на минное поле, где прежде были пригородные огороды. Казалось, что там каждый мёрзлый капустный кочан взрывался при малейшем прикосновении! Одна из коварных мин внезапно и гулко разорвалась. Разведчик был ранен. Моментально сюда хлынул поток свинца. Ополченцы укрылись в воронке. Они полагали, что снаряды в одно место дважды не ложатся…
Переждав долгий вражеский обстрел, раненый больше всего мучился от нестерпимой сорокаградусной стужи. И напарник нашёл выход: он стал согревать друга своим телом, ложась то с правой, то елевой стороны, пока обстановка не позволила утащить раненого в ближайший окоп и сделать ему перевязку».
Этот крохотный рассказик перепечатала наша дивизионная газета.
Вскоре мне довелось познакомиться с неотправленными письмами убитых фашистских вояк. В этих письмах были бесконечные жалобы на быт, погодные условия и сплошное нытьё! Контраст очевиден!
… Под утро я обычно завершал свою работу на пишущей машинке, вычитывал текст и шёл будить комиссара полка, давать ему на подпись сводку политдонесений. Затем я должен был отправляться в политотдел дивизии, который находился в толщи насыпи железнодорожного полотна. Напоминаю, что всё это проделывал беспартийный человек с очень скромными военными познаниями, которые, однако, постепенно всё же пополнялись и упорядочивались.
Наконец я добирался до землянки и засыпал сном праведника.
А вот прочтите! Всего лишь несколько строк, а какая судьба! Говоря профессионально, пример единства места.
«Старый пулемётчик И. Е. Иванов во второй раз защищает Пулковские высоты. В 1919 году на этом же самом месте питерский железнодорожник командовал пулемётным взводом».
ОКОПНЫЕ ТЕТРАДИ сближали людей, делали их друзьями, волновали сердца. Вот что писали о своём командире Сочневе бойцы его роты:
«Это был прекрасный, чёткий и волевой командир. Вместе с бойцом Емельяновым Сочнее пошёл в разведку. Они захватили вражеский пулемёт и принесли важные документы».
Лично я знал Сочнева. Он не раз заходил в нашу землянку, делился последними новостями, советовался… И мне же пришлось проводить его в последний путь! Тело храбреца мы доставили на санках к воротам его родного завода «Светлана». Рабочие похоронили своего заводчанина, знающего и умеющего техника, на Выборгской стороне. А я проведал его вдову и сынишку и передал им паёк мужа и отца.
На других участках фронтов такая ситуация была почти немыслимая, но никогда не надо забывать, что мы – город-фронт, фронт-город.
Сочневцы люто отомстили за гибель своего любимого командира: связист Киреев принял на себя командование и бросился в атаку, а снайпер Петров метким выстрелом снял с дерева вражескую «кукушку»[15] и захватил автомат убитого немца. Помкомвзвода Иванов подкрался к дому, где засели враги, пристроился под окном и заорал: «Фриц! Сдавайся!» Тут же в окно высунулся автомат, Иванов схватил своей сильной рукой дуло и… вытащил в окно наружу немецкого негодяя!
Все это тоже нашло отражение в очередном «выпуске» ОКОПНОЙ ТЕТРАДИ. Новости окопной жизни ярко раскрывали русские, подлинно теркинские, характеры защитников нашего города! К примеру сказать, наши воины стали овладевать искусством… жонглирования гранатами\ Это, конечно, не цирк, но по-хлещё любого цирка. Помкомвзвода Егоров записал в ОКОПНОЙ ТЕТРАДКЕ:
«К нашему окопу подкрался немецкий офицер и с диким рёвом: “Здравству́й, русски́й!” метнул на нас ручную гранату. Младший командир Семенов перехватил её налету и вернул по самому прямому назначению! Немец упал и больше не поднялся».
А боец миномётной роты Михайлов такой эпизод припомнил:
«К нашему окопу под прикрытием автоматного огня приблизились фашисты и кинули гранату. Она ещё дымилась. Я схватил её и швырнул обратно. Взрыв! Немцы убежали, бросив в панике ручной пулемёт, который нам потом очень пригодился».
Героями «тетрадочных» записей были и тыловики:
«Повар Орлов, повозные Фролов и Филин потащили на позицию кухню и боеприпасы. Обозников жестоко обстреляли. Всё же они сварили обед в лощинке и разнесли суп в вёдрах и цинки с патронами прямо к рабочим местам бойцов, не считаясь с вражеским огнём».
В ту пору медаль была очень большой редкостью. Наградой служил приём в партию или в комсомол. Вот одна из записей:
«Сегодня приняли в комсомол сандружинницу Нину Васильеву. Она вынесла из-под огня 15 раненых…».
О наших ОКОПНЫХ ТЕТРАДЯХ пошла молва и докатилась до товарищей по перу. Некоторые городские корреспонденты прямо заявляли, что в этой землянке под Пулковскими высотами всегда можно найти свежий материал и… использовать его в своей газете!
Однако стопка школьных тетрадей иссякла. Меня отпустили домой на побывку. (С кем? С прошлыми светлыми творческими днями? С родными книгами?..) И я, старательно полазив по ящикам и антресолям, обнаружил несколько школьных альбомов для рисования! А что? Тоже в дело пойдут! Бумага поплотнее, листы пошире!..
Ополченец, художник-профессионал Непомнящий (между прочим, он был одним из авторов оформления советского павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Вот какие кадры были у нас среди ополченцев! Залюбуешься!) стал оформлять ОКОПНЫЕ АЛЬБОМЫ веньетками и даже зарисовками с натуры. Так мы превратились в окопный иллюстрированный журнал!
Вскоре у ОКОПНЫХ АЛЬБОМОВ появилась и ещё одна функция. Они стали исходным материалом для репертуара ансамбля песни и пляски нашей армии. Мне поручили помочь театральному режиссёру Морщихину** собрать труппу из числа блокадников. Мы обходили знакомые нам адреса, а также зачастую госпитали и больницы и приглашали на работу и… на войну профессиональных музыкантов и чтецов. Отощавшие за зиму мастера искусства были поставлены на красноармейское довольствие и с жаром принялись за репетиции и выступления!
И кинодокументалистике помогли БЛОКАДНЫЕ АЛЬБОМЫ! Нам с кинорежиссёром Сергеем Якушевым было поручено обобщить опыт снайперского движения. Мы не стали мудрить с названием киноленты и назвали её просто и чётко: «Снайперы».[16]
Лично я слышал, как прогремели первые сверхметкие выстрелы людей, имена которых стали легендарными: Феодосия Смолячко в а, Александра Говорухина, Николая Остудина и Ивана Добрика.*** Прямо для фильма подошли краткие записи ОКОННЫХ АЛЬБОМОВ:
«Немец споткнулся о пулю снайпера Смолячкова».
«Нынче Гитлер недосчитался двоих вояк с помощью Добрика».
«Три выстрела – три трупа».
«Смертоносная бухгалтерия снайперов»…
Кое-что из таких же записей пошло в дикторские тексты выпусков кинохроники и для режиссёра Валерия Соловцева к его фильму «Прорыв блокады Ленинграда»…
… Спустя многие годы, рассказывая об ОКОПНЫХ ТЕТРАДЯХ и АЛЬБОМАХ, я неизменно подчеркиваю, что вижу их кровное родство с автографами Победы на рейхстаге в мае 1945 года:
«Дошел от Невы до Шпрее военкор старший лейтенант Н.А. Сотников».
А ведь без ОКОПНЫХ ТЕТРАДЕЙ не было бы и этого автографа.
Краткий комментарий, без которого современный читатель может не всё понять
Автор комментариев Н.Н. Сотников
* Кукушка – в значении вражеский снайпер, который прятался, как правило, среди листвы или хвои высоких деревьев, иногда для таких снайперов специально оборудовалось «гнездо» с тайниками боеприпасов и продуктов. Впервые образный этот термин появился в Финскую, так называемую Зимнюю, войну, но в годы Великой Отечественной войны его перенесли не только ветераны, участники Зимней войны, но и людская молва.
В нынешнее время некоторые негодяи из числа демопредателей стали на страницах прессы вообще отрицать существование финских кукушек, утверждая, что это – «миф русской пропаганды»! Сами-то эти авторы уж точно – и не патриоты, и не русские.
Затем он получил название «Снайперы Ленинградского фронта».
** С Морщихиным у меня, как у сына автора и его правового и духовного наследника; выходила какая-то незадача. К именам первого ранга в истории ленинградского драматического театра он не относился; ветеранов среди театральных работников и зрителей-театралов той; уже далёкой поры, я не застал. Не мог я и опознать Морщихина среди тех участников ансамбля 42-й армии; которые сфотографировались на память.
Как всегда бывает в таких случаях; помогли совершенно неожиданные обстоятельства. Отец в одном из черновиков по-дружески назвал режиссёра: «Наш знаменитый бородач». Я пригляделся… С бородой и примерно ТОГО возраста только один. Это и есть Морщихин! Позже я, опять же случайно; узнал его инициалы: С. Л. Морщихин. Удивился; оказывается; ещё до войны он был не очередным; а ГЛАВНЫМ режиссёром нашего Театра Ленинского комсомола; получившего ныне космополитическое прозвище «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ». Это – опять же – к вопросу о «кукушках»! В другом тексте я вычитал; что Морщихин одно время партизанил (?); а в другом – был командиром роты (!). Очень я порадовался; узнав; что Морщихин дожил до Победы и после войны работал в Театре имени Ленинского комсомола. Отец Морщихина уважал и ценил.
*** Теперь – о снайперах. Каждый ли, даже умелый и опытный боец, может быть снайпером? Нет! В Советской Армии в мотострелковом взводе предусматривались по штату один гранатомётчик (не ручной; а из специального гранатомёта) и один снайпер с оптической винтовкой. В редчайших случаях эта схема переносилась на отделение; то есть снайпером был один из 10 солдат. Казалось бы, из оптической винтовки стрелять удобнее… И да, и нет! Нужен особый навык; более того – особые склонности. Как мне говорили ветераны; очень ценились охотники-промысловики; пулевые стрелки-спортсмены. Прекрасными снайперами были горцы; представители маленького народа тафалароВ; про которых говорят; что их мальчики рождаются с ружьём.
Изредка снайперами были женщины. Мне встретилась цифра по Ленинградскому фронту: 4500 снайперов за всё время обороны Ленинграда. Что-то уж больно много! Почти – свежая бригада; на манер той; которой у нас на Ленинградском фронте; делая смелые и рисковые рейды, командовал мой автор и старший товарищ Яков Потехин (я был редактором серии его очерков «Юность боевая»)! Нет, цифра явно завышена. Важно понять; какой минимальный был отсчёт. Например; Смолячков уложил почти целую роту фашистов! Вот это результативность!
А ведь были бойцы; которые НАВЕРНЯКА не могли сказать; что пригвоздили хоть одного врага. Выходит, снайперы «отдувались» и за таких неумех. Только ли неумех?!.
«Снайпер в разведку не годится! Он мне всех языков перебьёт!» – говорил мне один ветеран. Психологический фактор! Вот что самое главное. Слишком горячий человек – плохой снайпер, флегматик – тоже. Слишком азартный – быстро себя выдаст и погибнет. Лишённый боевого азарта резко снизит свои показатели.
«Снайпер – это особый талант!» – говорил мне на студенческих сборах под Выборгом мой любимый командир и педагог мотострелок высшего класса капитан А. И. Кажданов и признавался: «Вот я – из лесников, с охотой с детства в ладах, а чувствую, что в современном бою в снайперы не пригожусь. Есть ещё один момент: снайпер – истребитель. Он сеет смерть. Он видит в оптический прицел результат своего труда. Снайперу нет смысла за редчайшими исключениями (а они на войне бывали!) ранить врага. Среди снайперов часто встречаются люди дерзкие, с вызовом, с элементами хвастовства, горделивости. Пай-мальчик никогда снайпером не станет, а вот дворовый озорник, ребячий заводила – другое дело…».
Прав был наш Авенир Иванович! Мне и отец говорил о том, что все снайперы, с которыми он общался, были по характерам люди отнюдь не сахарные. Например, Смолячков мог и нагрубить старшему по званию. Отец ему годился в отцы, а Феодосий отнюдь не почтительно спросил его: «Ну, что, журналист, только смотреть будете или сами захотите винтовочку попробовать?» Отец не пришёл в восторг от такого вопроса в таком тоне, но ответил: «Чего ж, в Гражданскую приходилось из карабина на скаку стрелять! Давай винтовку и командуй!» Так отец подстрелил одного немца, а Смолячков спрашивает: «На кого записывать будем?» Отец тут же ответил: «На Вас, Феодосий. Я-то ведь в основном словами стреляю». Второго немца отец убил из пистолета в Берлине, отомстив за гибель своего друга-однополчанина по редакции газеты 61-й армии. Получается, что за всю войну – «приделал» только двух. Немало размышлял я о результативности боевых дел.
А вообще-то тема «Снайпер и современность» не закрыта. В Афганистане, например, наши парни стреляли из трофейных английских снайперских винтовок на расстояние около полутора километров! Об этом мне, как редактору военного сборника «Поверка», поведал один из авторов.
P.S. Лично я видел образцы «Книжек снайпера» в музее Западного военного округа, но – за стеклянной витриной. Посему отчётность мне проанализировать не удалось.
Н.А. Сотников. Три встречи с будущим патриархом
Для меня с самого начала моей журналистской деятельности (а началась она ещё в Красной Армии в годы Гражданской войны) заголовок – основа основ. Пока не придумаю заголовок, не могу писать, хоть убей! У этого очерка сменилось несколько заголовков, и все они меня не устраивали. Первый был «В старом храме». Храмов много, не все они православные, да и что, в сущности, такое название отразит? «Заказной фильм» тоже не годится: сколько их было, есть и будет на наших студиях!.. «Особое задание фронтовому сценаристу» – это уже ближе к действительности, но в этом названии нет адреса и вовсе не понять, какого рода это было задание. А вот последний вариант при всей простоте меня вполне устроил. Каждый более менее сведущий человек поймёт, что речь идет об Алексии (Симанском), митрополите Ленинградском и Новгородском, будущем патриархе Московском и всея Руси. Из заголовка не следует только, когда эти были встречи, ибо где, понятно – скорее всего, именно в Ленинграде.
Именно в Ленинграде, на Ленинградском фронте (а где был город, где фронт, даже бывалый воин порой затруднится точно указать) я продолжил свою работу как кинодокументалист, как драматург. Меня отозвали, откомандировали с фронта на Объединенную киностудию, которая имела базой студию Ленкинохроники (ЛКХ, как её по привычке до сих пор именуют ветераны кинодокументалистики). О своей сценарной работе в блокадном Ленинграде я рассказал в очерке «Вот мой отчёт перед Победой». Об одной работе только я в нём не сказал ни слова – о фильме с длинным названием «Сбор ленинградскими верующими денег и драгоценностей на танковую колонну имени Дмитрия Донского и эскадрилию имени Александра Невского». Не очень-то завлекательно звучит, слишком скупо и пространно, но тут я не волен был что-то менять. Вообще в этом фильме от меня как от драматурга мало что зависело. Я выступал больше в роли продюсера, организатора, уполномоченного распорядителя, прораба, но и, конечно, всё-таки автора сценария и дикторского текста.
Скажу сразу – это был приказ, боевое задание и, как мне намекнули, задание правительственное. Фильм предназначался для показа за рубежом, цели имел пропагандистские, должен был способствовать открытию Второго фронта, а уже одно это не могло не вдохновить военкора и военного фронтового сценариста в блокадном Ленинграде!
С самого начала фильму были созданы максимально привилегированные условия – и не только по военным, блокадным меркам. Он должен был в производственном отношении идти по «зелёной улице». Высокие полномочия давались на период работы над фильмом и мне. Во всяком случае, я таких более никогда не имел. Любая моя просьба по этому фильму воспринималась как приказ.
Совсем не простым было для меня и решение испросить согласие стать консультантом этого фильма митрополита Алексия. О нём я знал очень мало, даже не представляя себе, как он выглядит, совершенно не ведал его биографии, вкусов, пристрастий. Ведь драматург должен работать с научным консультантом, находить с ним общий язык, быть его единомышленником…
Научным консультантом… А тут в лучшем случае богословие!.. Единомышленником!.. Это меня смущало более всего.
Я вырос в рабочей семье. Когда современные историки и философы говорят об атеизме пролетариата в России в начале века, они ничего не преувеличивают. Я знал друзей отца, участника революционных событий 1905 года, знал его товарищей по депо в Полтаве, бывал во многих рабочих семьях. Редко у кого были иконы, ещё реже горела лампада. На вопрос или красноречивое молчание гостя хозяин отмахивался: «Для матери (или для тёщи) держу…». В красном углу у рабочих чаще всего бывала нехитрая книжная полка с дешёвыми изданиями легального характера. Нелегальную литературу тщательно прятали. Один деповский слесарь так прямо держал листовки за окладом тёщиной иконы!
В церковь не ходили, церковные праздники не отмечали. Разве что Рождество, но в каком-то украинско-патриархальном духе и то, больше в Диканьке, а не в Полтаве. В Диканьке – другое дело. Но тоже ни фанатизма, ни точного следования церковному календарю не припомню. Очень многое делалось по привычки, по-бытовому, по-житейски. Ни одного церковного ортодокса или фанатика тем паче не припомню.
Думаю, что лучше всего это время в плане отношения к религии охарактеризовал Александр Петрович Довженко в своей гениальной, пленительной и до сих пор неразгаданной, как и всё прекрасное, кинопоэме в прозе «Зачарованная Десна»: «…У нас на Украине простые люди в Бога не особенно верили. Персонально верили больше в святых, в Матерь Божью, в Николая Угодника, Пантелеймона, Илью, верили также в нечистую силу. Самого же бога не то, чтоб не признавали, а просто из деликатности не отваживались утруждать непосредственно. Повседневные свои интересы простые люди хорошего воспитания, к которым относилась и наша семья, считали по скромности недостойными божественного вмешательства. Поэтому с молитвами обращались в более мелкие инстанции, к тому же Николаю, Петру и прочим. У женщин была своя стёжка – они доверяли свои жалобы Божьей Матери, а та уже передавала Сыну или Духу Святому в виде голубя. Верили в праздники. Помнится, баба нередко говорила мне: “А чтоб побило тебя святое Рождество” или “Побей его, святая Пасха”». А дальше – текст ещё остроумнее, ещё лукавее. Прочтите, не пожалеете!
Александра Петровича я знал лично по секции драматургии в Москве, но за суетой и спешкой так и не удалось поговорить спокойно, неторопливо, по душам, в том числе – и об Украине времён нашего детства. Он ведь был старше меня всего на шесть лет! И дороги наши часто пересекались. От Полтавщины до Черниговщины, от Сосниц до Диканьки не так уж далеко даже по тем временам, а по нынешним – и тем паче! Меня под Житомиром ранили, а его чуть было белополяки не расстреляли. Он был участником освободительного похода Красной Армии на Западную Украину. Довелось принять участие в этом походе и мне. Может быть, мы и разминулись где-то во Львове… Он создавал свои документальные фильмы об освобождении Украины, а я – о защитниках Ленинграда. А после войны мы были членами одной творческой секции в одном творческом Союзе – Союзе писателей. Чувствую свою вину перед его творчеством – больше я знал и ценил его как автора довоенных произведений. Обо всём его творчестве в полном объёме, в том числе и о «Зачарованной Десне» я узнал лишь в середине 60-х годов, когда мой сын Николай стал пристально изучать жизнь и творчество Довженко и советовался со мной как с писателем и ровесником века.
Убеждён, что у нас с Довженко были бы во многом сходные оценки, в том числе и атеистичности трудового народа. Опубликованные в четырёхтомном собрании сочинений Довженко отрывки из его сценария «Гибель богов» ошеломили меня и заставили вспомнить литературные полотна Рабле и Свифта.
Когда я стал учащимся Полтавского реального училища, произошло моё столкновение с законом Божьим как обязательным предметом, а также церковными порядками и наставлениями, пронизывающими школьную жизнь. Я советовался с отцом, и отец убеждённо доказывал мне, что сейчас в России нет другого пути получить образование: «Учи эти сказки, значения им не придавай. Главное, чтобы они тебе учиться другим предметам не мешали…». Но ведь были ещё унизительная исповедь, обязательность посещёния богослужений, вечная и неотступная борьба свободной мысли с церковными догматами. В младших и средних классах я сдерживался, а вот на выпускных экзаменах не удержался – отвечал на вопросы довольно произвольно, хотя и гладко, но хитровато. Принимал экзамены какой-то большой чин церковный, кажется, архиепископ. Он выглядел усталым, опечаленным, слушал рассеянно. Мне поставил «отлично» и лишь потом добавил: «И всё же отвечать вам, молодой человек, следовало по синодальным книгам, а не по роману Мережковского!» Вероятно, он чувствовал, что время грядёт иное, оно надвигается, оно уже за окнами…
На исповедяхя исправно каялся в кражах яблок, в невыученных уроках, в мелких шалостях. Уроков невыученных у меня не было, яблок не крал никогда, а шалить просто не было времени. Но ведь о чём-то надо было говорить! Не о сомнениях же в догматах христианства!
А дальше я расстался с церковью и религией надолго. В Гражданскую войну вспоминал о них только тогда, когда с колоколен поливали нас свинцом белогвардейские пулемёты. Никаких проявлений религиозности у бойцов, товарищей своих, не видел ни в бригаде Котовского, ни в санпоездах. «Мама!» – перед смертью кричали или шептали, женские имена произносили с последней надеждой и тоской, ругались страшно от боли невыносимой предсмертной. Имя божье не слышал, готов поклясться!
После окончания Гражданской войны стал заниматься издательской работой, газетной журналистикой, кинематографом. Специально с церковной тематикой не соприкасался. В 1928 году в Москве познакомился с автором музыки гимна «Интернационал» Пьером Дегейтером, увлекся историей французского шансона, насквозь атеистической по своему духу!
Недавно разбирал свои чудом сохранившиеся после блокадных ленинградских зим архивы и нашёл свою корреспонденцию, написанную мною в 1934 году в Донбассе. Это единственный мой довоенный материал на атеистическую тему. Цитирую эту корреспонденцию дословно:
Летчики и проповедники
В городе сенсация. Два колхозника прилетели призываться. Прилетели на своём колхозном самолёте! Сами вели машину. Искусно приземлились на аэродроме и пошли на призывной пункт. Как это ни странно и ни чудесно, но первые учлёты вышли из среды вековечных и заядлых пацифистов-меннони-тов. Дело происходило в донецких степях в пятидесяти километрах от райцентра Сталино.
Нелюдимо, замкнуто жило это небольшое племя. Сквозь века оно пронесло отвращение ко всяческому оружию. Вышло это племя давным-давно из Северной Германии. Были меннониты хорошими скотоводами, выращивали высокоудойную немецкую «красную» корову. Жили прочно, богато. Однако король Фридрих потребовал от них рекрутов, и меннониты, легко снявшись с места, перекочевали в Голландию.
Нидерланды тоже вели войны и тоже нуждались в солдатах, но менонитское племя решительно воевать не хотело. На сей раз оно переселилось в Северную Америку, увозя с собою породистых, уже немецко-голландских коров и множество голландских слов, затесавшихся в их немецкую речь.
В Америке меннониты тоже не прижились. Их хотели втянуть в гражданскую войну между Севером и Югом.
Мирную обитель меннониты обрели в России, в которой начали проводить курс на освоение плодородных чернозёмных южных степей. Греков и татар Крыма привлекли на Мариупольщину, малоазийских греков – на Северный Кавказ, а немецких колонистов – в Крым. Меннонитам и их скоту дали пустовавшие земли у Хортицы и на Мелитопольщине. Слышал я, что где-то у запорожского острова чуть ли не до Днепростроевских времён хранился «священный дуб» меннонитского братства. Вот отсюда-то и перекочевала большая часть меннонитов в екатеринославскую степь, и в районе Юзовки образовалось несколько немецко-голландско – американских колоний.
С колонистами был заключён полюбовный договор – воевать их не пошлют, а военную службу им придётся отбывать на охране лесных угодий. И новобранцы-меннониты по нескольку лет охраняли поволжские леса, не прикасаясь к «дьявольскому» оружию.
Пришла революция и к меннонитам. Кулачество частью разбежалось, частью эмигрировало. Оставшиеся пошли в колхозы, из бедняцкой среды выходили сельские активисты, председатели колхозов и сельсоветов. Но кое-что от меннонитских заповедей уцелело до наших дней.
И вот однажды в колонии под названием Немецкая Михайловка появился… самолёт. Надо сказать, что колонии как таковой уже к тому времени не существовало – был колхоз имени Тельмана. Среди ребят оказалось немало увлечённых техникой. И задумали они купить себе самолёт! Районный аэроклуб пошёл им навстречу: помог построить и оборудовать ангар, приобрести самолёт и планер, прислал специалистов – лётчика-инструктора Соскова и техника Сидорова. Так образовался первый колхозный филиал аэроклуба, и над весенними полями целыми днями стал гудеть самолёт, окончательно привившийся, как и трактор, и комбайн, к сельской обстановке.
Немало упреков выслушали ребята в свой адрес! Аэродром – площадка со скошенной травой – считалась у стариков-меннонитов проклятым местом. Стариков раздражало всё, связанное с авиацией: полотняное «Т» на траве, красный флажок у старта с призывами на немецком языке овладевать техникой, красный крест на повязке дежурной медсестры, тоже молодой колхозницы. Возмущали стариков и военная выправка учлётов, и четкие слова команд:
– Внимание! – Есть внимание!..
«Неужели изменят вере? Неужели пойдут воевать?» – с ужасом думали старики. Ведь ни они, ни их предки и в мыслях такого не имели!
Пошли по селу споры, ссоры, пересуды. Зашевелились проповедники. Заинтересовались «зарубежные братья». В сумке сельского почтальона появилось немало писем с голландскими, немецкими и английскими марками. Прославились молодые меннониты на весь мир! А им всё нипочём!
– Контакт! – Есть контакт! – весело бросал в ответ очередной учлёт, держась за ручку управления и взвиваясь под облака.
«Вернётся или не вернётся? – холодея от ужаса, с тоской думал седоусый папаша, поглядывая в небо и посасывая трубку. – А вдруг совсем улетит?..»
И улетали. Осенью, когда требовательный инструктор увидел, что его «У-2» находится в твёрдых надёжных руках, были разрешены и дальние полёты. Относительно дальние, конечно. И первым маршрутом стал призывной пункт РККА. Десять потомков меннонитов не пожелали расставаться с самолётами и попросились на службу в авиацию. Это были первые люди из племени меннонитов, сознательно взявшиеся за оружие. И тогда же последний в колонии проповедник публично сложил своё «оружие».
Корреспонденция эта выдержала несколько изданий. Был ещё расширенный вариант, где более подробно освещалась история меннонитов; был вариант; где больше внимания уделялось технической стороне дела; одна из газет попросила меня сосредоточить внимание на делах организационных; оборонно-массовых. Но базовым; основным стал этот текст.
В Донбассе я главным образом работал для «Известий»; для газеты «Социалистический Донбасс»; для районных газет. Основная тема – тема рабочего класса; ударничества; рабочего мастерства. Корреспонденция о меннонитах стояла несколько особняком. Просто подвернулся случай; я увлёкся; написал…
В том же 1934 году но уже в Ленинграде я встречался с народовольцем академиком Н. А. Морозовым на предмет съёмок фильма о нём для кинолетописи о замечательных людях науки; культуры; искусства. Н. А. Морозов был атеистом до мозга костей. Свои убеждения он подкреплял бесчисленными примерами из разных научных сфер; ибо был энциклопедически образованным человеком; сумевшим во многие науки внести свой вклад, порою весьма весомый. Был Николай Александрович одержим одной идеей; в которой он меня убедить не смог, несмотря на всё своё красноречие. Он поверял и алгеброй гармонию; и астрономией историю и приходил к выводам; что раннего средневековья нет вообще (!); просто произошла ошибка в летоисчислении на несколько веков. Свои идеи он пропагандировал печатно к великому ужасу тех учёных, которые профессионально изучали как раз раннее средневековье. Николай Александрович; посмеиваясь; рассказывал мне, что один историк и одновременно искусствовед; знаток раннего средневековья; просто умолял его прекратить утверждать и пропагандировать свои тезисы: «Что же Вы делаете! Вы просто меня губите! Выходиу я всю жизнь занимался тем, чего нет! Вы учёный разносторонний; универсальный. Обратитесь к другим вопросам; проблемам; темам. А я – однолюб. У меня ничего нет кроме моей специальности. Я её люблю, служу ей!» Завершал свой рассказ Морозов печально; сочувственно; но твёрдо: «Я ему ответил; что в любом случае он жил и работал не зря, но всё; что он изучил – не раннее средневековье; а более позднее время. Все признаки; черты; описания; особенно материальной культуры; сохраняют своё значение…». Но историк был в отчаянье!
Скажу честно: я тоже после этого рассказа испытал подлинное потрясение. Неужели всё было позже; чем мы думали? Чем привыкли думать? И герои «Гамлета» ближе стоят ко времени; в котором жил их автор; их творец – великий Шекспир? Если мы, материалисты; пришли в паническое состояние от гипотезы Морозова; то каково было церковникам; причём представителям многих вероучений и религий? Так называемые «отцы церкви» вообще «провисали» в безвоздушном, внеисторическом пространстве!
К сожалению, продолжить спор с Морозовым я не смог – жизнь сегодняшняя текущая, в которой год решал десятилетия, а месяц – годы, требовала внимания к себе, диктовала свои, порою очень жёсткие условия. Да и новые творческие планы, прежде всего в области кинодраматургии, решительно отвлекли меня (уже в который раз) от религиозной сферы.
«Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и не герой» – это был не только девиз нашего времени, но главная строка гимна, музыку к которому писал мой любимый герой французский рабочий шансонье Пьер Дегейтер.
И вот – блокада, срочное задание, ожидание встречи с одним из самых видных и авторитетных деятелей православной церкви – митрополитом Алексием. О чём нам с ним говорить? Как? Где? Возникали десятки вопросов, требующих конкретного разрешения.
В конце концов я твёрдо решил, что наше общение может носить только общегражданский характер. Мы оба – граждане великой страны, которая борется со смертельным врагом – немецким фашизмом. В победе над этим врагом – наша общая цель. Верующие, собирающие деньги и драгоценности для постройки танков и самолетов, тоже прежде всего – граждане нашей страны, русские патриоты. Эта линия должна быть главной. Всё остальное – фон. Фильм этот кроме всего прочего – государственный, заказывает его государство. Это тоже очень важная деталь. Она должна стать и аргументом, и компасом.
А иначе и быть не могло! Я тогда так думал и сейчас твердо стою на этом убеждении. Что же было иначе делать? Пускаться в дискуссии, вести беседы о догматах, о символах веры, уточнять какие-то тонкости обрядовые?.. Пытаться переубеждать в главном одного из ведущих церковных деятелей? Ни в коем случае! Он свой жизненный выбор уже сделал. В своё время свой жизненный выбор сделал и я. А сейчас, в блокадном Ленинграде? Верующие молятся за успехи нашей Красной Армии, за скорейший прорыв блокады. Я сам слышал в храмах гневные проповеди в адрес фашистских извергов, во славу нашего оружия. Вот это и надо показать.
Впрочем… Ведь сдавать деньги и драгоценности можно и не через храм, а непосредственно властям. Были и разовые сборы, и пункты приёма пожертвований. Сугубо светские, конечно. Почему же такие значительные средства собрала именно церковь? Вероятно, есть люди, для которых в самом акте передачи последнего, заветного, потаённого через церковь есть особый смысл. Это действие как бы освящается у верующего, наполняется особым содержанием. Позже я убедился в том, что и процедура приёма денег и драгоценностей в храмах была торжественнее, возвышеннее и, я бы сказал, человечнее. На пунктах приёма как бывало? Принёс? Молодец! Давай сюда. Распишись. Следующий!.. Очередь есть очередь. А кто-то из чиновников мог и неделикатность допустить, и видом своим (а то и словом!) выдать свою реакцию на сумму или характер принесённого. Конвейер, поток, обычная бюрократия. Сцены же приёма пожертвования в храме, которые мы снимали, выглядели трогательно, человечнее, обставлялось дарение торжественнее, принимались дары почтительнее, благодарнее. В этом плане наши официальные светские организаторы и распорядители безусловно проигрывали.
Ещё в большей степени мы проигрывали в обрядах ритуальных. Крестин и венчаний мне в блокадном Ленинграде видеть не довелось, а вот что касается отпеваний, то этот обряд в годину военную вызывал особый эмоциональный подъём – и не только у верующих. Почему, наверное, и объяснять не надо: стремительно падала цена человеческой жизни, налёты, артобстрелы, голод, болезни, антисанитария, обилие трупов всюду – на ближнем фронте, на дорогах, на Неве, реках и каналах, в парадных, на лестницах, в квартирах, во дворах, тела, лежащие вповалку на грузовиках, братские могилы, мечта умирающего… быть похороненным и в гробу – всё это либо сводило с ума, либо к этому привыкали, что ещё страшнее.
Разумеется, число отпеваний в блокадные дни было невелико, но они были и сильно контрастировали со всеми повседневными проводами навсегда. Да что греха таить, и на фронте далеко не всегда мы делали всё, чтобы на глазах у оставшихся жить и воевать отдать последний долг только что бывшему среди нас товарищу. Редко звучали и прощальные залпы – берегли боеприпасы, а уж место захоронения очень редко прочно отмечалось и зримо, и в памяти людской.
Я думаю, что мало кто всерьёз верил в мир загробный, мало кто понимал смысл и характер молитвенных слов, однако, уцелевшая красота и парадная торжественность в церквах и соборах чистота и опрятность обстановки сильно контрастировала с блокадным бытом. И в этом тоже была одна из причин определенного подъёма церкви в годы войны в целом и блокады в частности.
В эти страшные времена возросла неизвестность, непредсказуемость не только завтрашнего дня, но и будущей минуты – шальная пуля на фронте, шальной снаряд, неожиданно прорвавшийся бомбардировщик с метким лётчиком… Психологи и врачи говорят, что даже здоровый человек тяжело переносит замкнутое пространство, особенно долгое время. А неизвестность, помноженная на замкнутое пространство и дополненная изнурительным голодом и повсеместным горем, была особенно мучительной. Неизвестность в отношении себя. А в отношении близких, родных, друзей?.. Кто-то из них погибал рядом с тобой, у тебя на глазах, и это умирание мгновенное или тягостно долгое, как пытка, было всё же известностью. А какие картины дантова ада рисовались человеку, у которого родные оказались в фашистском плену, в концлагере, в окружении, беженцами на фронтовых дорогах да ещё с детьми малыми?.. Страшно даже представить себе!
Опять же, не поверю ни за что, будто каждый пришедший в церковь в ту пору надеялся на какое-то посредничество, мистическое заступничество, верил в то, что его просьба будет в каких-то небесных инстанциях услышана, и родной человек будет тем самым спасён.
Однако готов поверить в то, что в экстремальных условиях человек, имевший определённую психическую предрасположенность к вере в сверхъестественное, имевший в детстве определенное целенаправленное воспитание, может стать убеждённым верующим.
Однажды меня познакомили с молодым ленинградским прозаиком, который советовался со мной, можно ли один из его рассказов инсценировать. И драматургическое решение, и фактура меня потрясла. Прежде всего своей логичностью и документальностью. О чём шла речь в рассказе, который мог бы стать основой и для спектакля, и для кинофильма?
В одном из ленинградских пригородов (у меня были и точные адреса, и даже фамилии, но я не хочу сейчас их называть) в день 9 Мая к братской могиле защитников и освободителей родной земли депутация райцентра возлагала цветы, был митинг. Среди приглашённых оказался и местный священник, в прошлом офицер-фронтовик, командир небольшого партизанского отряда, награждённый боевыми орденами (какими, сейчас не помню, но явно не полководческими – масштаб не тот!). Его районные власти тоже решили пригласить – в облачении, с крестом. Пусть все знают, что в их районе никаких гонений на церковь нет. Правда, о боевых орденах его решили не говорить, но во вступительной речи упоминалось, что наш-де батюшка – участник Великой Отечественной войны, офицер, патриот, что и воевал он недалеко отсюда – вон в тех лесах…
На празднование Дня Победы (а дата была видная, кажется, чуть ли ни ХХ-летие Победы!) приехали и бывшие земляки, и те, кто райцентр в годы войны освобождал. Священник (назовем его отец Игнатий) был очень грустен, даже удручён, стоял в сторонке. К нему какой-то однорукий ветеран обратился. Отошли они от митинга. Однорукий прикурил (ловко у него это получилось!) и стал что-то с жаром отцу Игнатию рассказывать. Тот слушал, слушал, высоко вскинул голову, словно по фронтовой привычке на небо посмотрел. И даже руками развёл… После этого разговора выступать он отказался, на нездоровье сославшись, подвёз его на своём «жигулёнке» какой-то знакомый до церкви. Атам несколько старушек молились, дверь была открыта. Ворвался в церковь отец Игнатий, даже не перекрестился, прошёл за алтарь, снял там облачение и вышел уже без него навсегда за порог дома божьего. Говорят, уехал он, а куда, никто не знает.
А однорукий ветеран ещё не раз в райцентр наведывался – родственники у него там были. Спросили его однажды: «Что ты такое нашему батюшке наговорил, что он сан с себя снял и уехал от нас на все четыре стороны?» И поведал ветеран такую историю.
Взвод, которым командовал молодой офицер, недавний выпускник пехотного училища, попал в окружение. Окружение всегда беда и всегда в какой-то мене неожиданность, но здесь в данном месте и в то время оно было как гром среди ясного неба! Бойцы остались без еды, без воды, многие были ранены. Взвод редел на глазах, и в какой-то миг командиру почудилось, что гибель всех и его в частности близка как никогда. И тогда ему, сельскому парню, выросшему в религиозной семье и даже молившемуся вместе с родителями в дошкольную пору, припомнились давние молитвы. Сперва умерла особенно религиозная мать, потом отец, и воспитывала его уже тётка, бесконечно далёкая по взглядам от своей старшей сестры. На молитву у командира осталась последняя надежда. Так ему показалось, так он для себя решил. И дал себе зарок: если выведет бойцов из окружения из этого чёртового болота, окаймлённого лесом, поступит в семинарию и станет священнослужителем. Молился он неустанно всю ночь, но не на виду у бойцов, конечно. А те решили, что их «Чапай думу думает»[17]*. Наутро дозорные сообщили, что каратели блокаду сняли. Открывался путь к своим. Командир так уверовал в божью помощь, что после войны выполнил свою клятву. А воевал он отлично! Некоторое время командовал партизанским отрядом вблизи от родных мест, потом, после окончательного снятия блокады Ленинграда, воевал на других фронтах, Берлин брал… Приход получил в родных краях. Был на хорошем счету у начальства церковного и у прихожан. И вдруг такой случай! Оказалось, что не дошли заветные во спасение молитвы до «адресата», просто-напросто отвлёк внимание карателей более важный для них в ту пору, чем изможденные остатки взвода, соседний партизанский отряд, в котором и воевал однорукий ветеран.
Были они с отцом Игнатием и раньше знакомы, не раз вспоминали фронт. А тут как раз у однорукого дружок по партизанскому отряду нашёлся, один из немногих, кто в живых остался. Вот и поделился новостью тут же, на митинге однорукий со своим знакомцем. Слово за слово, и, словно гром среди ясного неба, пришла весть о том, как же обстояли дела в действительности. Раньше всё как-то вокруг да около в беседах они к тем трагическим начальным дням военным подступали.
Удивительной драматургической силы материал! Пьесу молодой прозаик пробовать написать не отважился – говорил, что тогда многие заветные авторские мысли и наблюдения не найдут себе места, а всё перевести в диалог, всё подчинить драматургическим, сценическим законам не мог, не по силам было! Да и я, выслушав его, подумал, что рассказ, вероятно, в данном случае наиболее органичный жанр будет. Повесть потребовала бы слишком большого материала, а тут хороша именно недосказанность, случай обыграть лучше всего именно в рассказе. Не знаю, завершил ли своё произведение молодой прозаик, но я часто вспоминал беседу с ним, немало думал над судьбой отца Игнатия. В связи с ним вспоминал и свою давнюю корреспонденцию о лётчиках-меннонитах. Там конфликт, казалось бы, иной просматривался – православная церковь пацифистской не была, от рати воинов не отстраняла, напротив, на бои во славу Отчизны их благословляла не раз. Не представляю себе, чтобы старики-меннониты свои последние сбережения, а чаще всего последние вещи – вплоть до обручальных колец и серёжек, в девичестве ещё подаренных, – для покупки оружия предназначали.
А что я видел в Никольском соборе, где мы вели съёмки? На блюдо ложились и колечки, и ложки, и малюсенькие ложечки, может быть, единственное напоминание о родителях, о дедушках да бабушках, брошечка-заколка, запонки золотые, бусы, кулоны, стопочки серебряные, попадались и очень дорогие вещи – явно с дореволюционной поры хранившиеся у потомков купечества и дворянства.
Что самое удивительное (это я подчеркиваю как блокадник!), так это то, что люди, осуществляя этот акт дарения, подвергали себя смертельному риску. Не удивляйтесь, но это так. Во-первых, они отдавали безвозмездно свой НЗ, неприкосновенный и, чаще всего последний запас, который мог в самый критический момент продлить жизнь. Тут как на фронте. Последний снаряд помогает продержаться до прихода своих, до помощи братской. Последний кусочек хлеба (а тем более – буханка!) могли позволить продержаться какое-то время семье, не то, что одному человеку. А тут, скажем, норму прибавили, теплее на улице стало, легче стало в очереди выстоять. Во-вторых, эти пожертвователи очень рисковали по пути следования в Никольский собор – уголовные элементы знали о сборе верующими средств и случались на них нападения. В-третьих, они подвергались нажиму со стороны родных, знакомых, товарищей по работе, если те узнавали, как они распорядились с последними ценностями. Если уж вы такие бессеребрянники и такие сытые (а обмен порою шёл так, что за рояль в самые трудные месяцы на вес шла всего лишь буханка хлеба!), то отдали бы в фонд обороны гражданской, а то зачем же попам отдавать! А те жиреть на ваших подношениях будут! Такие мысли высказывались довольно часто.
Священники в годы блокады, насколько мне известно, голодали не меньше, чем все остальные. А вот искушение у них было. По договоренности с высшим руководством (мне было так сказано, но я понял, что речь шла непосредственно о Жданове) даже в самые тяжёлые месяцы блокады церквам ленинградским выдавалось некоторое количество муки и вина для причащения.
Я, конечно, был бесконечно далёк от всех этих внутрицерковных проблем и никогда не узнал бы о них, если бы не этот заказной фильм и не моё знакомство с митрополитом Алексием. Он и посвятил меня во многие заботы свои во время трёх наших встреч.
Не скрою, что при первой встрече я волновался. И дело не только в том, что материал для меня был новый, неожиданный. В конце концов, когда-то я ничего и о металлургии не знал, и о снайперском движении, и об особенностях природы Дальнего Востока. Всё это постигалось сходу, по ходу работы над фильмами. Я не был готов к этой встрече психологически! Вот что самое главное и трудное. И во многом внутренне ей противился, хотя понимал, что она необходима.
Уже первые минуты беседы с митрополитом Алексием развеяли мои опасения и сомнения. Он расположил меня к себе сразу. Могу со всей ответственностью сказать, что он был человеком мудрым, тонким, деликатным, очень образованным, светским в самом лучшем смысле этого слова. Ая, честно говоря, больше всего боялся встретить сурового монаха, диктатора, отшельника, даже фанатика. Ничего подобного!
Прежде всего, митрополит Алексий, выйдя к нам (а явился я сразу с оператором и администратором), осведомился, сыты ли мы, предложил нам чаю с хлебом и двумя кусочками колотого сахара для каждого. По тем временам – божественный пир! Он и сам в нашей трапезе принял участие. Был непринуждён, внимателен к каждому. Что особенно меня поразило, проявил отличную осведомлённость с первых же слов о положении на фронте, в блокадном городе, знали о деятельности нашей Объединенной киностудии, правда, – в самых общих чертах.
Жил он тут же, в Никольском соборе, занимая наверху одну из комнат. Но в первую нашу встречу я чести посетить сию келью удостоен не был. Он нас принял в другом помещении на втором этаже. Тут же, при нас он пригласил старосту, представил его нам, потом рассказал ему коротенько о замысле фильма, о его целях, задачах, о крайне сжатых производственных сроках. Все это говорилось обстоятельно, абсолютно современным русским языком безо всякой архаики, и это я, как литератор, отметил для себя сразу. Более всего митрополит волновался, хватит ли электрического освещёния для съёмок. Оператор не стал вдаваться в технические тонкости, но в целом сказал, что света очень мало, может ничего не получиться. В любом случае надо дать полный свет \ Свечи должны быть не только в кадре, но и освещать, выполнять функциональную роль. Староста вместе с оператором и администратором отправились смотреть электрооборудование собора. Я в эти технические дела решил не вдаваться и воспользовался временем для того, чтобы послушать митрополита.
В этот первый раз, в эту первую встречу мы говорили только о самых общих заботах, тревогах и нуждах. Прислушивались к звукам, доносившимся с неба, – не мистическим, а самым что ни на есть реальным – фашисты бомбили остервенело! И тут я впервые для себя сделал открытие – оказывается, митрополит сведущ в военных вопросах! Во время войны даже очень далекие от военного дела волей-неволей в чём-то стали разбираться. Я как журналист, киносценарист, лектор не раз слышал от казалось бы совсем неискушенных в военном деле людей и термины, и упоминание о тактико-технических данных. Кое-кто научился читать карту, многие горожане дома имели карты (не секретные, конечно, а чаще всего те, что ещё со школьных лет остались, учебные) и отмечали на них обстановку на фронтах. Но всё равно, профессионал есть профессионал. В словах же митрополита звучали нотки профессионализма. Он свободно владел военной терминологией, проводил параллели, сопоставления, упомянул о роли авиации в Первой мировой войне, знал даже калибры. А я, грешный, в этом, например, силён никогда не был. Меня как военного журналиста больше всего интересовал человек на войне, его психология. Меня эти военные познания митрополита так поразили, что я долго не мог дать им объяснения.
Но не менее хорошо митрополит разбирался и в политике. Более того, говоря о проблемах Второго фронта (чувствовалось, что он большие надежды на него возлагает, чтобы хоть немного оттянуть вражеские силы от нашей страны), он судил о политиках Запада не как читатель, сторонний наблюдатель, а как светский человек, живо представляющий себе зримо и конкретно тех или иных политических деятелей, имена которых были тогда, как говорится, на слуху. Это было моё второе удивление!
Свои удивления я старался скрыть, вида не показывал. Третье, что меня поразило, – митрополит не строил из себя начальственного оракула, эдакого небожителя, взирающего с горней высоты на происходящее. Он подошёл ко мне как гражданин к гражданину, горожанин к горожанину, патриот к патриоту. Ни разу не спросил он меня, верующий ли я, православный ли я вообще, христианин ли я даже, есть ли у меня некое представление о делах церковных, искушен ли я вообще в предмете своего изучения. А тут мне крайне важно было перейти от общего к частному. Предложить ему стать научным консультантом я не мог бы ни при каких обстоятельствах! Это же не фильм об истории архитектуры или технологии той или иной отрасли промышленности!
Наконец я избрал такую форму просьбы – нам, мол, без Вашего совета и помощи не обойтись, предмет нашего фильма таков, что лишь совместные усилия и труды пойдут на благо нашего общего дела. Несколько витиевато, но правильно по существу.
Слово «научный» я даже не упомянул, а слово «консультант» оставил. Однако как теперь провести мысль о том, что в фильме нежелательны акценты на вероисповедности? Главное – патриотизм верующих ленинградцев. Каково же было мое изумление, когда митрополит сам поднял этот вопрос! Он сказал, что сценарий и дикторский текст должны носить гражданский характер. Фильм будут смотреть не только православные, не только христиане, но самые разные зрители, в том числе и за рубежом. Все равно в коротком фильме сущности православия мы не успеем раскрыть, он посвящён лишь одной миссии церкви. На ней и надо сосредоточить внимание. Я поблагодарил митрополита за понимание природы предложенного нами жанра кинодокументалистики и выразил надежду, что он окажет содействие съёмочной группе картины на всех производственных этапах. В итоге мы решили не откладывать дела в долгий ящик. Беседа наша первая была утром, а к полудню должен был начаться очередной сбор средств от верующих.
Вернувшиеся оператор с администратором выразили удовлетворение предстоящими условиями съёмки. Они тоже волновались – и спецзаказом, и необычностью материала и характера фильма. Однако как подлинно творческие люди (а в военные и довоенные годы и администраторы таковыми являлись!) они уже загорелись: живо обсуждали детали, делились впечатлениями о невиданной для них прежде обстановке. К сожалению, делали они это слишком явно, шумно и не очень-то деликатно! Я постарался их срочно по возможности утихомирить. Митрополит, глядя на них, улыбнулся краешками губ, но неудовольствия не выразил– он понял их состояние. Вообще, способность понимать другого человека, по-моему, была заложена в этом человеке, была для него органична. Обладал он несомненно и даром предвидения. Не берусь сказать – о каких-то далеких сроках и прогнозах в отношении грядущего, но в делах конкретных он оказывался безусловно прав. Прежде всего, он посоветовал не упускать шанс – пока есть свет, нет воздушной тревоги, пока много прихожан, снять всё, что можно, сейчас. Он даже пошутил, что, мол, кинематографисты, я слышал, слишком долго седлают коней, перед тем как отправиться в путь… И я опять подумал о том, что в юности этому человеку, вероятно, приходилось, как и мне, сидеть на боевом коне.
Плёнка у нас собою была, правда, немного. Мы срочно послали администратора за «подкреплением» и людским, и материально-техническим, а сами приступили к работе.
Главная для нас проблема – реакция верующих и просто случайных людей в соборе на наше присутствие. Скрытой камерой мы снимать не могли. К тому же, этот приём в чистом виде относится к кинодокументалистике уже 60-х годов. Тогда могла речь быть о том, чтобы оператор-документалист остался незамеченным или же человек настолько был чем-то увлечён, что, зная о присутствии оператора, тут же забывал о нём.
И тут нас буквально спас сам митрополит! Он обратился ко всем присутствующим. Его голос, в частной беседе довольно тихий, прозвучал в сводах храма ораторски. Он сказал о войне, которая вторглась на нашу землю, вплотную подступила к нашему городу, поблагодарил за помощь фронту и просил собравшихся вести себя так, как всегда – фильм нужен Родине, пусть люди работают. Им в таких условиях работать трудно, непривычно, им нужно помочь. Среди собравшихся в соборе нашлись у нас и неожиданные добровольные помощники. Когда со студии прибыло «подкрепление» (второй оператор, два ассистента, два осветителя), работы прибавилось, потребовалась помощь. Прежде всего, нам пришлось постоянно менять точки съёмки и по возможности – ракурсы. Несколько моментов дарения, преподношения мы даже, набравшись смелости, попросили повторить – слишком они были выразительны, а на экране смотрелись бы плохо. Наши участники съёмок безропотно соглашались и вновь возвращались в свою очередь и даже замирали на мгновение перед аппаратом. Особенно нас волновали крупный и сверх-крупный планы. Решать весь фильм на планах средних было нельзя. Широкоугольных объективов у нас не было в ту пору. Общий план, панорама получались плохо. Возникала монотонность… Требовались контрастные перебивки. Вы скажете, что всё это режиссёрское дело, а не сценарное. И да, и нет, но я и не был сценаристом в чистом, так сказать, виде. Мне было с самого начала сказано, что моя задача – организация съёмок и фильма в целом.
Снимали мы, конечно, с запасом, операторы постоянно работали с диафрагмой – этот свет для них был принципиально новым, он и падал и распространялся совсем не так, как в других помещёниях, где им, хроникёрам, приходилось раньше работать, – в цехах, в клубах, в конференц-залах и т. д. Они снимали бесконечные митинги, собрания, заседания, пролёты цехов и ферм. Встречались и красивые интерьеры, и стройные радующие глаз колонны, но здесь после тревожного мрака блокадных помещёний всё казалось сказочным, таинственно-праздничным, и это чувство передалось всем нам.
Так кто же проходил перед нами, перед нашими объективами в тот небывалый съёмочный день?
В основном всё же старики и старухи, встречались мужчины-инвалиды средних лет, увечные солдаты (они явно уже были демобилизованы), женщины средних лет. Именно они оставили самое горестное впечатление – я почему-то думаю, что всех их в собор привели утраты, утраты невозвратимые. Было несколько детей, но эти дети не сами пришли, а привели своих бабушек… Все они приходили внести свою лепту в будущие самолёты и танки. Службы (во всяком случае, при нас) не было. Некоторые прихожане молились в сторонке. Собор большой – места хватало всем пришедшим. Редко кто сразу уходил: медленно ходили по собору, как по музейному залу, подходили к иконам, всматривались в них, шёпотом спрашивали что-то друг у друга… Чувствовалось, что многие ничего не знают о церковном убранстве и утвари и имеют лишь самое общее представление о назначении тех или иных предметов. Были и истово молящиеся, не видевшие и не слышавшие вокруг себя ничего. Невольным свидетелем такого откровения мне довелось стать, когда я продолжал искать всё новые и новые точки для съёмок. Шёл, шёл и замер… Молилась старуха о внуке своём, танкисте Волховского фронта… Как-никак, я всё-таки курс закона божьего в реальном училище прослушал. Посему могу со всей определенностью сказать, что молитвенных текстов старуха не знала. Её молитва была вольным текстом сугубо светского содержания. Она шептала о том, какой славный и умненький был у неё внучок, как хотел учиться в Политехническом институте, как тяжело она прощалась с ним, как погибли все родные и близкие, как тяжело ей одной его ждать, а вестей с фронта никаких нет… Вообще по сути своей это не молитва даже и была, а людское откровение.
… Драгоценности и деньги всё стекались и стекались, всё высились и высились… Будь средь нас искусствовед, знаток ювелирного искусства, он бы наверняка сделал для себя немало открытий. Он бы живо представил себе, где и как была создана та или иная вещь, как она пришла в город на Неве, мысленно проследил бы за ней от момента приобретения до вот этого мгновения, которое мы фиксируем своими киноаппаратами. Впрочем, для этого уже нужен дар чисто литературный. И вдруг я со всей остротой ощутил неотступное желание вернуться к чисто художественным жанрам! Да куда там! Текучка взяла меня в свою блокаду…
Митрополит во время съёмок несколько раз отлучался, возвращался к нам, спрашивал, не нужна ли ещё какая-нибудь помощь, ещё какое-нибудь содействие. В конце он спросил, достаточно ли будет материала, выразил пожелание снять собор снаружи, показать на экране вход в храм…
Мы сердечно поблагодарили митрополита и поспешили на студию: нас больше всего волновало то, что извечно волнует любого кинематографиста после съёмок: как получилось?
Получилось в целом неплохо, какие-то кадры были просто открытием, но многое и не удалось по чисто техническим причинам. Мы сделали некоторые досъёмки на улицах, последовали совету митрополита и сняли собор и вход в него. Теперь я должен был садиться за написание сценарного плана и дикторского текста. На это ушло несколько дней. За это время начерно мы смонтировали материал и посмотрели его в просмотровом зале. Теперь надо было вновь обращаться к митрополиту, и я повёз ему дикторский текст и сценарный план.
Человек, хорошо знающий Ленинград, может себе живо представить, что студия от собора недалеко: студия – на Крюковом канале, собор почти рядом. Транспорта у нас не было. У митрополита был личный транспорт – лошадка и возок. Это мне хорошо запомнилось, ибо я давно в блокадном Ленинграде живых лошадей не видывал!
И вот я в его покоях на втором этаже Никольского собора. Это наша вторая встреча. Она более обстоятельная, неторопливая. Мы уже знаем друг друга и, могу сказать об этом со всей уверенностью, расположены друг к другу. Но как митрополит отнесётся к моему варианту дикторского текста?
Дикторский текст у меня вышел коротким. Я считал и сейчас считаю, что в документально-публицистической ленте он должен быть минимальным. Другое дело – научно-популярное кино, специальная тема. Тут без пояснений никакие обойтись.
Что же касается самого сценарного плана, то и тут переусложнять задачу не следовало. Люди верят в Красную Армию, верят в победу, они помогают посильно своему городу, району, дому, соседу по квартире, по лестничной площадке, но они хотят помочь и стране в целом. А как это можно сделать? Многие нетрудоспособны, немощны, голод и так изнурил их. Но их средства могут влиться в сумму, достаточную для изготовления большой и грозной боевой машины, которая (как знать!) может дойти и до Берлина в будущем. И в ней, в этой бронемашине, или в этом самолете будет и доля того, что принадлежало тебе, рядовой ленинградец] Как вы видите, ничего собственно церковного, религиозного нет. Однако организатором сбора средств выступила Русская православная церковь, средства собирались в храмах. Вот об этом и говорилось в дикторском тексте.
Сейчас, спустя многие годы, думая об этом фильме, я вспоминаю лица, глаза и руки. Это незабываемое волнующее зрелище! Боюсь, что за исключением детей, сопровождавших своих бабушек, никого уже в живых не осталось. Но до Победы многие из них дожили. В это мне очень хочется верить!
… И вот я в личных покоях митрополита. Не знаю, как живут сейчас высшие церковные чины, но митрополит Алексий жил скромно, аскетично, но по-своему уютно. На келью отшельника виденная мною комната похожа не была. Разумеется, иконы, религиозная литература, но на рабочем столе митрополита я увидел тома из второго издания собрания сочинений В. И. Ленина и первого издания собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Это не был парад книг – чувствовалось, что ними работали, отбирались специальные тома, другие же стояли на полках. В некоторых из них я успел заметить бумажные закладки.
Митрополит учтиво пригласил меня сесть, угостил, как и в прошлый раз, крепким чаем с хлебом и сахаром. Сам принял участие в чаепитии. Начали мы с обстановки на фронте нашем, на других фронтах. Иначе и быть не могло – этим жил каждый из нас\ Особых перемен за истекшее время мы не заметили. Митрополит осторожно, словно боясь огорчить меня вопросом (вдруг результаты проявки плёнки оказались печальными!), поинтересовался, как в условиях блокады работает студия – при постоянной нехватке электроэнергии, материалов, химикалей и т. д. Я по мере своих знаний и осведомлённости постарался ответить и в свою очередь очень осторожно полюбопытствовал, велико ли делопроизводство в его ведении, немало ли оно отвлекает от более важных забот и деяний.
В ответ я услышал, что канцелярия невелика, что она находится тут же, в Никольском соборе, что то, что в миру называется организационной работой, тоже важное дело и пренебрегать им ни на каком посту не следует, ибо это, в конечном счёте, связь между людьми. Меня буквально потряс рассказ митрополита о том, что верующие собирают средства на танковую колонну и эскадрилью даже за линией фронта, на оккупированной врагом территории и переправляют эти средства сюда, к нему как к митрополиту. «Потом всё собранное мы передадим руководству города для переправки на Большую землю, – сказал митрополит, – но я хочу верить, что наш фильм опередит эту отправку». С тем и приступил к чтению принесённых мною машинописных текстов. Читал спокойно, вдумчиво, никак не выражая своего отношения к прочитанному. А уж мне-то на своём веку немало пришлось повидать, как горячились консультанты, как язвили над каждой строкой коллеги, как метали грома и молнии худруки разных рангов. Один лишь человек меня потряс своей доброжелательной выдержкой и с трудом скрываемыми увлечённостью и азартом – подлинный художественный руководитель «Ленфильма» Андриан Пиотровский.
Закончив чтение, митрополит с лёгким поклоном возвратил мне рукопись и сказал, что, по его мнению, другого варианта текста и сценарного плана искать не надо и вдруг предложил на всякий случай предусмотреть и надписи на экране чисто текстовые – вдруг фильм могут смотреть люди, которым пояснительные надписи будет легче воспринимать в силу тех или иных причин, к тому же так легче будет и возможным переводчикам на другие языки.
И я вновь поразился удивительной способности митрополита говорить многое и о многом, сказав очень мало.
Мы условились, что я непременно приглашу его на просмотр, когда всё будет готово. На том мы и расстались.
Работа над фильмом шла боевыми темпами, и вскоре всё в основном было готово. И я сам отправился в Никольский собор пригласить на просмотр нашего консультанта и советчика. Разговор был очень коротким, и я его в свой актив даже не вношу. Посему дальше буду говорить о третьей, а не о четвертой нашей беседе.
На киностудиях всегда вечная неразбериха, а в военных условиях и того пуще! То зала нам не давали сразу, то механик куда-то подевался. Пришлось подождать. Я неловко пошутил о кинохаосе и попросил запастись терпением. Прошли в зал. Вдруг оказывается, какие-то нелады с проекционным аппаратом. Возникла пауза. Чтобы её уместно заполнить, я стал рассказывать о работе кинематографистов во фронтовых условиях, потом зашла речь о блокадном репертуаре, вспомнил я и довоенные фильмы, в том числе – и художественные, отметив при этом военно-историческую тему.
Митрополит очень оживился, когда я стал ему рассказывать о том, что мы собрали небольшой фонд таких фильмов, в том числе в этот фонд вошли «Александр Невский», «Богдан Хмельницкий» и «Минин и Пожарский». Я спросил, удалось ли митрополиту посмотреть эти ленты в довоенные годы. Митрополит посетовал, что ему, как духовному лицу, неудобно посещать кинотеатры, а иной возможности познакомиться с этими фильмами у него нет. Я-то по наивности думал, что у церковного руководства и кинозал есть! Ничего подобного в ту пору не имелось, оказывается.
И тут я на свой трах и риск, извинившись за отлучку, рванулся к студийному начальству – так, мол, и так, говорю, надо митрополиту фильмы о воинстве русском показать. Что у нас есть? Сейчас? Оказалось – «Александр Невский» и «Богдан Хмельницкий». Копии в хорошем состоянии, показать их можно. Я обратно в просмотровый зал. Митрополит Алексий терпеливо меня дожидается. Предлагаю ему программу – после просмотра нашего фильма (я так и сказал – НАШЕГО) можем предложить на выбор «Александра Невского» или «Богдана Хмельницкого». Митрополит улыбнулся и как-то очень добросердечно и учтиво попросил: «А можно не или, а и? И то, и другое. И нет ли у у вас “Минина и Пожарского”? Я лишь читал об этом фильме. К тому же он, хотя и о другом времени, но прямо о том, о чем и наш фильм». И он так и сказал: «НАШ». Я ответил, что в принципе можно – зал за нами до позднего вечера закреплен, но копия фильма «Минин и Пожарский» не очень хорошего качества. «Это не беда, – ответил митрополит. – Основное понять и почувствовать можно!» На моё предостережение, что это всё подряд очень утомительно, он ответил, что это его не страшит, а другой возможности может больше не представиться. Я дал команду киномеханику: «Мотор!», а сам ринулся организовывать для митрополита копии заинтересовавших его кинолент, а также какой-то, пусть самый скромный стол.
Наш фильм митрополит принял благосклонно, подтвердил свои прежние оценки сценарного плана и дикторского текста, особенно отметил качество и эмоциональную выразительность съёмок, добавив при этом, что впервые убедился в том, что документальное кино может волновать как художественное произведение. Я в свою очередь от имени руководства студии и коллег кинематографистов сердечно поблагодарил митрополита за понимание, помощь и добрые советы. Мы вместе просмотрели «Александра Невского», сделали перерыв и втроём вместе с киномехаником разделили скромную трапезу с чаепитием. Киномеханик поначалу робел, чувствовал себя неловко рядом с таким духовным лицом в облачении, а потом довольно быстро освоился и стал внимательно слушать нашу беседу.
А беседа была о русской истории. Я историческую тему очень любил и сейчас люблю – почти все мои произведения носят исторический характер. Немало читал и как читатель, и как редактор, и как автор, подбирающий материал. Историю (особенно историю искусств) как студент и слушатель с особым удовольствием изучал. Митрополит оказался очень искушенным в области истории человеком, эрудированным, мыслящим. Он знал множество фактов, умело их подавал, прекрасно вёл беседу, был демократичен и деликатен по отношению к собеседникам, слушателям. Киномеханик, видавший виды в просмотровых залах (слышимость-то неплохая!), бывший свидетелем чаще разносов и скандалов, чем неспешных бесед и поздравлений, потом сказал мне, что он просто очарован неожиданной беседой. Сам он человек в летах, неверующий, думал, что кроме молитв и цитат канонических ничего не услышит, а он вообще ничего несветского не слышал, будто беседовал с профессором вуза или музейным работником, или же литератором…
Отдохнув, мы ещё посмотрели два фильма и оба проводили митрополита до выхода, где его ждал возок. Я чуть было не забыл сказать, что, узнав о возможности просмотра художественных лент, митрополит попросил меня спуститься вниз и отпустить возницу, назвав ему примерное время окончания просмотра. Это тоже яркая черта в характере митрополита, и я её не могу не отметить.
… Прощались мы навсегда, а так, как будто – до следующей светской встречи. Больше никогда не виделись. Вскоре он стал патриархом и долгие годы возглавлял Русскую православную церковь. Для таких людей, как он, время идёт медленно, и живут они долго…
Я стал москвичом, изредка слышал упоминание о патриархе Алексии, видел его несколько раз на телеэкране. Очень он постарел. Ведь он и тогда в блокаду казался далеко не молодым человеком. Потом он умер, и я прочитал об этом. Прочитал и решился начать этот мемуарный очерк о том, как я, убеждённый атеист, встречался с будущим патриархом в осаждённом Ленинграде, как мы делали наш фильм, как беседовали… А беседовали мы как два патриота, два гражданина, мечтавших о Победе и гордых прошлым нашей сражающейся Родины.
Наш фильм увезли в Москву, говорят, – на самолёте. С тех пор я его не видел. Писатели порою сетуют – вот подарил бы свою книгу, да не могу: все экземпляры разошлись. А что от фильма остаётся! Тем более заказного?.. Да ещё такого, как этот!..
Слышал я, будто в Москве наш фильм доснимали, включали в него кадры отправки на фронт зимой из-под подмосковной Коломны танковой колонны имени Дмитрия Донского на фронт. Говорят, что какие-то кадры цитировались в фильмах о войне, но не те, что мы в Никольском соборе снимали. А как теперь проверишь, если авторства в полном смысле слова у меня в этот раз не было.
А потом я узнал, что патриарх Алексий причислен к лику святых. Выходит, я должен буду волей-неволей житие святого писать! Но это уже не мой жанр \ И я отложил уже начатый очерк в сторону. А вот теперь вернулся к нему вновь. Толчком к принятию этого решения послужил один дорожный короткий разговор.
Как-то в конце лета, когда уже дождило и осенний холод созвучен был с душевным моим состоянием, возвращался я в Москву из своего любимого Абрамцева, где жил летом. А это – по направлению к Загорску. Подсел ко мне какой-то иерей в облачении, завёл разговор о том о сём, о возрасте моём преклонном, в котором пора о божественном подумать. Я вспылил! Меня возмутила и бесцеремонность сего «ловца душ», и его невежество, которое особенно проявилось в ходе нашей короткой беседы. И я ему рассказал о бывшем патриархе, о его уме, знаниях, благородстве и деликатности. Мой невольный собеседник был поражён моей осведомлённостью в делах церковных и в тонкостях вероучения – всё-таки учили нас в реальном училище «намертво», на всю жизнь! Не скажу, что я в споре его победил, скорее, у нас ничья вышла. Он был таким агрессивным, непоследовательным, недалёким, что с ним даже спорить было не интересно. А про патриарха Алексия он вовсе непочтительно и как-то по-холопьи выразился: «Что сейчас покойника вспоминать! Теперь над нами новый патриарх – Пимен\ За его здравие и молимся!» Ну, прямо как в редакции журнала или в театре, или на киностудии – знакомые интонации, только должности по-иному называются!
Хорошо, что электричка была скорая, не всюду останавливалась, и за окном мелькнули знакомые перроны Ярославского вокзала.
Вернувшись домой, я достал из дальнего ящика письменного стола начатый очерк, перечитал его и вставил в пишущую машинку, которую мне подарило командование Первого Белорусского фронта за освещение Берлинской операции, чистый лист и набросал первые строки этого очерка.
1970–1978
Краткое пояснение о дополнение к очерку отца
Вы, уважаемые читатели, наверное обратили внимание на то, что митрополит Алексий разбирался в военном деле как профессионал. Разбирая отцовский архив, я нашёл одну неполную машинописную страничку – своеобразное дополнение к этому очерку. Вероятно, отец не успел её вставить в основной текст. Так вот, смысл этой вставки таков: митрополит в беседе с отцом обронил фразу «Третью жизнь живу: был студентом, изучал юридические науки, затем написал исследование “Комбатанты и некомбатанты в ходе боевых действий”, одно время служил в полку, где научился и верховой езде, и стрельбе, и многим другим военным премудростям, но в итоге всё же избрал путь богословский, по второму иду и поныне».
Так вот откуда у Симанского такие воинские познания! Важнейший комментарий для неспециалистов, которых подавляющее большинство. Комбатанты – это непосредственные участники боевых действий, некомбатанты – это, упрощённо говоря, мирное население, можно даже сказать, обыватели. Молодой юрист Симанский анализировал различные ситуации и определял правовое и отчасти административное положение некомбатантов. Всё это очень важные и крайне болезненные вопросы в военном XX веке.
Н.А. Сотников. Церковь зовёт к защите Родины
Обращение к верующим
… Война есть страшное и гибельное дело для того, кто предпринимает её без нужды, без правды, с жаждою грабительства и порабощения; на нём лежит позор и проклятие неба за кровь и за бедствия своих и чужих.
Но война – священное дело для тех, кто предпринимает её по необходимости, в защиту правды, Отечества. Берущие оружие в таком случае совершают подвиг правды и, приемля раны и страдания и полагая жизнь свою за однокровных своих, за Родину, идут вслед мучеников к нетленному и вечному венцу. Потому-то Церковь и благословляет эти подвиги и всё, что творит каждый русский человек для защиты своего Отечества.
Алексий, митрополит Ленинградский
Ленинград
26 июля 1941 года
(Печатается по изданию: Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сборник церковных документов. Москва, 1943 г.).
Н.А. Сотников. Зоопарк в антракте между бомбёжками
С малых лет у меня было пристрастие к миру животных и птиц. Я помнил в цирке знаменитого клоуна и дрессировщика Владимира Леонидовича Дурова и таких славных «артистов», как козёл Василий Васильевич, гусь Сократ, свинья Чушка, собачка Бишка да и сам в девять лет в Полтаве перед поступлением в реальное училище подрабатывал в передвижном цирке… ассистентом дрессировщика. Так что с дрессированными зверями и зверятами был знаком не только как зритель.
А вот как литератор до поры до времени миром животных не занимался, пока однажды в самые трагические для нашего Ленинградского зоопарка дни не оказался невольным свидетелем того, что в нескольких словах можно охарактеризовать, как небывалое явление живой природы в осаде.
В зоопарке на Петроградской стороне я оказался не по своей воле: попал под сильный артиллерийский обстрел. Слышу – разрыв, ещё разрыв. Подбегаю к стенке вольера и падаю в сугроб. Дождался отбоя тревоги, огляделся по сторонам. Всё и знакомо, и незнакомо одновременно: остатки разбитых беседок, павильонов, клеток, вольеров, перевернутые скамейки… Хаос, пустота.
Зверей я пока не вижу, но люди уже появляются. Вот стоит охранительница звериного покоя работница зоопарка Степанова, закутанная в белый широкий тулуп, прижала к груди винтовку. Притоптывая ногами, обутыми в громадные валенки, она поглядывает на термометр – на шкале больше тридцати градусов ниже нуля! Но люди работают. Вот пожилой маляр, тоже закутанный в овчину по макушку, тащит к страусиному домику охапку дощечек для ремонта. Старик прилаживается на стремянке, словно дятел, начинает стучать топором по кровле павильона.
В радиорупоре вновь загремел металлический голос:
– Внимание, внимание! Артиллерийский обстрел района продолжается.
Степанова укрылась в кирпичной постройке. Я бросился туда же. Оглушительный разрыв раздался совсем близко. Соскочил с лесенки старик и упал на снег… Ранен?.. Убит?! Нет, переждал немного, поднялся и опять взялся за топор.
– Где же звери? – спрашиваю у Степановой. – Остались ли они в живых?
– Сейчас увидим, – отвечает и идёт в ту сторону, где только что разорвался немецкий снаряд.
Заглядываю в заснеженный вольер с пробитой осколками крышей и глазам своим не верю: там красуется рослый страус эму с веером из перьев на хвосте!
Иду дальше. За одной из загородок торчат оленьи рога. Жив северянин! Тут же прыгает пушистый заяц. Я подумал: «Добыча ведь! Лакомая пища в блокадном городе! А голодные до крайности люди сберегли живность, не съели».
В соседнем вольере мечется и без того пугливая лань. К стенке прижался осмотрительный козерог.
У Невы вновь разорвался тяжёлый снаряд. По военной привычке падаю и переползаю к ближайшему обезьяннему павильону. Зверюшки перепугались и сбились в кучу.
В обезьяннике я познакомился с верной служительницей зоопарка Евдокией Ивановной Дашиной. Истерически визжала мартышка Люся. Дашина подавала больному зверьку плошку с целебным настоем:
– Ветеринар признал у Люси нервное расстройство. Лечим валерьянкой, – поведала мне Дашина, сочувственно поглаживая голову мартышки.
Ухнул ещё один снаряд. Дашина прижала к себе зверька. В клетке заметался и завопил гамадрил Густав. Какой-то двуногий фашист Густав, притаившись за пушкой «Бертой» на Вороньей горе, пытает страхом своего тёзку, а Дашина протягивает плошку с валерьяновым настоем испуганному гамадрилу.
Отправляюсь в бегемотник. Довольно шустро поднялась с места знакомая всем ленинградским довоенным ребятам Красавица. Исхудала бедняжка! Увидев меня, она явно рассчитывала на угощение, но у меня с собой только журналистский блокнот и карандаши. Разочарованная Красавица полезла в свой бывший бассейн, а вода-то там давно вымерзла!
Подоспела Дашина с кормом – маленькой охапкой сена и кучкой капустных листьев. На воле бегемоты, по наблюдениям Брема, обожают нежные цветки лотоса, но наша Красавица с удовольствием пожирала клочья хряпы: не до жиру, быть бы живу!
Но бегемотов не зря называют речными коровами: без воды им совсем беда! У Красавицы от безводья потрескалась толстая шкура. Экзотическое водяное животное болело из-за безводья и жалобно ревело.
Дашина очень жалела бегемотиху – она к ней привязалась ещё с детских лет: ведь за Красавицей ухаживал ещё с 1911 года отец, да и всё её детство прошло в зоопарке. И вот для спасения своей любимицы Дашина отправляется с двумя ведрами на Неву. По нескольку раз в день (!!!) вступал она на невский лёд, с превеликим трудом черпала воду, тащила ведра к бегемотнику, подбирала щепки, разводила костерок – нельзя же ледяной водой южное животное поливать! Зато как была счастлива Красавица, когда её добрая няня поливала её огромное тело теплой водичкой и смазывала целебной мазью!
Как видите, каждый знал своё дело и в каждодневном инструктаже не нуждался, но общее руководство в зоопарке было, и осуществлял его зоолог Николай Леонидович Соколов. Был у него в блокаду маленький кабинетик в промерзшем домике-времянке. Застал я его склонившимся над огромной канцелярской книгой. Он сидел и писал свой блокадный зоодневник, не сняв шапки-ушанки и полушубка. На мраморном письменном приборе лежали какие-то кусочки металла.
Оказывается, это трагическая коллекция осколков бомб и снарядов, которые фашисты посылали на такой «военный» объект, как зоопарк!
Сколов позволил мне прочесть несколько страниц своих записей. Вот некоторые из них:
«9 января 1942 года. Сильный артобстрел. Ранен олень-изюбрь в левую плечевую кость. У самки козерога осколком пробито левое ухо. Помощь пострадавшим животным оказана на месте».
«1941 год. Девятый день войны. Сегодня мы отправляем в глубокий тыл наибольшие ценности нашего зоосада…».
Оказывается на баржу были погружены львы, тигры, чёрная пантера, ягуар Феликс, носорог Милли, зебра, редкие обезьяны с берегов Амазонки… Оставить пришлось наиболее громоздких. Что же стало с эвакуированными животными? Значительно позднее я узнал, что баржу с редкими зверями зверски потопил вражеский бомбардировщик в одном из каналов Мариининской системы!
Листаю наугад страницу за страницей:
«10 сентября 1941 года. У слоновника разорвалась фугасная бомба. Смертельно ранена слониха Бетти. Убит сторож. Многие годы ухаживал он за ней, холил её, нежил и не пожелал уйти со своего поста…».
На слоновьем мясе довольно долго продержались звери-хищники. Смертельно голодные сотрудники не взяли себе ни кусочка слонятины!
А вот удивительная история с бизоном. Провалился он в глубокую воронку от бомбы. Пришлось вытаскивать из ямы его с помощью лебедки. Вытащили вручную!
Мое изучение блокадных дневников прерывает уже знакомая мне Дашина. Она буквально врывается в кабинет Соколова:
– Николай Леонидович! Что делать? Мелкие хищники наотрез отказываются от пустой похлёбки. Чернобурки и куницы третий день ничего не едят. Горе мне сними!
Мы все трое отправляемся к звериным клеткам. Горностаи, соболи и песцы облизываются возле пустых кормушек. Видна павшая от голода норка. Унылый волчонок сидит, понурив голову…
– Не обижайтесь на них, Евдокия Ивановна, – сокрушенно отвечает зоолог. – У хищников врождённое отвращение к растительной пище.
– Как же спасти их от голодной смерти? – с дрожью в голосе спрашивает Дашина.
– Придётся прибегнуть к военной хитрости, – отвечает, поразмыслив, Соколов, и направляется в небольшой зоомузей. Он взял чучело тетерева, извлёк из чучела опилки, подставку и набил его растительной смесью, которую тут же, на наших глазах, приготовила Дашина.
А дальше разворачивается прямо-таки кинематографическое действие, которое мне как сценаристу особенно интересно наблюдать. Лже-тетерев стоит перед чернобурой лисицей как живой. Она встрепенулась, изготовилась для прыжка… Цап! И наша лисичка с урчанием пожирает макет птицы вместе с перьями.
Соколов от радости потирает руки:
– Мы вас обманули, лисичка! Придется вам сделаться на время вегетарианкой! А это, впрочем, и полезно: во-первых, на природе хищники собирают и поедают целебные травы, а во-вторых, у них полностью исчезают глисты, неминуемые при мясном рационе.
…Тем временем артобстрел прекратился полностью, а бомбежка ещё не началась. Антракт. Да и мне пора по моим кинематографическим и журналистским делам. И всё же ближе к весне я опять заглянул в это волшебное царство.
Первое, что я услышал, это беседу двух пожилых рабочих:
– Ничего! Одолеем… Солнышко начало пригревать. Травка покажется. Оживёт наше звериное царство.
Вдруг над нашими головами послышалось птичье пенье. А может, это показалось, может, другой звук?.. Так и есть, поют! «Между небом и землей жаворонок вьётся…». Значит, птицы больше не сгорают на лету от огненных взрывов. Значит, птицы несут весть о грядущей победе!
1942–1978
Марина Кузнецова. В зоопарк блокадный – несколько шагов
Поздняя осень 2010 года. Тот же зоопарк, на том же месте и так же называется – Ленинградский зоопарк – в память о незабываемых блокадных днях. Прошло без малого 70 лет с тех пор, как автор очерка «Зоосад в осаде» фронтовой журналист и кинематографист Н. А. Сотников побывал здесь после сильного артобстрела.
Разумеется, за эти минувшие десятилетия зоопарк преобразился неузнаваемо: построены новые павильоны, вымощены дорожки, расширена территория, и все-таки, как подчеркивают горожане старших поколений, очень многое узнаваемо, и поэтому пожилым людям так легко перенестись в свои детские годы.
Тем более что некоторые павильоны – приземистые, дощатые, выглядят точно так же, как в те далёкие годы.
И вот два с половиной года назад в одном из таких павильонов своими силами, не привлекая музейщиков со стороны, сотрудники зоопарка сумели создать небольшой музей «Зоопарк в осаде».
Открываем дверь и… попадаем в комнатку смотрителя зоопарка в военные годы!.. Прежде всего, взгляд падает на своеобразный мемориал животных, которые жили здесь в самые тяжёлые месяцы осады. На стене стройными рядами прикреплены металлические с белым эмалевым покрытием указатели, висевшие на клетках в начале 40-х годов. Тур, песец, барсук, зубр, куница, бобр, росомаха, степная маленькая лисичка-корсак… Как с горечью комментирует заместительница культотдела Ольга Андреевна Лятиева, потомство все эти животные не оставили, но оставили, без сомнения, след в истории и добрую память тех блокадных ребятишек, которым они одним своим видом скрасили тяжелейшие блокадные будни.
Слева от узкого прохода стоит обычный канцелярский стол, скорее всего, – конца 30-х годов. На столе – пишущая машинка, документы, чертежи, открытки, письма и брошюры времён блокады.
Нельзя обделить вниманием радиорепродуктор и даже патефон: без блокадного радио город представить себе невозможно, а патефон звучал только лишь в редкие минуты отдыха, напоминая о мирной жизни. Среди книг в мемориальной служебной комнате почётное место занимают издания блокадного времени, в том числе – сборник стихов и песен поэтов осаждённого Ленинграда.
Как известно, цирк в блокадном Ленинграде не работал, но для жителей города и бойцов Ленинградского фронта выступали отдельные цирковые бригады, как правило, очень малочисленные. Однако́ маленький театр зверей, своеобразный цирк, работал при зоопарке. В этом театре было всего два артиста – дрессировщики И. К. Раевский и Т. С. Рукавишникова, а артистами-зверюшками «работали» медвежонок, собачка и кролик. Выступали они не только в самом зоопарке, но и в школах, и в детских домах – драгоценные минуты радости для блокадных ребят!
…Вот и всё – дальше обыкновенная дверь, ведущая в современные хозяйственные помещения. Музей так мал, что трём-четырем посетителям уже будет тесно, но зато как велика сумма впечатлений!
Николай Ударов. Заповедник самых нежных лет
Кру́жат по́ни, пони, пони разноцветные попоны, катят яркие колясочки… В зоопарке – словно в сказочке. И восторг в душе, и страшно мне! Я один, а где же старшие? Вот они стоя́т и улыбаются: им такое же катанье вспоминается. Колокольчики пускай и не валдайские. В каждом возрасте людском всегда есть даль своя. Эта очень даже маленькая даль. Вот и кончилась дошкольная езда. Пони все послушно очень тормозят. Новых предстоит катать ребят. А вот эти на сегодня накатались. Их к себе влекут другие таинства: тигров посмотреть, медведей белых, поглядеть, как в клетках скачут белки, как орёл в гнезде своём красуется… Всюду хорошо – куда ни сунься! Но вот этот вот манеж и этих пони как-то больше всех родное детство помнит.Н.А. Сотников. Ботаники вступают в бой
Да, именно так, причём, не совершив при этом ни единого выстрела и оставаясь сугубо штатскими людьми. Несомненно, в истории войн бывали случаи, когда воюющим сторонам приходилось прибегать к помощи биологов, в частности, и ботаников, но такой добровольной мобилизации на борьбу с врагом, как в годы блокады Ленинграда, ботаническая наука ещё не знала!
Если при всей моей любви к живой природе я всё же оставался и остаюсь любителем, то о царстве растений мне приходилось писать и как очеркисту, и как киносценаристу ещё с довоенных времен. Продолжил я эту дорогую для меня тему и в послевоенные годы в видовых фильмах «По Нижнему Амуру» и «По Среднему Амуру». Вот почему моё появление в блокадную пору в Ленинградском Ботаническом саду никого из сотрудников не удивило – меня уже там знали и довольно быстро и охотно, что называется, «ввели в материал».
Ленинградские ботаники сражались с врагом. Да ещё как сражались! Фашисты чувствовали силу их сопротивления и даже наступления и непрерывно били из дальнобойных пушек по этому самому мирному островку Невской дельты.
Буквально два слова о предыстории этого царства редких и редчайших растений, рождённого по велению Петра Первого в 1714 году. Этот царский указ учреждал «аптекарский огород», поначалу исключительно в лечебных целях. Спустя сто лет сей «огород» был объявлен уже Ботаническим садом, а ещё через сто лет он стал отделом Ботанического института и наконец – Институтом Академии Наук СССР. Так здесь появились исследовательские лаборатории, гербарии, музей, библиотека… Чего здесь только нет! Пройдя по дорожкам и аллеям, вы совершите путь от заполярных широт до экватора, путешествие от болот до пустынь… Впрочем, тогда, зимой 1941 года, вопрос стоял о самом существовании этого дивного рая для растений.
Заснеженный парк был изрыт земляными траншеями, виднелись стрелковые бойницы в стенах… Крона одного из старейших дубов снесена снарядом. На светлой коре красавицы-березы зияют глубокие порезы, нанесённые острыми осколками. У подножий израненных деревьев торчат обломки ветвей, словно руки, взывающие о помощи!
Неисчислимы были богатства института: пятнадцать миллионов листов гербария, сто пятьдесят тысяч томов ботанической литературы, свыше ста тысяч живых растений и примерно столько же музейных экспонатов… Всё это не эвакуировать. Задача немыслимая, но частично выполнимая. И вот рука с молотком заколачивает очередной ящик с ценнейшей поклажей. Это рука учёного. В руке другого биолога малярная кисть. Она выводит на ящике надпись – пункт отправления: «Казань».
… Когда обстрел затих, я навестил директора Ботанического сада Шипчинского. Профессор работал в своём кабинете при свете коптилок и днём: стёкла были выбиты, их заменяла фанера. Рука в перчатке торопливо писала: «Мировая коллекция растений тропиков и субтропиков не может быть никуда убрана. Они должны оставаться здесь, в оранжереях с искусственным климатом, отвечающим природе каждой группы растений…».
Профессор взволнованно поведал мне о страшной бомбардировке сада 15 ноября, когда фашистская бомба, разрушив две оранжереи, погубила самую высокую пальму северных широт, доставленную сюда ещё во времена Екатерины Второй!
Мы пришли к месту катастрофы, и вот какая картина разрушений предстала перед нами: обнажённые балки Большой оранжереи воздеты к небу, мёртвый остов без единого стекла, большой купол покорёжен… Мы поднялись на груду битого стекла. Гигантское пальмовое дерево уже оледенело, понуро свесились листья-веера, обломленные взрывной волной.
К нам медленно подошёл престарелый садовод Курнаков. Он взял с земли юную пальму и, укутав её обнажённые корни полой своего полушубка, унёс из оранжереи, ставшей кладбищем растений.
До начала блокады в саду расцветало около шестнадцати тысяч видов растений. К концу первой блокадной зимы удалось сберечь ценой неимоверных усилий и совершенно немыслимой изобретательности едва лишь около пяти тысяч нежных созданий природы.
Надо было отправлять драгоценный груз на Большую Землю – учёные становились столярами, плотниками, стекольщиками и грузчиками. Прекратилась подача электроэнергии – становились кочегарами и печниками. И при этом ни на мгновение не забывали о научной работе – главном деле жизни. Профессор Шипчинский при свете коптилки продолжал свою монографию «Озеленение пустынь». У него дома зимовали юные пальмы и орхидеи. А Курнаков стеснил себя и членов своей семьи до предела, взяв на дом в качестве «постояльцев» две с половиной тысячи кактусов! Я побывал в гостях у Курнакова и могу лично засвидетельствовать – не было такого места в его квартире, где можно было бы укрыться от уколов этих своенравных гостей. Я ушёл на передовую весь утыканный «кактусиными» колючками! Удивительно, но факт, который я готов засвидетельствовать как очевидец: в блокадной квартире учёного впервые в истории растительного мира зацвёл дивный кактус, у которого не было ещё ни латинского, ни русского наименования. А зацвел этот кактус яркой рубиновой звездой!
… Ранней весной 1942 года я снова оказался на Аптекарском острове. Пальмовый рай оживал: появились стёкла, был наведён относительно возможный в тех условиях порядок. В сохранённой оранжерее была устроена своеобразная больница для растений. Умиравшим растениям, прежде всего пальмам, были сделаны операции, которые я безо всякого преувеличения готов назвать хирургическими.
Курнаков при мне высаживал своих колючих питомцев, доставленных из его квартиры. По соседству ботаник Правдин спасал японский виноград. Ботаник Щеглова на практике проверяла свою методику стимулирования роста с помощью так называемого «укороченного дня». Наряду с больницей для растений появился и… детский сад для крошек-эвкалиптов, кипарисов, пальм… Окрепнут – войдут на равных в мир взрослых растений.
Продолжая образные сравнения, назову ещё и санаторий для ослабевших растений – их пересаживали на воздух, под солнечные лучи, под первые весенние дождики.
Вы скажете: «Это всё – внутриинститутские работы!» Да, но, во-первых, без них не было бы и работ внешних, во-вторых, все они были залогом и важнейшим морально-психологическим фактором для других деяний в области научно-прикладной.
Питание есть жизнь. Эта формула стала для ботаников руководством к действию. Чир ко вывел наиболее хладостойкий сорт брюквы, получивший номер 110. Корякина показала мне рукопись своего научного труда «Воздействие светового фактора на быстрый рост овощей». Не считайте это название слишком специальным – весной и летом весь наш огромный город превратился в необозримый огород, а Ботанический сад дал горожанам девять миллионов кустов рассады, выращенной по всем правилам высокой академической агронауки!
В спешном порядке решались проблемы повышения урожайности овощей. Биолог Николаева развернула работу шампиньонной лаборатории. Этими вкусными и полезными грибами снабжались госпитали и стационары. Специально на повестку дня был поставлен вопрос: какие дикорастущие травы больше всего содержат витамин С? А этот витамин – неустрашимый борец с цингой! Ботаник Никитин обнаружил в сорняке купыре витамина С во сто раз больше, чем, например, в морковке! Подлинной сенсацией стала выставка съедобных дикорастущих растений, заставивших посмотреть на них новыми глазами. А Никитин, продолжая свои начинания, пропагандировал салаты, супы и приправы из питательной растительности, настойки витаминов из клевера, крапивы и иван-чая. Добавим к этому перечню хвойный напиток, получивший скромное название «С». На себе испытал его целебное действие, когда меня лечили в госпитале от дистрофии.
Лекарственные растения выращивал в убыстренные сроки профессор Монтеверде и не только выращивал, но и разводил тут же из них лекарства для города и фронта. А профессор Голлербах открыл и внедрил вещество, заменяющее дефицитную при массовых ранениях вату. Этим веществом оказался препарат из… торфяного мха.
Лечили больных и… насекомыми. Были получены стерильные личинки мух для быстрейшего заживления ран, которые врачевали также чудодейственным пихтовым бальзамом.
Ботаники, как и биологи других специальностей, разумеется, не очень-то приветствовали курение, но раз уж положена бойцу махорка, а её недостает, так они стали её выращивать в пальмовой оранжерее. Как это поётся в нашей фронтовой? «Давай закурим, товарищ, по одной! Давай закурим, товарищ мой!» И мало кто знал из бойцов, что благодарить за этот «закур» надо ботаников с Аптекарского острова!
Как-то мне довелось не только повидать, но и попробовать один деликатес: для праздничных новогодних столов изготавливались на первое блюдо разваренный лишайник, а на десерт – желе из водорослей! Вполне съедобно и даже по-своему вкусно.
Я уже не говорю о том, что Ботанический сад стал общегородским консультативным пунктом для огородников. Ботаник Иванов учил наших земляков (здесь это слово особенно уместно!) разводить картофель методом «отводок».
Не стану останавливаться на том, что сотрудники Ботанического сада жили и работали среди несметных запасов пищи – одних образцов семян было свыше ста тысяч\ Но никто не съел даже зернышка!!! ТАК вопрос даже не ставился. Зато за блокадные годы было защищено десять диссертаций, созданы научные труды о флоре Ирана и Памира. И это тоже был вызов врагу!
Но помогали ленинградские ботаники фронту и самым непосредственным образом. Вот военный лётчик поднимается в воздух для аэрофотосъемок, а учёный-ботаник занимается дешифровкой, изучая снимки природных явлений, фронтовых ландшафтов, уточняя, где лес, где болото, какова проходимость местности на пути нашего грядущего наступления, где сгоревший лес, как изменилась флора за военные годы. А она менялась неузнаваемо!
А вот прифронтовой аэродром, место командировки опять же ботаника. Он советует, как сделать, чтобы маскировочные ветви не пожелтели раньше времени и не демаскировали бы самолёты на фоне свежей зелени.
Но и это ещё не всё! Ботаник на борту разведывательного самолета обнаруживает пожухлую зелень и передаёт по радио нашим артиллеристам:
– Здесь вражеские орудия! Бейте их, товарищи! За Родину, за Ленинград!
1942–1978
Марина Кунецова. Ботанический сад сегодня, или Доро́гой славы и побед
Если в Зоопарке имеется постоянная специальная выставка, эдакий микромузей «Зоопарк в блокаду», то в Ботаническом саду подобного музея нет. Есть лишь небольшая фотовыставка в фойе ротонды, откуда берут начало многие экскурсии. В библиотеке находятся две небольшие коллекции научных книг блокадной поры и фотоматериалы. И, наконец, – самое главное и самое волнующее – это живые экспонаты веков и блокадных лет: деревья, кустарники, пережившие все лихолетья и испытания. Эти живые экспонаты достойны поклонения и самого тщательного ухода за ними. Вот в Зоопарке подобных долгожителей встретить невозможно. Разве что таким своеобразным рекордсменом мог быть слон, но чудесная слониха Бетти погибла, а природа всем остальным обитателям клеток и вольеров отпустила несравнимо меньшее число лет, чем растениям.
У меня с собой был фотоаппарат, и, скажу прямо, он мне в Ботаническом саду помог куда больше, чем авторучка. Как выяснилось, Н. А. Сотников так обстоятельно и подробно и в то же время живо и увлекательно поведал о блокадных буднях ботаников, что чего-то принципиально нового мне найти не удалось, а вот для фотоаппарата работа сразу же нашлась.
Во-первых, я сфотографировала обложки и переплёты научных и популярных книг, изданных в блокадную пору. Оформлены они весьма скромно, но волнуют самим фактом своего рождения и существования. Делятся эти труды ленинградских ботаников на две группы: чисто научно-теоретические труды, зачастую никак не связанные с блокадной тематикой, но написанные в блокадную пору, что уже само по себе есть деяние героическое. Вторую группу составляют преимущественно малолистные сугубо утилитарные брошюры, предназначенные для всех горожан: о дикорастущих (но нашей климатической зоны) лекарственных растениях, о роли витамина С, о пользе ягод шиповника, о грибах, которые ленинградцы смогут в конце лета и в начале осени собрать в садах и парках (здесь явно имелись в виду северные районы города: ясно, что в Летнем саду грибов нет!).
Перефотографировала я групповой фотоснимок «Работники блокадного Ботанического сада». Снимок сделан на фоне оранжереи, что придаёт фотографии особую эмоциональность, вероятно, – где-то сразу после войны. У многих на пиджаках и даже на платьях – медали, скорее всего, – «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Я насчитала семнадцать человек. Возможно, кто-то не вошёл в кадр, кого-то не оказалось на месте, но все они, несомненно, – гвардия ботаников блокадного города!
Особенно впечатлила меня фотография ученого Николая Ивановича Курнакова, причём, именно – своей обыденностью: он просто-напросто в блокадную пору занят своим делом, продолжает его так, как будто бы нет ни обстрелов, ни бомбёжек, ни лютых голода и холода.
Потряс меня контраст: скелет большой пальмовой оранжереи (одни стальные каркасы остались!) и современной здание этой оранжереи, изящное, словно выставочный павильон.
И всё же больше всего меня потрясли самые живые экспонаты – спасённые деревья. Стояли дивные дни золотой осени, и дерево, пережившее блокаду, было особенно прекрасно в солнечных лучах. Словно в какие-то волшебные чащи уходит Аллея славы и побед, удивительное живописное творение, созданное природой, людьми и Победой 1945 года.
2010
Николай Ударов. Ода Ботаническому саду
Остров растений, Аптекарский остров с памятью нашей не расстаётся. Я с биофаком судьбу не связал, но Ботанический сад величал. По́ сердцу мне всепланетная флора. Море растений. Воистину море! Подвиг чарует блокадной поры: даже и здесь был блокады прорыв! Наш дорогой Ботанический сад тоже тебя защищал, Ленинград! Здесь создавались продукты питания, снадобья новые для врачеваний, хитрости мудрые для маскировки… Вот ведь какой героический остров! Мне дорог он кинокадрами детства: рай этот с домом почти по соседству. Оранжерейными нас не назвать, но мы любили в мечтаньях витать в этих диковинных наших теплицах. Как чудесам этим не восхититься! Злой тесноты приговор так суров: комнатных не было даже цветов! Разве что в вазочке – ветка сирени… Мы с восхищеньем на пальмы смотрели, а повзрослели — всё ждали мгновения, как же, когда зацветёт альба-регия![18]Н.А. Сотников. Бронзовая стража
Поведал я вам о живой природе, о царстве растений в море огня и стали. Настала пора рассказать о том, как были героически спасены произведения городской скульптуры, без которых невозможно представить себе город на Неве.
Скульптуры сравнительно небольшие, комнатные, либо укрывались в недрах музеев, либо были эвакуированы. А как эвакуируешь, скажем, Медного всадника! Так он и простоял на своём месте все блокадные дни, укрытый мешками с песком. Не очень-то с точки зрения сопротивления материалов надёжное укрытие, но всё же гарантия от «ранений» осколками и маскировка. Думаю, что прямого попадания тяжёлого снаряда и тяжёлой авиабомбы он бы не выдержал!
Чудом сохранились у меня журналистские блокадные блокноты. В одном из них – цитата из нашего разведдонесения: «В разорённом Стрельнинском дворце, превращенном фашистами в склад своих снарядов, найдены таблицы артиллерийских стрельб с указанием стратегических целей…». Какие же цели враг именовал «стратегическими»? Вот, например, Эрмитаж (номер 9), вот Институт охраны материнства и детства (номер 708)… Думается, здесь никакие комментарии не нужны!
Артиллерийские выстрелы могли быть прицельными, бывали и наобум, но, разумеется, не в пустыри, а в любом случае – в места социально и культурно значимые. Беззащитнее всех оказывались городские памятники, но добрые натруженные руки спешили внести свой вклад в их спасение. У меня нет всех точнейших сведений о том, когда, как и персонально кто спасал тот или иной памятник. Это дело будущих историков культуры. Но своими глазами я видел, как укладывался прочный каркас из дерева на памятник дедушке Крылову в Летнем саду. Футляр состоял из двух частей: верхняя оберегала самого баснописца, а нижняя – знаменитых героев его басен.
Знаменитых на весь мир клодтовских коней сняли с пьедесталов и укрыли совсем неподалёку – они были зарыты в землю в сквере возле Аничкова дворца. Так что путь к спасению для коней и их укротителей был недолог.
Бронзовую статую Пушкина-лицеиста в бывшем Царском Селе зарыли в землю рядом с постаментом. Это было настолько просто, что оккупанты не догадались, что памятник никуда не был увезён.
Медного всадника закрывали большими мешками с песком тоже на моих глазах и тоже маскируя широкими досками под цвет асфальта, как и памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала.
Как демонтировали и куда увозили знаменитых бронзовых быков скульптора Демута-Малиновского (они украшали вход в мясокомбинат имени Кирова), я лично не видел, но был свидетелем их транспортировки – огромный трактор-тягач, управляемый солдатом, на стальных катках вёз их… в центр города! Грохот, конечно, стоял страшный. Скорость передвижения была мала, и все редкие прохожие затыкали уши, пропуская странный движущийся груз. Лишь весной 1942 года я, после тяжёлой контузии поправляясь в батальоне выздоравливающих (квартировал он в бывших монастырских кельях Александр о-Невской Лавры), случайно узнал, что в кустарнике вблизи могилы своего создателя были укрыты наполовину закопанные в землю его бронзовые быки!
Небывалое, подлинно возвышенное и трагедийное по своей силе совпадение! Ведь не мог же рядовой солдат под огнём в глухом уголке кладбища отыскать могилу скульптора и именно там оставить свой бронзовый груз! Воистину, как писал великий кинорежиссер и писатель А. П. Довженко, «жизнь послала нам сюжеты необычайные, они взывают к художественной обработке»! И это уже задача не очерка, не записок очевидца, а прозы, драматургии, поэзии.
Спустя почти тридцать лет я побывал на местах былых боёв, где протекали мои блокадные будни, и вновь увидел быков на своём месте. Они вернулись на свои посты, оставив навсегда в одиночестве своего автора и творца…
Возникает закономерный вопрос: «А кто же выполнял эти кропотливые, напряжённые и длительные работы?» Разумеется, были специально назначенные люди. Я и в Летнем саду у памятника Крылову, и у Медного всадника видел и выделял зрительно явных лидеров, организаторов. Но многие, в том числе даже обыкновенные прохожие, присоединялись охотно и решительно к этим работам! Как мне стало известно, среди них были и бойцы МПВО, и рабочие, и служащие, и студенты, и школьники… Одним словом, – ЛЕНИНГРАДЦЫ. Они защищали свой город, как свой дом.
Единственно какие памятники не укрывались сознательно, это скульптуры полководцев Суворова на Марсовом поле, Кутузова и Барклая де Толли возле Казанского собора. В этом был глубокий поэтический смысл. Сам видел, как проходившие мимо этих монументов военнослужащие не только строем, но и в одиночку им отдавали честь\ Это тоже огромной силы художественный образ, к сожалению, не получивший своё воплощение в известных мне фильмах и спектаклях о блокадной поре.
Но вот об одном израненном памятнике мне посчастливилось поведать в своем документальном фильме «Город поэта». Вы, конечно, догадались, что речь идет о памятнике Пушкину у Египетских ворот, ведущих в город его имени. Стоял этот монумент возле переднего края обороны. Спасти его не успели, а вражьи руки и глаза упражнялись в стрельбе по такой забавной для фашистов мишени! Образ родился сам собой и был единственно верным: немецкие фашисты – это дантесы ХХ века.
Уже после войны я узнал, что многими работами по спасению шедевров городской скульптуры и зодчества руководил заслуженный деятель искусств России скульптор Игорь Крестовский, сын известного прозаика Всеволода Крестовского, автора нашумевшего в своё время романа «Петербургские трущобы». Игоря Всеволодовича я знал лично ещё до войны, консультировался с ним в процессе работы над сценариями научно-популярных фильмов об архитектуре и скульптуре города на Неве, но в блокадную пору наши дороги не совпадали. Я видел лишь результат его трудов и замыслов.
Пришлось Игорю Всеволодовичу поработать не только как организатору, скульптору и реставратору, но и как… химику: он предложил варианты охранительной для скульптур смазки, рекомендовал использовать для сохранности бронзы непромокаемую бумагу. Определял Крестовский и места для подземных укрытий, и их габариты.
В результате этих невероятно сложных в блокадных условиях трудов почти все довоенные шедевры городской скульптуры горожане и туристы могут увидеть на своих местах! Не в этом ли каждодневная даже ежесекундная оценка подвигов тех, кто сберёг для нас городское убранство Северной Пальмиры!
…Уже после войны я был несказанно потрясён и как писатель, и как кинематографист и, наконец, просто как ленинградец фотографией из экспозиции тогда ещё восстанавливаемого Екатерининского дворца в городе Пушкине.
Солдаты, по виду сапёры, одетые в зимнюю форму, с помощью небольшой лебёдки понимают из траншеи фигуру Пушкина-лицеиста скульптора Баха. Не думаю, что безымянный фотограф специально готовился к съёмке, взвешивал все «за» и «против», словно создавая шедевр. Но фотография получилась не просто мастерской, а подлинным глубоким произведением фотоискусства. Юный Пушкин как бы встаёт из мрака и возвращается к нам как наш друг и вечный современник. Так и хотелось мне по кинематографическому опыту своему сценарному дополнить этот снимок цитатой из крылатых пушкинских слов: «Да здравствует разум, да скроется тьма!»
1942–1978
Николай Ударов. «Все скульптуры – на своих местах
Все скульптуры – на своих местах. Мы не замечаем впопыхах, что они в блокаду спасены, что воскресли из могильной тьмы. Я прошу – замедлите свой шаг. В тех скульптурах – города душа. Вот она – воистину бессмертна. И в скульптурах городских жива Победа!«Вот мой отчёт перед Победой…» (Творческий отчёт кинодраматурга Н.А. Сотникова за время Великой Отечественной войны)
…В годы войны пришлось заниматься исключительно кинодокументалистикой. Ещё в 1938 году я написал сценарий киноочерка «Глинка». В 1939 году увидел экран мой полнометражный фильм «Архитектура Ленинграда», в 1940 году– фильм «Пенаты» («Зарекой Сестрой»), в 1941 году в самый канун войны, – «Гдовская старина».
Особенно мне дорога была работа над очерком «Пенаты» («За рекой Сестрой»). Тема возвращения нашей Родине этого дивного уголка земли, навсегда связанного с именами Репина, Горького, Маяковского, увлекла всю съёмочную группу, поэта Виссариона Саянова, который подарил фильму свои стихи, и композитора Дешевова, написавшего музыку, ставшую для фильма органичной настолько, что без неё ленты словно бы и не существовало!
Перед самым моим уходом в народное ополчение мы с режиссёром Павлом Ивановичем Паллеем[19] завершили киноочерк «Народный учитель» о том, как сельский учитель Савельев вместе со своими учениками создаёт фольклорный ансамбль, собирает старинные песни, даёт вторую жизнь забытым было народным пляскам и хороводам. Сама жизнь завершила за нас фильм – учитель уходил на фронт. Проводы его на фронт мы и успели заснять.
После того, как я поварился в боевом котле 13-й стрелковой дивизии, той самой, в которой зародилось снайперское движение, я сходу смог подключиться к работе режиссера Сергея Ивановича Якушева над фильмом «Снайперы». Специально разыскивать необходимый материал мне не пришлось – он был, если так можно выразиться, моей повседневностью. Буквально на моих глазах прогремели первые снайперские пули Феодосия Смолячкова, Александра Говорухина, Николая Остудина и других прославленных снайперов Ленинградского фронта. Съёмки велись на переднем крае. Где-то мы прибегали к услугам пиротехников, но в основном это строго документальные кадры, да и сама обстановка создавала суровый и мощный фон для нашей кинокартины. Это было в 1942 году.
Второй фильм, на сей раз созданный в содружестве с режиссером Валерием Михайловичем Соловцевым[20], – «Прорыв блокады Ленинграда». Фильм снимался по горячим следам боевых действий. Славно поработали наши кинооператоры! Они оставили навсегда для истории прорыв мощных оборонительных линий фашистов на Неве, штурм Шлиссельбурга, красное знамя, поднявшееся над старинным собором Шлиссельбурга, последние выстрелы «Орешка» – Шлиссельбургской крепости, пробывшей почти два года во вражеское осаде. А дальше – бои за рабочие посёлки, за Синявино и, конечно, соединение и единение двух фронтов – Ленинградского и Волховского. Вся организаторская работа и монтаж принадлежат Соловцеву, а мне – дикторский текст и участие в планировании съёмок, что для сценариста, особенно документалиста, очень важно – именно так порою и пишется сценарий, в действии!
Прежде чем рассказать о третьем фильме, надо сделать небольшое отступление. В 1939 году по моему сценарию режиссером Владимиром Николаевичем Николаи[21] снимался научно-популярный киноочерк «Архитектура Ленинграда». Особое место в том фильме заняли памятники русской военной славы. И вот теперь эта красота – в осаде, в осаде – и искусство, и природа. Они страдают от врага, но они и борются с врагом, возвышая души наших воинов. И вот мы с режиссёром Марией Марковной Клигман[22] при участии представителей архитектурной общественности города и при помощи Горкома партии показываем Ленинград как «Город русской воинской славы». В какой-то степени этот фильм – вторая, авторская редакция фильма, созданного до войны, но в этой кинокартине немало и нового. Вообще, этот пример поучителен для меня как автора сценария. Он мне доказал, что можно и предыдущую работу включить в сегодняшний боевой день.
Таким образом, мною сделано четыре киноочерка. Была и ещё одна работа, на первый взгляд, неприметная, но необходимая и постоянная. Все эти годы я был редактором выпусков «Ленинградской кинохроники», писал тексты для дикторов, принимал участие в планировании.
Да, я не написал ещё об одном фильме – «Выстрел»[23], но он носил сугубо прикладной, военно-учебный характер. Мы старались обобщить опыт снайперов и в военно-педагогических целях суммировать его.
Сейчас я нахожусь в госпитале. Как вы видите, мне разрешили писать. Хотя не скрою – последствия контузии постоянно дают о себе знать сильными головными болями и общей слабостью. Как только позволит здоровье, возвращусь во фронтовую печать.
Старший лейтенант
Н.А. Сотников
4 октября 1944 года
Н.Н. Сотников. Таинственная киностудия блокадного Ленинграда
Удивительное дело – листаю уже который раз словари, справочники, учебники и пособия по истории кино. Об этой студии ни слова, как будто бы её и не было! А ведь была, действовала в тяжелейших блокадных условиях, выпускала кинохронику, документальные, учебные и даже научные фильмы. Откуда же она взялась?
Вот что говорит короткая справка в аннотированном каталоге нашего Центрального архива литературы и искусства: «По приказу Комитета по делам кинематографии от 30 апреля 1942 года Ленинрадская студия кинохроники объединяется со студией «Лентехфильм» под названием «Ленинградская объединённая киностудия» в составе Главкинохроники». С 7 апреля 1944годаЛОК разукрупняется. Ленинградская студия кинохроники снова стала самостоятельной и вошла систему Главного управления по производству документально-хроникальных фильмов Министерства кинематографии РСФСР.Цитирую по сборнику «ЦГАЛИИ» (Путеводитель, издательство «Лики Росии», 2007, с. 83).
Выходит, сугубо внутриведомственная акция? Нет, как говорят, «поднимай выше»! Вопрос, оказывается, решался на уровне заместителя Председателя Совнаркома СССР А.Я.Вышинского, который подписывает 29 апреля 1942 года Распоряжение № 7566-Р о создании Объединённой студии (обратите внимание – уже через день следует приказ Комитета по делам кинематографии; поразительная оперативность!). Директором новообразованной студии назначается бывший киноактёр, режиссёр-документалист В.М. Соловцев. Под его руководством в 1967 году я проходил редакторскую практику на Ленинградской студии
документальных фильмов, где он тогда был директором. Очень жалею, что не расспросил его тогда обо всех этих волнующих подробностях!
Есть ли вещественные, музейные, следы ЛОКа? Нет, хотя маленький музей Ленинградской киностудии Леннаучфильм существует. Правда, из экспозиции можно узнать о некоторых подробностях блокадного быта, увидеть некоторые приспособления, кинокамеру. Но ЭТА ГЛАВА в целом как бы пропущена. Нет ясности, что выпускали, каков был метраж, какое число наименований… Почему? У меня лично пока один ответ: производственное слияние не означает творческого единения: документалисты и «популяризаторы» всегда держались наособинку, в том числе и в Союзе кинематографистов, что я особенно остро почувствовал в Ленинградском Доме кино на праздновании 70-летия Леннаучфильма. Можно сказать смело, что разукрупнились они с удовольствием! На основании Распоряжения опять же Совнаркома СССР от 29 марта 1944 года.№ 7058-Р. Дело не только в принципиальной разнице методик, но и в творческом соперничестве. Отец эти противоречия преодолевал и как сценарист и как редактор сравнительно безболезненно, одинаково увлечённо работая и в той, и в другой сферах кинематографа. Некоторым творческим сотрудникам этот синтез давался тяжело, а то и ВОВСЕ не давался.
Велик ли был блокадный коллектив? Для блокадных условий – да. Нашлось упоминание о производственном совещании, которое проходило в помещении «Лентехфильма»: свыше 50 работников приняли в нём участие!
И, наконец, вопрос географии. С ним больше всего неясностей: «Популяризаторы» утверждают, что все фильмопроизводство было на их базе. Но ветераны, которых я ещё успел застать, возражают, Оказывается после того, как бомба попала в павильоны Ленкинохроники, где было много стекла, одно время они пользовались помещением на Лиговском проспекте, но и туда попала бомба. Тогда пристанищем стал Клуб строителей на Крюковом канале (классический адрес документалистов по следующих лет). Там был… кинозал! Его наскоро переоборудовали в производственный кинозал. Вот там-то и шёл просмотр фильма, о котором у нас в книге идёт речь в очерке «Три встречи с будущим патриархом». А вообще-то тема не закрыта и взывает к продолжению исследований.
Н.А. Сотников. На рассвете нашей Победы
До Берлина – считанные километры, до Победы – считанные дни. А ведь совсем недавно я ещё считал блокадные дни и воевал на невских берегах и как военный корреспондент, и как сотрудник фронтовой кинохроники. А теперь я, спецкор газеты 61-й армии Первого Белорусского фронта «Боевой призыв», лежу на песчаном низком берегу Одера среди лодок и понтонов, приготовленных с ночи для форсирования решающего рубежа.
С крутого вражеского берега бьют пулемёты. Опасно столкнуть лодку по песку в воду, но кое-кто из бойцов уже рискнул и остался навсегда на отмели. И вот один рассудительный пожилой солдат по фамилии Бондаренко (я знал его и писал уже о нём) нашёл неожиданный выход. Он решил плыть, прикрываясь лодкой, толкая её впереди себя! Потом смотрю, он быстро переваливается через борт и плывёт, не поднимая вёсел, гребёт руками. Доходит до роковой середины и… «безвольно» движется вниз по течению. На том берегу уверены: и этот «готов» и больше пуль на него не тратят. А Бондаренко жив-здоров! Он начинает управлять лодкой всё очевиднее и заметнее. Вот лодка устремляется к ТОМУ берегу. Впереди мысок с кустарниками. Да, здесь уже можно замаскироваться. Вижу, что примеру смельчака следуют и другие бойцы. И вскоре оттуда, с мыска, во фланг врагу начинают бить наши ручные пулемёты.
Честно говоря, и мне страшно хочется туда, на плацдарм! Но мне не 19 лет, как тогда, в 1919 году, когда я служил у Котовского, а почти сорок пять и твердо помню приказ своего старшего начальника генерал-майора Котикова: «Никакого лихачества! Оставаться на нашем берегу и дать на первую полосу газеты репортаж с переправы». Мне оставлено, как сейчас помню, 180 строк. Ответственный секретарь у нас считал макет с точностью до строчки и был большой педант. Что ж, о Бондаренко и последовавших за ним ребятах как раз – 180 строк! В самый раз!
А дальше время как на крыльях понеслось. Не жизнь – оплошное движение – вперёд, вперёд!.. И так вплоть до того самого дня, 9 мая, который я встретил на берегу Эльбы. Накануне в сумерках мы достигли притихших берегов далекой реки. Домчались и с ходу уснули в ивняке, на траве, страшно утомлённые, но спокойные. Спокойные впервые. Это казалось странным, в том числе и мне: ведь я только что с того света вернулся в самый канун Победы! Вот обидно было бы! А получилось так.
Наша машина испортилась, я со своими ребятами из редакции на дороге встали и всё попутки ловили. Один лихой шофёр тормознул: «Одного из вас возьму! Садитесь в кабину, товарищ старший лейтенант!». Это он меня приглашает. Я немного проехал, а потом и говорю, что хочу в кузове подремать – там сено, свежий воздух. Тепло уже совсем по-летнему. Сказано – сделано. И буквально через какие-то полчаса шальным снарядом срезает кабину, и я отделываюсь лишь мелкими ушибами и синяками. Парня жаль! Отличный водитель был и человек очень отзывчивый, приветливый. Даже толком не познакомились – думал, что дорога ещё дальняя, успею…
И вот ещё о чем думалось мне на песчаной лужайке под тихое плескание вод Эльбы. Вчера я пережил, пожалуй, самое сильно впечатление за все военные годы и дни. Всё было: голод, и холод, и гибель друзей, и смертельная усталость, и отчаянье, и азарт боя, но такой мудрой и разноплановой одновременно картины я ещё не видал никогда.
На огромной фронтовой дороге я видел четыре потока. По центру дороги неслись наши пехотинцы. Это наступали на колёсах войска Первого Белорусского фронта, который я также полюбил, как свой родной Ленинградский, и на всю жизнь считаю своим. На писательских ветеранских перекличках так и отзываюсь дважды – и как боец Ленинградского фронта, и боец Первого Белорусского.
На чём летали наши ребята? На крыльях Победы, конечно, образно говоря! А конкретно? И на грузовиках, и на самоходках, и в легковых машинах, и на мотоциклах, и даже на велосипедах, на транспорте своём и трофейном, на всех подручных средствах передвижения! Мчались, мчались, мчались до перекрёстка.
Я и сейчас вижу его, он стоит перед моими глазами, этот перекрёсток середины XX века.
Слева, в обратную сторону, на восток, довольно стройными рядами маршируют приободрившиеся военнопленные, вызволенные нами из гитлеровских концлагерей. Шли генералы, офицеры, солдаты самых разных армий: итальянцы, бельгийцы, американцы, англичане, французы, норвежцы, даже финны… Каждая колонна – со своими национальными флажками, трепетавшими в приветственных взмахах. Вся Европа кричала нам «Ура!», Вся Европа, казалось, вышла из плена благодаря нашему наступлению. Наступавшим некогда было заниматься встречами, приветствиями. Наша великая миссия была ещё не завершена.
А эти все люди спешили именно на восток, где их ожидало на наших заставах у Одера и Вислы давно желанное освобождение, еда, отдых, внимание и сочувствие. Они это знали, идя на восток даже тогда, когда их страны находились там, на западе, где продолжать громыхать последние битвы Второй мировой войны. «Зачем лишний риск?» – рассуждали здравомыслящие европейцы: ещё несколько дней и дорога домой будет свободной и главное – безопасной.
Туда же, на восток, шли и советские люди, освобождённые из фашистской неволи. Им не надо было поворачивать назад, они следовали вперёд неуклонно. И если среди иностранцев царило весёлое оживление, то хотя и в этих наших колоннах были вспышки ликования, но больше было слёз. Любой непредубеждённый видел, что нашим в плену и вообще на войне досталось больше, судьбы сложились в целом трагичнее, вид был изнуреннее, почти все шли в настоящих лохмотьях, шли медленнее – и хотели бы быстрее да сил не было! И вот в этих наших колоннах то там, то сям начинались и умолкали песни. Народ нёс свои песни на Родину! Он их не забыл. Он украшал этими песнями свою дорогу домой.
Была ещё третья нескончаемая вереница людей. По правой стороне магистрали, но строго на запад, невзирая ни на что, уходили гражданские немцы – то есть население восточных земель так называемого «тысячелетнего рейха», который доживал на наших глазах свои последние дни. И даже часы.
Медленно, но упорядоченно двигались старики, старухи, подростки, женщины-матери, толкавшие перед собою детские колясочки, как видно, очень тяжёлые, потому что дети буквально утопали среди каких-то вещей. Шли эти немцы молчаливо, понуро. Что их ждёт там, между Эльбом и Рейном? Они надеялись на успокоение. Им не мешали. Я не видел, чтобы их кто-нибудь тронул.
Все колонны, все названные мною потоки двигались сами по себе, не сообщаясь друг с другом. И в этом, вероятно, тоже был глубинный исторический смысл, было всему этому и политическое, и психологическое объяснение. Я стоял как зачарованный и видел всё не только глазами фронтовика, но и глазами кинематографиста. Но тогда ещё не был рождён широкоформатный экран, и не нашёлся до сих пор сценарист и режиссёр, который способен был бы художественно постичь увиденное. И я до сих пор мучаюсь многими вопросами, терзаюсь догадками, спорю сам с собой.
А четвёртый поток? Это те, кто ещё недавно мнили себя хозяевами Европы и даже всего мира, – фашистские солдаты. Где они сейчас? Вот они, растерянные, жалкие, суетливые, безоружные, не находящие себе места на асфальте перекрестка середины XX века. Немецкие солдаты толпятся на обочине. Среди них больше всего либо слишком молодых, либо слишком пожилых. Это последние резервы Гитлера. Они никому не нужны. С ними никто не считается, никто не общается.
На кого же с надеждой устремлены их глаза в эти мгновения? Ведь им так хочется уже сейчас что-нибудь узнать о своём месте на земле? Им хочется определённости, порядка, ясности, наконец, им хочется еды. И со всеми своими многочисленными вопросами они тянутся к единственному человеку, олицетворяющему для них власть на всей земле, к полновластной хозяйке Европы – молоденькой советской регулировщице!
Этой девушкой нельзя было не залюбоваться! Она была в пригнанной к стройной фигуре выутюженной шинельке. На ней красовалась пилотка, из-под которой всё же выбивалась русая коса. Ей было некогда даже поправить прическу!
– Фрау!.. Фрейлен! – взывали к ней обескураженные немецкие вояки. – Гитлер капут!
Девушка их не слушала. О том, что Гитлеру будет капут, она знала и сама – наверняка ещё с первых дней войны.
– Битте! Плен, плен! – кто-то подсказывал так нужное немцам сейчас слово, важнейшее, спасительное.
Дескать, фрейлен, милая! Возьми нас, пожалуйста, в плен! Об этом её, хрупкую, изящную девушку, одинокую на ВСЁМ огромном перекрёстке (БЕЗ ОРУЖИЯ ПРИ СЕБЕ!) молили сотни здоровенных мужиков! Это было трагикомическое зрелище!
Но девушке не было времени ни оценивать ситуацию, ни разбираться с немчурой. Одной рукой она отмахивалась от них, как от назойливых мух, а другой поднимала и опускала свой жезл, который в данный момент мне казался маршальским жезлом, видным всей взбудораженной Европе.
Она указывала дорогу всем участникам всех потоков, она знала место каждому: нашим войскам – только вперёд, на запад, гражданским беженцам – туда же (они порядка не нарушат, сами дойдут), путь на восток – освобождённым иностранцам и нашим родным людям. А военным немцам, ступавшим порою на запретный, столь тесный в эти великие дни асфальт, она коротко бросала:
– Назад! Цурюк!
Тем не менее какая-то группа немецких вояк прорвалась к регулировщице и окружила её, повторив свою просьбу.
– Идите, куда хотите! – крикнула она им, и я это слышал. Её голос прозвучал звонко, но грозно и властно. – Да убирайтесь же вон с дороги! – не стерпела девушка и, топнув блистательно начищенным сапожком, пропустила вперёд вереницу наших пушек.
До сих пор жалею, что не прорвался поближе к ней со своим журналистским блокнотом. Мне так хотелось спросить её:
– Как Ваша фамилия, товарищ ефрейтор? Скажите мне! Это так важно для всех нас, для всех, кто будет жить после нас! Ответьте, пожалуйста!
До сих пор мечтаю о таком памятнике – памятнике русской девушке-регулировщице. Такой памятник сказал бы современникам и потомкам не меньше, чем памятник в честь солдат-освободителей.
… Над Эльбой алел рассвет. Весело пробуждались мои друзья, воодушевленные крылатой вестью – Победой!
И тут я увидел… бабочку! Впервые за все дни войны. Она пролетела надо мной именно утром на рассвете нашей Победы и была так прекрасна, как может быть прекрасна только жизнь.
А на той стороне Эльбы уже сердито и недовольно фырчали, разворачиваясь, американские джипы…
Берлин – Ленинград – Москва 1945–1978
Н.Н. Сотников. На пороге новых испытаний. Послесловие сына спустя 70 лет
Н. Н. Сотников
А потом была встреча на Эльбе, совсем не такая, как её изобразили в одноимённом фильме и уж совсем не такая, какой её представлял себе Евг. Евтушенко в песне «Хотят ли русские войны?»: «…кто нас на Эльбе обнимал». Объятий чего-то не припоминалось! Зато вскоре последовали категорические приказы избегать всяческих контактов: американцы имели в своих руках наркотики, не брезговали порнографией самого дурного пошиба (пожалуй, немецкая была даже «мягче»), началась безудержная торговля! Американцы торговали всем, чем только можно, – от зажигалок до грузовиков! Да-да, и казённые грузовики шли в дело! Ведь это и есть тот самый «американский бизнес», который был у них буквально в крови и который они нам сейчас навязывают в большом и малом.
Были разного рода и чисто политико-идеологические провокации, даже чисто внешне не совместимый с образом «союзника». Сей «светлый» образ угасал буквально на глазах, и по воспоминаниям представителей старших поколений, искушённых в человековедении и обществоведении и наблюдательных, довольно быстро исчез из обихода сразу после завершения войны.
Как это ни странно, но даже сравнительно нейтральные немцы (об оголтелых фашистах речи нет!) лучше относились к нашим военным и гражданским людям, нежели американцы и англичане. Отец всё собирался мне поподробнее описать встречу в Английской военной миссии, на которой они были с моей матерью, военным врачом, но выступавшей в роли супруги писателя, прикомандированного к газете Оккупационных войск, но не успел… Там, у англичан, всё было внешне строже, чопорнее, но неприязнь к России, Советскому Союзу проявлялась тем не менее явно, хотя и не так топорно, как у янки.
А вообще, готовя как редактор сборник военной публицистики «Огненные годы» в Лениздате к 40-летию Победы и прочитав десятки тысяч страниц, я убедился, что полной картины завершения войны ещё нет. Какому же поколению посчастливится её дописать?..
До сих пор существуют в истории Второй мировой войны не просто «белые пятна», а целые неизведанные материки, образовавшиеся по разным причинам от малоизвестности и разных степеней секретности до сознательного не просто умалчивания, а замалчивания. Некоторые из них можно исторически оправдать, например, подъём из глубин неведанного подавляющему большинству читателей и зрителей каких-то строк, страниц, а то и глав, которые вредили бы единству бывшего сперва лагеря социализма, а затем социалистического содружества. Одна из самых мрачных таких глав – рейд польской армии генерала Андерса не в сторону немецких фашистов, а по нашим тылам с выходом к южным границам. Андерсовцы на своём пути вели себя ничем не лучше, чем фашистские оккупанты. Более-менее обстоятельное описание этого рейда-дезертирного бегства можно прочесть в книге английского публициста и историка А. Берта «Россия в войне 1941–1945» (М.: Прогресс, 1967). Эти описания будут куда похлеще, нежели какая-нибудь Катынь в Смоленской области!
Ныне НИКАКИХ причин для умолчания и тем более замалчивания огненно-трагических страниц Второй мировой нет: все страны показали свое истинное лицо. Теперь уже смело можно сказать, что за исключением (да и то с оговорками!) Сербии союзников в Европе у нас не осталось. При Гитлере практически ВСЯ Европа была в его лагере: уточнения требуются лишь для зависимой от Англии, хотя и получившей формальную независимость Ирландии, Исландии, которая и мала, и бесконечно далека. Нейтралитет Швеции можно уверенно оговаривать. Нейтралитет Швейцарии формален и носил откровенно банковский характер. Даже малютка Лихтеншнейн, как недавно стало известно, сыграл в конце войны зловещую роль, укрыв коварно на своей территории массу изменников СССР.
Надо решительно перестать страшиться язв национальных вопросов, прикрываясь общими словами об интернационализме и горбачёвских «общечеловеках». Например, японцы одержали многие свои победы под лозунгом освобождения азиатов от «уродов с провалившимися глазами», то есть европейцев и вообще, так сказать, белых. И эта пропагандистская нота действовала звучнее многих других нот пропагандистского и дипломатического характера. Об этом мне рассказывал видный японист профессор В. Н. Горегляд. А знаток Индонезии, бывший собкор «Правды» на Юго-Восточную Азию профессор Л. М. Дёмин приводил мне пример постановки в Индонезии переделанной пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор», где Хлестаков был… голландцем среди индонезийцев! Зал неистовствовал, а переживания носили не эстетический, а откровенно политический, психологический характер.
Да и по нашей линии фронтов много ещё таинственного и неизведанного. К примеру сказать, Штаб партизанского движения в Москве не только не контролировал, но и не знал ситуацию, связанную с лжепартизанскими отрядами, псевдопартизанскими отрядами (кто-то просто отсидеться хотел в тишине да покое!), националистическими партизанскими отрядами. Чисто национально однородные формирования были и на нашей стороне, и на вражеской. И то, и другое изучено плохо, и широким кругам неведомо. Небольшие лучики света на эти белые, а во многом и тёмные пятна пролил двухтомник С. Г. Чуева «Спецслужбы III рейха», который я редактировал (СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003).
Никак нельзя признать даже удовлетворительными наши знания о взаимодействиях армейцев, войск НКВД, пограничников и гражданских учреждений.
Даже опытные профессиональные журналисты до сих пор путаются в определении функций ТАСС, СОВИНФОРМБЮРО и отдела прессы МИДа. Трофейная служба (её роль огромна!), спецпропаганда на войска и население противника, штрафные подразделения – всё это либо до невероятности упрощено, либо замаскировано, как ремонт дома огромной рекламой из досок!
Я уже не говорю о так называемых трофейных командах, о которых материала (доступного, разумеется) крайне мало, мне лично как пытливому читателю встретились только два: мемуарный фрагмент в книге поэта и публициста Бориса Слуцкого «Записки о войне» (СПб., издательство «ЛОГОС», 2000) и совсем коротенькую автобиграфическую справочку фольклориста и критика, моего коллеги по работе в аппарате Правления Ленинградской писательской организации Владимира Бахтина в коллективном сборнике «Ленинградские писатели-фронтовики» (Ленинградское отделение издательства «Советский писатель», 1985). Дело в том, что он был командиром отделения в части, которая занималась сбором и отгрузкой трофейного оружия, а в блокаду – металлолома». ЧАСТЬ – это может быть полк, а может быть и ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН. Только ли оружия?.. Победителям доставались и личные вещи, и письма, и документы, и продовольственные продукты, и медикаменты. Письма и документы, а также печатная продукция сразу же шла в руки спецпропагандистов, разведчиков и сотрудников СМЕРШа.
Ещё более трагедийная история с похоронными командами. О них, как правило – мельком, вскользь. Лично я слышал из уст своего старшего товарища, наставника в издательских делах бывшего заместителя редактора газеты «На страже Родины» Димитрия Васильевича Кормушкина, полковника в отставке, рассказ о том, как его в числе других младших политруков командировали на совещание в Москву (ясно, что отбирали лучших из лучших). Принял их и Михаил Иванович Калинин, который особое внимание уделил проблеме похоронных команд. Кормушкин дословно мне пересказал следующее: «Старайтесь держать эти команды под своим личным наблюдением. По возможности отбирайте в них пожилых и одиноких мужчин, которые ещё в силах. Помните, что бойцу, который идёт вперёд, отнюдь не безразлично отношение к павшим товарищам».
Не ставлю точку – только многоточия! Наша с вами общая задача, историки, публицисты, прежде всего фронтовики-ветераны, знатоки особенностей труда и тыла в Великой Отечественной войне, не теряя драгоценных лет перед лицом новых военных опасностей, восстановить с максимальной полнотой панораму не только вширь, но и вглубь!
Н.Н. Сотников. Ещё одно послесловие сына
В канун 20-летия Победы газета «Вечерняя Москва» обратилась к фронтовикам с вопросом: «ГДЕ ВЫ ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ 9 МАЯ 1945 ГОДА, И ЧЕМ ОН ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ?» Отец ответил на эту краткую анкету а потом, увлекшись, написал коротенький этюд по следам фронтовых журналистских блокнотов. В результате появился короткий очерк «На рассвете», впоследствии напечатанный в журнале «Волга». Готовя к изданию свои фронтовые новеллы и очерки «Были пламенных лет», отец ещё раз обратился к этой теме и написал очерк, который вы только что прочитали. Полностью он печатается впервые.
Об этом Дне, об этих днях мы знаем и выспренние помпезные кинополотна вроде «Падения Берлина» и соответствующей серии «Освобождение», и строгую, точную прозу Э. Казакевича, и до сих пор обжигающие огнём сражений фронтовые очерки, и блистательный фильм Юлии Солнцевой по сценарию Александра Довженко «Повесть пламенных лет», обошедший триумфально весь мир, как и другой шедевр – «Баллада о солдате». Сам я, как редактор, перечитал сотни очерков и тысячи страниц, готовя сборники «Огненные годы» (Публицистика Великой Отечественной войны) «Идёт война народная» (Проза военных лет). И всё же именно так о войне, о Победе, как отец, не писал никто. Говорю это не как сын, а как специалист, исследователь.
И ещё одно. Американцы остановили наше поступательное, стремительное движение на запад. Сила, ускорение, напор, натиск, воодушевление, колоссальная мощь и отточенное до блеска воинское мастерство были так велики, что ещё бы несколько дней – и мы бы могли также вот встретить рассвет не на берегу Эльбы, а на берегу Атлантики! Трудно сказать, как бы сложилась тогда судьба послевоенной Европы и всего мира. А ведь эти вопросы носились в воздухе, обсуждались на разных уровнях и, прямо скажем, особенно секретными не выглядели.
Сейчас, в наши трудные времена наш народ должен помнить, как склонилась перед ним Европа, как мог склониться перед нами весь мир!
Николай Сотников-младший
Н.А. Сотников. «Пишу тебе письмо из Ленинграда». (Из письма Н.А. Сотникова его родной сестре А. А. Ершовой в Кисловодск)
Дорогая Тоничка!
Пишу тебе первое письмо из Ленинграда. Это звучит гордо. Я – на Родине, на родной русской земле после длительных скитаний по чужбине.
Как сложилась моя жизнь после Карлсбада[24]? Там я отдыхал и лечился полтора месяца. Уехал оттуда обновлённым, укрепил нервную систему реже стала болеть голова, появилась энергия…
Документы из Москвы всё ещё не приходили. Предоставилась возможность побывать в Праге, провёл немного времени в Вене. Из Вены снова через Прагу проехал в Саксонию. Был в Лейпциге на открытии Международной ярмарки.
В Берлин попал в День Победы и прямо с вокзала направился на Аллею Побед, где в этот день происходил парад союзнических войск. В тот самый день, когда я появился в Потсдаме, пришёл приказ о моей демобилизации. Неделя ушла на расчёт и сборы. И вот я снова в пути, правда, кружном, но уже ведущем к дому.
…Предстоял большой морской путь через всю почти Балтику, прямо в Ленинград. Волна тихая, сияло солнце… Неделя морского пути прошла, как в сказке, а ведь о железнодорожном пути я даже боялся и подумать! По дороге мы осмотрели столицу Финляндии.
И вот, наконец, показались громады Ленинграда, покинутого мною всего лишь полтора года тому назад, но каким веком явилось это время, целой вечностью!..
Ленинград, 7 июня 1946 года
Н.А. Сотников. Город на Неве родным был и остался
В Секретариат Правления
Ленинградской писательской организации
Г. К. Холопову[25] и А. Г. Розену[26]
Дорогие товарищи!
Большое спасибо вам за доброе письмо, за приглашение на праздник Ленинградской Победы! С большим удовольствием побываю в городе, который был для меня родным и родным остался навсегда!
Ваше поздравление напомнило мне многое. Все 900 блокадных дней проходили у меня в непрерывных трудах. Видимо, поэтому я и уцелел! Я делал своё дело на переднем крае под Пулковом и Лигово, был политинформатором, военкором, одновременно вел агитбригады в 4-й и 13-й стрелковых дивизиях. Вместе с режиссёром Морщихиным мы создали ансамбль 42-й армии, который звонко распевал нашу песню «Вперёд\ сорок вторая, в году сорок втором!». Мы собирали по всему городу музыкантов и вокалистов (все они были профессионалами), ставили на красноармейский паёк, и люди оживали! В них пробуждались энергия, воля, вера в победу!
Довелось мне продолжить и довоенную работу как кинодокументалисту, в частности, мы с режиссёром Якушевым сделали фильм «Снайперы», а с режиссёром Соловцевым – «Прорыв блокады».
Был ранен, контужен, стал инвалидом III группы, но по мере сил и возможностей оставался в строю, работал даже в госпитальной палате, а затем после некоторой поправки – в Ленинградском отделении издательства Воениздат. А затем – Первый Белорусский фронт, Берлинская операция, журналистская и архивная работа после окончания войны…
В настоящее время работаю над циклом блокадных очерков и над циклом «Памятные встречи» о довоенном Ленинграде, о котором думаю неизменно все эти годы. Такого культурного феномена, как довоенный Ленинград, в истории ещё не было! До встречи, друзья! С наступающим Новым годом!
Уважающий вас Николай Сотников.
27 декабря 1973 года
Николай Ударов. Песня о Московских воротах
Откройтесь мне, Московский ворота! Вы и во тьме души моей видны. Здесь шла граница города и фронта. Здесь шла граница мира и войны. Вновь – артобстрелы, авианалёты, но не пройдёт нигде нога врага. Московские рубежные ворота, где даже тишина – и то строга!.. От прошлого до наших дней – не про́пасть и не ночной огонь в чужом окне. Здесь я как будто предъявляю пропуск — стихи мои о мире и войне. Передний край. И вновь – передовая. Родной блиндаж. И первый эшелон. И вновь во всём – история живая и неразрывный путь времён.Николай Ударов. Победы ровесник, сын века ровесника
Столетие своё не встретить мне, но я столетие отца встречаю. В единственной своей стране я дожил до него, на счастье, хотя уже немало раз небытия на грани был я, хотя небытия стрела почти у сердца проносилась, но я пока что успевал во времени да и в пространстве уйти и, накопив слова, на каждый новый бой собраться. Мой личный век – не век совсем. Он где-то рядом, но короче… Успеть бы песен и поэм чистовикам доверить строчки! Ровесник века – мой отец, А я – Победы нашей майской, но отблеск на моём лице костров Дворцовой и Сенатской, огней последних баррикад Коммуны праведной парижской. Всех праведных боёв века, в Октябрь и в Май во мне сошлись вы! От запорожских казаков приняв малиновое знамя,[27] веду свои отряды слов, грядущие победы зная!Н.А. Сотников. Памятные встречи на дорогах судьбы. Очерки, стенограмма беседы, творческий портрет, этюд
Виктории полтавской юбилей
Три было у меня устных рассказа, которые всё никак не превращались в очерки из цикла «Памятные встречи». О чём они? На это самое «о» в литературе ответить крайне сложно! Ну для простоты, в рабочем, так сказать порядке, темы условно обозначить можно так: о том, как я видел последнего русского царя и его фамилию, о том, как я в годы блокады Ленинграда получил спецзадание написать сценарий и провести всю работу от «А» до «Я» над документальным фильмом о сборе средств ленинградскими верующими на танковую колонну имени Дмитрия Донского и эскадрилью имени Александра Невского и посему имел весьма необычного консультанта и во многом организатора съёмок – митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского); о том, как я делал по заказу Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР документальный и одновременно научно-популярный фильм «Буддисты в СССР» и на сей раз в резиденции главы буддизма в СССР в посёлке Иволга под Улан-Удэ встречался с бандидо-хаба-ламой Еши Доржи Шараповым. Всё это такая экзотика (да к тому же всё увидено своими глазами и услышано своими ушами!), что эти устные мои рассказы слушали буквально «взахлёб». Правда, кое-кто сомневался, не верил, многократно переспрашивал, стараясь тщательно выведать, где проходит граница между правдой и вымыслом. Я клялся слушателям, а теперь клянусь и тебе, читатель, что вымысла не было. Но не было, конечно, и протокольного занудства, канцелярской описательности. А вот вдохновение было всегда! Если бы не вдохновение, то я бы вообще не взялся бы за свои «Памятные встречи».
Однако почему же именно эти три устных рассказа так долго не ложились на бумагу?
Об экзотичности я уже сказал. Но это особого рода экзотичность. События, со мною происходившие, все были на грани правдоподобия. Поразительна жизнь и деяние в сфере научной и литературной народовольца академика Николая Александровича Морозова, но моё с ним знакомство носило довольно обычный характер, двери у него, конечно, нараспашку открыты не были, но нелюдимым его назвать тоже нельзя! Представителей знаменитой династии Дуровых я видел на арене, с Юрием Владимировичем дружил, его дочку – дрессировщицу и писательницу Наталью знал с детства. Редкая, разумеется, профессия (даже факультета и отделения такого «дрессировочного» в цирковом училище нет), но я так давно знаю мир цирка (и кулис, и арены), что мне в этом ничего экзотического не видится. С тигроловами Богачёвыми в посёлке под Хабаровском беседовал запросто, как со многими своими героями очерков, творческих портретов, документальных и научно-популярных кинофильмов. Иллариона Певцова видел на театральной сцене и на киноэкране, знакомствовал с ним как театральный критик…
А тут совсем иное дело! Существовало и некое табу на такого рода воспоминания. Высшие лица в православии (ведь Алексий стал патриархом Московским и всея Руси) и в буддизме были очень труднодоступны. Увидеть их ещё удавалось. С большими (если не сказать – с огромными!) трудностями согласие на официальную беседу по делам кинематографическим, в которых они были оба крайне заинтересованы, получить оказалось возможным. Но добиться откровенного, простого, светского (не в смысле утончённости и пиетета, а в плане содержания) разговора? Это уже казалось всем моим слушателям фантастикой.
А где фантастика, там сказки и легенды! Задуманные же мною очерки из цикла «Памятные встречи» должны быть строго документальными. Таков был мой замысел, и я не хотел от него отступать.
И всё-таки я решился написать эти три очерка! Начал с царя. Почему? Меня как читателя очень заинтересовала документальная повесть М. К. Касвинова «Двадцать три ступени вниз», напечатанная в журнале «Звезда»[28]. Бывал я и на встречах писателей с историками, которые часто проходили в залах Центрального дома литераторов. Все наши гости-историки так или иначе касались в своих лекциях и в ответах на вопросы из зала самодержавия в России, династии Романовых, характера и образа последнего самодержца… После таких встреч непременно в писательской среде завязывались бурные споры, дискуссии, особенно, когда мы, после лекций переходили в дубовый зал. Для непосвящённых скажу просто, что это теперь цедеэловское название ресторана. Зал действительно дубовый. На моей памяти он был и конференц-залом, и местом митингов, и горьким местом прощаний с ушедшими навсегда друзьями. И вот дружескими компаниями за столиками мы продолжали вести исторические беседы. Кто-то прикидывал, какие исторические темы могут быть лично ему как автору полезны и интересны, кто-то (как правило, критик, теоретик) уже словно обкатывал будущую статью или главу из монографии об исторической теме в литературе, театре и кино. А я просто и простодушно заявлял, что лично видал царя и катался на велосипедах с его дочерьми!
Теоретические споры и практические прикидки, что и как написать, затухали, и все с открытыми ртами слушали рассказ о том, что мог видеть мальчишка из рабочей семьи в 1909 году в Диканьке близ Полтавы.
Рассказ мой был простым, бесхитростным, не побоюсь сказать – простодушным: ведь я старался поведать о впечатлениях, запавших в душу девятилетнего мальчишки. Однако эффект был поразительным! Как правило, самые заядлые спорщики умолкали и после моего рассказа либо переходили к другим темам, либо наступала долгая пауза.
Думаю, что главную роль играл эффект достоверности. Перед слушателями проходили неизвестные страницы минувшего, от которых не оставалось живого следа. Всё сгорело в пламени. Официальная историография и до революции и после давала информацию иначе: первая рассыпалась в любезности, вторая клеймила, жгла, разила и негодовала.
Я тоже негодую. Меня никак нельзя упрекнуть в монархизме. Подобный упрёк меня бы не разозлил, а рассмешил. Мне хочется показать, как что было, на самом деле, без прикрас. А многое в обыденной, повседневной жизни было и прекрасным, и волнующим и вовсе не нуждалось в том, чтобы смести его с лица земли. Например, – дивный парк вокруг дворца Кочубея в Диканьке. Вы в этом сейчас убедитесь.
И ещё одна оговорка. Повторяю, мне было всего лишь девять лет. Теперь я прекрасно понимаю, что это значительно больше того, что такое современный аналогичный возраст. Но и делать ребёнка пророком тоже не стану. Тот мальчишка запомнил всё очень хорошо. В чём-то он был удивлённым, озорным, немного бесшабашным, общительным, приветливым, довольно для своего возраста начитанным, любящим легенды и поверья, предания и сказки родной Полтавщины. Однако местничеством этот мальчишка не страдал. Он ещё не очень себе представлял, что такое Украина в целом, но Россию знал не только по карте – недаром вырос в семье железнодорожника, деповского токаря! Сколько славных рассказов я от друзей отца о российских просторах слышал! С бывалым железнодорожником поговорить порою не менее интересно, чем со старым моряком. А к беседам в нашем доме всё располагало: и уют, и отцовское и материнское гостеприимство, и уединённость на окраине Полтавы нашей маленькой усадебки с садиком и огородом, и трезвый характер нашего застолья. Мать моя, Васса Григорьевна, была кулинарка отменная, сочетавшая в своих познаниях кухню украинскую и русскую. Сама она из русской семьи, вышла замуж за украинца, привыкала долго ко всему, однажды даже вызвала гнев свекрови тем, что в самоваре яйца сварила – спешила отцу в дорогу снеди собрать. Сама она из мещан, крестьян недавних, а отец мой – рабочий в первом поколении, все в прошлом в его роду украинские крестьяне, до отмены крепостного права – и крепостные. Что правда, то правда, хотя очень горькая. Так от 1861 года до времени Екатерины Второй, которую на Украине «вражьей жинкой» прозвали за то, что потомков славных запорожцев в рабство обратила. Об этом и в думах сказано, и в песнях, и в сказаниях. Зато запорожские века – вечная наша гордость! У нас в семье очень те времена и люди почитались. Вот тот вольный казацкий запорожский дух помножился на пролетарскую солидарность и сознательность, и привёл моего отца в ряды активных участников горловских событий 1905 года. И я никогда не забуду, как казаки, только другие во всём – донские, плетьми отца и товарищей его терзали и меня, малолетку, пикой сбросили с моста! За веру, царя и отечество!
По мосту шагом двигались три «донца-молодца»[29]. Завидев молодую женщину, мою бабушку Вассу Григорьевну, которая в корзинке несла обед в депо моему отцу Афанасию Григорьевичу, и пятилетнего мальчонка в белой рубашонке, они с типично разбойным гиканьем и свистом подскочили к нам, один из донцов поддел пикой малыша за рубашонку и, раскрутив в воздухе, швырнул в обмелевшую речку на камни. Рубашонка сразу покраснела от крови, и моя бабушка ринулась к берегу спасать сына. Рядом стирали и полоскали белье украинки и русские женщины. Они, не жалея белоснежного своего белья, обмыли мальчонке раны и перевязали его быстро и умело. Когда Васса Григорьевна к ним подбежала, они вручили ей сына, который ещё не пришёл в сознание.
… Жили мы в Полтаве, а гоголевская Диканька – то совсем рядом – утром выехал даже на волах и к вечеру на месте. А на резвых конях и того быстрее! В Диканьке жила отцовская родня, разнообразная и многочисленная. Все крестьянами и ремесленниками были: кто бондарь, кто пасечник, кто в коновалы вышел, а двоюродный мой дед Григорий – в личные повара самого князя Кочубея[30].
Как мы к Кочубеям относились? Безо всякого подобострастия, по-деловому, можно сказать. Последних Кочубеев уважали за хозяйственность, за размах в делах, за вкус к красоте. Потомков Кочубея, особенно того самого Кочубея, кто вместе с половником Искрой смерть от Мазепы, предателя, принял, прямо скажу – боготворили. О самом (том!) Кочубее рассказов не помню, но про Искру так старики говорили, что он хоть и полковник, но казацкий, запорожский духом, прямо народный герой.
Память о предке и его отважном товарище хранили и последние Кочубеи. В вестибюле дворца под стеклянным овальным колпаком (он внешне напоминал овальные колпаки из оргстекла в уличных таксофонах) как драгоценнейшие реликвии хранились рубахи Кочубея и Искры с тёмными пятнами крови. В благоговейном молчании и с поклоном проходили хозяева и гости мимо родовой святыни.
«А откуда же ты, крестьянский внук и пролетарский сын, об этом знаешь?» – спросит меня читатель. А всё дед Григорий. Он меня во дворец проводить мог не раз, многие помещения кроме личных княжеских покоев показывал, усадьбу почти всю с хозяйственными пристройками. Так что я во дворце и в окрестностях довольно свободно ориентировался. Очень я многие годы спустя (а ведь я с юности в Полтаве больше не был, не довелось!) опечалился, узнав, что усадьба погибла, дворец почти разрушен. Но ещё больше огорчился, узнав, что не одна война виной, а и сами диканьковцы! Самых бедных из них, конечно, понять можно – тут и нехватка самого необходимого, и лютая классовая ненависть, но те старики, которых я знал и помню до сих пор, как хранители истории такие действия не одобрили бы. Отличный мог бы музей получиться! И хозяйственные постройки и заведения добрую службу могли бы сослужить. К тому же места-то самые что ни на есть гоголевские! И музей мог бы быть не только историко-краеведческим, но и литературным.
«А как же охранялся дворец?» Насколько я помню, никак. То есть у ворот всегда были привратники, вблизи работали садовники, слуги, ухаживающие за дикими животными, свободно и спокойно разгуливавшими по дорожкам, по траве… Во всяком случае, жандармов или полицейских я не припомню. Разумеется, крестьяне по усадьбе не разгуливали. Парка культуры и отдыха там не было, но по делам «к Кочубеям», как говорилось, захаживали. Не к самим лично членам княжеской семьи, а к слугам, управляющему. Получали какие-то заказы, спрашивали о работе, выступали посредниками в каких-то мелких сделках. Ведь Кочубеи, свято сохранив «преданья старины глубокой», являясь в ряду первых лиц при дворе, одними, вероятно, из первых поставили сопутствующие усадебному хозяйству предприятия на промышленную, капиталистическую основу. Всего я, конечно, не припомню, не назову, но о пивоваренном заводе речь в Диканьке постоянно шла. Были винодельческое производство, оранжереи, парники, животноводческие фермы. К ним примыкали покосы, пахотные поля, другие угодья. Требовалась тара, нужен был транспорт. Таким образом, выражаясь современным языком, был у Кочубеев довольно крепкий и по-своему образцовый и изысканный агропромышленный комплекс с очень продуманными и разветвлёнными внутренними и внешними хозяйственными связями.
Разумеется, все нити сходились к управляющему, но и сам старый князь по должности своей – ни много, ни мало Главнокомандующий уделами, то есть
ЛИЧНОЙ собственностью царя, в хозяйственные дела вникал. Во многом это было продолжение его, в шутку скажем, «штатной работы» на личном подворье. Могу себе представить, что какие-то дела финансовые и хозяйственные личные перекликались и взаимопересекались с делами царскими и государственными. Богатства были несметные! А вот судя по воспоминаниям ленинградского прозаика и краеведа Льва Успенского, в Петербурге Кочубей внешне, во всяком случае, богатства своего не выказывал. В книге «Записки старого петербуржца» Лев Успенский, в частности, пишет, что у Кочубея неважный выезд, лошади вовсе не смотрелись – клячи какие-то! Может быть, это был определённый маскарад?.. Пушкинские слова о том, знаменитом Кочубее, «богат и славен Кочубей» можно вполне адресовать и к Кочубею последнему. В Диканьке кони его были на загляденье! Прямо какие-то сказочные кони из книг о богатырях и витязях.
Я уже говорил о том, что книги в нашем доме превыше всего почитались. И читались не в пример многим моим знакомым, нынешним, которые золочёные тома дорогих изданий не берут в руки, а используются как декор на полках и стеллажах. Прочитанным мы постоянно обменивались, прочитанное обсуждали. Родители мои постоянно следили за кругом чтения моего и моей сестры младшей Тони. До сих пор помнится мне такой эпизод. Отец, увидев, что я «Принца и нищего» дочитываю, подошёл и говорит: «Обратил внимание на то, какое право даровал король своему близнецу? Он его объявил своим другом и разрешил сидеть в его присутствии и быть при нём в шляпе. Такие же права, я слышал, есть и у последнего Кочубея».
И наконец, последний аккорд перед главной сценой очерка моей детской памяти.
Отец мечтал, чтобы я стал железнодорожным инженером, но для этого необходимо получить среднее образование. Значит – реальное училище. В Полтаве оно славилось и своими педагогами.
Первые месяцы учёбы я был как во сне. Всё было новое, всё удивляло, тревожило, вдохновляло. Потом романтический туман рассеялся, и я стал пристальнее вглядываться в лица учеников и учителей. Из семьи рабочих был только я \ Было ещё несколько мальчишек из семей богатых крестьян, по сути уже не крестьян в собственном смысле слова, а скорее – перекупщиков. Далее шли группы ремесленников, мелких торговцев, мелких служащих. Были среди нас и дворяне. Как я потом понял – по причине их органической неспособности к изучению древних языков и вообще желанию получить знания более практичные. Романтические грёзы в стенах реального училища не витали. На то оно и было реальным.
Реальным было имущественное, и сословное расслоение. Я в этой среде себе не нашёл ни друзей, ни даже товарищей. У меня дома никто из одноклассников не был, ни к кому не ходил и я. У педагогов и директора мы были по обязанности: обычай колядования сохранился и позволил нам заглянуть в святая святых – в учительские квартиры, в директорский особняк. На праздничных столах возвышались традиционные праздничные гуси с антоновскими яблоками, в квартирах было довольно просторно, чисто и уютно, паркетные полы сияли, в печках трещали хорошие сухие дрова. Нас приветливо, но сухо благодарили, одаривали простенькими лакомствами и отпускали восвояси, и мы возвращались в свои дома. У нас тоже было чисто, по-своему уютно, но пол был дощатый, в печи топилось что придётся, гуся на столе не было. На его месте стояла простая, но вкусная материнская снедь. Обычный пролетарский быт, почти полностью лишённый и какой бы то ни было национальной специфической окраски. Так по всей России на окраинах городов уездных и губернских жили квалифицированные рабочие. Другое дело – Диканька! Там отец редко говорил по-русски и в своей белой рубахе с пояском очень походил на запорожского казака со знаменитой картины Репина.
Праздником были беседы в родном кругу, покой, тишина и чтение. Об уроках говорилось мало. Подгонять, заставлять их учить меня не надо было, и учился я хорошо. Четвёрки попадались, но преобладали пятёрки. Сейчас оглядываясь на те годы, я думаю, что от чрезмерной загрузки была и какая-то польза, ибо не находилось места безделью. Работали кружки – духовных инструментов, народных инструментов, в реальном училище действовал свой театр, в котором я с удовольствием переиграл многие роли. Например, в гоголевском «Ревизоре» я Добчинского играл. Говорили – довольно смешно! Но это – уже в старших классах. В целом же надзор был строгим, пристальным, в центре Полтавы всегда можно было попасться на глаза инспекторам. А на нашей рабочей окраине – другое дело. В депо инспекторы не заглядывали, по нашим лачугам не ходили. А вот в состоятельные дома заглядывали, не отказывались и от хлебосольства. Удивительное это было время, и в удивительном месте я рос! Патриархальное соседствовало с новым, а то и новейшим. Город был недалеко от села. Крепостное время у многих было на памяти. А тут того гляди грянет юбилей Полтавской битвы. О том, что это двухсотлетие будет широко отмечаться, говорилось повсюду. В училище даже для младших классов были проведены дополнительные уроки. О гибельных делах в русско-японской войне не вспоминалось. Зато седая древность превозносилась на все лады. Ближе к лету заговорили о том, что приедет царь, вместе с ним будут двор и дипломатический корпус. Торжественный въезд мне посмотреть не довелось, но от старших я слышал, что такому большому числу почётных гостей высшего ранга достойного помещения в губернском городе найти не смогли. И тогда всех в гости к себе пригласил Кочубей. Всех, в том числе и царя с семьей и ближайшими слугами.
Сказать, что в связи с торжествами в городе резко увеличилось число жандармов, я не могу. Возможно, существовали какие-то переодетые агенты, что-то делалось незаметно, но губернаторский дом как один жандарм охранял, так и продолжал охранять, а у входа в усадьбу Кочубея появилось два часовых. Вот и все внешние перемены. Правда, заметную роль во владениях Кочубея стали играть привезенные из Петербурга царские слуги. Одному из них я обязан знакомством с великими княжнами, царскими дочерьми. Вероятно, это был чиновник министерства двора высокого ранга. Одного его взгляда было достаточно для того, чтобы десятки слуг рангом помельче приходили в движение.
В тот день, встретив меня утром у входа в усадьбу, дед Григорий важно и довольно глядел на меня (я приехал на первые в жизни каникулы в форме реалиста, хотя и жарковато было) и торжественно произнес: «Приходи ко мне часам к пяти, внучек, я тебя по-царски накормлю. У князя весь двор в гостях и царь со своим семейством. Вот я и стараюсь. Мне князь сказал: “Григорий! Ты повар отменный! Даю тебе полный простор, но кушанья сам все попробую!” Я на кухне со своими хлопцами теперь днюю и ночую…».
В пять часов подошёл я к воротам. Поклонился, поздоровался, сказал, что иду к повару его сиятельства. Часовые переглянулись, а тут как раз к воротам главный слуга (или как там его по рангу?) шествует. Увидев меня, отозвал одного из часовых, что-то ему сказал, а сам ко мне с расспросами, что я из себя представляю, где учусь, сколько мне лет. И вдруг спрашивает, умею ли я на велосипеде кататься. «Умею», – отвечаю. Вижу улыбку благосклонную: «Будешь сопровождать великих княгинь в велосипедной прогулке. Сейчас я тебя им предоставлю и велю подать велосипед по росту». Научился я кататься на велосипеде, конечно же, в цирке в прошлом году. Да ещё на каком – высоком трёхколёсном, для трюков. Так что простой велосипед для меня был простой забавой.
Возвращается часовой, что-то главному слуге докладывает. Тот, видимо, удовлетворён остался, кивнул головой и небрежно ему рукой повелел на пост вернуться. Часовой отдал честь и вновь встал у ворот. Смотрю, какой-то царский слуга ведёт маленький, весь горящий на солнце велосипед, подводит ко мне и предлагает испытать машину. Я сажусь, делаю несколько маленьких кругов, ловко соскакиваю, как меня в цирке учили, и кланяюсь почтеннейшей публике.
Вижу, что придворные слуги удовлетворены моим испытанием и, вероятно, какой-то информацией обо мне. Меня жестом зовут за собой, и мы входим в парк.
Боже мой, какое это было диво! До сих пор этот парк-сад у меня перед глазами в лучах вечернего солнца. Розовые кусты, диковинные растения, тень сочетается со светом, цвет с цветом, у каждой дорожки свой рельеф, свои пути, повороты, а на газонах пасутся пятнистые олени, гуляют павлины, какие-то диковинные птицы щебечут на деревьях… И весь этот рай в двух шагах от села, не самого бедного на Украине, не самого богатого, но уж, наверняка, самого знаменитого села, в котором откровенной нищеты нет, но бедность приукрашена солнцем щедрым, природой, гоголевскими красками.
Главный слуга подходит к каким-то девчонкам, что-то им говорит, показывает на меня, они улыбаются. Другие слуги девчонкам дамские велосипеды подкатывают. Потом меня за локоток главный к ним подводит, представляет как потомка казаков, потомственного жителя Диканьки, внука любимого слуги-повара его сиятельства князя Кочубея и объявляет меня знатоком (?) парка.
Итак, я выступаю в роли сопровождающего и в какой-то степени гида. Работа в цирке приучила меня не тушеваться, не бояться спектаклей. А это ведь несомненно был маленький спектакль, который я хотел провести достойно для себя и для нашего казацкого рода. Вскакиваю на велосипед, делаю круг вокруг их высочеств и предлагаю следовать за мной. Едем тихо. Это не цирковая арена! Я обращаю внимание «дам» на красоты парка, даю несколько сведений исторического характера, но так – между прочим, неназойливо. Парк большой, великим княжнам прогулка нравится, и мы несколько раз объезжаем основные парковые красоты. Наконец, поворачиваем ко дворцу. Такого задания мне дано не было, но я понял, что долго наше путешествие продолжаться не может. Подкатываем к парадному входу. Я проезжаю несколько быстрее, отрываюсь от моих спутниц и останавливаюсь ближе к знакомой мне двери, ведущей вглубь дворца – там-то ходы к деду Григорию на кухню я найду. Царские дочери останавливаются, о чем-то беседуют, смеются. У них берут велосипеды и откатывают их в сторону.
На крыльце появляется какой-то офицер с бородкой, за ним выходит крепкий русский матрос, держа на руках мальчика. Офицер что-то говорит ребенку, отходит в сторону, всматривается вглубь парка, чешет рукой бородку. Я в свою очередь всматриваюсь в него и… узнаю. Это Николай Второй, портрет которого висит у нас в актовом зале. Да, да именно царь, собственной персоной! Вид у него какой-то не царский, не боевой, а манерами своими он походит на одного знакомого мне кондуктора станции Полтава. Ничего величественного, державного… Постоял и ушёл, сделав знак рукой матросу – видимо, прохладно для ребенка. Вечер действительно свежий. Дочери царские ушли во дворец, а я с черного хода к деду Григорию направился, сдав велосипед какому-то слуге.
Дед со своей развесёлой поварской командой встретил меня как Петр Первый Меньшикова после удачной баталии: «Молодец! Не посрамил роду казацкого!». Меня наперебой стали спрашивать, что было да как. Я отвечал охотно, но рассказывать-то было особенно нечего. А ведь и правда, что особенно – ну покатался на велосипедах с девчонками, которые постарше меня, показал им парк, обратил внимание на красоты. Мой ответ деду Григорию понравился. Больше он ничего не говорил и не спрашивал, а всё меня разными блюдами понемножку угощал, о каждом рассказывал. Я думаю, что дед Григорий с его самообразованием мог бы лекции читать в современном институте легкой промышленности по специальности «технология продовольственных товаров». Действительно самородок! Говорят, и царь, и двор, и дипкорпус угощениями его довольны остались, за хлебосольство князя-хозяина благодарили, славили его умение и имение. А ему только этого и надо.
А меня дед Григорий проводил до ворот, рукой помахал. Я долго в этот вечер в хате, набитой родичами, сидел, рассказывал, слушал. Мне хотя и было-то всего девять лет (да девяти-то и не исполнилось – у меня день рождения в октябре!), но я был впервые со старшими как бы на равных. О казацкой старине говорили, о войне минувшей, о полтавской баталии, о недавних революционных событиях… Не было ни у кого, ни почитания самодержца, ни умиления его приездом. Петра Первого скупо, по-казацки, добрым словом вспоминали, Екатерину Вторую так ругали[31], что мне велели уши затыкать в прямом смысле слова, в общем сами по себе были: вблизи от дворца и в то же время страшно от него далеко.
В тот день я не знал, не ведал, что пройдет десять лет, и я, молодой боец бригады Котовского, промчусь по украинским степям, по старым казацким путям за красным знаменем. А у наших предков запорожцев боевое знамя тоже было красных цветов – только не алое, не бордовое, а малиновое. Не знал, не ведал, что буду рассказывать своим бойцам и раненым как комиссар санпоезда о казацкой старине, о своём детстве, о рабочих Полтавы, о первой русской революции, участником которой был мой отец, о том, как я, учащийся реального училища второго класса, во время летних каникул в легендарном гоголевском селе Диканька праздновал Виктории Полтавской юбилей.
1969–1978
Как я стал котовцем
О Григории Ивановиче Котовском мне говорили, что он величественный как полководец. Рядом с Котовским сам черт не брат. Каким я его первый раз увидел? Был он высокий, ладный, подтянутый, стройный. Гимнастерка на нём светло-серая, словно специально пригнана, брюки слегка отутюжены, красного цвета. Красной была и фуражка.
Каждый день он пудовыми гирями упражнялся, «крестился ими», как говорили бойцы. Обливался ледяной водой, не курил, не пил. Зато очень любил молоко, овощи, фрукты. В разговоре слегка заикался, даже когда командовал: «По-вод!» Коней просто обожал. Подберёт себе лошадь, снимет шпоры, если почувствует, что лошадь щекотки боится, и несколько дней только на ней и гарцует. Потом другого коня объезжать начинает. О лошадях всегда заботился. Помню, как отругал одного бойца за то, что тот коней на солнцепёке держит:
– Давай лошадей в рощу, в тенёк!
Перед водопоем сам лично обязательно пробы воды брал. За кормом следил.
У него конь один был, рыжий. Такой аккуратный – даже косточки выплёвывал, когда вишнями угощался!
Мне Котовский при первой встрече так сказал:
– Иди в пеший полк, раз у тебя коня нет.
А порой решал спорные вопросы так: приказывал бойцу-претенденту на неосёдланного коня сесть, коня легонько хлестанёт, конь взовьётся. Упал – ступай в пехоту. Удержался – твой конь!
Забегая вперёд, скажу, что и младшие командиры на подобный манер бойцов тренировали. Мой наставник, например, учил меня без седла прижимать ляжками к бокам коня царские пятаки. Упал хоть один пятак на землю – плохо, оба упали – очень плохо, сам упал – считай, погиб. Так он нас к боям, к ранениям готовил.
Спрашиваю Котовского:
– А где же мне коня взять, тем более боевого?
– В бою, – отвечает. – И оружие – тоже в бою. Так лучше будет и для тебя, и для всего нашего войска.
Скажете – суров непомерно? А я не соглашусь. Он тут же мог и пошутить, и забавную и в то же время поучительную историю рассказать. А вечерами, представьте себе, хороводы водил! Вообще он был очень музыкальным. Играл на кларнете и, как я помню, довольно умело, вдохновенно и радостно.
… А обстановка на фронтах в ту пору становилась всё напряжённее. Бригада Котовского выходила из кольца окружения, а вся Южная группа Якира отходила от Одессы. Долго мы шли, помнится. Наконец встали на отдых в селе. Я направился к штабному домику. Два рослых конника стояли навытяжку у бригадного знамени. Пропустили они меня к комбригу без препятствий. Вхожу и вижу – Котовский с командирами и начальниками штабов сидят, пьют чай с мёдом и яблоки грызут.
– А, реалист?.. – узнал он меня, запомнил, видать, как я к нему в фуражке реального училища явился. – Откуда в таком виде?
А вид у меня действительно был не очень-то строевой.
– Из белого плена бежал.
– Подробности потом расскажешь. А сейчас иди, отходи в обоз. Будешь пока в комендантском взводе. Штаб наш охранять. Ты ведь теперь, после плена, по белякам специалист большой.
Я сперва на шутку обиделся, а потом понял – а ведь он мне верит, во взвод охраны штаба переводит, хоть я из плена.
Отправилась в обоз. Поел немного, умылся и завалился спать под телегу. Сквозь сон слышу – трубят. Подъём! Сбор. Смотрю – все наши из комендантского взвода – по коням и рысью! У командира нового спрашиваю:
– А мне куда?
– А вот давай на этой телеге, как на танке!
Гляжу – не лошадь, а кляча настоящая. И поклажа далеко не самая боевая: хозинвентарь всякий. Но делать нечего – догонять наших надо!
Атака котовцев шла с холма в долину. Неслись мы по гати, кто-то, срываясь с крутого берега, уже оказался в болоте. Соскакиваю я с телеги и тотчас же проваливаюсь в болото. Стою в жиже болотной чуть ли не по пояс. Вдруг кто-то мне шашку в ножнах подаёт – держись, мол, вытащу. Гляжу – наш взводный. Хитро так подмигивает.
– Инвентарь цел?
– Цел, – отвечаю.
– Давай, правь к тому пригорку (а сам спешился и коню моему помогает). Коня привяжи – ив цепи, принимай боевое крещение.
В том бою завладел я и конём вражеским, и шашкой. Так был дважды крещён: и как пехотинец, и как конник.
Весь бой далеко впереди себя видел наше знамя и знал – ведёт его Котовский. А с ним и воевать, и жить легче. Жаль, недолго я под его началом воевал! После контузии в одном из боёв пристал к полку Григорьева и с ним дошёл до Житомира. В боях, конечно! О марше обычном и речи быть не могло. А там у самого города упал в бою и не встал. Очнулся в госпитале. Так начался мой госпитальный, а затем и комиссарский путь на санпоезде по Украине. Впрочем, это уже другая глава из моей жизни.
1971–1978
Н.Н. Сотников. «На той далёкой на Гражданке…». (послесловие сына спустя 95 лет после времени действия и 45 лет после написания)
Вы только что прочитали эскиз мемуарного очерка о событиях 1919–1920 годов на Украине драматурга, публициста, критика и художественного педагога Николая Афанасьевича Сотникова (1900–1978). Над этим текстом он работал в самые последние дни своей жизни, ещё более сокращённый вариант звучал по Московскому радио. Устными рассказами на эту тему он делился охотно, щедро, но всегда предупреждал: «Всё это так неожиданно, так фантастично, что я никак не решаюсь об этом написать большое произведение. Ведь все скажут – выдумка, никто не поверит!».
Действительно, неожиданного, на грани фантастики в его судьбе много. Вообще биографии ровесников XX века насыщенные, остросюжетные, сюжет имеет множество ответвлений. Само время рождало такие судьбы и такие характеры! Сам факт того, что сын токаря депо в Полтаве, участника революции 1905–1907 годов, потомок запорожских казаков, сам родом из легендарной гоголевской Диканьки, в которой жила его многочисленная родня, а родной дядя Григорий работал главным поваром у князя В. С. Кочубея, любопытен, но не сенсационен. А вот дальнейшее поражает воображение.
«Микола», как его звали и Котовский, и Якир, очень им пришелся по душе: преданный революции, честный, доброжелательный к бойцам и командирам, очень начитанный, хороший оратор с явными литературными наклонностями, имеющий задатки для командирской, вернее, комиссарской и спецработы, он проделал головокружительную карьеру – не в смысле чинов и денег (не за этим шли в революцию!), а в плане реализации своих возможностей. Сперва боец, затем боец взвода охраны штаба в бригаде Котовского, затем ему поручает сам комбриг организовать первичную организацию сочувствующих (это нам сейчас кажется, что сочувствующий – эпитет, нет, они имели членские билеты, выбирали бюро, секретаря и вообще это были кандидаты в ряды партии)… А тут ещё история с пленом, не вошедшая в текст, который вы сейчас прочтёте: подразделение котовцев было окружено махновцами. Кого порубали, кто успел сбежать, а один негодяй выдал отца, назвав его «комиссаром при штабе комбрига».
А дальше начинаются стремительные события, которых хватило бы на полнометражный приключенческий фильм. Дисциплина у махновцев была из рук вон плохая (у петлюровцев – значительно строже). Один махновец вёл отца, передал второму, тот – третьему и в результате, когда отец попал к «батьке» на крыльцо, то уже никто не помнил, «шо це за кацап». Правда, экзамен по разговорному украинскому языку отец выдержал, а «батька» этому моменту внимание уделял большое. Например, он требовал, чтобы пленный правильно произнес слово «пальяниця», очень сложное фонетически для не коренного украинца! Это для тех, кто не знает, особый сорт вкусного, по особому рецепту испечённого белого хлеба.
Настроение у Махно менялось часто, а тут ещё беда на него навалилась: чего-то наелся, и у него начался кровавый понос. Ничего не помогало! Здесь маленькое отступление уместно – мать отца, соответственно, моя бабушка Васса Григорьевна Демская, из русского мещанского рода, была большой знахаркой и целительницей и кое-чему научила сына и дочку Тоню. Отец вызвался вылечить Махно и… вылечил! Но самое удивительное в том, что он, наскоро переодевшись по пути следования, так и не расстался с партбилетом (он уже к тому времени стал членом партии) и с браунингом. Хорошо обыскивали пленных пьяные махновцы, не правда ли?! Так вот, перед тем, как войти в «батькину хату», он умудрился отпроситься «до ветру» и там в соответствующую яму предусмотрительно выкинул браунинг и билет. И оказался прав – в «хате» его тщательно у самой двери обыскали! Тут бы ему и хана, и не было бы ни нижеследующего текста, ни меня, ни этого моего послесловия.
А дальше, как говорится, дело техники. Был расконвоирован, ходил свободно «коло села», в какой-то момент понял: «Пора!» – и совершил спасительный побег. За ним гнались, стреляли, он проскочил насыпь. Железная дорога делала крутой поворот, а на откосе, в ложбинке валялись на боках железнодорожные вагоны. Вероятно, махновцы совершили нападение на состав, всё ограбили, всех поубивали, прокатились ещё с ветерком, а потом и вагоны под откос пустили. Они это, оказывается, очень любили. По душе им были подобные железнодорожные «забавы». Так вот в этих-то вагонах и нашёл своё пристанище на трое суток отец! Голодный, без воды (спасибо, что ещё тепло было!), пожираемый десятками тысяч клопов, которые отлично пережили махновский налёт и славно расплодились в вагонных стенках, он очень точно рассчитал время, когда можно выходить.
Впоследствии он рассказал об этом Котовскому, и комбриг, сам отличный конспиратор, похвалил его за терпение и расчёт.
Когда Ионе Якиру потребовался командир маленького отряда для захвата на одесском рейде белогвардейской баржи с медикаментами (у наших была острейшая нехватка простейших лекарств, йода, бинтов и т. д.), то выбор пал на отца. Благословлял в дорогу отряд сам Якир. Он спросил отца: «Микола, могу дать человек десять, не больше. Кого возьмёшь? Выбирай сам. Тебе воевать!» Отец, зная уже и социальный, и партийный, и национальный состав бойцов, запросил матросов-анархистов. Это были воистину отчаянные головы! И – не ошибся! Операция, о которой можно было бы снимать второй полнометражный фильм, прошла успешно.
Третье задание было и агентурным, и дипломатическим: надо было уговорить Мишку Япончика выделить для обороны Одессы несколько сот штыков на северо-западном, как, помню, мне отец уточнял, направлении. Это уже, считайте, третья серия того же фильма – настолько она колоритна, остросюжетна и драматична!
Очень сожалею, что не уговорил отца провести очень подробные и последовательные устные рассказы об этих двух событиях: он всегда страшно торопился – то совещание в творческом объединении драматургов Московской писательской организации, то доклад на репертуарной коллегии Министерства культуры России, то подготовка семинара молодых драматургов… Дан виделись-то мы редко! Я жил и учился в Ленинграде, он жил и работал в Москве. Текущие дела и заботы заедали. Но вот уже совсем больным в писательском Доме творчества санаторного типа Малеевка он мне с небольшими перерывами часа три подряд живописал историю Гражданской войны на Украине. Я только успевал задавать уточняющие вопросы и кое-что записывать.
Проза – не поэзия. Иные законы. Об отце я впоследствии написал поэму «Гоголь-моголь» о том, как он был комиссаром санпоезда-летучки в окрестностях Житомира (гоголи-моголи он приказал взбивать из яиц, которые осточертели в варёном виде раненым, а больше ничего начпрод достать не смог!) и в поэме «Ровесник XX века» о его детстве и юности в Полтаве. Какие-то нити оборваны, какая-то необходимая фактура сугубо личностного свойства утрачена, увы, – навсегда. Конечно, что-то можно «добрать» в музеях, архивах, книгах, периодике, встречаясь с редчайшими в наши дни участниками тех исторических событий, но всё равно главного они не возьмут. Оно – только в писательском сердце!
В 2001 году, когда пресса отмечала горестный юбилей 60-летия начала Великой Отечественной войны, я перечитал немало разного рода о том воспоминаний. Ни одно из них не отличалось ни художественной новизной, ни художественным совершенством – важнейшими признаками творческого восприятия действительности. Перечитал короткий очерк отца «Война пришла в наш дом не сразу» о первых неделях войны в Ленинграде, и передо мною развернулась возможная художественная кинолента. Воистину, как я пишу в одном из своих стихотворений о творчестве: «Литературный дар – редчайший!»
Так вот, возвращаюсь на окраины Одессы. Отец с группой уже проверенных в тяжелейшем деле матросов (все были переодеты и имели очень убедительные легенды прикрытия) вышли на переговоры с Мишкой Япончиком. Отец был уполномочен обещать амнистию (всё «япончиково» войско было уголовным, и по ним плакали тюрьмы уже давно) при условии, что они будут держать левый фланг обороны.
Вообще-то, честно говоря, либерализм красных был непомерно широким и, как я теперь убеждаюсь всё больше и больше, неоправданным. Дело в перспективе дошло до того, что М. В. Фрунзе лично сам аргументировал амнистию даже вешателя генерала Слащёва так: если мы амнистируем всех, то ведь не делаем исключения для старших по чину! Напомню, что Слащёв (его воспоминания о его «подвигах» будут вскоре изданы в издательстве «Прибой», в котором во второй половине 20-х годов в Ленинграде начнёт работать мой отец) был прототипом Хлудова в пьесе М. Булгакова «Бег», а в постановке этой пьесы Театром драмы имени А. С. Пушкина в Ленинграде в 1963 году за сценой звучали по радио цитаты из приказов М. В. Фрунзе. Всё возвращается на круги своя, всё взаимосвязано. Воистину, история рядом с нами, история в нас, мы сами – история. Это – мой девиз.
Япончик с его «войском» согласились ещё и потому, что белые и петлюровцы им бы никакой амнистии не дали и порешили бы всех до одного. Однако и воевать они не стали и вскоре, оголив левый фланг, разбежались по своим норам и «малинам». Кое-кто прорывался на украинские земли и в молдавские сёла.
Я впоследствии часто спорил с отцом, что можно было бы сделать. Мы с ним даже вычерчивали планы, схемы: кто где и как «стоял». Мне, по-моему, удалось нащупать по его данным один спасительный вариант, но по некоторым причинам отец его посчитал нереальным. Так и пришлось отступать и нашим. До поры до времени, конечно.
На этом закончился самый яркий и самый перенасыщенный событиями период ранней биографии будущего издателя, публициста, критика и драматурга.
Что же касается образа Г. Котовского, то впоследствии я по два раза посмотрел и военных лет фильм «Котовский», и молдавские игровые фильмы о нём, среди которых наиболее впечатляющим оказался «Последний гайдук», и сравнительно недавний фильм «Пыль на солнце»[32] – о тамбовском рейде Котовского, который весь свой отряд переодел в форму белоказаков, себя объявив (как легенду прикрытия) казачьим полковником. Дело было сделано, но были и упущения: один вражёнок из подкулачников сумел разглядеть, что для отряда, пробивавшегося через линию фронта да ещё издалека, «слишком уж всё обмундирование да упряжь справные». Но его быстро заставили замолчать. Навсегда.
Были о Котовском и романы (скучнейшие), были очерки, популярные книги, но, как мне думается, в коротком этюде отца он предстаёт куда более живым и куда более близким к тому, каким он был на самом деле. Ведь помимо всего прочего, авторы других текстов не были с ним знакомы лично.
Что можно о Котовском добавить ещё? Враньё, что он был пьяницей. Он не пил вообще! Презирал пьянство, как и Щорс. Любил здоровый образ жизни. Много читал, прекрасно разбирался в сельском хозяйстве, изучал труды по военному делу.
Ветераны мне говорили, что был к 1925 году план такой: Фрунзе – на первое место в Вооруженных Силах, Котовского – ему в замы! Великолепное сочетание, ибо Котовский нёс в себе огромный талант в спецработе, а это очень важно и в общеармейских условиях также. Уровень здоровья у него был очень высок. Прожил бы в строю и до Великой Отечественной несомненно.
Трагедия его убийства остается загадкой. В те версии, о которых я читал, не верю. А главной версией пока остается одна – убил из пистолета адъютант из-за ревности. Всё это попахивает дурным детективом или романом уровня Булгарина. Да и время было уже иное. И характеры не те. Убит явно по заказу. Кому выгодно? Говорят – Сталину. Какой смысл терять верного и разностороннего и очень перспективного полководца на первых ролях? Я лично в этот вариант не верю, склоняясь к мысли, что это могли сделать его политические враги как по дореволюционному периоду так и по временам Гражданской войны. А врагов и завистников у такого необыкновенного человека было множество!
В так называемые «перестроечные» годы на Котовского стали лить грязь представители так называемой «демократической» прессы. Одну цитату из какой-то статейки помню наизусть: «Настораживает явно уголовное прошлое Котовского». Это у вас, господа, явно уголовное и прошлое, и настоящее, а Котовский был и остался в нашей памяти последним гайдуком, Робин Гудом юга России начала XX века. У него не было ни замков в Западной Европе, ни счетов в швейцарских банках. Как мне рассказывал отец, ему сам Котовский на вопрос в связи с передислокацией бригады, что, мол, упаковывать куда, засмеялся и показал два вещмешка и чемодан с книгами: «Вот положи в ту бричку да с книгами поосторожнее! Сверху тяжестей на чемодан не навали: дряхлый он у меня, ещё книги сомнёт!»
Вот и всё имущество народного героя!
И ещё один завершающий момент. В бригаде любили петь. Пели песни русские, украинские, общие – революционные, пели и «Интернационал», причём, когда – по-русски, а когда – на своих языках (бригада по составу была интернациональной). Как-то разговорился отец с Котовским по поводу текста «Интернационала», сказав, что сличал его с французским оригиналом, что есть явные отличия не только фонетические, но и поэтические и даже политические. «А ты и переведи! – воскликнул Котовский. – Французский разумеешь, стихи пишешь, рифмованные лозунги сам сочинял. Попробуй. Верю – получится!»
Комбриг как в воду смотрел! В 1928 году в Москве отец как журналист возьмёт интервью у приехавшего для знакомства с СССР композитора гимна Пьера Дегейтера. Встреча произведёт на отца такое впечатление, что он всю жизнь будет изучать его жизнь и творчество, напишет сценарий художественного фильма «Певец из Лилля», который начнёт перед самой войной ставить на «Лен-фильме» режиссёр Владимир Петров, всемирно известный постановщик фильма «Пётр Первый», а главную роль будет вести Владимир Честноков, впоследствии – Народный артист СССР, один из ведущих артистов Театра драмы имени А. С. Пушкина. (Мне посчастливилось с ним познакомиться и даже побывать у него дома в 1963 году.) Съёмки начались в Выборге, который немного походит на северные города Франции. Но война погубила всё: картина была законсервирована, производство закрыто, негатив сгорел. Сохранились лишь подготовительные материалы в архиве отца. Некоторые из них вы найдёте в этом томе. После войны восстанавливать съёмочный процесс не стали, хотя были живы и автор сценария, и режиссёр, и исполнитель главной роли. Почему? Это тема особой статьи.
Отец по мотивам сценария написал пьесу. Она с большим успехом прошла в Астраханском драматическом театре, были широкая пресса, рецензии в «Театре», в «Театральной жизни», с искренним интересом спектакль был воспринят во Франции.
Ещё до войны к фильму «Певец из Лилля» отец написал новый вариант «Интернационала». Опубликовать его удалось лишь в 1970 году в журнале «Детская литература», и то не полностью. Вместе с отцом мы доработали первоначальный вариант, и у меня есть теперь на руках совершенно иной вариант перевода творения Эжена Потье.
Так слова комбрига Котовского оказались пророческими.
Н.А. Сотников. «Пусть мой труд остановки не знает…» (Беседа, состоявшаяся с Н. А. Морозовым в Ленинграде в 1934 году)
Н. А. Сотников: Расскажите, пожалуйста, Николай Александрович, о Вашем прошлом.
Н. А. Морозов: Это довольно трудная для меня задача, потому что я никогда не думаю о прошлом. Мне кажется, что думать о прошлом может только тот, кому нечего делать в настоящем. А у меня в голове всегда какие-то замыслы, что-то мне всегда в голову приходит. Я думаю не только днём, но и, просыпаясь ночью. Разные идеи приходят. Все эти идеи относятся или к настоящему времени или к будущему, к перспективам. А в прошлое мне просто некогда заглянуть.
Н. А. Сотников: У Вас две жизни – революционера и учёного…
Н. А. Морозов: И всё-таки они связаны неразрывно. Когда я ещё гимназистом был, все мои интересы носили научный характер. Каждый учебный год мы получали новые учебники. Мои соученики читали гимназические учебники медленно, маленькими порциями, по мере того, как учителя задавали урок, преподносили новый материал. А я в первые же дни прочитывал этот учебник до конца, просто из интереса. С самой ранней юности все мои помыслы были о науке. Я мечтал работать для науки и во имя науки. Ещё будучи гимназистом, я бегал на университетские лекции, посещал университетский музей, принимал участие в географических экскурсиях для сбора окаменелостей…
Но вот эта полоса моей жизни резко прерывается. Я как человек мыслящий не мог не думать о противоречиях окружающей жизни, не мог не сравнивать окружающую жизнь с тем, что мне представлялось справедливым.
Прежде всего меня поразило следующее. Я знал из учебников космографии, что мир образовался постепенно, что были разные географические периоды, что всё это продолжалось миллионы лет, и вдруг мне в гимназии твердят, будто мир создан богом за шесть дней!
Я уже знал, что гром и молния есть явления электрические, и вдруг вижу в церкви икону Ильи пророка на колеснице, мечущего гром и молнию.
Все эти противоречия, которые преподносились нам церковью, навязывались нам в катехизисе и «священной» истории, дали мне почувствовать, что кругом меня господствует зловещая ложь.
И в политическом отношении я знал государства, управляемые выборными представителями, а в церкви то и дело слышал: «Благочестивый император наш и весь царский дом». Нам внушалось, что царь – помазанник божий, что деятельность царя зависит не от воли народа, а от милости божьей.
Всё это привело меня к критическому отношению к нашему российскому образу правления.
В ту пору началось студенческое движение в народ – ведь шли 70-е годы минувшего века. Я как бегавший в университет был знаком со многими студентами. Когда среди них началось движение в народ, я принял в нём участие. За это меня исключили из гимназии, и я вынужден был скрываться, перешёл на нелегальное положение. Естественно, что в таком положении заниматься науками я не смог, и я целиком бросился в революцию.
С гимназических лет я уже писал статьи и стихотворения на лирические и политические темы. Сыграло свою роль и движение в народ, знакомство с крестьянством, с народом. Вот я и отправился за границу, чтобы редактировать там журнал «Работник». С этого началась моя настоящая революционная деятельность.
Однако жизнь за границей, в эмиграции, меня мало удовлетворяла. Я чувствовал, что мои товарищи гибнут один за другим, и меня потянуло в Россию. Я поехал обратно, чтобы разделить участь товарищей. И уже на границе был арестован, посажен в предварительное заключение, где я провёл три года.
В эту пору друзья и знакомые, оставшиеся на свободе, приносили много мне книг для чтения. И тут я впервые стал работать над своим самообразованием. Книги были по преимуществу по политическим вопросам. Тогда же я впервые прочёл труды Карла Маркса и убедился в том, что со времени выхода его книг прежняя политическая экономия уже отошла в прошлое.
И вот я сделался, пожалуй, первым сторонником Карла Маркса в тогдашней России.
Затем меня судили вместе со 192 товарищами. Это был знаменитый процесс «ста девяносто трёх». Так как за мною ничего особенного найти не могли, то объявили меня участником тайного общества.
Как только меня выпустили, учтя моё трёхлетнее заключение, я понял, что в покое меня не оставят, и поэтому сразу же перешёл на нелегальное положение. Вот тогда-то я и познакомился с Софьей Перовской и другими народовольцами. Отнеслись ко мне они серьёзно благодаря тому, что за мною уже было революционное прошлое.
В это время вышли в свет мои книжки стихотворений, которые распространялись нелегально. Однажды вместе с Клеменцом и Кравчинским мы присоединились к прежнему обществу «Траглодит», которое образовало общество «Земля и воля». Редакторами журнала этого общества были выбраны Кравчинский и я. Этот журнал просуществовал до весны 1879 года. Мы успели выпустить всего несколько номеров. Весной среди нас начались разногласия. Одним, в том числе и мне, казалось, что прежде всего нужно свергнуть самодержавие, и тогда народ сам выберет тот образ правления, который он пожелает. Свержение самодержавия было нашей основной задачей.
Другие товарищи пришли к заключению, что политическая реорганизация нашего государства не приведёт к улучшению жизни рабочего класса и что нужно прежде всего обратить внимание на экономические вопросы, на передел земель между крестьянами, на то, чтобы рабочие участвовали в прибыли капиталистов и в конечном счёте взяли фабрики и заводы в свои руки.
Эти разногласия отозвались на всей нашей деятельности. В конце концов, чтобы выяснить наши позиции, был созван сначала Липецкий съезд, где собрались будущие народовольцы, а потом – Воронежский съезд, на который мы приехали с чёрными передельцами.
Народники утверждали, что наша политическая деятельность мешает уделять должное внимание крестьянству, а мы считали, что облегчить положение крестьян при существующем общественном строе невозможно.
В результате и произошло разделение наших рядов на Чёрный передел и Народную волю. Наиболее видными деятелями в Народной воле стали Алексей Михайлов, Софья Перовская, Желябов, а в Чёрном переделе – Дейч, Стефанович, Плеханов, Вера Засулич. С тех пор наша деятельность пошла независимо друг от друга. Моя роль в этой деятельности выражалась в том, что я сделался вместе с Клеменцом и Кравчинским редактором Народной воли. Плеханов возглавил газету «Чёрный передел».
Типография Народной воли была арестована в январе 1880 года, и товарищи предложили мне снова поехать за границу, чтобы там редактировать толстый революционный журнал, который вернее назвать альманахом.
За границей я очень быстро с помощью нескольких русских эмигрантов организовал это издание. Первой книжкой вышла «Парижская коммуна», второй – «Мечты всеобщего социализма» Шабли. Когда дошла очередь до третьего выпуска, я захотел напечатать что-либо из произведений Карла Маркса. С этой целью я отправился в Лондон, где и встретился с Марксом.
Маркс жил тогда в предместье Лондона, в небольшом хорошеньком белом домике, к которому нужно было ехать частью подземной дороги. Первый раз я поехал к Марксу с моим товарищем Гартманом, который жил в Лондоне и был хорошо знаком с Марксом.
Когда мы подошли к домику Маркса, Гартман ударил три раза молоком в дверь, как это тогда полагалось. Нас встретила молодая девушка, которую Гартман по-английски спросил:
– Мистер Маркс дома?
Она по-английски ответила:
– Нет.
В это время вышла дочь Маркса Элеонора, молодая стройная девушка, и обратилась к Гартману как к хорошему знакомому. Разговор у нас шёл по-английски, но так как я английским языком владел плохо, то в первой же фразе я употребил несколько французских слов. После этого Элеонора сразу же перешла на французский. По-французски наш разговор пошёл сразу же раскованнее и свободнее.
Элеонора нам сообщила, что отец ушёл заниматься в читальный зал Лондонского музея, вернётся он поздно вечером, но завтра будет дома и будет рад вас видеть.
На следующий день мы были в назначенный час у него в гостях. Маркс тогда имел совершенно такой же вид, как вы можете себе представить по портретам. Это ведь были портреты того времени, техлет. Я ему, помнится, так и сказал: «Как вы похожи на свои портреты!»
Маркс засмеялся и тотчас парировал:
– Очень странно находиться в положении, когда люди похожи на свои портреты, а не портреты на людей.
Потом Маркс стал расспрашивать меня о Народной воле, о нашей деятельности и сказал, что придаёт большое значение нашей организации. По его мнению, в Западной Европе такая деятельность была бы совершенно невозможна, а начавшись у нас, она может привести к восстанию пролетариата в Западной Европе и таким образом послужить сигналом для мировой революции.
Общее впечатление о Марксе у меня сложилось такое. Он на меня произвёл впечатление человека, понимающего своё значение в науке. Манеры его были профессорские. Держал он себя с достоинством, но просто и раскованно. Вообще это был человек полный достоинства и уверенности в своём значении. Со мной он держался очень приветливо. Видно было, что он от души сочувствует нашему делу.
Когда я попросил Маркса какую-либо из его работ для перевода в России, то он выразил готовность сам отобрать нужные книги и предложил мне придти к нему на следующий день.
Второй раз я пришёл к Марксу без Гартмана. Маркс дал мне с десяток своих различных небольших книжек, в том числе и «Коммунистический манифест».
Принимали нас в доме у Карла Маркса очень приветливо. Мы у него пили чай с бисквитами. Элеонора принимала живое участие в нашем разговоре. Маркс с дочерью вызвались проводить меня до станции железной дороги, которая была в полукилометре от их дома. Здесь мы и простились. Когда поезд тронулся, мы замахали друг другу платочками.
Дорогой я стал изучать произведения Маркса и пришёл к выводу, что лучше всего начать с «Коммунистического манифеста». Об этом я и рассказал товарищам, вернувшись в Женеву. Они с этим согласились и сейчас же начали переводить текст «Манифеста». Но раньше, чем мы успели завершить перевод, я получил письмо от Софьи Перовской. Было это в декабре 1880 года. Она писала, что назревают чрезвычайно важные дела, и моё присутствие в России необходимо. Просила меня приехать при первой же возможности. Я немедленно собрался и отправился в путь железной дорогой. При переезде через польскую границу я был арестован и посажен сперва в Сувальскую тюрьму, а потом в Варшавскую цитадель. При аресте я назвал себя студентом Женевского университета Лакьером, так как у меня был паспорт моего друга студента Лакьера. Однако мне не поверили. Вскоре меня перевезли в Петербург и посадили в Дом предварительного заключения, где меня сразу же узнали.
В то время, как я сидел в Варшавской цитадели, произошло убийство Александра II. Узнал я об этом от моего товарища соседа по заключению польского революционера Бальницкого.
Тут я решил, что жизнь моя кончена – смертной казни не миновать. Стал внутренне к ней готовиться. Но мои товарищи, которые непосредственно участвовали в покушении на убийство Александра II – Желябов и Перовская – стали впереди меня перед лицом смерти. Сначала судили их. Пять человек приговорили к смертной казни. Казнили. А затем, почти через год, судили девятнадцать народовольцев и меня с ними. Тех из них, кто принимал непосредственное участие в различных покушениях и вооружённых действиях, приговорили к смертной казни. А меня как сотрудника журнального, пропагандиста, литератора – к бессрочному заточению в крепости.
Приговор к пожизненному заключению сначала привёл меня в полное недоумение. Я этого никак не ожидал. Поразмыслив, я почувствовал, что у меня начинается какая-то другая, новая жизнь, что я ещё могу что-нибудь сделать в будущем.
Я надеялся, что меня отправят на каторгу в Сибирь, но надежды мои не сбылись. Не прошло и двух-трёх недель после вынесения приговора, как вдруг ночью дверь в мою камеру отворилась, и в камеру с шумом ворвалась толпа жандармов вместе со смотрителем. Они принесли мне куртку, арестантский костюм и приказали раздеться. Когда я одел серую куртку, нацепил такие же серые башмаки, два жандарма подхватили меня под руки и в сопровождении остальных участников ночного дозора потащили меня во двор. Я думал, что меня сейчас начнут пытать, чтобы я дал какие-то новые нужные им показания, так как на судебном заседании показания давать отказался и лишь заявил, что признаю себя революционером, а любые показания революционера могут нанести вред его товарищам и соратникам по борьбе.
Так вот, тащат меня по коридору… Внезапно сбоку открывается какая-то маленькая дверь. Мы устремляемся туда. Ночной стылый мрак. Зима. Впереди вырастает какая-то стена. Вижу, сверху валят хлопья снега. Увидел я снег и сразу как-то на душе покойнее стало. Очень я с детских лет любил зимнюю пору!.. А между тем меня продолжают тащить между зданиями по каким-то узким переходам. На нашем пути возникали ворота, которые будто бы сами отворялись и пропускали нас, а потом вновь затворялись. Вытащили меня из бастиона. Я увидал перед собою берег реки, мостик и дальше невысокое здание. Я сразу понял, что это Алексеевский равелин. Меня вытащили в коридорчик, тоже тускло освещённый. Вдали стоял часовой с шашкой через плечо. Сбоку от него шёл ряд дверей. Одна из этих дверей отворилась при нашем приближении, и меня туда ввели. Оказалось, что это камера. Новый мой смотритель заявил мне: «Сюда входят, но отсюда не выходят. Это хуже смертной казни. Никаких книг, никакой переписки и никакого выхода».
Затем смотритель ушёл, и я остался один. Осмотрелся. Обнаружил кровать, одеяло. Я скорей лёг, закутался в одеяло, чтобы согреться. И, как ни странно, довольно быстро уснул, несмотря на весь ужас пережитого и страшный, почти могильный холод моего нового жилища.
Когда я проснулся, дверь отворилась, и мне принесли завтрак: чай в стакане, сахар и булочку. Я страшно удивился: нам ведь кроме чёрного хлеба в крепости ничего не давали и вдруг такая роскошь! Потом, смотрю, приносят обед: курица, суп и даже бисквит. На ужин опять чай (два стакана!) и опять булочку.
В первый же «алексеевский» день я успел простучать в стену камеры и познакомиться с соседями. Мне ответил товарищ по процессу. Рядом, говорит, – Исаев, Триголин… Когда день кончился, Триголин мне передаёт: «Неужели нас всегда так кормить будут?» Но не прошло и двух дней, как приносят нам вместо чая простой кипяток и кусок чёрного хлеба, а на обед – пустые щи, в которых плавают несколько лепестков капусты, и кашу на постном масле. На ужин – опять же кружку кипятка и чёрный хлеб.
Как оказалось, нас не знали, как содержать – не было инструкции. Пришлось доложить царю. И вот получили распоряжение от самого царя – «На кипяток и чёрный хлеб!» Потом, уже после Октябрьской революции обнаружились документы, гласившие, что обо всей нашей жизни царю доносили ежемесячно.
От этой пищи мы страшно исхудали, показались рёбра, стали пухнуть ноги, началась цинга, а вскоре появились кровавые пятна на ногах. Когда эти пятна поднимались до живота, человек умирал.
Моя опухоль поднималась к животу месяца два. И вот однажды отворилась дверь, и ко мне вошёл доктор Вильямс. Он осмотрел меня и дал своё весомое заключение – цинга. Прописал железо и кружку молока на ночь. Постепенно цинга стала проходить, но ходить на таких изувеченных ногах было невыносимо больно. Однако я предвидел – если лягу, и не буду делать попыток вставать и передвигаться, то не встану уже никогда. Так я заставлял себя двигаться, двигаться, двигаться…
На протяжении полутора лет меня (и моих товарищей – я знал об этом по нашей связи) то вгоняли в цингу, то излечивали от неё. Это продолжалось трижды! Третьей атаки половина наших товарищей не выдержала. Поправились Триполев, Фроленко, я и несколько других товарищей. А за это время нам готовили новоселье – в Шлиссельбурге строилась для нас новая тюрьма.
В Алексеевском равелине мы провели три года. Однажды отпирается моя камера и входят ко мне смотритель в сопровождении жандармов и ещё какого-то человека в штатском, который несёт цепь, наковальню и какие-то другие приспособления. Меня заковывают по рукам и ногам в цепи и наручники. Затем они пошли к моим товарищам. Я слышал, как их заковывали – такой стоял в наших каменных казематах звон!
Когда они вышли из камер, мы успели немного пообщаться, перемолвиться на ходу. Мы не представляли себе, куда нас отправят – на Сахалин или в Шлиссель-бургскую крепость.
Перевозили нас ночью. Опять отворялась дверь, опять волокли нас жандармы. Помню опять берег реки. Нева! Какой-то помост внизу. Первая мысль бросилась в голову: «Не хотят ли нас утопить в кандалах?!» Но вскоре обнаружилось, что перед нами баржа, а в ней – небольшой люк. Два жандарма подхватили меня и опустили в этот люк. Я очутился в коридоре, освещённом лампочкой, увидел часового, а по сторонам ряд небольших чуланчиков. В один из таких чуланчиков меня и втолкнули. Тут я окончательно понял – нас повезут на барже.
Через каких-нибудь полчаса зашумела за бортом вода. В чуланчике была маленькая форточка, сквозь которую виднелся кусочек неба. Я смотрел и думал: «Если по дороге будет один мост, то нас везут в море, если в Шлиссельбург, то два моста». Смотрю – проехали один мост, за ним второй. Значит, – Шлиссельбург!
Было уже светло, когда баржа остановилась. Два жандарма вытащили меня из люка на палубу. Перед глазами высокий серый бастион, а над воротам надпись: «ГОСУДАРЕВА КРЕПОСТЬ».
Меня потащили под руки мимо церкви. Отворились ворота, и я увидел новое каменное здание с решётками на окнах. Сперва меня поместили в маленькую Камеруна первом этаже. Кандалов не снимали. Затем (примерно через неделю) расковали, и я очутился в небольшом помещении – шагов четыре в ширину и шагов пять-шесть в длину. Койка была прикована к стене. Был ещё и столик, тоже к стене прикованный.
Так началась моя жизнь в Шлиссельбургской крепости. Первое время нас даже не пускали прогулку. Затем стали выводить на четверть часа, поодиночке. Месяца через два спросили, не желаем ли мы чего-нибудь почитать. Оказывается, в Шлиссельбургскую крепость была привезена из какого-то учёного учреждения целая библиотека томов в триста, в которой были учебники и книги по всем наукам за исключением политической экономии и социальных вопросов. Вот тогда-то я и набросился на чтение этих книг!
Письменных принадлежностей сначала не давали, но потом стали выдавать пронумерованные тетрадки. Я принялся за работу. Решил изучать все науки, какие только возможно. Покончив с одной наукой, я принимался за другую. И меня это спасло – нравственно, физически и интеллектуально! Другие товарищи не выдержали пребывания в одиночных камерах. Один из них – Грачевский – воспользовавшись тем, что в камере была керосиновая лампа, облил свою койку керосином, бросился на неё ничком и сгорел заживо раньше, чем жандармы успели обнаружить дым.
Другой наш товарищ, Мышкин, бросил тарелкой в смотрителя, за что и был расстрелян.
Щедрин и Конашевич сошли с ума.
Тогда нам разрешили ходить на прогулку вдвоём и увеличили время прогулок. Но самое главное – нам устроили мастерскую, в которой разрешили работать. Это была переплётная мастерская, в которую нам привозили книги, преимущественно научного содержания.
Так и шло наше время.
Получив возможность читать, писать и вычислять, я принялся за разработку тех мыслей, которые у меня возникали при чтении различных книг.
Первой моей научной работой было определение времени Апокалипсиса. В этой книге я нашёл много мест, посвящённых астрономии. Я произвёл расчёты и пришёл к выводу, что «Апокалипсис» написан не в 70-х годах первого столетия нашей эры, а в 395 году и завершён 30 сентября. Таким образом, его авторство принадлежит вовсе не Иоану Богослову, Иоану Златоусту. Это первое, что навело меня на мысль о пересмотре истории.
Под этим астрономическим углом зрения я стал изучать Библию и Книгу пророков. И увлёкся. Систематические научные занятия стали нормой моей тюремной жизни. И спасли меня. Благодаря им, я уцелел. Так я учился, мыслил и жил четверть века!
Освобождение из тюремной крепости произошло через 25 лет, в октябре 1905 года. На прогулку вдруг явился жандарм и объявил, что меня вызывают в первый огород. Иду. Вижу – там собрались уже все мои товарищи. Стоит комендант и спрашивает:
– Все ли собраны?
– Все! – ему отвечают.
И тогда он нам объявляет манифест государя императора. Согласно манифеста, те, которые сидят здесь свыше десяти лет, отпускаются на свободу, а те, кто менее десяти лет, – отправляются на поселение в Сибирь.
– Но, – заявляет комендант, – это будет не сразу и не сейчас, а дня так через три, когда мы всё подготовим для вашей отправки. А теперь я предлагаю тем из вас, кто писал в заключении (говорит и на меня смотрит), вот, например, номеру четыре (а это мой тюремный номер) сдать научные труды мне на просмотр. Что будет можно, я на волю выпущу.
Так как у меня была целая кипа тетрадей, которые, если их сложить в столбик, доходили бы до пояса, я решил, что если я ему их дам, он их мне ни за какие просьбы не вернёт. Да и как ему за два дня просмотреть такое число страниц! А в моих тетрадях чисел было больше, чем текста. Ещё подумает, будто я шифровкой пользовался. Поэтому я пошёл в мастерскую, сделал ящик для того, чтобы спасти свои тетради. Однако крышку я не прибивал, а взял ящик к себе в камеру.
Через два дня явился комендант и спрашивает:
– Почему Вы не представили для просмотра тетради? Раз они мною не проверены, значит, они здесь и останутся.
Я ему отвечаю, что для даже беглого просмотра их нужен целый месяц, не менее.
Тогда комендант подумал и говорит:
– Вы ведь приедете в Петербург и не сразу попадёте на свободу. Отправлю-ка я всё это в Петропавловскую крепость в запечатанном виде в распоряжение коменданта Петропавловской крепости.
На том и расстались.
Через два дня после моего перевода вновь в Петропавловскую крепость открывается дверь камеры, жандармский офицер с порога объявляет:
– Вас на свидание.
Оказывается, это было свидание с моей сестрой Верочкой. Встреча с ней состоялась в кабинете самого коменданта. Комендант, завидев меня, говорит:
– Вот и Ваша сестра.
Потом положил на стол часы и уже более холодным, казённым тоном произнёс:
– Вам даётся для разговора двадцать минут.
А сам сел у другого конца стола. Я стал расспрашивать Верочку о её жизни, о наших родных, а затем кратко поведал о жизни своей. Потом обращаюсь к коменданту и говорю:
– Генерал, у меня масса научных работ было написано за годы моего пребывания в Шлиссельбургской крепости. Нельзя ли их передать моей сестре?
Генерал тотчас позвонил в колокольчик. Появился унтер-офицер. Комендант Петропавловской крепости строго спрашивает этого унтер-офицера:
– Что, с Морозовым привезли какие-нибудь вещи?
– Как же, как же, Ваше превосходительство, целый ящик, запечатанный печатью коменданта Шлиссельбургской крепости.
– Ну, раз ящик за печатями коменданта Шлиссельбургской крепости, значит, там ничего вредного нет. Передайте этот ящик даме. Она может взять его с собой.
Таким образом, мои сочинения уцелели благодаря тому, что два коменданта поочерёдно спихивали с себя ответственность!
Выпустили меня на свободу. Радости моей не было границ, но сразу же появились и границы – мне было разрешено проживание в Петербурге с тем, чтобы я каждое утро ходил в отделение и получал паспорт на каждый день. Так я прожил две недели!
Я поделился своими горестями с одним знакомым адвокатом, защищавшим в ту пору политических. Он поехал в Сенат и стал доказывать, что я выпущен на свободу безо всяких ограничений. У него были связи, знакомства, и ему удалось познакомиться детально с новыми положениями о выпущенных на волю. В итоге пришлось обратиться к министру юстиции Щегловитову. Тот вошёл в моё положение и приказал, чтобы мне выдали паспорт на три месяца с тем, чтобы я в течение этих трёх месяцев приписался бы к одному из привилегированных сословий и получил постоянный паспорт.
Получив временный паспорт, я отправился к себе на родину в Мологский уезд, в город Мологу. В этом городе жили четыре мои сестры с мужьями, которые были хорошо известны местному начальству. Сейчас же мне представили мещанского старосту с тем, чтобы он приписал меня к мещанам города Мологи и выдал документ на жительство. Староста этот сказал, что он считает для себя честью приписать человека с такой судьбой, как у меня, к мещанскому сословию. Вскоре меня прописали и выдали постоянный паспорт и свидетельство мещанина города Мологи.
После того, как я был выпущен из Шлиссельбургской крепости, все тогдашние либералы[33] хотели со мною познакомиться. За это время я приобрёл массу новых знакомых. Так я познакомился и с моей будущей женой – племянницей писательницы Марии Валентиновны Ваксон.
Переехав в Петербург, я сразу же вошёл в круг учёных. С этих лет стали издаваться мои книги. Вот некоторые из них: «Откровение в грозе и буре», «Периодические системы строения вещества», «Менделеев и значение его периодической системы для химии будущего», «В начале жизни», «Из стены неволи», «Основы качественного физико-математического анализа», «Законы сопротивления упругой среды движущимся телам», «Начала векториальной алгебры в их генезисе из чистой математики», «В поисках философского камня», «На войне» (об этой книге хочу сказать особо – это мои воспоминания о втором годе Первой мировой войны, мне довелось побывать на передовых позициях), «Повести моей жизни» и многие другие.
Немало я работал и как редактор, организатор ряда изданий. Под моей редакцией выходили такие книги, как «Введение в дифференциальное и интегральное исчисление и дифференциальные уравнения», «Техническая энциклопедия», и, наконец, «Детская энциклопедия»
Одной из наиболее значительныхмоихработ была книга, вышедшая в свет под названием «Христос» – это история народов в свете естествознания. Название придумал не я – у меня был другой вариант – длинный и слишком наукообразный. Мой издатель – Ионов – обратил внимание на то, что у меня очень много упоминаний о христианстве и посоветовал в целях привлечения читательского внимания назвать моё сочинение «Христос».
Так в книгах началась моя новая жизнь. Жена моя, по призванию актриса, посвятила свою жизнь моей работе. Она помогла мне во всём, читала корректуры и даже научилась делать для меня кое-какие вычисления.
В настоящее время я работаю над применением астрономии к метеорологическим явлениям. Я пришёл к заключениям, что наша погода зависит не только от перемены солнца, но и от всего нашего галактического космоса. Для доказательства этого тезиса нам придётся переделывать все метеорологические таблицы солнечного времени на звёздное. Эта работа представит большие трудности, но провести её совершенно необходимо для определения влияния галактики на метеорологические явления и даже на землетрясения. Землетрясения вообще, по моему убеждению, бывают тогда, когда местность подвергается притяжению галактики при суточном вращении земного шара.
Кабинетная работа не стала для меня единственной. После выхода из Шлиссельбургской крепости я сразу же познакомился с Лесгафтом, который пригласил меня читать курс химии. Так я стал профессором химии, начал свою преподавательскую деятельность.
Вместе с тем я немало ездил по России, читал лекции по самым разным отраслям знаний, в том числе, кстати и по авиации. Читал даже лекцию в авиационном училище о культуре и научном значении воздухоплавания.
В Академии Наук СССР я являюсь почётным членом. Я представил туда четыре научных труда: «О частоте землетрясений», «О влиянии электрического и магнитного поля планет на устойчивость их орбит», «Об абберации и вращении наблюдательной базы» и о том, что сила тяготения распространения со скоростью света.
Да, я поставил свою жизнь исключительно научной деятельности, в которой вижу главное орудие для будущего счастья человечества. Насколько хватит сил и сейчас отдаю всё своё время и все силы науке, и мне часто вспоминается стихотворение, которое я повторял ещё в юности много раз:
Догорает свеча, догорает, а другого светильника нет. Пусть мой труд остановки не знает, пока длится мерцающий свет. Пусть от дрёмы, усталости, скуки ни на миг не померкнет мой взгляд. Пусть мой ум, моё сердце и руки сделать всё, что возможно, спешат, Чтоб во сне меня мысль утешала, что последняя вспышка ума, что последняя искра застала за работой полезной меня.Вот и судите сами, одна жизнь мною прожита или две! Всё-таки, наверное, – одна, потому что нет революции без науки и нет науки без революции.
Н.Н. Сотников. Ломоносов лет совсем недавних
Удивительнейшие бывают в истории совпадения: в тот день 30 июля 1946 года, когда родился автор этих строк, в посёлке Борки Ярославской области скончался человек, которого мы по праву можем называть Ломоносовым XIX и XX веков. И датировка эта сомнения не вызывает, ибо прожил на свете Николай Александрович Морозов 92 года! При этом он работал до последнего мига своей жизни. Правда, список долгожителей столь почтенных можно продолжить: это и классик бразильской и мировой литературы Жоржи Амаду, и классик исландской и мировой литературы Халдор Лакснес, и наш корифей, писатель и академик Леонид Леонов, и величайший Гёте, который незадолго до своего 82-летия завершил вторую часть «Фауста», а в самый последний день своей жизни залпом прочитал французскую книгу о революции в Париже 1830 года, и 87-летний академик Павлов, и, скажем, наш несравненный карикатурист Борис Ефимов, который открывал свою юбилейную выставку в 100 лет, и 100-летний хирург Ф. Углов. Всё это так, но все они не сидели почти 30 лет в могильных казематах Петропавловской крепости и в крепости Шлиссельбургской!
Химик, математик, астроном, языковед, полиглот, знавший 11 языков, историк, геофизик, астрофизик, метеоролог, воздухоплаватель, основатель аэрофотосъемки, философ, знаток политической экономии, публицист, директор Естественнонаучного института имени Лесгафта, прозаик, поэт, а самое главное – революционер-народоволец, которого не сломили никакие испытания, феноменально трудолюбивый и обаятельный человек, которого знали и ценили Карл Маркс, В. И. Ленин, Лев Толстой, Илья Репин, написавший четыре его портрета, химик Д. И. Менделеев, историк Е. В. Тарле… Я перечисляю только звёзд первой величины XIX и XX века. Причём самое интересное, что все его признавали за «своего»: историк Н. М. Никольский спорил с ним по поводу его ошеломляющей гипотезы о сдвиге хронологии истории человечества на несколько веков, химик Д. И. Менделеев ходатайствовал о присуждении ему степени доктора химических наук без защиты диссертации по совокупности трудов, биолог и физиолог, теоретик физкультуры и спорта П. Ф. Лесгафт поручал ему руководить кафедрой астрономии в своей Высшей вольной школе в Петербурге; его считал своим соратником и коллегой К. Э. Циолковский, его высоко ценили братья Вавиловы; физик Курчатов подтверждал его физические гипотезы; своим коллегой по литературному перу его считали Валерий Брюсов, Владимир Короленко, Владимир Гиляровский…
Сохранилась славная фотография гостей на знаменитых средах в репинских Пенатах. Хотя все по возможности готовятся к съёмкам и ощущают на себе «взор» фотообъектива, видно, что в центре внимания именно Н. А. Морозов. Все взгляды были обращены к нему. И только фотосъёмка, в ту пору довольно долгая процедура, заставила их перегруппироваться. Глядя на Морозова, никак не скажешь, что этот человек почти три десятилетия видел только клочок неба в тюремном окне. Но он сидел не в тюрьме, а во Вселенной, постигая её тайны, постоянно обогащая свою память, изучая науку за наукой, язык за языком… Одна только библиография его публикаций представляет собой брошюру почти в сто страниц, в ней только сочинений самого Морозова около четырёхсот!
Нельзя сказать, что о нём не писали, в том числе и книги. Есть очень основательное историческое исследование В. А. Твардовской «Н. А. Морозов в русском освободительном движении» (не удивляйтесь «сходству» фамилий – это действительно дочь нашего выдающегося поэта и литературного деятеля А. Т. Твардовского), есть очень обстоятельная книга Б. С. Внучкова «Узник Шлиссельбурга» (однако она вышла в Ярославле и есть далеко не в каждой даже крупной библиотеке). Я уже не говорю о книге философа С. М. Жданова «Н. А. Морозов» на украинском языке, да ещё тиражом 1100 экземпляров!
Поэтому можно сказать смело – мы и знаем о нём и почти не знаем его: труды и сочинения учёного и литератора давно не переиздавались, широкому кругу читателя почти всё недоступно. А о некоторых сторонах его дарования (например, он был выдающимся популяризатором науки и лектором, только за период с 1908 по 1916 года он выступал в 54-х городах, в том числе на Украине, в Сибири и на Дальнем Востоке!) мало кто осведомлён. Почти никто не знает о его журналистской деятельности в годы Первой мировой войны: шестидесятилетний недавний узник страшнейших тюрем сам, добровольно отправился на фронт как представитель либеральной газеты «Русские ведомости». Его журналистские произведения составили сборник «На войне. Рассказы и размышления», вышедший в свет в Петрограде в 1916 году.
Вот такой феномен! Работая над морозовской темой в продолжение трудов своего отца, автора документальной повести «О чём рассказали звёзды», я отправил письмо в дом-музей Морозова в Борках. В 1991 году мне пришёл любезный ответ директора музея Т. Г. Захаровой, которая подтвердила, что в музейных фондах есть машинописная копия девяти страниц на машинке (а у меня – 19 страниц) из Архива Академии наук СССР (ныне – Российская академия наук, РАН) записи беседы моего отца Н. А. Сотникова с Н. А. Морозовым для кинолетописи 15 апреля 1941 года и фотографии с трех кинокадров кинохроники от 23 апреля 1941 года (Морозов с женой Ксенией Алекеевной проживал в своей ленинградской квартире по адресу: улица Союза Печатников, 25а).
Вероятно, речь идёт о второй встрече отца с Морозовым, спустя, как я теперь подсчитал, семь лет, однако главной, наиболее содержательной беседой отец считал первую, а про вторую в своих устных рассказах даже не упомянул.
Не исключаю возможность, что было три фильма, как говорят в таких случаях кинодокументалисты, «три сюжета» – поболее от 1934 года, покороче от 15 апреля 1941 года и совсем короткий, хроникёрский – от 23 апреля того же года. Знаю, что отец в ту пору был очень занят на «Ленфильме» как автор сценария фильма о композиторе, авторе «Интернационала» Пьере Дегейтере, и штатной работой на «Леннаучфильме» как заведующий сценарным отделом. С кинохроникой он мог сотрудничать лишь внештатно, как автор.
Очень хочется увидеть кинокадры с Морозовым, но ведь надо для этого специально ехать в Борки, в музей!
… Когда вы будете проходить по улице Союза Печатников, обратите, пожалуйста, внимание на мемориальную доску на доме 25а: «Здесь жил и работал с 1906 по 1941 год революционер и учёный, почётный академик Николай Александрович Морозов (1854–1946)».
И под конец сенсация! 88-летний Н. А. Морозов в 1942 году из Борок вызвался прочесть ряд лекций бойцам и командирам Волховского фронта, которые встретили его очень уважительно и радушно: с удовольствием выслушали его беседы и уступили его странной просьбе пройти по траншеям как можно ближе к передовой. При этом он что-то прятал за пазухой… Когда его привели на исходный рубеж и он заметил фашистских солдат на расстоянии выстрела, то выхватил из-за пазухи какой-то странный большущий пистолет с оптическим прицелом и уложил наповал несколько фрицев!
Оказывается, это тот самый пистолет, который он, народоволец, предназначал сперва для Александра II, а затем для Александра III, люто ненавидевшего
Морозова-Щепочкина (по настоящему отцу а не крёстному) за то, что против него вступил в непримиримую борьбу его родственник: ведь прадед Морозова был женат на Е. А. Нарышкиной и находился в близком родстве, соответственно, с самим Петром Первым!
Вот какие невероятные сюжетные ходы рождает история!
А теперь несколько слов непосредственно о том, как создавалась кинолетопись 1934 года.
Напомню читателям, что тогда не было ни телевидения, ни видеозаписи, но запечатлеть в памяти потомков кинокадры с выдающимися деятелями науки, литературы и искусства было так заманчиво! И вот на каком-то очень высоком уровне приняли решение снять несколько фильмов не для показа, а, так сказать, впрок. Среди кинематографистов, которым была доверена эта работа, был мой отец.
С Н. А. Морозовым литератор и сценарист нашли общий язык быстро, миром кино Морозов, как выяснилось, увлекался (чем только не интересовался этот Ломоносов и Леонардо да Винчи XIX–XX веков!), а чисто по-житейски он оказался очень покладистым, очень гостеприимным и даже хлебосольным хозяином. Напомню, что время съёмок было нелёгким – ещё не были отменены карточки, но к приходу съёмочной группы на квартиру к Морозову стол уже ломился от такого изобилия съестного, что, как с юмором вспоминал отец, «все наши от увиденного лишились дара речи и чуть не попадали в голодные обмороки»! Заприметив некое замешательство, чуткий и очень добросердечный герой будущей киноленты сразу же предложил всем помыть руки и «откушать с дороги».
На столе были овощные блюда, грибы разных видов, птица, телятина! Предваряя вопросы, Морозов, добродушно посмеявшись, представился всем ещё раз: «Перед вами последний советский помещик! Наследственное имение Борки превращено в совхоз, но личным указом Ленина часть разнообразной сельхозпродукции поставляется мне в виде натуральной платы. Так что мои продовольственные траты сведены к минимуму и… (тут Морозов сделал торжественную паузу!) я могу львиную долю своих денег тратить на книги (тут он замедленным, немного театральным, но несомненно искренним жестом показал на тысячи томов своей библиотеки)».
Работала группа споро, с увлечением. Морозов, как мальчишка, увлекся новой для него техникой, крутил всякие ручки, наводил объектив на резкость, и все изумлялись тому, сколько жизней прожил этот удивительный человек!
Т.Г. Захарова. «Самый большой архив из академиков». (Из письма научного сотрудника дома-музея Н.А. Морозова Г. Г. Захаровой Н. Н. Сотникову)
Здравствуйте, Николай Николаевич!
Отвечаю на Ваши вопросы. В архиве музея есть два фильма о Морозове: старый (плёнка порвана, 1955 года, «Союзкинохроника», Ленинград) и второй, 1983 года. Эту копию мы заказывали в Госфильмофонде (Центральный государственный архив кино фотодокументов в подмосковном Красногорске). Этот фильм показывали в юбилейные дни в борковском клубе. Звуковая часть – минут тридцать (длина плёнки 350 метров), а немая – менее пяти минут. На футляре надпись: «Съёмка в апреле 1941 года в квартире Морозова при Институте имени Лесгафта». Кстати, институт закрыли не сразу после смерти Морозова, а в 1957 году.
…В библиотеке музея в основном научная литература. Большая часть усадебной библиотеки хранилась у племянника Морозова Александра Петровича Морозова, детского писателя (псевдоним – Холодов). В блокаду Ленинграда он погиб на вокзале, жена его умерла в Ярославской больнице, а сын воспитывался в чужой семье в Ярославле, потом жил в Вильнюсе.
Наши «Музейные записки» (вышло семь выпусков) вам будут неинтересны, а в буклетах короткий текст и мало фотографий.
… Все пишут о Морозове, почти каждый год выходит по книге. Пишут одно и то же, чуть смещая акценты. Хорошо ли это? Не знаю.
У самого Морозова – самый большой архив из академиков (Архив Российской Академии наук, фонд 543, более 7600 единиц хранения).
Всего доброго
Т. Захарова
5 декабря 2014 года
Н.Н. Сотников. Читая письмо из Борков Ярославских
Вот такое короткое письмо пришло из дома-музея Н. А. Морозова из посёлка Борки Ярославской области.
Есть необходимость сделать краткие комментарии.
Судя по всему ТОГО фильма (1934 года производства) в музее нет, но это не значит, что снятые в 1934 году кадры не вошли в те два фильма, о которых ведёт речь Татьяна Григорьевна.
Под Институтом имени Лесгафта разумеется институт научно-исследовательский, а не учебный институт физкультуры и спорта, который был и остаётся крупнейшим центром подготовки этой редкой категории специалистов.
Детский прозаик Холодов ни в одном из имеющихся под рукой справочников не значится. Возможно, он и не был членом Союза советских писателей.
О некоторых книгах, посвящённых Н. А. Морозову, я уже писал, но ещё раз подчёркиваю, что писать о его деяниях в целом невероятно трудно, ибо он – воистину Ломоносов дней совсем недавних! Найти автора, который бы легко переходил от химии к истории, от астрономии к языкознанию, не представляется возможным. Огорчительно другое – архив почти не разобран и мало изучен. А ведь в нём по разным отраслям знаний могут быть подлинные перлы. Да что говорить, когда архив универсального (но не настолько, как Морозов) учёного XIX века – А. Н. Оленина – тоже ещё не приведён в порядок. Как я слышал, такова же судьба архива Н.С. Лескова и О.Ф. Бергольц. Вопиющие примеры бесхозяйственности.
Больше всего лично меня потряс факт – архив Морозова самый большой! А ведь лучшие годы его жизни, молодость, зрелость, – это тюрьма-одиночка. Но – «Я не в тюрьме сидел, а во Вселенной». Истинно так.
Н. Н. Сотников
Н.А. Сотников. «Довоенная пора – самая отрадная!». (Из письма Н. А. Сотникова своему сыну Н. Н. Сотникову)
Н.А. Сотников
Я, как ты знаешь, – ровесник века. И дело тут не в случайном совпадении года рождения: наше поколение в целом – явление в истории совершенно уникальное. Впрочем, мне тебе это доказывать и не надо, а вот подчеркнуть некоторые особенности наших судеб (и в частности, – моей судьбы) стоит.
Во-первых, у нас очень сложные сюжеты судьбы. Каких-то упрощённых, прямолинейных, судеб я почти не знаю. Помнится, как-то я тебе уже приводил в пример совершенно уникальную литературную судьбу нашего земляка, ленинградца, исторического романиста Леонтия Ваковского: поступил в Петроградский университет, закончил его и всю жизнь занимался только, как у нас в Союзе писателей принято говорить и писать, «литературной работой на дому»\ Были у него разные общественные должности, порою даже видные, но они никогда не поглощали его литературной работы и не отнимали всё или почти всё время.
Иное дело у меня. Поверишь ли, но я сам не смогу чётко и быстро, как на экзамене, без различных оговорок, поправок и уточнений перечислить даже основные места моей штатной работы. Ты мне, конечно, возразишь: «А как же – анкеты?» Ты знаешь, и при заполнении анкет мне приходилось многое упрощать: иначе не хватило бы никакого места для заполнения! Почему это происходило?..
Ты знаешь, что я мечтал заниматься исключительно литературной работой. К этой мысли я пришёл где-то после 1928 года, когда уже поднабрался литературного опыта, научился строго планировать время, когда у меня появились реальные и во многом оригинальные творческие планы, без чего полнокровное творчество невозможно. Но разного рода житейские обстоятельства не позволяли мне обходиться без постоянного приработка, более того – заработка, что, естественно, не одно и то же. Так стали возникать разного рода совмещения должностей, наслоения одной должности на другую. Не скажу, что финансовые проблемы были единственными: многое меня просто чисто творчески увлекало. Бывали случаи, когда меня не то, чтобы обязывали (я ведь не был членом партии!), но выбирали, оказывали доверие, а порою и, прямо скажем, честь. Категорический необоснованный отказ в таких случаях выглядел бы более чем странно и даже неблагодарно.
Сейчас, читая это моё письмо, ты для себя сделаешь немало открытий: раньше я тебе об этом не говорил и не писал. И не потому, что не хотел, а считал, что основные вехи моей биографии ты знаешь, а это уже – детали, подробности, как-нибудь о них я тебе и поведаю. Как правило, это касалось каких-то пауз в основном развитии сюжета и разного рода наслоениях и дополнениях.
Но начнём всё же с твоего главного вопроса о моём литературном окружении в конце 20-х – начале 30-х годов. До 1931 года я был преимущественно издателем. У нас печатались люди с именами. Лично у меня были товарищеские отношения с Константином Фединым, Николаем Никитиным, Вениамином Кавериным, Юрием Тыняновым, Евгением Шварцем, Леонидом Соболевым. Что же касается Бориса Лавренёва, то это – дружба, причём на всю жизнь. Среди менее известных литераторов у нас в активе постоянно были Борис Четвериков, Леонид Грабарь, прозаик с богатым военным прошлым. Нашими добрыми товарищами и консультантами были видные критики и литературоведы Георгий Горбачёв и Евгения Мустангова. Между прочим, тебе как преподавателю курса «Литературно-художественная критика» очень советую в Публичной библиотеке поискать по-своему уникальную книгу Мустанговой «Современная русская критика». Я понимаю, что ты больше тяготеешь к новейшей литературе, но довоенный литературный опыт уникален и может быть весьма и весьма полезен и ныне.
Как ты видишь, среди наших имён в основном прозаики. Тебя удивит, но к нам хаживал даже такой старейший беллетрист, как Потапенко. Помнишь слова Алексея Николаевича Толстого о том, что если бы не Красный Октябрь, то его писательская судьба была бы подобна судьбе Потапенко. Многие думали, что он остался где-то в девятнадцатом веке…
Как я тебе раньше говорил, я вступил в ЛААП. Нашей группой руководил прозаик Владимир Ставский. Сейчас о нём чаще всего говорят в связи с боевыми страницами его судьбы на Халхин-Голе и в связи с его участием в Великой Отечественной войне. Ты же знаешь, что он погиб под Невелем, приняв на себя командование полком. Как-то в сторону отошли главы его довоенной биографии. Могу сказать, что он был очень способным организатором, человеком активным, решительным. Недаром все эти качества пригодились ему на посту руководителя Союза писателей СССР. Уже тогда мы все видели, что он не по-книжному знает военное дело, что он готов к боевым действиям. Под крылом Ставского в ЛенЛА-АПе были лишь начинавший тогда свой путь в литературе Юрий Герман и Пётр Сажин, который стал куда более известен, чем в довоенную пору, в годы войны как военный прозаик и очеркист. С Сажиным мы общаемся и сейчас: он непременный активист всех военно-исторических дел в нашей Московской писательской организации.
Как ты, наверное, помнишь по курсу истории советской литературы, считается, что в ЛААПе были почти исключительно авторы из числа рабочих. Вовсе нет! Тому пример – ярославец родом из крестьян и знаток крестьянской жизни Иван Никитин. Прошу не путать с куда более известным Николаем Никитиным!
Издательская моя деятельность как основная завершилась переходом (фактически – переводом) в штат Дома печати, открытого в 1929 году. Напоминаю, что Дом печати в довоенные годы был не просто клубом, а фактически предшественником того Союза журналистов, в котором ты сейчас состоишь. У нас были и Кабинет начинающего автора, и рабселькоровские курсы и консультации, и лекции, и творческие встречи и дискуссии, и своя очень, между прочим, популярная стенгазета. Более того, у нас было то, чего нет ни в Ленинградской, ни в Московской организациях Союза журналистов СССР в нынешнее время: театр Малых форм\ Меня определили основателем этого театра, его директором и заведующим репертуарным отделом. Главным режиссёром у нас стал В. Н. Соловьёв, который привлёк к работе театра хороших артистов. Что же касается репертуара, то почти весь он в той или иной мере принадлежал моему перу. Ты видал в моём домашнем архиве афишу нашего спектакля «Алло, Запад!» Мы даже возили этот спектакль на гастроли в Москву.
По рассказу Михаила Зощенко «Аристократка» мы сочинили… балет \ Танцевали балерины из Малого театра оперы и балета. Зощенко, который в повседневной жизни улыбался крайне редко, глядя на балет по его рассказу, хохотал до слёз! Вот тебе пример любимой твоей темы «Синтез искусств» – к вопросу о трансформации видов и жанров искусства.
И всё же финансы Дома печати тормозили наше дело. Тогда мы приняли решение перестроить театр в Театр Чтеца. Одной из главных исполнительниц была молодая жена Леонида Соболева и дочь певца Атлантова-старшего Ольга. В репертуаре у нас была преимущественно русская классика прозы.
Вообще периоде 1931 года по 1935 год – время моего обострённого увлечения искусством театра. Именно тогда я уже примеривался к большинству своих пьес позднего периода – и о судьбе Михаила Ивановича Глинки, и о Пьере Дегейтере, и о Бернарде Шоу.
Именно в ту пору (не считая вторую половину 50-х годов с переходом на начало годов 60-х) я написал самое большое число театральных рецензий, обзоров, статей – когда по своей фамилией, когда – под псевдонимом, а когда – и без подписи. В ту пору было в нашем Ленинграде немало театров, высоко ценились премьеры, несравнимо больше, чем ныне, уделялось внимание новинкам на современную тематику. Да и было где печататься! Одним из моих любимых журналов был «Рабочий и театр». Печатался как критик театра я и в Москве, и в газетах. Не скрою, это к тому же был весьма солидный приработок. Платили неплохо, публиковали быстро! Не сопоставить с тем положением, которое сложилось к концу 60-х – началу 70-х годов.
Только ты не думай, будто я считаю предвоенную пору каким-то сплошным раем. Жилось тяжело. Возникли карточки, которые отнюдь не вселяли вдохновения, но всё же были отменены, и к самому концу 30-х годов дела явно пошли на поправку. Тем более радовали нас всех успехи, достижения, пусть и не очень броские.
Это – в сфере материальной. Что же касается сферы духовной, то могу сказать со всей ответственностью: такого душевного морального климата с тех пор я не могу припомнить. Это вовсе не означает, что не было столкновений, противостояний, вражды в наших, художественных, кругах, но… Помнишь, ты как-то меня спросил: «Почему идёт на спад секционная работа в творческих союзах и прежде всего в писательских организациях?». Напомню тебе, что я тогда ответил. Секционная работа – это откровенность и доброжелательность в обсуждении книг, спектаклей, фильмов и особенно рукописей. (Ты понимаешь, почему! Провал рукописи мог вызвать в редакциях разного рода быструю реакцию, «детонировать летальный исход», как горько пошутил один мой приятель, литератор-ветеран.) Так вот, непременные условия: принципиальная общность позиций и хотя бы примерно одинаковый на каком-то рубеже, каком-то этапе уровень собравшихся. Если этого нет, любое обсуждение, любая дискуссия обречены. Вот почему у нас в Московской писательской организации всё чаще и чаще стали обсуждения заменять лекциями, встречами со специалистами тех или иных отраслей знаний, «смежниками», как у нас любят говорить о коллегах по Парнасу. Во время подобных встреч и отдельные критические замечания не так обидны: например, юрист подчеркнёт несуразности в художественных произведениях о правопорядке, физик-ядерщик мягко пожурит за то, что цифры такие при таких-то испытаниях завысил автор, и т. д. Тем более, что почти всё это легко исправимо, как у нас в довоенную пору говорили, «это легко исправить: это РЕДАКЦИОННО», то есть переосмысливать, переписывать заново не надо, стоит зачастую лишь строку, абзац, ну, страницу переписать! Так на то и есть творческий процесс!
Я помню, как ты справедливо порадовался выходу в свет в издательстве «Наука» книги 3. Степанова о культурной жизни Ленинграда конца 20-х – первой половины 30-х годов. Я сразу же стал искать эту книгу и нашёл вскоре её в нашей Рабочей комнате писателя. (Молодцы! Какая оперативность!) С одной стороны, я радовался, вспоминая отрадные факты, явления, примеры, а с другой – всё больше печалился: сперва вторая половина 30-х годов, а затем война почти всё свели на нет. Возродить, восстановить почти ничего не удалось, несмотря на многие отчаянные попытки!
Чрезвычайно болезненная и трудная тема. Мы с тобой её в письмах и в беседах не решим, а только обозначим, но и это обозначение пойдёт на пользу поиска истины.
Ты сравнительно недавно писал мне о том, что тебе поручили написать справку-статью об опыте литкружков и объединений в Ленинграде. Думаю, что и сейчас этот опыт – самый передовой в масштабах страны, правда, уровень педагогов понизился. А в довоенную пору мастера литературы не гнушались вести какой-нибудь маленький заводской кружок. Откомандирование писателя в такие кружки считалось делом почётным. У меня сохранилось такое направление за подписью очень доброжелательного, с несомненными педагогическими способностями литератора Алексея Крайского, любимца молодыхлитераторов. Мне довелось вести кружки на Балтийском заводе и на заводе «Красный гвоздильщик». Если в пору издательской работы я подружился с полиграфистами, особенно – с ветеранами печати начала XX века, то на новом этапе я увидел воочию черты обновлённого рабочего класса, лучше узнал производственную жизнь в целом. Посему, когда прекратил свою деятельность наш театр при Доме печати и закрылся театральный журнал, я довольно легко освоился на фабрике имени Анисимова, где мы сравнительно быстро наладили выпуск многотиражной газеты. Вот этот эпизод не вошёл в мои анкеты, потому что его затмил мой переезд в Донбасс на корпункт «Известий». Там, в Донбассе, мне предложили совмещать работу для «Известий» с работой в областной газете «Социалистический Донбасс». Вот там-то я и познакомился с такими всесоюзными знаменитостями, как Стаханов, Изотов, сталевары Коробовы, ставшие героями моего сценария «Отец и сын» (там они у меня Колобовы, но сути характеров подлинные).
Историки литературы о трансформации литературной жизни после Первого съезда Союза писателей СССР чаще всего говорят лишь позитивно, но ведь были и утраты, которые затем восполнить не удалось. Закрылись пролетарские журналы «Резец» и «На стройке». Почему-то очень заметно стала ослабевать мощность издательской базы. Публиковаться, особенно печатать новинки становилось всё труднее. Вот по этим причинам уехали в Москву активные литераторы Пётр Сажин и Павел Лукницкий. Это, можно сказать, первые «птицы», покинувшие невское «гнездо». О потерях блокадных, военных лет и говорить нечего! Были и послевоенные переезды. О них мы как-то с горечью говорили в Москве с Ольгой Фёдоровной Берггольц. Эти «отъезда-отлёты» истинных ленинградцев не радовали. А затем закрылся и весьма солидный полутолстый журнал «Литературный современник». Большая потеря для нашего города! Закрылись и детские журналы «Чиж» и «Ёж». Огромный город и прилегающие к нему земли Северо-Запада оказались на голодном издательском пайке: ведь всесоюзные журналы по сути становились московскими, а российских тогда ещё не существовало.
Меньше стало и театров. Впрочем, это особая и очень сложная тема. Даже зрительно помню: театральная афиша Ленинграда сталараза в три короче!
Трудности одолели и «Ленфильм». Студия стала терять самостоятельность и, увы, тот огромный авторитет, который завоевала своими достижениями. Снизились и темпы производства. Мой фильм «Отец и сын», не очень-то сложный в производственном отношении, снимался аж три года! Как ты знаешь, «Певца из Лилля» не завершили из-за начала войны. И всё-таки доснять, доработать, восстановить его было бы можно, но в блокадном огне сгорел негатив! Это была роковая потеря. В Москву стали навсегда перебираться опытные кинематографисты, прежде всего сценаристы. Рядовые штатные работники такой роскоши себе позволить не могли. Одни в годы блокады попали в эвакуацию, другие (их большинство) погибли в блокадном городе. Во всяком случае после войны, зайдя на «Ленфильм», который в конце 30-х годов стал моим родным домом, я не встретил НИКОГО из тех, с кем общался в довоенную пору.
Я в этом письме не пишу тебе о своей сценарной работе в годы блокады, потому что сохранилась довольно состоятельная справка[34]. Я тебе её как-нибудь покажу. У меня вообще много чего интересного, а порою и уникального есть в чудом сохранившемся архиве, и мне хочется верить, что со временем ты (как мой наследник) сумеешь им достойно распорядиться.
29–30 ноября 1911 года
Н.Н. Сотников. Газета становится книгами
Сегодня у меня особый день – надежд и тревог. В Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина заказаны две довоенные документально-публицистически е книги отца. Те экземпляры, которые принадлежали лично ему, сгорели в комнате на Мойке. Найти после войны дубликаты не удалось, а по памяти восстановить такого рода тексты никак нельзя!
И вот библиотекарша с улыбкой обращается ко мне: «Не волнуйтесь! У нас в библиотеке книги эти нашлись…».
Начинаю с первой по хронологии. «ВОКРУГ ЕВРОПЫ на "Украине”» ОГИЗ, серия «Физкультура и туризм», 1932 год. Обложка более чем скромная. Страницы не первой свежести: вероятно, её читали за минувшие годы многие. А ведь и впрямь интересно: первый туристский круиз вокруг Европы. Это – форма поощрения передовиков производства. Организаторы – ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов) и Общество пролетарского туризма и экспедиций. Участников круиза было 350 человек, путешествие продолжалось 35 дней. Ого! Какой большой отпуск получили передовики!
По классу кают шла разбивка согласно ТРУДОВОГО СТАЖА. Молодые рабочие отправлялись в каюты третьего класса. Старики впервые в жизни смогли оценить, что такое комфорт. Что же касается еды, то особых деликатесов не предусматривалось: сытно, вкусно, но никаких чудес кулинарии. На завтрак, например, рабочие-интуристы получали чай, хлеб, масло и сыр.
Никакой особой, тем более интенсивной политико-массовой работы среди пассажиров не предусматривалось, но во время заходов в те или иные иностранные порты и экскурсий они видели всё сами своими глазами. Порою им помогали пояснения, переводы с европейских языков и с турецкого, так как и Турция, сравнительно благополучная времён Кемаля Ататюрка, тоже входила в маршрут.
Сама поездка с вопиющими контрастами как «у них» и как «у нас» была успешным агитатором: во время рейса 45 беспартийных (а это примерно 1/8 от общего числа) вступили в ряды ВКП(б)!
Один из участников круиза (а Н. А. Сотников опросил десятки туристов) прямо заявил: «В городах, где мы побывали, мы ясно видели, что революция здесь не за горами!», а немецкие комсомольцы на вопрос «Когда у вас будет революция?» уверенно отвечали: «Скоро, в этом году, через год, но не позже!» Как мы знаем, в 1933 году к власти пришли совершенно иные силы – фашистские, но надежды симптоматичны: вопреки заявлениям нынешних «правоверных» историков, инерция революционных выступлений конца десятых – начала двадцатых годов была очень велика.
Встретились наши туристы и с яркими проявлениями итальянского фашизма: им поведали, что при Муссолини можно было получить 20–25 лет тюремного заключения только за сочувствие идеям Итальянской коммунистической партии!
И в то же время рабочих, среди которых было немало машиностроителей, своей технической оснащённостью поразила фирма «Фиат». В книге неизменный интерес вызывал испытательный полигон (в виде трибун с ребристой, как у стиральной доски, дорогой). Фотографии, правда, качества низкого, но и бумага-то газетная!
Итак, с одной стороны – блеск испытательной автотрассы в Италии, а с другой – живая реклама в окнах стамбульских окраин проституции (обнаженные рабыни секс-бизнеса лежат на диванчиках прямо в витринах, за стеклом). Это зрелище произвело на наших туристов отвращающее впечатление!
Потрясло наших рабочих почти во всех странах то, что еда значительно дороже вещей, в том числе обуви, одежды. Наши были одеты чисто, опрятно, но по европейским канонам убого и немодно.
Искренно, до слёз, наших людей тронуло исполнение итальянскими крестьянами на губных гармошках «Интернационала» – ведь и провожали наш пароход в долгий путь с красными флагами и под гимн «Интернационал».
Как профессиональный издательский редактор не могу не обратить внимание на то, что имя автора комментариев, составителя и интервьюера напечатано на корешке книги: «И. СОТНИКОВ». Тираж по тем временам скромный, а по нынешним – весьма солидный: 15 000 экземпляров. Не сомневаюсь, что интеpec к книге был большой: ведь одно дело пропагандистские статьи и радиопередачи, а другое – коротенькие, но впечатляющие рассказы об увиденном рядовых рабочих-производственников, не обязательно очень квалифицированных, но непременно передовиков.
* * *
История второй книги принципиально иная: в первом случае идея исходила от автора-журналиста, газетчика, а вот идея собрать наиболее интересные и поучительные материалы из «Вечерней Красной газеты», которые шли преимущественно по отделу городского хозяйства, принадлежала Сергею Мироновичу Кирову. При очередной встрече с Н. А. Сотниковым (а отец не раз бывал в кабинете Кирова) он предложил: «А что если мы общими усилиями сделаем своеобразный отчёт перед ленинградцами, как мы осуществляем программу сделать наш город образцовым? Вот Вы и возьмитесь за это дело!»
В 1934 году выходит в свет книга «Город образцовый». Тираж 8 000 экземпляров. Составлена она была почти исключительно по материалам газетных публикаций, но какие-то тексты дополнялись, данные уточнялись – ведь время-то шло, и менялись в сторону роста и цифры.
И всё же авторское начало присутствует. С первых же страниц возникает интонация как бы ведущего-экскурсовода, который с читателями объезжает городские окраины. Обновлять их, благоустраивать было признано первейшим делом. Мне отец рассказывал, что на его вопрос, какие будут пределы роста города, Киров твёрдо ответил: «Амы и не думаем делать город-гигант! Вот наведём порядок, решим первейшие задачи и примемся за благоустройство центра, старых районов. Вот где широкое поле деятельности! Рядом с дивными сооружениями какие-то одноэтажные халупы, сараи, немало и просто аварийных! Построить бы новые здания, благоустроенные, хорошо, со вкусом вписать их в гряду достойных домов – вот воистину увлекательнейшая задача для архитекторов и строителей!»
… Ныне, направляясь по делам или на прогулки по моим самым родным старым районам города, я вижу, что мечты Кирова не сбылись. Даже кирпичные дома с низкими потолками, убогими окнами, зажатые между красавцами конца XIX – начала XX веков, воспринимаются чужеродно. Ныне на многих стёклах бумажные буквы: «ПРОДАЁТСЯ». Висят эти буквы годами. Нет спроса. Слишком велик контраст. Послевоенные новостройки и в центре смели наплодить своих деток-уродцев!
Читатель книги «Город образцовый» сделает для себя немало волнующих открытий: например, построить дамбу для защиты города от наводнений планировал Киров. Срок исполнения – пять лет, с 1934 года по 1939 год. Это должна была быть стена длиной в 23 километра, соединяющая Ораниенбаум с Кронштадтом и Лисьим Носом. Для сдерживания воды предусматривались чугунные ворота особой конструкции. Разработку предварительных проектов проводил профессор С. А. Советов.
Вот тебе и лозунг небезызвестного Романова: «Ленинградцы! Ответим самоотверженным трудом на заботу партии и правительства!» А некоторые газетчики-подхалюзники буквально стонали: «Спасибо партии за дамбу!» Так что «отец» дамбы не Романов, а Киров. И так – практически во всём!
Много шума было в ленинградских газетах в связи с необходимостью строительства в нашем городе крематория. Были негодяи, которые даже по этому поводу иронизировали! В журнале «Архитектура и строительство Ленинграда» публиковались основные проектные чертежи. Всё это ещё при Толстикове выдавалось тоже за заботу партии и правительства о народе! А ведь оказывается, ещё сам Киров планировал переустройства некоторых прилегающих к Александр о-Невской Лавре территорий (они тогда являли из себя зрелище строений из повестей романтиков начала XIX века!). Решительно и очень строго решался комплекс возникающих при этом экологических проблем (тогда ЭТОГО термина не было), особенно гари и дыма из труб!
Большое внимание уделялось транспорту. Книга пропагандировала трёхостные автобусы (имеется фотография) которые Киров хотел пустить на главных маршрутах. Ставился вопрос о такси, но, увы, город эту проблему без всесоюзного автомобилестроения решить не мог: почти все автотакси были зарубежных марок. В жизнь ТОГДА они входили очень трудно. Лишь к концу 30-х годов эмки стали на улицах привычными, и «прокатиться на такси» стало не диковинкой, а приметой городского быта.
Касалась книга и давнего исторического прошлого территории нашего города и его окрестностей. Мне лично запомнились две цифры – примерно 2 000 жителей и 46 сёл и деревень. Вот тебе и пушкинская гипербола: «По низким топким берегам чернели избы здесь и там – приют убогого чухонца»!
И всё же, думается, недаром тираж был определён по тем временам скромный: книга предназначалась не столько «широким читательским кругам», как любят сообщать в аннотациях наши издатели и поныне, а преимущественно для хозяйственников разного ранга, специалистов, причём, не только ленинградских: отец вспоминал, что значительная часть тиража была направлена в наиболее крупные города России и других союзных республик. «Для распространения передового опыта», как тогда часто говорилось.
Скажем прямо и честно: художественного значения сейчас эти две книги не имеют, но как исторический источник они чрезвычайно ценны и полезны. И я счастлив, что могу с полным правом сказать о них хотя бы короткое слово.
А. Н. Рубакин. Отзыв русского парижанина. (Из письма доктора А. Н. Рубахина Н. А. Сотникову)
Дорогой Николай Афанасьевич!
Прежде всего, каюсь перед Вами, что до сих пор не ответил на Ваше любезное письмо. Здесь я совершенно замотался в последнее время с работой – текущей и научной. Мною были сделаны два сообщения Французской Медицинской академии, которые возбудили яростную полемику во всей печати, не только медицинской[35]. В результате мне пришлось давать ряд интервью журналистам, писать ряд статей для газет и журналов по поводу моих сообщений в Академии. Вдобавок я заканчиваю книгу по затронутому мною вопросу. Кроме того, пришлось сделать доклад об СССР в обществе друзей СССР. И всё это – при интенсивной работе «ради хлеба насущного».
Этим летом я надеюсь несколько освободиться и съездить в СССР, а может быть и остаться на работу, как мне было предложено[36]. Тогда, вероятно, я с Вами и повидаюсь, когда приеду в мой родной город – Ленинград.
Вот по поводу моего родного города я и хотел Вам написать. Я там не был с осени 1931 года, а с тех пор многое изменилось, как отчасти я могу судить и по Вашей книжке «Город образцовый». Я её читали перечитывал, вспоминал всю мою жизнь в родном городе. Я ведь знаю его насквозь, начиная с улиц, учебных заведений. Получив среднее образование, я учился в университете в 1906–1907 годах вплоть до моего ареста и ссылки в Сибирь, откуда я бежал за границу в 1908 году. Мое «высшее образование» в ту эпоху проходило больше по тюрьмам: я сидел в пяти петербургских тюрьмах, и, может быть, многие из моих товарищей по революционной работе в подполье ещё живы, если не погибли в Гражданской войне, как погиб мой брат и многие другие из близких людей.
Знаете, что меня смутило в Вашей книжке? Вы недостаточно выявили факты в историческом разрезе. Петербург и до Революции рос и технически развивался, хотя положение рабочих в нём было отчаянное! Наверное, следовало больше сказать о разрухе времён войны и показать, что новый рост города начался сравнительно недавно – со времён первой пятилетки.
Не могу не сказать о современной Франции, которую я знаю достаточно хорошо. Я провёл большую часть своих заграничных лет в Париже. Только за двадцать лет выстроено свыше ста километров метро, много новостроек, но почти ПОЛОВИНА новых домов пустует: нет жильцов, квартиры слишком дороги. Но, между тем, вы редко где найдёте дом без газа, без электричества, канализации и водопровода – и не только в самом Париже, но и в километрах тридцати вокруг.
Повсюду асфальт, бензиновые колонки – повсюду. В одном только Париже свыше 300 000 автомобилей, из них около 15 000 такси плюс 2 500 автобусов на СТА с лишним линиях.
Вот Вы пишите о ленинградском трамвае и сравниваете его с конкой. В Париже последняя конка исчезла в 1908 году.
Так что о техническом сравнении здесь нам говорить не приходится. Другое дело сравнение социальное! При всём комфорте, при невероятном разнообразии товаров рабочие сидят без работы, живут на жалкое пособие, фабрики и заводы закрываются, в магазинах число покупателей снизилось на глазах до минимума.
А между тем в СССР в целом и в Ленинграде особенно произошёл невероятный социальный сдвиг. Народ вырос культурно, создано воистину новое общество. Вы уж меня извините, Николай Афанасьевич, но я пишу о Ленинграде сейчас как бы с позиции иностранца, перед которым (представьте себе, что он – турист) бытовой дискомфорт может заслонить создание новых социальных форм, при которых нет места нищете, безработице, социальному неравенству.
Когда я пишу Вам о техническом отставании, я имею в виду, конечно, не феноменальные стройки в СССР типа Днепростроя, а жизнь повседневную, бытовую, в том числе и сантехнику, которой я, как врач-гигиенист, уделяю особое внимание.
В целом же Ваша книжка мне очень поможет в лекционной работе: ведь я во Франции постоянно читаю лекции о Советском Союзе. Выступал я не раз и в Америке и всегда говорил о том, что в странах Запада организационно даже легче провести социальные преобразования. Весь вопрос – в распределении их! Но социально и психологически на Западе революцию свершить куда труднее: буржуазия богата, многочисленна, а главное – сорганизована невероятно!
До следующего письма.
Крепко жму Вашу руку.
Н.А.Рубакин
Париж, 15 марта 1935 года
Н.А. Сотников. Напутствие путнику. (Как я работал над фильмом о жизни буддистов в СССР)
Если с православием я был знаком, можно сказать, с детства, с первых уроков закона божьего в Полтавском реальном училище, о чём я рассказал в очерке «Три встречи с будущим патриархом», то буддизм для меня оставался тайной и загадкой. Детство и юность я провёл на Украине, где буддистов не встречалось. С бурятами, калмыками и тувинцами, то есть народами, представители которого традиционно исповедуют буддизм, судьба меня тогда не сводила. В Москве, а затем в Ленинграде журналистская, кинематографическая и редакционно-издательская практика тоже была от буддизма далека. Единственно, что мне припоминается сейчас, так это упоминание в лекциях по архитектуре на Высших курсах искусствознания при Институте истории искусств, которые я с удовольствием и большой пользой для себя посещал, о буддийском храме, построенном в 1913 году в Петербурге при активном участии придворного лекаря знатока тибетской медицины Петра Бадмаева. Но, конечно же, разговор об этом храме шёл только с точки зрения архитектурной, да и вся лекция, помнится, была посвящена культовым сооружениям в Петербурге начала нашего века. Об обрядовой стороне буддизма речь не шла да, вероятно, и не могла идти: лекцию читал историк архитектуры, а не историк религии.
Во второй половине 50-х годов я вновь стал больше и писать, и путешествовать, несмотря на огромную загрузку штатной работой в аппарате Правления Союза писателей РСФСР, где я восемь лет был Ответственным секретарём Совета по драматургии. Творчество вообще – тайна тайн, загадка загадок! Бывает, что и время есть, и силы, и настроение, а пишется мало до обидного. А бывает так, что день занят до краёв, дела разные и разнообразные обрушиваются на тебя лавиной, но и рука, держащая перо, не устаёт, и тема зовёт новую тему. Думаю, что огромную роль играют общий настрой, и личный тонус. В конце 50-х годов образовался Российский писательский союз, на моих глазах проходило его становление, было много планов, забот, знакомств, встреч, очень расширилась география творческих связей и поездок. Не все мои коллеги, в том числе и зональные консультанты (кроме зональных были ещё и жанровые, к которым относился и я) любили дальние поездки да ещё в любое время года, да и не только в сторону тёплую, в сторону южную… А я с командировочным удостоверением и билетами на все виды транспорта, с маленьким чемоданом и старенькой верной пишущей машинкой чувствовал себя в дороге, как дома. Сказались и жажда странствий, и желание наверстать то, что было упущено в жизни, не увидано, не услышано, да и военная моя судьба и журналистская биография приучили меня к путям-дорогам. Я вовсе не против был максимально возможного комфорта и удобств, если они были реальны, ну а если нет, то и общий вагон немало давал знаний, сведений, сюжетов и тем. Помнятся и долгие ожидания на маленьких аэродромах и автовокзалах, и суда, на которых я плавал, далеко не всегда были пассажирскими.
Короче говоря, поездил я по российским городам немало! Особенно полюбил центральную Русь, исконную, которую потом стали именовать чуть ли ни исключительно Нечерноземьем, и Поволжье, и Северо-Восток, и Урал, и Дальний Восток… Вот в Сибири как-то побывать не довелось, о чём сейчас на старости лет очень сожалею. Кроме мест исконно русских, стал я всё чаще и чаще бывать в автономных республиках Российской Федерации. Среди драматургов этих республик у меня появилось немало друзей и учеников, с которыми я встречался впервые чаще всего в здании Правления Союза писателей РСФСР (оно тогда располагалось на Софийской набережной, потом ставшей набережной Мориса Тореза, напротив Кремля). Потом мы продолжали знакомство на творческих семинарах, как правило, месячных, с отрывом от производства, как говорится, в одном из домов творчества. И уже затем, в итоге я отправлялся в ту или иную республику, имея представление о её драматургическом активе, репертуаре театров, издательской базе, положении дел с драматургией в республиканских писательских союзах.
Но, конечно, ничего нельзя сравнить с самой поездкой в ту или иную республику! Ехать желательно не просто так, а по делу, чтобы вокруг этого дела группировались впечатления, вершились знакомства, происходило накопление знаний, сведений, впечатлений. Лучше всего я узнал республики Поволжья и Дагестан, и другие автономные республики Северного Кавказа. Потом были Удмуртия, Карелия, Тува и Бурятия. В Туве я гостил совсем недолго и, честно говоря, никаких заметных следов буддизма не заметил, а вот поездке в Бурятию, длительной и целенаправленной, предшествовали события, о которых я хочу вам рассказать.
Среди пьес, которые я рецензировал в Правлении Союза писателей РСФСР, редко, но всё же порою попадались такие, что требовали дополнительной специальной консультации. Ну, скажем, юридической (если действие происходило в суде), исторической (помнится, шла речь об истории Урала), религиоведческой, и тогда мы чаще всего обращались в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. Вторая рецензия, итоговая, была уже чисто литературной. Так я познакомился со штатными сотрудниками аппарата Совета по культам и их внештатным активом. Слово за слово – и зашёл разговор о кино, об атеистической тематике в киноискусстве. Я был всегда зрителем увлечённым, прилежным и памятливым – с дореволюционных лет кинозалов завсегдатай. В качестве живого справочника я религиоведов и заинтересовал. А когда они узнали, что я занимался ещё с довоенных лет кинодраматургией, в частности, документальным и научно-популярным кино, мне предложили сделать заказной фильм минут на 20–30 «Буддисты в СССР» для зарубежной аудитории. Предполагалось две командировки в Бурятию – первая ознакомительная, вторая уже со съёмочной группой. И я решил свой очередной отпуск провести с пользой, полностью посвятив его будущему фильму.
Если заказной фильм о сборе ленинградскими верующими средств на танковую колонну имени Дмитрия Донского и эскадрилию имени Александра Невского в блокадном Ленинграде делался в экстремальных условиях, в спешке, то теперь времени было вполне достаточно.
Для начала я принялся зачтение, побывал в Музее восточного искусства в Москве. Сказать, что я просто-напросто, как водится, «нарабатывал» материал, я не могу. Это было вхождение в совершенно иной мир, иное измерение, иную культуру. Меня всегда интересовал вопрос взаимосвязи национального и религиозного. В последнее время он стал звучать определённее, конкретнее. В те годы, в конце 50-х, я на свои многочисленные вопросы получал ответы какие-то очень приблизительные, примерные. А я ими довольствоваться не мог! Материал-то у меня был конкретный и народ конкретный – буряты. Правда, буддизм в СССР исповедуют ещё и калмыки, и тувинцы. В Туве, как я уже говорил, я побывал. Калмыкию не знал совершенно. Мне было предложено взять за основу Бурятию, а какие-то исключения и отдельные положения давать в дикторском тексте. Можно было пользоваться фотографиями, книгами, но вся натура предполагалась только бурятская. Я стал этот тезис оспаривать с самого начала, но мне было сказано о дороговизне трёх киноэкспедиций в разные и весьма удалённые друг от друга концы. Работа над заказным фильмом имеет и плюсы, и минусы. Условия работы, конечно, льготные, но у фильма слишком много хозяев помимо киностудии. И каждый мнит себя знатоком кинодела. Вот в чём главная беда!..
Хорошо, как всегда, ремесленнику: что поручили, то и сделал, как поручили, так и сделал, – и всё, конечно, на некоем усреднённо-согласованном уровне. Тяжелее во сто крат человеку увлечённому. Я, например, темой загорелся и материалом овладел упоённо. «Интересно заглянуть в душу другому народу», – не раз говорил я своим ученикам – молодым драматургам, представляя им то или иное яркое национальное произведение.
И всё же узнал я Бурятию не по справочникам, не по книгам научным и научно-популярным. Её мне открыли драматург Цырен Шагжин, ставший моим другом, и поэты Николай Дамдинов и Дамба Жалсараев. Читал я их прозведения, конечно же, в переводе, а пьесы Шагжина так и в подстрочнике даже, задолго до их литературной обработки. А это очень хорошая школа познания новой для тебя национальной культуры!
Чаще всего нетрадиционной культурой считают у нас культуру экзотическую, например, из стран зарубежного Востока называют Японию, Китай, реже – Индию. Наши республики почему-то этой части не удостаиваются. Почему, никак не возьму в толк! Разве культуры наших малых народов не самобытны, не уникальны каждая по-своему?!
Мне всегда было интересно и обнаруживать черты общего, и открывать для себя черты неповторимости в каждом из народов, с которым мне посчастливилось познакомиться. Цырен Шагжин, например, потряс меня своей музыкальностью. Его песенный голос, на мой взгляд, – дар не меньший, чем его дар драматурга. Слушая его песни, я представлял себе весь тот мир природы и вещей, который окружает бурята, который его творит как личность. И в этом мире я не встретил ничего потустороннего, чуждого реальности бытия.
Цырен Шагжин рассказал мне о таком эпизоде из своей жизни. Как-то он на ГАЗике пересекал пустыню Гоби и повстречал караван верблюдов. Спутник Шагжина монгольский писатель представил кочевникам гостя из Бурятии.
– А мы его знаем, – дружно подтвердили монголы, – видели на сцене его спектакль «Хитрый Будмашу»!
Необычная встреча драматурга со своими зрителями, не правда ли?
Ох, уж этот хитрый Будмашу, бурятский брат среднеазиатского Хаджи Насредина, каракалпакского Омирбека, лакского Акул Али и других славных героев бессмертного фольклора! У Царена Шагжина он появляется на сцене с неизменной песенкой о себе и своём предназначении в народной судьбе:
Будамшу меня зовут, песни обо мне поют. Нету никого в стране, кто б не слышал обо мне. Богачу я злейший враг, бедняку я друг и брат. Чтит меня любой бедняк, ненавидит, кто богат.Я много впоследствии бурятских сказок перечитал, но такой, какую сочинил Цырен Шагжин, больше не встречал, да и его Будамшу помоложе того, что в бурятских сказках живёт, – совсем ещё юноша. Он один из самых обаятельных народных героев: весел, находчив, остроумен, справедлив. И вовсе не всегда ему везёт, и по роду занятий он – самый обыкновенный пастух. В сказках Будамшу удачливее и, если так можно выразиться, непобедимее. У Шагжина он очень простой, совсем земной парень, только с очень обострённым чувством справедливости и веры в то, что за эту справедливость надо бороться.
Этот Будамшу побывал не только у театральных зрителей Монголии, но и Калмыкии, Тувы, Татарии, Якутии, Хакасии… Впрочем, в этих республиках ставились и другие пьесы Шагжина. Не хочу сказать, что меня как драматурга, критика и педагога всегда и во всём радовал язык пьес Шагжина – мне казалось, что он злоупотребляет бытовыми темами, порою несколько упрощает язык героев, но вот законы сцены, психологию артиста он чувствовал всегда превосходно. А это как раз и есть камень преткновения молодых драматургов! Разгадка? Шагжин не только драматург, но и актёр театра и кино. На сцене он сыграл свыше шестидесяти ролей, снимался в кинофильме «Пржевальский», вёл самостоятельную концертную деятельность как исполнитель бурятских народных песен. Выступал и как театральный режиссёр. К тому же Цырен – большой знаток родного фольклора. Вот откуда родом его славный Будамшу!
После окончания наших драматургических семинаров (а за месяц наши «семинаристы» успевали сделать сценическую редакцию пьесы, прослушать цикл лекций, встретиться с мастерами театрального искусства, обсудить каждую пьесу в учебных группах, побывать на экскурсиях, на театральных спектаклях, кинопросмотрах и т. д.) у нас проходил… Ну, конечно же, банкет, который мы в официальной программе именовали «Товарищеским ужином». Как правило, он приходился на последний перед разъездами вечер. За количеством и мерой потребления немногочисленных горячительных напитков я как руководитель семинара следил очень строго, а вот право импровизировать на вечере с шутками, скетчами, дружескими пародиями, сценками я предоставлял семинаристам. Да и сам с удовольствием приготавливал какой-нибудь сюрприз. Таким сюрпризом однажды я предложил концертное исполнение бурятских народных песен Цырена Шагжина, который предстал перед нами в другом качестве – народного певца. Мы слушали его, восхищались его голосом и живо представляли себе степи далёкой Бурятии…
Дни, а вернее недели, прожитые в Бурятии, были полны встреч, открытий и учёбы. Да, именно учёбы. Мне пришлось заняться изучением буддизма основательно. Первое, что меня поразило, это огромный объём тех знаний, сведений, которые можно посчитать лишь основами вероучения. Судите сами, при всей сложности и разноплановости текстов Библия всё же представляет из себя один том по объёму меньший, чем средний роман. Сравнительно невелик и однотомный Коран. А для посвящения в первый духовный чин буддисту требуются знания воистину фанатического объёма: 108 томов Ганджура и 228 книг Данджура, вроде как Ветхого и Нового завета. Для усвоения всей этой премудрости, повторяю – лишь самых основ, «соискателям» необходимо овладеть следующими языками: санскритом, тибетским, древнемонгольским, а также значительно усовершенствовать свои познания в родном бурятском языке.
Сколько же времени нужно потратить на все эти премудрости, на этот, выражаясь светским языком, «кандидатский минимум»? Не меньше двадцати лет! Поэтому в монахи издревле брали хувараков, восьми-девятилетних мальчиков-первенцев, что считалось для них и их родителей большой честью.
Поразили меня и сами древние книги. В дацане я не решился просить разрешения их полистать. Зато в библиотеке Бурятского комплексного научно-исследовательского института при Сибирском Отделении Академии Наук СССР мне такая возможность представилась. Это огромные книги. Длина – около метра, высота – более полуметра. Листы тяжёлые, картонные. Письмена, начертанные на них, остались для меня тайной, но осталось и общее ощущение огромности, чужедальности и практической непостижимости сего труда. По всей вероятности, в обозримом будущем не стоит и надеяться на перевод на русский язык таких объёмных сочинений. Так что представление о них я смог получить в основном в пересказе и устном и по тем книгам, которые мне довелось прочитать и тогда, в период сбора материала для киносценария, и впоследствии, ибо интерес к теме у меня сохранился на всю жизнь.
В институтской библиотеке я познакомился с бурятами – специалистами по буддологии. Каждый из них внёс свою лепту в мою копилку знаний, но больше всего внимания мне уделил Бизья Дандарон, человек большой учёности. Убеждённый атеист, он долгие годы дружил с одним начитанным ламой. По многим вопросам мировоззренческого характера они общий язык найти не смогли, но тем не менее их объединил интерес к древней истории Востока, к текстологии, к восточным языкам. «Это ли не пример вполне возможного сотрудничества атеистов и служителей культа?» – думалось мне, когда я слушал его увлекательные рассказы.
Дандарон разложил несколько старинных книг на столах. Каждая из них почти целый стол занимала и была неимоверной толщины! Некоторые из этих книг лишь условно можно назвать рукописными – набора в современном понятии, конечно, не было, но тексты вырезались на деревянных досках и таким образом выполняли функции современных и матриц, и клише одновременно. Дандрон показывал и попутно выборочно переводил мне разные тексты, но меня больше всего заинтересовали художественные произведения. Так, в 14-м томе Данджура, оказывается, есть поэма о Будде, созданная восемнадцать веков назад индийцем Ашвагхошей, драма Чандрогомина «Локананда» и другие тексты, в том числе поэма «Облако-вестник» индийца Калидасы. К величайшему сожалению, мне тоже в основном пришлось довольствоваться пересказом, хотя некоторые фрагменты мне устно и перевели. Но нельзя же бессовестно эксплуатировать гостеприимных исследователей, людей занятых и углублённых в предмет своего исследования!
Основное я почерпнул из книг исследователей-буддологов. Посему не стану говорить о том, о чём сам узнал из этих трудов, прежде всего из сочинений А. Н. Кочетова «Буддизм» и «Ламаизм». Лучше расскажу о том, что увидел лично я в ту пору. Потом уже, продолжая интересоваться темой, я читал новые статьи и книги, и сейчас мне даже трудновато будет, так сказать, отсоединить то, что я узнал тогда, в период работы над фильмом, от того, что я постиг в последующие годы. Это – что касается теории и истории культа.
Когда я начал писать этот очерк, мне очень захотелось его связать с очерками предыдущими – «Виктории полтавской юбилей» и «Три встречи с будущим патриархом». Какие-то сравнения буддизма и христианства вставали передо мной постоянно, порою даже невольно, ибо, разумеется, христианство я знал лучше, и каждый раз спрашивал себя: «А как тот иной вопрос трактуется в буддизме?» Что же касается истории дома Романовых, то материал себя ждать не заставил.
Оказывается, Николай Романов, ещё будучи цесаревичем, по пути в Японию в 1891 году посетил Бурятию. Место его завтрака стало для ламаистов святыней – там впоследствии был построен храм. Ламаисты не скупились на телеграммы и иные послания по любому поводу, выражая свою верноподданность престолу. «Белый царь» для них был «обожаемый». Об этом вы сможете более подробно и обстоятельно прочитать в книге А. Н. Кочетова «Ламаизм» в главе «Социальная роль ламаизма при царизме».
В конце 50-х годов, разумеется, никаких следов такого рода почитания встретить было невозможно. Напротив, в молитвенных текстах вовсю звучали новые слова: «производственные успехи», «колхозы», «коллектив», «труженики нашего района» и т. д. Я вовсе не преувеличиваю. Вот первый эпизод, который я целиком включил в свой литературный сценарий.
Оказалось, что Герой Социалистического Труда чабан Балдан Дабаев, прославленный привесами и приплодами овец, был когда-то ламой и по старой памяти порою отправляет религиозные обряды.
… Летник в степи. Спят овцы в загоне. Меркнут в небе звёзды. Из-за дальней черты горизонта брызнул первый луч солнца. Старик раздул костёр, вскипятил чай, покропил горячими каплями во все стороны света и забормотал привычную молитву на родном языке.
Вот её перевод: «В лесу ли – под сенью деревьев, в пустыне ли – среди песков, помните, о братья, о вещем Будде, и не будет у вас ни страха, ни сомнения… Видимые и невидимые существа! И те, кто близь меня, и те, кто далеко, да будут все счастливы. Да будет радостно всё сущее на земле…».
Далее старый чабан говорит молитвенными словами о самых будничных, житейских делах: в своей молитве он тревожится за судьбу отары, надеется, что не нагрянут на овец злые хищники и ещё более злые болезненные силы? Не выветрили ли степные ветры из памяти бывшего ламы тибетские тексты старопечатных книг, хранящихся в дацанах?..
Угасает костёр на привале, двинулись отары в путь… По-молодому шагает среди своих подопечных Балдан Дабаев. Он и в старости встречает каждое утро в дороге.
Второй эпизод из сценария, тоже сугубо документальный, увиденный мною.
На холме виднеется «обо» – жертвенник, сложенный из придорожных белых камней в давние-предавние времена. Старики встречают путника – ламу облачённого в халат тёмно-оранжевого цвета, и просят его:
– Скажи, о лама, святые слова, чтобы лето было незасушливое, чтобы родился хороший урожай трав, чтобы сохранился весь колхозный скот и дал добрый приплод, чтобы всё благоприятствовало нашей мирной жизни.
Вот какой разговор ведётся! Что в нём собственно религиозно-мистического? Думается, только объект обращения.
Курится благовонная трава, зажжённая ламой. Возле жертвенника-камня разложены приношения «странам света»: немного чая, несколько калачей, кусок мяса, сосуд с вином. Помочив безымянный палец в этом сосуде, лама побрызгал вином в разные стороны света и принялся читать молитву на непонятном для слушателей языке, явно не бурятском, а тибетском. На мой вопрос, о чём молитва, лама ответил так: «О ниспослании мирной и благополучной жизни на землю». То есть вновь речь и на тибетском языке идёт о делах и чаяниях земных, мирских.
И пошли старики-пенсионеры по кругу, делая круг за кругом вокруг «обо», твердя какие-то, им самим непонятные слова.
Третий эпизод. Жилище бурята-колхозника. Вот домашняя божница «гунгарва», небольшой ступенчатый алтарь с жертвенными чашечками «тахилами», наполненными водой и пищей для невидимых богов. Видал я «тахилы» с зерном и даже с кусочками леденцов. А рядом висел, колыхаясь на ветру, молитвенный колокольчик «хонко» для привлечения внимания божеств к угощению. А вот и сами божества – медные, глиняные…
Здороваемся со старой буряткой. Зовут её Балжима. О чём она молится? О хорошей жизни для родных и близких просит эта престарелая колхозница. Недолгая у неё молитва. С грустью задумывается она о судьбе своих божков. «Гунгарву» принято передавать только прямым наследникам. А наследники живут в райцентре и в Улан-Удэ, озабочены делами квартирными, учебными, сын копит деньги на мотоцикл с коляской. Неужели Балжима – последний в роду верующий человек?! Божков у неё много. Не возьмут их с собою дети, если она навсегда закроет глаза. Значит, всё это унесёт прохожий лама, который, может, и закроет глаза умершей старухе.
Вот почему накапливаются культовые предметы в кладовых дацанов. То, что имеет художественную ценность, ещё может встретить зрителя и ценителя, а предметы простые, заурядные остаются в темноте.
Забегая вперёд, скажу, что в Иволгинском дацане мне разрешили осмотреть такую кладовую. В хранилище оказались и маски для буддистской мистерии «цам» (вы, может быть, помните сцены изображающие мистерию из кинофильма Всеволода Пудовкина «Потомок Чингизхана»?), и фривольные статуэтки «яман-лаги», и божки-уродцы… Как я понял, туда попало всё то, что либо не участвует в нынешних ритуалах, либо находится на периферии культа по разным причинам.
Но и здесь, в кладовых, встречаются произведения подлинного искусства. Какие сильные родники талантов били в душе предков современных бурят! Сколько неведомых первоклассных мастеров выходцев из самой народной гущи, создавали эти культовые предметы! Ведь другого истока для родников тогда не было!
Вот удивительная своей реалистичностью, своим психологизмом статуэтка молящегося, созданная безымянным ваятелем – бурятом из Оронга. Вот реалистическое изображение ламы. А вот и просто скульптурный портрет бурята-труженика, выполненный в начале нашего века. Воистину необычайная выставка заточённых во тьме кладовой произведений народного творчества!
На бурятской земле хранятся и ценности буддийского искусства, привезённые из далёких краёв. Например, статуя из вечно пахучего сандалового дерева старой непальской работы, творения мастеров из Индии…
И всё же больше всего меня увлекла культура Бурятии. Драматургию я немного уже знал, к поэзии и прозе стал понемногу приобщаться. А вот музыкальное искусство Бурятии открылось для меня впервые во время этой летней поездки. В Улан-У^э в театре оперы и балета я с большим удовольствием слушал великолепного певца АхасаранаЛинховоина, любовался тончайшим искусством балерины Ларисы Сахьяновой.
Побывал я и на стекольном заводе, где познакомился со знаменитым мастером резчиком стекла Янтуевым. Мы с ним разговорились о его работе, о мастерстве, о приёмах резания стекла, перешёл постепенно разговор в сферу искусства, а там и дошёл до буддизма. Оказалось, что этот передовой мастер верующий, что он преклоняется перед чудесами древности буддизма. Я решил дать ему в своём фильме слово. Это будет интересно и правдиво.
Хотел я найти верующих среди людей других профессий. Беседовал со слесарем Очировым, лётчиком Ублевым, который вёл наш самолёт из Иркутска в Улан-Удэ над Байкалом, с прохожими в райцентрах и в Улан-Удэ… Результат оказался нулевым: в лучшем случае кто-то упоминал места, где есть дацаны, кто-то вспоминал ту или иную статью о буддизме в печати, одна женщина, помнится, сослалась на радиопередачу республиканского радио. И всё.
Конечно, я не ставил перед собою цель провести какое-то глубокое исследование – просто обычный приём в очеркистской работе применил. Правда, одна старая бурятка в скверике в Улан-У^э, говоря о своей молодости, напела мне давнюю песню и тут же перевала её: «Жизнь бурята была подобна дню без солнца, реке без воды, весне без цветов». Очень поэтично и трогательно!
Думая об этой старой бурятке и об одинокой колхознице, ныне пенсионерке Балжиме, я вспомнил пьесу своего друга Цырена Шагжина «Чёрт в сундуке», её главную героиню старую Буму, которую одурачил прохожий проходимец, выдавший себя за буддийского святого – бурхана, то есть обожествлённого ламу. Шагжин посмеивается незлобливо над Бумой, она ему глубоко симпатична, и всё же он её жалеет, укоряет за доверчивость, за наивность. Теперь я понимаю, почему пьесы Цырена не вызывают раздражения у верующих: он умеет найти с ними свой, сценический язык. Ведь не обиделись же верующие монголы на куда более острую и хлёсткую пьесу Шагжина – «Хитрый Будамшу», где народный герой одерживает победу над ламой и местными богатеями!
… Ну, вот теперь я готов для «паломничества» в дацан, в Иволгу. Находится Иволга в 38 километрах к югу от Улан-Удэ. Добрался я туда на такси, словно до подмосковного посёлка. О моём визите глава буддийской церкви в СССР бандидо-хамба-лама Еши Доржи Шарапов был предупреждён заранее. Он ждал меня в своём храме «Тысячи будд», в своей резиденции. Сан его переводится так: «учёный первенствующий лама».
Поначалу Еши Доржи Шарапов решил сделать для меня официальное заявление и вообще, он был сперва настроен на сугубо официальную, чуть ли ни протокольную беседу:
«В Центральное духовное управление буддистов в СССР нередко приходят из-за рубежа письма, в которых встречаются строки, проникнутые сомнением – существует ли в Советском Союзе свобода вероисповеданий? Мы решительно протестуем против подобных утверждений. Повсюду, где исповедуется буддизм, верующие поддерживают свои храмы, сохраняют культовые реликвии и отправляют религиозные обряды. Двери нашего дацана открыты для всех желающих…».
Этот текст я записал. Он, конечно, пригодится как официальное заявление официального главы буддийской церкви, но как драматург от такого текста, я, конечно, в восторг не пришёл. Вдруг Шарапов улыбнулся, легко склонил ко мне голову и уже иным менее официальным тоном добавил:
– Надеюсь, что вы как драматург, как автор будущего фильма о буддийской церкви в СССР, предназначенного к показу преимущественно за границей в странах, исповедующих буддизм, передадите буддийскому миру правдивую весть о нашем народе, процветающим под солнцем благодатного мира…
Это у него получилось очень доверительно и в то же время торжественно. Я в своей работе никогда и не думал, что занимаюсь тем, что «передаю миру правдивые вести», а ведь, по сути дела, так и должно быть в литературе, искусстве и публицистике!
Беседа наша проходила в рабочем кабинете Шарапова. Кабинет как кабинет. Особой экзотичности я не обнаружил. На столе множество писем и, что характерно, безусловно преобладают зарубежные марки и конверты.
– Вот ещё ряд писем, – продолжает Шарапов. – В них вопросы о том, не слишком ли мало в СССР буддийских культовых сооружений. Действительно, у нас не так много монастырей и храмов, как в странах Юго-Восточной Азии, но население тех районов нашей страны, где живут буддисты, несравнимо меньше.
Затем Шарапов сказал несколько слов о калмыцком храме в Енотаевске и о тувинских лесных часовнях – субарганах. В первой беседе подробно останавливаться на особенностях и отличиях буддизма в Туве и Калмыкии я не стал, ибо вольно-невольно пришлось бы перейти к вопросу о том, а бывал ли там сам бандидо-хамбо-лама. А вдруг по каким-то причинам ему этот вопрос не очень-то понравится?.. Края это далёкие от Улан-Удэ, возраст у Шарапова более чем пожилой.
Короче говоря, мы сразу перешли к истории буддизма в СССР. Тут особенно ничего нового я не услышал. Всё это весьма обстоятельно изложено в книгах советских учёных-буддологов. Правда, Шарапов особенно подчеркнул, что все бандидо-хамбо-ламы в России и в СССР были начиная с Доржи Заяева (с 1764 года) бурятами.
Очень мне хотелось Шарапова попросить рассказать о себе, но никак не мог на это отважиться. Ведь придётся встречаться ещё раз – перед кинокамерой. Это как бы репетиция, проба. И в этом коренное отличие работы над очерком и киноочерком. Я как киносценарист уже сейчас, предварительно беседуя с героями будущего фильма, должен определять, к чему мой герой распложен, как он реагирует на те или иные вопросы. Ведь сейчас разговор идёт один на один, а потом будет целая съёмочная группа, аппаратура, большой свет, множество раздражителей… Всё это тоже надо учитывать – и всегда! К тому же не со спортсменом или артистом у нас беседа, а с человеком, у которого буквально культ тишины, сосредоточенности, самоуглубления.
Что меня больше всего поразило, так это реплика Шарапова в связи с его кратким рассказом о буддийском искусстве. Подчеркнув, что буддизм приобщал людей к красоте, он в то же время красоту этого искусства не абсолютизировал, сказав как бы вскользь, но твёрдо и решительно:
– Что же касается восприятия этой красоты, то оно может быть различным. Дело вкуса.
Хочу отметить и то, что Шарапов вообще не навязывал мне абсолютность догм буддизма, он лишь знакомил меня с некоторыми из них, представлял их. Вообще я не почувствовал в нём какого-то небожителя, отрешённого от сует земных человека. Он, как-то очень тепло и участливо улыбнувшись мне, стал говорить о природе Бурятии, о том, что самое красивое время, когда цветёт нежно-лиловыми цветами багульник, когда пахнут травы – лишь бы не засуха! На его рабочем столе я успел заметить по внешнему виду и характеру издания светские книги и журналы, на крае стола лежал сложенный вчетверо свежий номер газеты «Известия».
Не знаю, как там живёт в тибетском граде Ахасе во дворце Потала далай-лама, что переводится как лама-океан, великий как океан. Для меня это очень далёкая сказка. А то, что я видел и слышал в Иволге, – реальность, хотя и необычная почти во всём.
Я видал фотографии дворца Потала. Это действительно завораживающее своей сказочностью зрелище: горные террасы, подобные водяным каскадам, неимоверной высоты стены, уходящие в небеса… Всего этого в Иволге нет и в помине. Да и название у него самое простое, птичье. К сожалению, происхождение этого названия мне уточнить не удалось. Оно тоже осталось для меня маленькой тайной.
Конечно, мне очень хотелось расспросить Шарапова о его биографии, о том, как он взошёл на свой высший пост. Но опять же, был слишком велик риск нарушить уже складывающиеся у нас взаимоотношения.
Вдруг меня Шарапов сам спрашивает:
– Судя по Вашему возрасту, Вы воевали в годы Великой Отечественной войны? На каком фронте, если не секрет и в качестве кого?
– На Ленинградском, а потом – на Первом Белорусском, в Берлине войну и закончил. А был я военным журналистом в газетах дивизионной, армейской, фронтовой. В Ленинграде был откомандирован для работы над хроникальными выпусками и документальными фильмами об обороне города…
Хотел рассказать о том, как в блокадную пору встречался с митрополитом Алексием, но раздумал: дипломатия прежде всего.
Выслушал меня Шарапов с большим интересом и вниманием, как-то широко, по-военному плечи расправил и говорит:
– А я начинал интендантом второго ранга… – но тут его прервал стремительно, почти бесшумно вошедший секретарь. Шарапов встал, извинился, и сказал, что меня ждут в столовой, а ему надо отлучиться, но он скоро придёт, и мы продолжим беседу.
Говорил Шарапов по-русски чисто, довольно легко, хотя его язык мне казался немного книжным и чуть суховатым. Было ему тогда уже далеко за семьдесят. Внешне держался бодро, просто и деловито. Казалось, он не ощущал тяжести лет и высоты своего положения. Меня очень тронуло, что он тоже фронтовик. Интендант второго ранга – вовсе не обязательно интендант. Было такое звание в самом начале войны у культработников, у журналистов, а вскоре его отменили, и они получали обычные офицерские звания. Интересно, какая была у Шарапова военно-учётная специальность?..
Продолжить разговор? Если он посчитает нужным продолжить свой рассказ о военном пути, он сам это сделает. Может быть, то, что он уже мне сказал, это предел информации? Во всяком случае чувствовалось, что своим армейским прошлым он гордится, вспоминает его с радостью. Вообще, я хочу сказать, Шарапов на меня не произвёл впечатления отшельника, монаха. Если бы ни его уникальный пост, редкостный род занятий и экзотичность окружения, то я бы легко мог его себе представить, скажем, в Улан-Удэ среди учёных-гуманитариев или в роли директора краеведческого музея, или директора крупной библиотеки. Но вот гуманитарный склад ума, гуманитарный характер, которые так любезны моему писательскому сердцу, ему были свойственны.
… Пока я осматривал столовую, Шарапов вернулся, быстрой походкой прошёл к столу, пригласил меня сесть вместе с ним. Служитель тотчас же подал чай, подогретый на керосинке, молоко, печенье. Никакой застольной молитвы Шарапов не сотворил. Принялся за еду и питьё с удовольствием как здоровый и хорошо только что поработавший человек. Правда, чувствовалось, что он немного поторапливается. Эта торопливость невольно передалась и мне.
В ходе нашей короткой застольной беседы Шарапов заверил меня, что постарается сделать всё, чтобы сперва мне как сценаристу, а затем всей съёмочной группе работалось хорошо, удобно, чтобы ей оказывалась всемерная помощь. Обсудили мы и вопросы чисто бытовые – где и как будет размещена в будущем киногруппа: ведь каждый день с аппаратурой ездить по 40 километров да ещё по жаре будет утомительно. Разумеется, в мои обязанности все эти бытовые и чисто организаторские вопросы не входили, но я как преимущественно сценарист документального и научно-популярного кино не считал для себя вправе полностью устраняться от них. Сценарист как дозорный – он идёт впереди и должен всё разузнать, по возможности предусмотреть. В кино нет мелочей!
И вот наконец он посоветовал мне вернуться в Улан-Удэ засветло и даже сказал, когда в город пойдёт автобус. Тут я понял, что ночевать в дацане мне не придётся, хотя очень хотелось вжиться в роль паломника, послушать ночную тишину, ночные звуки дацана, ночной скрип молитвенного колеса «хурдэ», внешне похожего на лотерейный стеклянный барабан. Стоят эти огромные «хурдэ» за оградой дацана и похожи они на волшебные колёса.
Мне показалось, что что-то меня дополнительно хотел спросить и Шарапов, но не спросил. Вероятно, о фильме, о том, каким он будет, о сроках, о дальнейшей работе. Я бы при всём желании не смог бы удовлетворить его справедливый интерес: фильм заказной, согласований будет множество. Пока буду писать первый сценарный вариант.
На прощание мы пожелали друг другу долголетия. Бандидо-хамба-лама нашёл для своего пожелания образное, конкретное выражение. Он дал по-бурятски своему помощнику, который оказался хранителем ценностей, секретарём духовного совета, какое-то указание. Вскоре секретарь принёс на вытянутых руках, покрытых светло-голубым шарфом – «хадаком» бронзовое изображение Аюши – символа долголетия!
Древний скульптор, как мне потом в Москве, объяснили, – индийский, пытался в своей работе претворить идею бессмертия. Сколько веков человечество одержимо этой идеей! Не в отрешённости, не в пассивности и созерцательности оно, не в ожидании перерождений на буддийский манер, а в интенсивности познания, в стремлении видеть и слышать жизнь, учиться делать её прекрасней и совершеннее.
Да, подарок достойный и пожелание радушное и искреннее. Я на прощание обещаю Шарапову написать обо всём, что увидел, что узнал и, пользуясь его словами, сообщить миру правдивую весть. Он кланяется мне в ответ, улыбается и благодарит, что я взялся за этот труд и отношусь к нему серьёзно и вдохновенно. А как же ещё иначе можно относиться к творчеству, главному делу твоей жизни!
Я взял своего, домашнего теперь божка Аюшу, положил в карман и отправился вместе с настоятелем дацана «шеретуем» осматривать сокровища храма «Тысячи будд». Храм этот круглый деревянный. На стеллажах стоят сотни скульптур, но такой, как моя, я больше не встретил. Возможно, что символ долголетия, как и сама долгая жизнь, не так уж часто встречаются…
Я сейчас пишу эти строки спустя почти двадцать лет. Еши Доржи Шарапова уже нет среди живых, но у меня в ушах стоят слова молитвы – напутствия, которую он прочитал мне на прощание. А секретарь тихо, не мешая нам обоим, переводил бурятские слова на русские. В этом тексте не было ничего мистического, ничего божественного. Просто прозвучали добрые слова в адрес неугомонного бродяги очеркиста:
– Пусть над твоей головой вечно сияет золотое солнце. Пусть отступят от тебя невзгоды. Пусть исчезнут болезни. Пусть под твоими ногами стелется серебряная дорожка…
В финале напутствия мне пожелали возвратиться сюда на колеснице почему-то с «жемчужными вожжами». Вот какое у меня вышло расставание…
До автобуса оставалось ещё часа два, и я побродил по монастырю. У каждого из двадцати монахов был свой отдельный дощатый домик весёлой окраски. Двадцать первый домик принадлежит самому бандидо-хамба-ламе. Половину своего, так сказать, рабочего времени монахи проводят за чтением и размышлениями в уединённости, а другая половина отдана совершению треб в закреплённых за каждым улусом. Условно говоря, можно назвать их приходами. Там они благословляют новорождённых, молятся у постели больного, напутствуют в потусторонний мир умирающих.
Молодёжи среди монахов я не встретил. Всем, кого я видел, было далеко за пятьдесят… За свои труды монахи получают вознаграждение, которое строго по описи сдают в дацан. Всё построено на полном доверии. Это могут быть деньги, предметы культа, украшения, платят порою и натурой, и тогда монах пригоняет к дацану дарованных овец.
В Улан-Удэ учёные-буддологи подтвердили мне, что у современных монахов на сей счёт существует особая щепетильность – не в пример их предшественникам, описанным в исторических трудах и художественных произведениях.
Анализируя причину такого явления, мне говорили о том, что монахов осталось мало, все они на виду, в монахах теперь остаются только очень стойкие, убеждённые в своём назначении люди. Любителей лёгкой жизни и большой наживы образ жизни и материальное положение монаха не привлекает.
И снова я вместе с буддологом Дандароном перебираю страницы «Сундуя», одного из трёх уцелевших на свете экземпляров сборников проповедей самого Будды, изложенных чуть ли не на современном ему языке. Невероятно-длинные строки в этой книге. Вот Дандарон оборачивается ко мне, отрываясь от огромной, похожей на тяжёлый лист фанеры, страницы, и предлагает записать перевод следующего изречения: «Есть страдания. Есть причины страданий. Есть способы познания этих причин и есть путь к их устранению». Какой же? Ожидание бесчисленных перерождений? Ялично в них не верю. Жизнь одна. И смерть одна. И бессмертие одно, если ты его заслужил, – твоё, собственное и ничьё иное. Вот они на полках книгохранилища – 75 тысяч подобных книг и около 6 тысяч манускриптов. Вот они – Ганджур и Данджур многотомные, многослойные, в которых заклинания чередуются с научными текстами, литературные произведения с нравственными предписаниями, молитвы с запретами и поучениями.
Обо всём этом я в коротком фильме рассказать не успею. В нём на первый план выйдут вопросы общественные, организационные, пропагандистские. Я примусь за эту работу, но её забракуют – заказчики не найдут общий язык с кинематографистами, сценарист опять, как чаще всего бывает в таких случаях, станет между молотом и наковальней, лично мне предъявят претензии в том, что: сценарий слишком открыто атеистичен, в том, что сценарий недостаточно атеистичен, в том, что слишком подробно показаны рядовые буддисты, что слишком мало показаны рядовые буддисты, в том, что я не использовал все возможности зрелищности будущего фильма, что я злоупотребил зрелищностью, в том, что я слишком много дал места и времени на экране Шарапову, что я мало дал места и времени Шарапову… И т. п., и т. д.
Надо быть очень весёлым и находчивым, чтобы остаться весёлым и находчивым после таких «отзывов» и «советов», чтобы подобно одному начинающему киносценаристу после обсуждения первого варианта сценария не загреметь в больницу. Но я к таким делам в кино привычный – с начала 20-х годов в кинокотле варюсь, ещё с той поры, когда ВГИК институтом не был, а лишь техникумом – уже тогда кинодраматургией в его стенах занимался. Так что отнёсся я к этим событиям философски. И – немного экономически, потому что всё-та-ки кроме командировочных и суточных (мы их тогда «шуточными» звали) кое-какую сумму всё же получил, чтобы нервные клетки восстановились.
Своей киностудии у меня нет, перебросить заявку на другую студию не удалось. Так что остались у меня богатый фактический материал, ярчайшие незабываемые бурятские впечатления и вот этот очерк, который я наконец-то взялся завершить спустя почти двадцать лет. А это даже хорошо, что столько времени прошло: Река Времён смывает лишнее, вымывает из литературных произведений пустую породу, остаётся, как любил говорить Александр Довженко, «чистое золото правды».
Все эти годы я не забывал ни Шарапова, ни своих собратьев – бурятских драматургов, ни тех замечательных людей, с которыми встретился. Когда выступал перед читателями с рассказами о творческом пути в литературе, театре и кино, об этом несостоявшемся фильме вспоминал, не раз думал о том, во что в конце концов выльется этот материал. А потом, когда стал работать над очерковой книгой «Памятные встречи», понял – это и есть глава-очерк в моей будущей книге. Написал приятелям в Улан-Удэ, от них узнал, что Еши Доржи Шарапова уже нет в живых, вспомнил его приветливость, участие, его поэтичное пожелание и подумал о том, что есть всё-таки перерождение человека в человека, но не такое, как трактуют буддисты, а самое что ни на есть земное, исполненное высочайшего смысла: разве я, драматург, создавая своих героев, людей разных народов, профессий, эпох, не перерождаюсь в них, разве не перерождается в своих учеников учитель, в своих спасённых им пациентов врач, в участников исторического процесса историк, в своих зрителей и слушателей артист и музыкант, художник и скульптор, разве режиссёр не умирает в актёре, как говорил Станиславский, разве полководец не перевоплощается в тех, кто под его началом осуществляет победу в сражении, разве родители не перевоплощаются в детей своих и внуков и дальше, дальше, дальше?.. И так без конца!..
Мне 78 лет. Я ровесник XX века. Живой его календарь. Моя судьба – составная часть его летописи. В моём казацком запорожском роду все были долгожителями, да и профессия моя для свершения планов требует долголетия. Хочется, конечно, встретить XXI век, вступить в новое столетие, переступить неведомую черту, но что-то выполнение этого заветного желания в последнее время мне не верится – слишком велик был груз пережитого. Три войны, одна ленинградская блокада!.. Дальше уже можно не продолжать. Конечно, они закалили. Но мои герои и друзья металлурги, о которых я писал как кинодраматург – Иван Кайола и отец с сыном Коробовы, всегда подчёркивали, что сталь нельзя перекаливать. Мне кажется, что время моё поколение перекалило, хотя мы и были счастливы в своей судьбе, в своих исканиях, в своей борьбе.
Я пишу эти строки, а у меня на столике стоит Аюша, подарок Шарапова. Рядом на стене висит удачная репродукция мадонны Леонардо да Винчи, портреты дорогих мне людей. Мои друзья и ученики, захаживающие ко мне в гости, в шутку спрашивают, каким же богам я молюсь? Можно отвечать часами, можно отшутиться, а я отвечаю так: мой бог – красота в людях и красота, увиденная людьми.
… По весеннему светло-голубому небу реактивный самолёт проложил белопенный чарующий свет, и я вновь услышал из глубин памяти пожелание Шарапова, чтобы я вернулся в Бурятию на колеснице с «жемчужными вожжами». Вот они, жемчужные вожжи, которые оставляет на небосклоне после себя реактивный самолёт! Пройдёт немного времени, и этот след истает, сольётся с небесной голубизной. Не так ли и жизнь наша на небосклоне земного бытия?… Нет, не так, потому что мы способны к перерождению в других людей и в их добрые дела.
Так хочется вновь побывать в Бурятии, вернуться в этот дивный край на колеснице, именуемой «ТУ-154», когда там вновь расцветёт неоглядным ковром нежно-лиловый багульник, такой же нежный, как весеннее небо в это утро…
1958–1978
Москва – Улан-Удэ – Иволга – Москва
Н.А. Сотников. «В историческом фильме нет мелочей!». Беседа Н. А. Сотникова с творческими сотрудниками киностудии «Ленфильм» о сценарии фильма «Певец из Лилля.» (Стенографические записи)
Оглавление
Несколько вводных слов
Парижская Коммуна, её герои и певцы
Имя им всем – шансонье
Пьер Дегейтер – каким же он был?
Каким был город Лилль в конце столетья?
Рождение «Интернационала»
Несколько вводных слов
Для наших бесед[37] я намечаю пять вопросов, которые могут дать хотя бы минимум представлений, необходимых для фильма. Это, во-первых, Парижская Коммуна. Во-вторых, Эжен Потье, его жизнь, облик, творчество. В-третьих, атмосфера, в которой происходят события, в том числе – и бытовая, со многими обязательными подробностями, которыми, впрочем, наш фильм перегружать не надо. И всё равно в историческом фильме нет мелочей \ В фильме на современную тему, если действие происходит в нашей стране, и так многое ясно, узнаваемо, пожалуй, за исключением каких-то профессиональных тонкостей, но их, как правило, в обычном фильме бывает крайне мало. В-четвертых, творчество рабочих-шансонье. И, наконец, ремесло, профессия, национальные и семейные традиции. В жизни Пьера Дегейтера ремесло и творчество были слиты воедино.
Мне посчастливилось познакомиться с Пьером Дегейтером в Москве 1 мая 1928 года. Приехал Дегейтер в СССР по приглашению МОПРа (Международного общества помощи революционерам). Жил Дегейтер в предместье Парижа – Сен-Дени, жил более чем скромно, одолеваемый тяготами и болезнями. Сотрудники МОПРа не только приветили больного старика, но и помогли ему немного поправить здоровье, а самое главное – выиграть судебный процесс, который тянулся почти 22 года по поводу авторства музыки «Интернационала». В СССР Дегейтеру было предложено остаться жить в Доме ветеранов революции вместе с Густавом Инаром, Гё, Пьером Фуркадом и другими ветеранами. Дегейтер сердечно поблагодарил за заботу, но жить в СССР не остался. Прожил в нашей стране он примерно полгода.
Итак, всё началось с репортёрской заметки – сперва о приезде, а затем – о встречах с московскими пролетариями. Старик произвёл на меня неизгладимое впечатление – до сих пор вижу его изрытое петельками морщин лицо, сухие голубоватые глаза, вьющиеся по ветру длинные седые волосы. Особенно мне запомнились его руки – он постоянно жестикулировал, но движения его рук походили на движения рук дирижёра.
Вскоре я обратился во французскую секцию Коминтерна к Андре Марти[38]. Получил от него очень обстоятельный ответ, в котором он приветствовал мой замысел поведать о судьбе автора музыки «Интернационала» и мои письма отправлены им в Париж в редакцию газеты в «Юманите» и в Лилль в редакцию местной коммунистической газеты с просьбой сообщить мне фактический материал.
Из редакций очень любезно откликнулись, и вскоре ко мне стали поступать конверты с газетами, с копиями писем, выписками из дневников…
А всё, повторяю, началось с репортерской заметки. Вот первый текст:
«В Москву прибывает Пьер Дегейтер – автор всемирно известного гимна – “Интернационал”. Пьер Дегейтер – французский рабочий, мебельщик из города Лилля. Ему в настоящее время свыше 80 лет. Мечтой Пьера Дегейтера в последние годы было посетить СССР, где написанная им музыка стала государственным гимном. Пьер Дегейтер будет помещён в Доме ветеранов революции, где уже живут французские коммунары Инар и Гё».
Вторая заметка была обстоятельнее:
«Вчера в Москву прибыл автор революционного гимна “Интернационал – старый французский рабочий Пьер Дегейтер. На вокзале он был встречен председателем Всесоюзного общества по культурным связям с заграницей, представителями Московского городского совета профессиональных союзов и старыми французскими коммунарами Фуркадом и Инаром».
Пьера Дегейтера приветствовали как автора гимна, под звуки которого русские рабочие шли в Октябре 1917 года на штурм капитала.
«– Я очень тронут тем исключительно тёплым приёмом, – сказал нам Дегейтер, – который был оказан мне, являющемуся всего лишь вашим единомышленником в борьбе за лучшую жизнь. Я счастлив, сознавая, что нахожусь в стране великой революции, в стране, победившей феодализм и рабство и сделавшей рабочих хозяевами своей судьбы. Россия, бывшая всего десять лет тому назад синонимом рабства, превратилась в страну, на которую обращены взоры трудящихся всего мира. Я счастлив, что вашим гимном, гимном революционной России, является “Интернационал, пение которого вызывает “гусиную кожу”, повергает в смятение и ужас у тех, кто строит своё благополучие из эксплуатации рабочих!»
Когда к Пьеру Дегейтеру обращались русские товарищи, приятная улыбка неизменно показывалась у него на устах. Она не была простым знаком обычной французской любезности и вежливости. Его очень трогало внимание, порою настолько, что на его глазах показывались слёзы, лицо оживлялось, голос креп.
Старик охотно рассказывал о своих молодых годах, а однажды он поведал нам полную страсти и гнева историю возникновения гимна. Он говорил о том, что эта песня рождалась в пылу и крови классовых битв. Он вспоминал завет Эжена Потье – вооружать песней революцию и песней помогать Коммуне, ибо «песня – это крылатая мысль». (Позже я узнал, что это цитата из Виктора Гюго.)
Москва оказала Пьеру Дегейтеру горячий приём. Он присутствовал на VI Конгрессе Коминтерна, на массовых демонстрациях московского пролетариата. Эти события очень взволновали его. Все участники конгресса встретили появление Дегейтера за столом президиума продолжительной и бурной овацией, затем все встали со своих мест и запели «Интернационал». Гимн звучал тогда на 58 языках, в том числе на немецком, итальянском, польском, французском, английском, голландском, китайском, японском, финском и других.
Старик был в те дни, как он сам потом признавался, на вершине счастья:
– Я стоял на высочайшей трибуне славы – у мавзолея великого Ленина. Я слышал небывалый хор: Красная площадь пела мою песню, сложенную в годы бесправия и угнетения. Скажите, мог ли мечтать о такой славе, о таком признании хоть один певец в мире! Я один удостоился такой высочайшей чести. Я, бедный столяр, уличный певец, продавец газет в последние годы…
А между тем программа пребывания Дегейтера в СССР продолжалась. Он побывал в ряде рабочих клубов, принимали его у себя представители музыкальной общественности. Рассказы Дегейтера о себе становились всё проще, откровеннее и всё глубже по содержанию. Во время одной из таких встреч он рассказал о своей беде:
«Ещё недавно>, когда меня пригласили в Советский Союз, газеты “социалистов шумели: “Кого они приглашают? Ведь настоящий автор музыки "Интернационала'* не Пьер Дегейтер, а его брат – Адольф… “Но теперь-то все знают, что это ложь, и памятник с золотой нотной линейкой на могиле Адольфа в Лилле давно уже снесен по приговору кассационного суда. Адольф был лишь пешкой в руках ловких политических игроков – Гекьера и Делори, которые хотели завладеть нашей песней в своих чёрных интересах».
Парижская коммуна, её герои и певцы
Теперь несколько слов о Коммуне. Ключом к её истории могут быть слова Эжена Потье: «Несчастная Коммуна! Мы никогда не узнаем, сколько негодяев трудилось над твоей гибелью!» Кто он? Ученик красильщика, республиканский настроенный рабочий, ненавидящий империю. Его избирают в синдикат (профсоюз) разрисовщиков тканей в качестве уполномоченного профсоюза. Это – 60-е годы минувшего века. Перед нами проходит биография рабочего, агитатора и пропагандиста, руководителя касс взаимопомощи, общества сопротивления, организатора рабочей кооперации и секции I Интернационала. Он чудом спасся от расправы солдат генерала Галифэ, эмигрировал сперва в Англию, где встречался с Карлом Марксом, затем в США, где работал в социалистической рабочей партии. После 80 года – убеждённый марксист.
Важно подчеркнуть, что сборник «Революционные песни» Потье посвятил не только оставшимся в живых борцам Коммуны, но и Лафаргу, которому его песни и стихи казались «художественными документами партийной политики».
Из чего складывался он как поэт? Из идей Бланки, Фурье, Прудона. Он преклонялся перед Бабефом, был учеником фаланстьерской школы[39], ненавидел Наполеона, присутствовал при разрушении Вандомской колонны. Войну он ненавидит. И вместе с тем этот человек становится горячим сторонником гражданской войны.
Сам Потье был скромного мнения о своих поэтических способностях и мечтал: «Ах, если б я был Беранже!»
Для нас очень важно провести мысль о последовательности: Беранже – Потье – Дегейтер. Песни Потье национально-французские, социалистические по духу, международные по значению и восприятию.
Потье был не только лиричен и публицистичен. Он был ярким сатириком. Недаром Рошфор назвал его «Ювеналом предместий». А бывший коммунар Жюль Валес в своей газете «Крик народа» писал:
«Это старый товарищ по великим дням, изгнанный поэт. Это был настоящий поэт, немного неотёсанный. По какой горячий темперамент! Какое мрачное воображение!.. Какая глубина и горечь ощущений! Это был коммунист и один из наиболее непримиримых. Он был искренен и родился поэтом. У него есть несколько песен-шедевров. Он чаще бывал выразительнее, чем старый бродяга Беранже».
Сам Потье, как мы знаем, очень любил Беранже, особенно его стихотворение «Фея рифм».
Долог был его путь в революцию и в поэзию. Сын рабочего-упаковщика, он родился в октября 1816 года. С 13 лет, сколачивая ящики, он помогает отцу, а в свободное время увлекается разрисовкой тканей. Его родители по взглядам – бонапартисты-католики. От их идейного влияния он освобождается в 1830 году, когда выступает со своей первой песней «Да здравствует свобода!» В февральские дни 1848 года он был уже на парижских баррикадах. Синдикат рисовальщиков тканей, в который избрали Потье, организовался в 1870 году, почти накануне Коммуны. Путь борьбы привёл Потье во французскую секцию международного товарищества рабочих, то есть первого, марксова, Интернационала.
Знаменитый французский публицист Шамфор говорил, очевидно, о песнях, распевавшихся на баррикадах 1830 и 1848 годов: «Абсолютная монархия была свергнута песней». Вот какое громадное значение придавалось песням рабочих-шансонье!
В 1870 году Потье вошёл в Коммуну. Он участвовал в разработке декрета о квартирной плате – одного из первых декретов Коммуны, предложил проект знаменитого доклада о ломбардах, о закрытии публичных домов. Он работал в художественной комиссии Коммуны вместе с Курбэ. После разгрома Коммуны в 1871 году написал «Интернационал». Писал и видел перед собой баррикады Коммуны, коммунаров. Как же они выглядели, во что были одеты? Рабочая блуза, солдатское кепи и гвардейские шаровары с лампасами, короткие, застёгнутые на пуговицы гетры. На груди широкий красный бант.
Полиция знала о Потье, всю кровавую неделю разыскивала его. Они, полицейские, его ненавидели и как поэта, и как певца, и как деятеля Коммуны.
Прославленные шансонье Густав Надо и Пьер Дюпон однажды услышали выступление Потье с эстрады кабачка «Пропаганда песен», и тогда Дюпон сказал: «Он переживёт нас обоих».
Первый сборник стихов Потье назывался «Кто сошёл сума». На протяжении сборника ответ дается такой – мир сошёл с ума. Сборник «Революционные песни» Потье был издан на средства участников Парижской Коммуны в Лондоне.
А несколько ранее Потье стал победителем на конкурсе песен, организованном республиканским клубом шансонье «Лига песен».
Умер Потье 7 ноября 1887 года. Над могилой произнесли речь Луиза Мишель[40], Вальми, Милон. За гробом шли оставшиеся в живых коммунары, десятки тысяч рабочих. На процессию напала полиция, началась борьба за красное знамя. Примерно также хоронили Бланки и Валеса.
Память о Потье старались стереть. Ни словарь Ларусс, ни Большая энциклопедия, ни антологии стихов не называли его имени, имени крупнейшего поэта Франции.
Итак, две книги, но есть и ещё одна – вышла она в 1884 году в издании «Рабочей партии» под названием «Социально-экономические сонеты». Это то самое издательство, которое издавало французский перевод трудов Карла Маркса, постановления Интернационала и рабочих конгрессов.
Теперь непосредственно об «Интернационале». В нём декларированы идеи, осуществлявшиеся Коммуной. На её баррикадах и на руководящих постах встречались иностранцы: поляк Домбровский, венгр Френкель, русские Сажин и Дмитриева[41].
Хочу подчеркнуть – в «Интернационале» впервые появляется понятие «партия труда». Первое же издание текста вызвало судебное преследование – за пятую строфу, содержащую призыв к гражданской войне.
В середине 90-х годов «Интернационал» становится популярным среди групп Жюля Гэда: в 1899 году на Объединенном конгрессе социалистических организаций в Париже «Интернационал» впервые прозвучал как гимн всего социалистического движения.
«Интернационал» зарождает веру в бессмертие Коммуны, в реванш. Текст и является призывом к реваншу. Потье утверждает, что Коммуна, залитая кровью, – это не похороны, а роды.
И человечества ответ суровый, ответ, который выстрадан и сжат: зачатый мною мир родится новый, не похороны – роды предстоят.А вот перевод «Интернационала», сделанный Гатовым:
Мы в бою небывалом. Наш решительный бой. Интернационалом ты станешь, род людской. Вставай, гонимый, заклеймённый, вставай, голодный люд земли. Наш разум – кратер раскалённый и цели точные вдали…Этот перевод мне не нравится. По подстрочнику, очень точному почти дословному я сделал свой вариант перевода[42].
В «Интернационале» угадывается клятва верности великому делу которому посвятили свою жизнь Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Великим гневом к врагу пропитана каждая строчка произведения человека, который был приговорен к расстрелу за участие в Коммуне. Это произведение проникнуто духом непримиримой классовой ненависти.
Я забыл упомянуть, что в течение семи лет в эмиграции Потье был секретарем американской рабочей партии. В 1884 году во Франции была объявлена амнистия коммунарам, и Потье смог вернуться на родину. Он вёл революционную работу, писал песни, сонеты и свои сатиры. Он перестал быть изгнанником, а его песни были с Францией навсегда.
Имя им всем – шансонье
Имя Пьера Дегейтера навсегда связано с именем Эжена Потье. Они оба были рабочими. Есть что-то волнующее в общности их судеб. Враги мстили и продолжат им мстить забвением. А песня звучит дольше и запоминается лучше, чем стихотворение, не окрылённое музыкой.
Теперь самое время сказать о французской песне и о её творцах – шансонье.
Прежде всего надо сказать о необычайной политической действенности и остроте песенных куплетов шансонье. Кто такой обычно шансонье?
Это автор и исполнитель. Им мог быть рабочий, солдат, ремесленник. ШАНСОН – песня, ШАНСОНЬЕ – певец.
Дачная импровизация песни, бывает, подхватывается слушателями, и они её выносят с песенного вечера на улицу. Она переходит в цеха, в быт, становится спутницей митингов, демонстраций.
Знаменитый шансонье Луи Фесто говорил о шансонье:
«Шансонье – это эхо народа, адвокат народа. Он смеётся, радуясь вместе с ним. Скорбит вместе с ним, когда приходит беда, и угрожает, выражая его гнев».
Ещё одна формула песни шансонье:
«Революционная песня является художественным отображением революционных настроений самых широких масс трудящихся».
Именно Франция явилась родиной таких феноменов песенного творчества, как «Марсельеза», «Карманьола» и «Интернационал». Это песни, созданные, выношенные и исполненные на улице.
В интересующую нас эпоху в Париже насчитывалось около 200 шансонье-профессионалов. Когда зажигались газовые фонари, они бродили из кафе в кафе и речетативом исполняли (зачастую без музыкального сопровождения) свои бытовые и политические злободневные куплеты.
Среди них на первом месте crown Пьер-Жан Беранже – родоначальник жанра куплетной поэзии. Это ощущается в таких его произведениях как «Жак», «Фея рифм», «Поэтреволюции».
Затем – прославленный шансонье Пьер Дюпон, создатель «Песни рабочих».
Дальше – Луи Фесто, автор песенного манифеста «Народные шансонье».
Назову ещё народного рабочего певца Эжезипа Моро.
Следующий в этом ряду – Эжен Потье.
Далее – Жюль Жуй, автор песен о различных профессиях – у него есть «Песня землекопа», «Песня шахтёра»…
Затем – знаменитый Гастон Монтегюс, прославившийся своей песней «Слава 17-у полку!»[43]
В этом ряду стоят Алексис Буавье, автор песни «Чернь», Жан-Батист Клеман, автор знаменитой песни «Кровавая неделя», Оливье Суэтр, написавший «Песню солдата-социалиста».
Хотелось бы заострить ваше внимание вот на каком моменте. В 80-е-90-е годы у пролетариата не было газет, журналов и других средств распространения идей. И вот эти средства заменяла собою песня! Сборник шансон и маленькие жёлтые листочки, на которых печатались ноты и слова песен, тоже были своеобразными распространителями песенного творчества.
Мне бы хотелось как сценаристу использовать одну из шансон в сцене на баррикадах. По словам Оливье Суэтра, «песня является сотрудницей смуты, смелым и желчным критиком. Она несёт в себе сарказм. В ней звучат смертельная ненависть, насмешливость. Песня атакует бога, религию, законы. Она словно отгравировывается в памяти рабочего, легко вспоминается ему. Она электризует умы, она способна потрясать сердца. Песня в состоянии снабдить лозунгами мятежи и восстания. Она не имеет преград и, как крылатая мысль, проникает в города и деревни. Песня может заразить даже сам воздух, которым мы дышим. Роль поэтов улицы – потрясать умы и основы правящих классов».
Вот как говорил Жан-Батист Клеман о рабочих-поэтах:
«Поэт не должен парить в облаках. Он не будет блуждать по лабиринту воображаемого мира. Он должен воспеть полную движения жизнь заводов, инструментов и машин при том условии, что последние будут служить благополучию всех, а не только единицам. Они воспоют пар и электричество, все великие научные открытия и великие социальные истины, которые должны привести человечество к новому этапу совершенства.
Им, поэтам, более легко найти точные, волнующие слова, чтобы стать вдохновителями больших и великодушных идей, которые сближают людей и заставляют их любить жизнь».
Социалистическая мысль, столь бурная в XIX веке, находила среди поэтов улицы своих верных пропагандистов, последователей. Такую песню отличали злободневность и огромная сила предвидения. Редкое сочетание в искусстве! Оно в полной мере проявилось в «Интернационале». Поэты баррикад всегда воспевали будущее. Они были борцами за тот конкретный идеал жизни, который в результате вековой борьбы и побед пролетариата должен быть осуществлён.
Поэты баррикад были среди людей разных профессий.
Мы знаем, например, шансонье ткача Мегю, который пел так:
Я в конуре без огня, и дюжиной мыши и крысы приходят проведать меня. Я днём работаю, как ткач, а ночью рифма так легка!А вот поэт-каменщик Понси, которому Жорж Занд советовала оставаться «в литературе с известкой в руках». Она, очевидно, предполагала, что рабочий поэт, уйдя в профессиональную литературу, потеряет связь с массами.
Поэзия революционного социализма достигла наивысшего подъёма в творчестве Эжена Потье.
Предвижу вопрос: «А как обстояло дело с песенным творчеством в других странах Европы? Может быть, рабочая песенная поэзия – явление сугубо французское?» Нет, некоторые аналогии провести можно – были свои рабочие поэты в Англии среди чартистов, среди членов «Союза коммунистов» в Германии, но французская почва оказалась более благодатной. Эта тема очень интересная и невероятно сложная! Она далеко выходит за рамки нашего разговора. Скажу лишь о судьбе Беранже. В начале жизни он прислуживал в трактире. Потом был учеником у ювелира. Став литератор ом-профессионалом, он, тем не менее (вопреки предсказаниям Жорж Занд), остался с народом. Его ведущая тема – это борьба мелкой буржуазии против аристократии и клерикалов, против монархии Бурбонов. Когда свергли монархию, он успокоился. Свой долг он считал выполненным и ушёл от дальнейшей политической борьбы. Но его художественная программа продолжалась – он мечтал остаться на устах народа. Может быть, поэтому он отказался от кресла академика.
Интереснейшая личность Эжизип Моро. Он был учеником наборщика, голодал, ночевал на папертях церквей, на ступенях Сорбонны, подставлял свою грудь под пули на баррикадах. Есть и какая-то неясная страница в его биографии – он нарочно заболел холерой, в знак протеста. Его книга «Незабудки» получила высокую оценку поэта-коммунара Феликса Пиа (его книга вышла у нас в издательстве «АКАДЕМИА»). Моро – бунтарь, романтик. Он выступал против реакционного лозунга Гизо «Обогащайтесь!» О Моро так писал Пьер Дюпон:
Над кассой наборною стоя и голову низко склонив, шептал он стихи, и порою набор был неточен и крив.Теперь об авторе только что процитированных строк Пьере Дюпоне. Его «Песню рабочих» и «Хлеб» знали и Потье, и Дегейтер. Это были самые популярные песни, бытовавшие в рабочих массах. Их недаром называли «предвестниками Коммуны».
Дальше идёт Луи Фесто. В молодости он работал часовщиком. Он был певцом баррикад 1830 года. Его знаменитые песни – «Братство», «Свобода в опасности». О своей творческой работе он говорил так: «Шансонье должен быть на всех полях битв. Он должен быть на стороне париев цивилизации, должен пригвождать к позорному столбу общественного мнения крупных мошенников, титулованных грабителей, знаменитых пиратов… Он должен быть в лёгкой, полной намеков форме касаться вопросов государственного строя, труда, образования и прочего. Он должен просвещать слушателей, забавляя их»[44].
Таким просветителем слушателей был в большой мере Алексис Бувье. Его выступления всегда сопровождались огромным успехом, за ним была слава автора романсов. Среди них особой популярностью пользовались романс «Клуб негодяев» и «Смертельные поцелуи». В 1870 году накануне Коммуны он написал свою знаменитую «Чернь». А в дни Парижской Коммуны популярная актриса парижской оперы Розалии Борда исполняла эту песню в Тюльерийском дворце, завернутая в красное знамя Коммуны[45]! Пела она эту песню в королевском дворце, а весь зал подпевал ей: «Вот – чернь! Ну что ж, и я таков!» Бувье был мастером-бронзировщиком.
Жан-Батист Клеман, тоже ремесленник, затем журналист, автор романсов, идиллий, редактировал журнал «Кастет», боец Коммуны, член французской секции I Интернационала. Как и Потье, Клеман в изгнании писал песни, называя их «могущественным словом пропаганды».
Когда мы взрываем и точим основы системы гнилой, ответ ваш – картечью сухой, ответ ваш – во славу рабочим.Теперь надо сказать об Оливье Суэтре. Он получил премию на конкурсе «Республиканской музы» за песню «Вопрос об амнистии». Известны его песни «Возрожденная Коммуна», знаменитая «Марианна», которую пели на баррикадах. Затем шла «Песня солдата-социалиста». Её хвалил Потье. Эта песня была напечатана в первом журнале французских марксистов «Социальный вопрос». Безработица, голод, самоубийство – вот триединство бога.
Дальше идёт Жюль Жуй, подлинный сын народа, сын обыкновенного мясника. Он видел изнанку родных ему рабочих кварталов Парижа. Начал писать злободневные куплены об отставке кабинета министров, о биржевых махинациях, выступал в концертных залах Монмартра в 80-е годы.
Автор и исполнитель из знаменитого кафе «Ша нуар», Жуй был демократичен и резок. Его заметил писатель Жюль Валлес, редактор газеты «Крик народа» (это был марксистский орган печати). Валлес понял существо творчества Жуй: «Он пишет так, как говорит народ, поэтому народ его понимает». Между прочим, эта фраза «Писать так, как говорит народ» напечатана на всех его нотах.
Впоследствии он стал фельетонистом пролетарского направления. Но он прежде всего были остался поэтом, обладавшим исключительным даром импровизации.
В 80-е-90-е годы начинается подъём французского рабочего движения. Растёт число синдикатов (в данном случае – профсоюзов), упрочивается положение рабочих депутатов в парламенте. В этой атмосфере бытовали песни на темы «Атаки на генерала Буланже», возглавлявшего реакцию после разгрома Коммуны. Эти куплеты подхватила улица. Они становились лозунгами дня во время избирательной компании.
Несколько слов о Гастоне Монтегюсе. Это псевдоним Гастона Брунсвика. Он был сыном сапожника. Его дед и отец – бойцы Коммуны. Очень резко выступал против военщины. Главная направленность песней антивоенная и антиклерикальная. Выражал настроение демократических масс, вскоре приобрел большую популярность на Монмартре.
Здесь мне хочется подчеркнуть, что в 1901–1902 годах в кафе «Ша нуар» или в концертном зале на Монмартре Пьер Дегейтер слушал Монтегюса – последнего из плеяды знаменитых шансонье. Вижу в фильме такую сцену: в куплетах Монтегюс осмелился затронуть офицера «великой французской армии». Реакционная публика освистала дерзкого певца, но рабочие массы его сделали своим героем.
Слава Монтегюса длилась до самой Первой мировой войны – почти 13 лет. Он приобрел огромную аудиторию. Со своими песнями он выступал на социалистических митингах. В Сен-Дени висело объявление, где было сказано: «Этот шансонье вызывает бунты и волнения в армии». Военнослужащим было официально запрещено присутствовать на его выступлениях. Рабочие до отказа заполняли парижские залы и, расходясь, напевали песни Монтегюса, направленные против генералов, фабрикантов и домовладельцев.[46]
Все названные выше поэты в какой-то степени были учениками почти забытого в наше время Десожъе, жившего ещё в конце XVIII века. Этот певец был знаменит своими песнями, которые исполнял сам в противоположность своему молодому современнику Беранже.
Бальзак высоко оценил творчество Десожье и сказал о нём так: «Его имя означает песню».
Меня просили процитировать несколько куплетов. Думаю, что внимания заслуживают такие из них. Вот куплет из песни Пьера Дюпона «Хлеб», написанной в 1870 году:
Народ не спрячешь за решетку и не отправишь к палачу, когда раскалывает глотку крик естества: «Я есть хочу!»А вот ударные строки Фесто, так он понимал назначение песни:
Поэты улицы, облагородьте стих! Пропойте песню королям, как равным, скажите в ней, как тяжело бесправным. Поэты улицы, вы здесь среди своих!А вот что говорит Бувье о значении уличной песни:
Мы помним, в девяносто третьем под «Марсельезу» деды шли, чтоб ненавистную столетьям снести Бастилию с земли.Реванш – господствующая тема в творчестве многих народных певцов после поражения Коммуны.
Клеман в 1903 году пишет:
Так думайте же о реванше, к нему готовьтесь, бедняки…Завершает он песню восклицанием:
Когда всё кончится великой республикою трудовой?!Приведу строфу из «Марианны» Суэтра, которую распевали коммунары на баррикадах:
Кто такая Марианна? Марианна – это, как ни странно, Франция! Иди же, Марианна! Пусть будет враг разбит. Буди (уже не рано!) того, кто спит.Приведу также строфу из «Карманьолы», которая интересна тем, что автора не имеет. Она полностью стала народной, хотя, вероятно, какие-то начальные строки имели своего автора-шансонье. «Карманьола», живя в народе, всегда сохраняла свой припев, но в зависимости от эпохи видоизменяла свое содержание.
Например, в 1789 году строки «Карманьолы» звучали так:
Станцуем «Карманьолу». Да здравствует она. Станцуем «Карманьолу». Да здравствует война!«Карманьола» 1889 года звучит так:
Властелином станет труд — равенство наступит.А вот отрывок из песенки неведомого автора, которую в нашем фильме могли бы исполнять во время своего марша по дорогам Франции Пьер и Кассоре:
В бой, вперёд, и фабрики, и доки, в бой смелее, шахты, рудники, все те, кого буржуи-пауки держали в нищете жестокой!Меня спрашивают, как проходили чаще всего выступления. Вот, например, на эстраде маленького шахтерского кабачка установлен ящик, на ящике стоит певец, аккордеонист сидит на стуле, а третий товарищ ходит по скамьям с пачкой нот и продаёт тексты и ноты куплетов, а зал бурно, очень бурно и живо реагирует на выступления шансонье. Обращаю ваше внимание на то, что всю эту атмосферу успел застать Владимир Ильич Ленин в Париже. Владимир Ильич слушал Монтегюса и, несомненно, живо представлял себе в эти минуты Родину, Россию, соотносил события истории российской и истории французской. Вот, скажем, песня Монтегюса «Привет, привет вам, солдаты 17-го полка!». Этот полк отказался стрелять в народ. В дни Великого Октября армия и народ сольются в единое целое. В этом была победа! Юнкера и казаки – малость на этом фоне. Эстетическое начало у Ленина неразрывно в восприятии соединялось с началом политическим.
Была дорога́ Ильичу и песня Монтегюса, высмеивающая социалистических депутатов, предававших в парламенте народную свободу.
Ленин радовался искренности и непосредственности восприятия жителями рабочих окраин, предместий Парижа. Ему нравилось растворяться в рабочей массе. Французской? Да, конечно, французской. И тут обратите внимание на два момента: во-первых, Ильич чувствовал, что он уже слился с парижской жизнью, уже начал её постигать. Во-вторых, он в такие мгновения особенно глубоко ощущал интернациональный характер марксизма, учения, которому был предан до конца. И, наконец, в-третьих (а мы уже об этом говорили несколько выше и в ином плане), он и в эти минуты не забывал о России.
Однажды Монтегю с выступал на одной из русских вечеринок в Париже и долго, до глубокой ночи беседовал с Владимиром Ильичом. Они вслух мечтали о будущей мировой революции. Сын коммунара и русский большевик были захвачены своей беседой, но каждый мечтал о такой революции по-своему.
Во время Первой мировой войны Монтегюс начал писать песни патриотические, которые потом приобрели более общеантинемецкие черты. Например, в одной такой песне он славил французского рабочего, идущего на войну за свою подругу – небесно-голубую Францию, которая остаётся ему верна[47].
Пьер Дегейтер – каким же он был?.
Ну, а теперь по вашей просьбе я ещё раз остановлюсь на некоторых биографических вехах Пьера Дегейтера. Меня в перерывах спрашивали, каким он был в годы юности.
Родился Дегейтер в 1848 году в семье, в которой было семь детей. Из них мы (по сценарию фильма) уже знаем троих: старшего брата Эдмонда, столяра и резчика; писца Адольфа и сестру Вергинию. Адольф в лилльском муниципалитете был сперва писарем, а потом делопроизводителем и наконец – советником. Поскольку он был постоянным обитателем кабачков, то в кабачках и работал, и кормился тем, что за небольшую плату писал всякие жалобы, кляузы, умел вовремя что-то подсказать, что-то уловить, на что-то настроить… К интригам и крючкотворству способности у него бесспорно были.
Пьер начал работать в мастерской с восьми лет. Работал он по 10–12 часов и тут же засыпал под верстаком, на стружках. Надо подчеркнуть, что вся семья Дегейтеров – прадеды, деды, отец, все были потомственными столярами-резчиками, мастерами деревянной скульптуры, своего рода потомками Кола Брюньона героя Ромена Роллана.
Более всего этот резчик любил деревянную скульптуру, панно из цельного дерева, то есть работы наиболее сложные, драгоценные.
Да и Пьер Дегейтер на первое место в своей жизни ставил не музыку, не увлечение песнями, а именно потомственное ремесло. Сперва ремесло, а потом уже – песня!
Мне лично Пьер Дегейтер сетовал на то, что, к сожалению, исчезает на глазах искусство старой Фландрии. Мебель становится фабричной, стираются черты индивидуальности. А если, мол, и появляется что-то ручное, то это бесконечные каски, щиты, копья да секиры. Очень старика удручала такая милитаризации мебели!
Вся семья Дегейтеров высоко несла знамя своего наследственного искусства. Брат Эдмонд как-то обмолвился о Пьере: «Если бы он стал совершенствовать своё мастерство, то, может быть, со временем не было бы равного ему мебельщика». Но на пути к такому всепоглощающему совершенству перед Пьером стояла музыка.
В молодости Пьер – типичный подмастерье, вобравший в себя традиции французских цеховых организаций и обычаев.
Вот как мне говорил о своём ремесле Пьер Дегейтер:
«Берёшь кусок дерева, упругий, нежный и плотный. Любуешься им, определяешь его назначение. Потом идёшь на склад за красивой, грациозной трехдюймовой доской…».
Мне он сказал, что в самые горькие минуты своей жизни мечтал очутиться в девственном лесу, где множество прекрасных деревьев, под кожей шершавой и атласной которых таится их чудодейственная душа.
А потом, всё более воодушевляясь, Пьер Дегейтер вспоминал о каких-то, вероятно, наиболее дорогих для него как художника заказах:
«Вот представьте себе! Получаю я заказ нарезной шкаф с подставцем. Искусство – это наш домашний бог! Мы все на него молимся. Для этого шкафа я сделаю две большие резные филенки. На одной будет нимфа, опирающаяся коленом в шею мохнатой львицы, на другой – виноградная гроздь, персиковые плоды и цветущие лианы…».
Но такие заказы не были частыми! Приходилось делать и подёнщину. То, что шло на повседневный рынок, отстояло от настоящего искусства гораздо дальше. В большом почёте в буржуазных семьях были оленьи рога. Но охота для мелкой буржуазии, тем более – оленья, во Франции была слишком дорогой, почти недоступной, и тогда шли на бойкий рынок созданные мастерами-резчиками деревянные рога. Что делать! Приходилось выполнять и такую работу.
Вообще, товарищи, я бы попросил всех вас перечитать роман Ромена Роллана «Кола Брюньон». Он нам очень поможет в работе над фильмом!
Из пород деревьев Пьер особенно любил грушу. Она – прекрасный материал для деревянной скульптуры. Работать с таким деревом для Пьера было подлинным удовольствием. Уже на склоне лет он с гордостью показывал гостям диплом, выданные ему за изящную поделку почти полвека назад.
Меня спрашивали, был ли кто-нибудь для Дегейтера образцом и авторитетом в его ремесле. Как мне лично помнится из разговора с Пьером Дегейтером, себе за образец он брал рамы знаменитого Брусталоне, которого называли Микеланджело резьбы по дереву.
Брусталоне работал со знаменитым Франсуа Жакобом, тоже известным резчиком по дереву, создавшим известный стиль мебели, получивший впоследствии его имя.
Во Франции есть два известных стиля мебели, которые особенно славились: стиль «жакоб» и стиль «булль». Различие в стилях в том, что Булль применял в отделке и орнаментике и металл, оформляя столики бронзой. А Жакоб использовал для орнаментов и отделки перламутр, а главное – куски цветного дерева вроде бука, тиса, граба и дуба.
Стиль Жакоба был тем образцом, которому следовало большинство мастеров мебели Лилля, бывших в течение столетий королевскими мебельщиками. Именно Лилль снабжал мебелью дворцы Тюильри и Версаль.
Пьер Дегейтер был одним из мастеров «эбенистерии», чем он особенно гордился. Напомню, что «эбенистерия» – это работы из чёрного дерева.
А теперь несколько замечаний относительно характера мелкого производства в Лилле. В Лилле было множество мелких и средних предприятий кустарного типа. Работали и в мастерской, и у себя дома. Выдача работ на дом была своеобразным придатком к фабрике и мануфактуре. Этот ремесленный пролетариат сильно тяготел к социалистической партии. Ведь всё время проходила упорная, почти незаметная порою борьба этих групп ремесленного пролетариата с предпринимателями. Эта борьба проходила против тенденции предпринимателей объединять, укрупнять, подчинять себе эти маленькие мастерские. Мастера и подмастерья хотели сохранить за собою старые традиции цехов. Они не хотели идти к чужому станку, противились механизации производства. Им хотелось быть мастерами, художниками, а не наёмными рабочими.
И вот в результате – с одной стороны стачка, с другой – локаут. Радикальная социалистическая партия, или реформистская, как ее называли, то есть, так называемые «жёлтые» социалисты стояли между этими двумя силами.
Между прочим, именно с севера Франции и пришло это название – «жёлтые». Происхождение слова, ставшего термином, такое. В городе Крезо собралось своеобразное ЦК реформистской партии, собрания проходили в двухэтажном домике, окрашенном в жёлтый цвет. Так и вошло в историю, науку и политику это сочетание.
Находясь в таком серединном положении, реформистская партия постоянно проводила демагогическую политику. С одной стороны, она боролась с империализмом при помощи попыток социальных реформ, а с другой стороны – постоянно сдерживала слишком резкие революционные устремления. Вожди этой партии мечтали стать членами парламента, их влекли тёплые местечки.
Мы ещё коснемся политической обстановки на севере Франции, а сейчас продолжим жизнеописание Дегейтера.
Эта семья раньше жила в Бельгии, в Генте. Накануне событий 1848 года промысловые района Бельгии выбрасывали излишек рабочей силы во Францию, которая тогда жила под знаком завоеваний колоний, расцвета века пара…
Во время немецко-французской войны юный Пьер попал в драгунский полк, в армию Наполеона Малого, как называли Наполеона III. Этого монарха Пьер ненавидел всей душой. Служил Пьер недолго. Он был призван в 1870 году и после короткого обучения сразу же направлен на фронт. Со своей частью он побывал у Пауэна, на Сонскиххолмах, в боях под Мецом и был свидетелем разгрома «великой армии» под Седаном.
Вместе с разгромленными толпами французской армии он как дезертир пробирался домой с группой товарищей. В армии, по-видимому, он был одним из самых беспокойных солдат. Он сам с гордостью говорил, что именно в армии он прочитал Прудона. Там же он читал, изучал и пропагандировал Манифест Карла Маркса и Фридриха Энгельса. По пути к Лиллю Пьер вынужден был свернуть, так как дома были немцы. Каким-то образом в эти группы бредущих по дорогам французских солдат проникли газеты парижских коммунаров – «Пьер Дюшен» – знаменитые темпераментные листовки, которые вербовали добровольцев в Коммуну.
Рассылая свои листки по всей Франции, «Пьер Дюшен» призывал рабочих и солдат под знамена Коммуны. Номера газеты пестрели призывными заголовками: «Записывайтесь в батальоны ребят Дюшена», «Дюшен» – это отец бунтовщиков. Это некий своеобразный собирательный образ старого добродушного француза, родственного санкюлотам. А люди, которые сражались на баррикадах, назывались сыновьями, или ребятами отца Дюшена. Парижские коммунары широко использовали свою печатную трибуну формирования своей, пролетарской армии.
Я думаю, что путь Пьера Дегейтера от Седана до предместий Парижа продолжался очень долго. Транспортное хозяйство Франции в ту пору было разрушено. Добираться можно было только пешком даже на весьма большие расстояния. Да к тому же приходилось опасаться на своем пути и немцев, и французских жандармов, и просто разбойников, которых развелось на дорогах немало. Поменять одежду Пьер тогда не мог. Он так и оставался в потертой форме драгуна. Именно такой костюм у него был, и именно в таком костюме он должен предстать перед нашими зрителями. Но в экипировке этого драгуна была очень любопытная парадоксальная деталь. Я не знаю, сохранил ли он в пути своё ружьё, но то, что у него с собою был сверточек с резцами и долотами, это точно. Об этом мне Дегейтер говорил сам с гордостью. Вот, мол, даже в такую пору мне спасло жизнь моё ремесло! Он и кормился-то тем, что на фермах занимался мелкой столярной работой. Работа нравилась, была сделана в срок, и хозяева благодарили бродячего столяра в потёртой форме драгуна ночлегом и угощениями.
Иногда он за обеденным столом затягивал свои куплеты, чем радовал крестьянские души.
Короче говоря, шёл в Париж Пьер не прямой дорогой, а исколесил чуть ли не весь север Франции! Он и сам дословно говорил мне об этой странице своей жизни так:
«В период Парижской Коммуны я сделал попытку с некоторыми товарищами-солдатами прорваться в Париж и стать под знамена Коммуны. Но по пути я попал в плен к германской армии, осаждавшей Париж, и меня отправили домой на север Франции».
Правда есть правда. От неё никуда не денешься. Не всё в истории столь романтично, как бы нам хотелось! В таком сюжетном повороте судьбы тоже есть своя драматургия, но, конечно, было бы интереснее показать встречу Пьера с Потье и героями Коммуны. Могла ли быть в принципе такая встреча? Да, могла. Пьер Дегейтер не отрицал ее возможности, более того – считал её желанной для себя. Здесь есть о чем подумать.
Каков же облик Пьера в то время? Странствующий ремесленник, убеждённый антимонархист, антимилитарист. По убеждениям он ближе к социалистам, чем к другим течениям. Я не знаю, говорить об этом или нет, но поскольку разговор у нас очень доверительный, буду говорить обо всём, что думаю о своём герое как автор. Видимо, в ту пору во всяком случае Пьер убеждённый и националист. Антинемецкие его настроение очень сильны. Плен его унизил и озлобил. Но вопрос требует ещё своего изучения, осмысления.
В целом же Пьер принадлежал к тому поколению французов, трагедия которого заключалась в бессилии претворить свои идеи в массовые действия. Представим себе какие-то сюжетные переходы истории Пьера применительно к нашей истории. Я – как участник Гражданской войны – своими глазами видел, как такие группы идущих из немецкого плена солдат входили в красные партизанские отряды, вливались в регулярные части Красной Армии. А Пьер был окружён небольшой группой колеблющихся солдат. Их действия были нерешительными, их воля была ослаблена, ум недостаточно просвещён. Пьер выделялся среди них, но и он не смог быть агитатором-борцом, тем более не было у него военных талантов, данных командирских. Не тот характер! Но он лично смог бы геройски погибнуть на парижских баррикадах, если бы добрался до Парижа. Это в его характере. Но если бы он погиб, мир бы не узнал мелодии «Интернационала». Посему благословим судьбу Пьера за то, что она такая, какой она была!
И вот Пьер возвращается к себе домой. Здравствуй, Лилль! Лилль босоногий… С места в карьер Пьер вступает в рабочую организацию и сразу же, как он сам мне рассказывал, «влекомый склонностью к музыке», создает из членов этой организации певческий хор под названием «Рабочая лира»[48].
О чём он поёт? О своём ремесле, о вдохновенном творчестве. «Вооружённый пилой, долотом и стамеской, с фуганком в руке я царю за моим верстаком. Я властелин над дубом узлистым, над кленом лоснистым. Что я из них извлеку? Это – смотря по моему желанию. И по деньгам заказчиков – тоже. В дереве дремлют разные формы. Чтобы разбудить спящую красавицу, стоит только умело проникнуть в древесную глубь. Эта красота таится у меня под рубанком. Я всему предпочитаю фламандскую мебель – кряжистую, сочную, отягощённую плодам. Пусть они висят, как виноградные кисти! Я всё могу – и пузатый баул, и резной шкаф. Я одеваю дома филенками, резьбой – панели…».
Какая профессиональная гордость звучит в этих словах! Какое достоинство!..
Пьер умел и любил рисовать. Откуда нам это известно? Он говорил мне: «Самое большое лакомство, это когда я могу занести на бумагу то, что смеётся в моём воображении: какое-нибудь движение, жест, изгиб спины, цветистый завиток, гирлянду, гротеск… Или когда пойман мною на лету и пригвождён к доске навечно какой-нибудь прохожий своим обличьем – это я изваял!»
Так или иначе в своём ремесле, которое он всегда считал творчеством, он стремился к созданию шедевров мебели и деревянной скульптуры. Он был одним из безымянных гениев-резчиков по дереву, которыми так богаты Фландрия и Франция!
Вы знаете, я сейчас ещё раз подумал о том, что Пьера в Париже привлекала не только революция, не только борьба, но и возможность заявить о своих способностях, не только песенных, но и столярных. Ему родной Лилль казался всегда немного тесным.
Ведь Париж был одним из тех городов Европы, где процветала художественная промышленность: гобелены, тонкие сукна, художественная мебель в Сент-Этьенском предместье, ювелирное искусство, часовое, газ, кружева… Парижские купцы были законодателями мод, в особенности в области художественной бронзы, фарфора, обоев, парфюмерии…
Постоянное общение Пьера Дегейтера с тонким художественным ремеслом оттачивало его вкус, сказывалось на его тяге к музыкальному творчеству, влекло его к поэзии и музыке. Так осуществлялся в его творчестве синтез искусств.
Мы говорили о некоторых ремёслах, характерных для Лилля. Вот ещё одно (я о нём ранее не говорил) – это зеркала. Достаточно сказать, что знаменитая зеркальная галерея в Версале была изготовлена из лилльских зеркал по венецианскому способу.
Были в Лилле и конкурсы мастеров. Мы уже касались темы конкурсов, говорили о дипломе, которым гордился в конце жизни старый Пьер. А что если нам сделать такую сцену: в Лилле идёт конкурс мастерства: собрались гобеленщики, разрисовщики стекла, мастера деревянной мозаики… Один вносит – торжественно и гордо – раму для картины, второй – филёнку с нимфой, третий – гобелен на сказочный сюжет…
В производстве роскошной мебели Лилль конкурировал с Сент-Антуанским предместьем Парижа, как Бордо – с Руаном.
В такой сцене Пьер мог бы блеснуть своим мастерством как резчик! Он был мастером и в области тонких наклеек из чёрного или красного дерева и мозаики цветного дерева, инкрустаций из перламутра и лакированного дерева. К украшениям из серебряных насечек, как я уже упоминал, он относился отрицательно. Это был не его стиль.
Лилль после Руана – вторая столица текстиля. Лилль изготовлял полотна, льняную пряжу, шерсть, одеяла, ратин, бархат, последний по образцу – Утрехского.
Сподвижник и товарищ по борьбе и песне Пьера Андри Кассорэ был таким «бархатным» мастером, тоже гордившимся своими мастерством и призванием.
Теперь о наших героинях. Виргиния Дегейтер, ставшая женой Кассорэ, была кружевницей. Близость Брюсселя, Валансьена – центра этого тонкого рукоделия, родины знаменитых чёрных валансьенских кружев оказывало непосредственное влияние на лилльскую художественную промышленность.
Чувство гордости за свои кружева, несомненно, может сопутствовать Марии Франсуазе или Виргинии в их беседах.
А теперь вернёмся к характеристике эпохи. У нас в фильме всё так взаимообусловлено, что трудно порою найти границы, определяющие зависимость одного от другого. Итак, эпоха. Это век капиталистической концентрации. Во Франции 28 миллионов человек, не имевших ничего, и 18 тысяч миллионеров, обладавших половиной богатства страны. Это век железных дорог, Монсенистского канала, успехов навигации, применения винта, железных судов, скандалов вокруг Суэцкого канала, развития телеграфа и т. д.
Разгром под Седаном стоил Франции до 20 миллионов франков! Потеря Эльзаса и Лотарингии, уплата колоссальной контрибуции – всё это казалось сплошным кошмаром, но Франция воспряла с быстротой, изумившей мир. Что же способствовало этому быстрому подъёму? Машины, именно машины, против которых так яростно воюют наши герои, так как эти машины лишают их чуда ручного талантливого труда.
Вот как, например, говорит об этом наш Пьер:
«Я становлюсь подёнщиком. Это – самый отверженный человек, тот, кто вынужден наниматься на день, на определённое дело, переходя с фермы на ферму, с каменоломни на каменоломню, а там – долгая зимняя безработица, бездеятельность, постоянные лишения. Он не знает вкуса мяса и вина, его пища – это мёрзлый хлеб и мокрый сыр. Зарплата – совершенно недостаточна не только для того, чтобы придать жизни оттенок привлекательности, но даже и для того, чтобы позаботиться о ком бы то ни было из близких.
Рабочий, отдающий обществу свою жизнь, полную тяжёлой работы, видит, что перед ним образуется громадная чёрная яма, в которой ничего нет. Ничего – кроме представленной ему возможности влачить своё жалкое существование без хлеба долгие дни. А между тем, даже разбитые на ноги клячи безмятежно едят законно заслуженный ими овёс».
А вот – гневная речь на какой-то сходке во время избирательной компании:
«Почему рабочий зарабатывает больше всего, когда он молод и когда у него меньше потребностей, а меньше всего он зарабатывает в то время, когда начинается старость, когда семья и болезни ложатся тяжёлым бременем на его ничтожный бюджет?..»
Труженики находились в таком бедственном положении, что, например, лионские ткачи, из которых некоторые зарабатывали по 18 су за 18-часовой труд, приходили в отчаянье от невозможности жить, трудясь, и предпочитали погибать, сражаясь. Этот знаменитый лозунг прозвучал именно в те дни, хотя и на другом конце Франции, что для нас, в сущности, не столь уж важно.
Франция – это государство рантье. Это «ростовщики Европы», по выражению В. И. Ленина. Создаётся видимость быстрого подъёма страны. Создаётся видимость умиротворения рабочей массы. Вожди социалистических партий, купленные хозяевами, ведут проповеди об усталости рабочих, об апатии, о страшной реакции после разгрома Коммуны. Дескать, в этой атмосфере нет больше ни одной тлеющей искры. Но рабочие великолепно помнят уроки Коммуны и молчат лишь до поры до времени.
Время от времени эти силы, аккумулируемые в рабочем классе, дают о себе знать. Достаточно вспомнить рабочие демонстрации в Париже. А с каким успехом прививались идеи марксизма в 80-90-е годы минувшего века!
Рабочая партия в том виде, в каком она возникла, целиком стоит на марксовой программе. Правда, рабочий класс Франции обезглавлен на парижских баррикадах, томится на каторге. Рабочая верхушка, аристократия, претендующая на руководящую роль, находится во власти идей Луи Блана, прудонизма.
Именно в этот период определяется стиль руководства профсоюзным движением. Его верхушка во многом способствовала тому, что апатия охватила рабочую массу почти на два десятилетия. Она всячески убивала в рабочих вкус и интерес к политической борьбе. Вот к этому-то миру и принадлежали люди вроде Густава Делори.
Как же проводили свою политику посредничества ради угнетения такие делори? Достаточно сказать, что во Франции ещё продолжал действовать закон запрещения рабочих союзов и стачек. Итак, с одной стороны, призрачные свободы Третьей республики, а с другой – этот закон.
Меня просят прокомментировать первые сцены сценария, сцены, происходящие в Лилле.
Сперва остановимся на том, кто такие «артизаны». Так называли полуремесленников-полурабочих, работающих на мелких предприятиях, к категории которых принадлежит Пьер. Словечко это становится презрительным, почти ругательным. Всё большее влияние на рабочую среду оказывает мелкая буржуазия. Верхушка рабочего класса стремится к сближению с ней, откладывает заначку на «чёрный день».
После разгрома Коммуны профсоюзное движение развивается робко и осторожно. Синдикаты (профсоюзы) стремятся держаться в стороне от политической жизни. К руководству одним из профсоюзов приходит Делори. Он руководит синдикатом резчиков-мебельщиков, отрицательно относящимся к стачкам.
Профсоюзы объявляют социализм утопией. А Пьер, как человек, весь проникнутый идеями Коммуны, думает совершенно иначе.
Хочу напомнить, что рабочая партия организована в 1880 году, а уже в 1881 году эта партия раскололась. На севере Франции много сторонников Жюля Геда, и Пьер, можно сказать, становится одним из последовательных гедистов, т. е. прямых, можно сказать, последователей Карла Маркса. Пьер активно борется с антиподом гедистов – с реформистами, которые опираются на радикально настроенных мелких буржуа. Социалистическая партия фактически становится оппортунистической, а ведущую идею гедистов, идею всеобщей стачки оппортунисты объявляют анархией.
Таков противник Пьера – «герой» эпохи II Интернационала Густав Делори. В прошлом это квалифицированный рабочий, сейчас – развращённый подачками функционер. В его груди ещё теплится, хотя и очень слабо, огонёк классовой солидарности, но его всё больше и больше заглушает жажда мещанского благополучия, жажда власти.
Как я уже говорил, синдикат мебельщиков один из самых беспокойных синдикатов Лилля. Пьер является в Федерацию профсоюзов и в секцию Рабочей партии с рядом требований. Он требует не только реорганизации пенсионных и ссудных касс, но и восьмичасового рабочего дня, обратного приёма рабочих, уволенных за участие в забастовках. И вот здесь мы видим подлинное лицо Делори, который буквально устремлён к компромиссам.
Большинством мелких предприятий мебельщиков Лилля владеет компания Фив. Мне не удалось выяснить, что означает это слово. А слово это очень популярно в Лилле. Компания даже называлась «Фив-Лилль». Главный её компаньон-распорядитель носил фамилию Огюст Де ла Мотт. Вся эта компания владела рядом мебельных предприятий, а также предприятий текстильных, железоделательных. Владела она к тому же компаниями в окрестностях Лилля. Может быть, мы где-то в фильме и смогли бы провести линию на единство угольщиков и мебельщиков, дать какие-то параллели.
Рабочая межотраслевая солидарность привела в конце концов к тому, что в 1884 году был опубликован закон, признающий право на существование синдикатов, свободу профсоюзов.
Каким был город Лилль в конце столетия…
Сегодня третий день наших бесед. Поговорим о Лилле, о бытовой и производственной жизни лилльских рабочих.
Итак, комната мебельщика. Обычно – в полуподвале, холодном, затхлом. Не забудем о том, что окрестные земли Лилля омываются водами Северного моря. Климат примерно соответствует климату Ленинграда.
Холодное и дождливое небо. Как оно влияет на характер французов? Те ли они французы, которых мы себе чаще всего представляем? Веселы ли они, исполнены ли такой живости?.. Один французский журналист так и писал прямо, что в характере северян «нет ничего особенно живого и сильно захватывающего».
Рабочая масса в обычное время весьма апатична. На улицах севера Франции не так оживлённо, как в южных французских городах. Под холодным дождливым небом жизнь проходит не на виду у всех, то есть на улицах, на площадях.
Здесь нет, как в районе Бордо или Нанта, захватывающих пейзажей, особенно красивой реки, берега которой могли бы притягивать к себе жителей и составлять место встреч. Нужно сперва выйти из города, пересечь долину, предместье, ставшее почти пригородом в двенадцать тысяч жителей, прежде чем встретишь, наконец, простор.
В редкие дни хорошей погоды мастерские обычно закрыты. А вечером рабочие прогуливаются по центральным улицам. Однако не здесь они проводят большую часть своих досугов. Но не думайте, что они всё время стремятся к уединению. Лилльцы склонны к общению, к взаимной помощи. Они рады возможностям общения. Можно сказать, что лилльская почва содействует, благоприятствует духу ассоциаций. В Лилле множество разного рода обществ. Эти общества являются тем средством, которое используется для морального воздействия на массы. Именно в этих обществах легко измерить уровень развития умов, раскрыть истинный характер людей. Это была благодарная почва для политических влияний.
Ассоциации, существовавшие в Лилле, можно было бы разделить на две большие группы. С одной стороны, это те, которые находились под сильным влиянием социалистов, и с другой – те, которые с ними боролись. В последних превалировал религиозный элемент. Можно назвать несколько ассоциаций этого рода: общество святого Жозефа, общество святого Франсуа-Ксавье, общество святого Франсуа-Режи. Последнее являлось обществом покровительства молодым рабочим.
Говоря об обществе святого Иосифа, один из граждан города Лилля сказал, что это «католический трактир».
У святого Ксавье значилось мало религиозных обрядов, там не занимались религиозной пропагандой – там больше внимания уделялось сфере досуга, приятному времяпровождению в воскресные вечера и вечера понедельников, когда мастерские закрыты. Это общество владело в Лилле большим домом для зимних развлечений и даже имело загородную виллу, расположенную в двух километрах от стен города. Лишь короткая молитва читалась сообща перед собранием в этом своеобразном «доме отдыха». Хотя на ней вовсе не обязательно было присутствовать, но она всё же напоминала о том, что ассоциация носит религиозный характер.
Правда, политические дискуссии в этой ассоциации запрещались. Главная цель ассоциации, по словам одного из её лидеров, – «уменьшить клиентуру кабаков».
Металлисты и прядильщики как самые революционно настроенные группы рабочих к святому Ксавье не ходили, не доверяли этому обществу.
Братство святого Поля занималось более всего благотворительской деятельностью, посещало бедняков. Президент братства лицемерно вещал, что участие в нём требует «горячего сердца». А речь шла всего лишь о более чем скромной, почти символической помощи детям, старикам и инвалидам. От этого последнего из названных братств был самый большой вред для рабочих, склонных к лени: пожив некоторое время за счёт благотворительности, они начинали к ней привыкать, как к алкоголю, даже самые малые взносы такие рабочие начинали непременно включать в состав своего бюджета.
К таким людям, развращённым благотворительностью, я как автор отношу и брата Пьера, Адольфа Дегейтера, который представляет собою весьма удобную фигуру для подкупа.
Святой Франсуа-Режи узаконивал незаконнорождённых детей. Рождение таких детей в Лилле считалось «печальным беспорядком». Вообще, в мастерских сближение полов считалось ухудшением нравов. Многие предприниматели стремились разделять на производстве мужчин и женщин.
Братство Ксавье определяло детей в школы, находило им работу, когда они подрастут.
Было и такое общество – «Юманите». Уже по названию видно, что это общество не носило религиозный характер. Но принимались в него лишь лица, «морально не запятнанные». Надо было обязательно платить вступительный взнос 15 сантимов, но потом это давало право на получение по льготным ценам хлеба, одежды, помогали здесь и с отоплением. Впрочем, льгота была мизерной – например, в 2,5 сантима с килограмма хлеба. Общество владело четырьмя мясными лавками, уступая по 30 сантимов на килограмм. Другие мясники не выносили конкуренции и всячески враждовали с мясниками из «Юманите».
Это общество явно боролось с проникновением идей социализма в рабочую среду, занимаясь главным образом сугубо бытовыми, житейскими делами. Но и оно было запрещено, так как рабочих предпочитали вовлекать в сугубо религиозные общества, требовавшие от них «трудиться только для славы Бога и нашего святого».
По возможности, каждый рабочий обязан был вступить в такое общество. Участие в нём, в его делах – часть общефабричного распорядка! Предприниматель всячески поощрял такие ассоциации, поддерживал их материально. Ему это, между прочим, обременительно не было: средства на содержание обществ шли от штрафов, взимаемых с самих же рабочих] Но этих средств явно не хватало, и общества строили свою бюджеты на добровольных пожертвованиях – от 20 до 25 сантимов в неделю. Собирал эти взносы особый сборщик, получавший за свою работу некий подарок, например, пару сапог. Таким сборщиком в юности был Адольф Дегейтер. Начинал как лакей, стал изменником.
Были общества, которые почти совсем теряли свою религиозную окраску. Например, общество святого Николя существовало лишь для взаимной помощи и для развлечений. Помощь была весьма скромной. Когда человек заболевал, ему выдавали пять франков. Если болезнь затягивалась, пособие постепенно сходило на нет.
Святой Николя считался покровителем ткачей. Его память праздновалась в мае. Назывался праздник праздником веретена. Отмечался он порою по три дня подряд.
Власти очень пристально следили за деятельностью обществ. Хотя братства зачастую зарождались произвольно, они обязательно регистрировались в префектуре. Власть хотела всё знать об общественном движении в своём районе.
Лилльское население очень любило всякого рода собрания. Пение, которое оживляло сердца, являлось наиболее верным средством, чтобы пробуждать одновременный отклик в душах.
Какие же песни находили предпочтение у членов лилльских обществ?
Во-первых, в Лилле, как и во всей Франции, очень любили народные патетические песенки. Некоторые из них, как, например, песни Дюпона, гремели.
Иногда создавались общества целиком певческие, не преследовавшие никаких других целей, кроме организации хора. Таким обществом был хорал «Аира рабочих», близкий к социалистической партии. Этим хоралом и руководил Пьер Дегейтер как дирижёр.
Наибольшее предпочтение рабочие-хористы отдавали песням, рождённым на злобу дня, в самом хорале. Такие песни назывались «сырыми песнями». Они были сложены на своём, особом лилльском диалекте и имели особую прелесть для народных ушей. Такие песни сочиняли сами рабочие певцы – шансонье. Зачастую текст и ноты печатались на отдельных листочках и продавались по малой цене в большом числе экземпляров. Это и сцены из обыденной жизни, и описание какого-либо праздника, концерта. Политика долгое время в них не фигурировала, однако, и, так сказать, стопроцентного запрета на политику не было, а вот в лавке мясника вполне можно было встретить табличку «Запрещается разговаривать на политические темы!»
В Лилле было немало рабочих певцов. Видное место среди них занимали Друссо и Дани. Они стали авторами книг стихов и песен.
Наиболее яркие шансонье приглашались на конкурсы народных певцов в город Труа. Мне однажды попался в руки отрывок искромётной песенки Друссо о том, как в Труа поехали певцы из Лилля. (Перевод построчный.)
Певцы из Бельгии, из Лилля и даже из Парижа, приехав в Труа, нашли неважный приём: их накормили жидкой похлёбкой. Поэтому они были веселы, как могильщики, но здоровы, как тюремщики.Таким образом, такая сцена конкурсов певцов в нашем фильме может быть правомерной, исторически оправданной[49].
Для образца лилльских шансон приведу текст песни о чердаках. Была в ту пору парламентская дискуссия по поводу жилищных условий в рабочих кварталах. (Перевод построчный.)
Недавно читатели видели в газетах множество длинных речей о погребах и чердаках. Я понял их на свой манер таким образом: нас хотят прогнать из подвалов и дать нам возможность надышаться всласть на чердаках свежим воздухом, ведь там такой свежий воздух, что можно совсем окоченеть! Моим жилищем занимались важные парижские учёные. Эти господа хотели помешать мне, маленькому ремесленнику, жить. Они хотят убедить меня в том, что наш подвал нездоров. А я жил в нем столько лет со свой семьёй, и, представьте себе, не болел! Одно утешение – на чердаке я по крайней мере буду слушать пение ласточек!Эта песня безусловно выражает чувства рабочих. Они и впрямь предпочитают спуститься в свой подвал на пять-шесть ступеней вниз, чем карабкаться по ветхой чердачной лестнице под самую крышу.
Лилльская секция Рабочей партии была одной из самых мощных гедистских организаций во Франции. Недаром руководитель этой секции Густав Делори занимал такое видное место в руководстве всей социалистической партии Франции и был ближайшим другом и соратником Жюла Геда. Имя Густава Делори можно найти во многих книгах по истории социалистического движения во Франции. Важно подчеркнуть, что не только общенациональные, но и международные конгрессы социалистических партий созывались в Лилле, и Густав Делори, впоследствии лилльский мэр и член палаты депутатов Франции, авторитетно руководил этими конгрессами, имея по одну руку от себя Жюля Геда, а по другую – Поля Лафарга. В президиуме этих конференций можно было увидеть Либхнехта-отца, Клару Цеткин и других деятелей международной демократии.
Рождение «Интернационала»
Теперь я хочу перейти к моменту создания «Интернационала». Прежде всего надо постараться ответить на главный вопрос: «Чем вызван такой взлёт в творчестве Пьера Дегейтера?» Ведь до сих пор он писал довольно безобидные песенки на местные темы, лёгкие, хотя и изящные сочинения о любви, о весне. Иными словами, создавая биографию песни, надо найти в биографии её создателя, её творца момент высшего творческого подъёма, объяснимого какой-то высокой общественной волной.
Мы ни в коем случае не должны снижать уровень фильма до темы «о скромном эпизоде в рабочем движении Лилля». Нам нужно сохранить от начала до конца огромную масштабность событий!
В самом деле, 1889 год – это столетие Великой Французской революции. Юбилей этот прозвучал во Франции очень широко! И несомненно способствовал поднятию духа в рабочем классе.
Преемственность – от революции 1789 года, к Коммуне, к «Интернационалу» – несомненна.
Вся Франция кипела тогда стачками. Вспомним знаменитую стачку в Доказвиле в 1886 году, вдохновившую Эмиля Золя на «Жерминаль». Не менее масштабна стачка и на заводах Шнейдера и Крезо в 1888 году, когда забастовщики потребовали признания рабочих организаций. Как после этого можно утверждать о том, что у французских рабочих полностью притупилось классовое чутьё, что они устали от политики, «успокоились» в синдикатах (профсоюзах), певческих кружках, благотворительных обществах! А ведь порою иные авторы, характеризующие интересующий нас период, так и утверждают.
Вспомним также стачки 1890–1899 годов среди текстилен Исключительно сильной и многолюдной была стачка «Скрещенных на груди рук». Откуда это образное выражение? Это знаменитая формула Дантона, которой он грозил буржуазии всего мира – рабочим достаточно скрестить на груди руки, и капиталисты погибнут.
Ту же мысль, но несколько иначе высказывал Мирабо в Провансе в 1789 году – народу нужно только пребывать в неподвижности[50], чтобы стать для сильных мира сего страшным.
Как знать, может быть, эти мотивы и вдохновили Пьера Дегейтера, когда он, возвращаясь в Лилль, после Седана, после разгрома Коммуны, возможной встречи с Потье и решился перейти к песенной пропаганде как к форме борьбы.
А что он видел вокруг себя?
В одном кабачке продолжал дебатироваться вопрос о призрении незаконнорожденных. В другом толковали о чисто женских и чисто мужских предприятиях, ибо единение полов подрывало устои общества. В третьем кафе выдавался хлеб со скидкой в 2,5 су на килограмм. В четвертом делились куски удешевленного мяса или раздавались благотворительные тарелки бульона.
Вся эта обстановка способна была привести в ярость человека, душа которого освещена идеалами Коммуны!
А тем временем крепости капитализма получают всё новые и новые трещины. Рабочая стачка (грэн) и стачка хозяев (локаут) – это состояние войны в экономике становится непрерывным. За сравнительно короткое время Франция переживает около 600 забастовок!
Появляется закон 1884 года – синдикаты и союз синдикатов признаются законом. Но стачки продолжаются. Живы силы, раздувающие и поддерживающие их огонь в рабочей груди. На севере, в Лилле, идёт ожесточённая борьба. Компании не принимают на работу активных синдикалистов.
Как раз эпоха создания «Интернационала» отмечена ожесточёнными схватками между синдикатами и хозяевами (1884–1889). В Крезо забастовка вызвана стараниями хозяев помешать синдикалистскому объединению.
В таком беспокойном синдикате мог состоять и Пьер Дегейтер. Его песня, представлявшая программу восстания, могла пробуждать людей от спячки, в которую повергали тружеников мелкие законодательные уступки.
Но между хозяевами и синдикатом колеблется примиряющая сила. В те годы появляется первый жёлтый синдикат, противостоящий синдикатам красным. Жёлтые – это те, которые поддерживали хорошие отношения с хозяевами. Бывали синдикаты и смешанные, где доминировал всё тот же хозяйский элемент.
Не является ли Делори и его клеврет – синдикалистский вождь Гекьер – таким «хозяйским» элементом в той среде, где было много красных? И не был ли среди красных наш герой Дегейтер? Конечно же, был! Иначе чем объяснить ту непримиримую борьбу, борьбу не на жизнь, а на смерть, которая разгорелась между Делори и Дегейтером?
В среде, требующей хозяйского умиротворения, вдруг прозвучала грозная песня. Она дала такой мощный, оглушительный резонанс, что повела за собою рабочих на улицу. И неудивительно, что Делори, сам заказавший Дегейтеру эту песню для рядового профсоюзного праздника, оказался невероятно напуганным. Он принимает все меры к тому, чтобы запретить песню, не прогневить своего хозяина Де ла Мотта.
Потрясённый стачками, хозяйский бюджет трещал по всем швам. Тут не жалко и поистратиться и на средства подкупа – лишь бы заглушить песню, звучащую непрерывным сигналом к восстанию. В такой борьбе с точки зрения врагов трудового народа хороши были все средства вплоть до организации предательства родного брата Пьера – Адольфа.
Итак, соотношение борющихся сил.
С одной стороны – Делори. С другой стороны – Пьер Дегейтер. Нам точно известно, что он вышел из лилльской секции «Рабочей партии». Я представляю себе в этой связи примерно такое объяснение между ним и Делори:
– Вы ненавидите партию, если не подчиняетесь её тактике! – восклицает Делори.
– Не имею причин ею восторгаться, – возражает Пьер. – Мне даже стыдно сознаваться, что было время, когда я верил в эту партию. Это время давно прошло…
– Ну, хорошо, – отвечает ему Делори. – Я готов сознаться, что мною допущена была ошибка…
– Это не ошибка!
– А что это, мой друг?..
– Я вам не друг. Это – предательство, злодеяние, преступление! Нет ничего страшнее тех вождей трудящихся, которые, выйдя из их среды, так быстро забыли об интересах своего класса.
Так могло быть.
А вот как было.
Цитирую репортаж из газеты «Пробуждение Севера» за 1896 год:
«В Лилле, где городская дума была завоёвана социалистами, открывается XIV конгресс французской Рабочей партии. Съезжаются свыше 200 делегатов\, среди них и германские социал-демократы.
Протестуя против идей интернационализма, лилльские реакционеры, клерикалы и националисты организуют враждебную демонстрацию. Рабочая партия, со своей стороны, вывешивает на улицах Лилля воззвания к рабочим.
23 июля, в 9 часов вечера, когда члены конгресса, с духовым оркестром во главе, направились к дворцу Рамо, на улице произошло столкновение между националистами и членами Рабочей партии. Столкновение продолжалось весь вечер. На вокзальной площади разыгралось настоящее сражение. В то время, как националисты пытались петь “Марсельезу”, ставшую во Франции к концу XIX века официальным гимном буржуазной республики, духовые оркестры социалистов исполнили “Интернационал”. Толпа растёт. Бесноватые молодцы кричат: “Да здравствует Франция, долой Пруссию!” На их крики товарищи отвечают тысячекратно повторённым припевом “Интернационала”.
Толкотня и давка. Поют “Марсельезу”, которую сейчас же покрывает пение “.Интернационала”. Происходит ужасная свалка. Но наши товарищи держатся крепко, а музыканты, несмотря на растущую давку, играют “Интернационал”… И знамёна с торжеством выносятся из толпы.
Так, под пение Гимна Потье-Дегейтер а рабочие массы обращают в бегство лилльскую реакцию, вышедшую на улицу.
С этого дня гимн распространяется по всей Франции.
Делегаты рабочего конгресса с восторгом разносят повсюду запоминавшиеся строфы, говорящие о гневе и надеждах рабочих. Они слушают и запоминают эту музыку – широкую, могучую и пламенную, – так необычайно совпадавшую с твёрдой и гордой поступью пролетариев, музыку, которая вела их по улицам Лилля и воодушевляла во время демонстраций».
Делегаты Парижа, Лиона, Гренобля, покидая Лилль, запасались экземплярами нот «Интернационала». И каждый, вернувшись в свою группу, секцию, федерацию, в свою очередь, переносил туда слова Потье и мелодию Дегейтера.
Назавтра после Лилльского конгресса «Интернационала» делается уже не только любимой песней гедистов Севера, но и любимым гимном всей Французской Рабочей партии, исполняемым во время манифестаций, праздников и конгрессов.
Через несколько лет – новый взлёт «Интернационала».
Шёл 1899 год. Генеральный конгресс французских социалистических организаций. Единение аллеманистов, гедистов, бланкистов и независимых. Стычки между Жоресом и Гедом… Но в последний день конгресса воцаряется общее согласие. Перед закрытием заседания гедисты зовут на трибуну делегата Севера Анри Гекьера и просят его спеть «Интернационал».
Знамёна окружают трибуну. Гекьер поднимается на трибуну и запевает. Весь зал в энтузиазме подхватывает припев.
С тех пор «Интернационал» становится гимном французских социалистических организаций всех толков и направлений. Раньше северная федерация передала его сперва Рабочей партии, а та, в свою очередь, передает его всему французскому социализму.
С тех пор ни один конгресс не обходился без «Интернационала».
Несколько слов о самом моменте создания гимна.
Газета «Монд» приводит такую историческую справку:
«Строфам Руже де Лилля суждено было на всём протяжении XIX века, во все часы демократических волнений звучать на устах восставшего народа. Прозвучав впервые в 1792 году, “Марсельеза” воскресла на солнце июля 1830 года. Она вновь появляется при свете молний февраля 1848 года. Она оживает, незабываемая, в сентябре 1870 года. Франция дала европейской демократии свой гимн надежды и борьбы.
По знаменательному совпадению, опять же рабочая Франция и французский социализм дают позднее революционному международному социализму свой гимн мщения и борьбы – “Интернационал.
Но только в конце XIX века “Интернационал становится песней французских рабочих, которую они распространяют по всему миру».
В 1888 году лилльская секция Рабочей партии организовала певческое общество «Рабочая лира».
Спустя восемь лет Делори заказал Пьеру Дегейтеру песню к очередному празднику. Пьер принял предложение. Через три дня музыка была готова. Первое издание в 6 000 экземпляров выпустил Больдодюк, издававший ранее и другие произведения Пьера Дегейтера.
На листке по настоянию Делори была напечатана только фамилия по настоянию Делори. Это обстоятельство и привело к судебному процессу об авторстве. Делори высказался в пользу Адольфа Дегейтера, своего подчинённого по службе.
Процесс длился и длился… Только в 1922 году авторство Пьера Дегейтера было подтверждено!
Первое исполнение «Интернационала» состоялось в Лилле в конце июня 1888 года на празднике союза газетчиков.
Песня быстро распространилась на Севере Франции.
Через некоторое время социалист Гослен был осужден за переиздание шестой строфы. Это гонение на «Интернационал» было при правительстве Казимира Нерье.
А вот воспоминание одного рабочего под названием «Гнусный поступок вождя социалистов Делори»:
«В 1901 году приверженцы Делори стали утверждать, что музыка “Интернационала” была написана Адольфом Дегейтером, братом Пьера. Адольф был служащим в муниципалитете Лилля.
До этого времени “Интернационал появлялся везде с надписью: “МУЗЫКА ДЕГЕЙТЕРА”. Это получилось потому что, если бы Дегейтер написал своё имя “ПЬЕР”, его бы уволили с фабрики, а так как в Лилле было МНОГО Дегейтеров, то это была своего рода конспирация.
Воспользовавшись этим, социалист Делори стал утверждать, что именно Адольф является сочинителем «Интернационала». В социалистической секции разгорелся столь горячий спор, что Пьер был насильно выведен из зала заседания.
Ещё одна деталь, характеризующая атмосферу, в которой создавался гимн. Кассоре, за которого вышла замуж сестра Дегейтера Виргиния, Пьер и брат его Адольф организовали группу, которая ставила своей целью вести пропаганду песней, используя рабочие общества. Они объезжали весь Лилльский округ, распевали песни в пользу забастовщиков. Кассоре играл на аккордеоне, Пьер пел, Адольф продавал ноты.
В 1901 году, когда вспыхнула ссора между братьями, Делори, который был мэром Лилля, завладел Адольфом и заставил его написать заявление о том, что он – автор гимна.
В 1902 году, устав от этих переживаний, Пьер уехал в Париж, а затем в Сен-Дени, парижское предместье, где несколько лет вел почти нищенское существование. Наконец, (через двадцать лет!) истина всплыла наружу, и Пьер был признан хозяином своих произведений».
Приведу вам ряд высказываний и воспоминаний о происхождении «Интернационала».
«В феврале 1888 года Делори должен был организовать секцию Рабочей партии в Северном округе. Вскоре при секции организовался хоровой кружок под названием “Рабочая лира” Этот хорал собирался в трактире «Свобода». Содержал его некто Бонден на улице де Лавиньет. В течение долгого времени у хора не было новых песен. К этому времени появился “Сборник революционных песен” Потье.
Однажды в субботу, часов в 11 вечера, когда кружок заканчивал очередную репетицию, один из приезжих товарищей[51] предложил Пьеру Дегейтеру написать музыку на одно из стихотворений Потье. Дегейтер, перелистав сборник, остановился на “Интернационале”.
На следующий день, в воскресенье, Дегейтер уже стоял перед маленьким органом и, вдохновившись, сочинял музыку “Интернационала”. Ему понадобилось для этого всего лишь несколько вечерних и ночных часов.
В то время он работал мебельщиком в компании “Фив-Лилль”. Утром товарищи спросили его, сочинил ли он что-нибудь. Пьер обрадовано сказал, что сочинил очень интересную песню. После работы, провожаемый товарищами, он зашёл в кафе Бондена, которое расположено было неподалёку от фабрики, вытащил из кармана набросок “Интернационала” и стал распевать новую песню. Революционный гимн произвёл на рабочих большое впечатление. Через два-три дня многие из них уже разучивали новую песню».
Эту же историю и примерно такими же словами рассказывал в Москве сам Пьер Дегейтер. Было ему в то время, то есть в 1928 году, около 83 лет. Памяти старика доверяться полностью трудновато, но всё же постараемся дословно воспроизвести его рассказ.
«Я учился в консерватории в городе Лилле на севере Франции и усердно занимался музыкой. Основную страсть питал я всю жизнь к пению. Обладая недурным голосом, всегда состоял членом нескольких больших хоровых обществ. По предложению нескольких товарищей, я принял участие в организации хорового кружка под названием “Аира рабочих”. Там меня единогласно избрали дирижёром. Это был социалистический кружок. Густав Делори стал его руководителем. Впоследствии Делори оказался мэром города Лилля. Вскоре после организации кружка Делори появился у нас на репетиции и сказал мне, передавая сборник стихотворений: “Это стихи недавно умершего Потье. Посмотрите, на найдётся ли там чего-нибудь пригодного для нас. У нас совсем нет революционных песен. Ты сумеешь это сделать.
Вернувшись домой, я сейчас же взялся за книгу и по странной случайности открыл её на “Интернационале”. Он показался мне великолепным для хора, но неудобным для исполнения, ибо в нём было много куплетов.
Писал я вечером и ночью, к утру была готова начерно музыка куплетов. А на следующий день мне удалось присочинить к ней хороший рефрен. Готовую песню я отнёс Делори.
Делори весьма одобрил моё сочинение и сказал, что придётся печатать его в количестве не меньше шести тысяч экземпляров для продажи на празднике газетчиков, которые намеревались дать большой концерт.
Таким образом, в следующий вторник мне пришлось впервые исполнить публично “Интернационал”. Это было 23 июня 1888 года. С тех пор он стал любимой нашей песней, исполняемой при каждом выступлении, куда бы мы ни отправлялись. Так я стал известным на своей родине. Широко популяризировали “Интернационал” Делори и его коллега Анри Гекьер, который пел в моём хоре. Они распространяли его на всех концертах, продавая и исполняя его в свою пользу. А мне предоставляли довольствоваться одной славой.
В 1902 году Клеман спросил Делори, кто написал музыку “Интернационала”. Делори ответил, что автор уже умер! В ту пору я работал резчиком по дереву в Париже. На работе я повредил себе руку. Так неожиданно моё имя попало в газеты. В конце 1903 года меня пригласил к себе директор газеты “Пти репюблик”. В беседе со мной он как бы между прочим спросил меня, не являюсь ли я родственником автора “Интернационала” и не могу ли я привести его как-нибудь в редакцию. Я рассмеялся и сказал, что приводить автора музыки “Интернационала” в редакцию не надо, ибо он уже пришёл, а он – это я!
Тогда Ришар позвал в свой кабинет всех сотрудников. Меня поздравляли, мы пили шампанское. Затем меня направили к адвокату для взыскания вознаграждения за увечье. Адвокат предложил мне также начать процесс против нотоиздательницы вдовы Говард, которой Делори имел наглость передать второе издание “Интернационала” с портретом моего брата Адольфа на обложке. Надо сказать, что ещё в 1893 году Делори начал против меня интриговать. Он старался мне всячески навредить у нас на родине. Один раз меня из-за него чуть было не арестовали перед моим публичным исполнением “Интернационала” в Тубе. И только протесты лично знавших меня товарищей расстроили эти клеветнические козни. Делори продолжал утверждать, что автором “Интернационала” является мой брат Адольф. Начался ряд процессов. Первый прошёл в 1909 году. Я его проиграл! Сыграли свои зловещие роли авторитет Делори и лжесвидетельство моего брата.
Так дело дошло до 1913 года. К тому времени я собрал в Лилле и в Париже 126 подписей протеста против ложных утверждений Делори. Было назначено новое судебное расследование в Лилле на октябрь 1914 года.
Но помешала война. Брат мой попал в плен к немцам. Опасаясь за свою жизнь, он написал мне 27 апреля 1915 года покаянное письмо, в котором признавался, что никогда в жизни музыки не сочинял, а музыки “Интернационала” – и подавно! Он оправдывался тем, что подписал бумагу, подсунутую ему мэром Лилля Делори из опасения, что в случае отказа его могут лишить заработка».
Вот подлинник этого письма.
На конверте следующий адрес:
«Сен-Дени на Сене 7.45 20–12
Сена
М-е Дегейтеру Пьеру ул. Жаворонков 2
Сен-Дени (Сена)
Послано М. Дюбар от имени Адольфа Дегейтера в Лилле
(Север)
Лилль 27 апреля 1915 года»[52].
Как вы понимаете, материал превосходен сам по себе драматургически, и просто грешно не воспользоваться им.
А вот рассказ доктора Рубакина о встрече со стариком Дегейтером:
«Старик любовно вспоминал о своём Севере, о Лилле, где провёл он почти всю свою жизнь и где им был написан Интернационал.
Слова его он нашёл в сборнике "Революционные песни Потье, тоже рабочего и тоже северянина. Но лично они знакомы не были. Просто Дегейтеру понравились стихи, сочинённые Потье. И он написал к ним музыку в 1888 году.
Была в жизни его большая обида. О ней он мне долго и подробно рассказывал.
Был у него брат, Адольф, тоже рабочий, как и он. Из-за каких-то личных интриг местных социалистов в Лилле был пущен слух, что “Интернационал” сочинён не Пьером, а Адольфом Дегейтером. Делалось это всё, чтобы насолить Пьеру, прямому и честному революционеру.
Свыше десятка лет[53] продолжался этот спор и кончился судебным процессом. Лилльский суд в конце концов подтвердил, что автором “Интернационала” был Пьер, а не Адольф. Но процесс этот рассорил братьев.
Рассказывая эту свою историю, старик совсем разволновался. Дрожащими руками открыл он какую-то шкатулку и вынул оттуда письмо. Он сказал: “Мой брат во время войны застрял в местности, занятой немецкими войсками. В 1915 году он покончил с собой. И вот письмо, которое он мне оставил”. Это письмо – эпилог тяжёлой драмы в рабочей семье…».
Как мы видим, все эти показания свидетелей и очевидцев полны неясностей и неточностей. Самым «роковым», невыясненным вопросом остается вопрос, из каких побуждений Делори сплёл эту дьявольскую интригу?
Кое-какие разгадки есть в ряде статей, появившихся во французской коммунистической печати в 1932 году.
Но прежде чем вернуться к разговору о причинах и мотивах драмы авторства, мне бы хотелось вспомнить ещё несколько фраз, рассказанных самим Пьером Дегейтером:
«Письмо брата дошло до меня только в 1917 году, а сам брат мой умер в 1916 году 15 февраля. В 1920 году Делори имел дерзость поставить моему брату памятник как автору “Интернационала”. Письмо брата было мною представлено в суд\ и наконец 23 ноября 1922 года состоялось решение высшей судебной инстанции, которая разоблачила интригу Делори и его приспешников, и я был окончательно признан автором музыки “Интернационала”. Делори явился в суд уже больным. Отказался от своих претензий. Вскоре он умер.
К моему удивлению, приёмник Делори на должность мэра – Салагри – вздумал во время выборов в муниципалитет с целью саморекламы устроить перед памятником чествование 12-й годовщины со дня смерти мнимого автора “Интернационала”. Мне пришлось вмешаться и послать местному префекту полиции официальное требование запретить торжество), основываясь на том, что я жив и подкрепляю своё заявление постановлением суда в мою пользу. И префект запретил манифестацию».
Теперь вернёмся к откликам прессы.
«Юманите», давая обзор прессы, указывает, что социалистические газеты всё ещё продолжают странно относиться к памяти автора гимна. Так, «Юмани-те» упрекает орган социалистов «Попюлер» в гробовом молчании:
«Автор “Интернационала” умер, а центральный орган социалистов не находит ни одного слова. Больше того, газета “Заря Севера”, в которой выступают лидеры социалистов, опубликовала вчера циничнейшую заметку, отрицающую авторство победного гимна за Пьером Дегейтером. Это совершенно отвратительное отношение».
А вот заметка из коммунистической газеты парижского пригорода Сен-Дени:
«Это было в 1880 году. В Лилле росло рабочее движение. Организовывались союзы и кооперативы. Рабочая партия создаёт свою первую секцию. Человек, который в конце своей жизни стал шовинистом, но который был отличным организатором пролетариев, Густав Делори, был во главе движения.
Социалисты-пролетарии, музыканты, объединились и стали посредством музыки вести борьбу. Пьер Дегейтер был одним из этих рабочих музыкантов, которые отдавали своё искусство на службу класса».
Подробно описывался и процесс братьев Дегейтера:
«Процесс начался 6 июня 1901 года претензией Пьера к госпоже Гавард по обвинению в подделке. Дело разбиралось в суде, и Пьеру было разъяснено, что его претензии могут быть основательными, и обвинение может быть поддержано только в том случае, если привлекут и брата Адольфа как соучастника Делори.
Это было очень неприятно Пьеру. Но наконец 30 апреля 1906 года он подает в суд жалобу на вдову Гавард и на брата Адольфа. Суд назначает дело к слушанию.
На суде выступило до 30 свидетелей, почти все ставленники банды Делори, которые утверждали, что Адольф является автором “Интернационала”.
Первое решение состоялось в апреле 1914 года, причем, Пьеру было отказано в иске.
Адольф Дегейтер жил в немецкой оккупации. Раскаиваясь, он пишет письмо брату Пьеру. Письмо это, написанное в 1915 году, пришло к Пьеру только в 1918 году.
Дело возобновилось в апелляционной палате в Париже 28 ноября 1922 года. Был признан автором “Интернационала”Пьер Дегейтер».
Вот текст судебного постановления:
«По просьбе Пьера Дегейтера, живущего в Сен-Дени, на Сене, улица Аллюет, 2, вызван повесткой в суд господин Густав Делори, выборный депутат-мэр города Лилля (Север).
Принимая во внимание, что кассационная камера № 4 признала неправильным решение гражданского суда Сены от 17 января 1914 года, вынесла постановление 23 ноября 1922 года, по которому устанавливается, что Пьер Дегейтер – автор музыки “Интернационала”. Доказательством тому является письмо, написанное 27 апреля 1915 года, незадолго до смерти, прежним ответчиком Адольфом Дегейтером, где содержится признание, что сочинителем названной музыки является Пьер Дегейтер, его брат. Означенное признание подтверждается обстоятельствами и документами, относящимися к делу и особенно свидетельскими показаниями на суде.
Признать, чтобы подпись на могильном памятнике в Лилле в память Адольфа Дегейтера, которая свидетельствует о том, что автором “Интернационала” является не истец, а какое-то другое лицо, была бы снята в самый короткий срок, о чем должен позаботиться господин Делори, депутат-мэр города Лилля… ”».
Дальше газета дает комментарий:
«Документ является доказательство гнусного поступка вождя Делори, который хотел завладеть авторским правом “Интернационала”.
Адольф Дегейтер неумел сочинять музыку, в то время как Пьер, его брат, имел уже в своём активе несколько музыкальных сочинений. Кроме того, автор “Интернационала” Пьер Дегейтер состоит в обществе авторов. А в 1886 году он получил первый приз музыкальной Академии в Лилле».
В другой газете есть намёк на то, как складывалась судьба Пьера Дегейтера после описываемых в Лилле событий:
«В 1901 году началась ссора между двумя братьями. Делори, который стал мэром Лилля, завладел Адольфом, который был уже городским чиновником, и заставил его подписать заявление о том, что он автор “Интернационала”.
Борьба была настолько жесткой, что Пьер Дегейтер, истинный автор “Интернационала”, был исключен из Лилльской секции социалистической партии.
В 1902 году, усталый ото всех этих переживаний, Пьер покинул Лилль. Поставив своей целью вести пропаганду песней, он объезжал весь Лилльский округ, распевая песни в пользу рабочей солидарности и особенно в пользу забастовщиков во время их выступлений против хозяев…».
Эти новые для нас детали позволяют нам строить сцены дорог Франции с той лишь поправкой, оговоркой, что лучшая песня Пьера не нуждается в пропаганде – её уже знают! Она уже опережала своего пропагандиста.
А вот ещё одна версия, сообщенная мне в письме из Парижа от врача советского полпредства во Франции А. Н. Рубакина. Он собрал эти сведения в музее Сен-Дени и в семье двоюродной внучки Пьера Дегейтера Люсьены:
«Пьер Дегейтер родился в городе Тенте. Он закончил профессиональную школу в своём родном городе Лилле и нередко получал премии на конкурсе мастеров резчиков. Он показывал мне одну из этих премий. Это была почётная грамота. Очень гордясь своей профессией рабочего-специалиста, как это часто бывает во Франции среди почётных потомственных пролетариев, Дегейтер был мало культурен, мало образован[54].
Была в нём целая сеть противоречий. С одной стороны, он был ярко революционен. С другой – революционен по инстинкту, а не очень сознателен. Он с юношества любил пение, сочинял песенки, сами их пел в дружеских собраниях, в рабочих клубах. Он выступал на разных празднествах, и не только рабочих.
Должен сказать, что целый ряд его песенок как среди сочинённых в молодости, так и позже и даже в старости, не имели никакого революционного характера. Вот подробный перечень его произведений, хранившихся ещё недавно в музее при коммунистическом муниципалитете Сен-Дени:
“Интернационал” – марш.
“Интернационал – в четыре руки.
“Инсургент” – марш-песня, на текст Потье.
“Песня коммунистов” – марш.
“Красная богородица” (?) – видимо, какая-то революционная аллегория.
“Детская келья” – песня для детей.
“Гимн прогрессу” – реалистический романс.
“Аэроплан” – вальс-песня.
“Германский спрут” – патриотическая песня.
“Безутешный” – мелодия».
О последней песенке скажу особо, потому что она находит место в нашем сюжете.
Когда Дегейтер обратился к адвокату Дюко де ла Ай с просьбой принять на себя защиту его попранных интересов, Дюко, видимо, крупный буржуазный адвокат, не знал, с кем он имеет дело. Поэтому он предложил Дегейтеру здесь же, у него в кабинете, показать свои композиторские способности.
Для этой цели Дюко набросал текст песенки под названием “Безутешный” на маленьком листке из делового адвокатского блокнота. На листке сохранилось только начало куплета:
Я совсем одинок. Я шёл, безутешный, по улице. Шёл, думая об ушедшей любви. Она ушла сегодня, не сказав ни единого слова…Ясно, что адвокат думал о своей возлюбленной, может быть, глядел на её портрет, стоявший перед ним на столе.
Тут же сохранился и нотный манускрипт, написанный уже рукою самого Дегейтера.
Дальше идёт произведение под названием “Роза в цвету” мелодия для девочек.
Затем встречается ещё одно переложение “Интернационала”, очень ценное для нас, если бы нам удалось его найти. Это переложение для фанфар!
Был ещё романс под названием “Царица цветов’. Кроме того, я видел ссылки ещё на две его песенки, достаточно аполитичные, хотя и явно написанные рукою рабочего. Это карнавальная полька “Да здравствует бал!” и весенняя песня “Возвращение ласточки”. Здесь говорится о том, как рабочих, сидевших весь день в своих тёмных подвалах-мастерских, порадовала первая песня вестницы весны – ласточки.
Все эти произведения напечатаны. Зарегистрированы в управлении по охране авторских прав. Напечатаны на отдельных листках с пометкой “для пианино” или без него. Без пианино листок стоил 1 франк 25 сантимов, с пианино – 2 франка 25 сантимов».
Рубакин в своём письме мне отмечал, что Дегейтер был слишком революционен для того, чтобы стать певцом-профессионалом. К тому же у него не было достаточных сценических данных.
Интересно, что Рубакин познакомился с Дегейтером как врач с пациентом (он осматривал его перед поездкой Пьера в СССР), разговор у них был долгий и доверительный.
Дегейтер был в исключительной степени жизнерадостным, полным жизни человеком французского толка. Даже тогда, когда ему было за 80 лет, он как-то особенно чувствовал полноту жизни. В нём была типичная привязанность к ней. Он по-французски был глубоко привязан к своей родине и даже больше того, к своему месту жительства. Всю свою жизнь прожил он во Франции и никогда не мыслил жить без Франции[55]. Этим объясняется его возвращение из Советского Союза.
Когда я его видел, он был ещё очень крепким стариком, только глуховатым. Жизнь его была очень тяжела. В начале войны ему пришлось бежать из Лилля во время нашествия немцев. Скитаясь, он не имел работы. Одно время жил продажей газет на улицах. Ел не каждый день, но всегда посещал рабочие собрания.
Был он музыкально одарён. Это фигура типичного французского народного певца. Был он благожелателен к людям как человек, много работавший и много страдавший. Был он также благожелателен к другим странам. Но не представлял себе жизни вне Франции.
Доктор Рубакин размышляет о «Марсельезе» и об «Интернационале»:
«Несмотря на огромное историческое значение "Интернационала”, музыку его по подъёму и революционности нельзя сравнить с “Марсельезой”. “Марсельеза” – это песня борьбы, вся проникнутая напором, действием, и самое её музыкальное построение в одной гамме является наиболее простым и наиболее совершенным выражением огромного внутреннего подъёма.
И это понятно – “Марсельеза” создавалась в эпоху огромного размаха, встряхнувшего мир в XVIII веке. Это она отражала гигантскую борьбу, вела в бой.
“Интернационал” же был создан в эпоху наибольшей общественной и политической реакции 80-х годов. В ту эпоху борьба была ещё очень слаба. Деятельность всех революционных организаций замыкалась в сравнительно узком кругу.
В “Интернационале”, как и в “Марсельезе”, очень сильно влияние французской народной музыки. В СССР “Интернационал” поют горазд о медленнее.
До революции в России пели “Марсельезу”. Я помню, как меня после русской манеры петь её слишком медленно, слишком широко поразила французская манера. Во Франции “Марсельеза”, когда её поют, как-то взмывает галопом кверху. Она гораздо стремительнее, более боевая.
Это зависит от различия во французском темпераменте, гораздо более живом и подвижном, чем русский темперамент.
Сам Дегейтер был мало образован в музыкальном отношении, но свои мотивы и своё вдохновение он черпал во французской народной мелодике, в песнях рабочей среды, в которой он жил.
Ничего серьёзного о Дегейтере в ту пору написано не было. Таким образом, моя задача узнать всю правду о Дегейтере пока ещё не решена.
В архивах Сен-Дени, пригорода Парижа, где жил Дегейтер и продолжает жить его двоюродная внучка Люсьена, хранятся кое-какие документы, но архив находится в ведении мэра Дорио, недавно исключенного из Компарии Франции, что очень осложнило поиски».
У Люсьены Рубакин увидел подлинник моего письма, написанного ей в ноябре 1933 года, через год после смерти Пьера. Ответа не последовало. А что же представляет из себя Люсьена?
В 1934 году ей было 19 лет. Она работала портнихой в крупной фирме в Париже. Кроме того, получала небольшой доход от продажи песен деда, граммофонных пластинок с «Интернационалом». Это всё вместе приносило ей примерно около 1 500 франков в год.
Первый муж её матери, отец Люсьены, погиб во время Первой мировой войны. Теперешний муж её матери – безработный, как и большинство рабочих Сен-Дени, самого крупного предместья Парижа.
У Люсьены хранились мебель и статуэтки из дерева, сделанные Дегейтером, а также его автопортрет. Оказывается, Дегейтер неплохо рисовал и любил иллюстрировать свои нотные рукописи.
Кроме того, есть его портрет, сделанный русским художником Александровичем. Портрет несхожий. Есть и фотографии.
С 1901 года Дегейтер жил в Сен-Дени и был членом Французской социалистической партии. Официально в компартии он сперва не состоял, хотя и был близок к ней.
Важно подчеркнуть, что после случая о присвоении авторства «Интернационала» Пьер стал каждую свою песенку регистрировать в обществе композиторов, чтобы охранять свои авторские права.
В 1929 году купил для себя и для своей жены места и склепы на кладбище в Сен-Дени в вечно пользование, заплатив за это 5 000 франков. В его бумагах доктор Рубакин нашёл расписку от муниципалитета и от управления кладбищами в получении этой суммы. У французов подлинный культ мёртвых. И каждый француз при жизни мечтает о куске земли и домике, которые он купит на старости лет, и о почётном и по возможности престижном месте на кладбище.
У Дегейтера на всю жизнь сохранилась инстинктивная классовая ненависть к буржуазии. Особенно она обострилась в последние годы в Сен-Дени под влиянием окружающих товарищей – рабочих.
Какие же документы Дегейтера сохранились?
Выписки из метрических книг, из актов о переходе Дегейтеров из бельгийского подданства во французское гражданство, песенные тексты, судебные акты по делу об авторстве «Интернационала», материалы печати, относящиеся к пребыванию в СССР и к похоронам Пьера Дегейтера.
Последняя песня певца была посвящена СССР. Слова принадлежат самому Дегейтеру. Есть данные о том, что несколько строк написала Люсьена.
Республика поэтов молодая, ты революцией освободила труд, и на Земле от края и до края все нации тебя за это чтут. Привет, Москва, славнейшая столица, из всех, что мир когда-либо знавал, где пролетарии с врагом готовы биться под мощный гимн «Интернационал»…И ещё несколько чёрточек, характеризующих старика Дегейтера. Он производил впечатление очень ласкового, внимательного человека. Обращался к собеседнику с очень доброй улыбкой. Было такое ощущение, что он постоянно прислушивался ко всем звукам жизни. Казалось, что и людей он брал на слух, и как, может быть, в музыке, в мелодии различал всякую фальшь, так и фальшь в человеке вызывала в нём болезненную гримасу. Может быть, это происходило потому, что жил он на окраине Лилля, поближе к полям, к звукам природы.
В перерыв меня товарищи спрашивали о внешности Пьера Дегейтера. Он был невысоким, суховатым, мускулистым. Чувствовалось, что это человек физического труда с тонкими пальцами, и эти пальцы знают тонкую работу, музыкальные инструменты и перо. У него был высокий лоб, умные глаза и рот, скрытый настоящими солидными французскими усами.
Пользуясь случаем, представляю вам внешне и других действующих лиц будущего фильма.
КАССОРЭ. Почему-то все мои авторские симпатии на его стороне! Он даже представляется мне более ярким в своей борьбе, более активным человеком, выступающим не только с песенным оружием, как Пьер, но и имея на вооружении другие средства. Именно он противостоит более всего социалисту-предателю Делори и фабриканту Де ла Мотту.
Но к Пьеру он относится идеально! Он преклоняется перед его музыкальной одарённостью, становится его верным другом, оруженосцем, его главным соратником. Кассорэ сам любил петь, он всё время насвистывает, напевает. Он очень добр, но очень вспыльчив, своей горячностью порою губит дело. Прямой, открытый и ясный человек. Из таких людей, как он, рождался цвет Французской коммунистической партии.
ГЕКЬЕР. Это человек Делори. Профсоюзный вождь бюрократического толка. Круглые оловянные глаза. В разговоре встречаются нарочито неправильные слова, присказки, повторяемые кстати и некстати. Нос изогнутый, но не нос орла, а нос попугая. Его мировоззрение составлялось из случайно обронённых при нём господами фраз. Вероятно, он во всём копировал Делори.
ДЕЛОРИ. Много говорит о культуре и культурности. Аккуратен, щеголеват, брезглив. Любит вспоминать, что вышел из крестьянского рода, сам всего достиг, всех в роду превзошёл. В жизни идёт, не разбирая средств, берёт всё, что может пригодиться.
Когда я писал оперное либретто, то хотел вывести на сцену дочь фабриканта Де ла Мотта Марианну. Он решается отдать свою дочь замуж за рабочего вожака. Мать Марианны негодует. Такие случаи покупки рабочих вождей были в порядке вещей. Родственные узы превращались в новые гордиевы узлы.
Как же выглядит Делори? Одет в чёрный сюртук, с прямой короткой трубкой в зубах, тщательно выбритый, нарочито суховатый, под англичанина, подтянутый, скупой в жестах, не улыбающийся, с монотонным голосом, небрежно-вежливый.
Он не улыбается ещё и потому, что пара зубов у него сильно выдается вперёд. Рост высокий, взгляд настороженный, беспокойный, у него опускающиеся плечи, как у растратчика, боящегосяразоблачения.
ДЕ ЛА МОТТ. Это крупный и ловкий делец. Он в центре многих предприятий, шахт и доков. Он бесстрашный капиталист. Да, бесстрашный! Были и такие, и именно такие и стали столпами буржуазного общества. Он не чужд новых веяний. Надо пускать к столу недавнего рабочего Делори – значит, надо. Его идея фикс – поглощение всех мелких предприятий! Он – воплощение монополистического капитализма.
… Как жаль, что наше время подходит к концу. Поверьте мне – я не успел поведать вам даже одной десятой того, что считаю минимумом! Меня утешает то, что в процессе съемок, отрабатывая эпизод за эпизодом, мы сможем, правда, куда в меньшем составе, вернуться к некоторым темам и по возможности углубить изложение.
Во всяком случае (я гляжу на часы) оставшиеся несколько минут я просто обязан посвятить фильму о предшественнице «Интернационала» «Марсельезе». К величайшему сожалению, достойного поэтического перевода «Марсельезы» мне обнаружить не удалось[56]. Поэтому давайте сделаем так: я достану подстрочник этого стихотворного текста, и мы вернёмся к этому разговору в процессе съёмок.
Как я уже говорил, «Марсельеза» – предшественница нашего «Интернационала», а фильм – режиссера Жана Ренуара, сына выдающегося французского живописца Огюста Ренуара. Фильм «Марсельеза», созданный в 1938 году, всего лишь два года назад, – в какой-то мере предшественник нашего фильма «Певец из Лилля».
Удивительно история создания этой киноленты. Средства для постановки дал своеобразный заём. Среди самых широких масс были распространены миллионы билетов НА БУДУЩИЙ ФИЛЬМ. Облигация и была билетом для входа в кинотеатры. Небывалая ситуация в истории киноискусства![57]
Вторая особенность уже не финансово-организационная, а политико-идеологическая. Рождение фильма благословил и поддержал Народный фронт Франции. Вождь французских коммунистов Морис Торез говорил в ту пору: «Мы не позволим фашизму узурпировать ни знамя Великой революции, ни “Марсельезу” – гимн солдат Конвента!»
Автор строф-куплетов «Марсельезы» Руже де Лилль, молодой офицер, музыкант-любитель. Предвижу ваши вопросы и отвечаю на них заранее: совпадение фамилии автора «Марсельезы», то есть рождённой в городе Марсель, Лилль, с городом, где родился «Интернационал» абсолютно случайно.
«Марсельзезу» принесли в Париж солдатские массы. А вот это явление исключительное! Не гастроли, не печатный станок, а народные лавины сыграли решающую роль в том, что эта песня стала гимном борьбы. Другое дело, что впоследствии она стала государственным гимном буржуазной Франции. Мне рассказывал наш писатель-маринист Леонид Соболев, что он был свидетелем странных сцен в столице России. Прибыла французская правительственная делегация, и самодержавной России пришлось принимать её на высшем дипломатическом уровне. Даже Николай II вставал, когда раздавались первые звуки гимна страны-союзницы. Но на окраинах дело обстояло уже не так: если «Марсельезу» пели приехавшие французы, полиция благосклонно их выслушивала, но когда этот антимонархический по сути своей гимн подхватывали явно русские поющие, набрасывались на них с руганью, криком и нагайками. Так, в частности, было на Выборгской, рабочей, стороне. Ещё один парадокс истории! А второй в том, что Руже де Лилль в итоге изменил своей песне[58].
«Марсельеза» победно звучала в дни штурма королевского дворца Тюильри и зловещей тюрьмы Бастилии весной 1792 года. «Интернационал» взвился, как знамя, в преддверьи столетия Великой французской революции.
В основе фильма Ренуара – история первого исполнения «Марсельезы» автором песни, Руже де Лиллем, в марсельском клубе «Друзья конституции» летом 1792 года. Ренуар избирает себе трех героев, героев-добровольцев, которые идут в Париж. Шагают они по дорогам Франции с победной песнью, зажигающей сердца. Приходят в столицу 10 августа, когда национальные гвардейцы завоёвывают дворцы, низвергают монархию.
Мы, зрители, видим героизм народных масс, борьбу Робеспьера против Бриссо и жирондистов, измену и предательство Людовика XVI и Марии Антуанетты. Королевская семья и её клика готовили вторжение во Францию прусских и австрийских войск и банд эмигрантов-аристократов.
Я думаю, что для нас, ленинградцев, наследников красного Питера, ясен такой исторический аналог: царское и временное правительство не остановились бы перед сдачей российской столицы кайзеровской Германии!
Фильм Ренуара завершается славной победой республиканской армии над полчищами герцога Брауншвейгского и Коблеца при французской деревне Вальми. Француские республиканцы блестяще провели артиллерийскую дуэль. Напомню вам, что именно о битве при Вальми, свидетелем которой ему довелось стать, великий Гёте произнес пророческие слова: «Сегодня на этом месте начинается новая эпоха всемирной истории».
Песня, как лейтмотив фильма, помогала движению сюжета, действительно участвуя в свержении абсолютной монархии.
Фильм достойный, чисто французский по духу и сути. Ни о каком подражательстве у нас не может быть и речи! У нас русский фильм о французской песне, которая стала гимном всего освободительного движения во всемирном масштабе и государственным гимном Советского Союза. Явление в истории музыки небывалое. Аналогов нет.
На период более четверти века следы «Марсельезы» как бы теряются. Она воскресает в июльскую революцию 1830 года. И вновь звучит в полную силу в феврале 1848 года. Это год рождения Пьера Дегейтера!
Оживая в дни революционных сражений и замирая во тьме политической реакции, «Марсельеза» вновь становится песенным знаменем восстания в сентябре 1870 года и призывно звучит на баррикадах Коммуны ранней весной 1871 года. Её запевает вождь, солдат и поэт Коммуны Эжен Потье и слышит Пьер Дегейтер. А вскоре наступит и его время. Он подарит человечеству песню, которую ныне знают на всех пяти континентах Земного Шара.
Август-сентябрь 1940 года
Н. А. Сотников. Певец из Лилля. Полемические диалоги в двух частях о Франции для России в шестнадцати сценах
Герои и персонажи заявляют о себе и представляют себя зрителям по ходу спектакля.
Действие происходит в городе Лилле на севере Франции и в Мытищах под Москвой в 1871–1888 годы и соответственно в 1928 году.
Роль Пьера Дегейтера должны играть два артиста, но при обязательном внешнем сходстве. Здесь обширное поле деятельности для гримёров. Один из них, от лица которого ведётся рассказ, именуется в пьесе ДЕГЕЙТЕРОМ. Другой, молодой, участвующих в давних событиях, именуется ПЬЕРОМ.
«Абсолютная монархия была свергнута песней».
Николя Себастьен Рок Шамфор
«Потье – Ювенал предместий».
Анри Рошфор
Спешите к беднякам, о песни!
Спешите к беднякам!
Эжен Потье
И голова его полна одним и тем же.
Это – песни!
Эжен Потье
Слышь, Николя́!
Хоть их взяла,
Коммуна неубита!
Эжен Потье
Ремёсел на свете большое число,
но лучше всех прочих моё ремесло!
Пьер Дегейтер
«Не пройдёт много времени, когда нам станет тесно в этом прекрасном блестящем зале… Я думаю, скоро мы почувствуем, что под этим огромным куполом уже не умещаются великие звуки “Интернационала”».
С. М. Киров на I съезде Совета Союзов СССР со сцены Большого театра
Восстанье начинается с певца, который запевает о восстаньи!
Евгений Евтушенко. (Из песни к спектаклю Театра драмы имени А.С. Пушкина «Тиль Уленшпигель»)
Часть первая
Сцена первая
Гремит медь оркестра, играющего марш. Через весь театральный зал под шквал аплодисментов проходят Пьер ДЕГЕЙТЕР и председатель завкома ДАНИЛИН, поднимаются по лесенке на сцену. ДАНИЛИН помогает преодолеть это препятствие ДЕГЕЙТЕРУ, которому уже 80 лет.
ДАНИЛИН. Пожалуйте сюда, товарищ Пьер. Располагайтесь вот в этом кресле. (Показывает рукой на кресло вблизи левой кулисы, затем спохватывается, приоткрывает занавес и приглашает переводчика, повторяя ему первые слова, обращенные к почётному гостю. В дальнейшем переводчик будет постоянно стоять вполоборота у кресла Дегейтера: ведь без него общение станет невозможным).
Дорогой товарищ Дегейтер! Завком, коммунистическая ячейка и заводской клуб имени Карла Маркса нашего вагоностроительного завода в Мытищах приветствуют вас как первого пролетарского композитора, автора великого гимна «Интернационал», который так много говорит сердцу каждого рабочего человека. С «Интернационалом» на устах мы боролись за первое свободное государство в мире. На нашем музыкальном празднике в вашу честь мы выражаем вам свою глубокую пролетарскую признательность. (Бурные продолжительные аплодисменты).
ДЕГЕЙТЕР (обращаясь к переводчику, произносит ответное слово). Я счастлив, что написанная мною музыка стала государственным и партийным гимном в СССР. Россия, бывшая всего лишь десять лет назад синонимом рабства, превратилась в страну, на которую обращены взоры трудящихся всего мира. Я верю, что революционная Россия явится прелюдией к тому великому перевороту, в результате которого красное солнце революции воссияет надо всей вселенной. Ваша революция принесёт подлинный мир, основа которого заложена народами Советского Союза. Да здравствует интернационал рабочих!
ДАНИЛИН (после бурных продолжительных аплодисментов). Под звуки вашего гимна, уважаемый товарищ Дегейтер, русский пролетариат одержал победу над капитализмом. Ваш гимн вдохновляет нас в минуты побед и поражений, призывает к бою. Много ещё препятствий и боёв ожидают нас на этом пути, но пролетариат победит! В этом его историческая судьба.
Мы хотим попросить вас, товарищ Дегейтер, рассказать о себе. Нам всем очень интересно будет узнать про вашу жизнь, творчество, про создание вашей главной песни – «Интернационала»[59].
Постепенно в театральном зале гаснет свет. Данилин опускается в зрительный зал и садится в первом ряду. Переводчик и Дегейтер остаются одни на сцене. Луч света освещает рассказчика.
ДЕГЕЙТЕР. Когда-то, в дни моей молодости, мои друзья собирались по вечерам в кафе «Либерте», у нас на улице Делавиньетт в городе Лилле, что на севере Франции, и распевали бесхитростные куплеты…
Идёт занавес. На сцене все участники спектакля – хористы в рабочих блузах, с красными бантами. Они поют раннюю шансон Дегейтера.
ХОР.
Прощай, зима, морозы, вьюги и мрачных туч седая бахрома. Вернулась ласточка к нам с юга. Прощай, зима! Прощай зима…Дирижирует молодой ПЬЕР.
ХОР продолжает:
Ты снова, ласточка, морозы прогнала крылышком своим… И вновь цветут жасмин и розы, и смех звенит по мастерским…В луче старый ДЕГЕЙТЕР, продолжающий рассказ.
ДЕГЕЙТЕР (с горечью). «Розы… Смех?» Я мечтал о вечной весне на земле и сочинил эту шансон «Возвращение ласточки». В ту пору, с которой я начал свой рассказ, Лилль был городом самых бедных бедняков! У нас на площади стояла статуя «Лилль босоногий», герб нашего города, символ нашей нищеты и бесправия. У нас ничего не было, кроме надежд на лучшее будущее и наших песен…
ХОР.
С весной и с ласточкиным пеньем как будто жизнь не так сера. В душе страданья затихают, и вновь надежды оживают, что лучших дней придёт пора!ДЕГЕЙТЕР. Как-то в июне 1888 года, когда уже стало совсем невмоготу, наш хор впервые запел «Интернационал»…
ХОР.
Бой с врагом на исходе…Из глубины сцены внезапно вышел ЖАНДАРМ.
ОФИЦЕР. Эй, вы, босоногие! Вы что, разве не знаете, что эта песня запрещена?!
ПЬЕР. Простите, господин жандарм, но вы ворвались в спектакль раньше времени…
ОФИЦЕР. Перестань болтать лишнее, парень! Придержи язык за зубами. Где надо, мы, жандармы, всегда бываем вовремя. Разойдись!
ПЬЕР. Конечно, вы можете прийти, когда вам заблагорассудится. Но в данном случае вы опередили события. Ваша роль, господин жандарм, ещё впереди. Вы успеете отличиться.
ОФИЦЕР. Ах, вот как? Хорошо. Мы уйдём. Но и вы – давайте побыстрее пошевеливайтесь. А то и так уже намозолили глаза. Нам некогда! Кончать с вами приказано быстрее. Учтите! (Погрозив Пьеру пальцем, уходим).
ДЕГЕЙТЕР. Хор у нас был, можно сказать, семейный…
ЭДМОНД. Я Дегейтер Эдмонд, старший в семье. Безработный.
ПЬЕР. Дегейтер Пьер, средний брат. Резчик по чёрному и красному дереву.
АДОЛЬФ. Дегейтер Адольф, младший в семье. Служащий в мэрии города Лилля.
ВИРГИНИЯ. Дегейтер-Кассорэ Виргиния, сестра Эдмонда, Пьера и Адольфа. Моя профессия – кружевница. Специальность редкая – гипюр, чёрный валансьён. Жду заказчиц.
АНРИ. Анри Кассорэ, муж Виргинии. Бархатных дел мастер. Я первый, кто спел на улице «Интернационал» и был за это убит…
ЛУИЗА. Луиза Дюбар. Была ткачихой. Теперь тоже безработная. Пьер считает меня своей невестой, но я ему своё согласие ещё не дала. Хоть в этом у меня есть право голоса!
РОБЕР. Робер…
АЛЬБЕР. Альбер. Друзья Дегейтеров и песен. Столяры…
ДЕЛОРИ (он в сюртуке и с цилиндром). Густав-Этьен Делори. Секретарь синдиката столяров и резчиков. Это я создавал хор «Аира рабочих». Сам я не пою.
МАРТЕН. Никола Мартен. Бывший каменотёс. Коммунар.
МОНТЕГЮ С. Гастон Монтегюс. Меня называли лучшим рабочим шансонье Парижа. Я сын и внук коммунаров Брунсвиков. Мои шансон любил слушать Владимир Ленин. Встретимся в финале.
ПОТЬЕ. Эжен Потье. Поэт и солдат Коммуны. Всего полгода я не дожил до того дня, когда стихи Потье стали песней Дегейтера.
ЖАНЕТТА. Жаннетта, служанка кабатчика Бондена.
ПЬЕР. Что мы споём под занавес Виргиния?
ВИРГИНИЯ. «Интернационал». Музыка Пьера Дегейтера на стихи Эжена Потье…
ДЕГЕЙТЕР. Нет, нет, «Интернационал» ещё не был написан тогда. Его строфы только зарождались. Слагались они в дни «Кровавой недели», в пороховом дыму, в отсветах пожарищ, на баррикадах Коммуны…
ХОР.
Ты слышишь ли, их пушки бьют? Они идут, они всё ближе. Вот их колонны подойдут к заставам и холмам Парижа. Привёл империю разгром в тупик, к разбитому корыту. Вставай! Встречай врага ядром! Париж, создай себе защиту…Сцена, словно в Париже, в дни баррикадных боёв, постепенно охватывается всё разрастающимся пламенем бушующего пожара.
Хор продолжает:
Хлестни крапивой Вавилон, гони со всей французской страстью мерзавца, севшего на трон, и прихлебателей династий! Будь, Франция, французской! Стой, поправ и деспота, и свиту, как в девяносто третьем, в бой! Париж, создай себе защиту!..ДЕГЕЙТЕР. В те дни, когда вместе с последними баррикадами Парижа рушились и последние надежды коммунаров выстоять в смертельной схватке с версальцами, я был призван в армию Второй империи, затеявшей безумную войну с Пруссией… (Затемнение).
Сцена вторая
За колючей проволокой на земле сидят и лежат солдаты армии Наполеона III. На страже прусский солдат в каске и со штыком наперевес. На переднем плане ПЬЕР и АНРИ. Они в военной форме. ПЬЕР схватился за голову, упал лицом в траву.
ПЬЕР. Позор! Позор! Вся армия, вся Франция в плену у немцев!
АНРИ. И даже – сам император! Бросил нас под Седаном и ускакал в Германию – вымаливать милостыню у Бисмарка.
ПЬЕР. Наполеон?!
АНРИ. «Наполеон»? Третий! Малый!.. Туда ему и дорога, авантюристу. Что ему Франция? Что он – Франции?! Сын голландского короля, эмигрант, бродяга. Одно слово «Баденге»!
ПЬЕР. Кто это – Баденге?
АНРИ. Какой-то проходимец. В его одежде Бонапарт плюгавый бежал когда-то из тюрьмы.
ПЬЕР. Откуда ты узнал, Анри?
АНРИ (вполголоса). Тут бродит подмастерье, седанский житель, и вот… (Достаёт газету).
ПЬЕР (схватил). Газета? Парижская?!
АНРИ. Парижская.
ПЬЕР (читает). «Небывалое поражение Франции. Сдались в плен 139 генералов и маршалов, 2830 офицеров, 83 тысячи солдат…».
АНРИ. Почти все двести тысяч!
ПЬЕР. «Наши генералы все поражения называли победами… Нет ни сахара, ни соли, сухари на исходе. И у кавалерии от лошадей остались одни лишь тени…». Это мы, драгуны, знаем хорошо: не смогли удрать! (Читает). «Маршал Аебеф соврал, как сивый мерин: “У армии нет недостатка ни в чём, даже ни в одной пуговице на солдатских гетрах… ”».
АНРИ (поднял ногу). Действительно, ни одной пуговицы.
ПЬЕР (продолжает). «Империя погибла, погребена глубоко и безвозвратно…». Что же у нас есть, Анри?
АНРИ. Ни-че-го!
ПЬЕР (вскочил). Эх, надавать бы оплеух этому горе-императору! (Прочёл). Ага, слушай: «Мы громко заявляем о своей ненависти к империи и о своей любви к республике!» (Кричит). Ура! У нас есть республика… (К пленным). У нас есть республика… Да здравствует республика!
АНРИ (зажимает ему рот). Умолкни, Пьер! Ты с ума сошёл? Захотел к стенке?! Версальская республика не стоит того, чтобы плюнуть в её сторону, а не то, чтобы кричать ей «ура»!
ПЬЕР (озадачен). Версальская?
АНРИ. Да, со злобным карликом Тьером во главе.
ПЬЕР. Дожили… Что же будет?
АНРИ. Коммуна! (Протягиваетлистовку). Читай!
ПЬЕР.
Народ, ты предан, это ясно! Довольно попусту орать! Мы объявляем громогласно — Коммуну! Ратушу забрать! Долой диктаторов бессильных! Из богадельни взяли их. От слов плаксивых, слов умильных энтузиазм бойцов утих. Когда стране грозят удары, они хотят (как нам стерпеть!) империи намордник старый на революцию надеть!Здо́рово! Кто написал? (Читает). «Эжен Потье». Молодец Потье!.. (Побежал). Немедленно – в Париж! Мы умеем держать оружие…
АНРИ. Париж окружили пруссаки. Да и как туда добираться? И – в чём? В мундире драгуна? Версальцы схватят нас и повесят как дезертиров…
ПЬЕР (вырываясь). Пусти! В Париж! К коммунарам! К Потье!
АНРИ. Погоди. У солдат, переходящих на сторону народа, перед казнью срывают галуны.
ПЬЕР. У меня не будет галунов! Я сам сорву их и надену блузу подмастерья… Идём, Анри! Идём в Париж, брошенный на ножи!
Бежит в глубину сцены. Часовой стреляет вдогонку. Крики «Хальт!» Аай собак, топот кованных солдатских сапог… Узкий лун света выхватывает из темноты старого ДЕГЕЙТЕРА.
ДЕГЕЙТЕР. Так я бежал из лагеря под Седаном. Мне это удалось. Долгие дни и ночи скитался я по дорогам Франции, пробираясь к Парижу.
Сцена третья
Пьер идёт по дороге. Он тяжело дышит. Устал. Оборван. Упал на обочине, передохнул, дотянулся до ручья, обмыл лицо. Пробует голос. На сцену выходят ЖАНДАРМЫ.
ОФИЦЕР. Эй, ты, блузник! Чего орёшь?
ПЬЕР. С вашего разрешения, мсье жандарм, я не ору, я пою. (Поёт).
Из дерева вырезать пышный цветок, гирлянду, фигурку, изгиб, завиток…ОФИЦЕР. Один чёрт! Всё равно дерёшь глотку.
ПЬЕР. Подбадриваю себя песней в дороге. Разве нельзя?
ОФИЦЕР. Откуда идёшь? Из-под Седана? Дезертир?!
ПЬЕР. Как можно?.. Я патриот, с вашего разрешения. Иду из Лилля, с севера. Безработный столяр. Подрабатываю, где придётся.
ОФИЦЕР. Документы!
ПЬЕР (раскрывает котомку). Пожалуйста, вот мои документы. (/Достаётрезец, молоток, стамеску). Паспорт… Свидетельство о рождении, чековая книжка.
ОФИЦЕР. Молчать! Показывай руки. Чего скалишь зубы?
ПЬЕР. Я стесняюсь, мсье. У меня грязные ногти.
ОФИЦЕР. Руки вверх!
ПЬЕР. Пожалуйста. Но заранее могу сказать – у меня дырявые карманы.
ОФИЦЕР (схватил руку Пьера). Интересно, в скольких водах ты отмывал с неё порох, негодяй!
ПЬЕР. Какой порох? Я резчик по дереву Пьер Дегейтер из Лилля, департамент Норд. Я чиню двери, окна, мебель. Могу вырезать любой узор, если попадётся хорошая доска. Пою песенки, когда нет работы… и есть нечего. (Запел).
Из дерева вырезать пышный цветок, гирлянду, фигурку, изгиб, завиток, крестьянку с серпом, живописца с палитрой, прохожего с рожей весёлой и хитрой, и двух прихожан за бутылкой пивца, и с брюхом огромным святого отца, и льва, что свирепо рычит из-за кости, что острые зубы оскалил от злости… Ремёсел на свете большое число, но лучше всех прочих – моё ремесло!ОФИЦЕР (пританцовывая). Ладно. Ну тебя к чёрту! Можешь идти. Но только – на север. Понял?.. К Парижу – ни шагу!
ЖАНДАРМЫ уходят. ПЬЕР смотрит им вслед. Двинулся в путь и вскоре остановился у ограды фермы.
Эй, тут есть кто-нибудь живой?
ФЕРМЕР (из-за калитки). Чего тебе, бродяга? Нищим не подаю.
ПЬЕР. Да вы не бойтесь, выйдите. Я не попрошайка, не жандарм и не шпион. Нет ли у вас работы подённой?
ФЕРМЕР (подошёл, прихрамывая). Какая уж тут работа? Ты что – не видишь? Все поля вытоптаны.
ПЬЕР. Да нет, я столярной работы ищу. Могу починить сундук, сделать поставец, исправить ворота.
ФЕРМЕР. Ну, если так, то исправь. (Открыл калитку). За харчи, конечно. Денег – ни сантима! И не проси.
ПЬЕР (доставая инструменты). Хозяин, а хотите я украшу вашу калитку отличной резьбой? У меня и узор есть подходящий «Лев и нимфа». Идёт?
ФЕРМЕР. Чепуха! Я не пускаю деньги на ветер, на пустые затеи. Проваливай!
ПЬЕР. Я сделаю резьбу без денег. Хотите?
ФЕРМЕР. Без денег? Не хитри, парень. Какой чудак станет работать даром? Эдак выклянчишь не один франк. Ступай! (Уходит).
ПЬЕР. Погодите. Я скажу правду. Понимаете, я артист, мастер этого дела. Истосковался в армии без любимого ремесла. Уж больно хороша доска! (Погладил дерево). Я вырежу на ней сказку, и вы снова будете улыбаться… Можно? За один харч. Так есть хочется! Ну!
ФЕРМЕР. Вот что, парень. Проваливай отсюда, сказаля! (Уходит, опираясь на палку). Проваливай!
ПЬЕР (стучит). За один харч! За один харч… (Уныло побрёл дальше).
У дороги показался МАРТЕН.
Послушай, приятель…
МАРТЕН. Что тебе надо? Уходит отсюда!
ПЬЕР. Что вы – сговорились все? «Уходи, уходи…». Почему, чёрт возьми? Что тут – клад какой?
МАРТЕН. Сказано – проваливай!
ПЬЕР. Послушай, друг…
МАРТЕН. Какой я тебе друг?
ПЬЕР. Врага узнают по обмундировке, а друга – по спецовке. Хочу поприветствовать тебя песенкой: «Добрый человек, добрый человек, точи как следует свою косу…».
МАРТЕН. Ты что – ошалел?
ПЬЕР. Мне надо узнать, какие песенки тебе больше нравятся. К примеру, вот такая:
Хотите поднесу — всего лишь за два су весь пакет: папашу, мамашу и малютку Бадингет?..МАРТЕН (приблизился). И что же дальше?
ПЬЕР. Не всё ещё сложилось в голове, но смысл такой: «Друзья, желаете ль узнать, как по мановению палочки волшебной обыкновенная испанка по имени Евгения стала женой Цезаря?»
МАРТЕН. Да ты, брат, замахнулся на самого императора!
ПЬЕР. А мне плевать на того, кто был императором, кто был шпионом в Англии, а затем – палачом во Франции. Теперь он поясничает в прихожей канцлера Бисмарка.
МАРТЕН (восторженно). Да ты всё знаешь, дружище!
ПЬЕР. Нет, не всё, товарищ. Кое в чём ещё надо разобраться. Скажи, друг, что это за местность?
МАРТЕН. Окрестности Арраса, столицы графства ДАртуа, родины великого Робеспьера.
ПЬЕР. Робеспьера? Значит, я иду правильно!
МАРТЕН. Вот в этих каменоломнях я вырубал из земли свой мёрзлый хлеб.
ПЬЕР. Мне бы сейчас – хоть немного и такой пищи.
МАРТЕН. Хорошо, пойдём со мной…
ПЬЕР и МАРТЕН уходят. Смена света.
ДЕГЕЙТЕР. В каменоломне мне было суждено встретиться с Эженом Потье. Судьба подарила мне этот счастливый случай. Вы уже поняли, что до того дня, как я увидел в лицо поэта Коммуны, я много слышал о нём, читал его стихи. Потье был для меня Человеком с большой буквы, моим героем…
Сцена четвёртая
Каменоломня. У затухающего костра полулежат двое путников: один постарше – в изодранном сюртуке и с забинтованной головой; другой – чернобородый блузник. Показался МАРТЕН.
ПОТЬЕ. Николя?.. Что там?
МАРТЕН. Надо уходить, Эжен. Кажется, жандармы напали на наш след.
ПОТЬЕ (у стены). Сейчас… (Показал на костёр). Нет ли там ещё одного остывшего уголька?
ЧЕРНОБОРОДЫЙ (подаёт). Это уже десятый. Вы исписали всю стену, Эжен.
МАРТЕН. По этим стихам жандармы сразу всё поймут! Я сотру!
ПОТЬЕ. Подожди. (Продолжает писать). «Война тиранам, мир народу…».
ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Вы всё ещё верите в нашу победу, учитель?
ПОТЬЕ. Да, верю!
ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Напрасно пролитая кровь.
ПОТЬЕ. Вот как! А что ты говорил в марте, когда мы свалили Вандомскую колонну[60], памятник тирании и безумству? «Со светлым праздником, Потье»! Не ты ли это говорил? (Пишет). «Довольно королям в угоду дурманить нас в чаду войны…».
ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Колонну версальцы поднимут, починят, и всё пойдёт по-старому.
ПОТЬЕ. Нет, по-старому не пойдёт! И ты это прекрасно знаешь. Кровь, пролитая на баррикадах, будет отомщена… в последнем решительном бою! Это самое страшное, когда человек теряет веру в своё дело! Когда он, струсив, готов предать идею…
ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Я не струсил. Я просто пытаюсь рассуждать логически. Я беру факты и делаю выводы… А вы, вы…
ПОТЬЕ. Что я?.. Ну, говори! Вас всех обуял животный страх! Теперь вы думаете только о том, как и под каким соусом вынырнуть живым из опасной истории, в которую вы неосторожно позволили себя вовлечь…
ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Вы не имеете права меня оскорблять, Потье!
ПОТЬЕ. Имею полное право больше не доверять вам, месье…
При вспышке костра у входа в пещеру показался ПЬЕР. ЧЕРНОБОРОДЫЙ бросился к нему.
ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Ты кто? Версальский соглядатай?
МАРТЕН. Этого парня привёля. (Пьеру). Проходи к костру, садись.
ПЬЕР. Спасибо. А я подумал – не попал ли к разбойникам?
ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Отвечай на мой вопрос – кто ты?
ПЬЕР. Артист, художник…
ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Без сказок!
ПЬЕР. Я говорю правду. У нас в роду Дегейтеров все резчики, все мастера своего дела. И братья, и отец, и дед, и прадед. Мы выходцы из Фландрии.
ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Бельгиец! Дворянин де Гейтер?
ПЬЕР. Родом мы из Гента. У нас приставка «де» дворянства не означает. «Дегейтер» пишется вместе. С восьми лет живу в Лилле. С малолетства стою у верстака и засыпаю на опилках. Со всей французской страстью украшаю жизнь! Разве простой столяр может вырезать Мадонну из красного дерева? Я художник.
ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Понятно. Значит, богов лепишь?
ПЬЕР. Вырезаю на продажу. А ещё я пою, даже пробую сочинять песни.
ЧЕРНОБОРОДЫЙ. Как же ты забрёл в эти края?
ПЬЕР. Иду в Париж… кружным путём. Всюду версальские заставы и прусские кордоны. Я думаю, Коммуне пригодились бы мои руки. Я хорошо стреляю, владею саблей.
ПОТЬЕ (после паузы). Ты опоздал, парень…
Звучит орган. Волнующая траурная музыка растёт и ширится. И когда аккорды достигают наибольшей силы, сцену начинает охватывать пламя. В его отсветах возникает стена коммунаров на кладбище Пер Лашез[61].
ПЬЕР (б отчаянии). Опоздал!.. Что же мне теперь делать?!
Стена Коммунаров и пламя исчезают. Реквием умолкает.
ПОТЬЕ. Всегда помнить о Коммуне.
ПЬЕР. Но что может сделать бродячий подмастерье и уличный певец!
МАРТЕН (слышит шум). Идите со мной, это жандармы…
ПОТЬЕ, МАРТЕН, ЧЕРНОБОРОДЫЙ направляются вглубь каменоломни. ПЬЕР идёт вслед за ними.
ПЬЕР. Я с вами!
ПОТЬЕ. Нет, иди в Лилль. Но всегда помни, что ты шёл в Париж сражаться за Коммуну. Помни об этом всегда и везде. (Скрываются).
ПЬЕР (остановил Мартена). Скажи, друг, кто это был?
МАРТЕН. Это был Эжен Потье… Уходи, парень. Прощай. (Уходит).
ПЬЕР (один). Потье… Это был сам Потье! Как же я не догадался!.. (Быстро гасит костёр и, положив котомку под голову, ложится на землю).
Вбегают ЖАНДАРМЫ. Увидели ПЬЕРА. Бросаются к нему.
ОФИЦЕР. Говори, куда они убежали?
ПЬЕР (словно не понял вопроса). Мы с вами уже виделись, господин офицер, но я вновь говорю вам – добрый день! Я рад, что вы заглянули ко мне в пещеру. Может же отдохнуть после долгого пути странствующий подмастерье…
ОФИЦЕР (пинает его). Что ты порешь, подонок? Оглох?.. Я тебя спрашиваю, куда убежали коммунары?
ПЬЕР (с той же наивностью). В прошлый раз, когда мы с вами встретились, я забыл показать вам вот это… (Достаёт из котомки вырезанную из дерева фигурку). Видите? Мадонна! Правда – недурная девочка?..
ОФИЦЕР. Понятно! Хочешь добиться своего?.. (Бьёт Пьера по лицу). Получай! (Пьер падает и снова поднимается). Получай!.. (Бьёт его снова). Топчите эту сволочь… (Пьер пытается вырваться из рук жандармов, бросается в сторону. Цепляясь за ступени прогнившей лестницы, поднимается. Выстрел. Пьер срывается и с высоты падает на камни). Готов! Собаке собачья смерть.
ЖАНДАРМЫ уходят. Высвечивается лицо старого ПЬЕРА.
ДЕГЕЙТЕР. Нет, эти последние слова жандарма ко мне не относились. Я остался жив…
ПЬЕР (поднимает голову, читает стихи Потье на стене). А вот это, несомненно, относится ко мне! (Поднимается и поёт экспромтом новую песню).
Орудья бьют… горит столица, и кровь… она везде видна. Да, человечеству напиться хватило б крови, как вина. Да, человечеству напиться хватило б крови, как вина.Сцена пятая
В музыке возникает лирическая тема. Старый Дегейтер выхвачен лучом света из темноты во время перемены декораций.
ДЕГЕЙТЕР. Что было дальше? Меня схватили версальцы и, приняв за беглеца Коммуны, хотели расстрелять, но я снова бежал и вскоре появился в Лилле. Первым делом отправился к девушке, которую давно любил и которую так же давно и безуспешно уговаривал выйти за меня замуж.
ПЬЕР спускается по лестнице в подвал, где живёт ЛУИЗА и её семья. Переступив порог подвала, видит девушку, стирающую в тазу бельё. Белье развешено и на верёвке, протянутой из угла в угол. ПЬЕР поёт.
Весна приходит, чаровница, неся любовь, как дивный дар! И с каждым днём в тенистой чаще звучит всё явственней и чаще влюблённый шёпот нежных пар…ЛУИЗА не откликается.
Луиза! Ты слышишь меня? Это я, твой Пьер. Хоть на минуту оставь же стирку!
ЛУИЗА (не поднимая головы, продолжает своё дело). На мальчишках всё горит, как в огне…
ПЬЕР. И это всё, что ты хотела мне сказать после стольких месяцев разлуки? (.Подходит кАуизе, обнимает её).
ЛУИЗА (отстраняясь). Оставь, Пьер…
ПЬЕР. Опять та же песня! Я чуть не умер от тоски по тебе, а ты…
ЛУИЗА. Я слышала, ты был в Париже?
ПЬЕР. Увы! Я не попал на баррикады Коммуны; мечтал об этом, спешил туда, но… Но зато я узнал слова Потье: «Солнце должно взойти, и оно взойдёт над миром!»
ЛУИЗА. Фантазёр…
ПЬЕР. Ты моя прелесть! Мне так хорошо, весело с тобой… (Хочет обнять).
ЛУИЗА. Пусти!
ПЬЕР. Нет, на этот раз я не отпущу тебя до тех пор, пока ты не согласишься выйти за меня замуж.
ЛУИЗА. Я тебе сказала раз и навсегда: я не буду твоей женой!
ПЬЕР. Смешно! Человеку скоро тридцать, а он всё в женихах ходит… Справим помолвку заодно с новосельем Эдмонда, Виргинии и Анри.
ЛУИЗА. На новоселье к друзьям я пойду, а помолвки не будет.
ПЬЕР. Проклятье! Но почему?!
ЛУИЗА. Я тебе уже давно сказала. Не могу же я повиснуть на шее у бедняка со всем своим выводком.
ПЬЕР. Подумаешь – мать и четверо пацанов, твоих братишек! Не беда! Прокормимся. Старший брат говорит про меня: «Пьер недурной столяр, хотя мог бы достигнуть большего, если бы не его песни». Решайся! Молю тебя, Луиза.
ЛУИЗА. Прости, не могу. Не хочу связывать тебе руки своим приданым. Я обещала матери поставить на ноги всех четверых.
ПЬЕР. Всё то же: хлеб, хлеб, хлеб… К чёрту! Ведь не всегда же так будет. (Прочёл). «Хлеба, как воздуха, вдоволь должно быть у всех на Земле!»
ЛУИЗА. Опять Потье?..
ПЬЕР. Да, Потье… Объясни толком, за чем дело стало?
ЛУИЗА. Разве ты не знаешь? На фабрику привезли новые английские станки. Скоро нас всех выгонят.
ПЬЕР. До тебя не дойдет! Кто же уволит такую ткачиху которая делает из льна драгоценности?
ЛУИЗА. С новой машиной справится и ребёнок.
ПЬЕР. Успокойся! Столяров-то не тронут.
ЛУИЗА. Все мы одному хозяину Де ла Моту служим.
ПЬЕР. К чёрту хозяина! Если компании «Фив-Лилль» не потребуется мой труд модельщика^ я от этого не стану хуже. Найду способ заработать нам на хлеб… Не упрямься. Слышишь? (Прижимает её к себе). Я люблю тебя…
ЛУИЗА (страдальчески). Разве я виновата?!
ПЬЕР. Давай спросим у солнца?
ЛУИЗА. Смешной ты… Солнце нам ничего не скажет.
ПЬЕР. Скажет! У волшебника Потье есть такие стихи:
Философ; я в раздумье тяжком; к ответу солнце привлеку. Его; как жёлтую ромашку я оборву по лепестку…ЛУИЗА (невольно улыбнулась). Любит – не любит? Разве Потье писал и о любви?
ПЬЕР. Как видишь…
ЛУИЗА. Мне страшно; Пьер…
ДЕГЕЙТЕР. Прошу меня извинить. Я как-то невольно стал рассказывать о таких личных подробностях моей жизни! Это совсем не входило в мои планы. Тем более, что с этим делом; как вы уже поняли; у меня не очень-то всё хорошо складывалось.
Затемнение.
Занавес
Сцена шестая
Мансарда с наклонным потолком, едва отгороженная от чердака. Видны даже стропила и черепицы. Сюда ВИРГИНИЯ и ЛУИЗА втаскивают сундук с пожитками.
ЛУИЗА. Ну попадись мне этот Делори! Я задам ему перцу! Нечего сказать; облагодетельствовал.
ВИРГИНИЯ. А чем он плох; Делори? (Оглядывает чердак). Хороша мансардочка! Светлая; просторная. (Выглянула в окошко). Видны деревья; статуя…
ЛУИЗА. Ну просто Версаль!
По крутой лестнице поднялся ЭДМОНД Дегейтер; с натугой тащит точило.
ЭДМОНД (опустился на ступеньку). Устал!.. Только и слышишь – Делори, Делори, а жизнь он нам устроил утомительную до невозможности. Если я сейчас спущусь ещё раз, то поднимусь домой только к следующему воскресенью. Остальные дни недели буду спать на мостовой.
ВИРГИНИЯ. Перестань ворчать, Эдмонд. Тебе не угодишь. Неужели ты не можешь понять, что мне свет подарили… Понимаешь ты, свет! Теперь оживут мои узоры на кружевах. Нет, Делори понимает наши беды, а когда он станет мэром…
ЭДМОНД. То потекут молочные реки?
ВИРГИНИЯ. Перестань! Гнилые подвалы уносили не меньше жизней, чем пули на войне. А вот Делори…
Показался АНРИ КАССОРЭ.
Полюбуйтесь на него, на моего Анри. Жена выбивается из сил, а он разгуливает!
АНРИ. Так ты, жёнушка, в восторге от Густава Делори?
ВИРГИНИЯ. А как же? Благодаря Делори тебе, простому ткачу, дали столько света!
ЭДМОНД. А дыр в крыше могло быть и поменьше. Сестричка, твой Анри – не простой ткач, а «бархатных дел мастер», одевает в пурпур королей!
АНРИ. С большей охотой я бы сдирал с них бархат. Тку дорогие ткани для дворцов, а…
ЭДМОНД (смеясь). А сам ходишь без штанцов?!
ВИРГИНИЯ. Сам виноват! Не ищешь заказов на стороне.
АНРИ. А какой заказчик полезет на эту верхотуру?
ЛУИЗА. Да и твоим модницам, Виргиния, станет плохо на вашей пахучей лестнице.
ВИРГИНИЯ. Ничего, вычистим… И кошек разгоним. Мои коклюшечки скучать не будут!
АНРИ. Святая простота! Хозяин! Вот кто не дурак, сдаёт пустующий чердак… Постойте! Это же получается песня!.. (Поёт).
Хозяин! Вот кто не дурак: сдаёт пустующий чердак… Подвал окупится и так…ЛУИЗА (подхватила).
Как лавка, склад или кабак…ЭДМОНД (пропел).
И я, как видите, чудак, втащил на небо свой верстак…ЛУИЗА. Браво, Эдмонд! (Поёт).
Одно под небом утешение — послушать ласточкино пение.АНРИ. Плутуют те, кто у руля…
ВСЕ. О-ля-ля! О-ля-ля! (Смеются).
ЛУИЗА. Почти весь хор в сборе. Только дирижёра нашего нет.
ВИРГИНИЯ. Вот вы говорите с насмешкой о Делори. А кто, как не Делори, принёс Пьеру кусок настоящего красного дерева, и Пьер затеял одну работу для конкурса резчиков. Теперь понёс показать её жюри… (Анри громко рассмеялся). Что тут смешного? Не понимаю.
АНРИ. Ох, этот Делори! В погоне за голосами Дегейтеров на выборах он чего доброго к вечеру придёт к тебе мыть посуду.
ВИРГИНИЯ. Ты скажешь… Вся наша фабрика будет голосовать за Делори!
АНРИ. Ты забыла, что у нас женщины лишены права голоса[62].
ВИРГИНИЯ. Я раскричусь на всю улицу Узоров! Я буду за руки тащить избирателей к урнам… Со мной не спорь, Анри! Я далеко вижу. Густав свой человек.
АНРИ. За Делори она готова пойти на костер, как Жанна ДАрк – за короля!.. Дорогая жёнушка! Вспомни про новые станки. Сколько несчастных будет выброшено за ворота! Смельчаки было собрались рушить заморские машины, да я удержал…
ЛУИЗА. Зря! Пусть их ломают!
ВИРГИНИЯ. Хватит тебе, Луиза, бунтовать. Есть крыша над головой и ладно. Давай приберём поскорей. Придут поздравлять с новосельем… Может, и помолвку справим?
ЛУИЗА. Чью?
ВИРГИНИЯ. Твою и Пьера…
Вбегает ПЬЕР.
Вот он, лёгок на помине!
ПЬЕР (поёт).
Ремёсел на свете большое число, но лучше всех прочих – моё ремесло!Ура-а-а! Вот он – Пьер-Христиан Дегейтер! Не толпитесь, друзья! Поздравляйте по очереди. Рекомендуюсь: лучший в Лилле мастер резьбы по дереву! Увенчан лаврами, венками, лентами и прочими регалиями…
ЛУИЗА. Что случилось, Пьер?
ВСЕ. Говори!
ПЬЕР. Я сделал для конкурса синдиката славное панно: «Нимфа опирается о шею мохнатого льва». (Опустился на колени перед Луизой). Туш!
Все кричат «ура», обнимают виновника торжества.
Братья и сёстры! Не дайте помереть рыцарю резца. Погибаю от нестерпимой жажды. Поднесите стаканчик сидра.
ВИРГИНИЯ (подаёт кружку). На, пей и объясни…
ПЬЕР. Вот мой диплом. Не рвите из рук! Отныне Дегейтер, то есть я, провозглашён самым искусным, самым лучшим, самым-самым… Пусть мой трофей украсит жилище старших Дегейтеров по случаю новоселья! (Отдаёт диплом, оглядывает мансарду). А чердачок ничего… (Усаживается у ног Луизы и поёт песню Потье):
И вот я здесь, где приходилось туго, где нищета стучалась мне в окно. Я снова юн, со мной моя подруга, друзья, стихи, дешёвое вино… В те дни была мне слава незнакома, одной мечтой восторженно согрет, я так легко взбегал на кровлю! На чердаке всё мило в двадцать лет!ВИРГИНИЯ. Это – Потье! А это – Делори!
Входят ГУСТАВ ДЕЛОРИ и АДОЛЬФ ДЕГЕЙТЕР.
АДОЛЬФ. Да здравствует мэр Делори! Ура…
ДЕЛОРИ. Прекратите, Адольф. Никакой я ещё не мэр. Зашёл посидеть с друзьями. Приветствую вас…
ВИРГИНИЯ. Как хорошо, что вы пришли, Густав! Мы рады вам. Садитесь, пожалуйста. (Подаёт кружку). Вот душистый сидр.
ДЕЛОРИ (присаживается). Спасибо, спасибо. Как вы тут устраиваетесь?
ЭДМОНД (у верстака). Как видишь, инструмент ржавеет без работы.
ВИРГИНИЯ. Я тебе говорила – сам виноват.
ЭДМОНД. Это ты говорила не мне, а Анри.
ВИРГИНИЯ. Какая разница. Оба вы лентяи. Не ищите заказов.
ДЕЛОРИ. Вы правы, дорогая Виргиния. Под лежащий камень вода не течёт. Впрочем, скоро всё пойдёт по-другому…
ПЬЕР. Ты почему бездельничаешь, Адольф? Даже перестал ходить на спевки хора.
АДОЛЬФ. Надоело, братец, глотку драть за полкружки пива.
ЭДМОНД. И тебе не стыдно, молодому и здоровому парню, жить на подачки церковников?
АДОЛЬФ. Не вижу ничего худого в религиозных общинах, в благотворительности. (Попивает сидр).
ДЕЛОРИ. Ну, если родовой чести Дегейтеров претит такой приработок Адольфа, то я пристрою его к мэрии.
ЭДМОНД (иронически). Советником?!
ДЕЛОРИ. На первых порах – писцом.
ПЬЕР. Наш Малыш не силён в грамоте.
ВИРГИНИЯ. Спасибо за вашу заботу, месье Делори. (С кружевом). Не отказалась бы госпожа ваша супруга от скромного подношения?
ДЕЛОРИ. О, нет! Слишком дорогой подарок – валансьён. Вот если бы… (.Поглядел на Пьера).
АДОЛЬФ. Я знаю, чем отблагодарить шефа. Сложи-ка, Пьер, куплеты в честь нашего кандидата. Такая песня помогла бы нам на выборах. Шутка ли, в кои веки – свой мэр!
ВИРГИНИЯ. Правда, Пьер, напиши песню. Мы её разучим и в день выборов пройдём с нею по городу.
ПЬЕР. Песню?.. Подумаю.
ДЕЛОРИ (поднялся). Ну, мне пора.
АНРИ. Минуточку. Что вы скажете насчёт английских станков?
ДЕЛОРИ. Спасибо, Анри, напомнил. Господин Де ла Мотт весьма признателен вам, дорогой Кассорэ. Вы спасли его новое оборудование. Оно погибло бы от рук распоясавшихся хулиганов. Да, нам живётся не сладко, но при чём тут станки? Зайдите к хозяину. Вероятно, вас вознаградят за мужество.
АНРИ. Я – за порядок… Что ж, схожу. Только не за наградой. Спрошу фабриканта насчёт одного объявления.
ЛУИЗА. Может быть, нам ответит сам Делори? Для чего вызывают детей в контору?
ДЕЛОРИ. Ах, это?.. Чисто благотворительная цель.
ЛУИЗА. Не хотят ли наших ребятишек определить в благородный пансион?..
АНРИ. Или поставят к станкам взамен взрослых рабочих?
ЛУИЗА. Скажите же правду, Делори, зачем зовут наших детей?
ДЕЛОРИ. Вы не в меру любопытны, мадемуазель Дюбар. За такой порок Ева была изгнана из рая.
ЛУИЗА. Ваша Ева с фиговым листочком ходила. А кто мою семью оденет, обует, накормит? Ребёнок у станка?!
ДЕЛОРИ. Благодарю, мадам Кассорэ, за гостеприимство. До скорой встречи на турнире певцов! (Уходит).
АДОЛЬФ. Я с вами, шеф. (Торопится вслед).
ЛУИЗА. Фигу он получит, этот Делори, а не голоса наших мужчин, если они настоящие мужчины!
Свет на сцене гаснет. На просцениуме ДЕГЕЙТЕР.
ДЕГЕЙТЕР. Вечерами мы собирались на улице де ла Виньетт, в кафе «Либерте», что в переводе на русский означает «Свобода». Здесь мы коротали своё время и выясняли наше отношение к тому, что происходило в городе и в мире…
Возникает танцевальная мелодия.
Занавес
Сцена седьмая
Полутёмный зал кафе «Аиберте». За столиками ВИРГИНИЯ, ЛУИЗА, РОБЕР, АЛЬБЕР и другие рабочие и работницы. Танцует молодая пара. В глубине прилавок с кружками и бутылками. Возле бочонка с пивом орудует толстяк БОНДЕН. На стене эмблема «Лиры рабочих», венки и дипломы за лучшие песни. К стойке подходят ЭДМОНД и АНРИ.
ЭДМОНД. Здорово, Бонден! Всё жиреешь?.. Давай, наливай мою половинку пива.
АНРИ. Налей Эдмонду целую. Я сегодня не пью. Дела!
БОНДЕН (наливает). Мадам! Мсье! Сегодня у нас большой день! На турнире певцов будет угощение для всех…
Возгласы одобрения, аплодисменты. Появился ДЕЛОРИ, сопровождаемый АДОЛЬФОМ.
ГОЛОСА. Привет, Делори! Салют…
ДЕЛОРИ. Здравствуйте, друзья мои…
БОНДЕН (подбегает). Прикажете освободить для вас столик, мсье Делори?
ДЕЛОРИ. Не мсье, а товарищ… Почту за честь посидеть в кругу семьи Дегейтеров. (Усаживается).
БОНДЕН. Что вам будет угодно?
ДЕЛОРИ. Как условились, вина бутылочного. Всем\ Платить буду я. (Аплодисменты).
БОНДЕН. Очень рад! (Убежал).
ЭДМОНД. Как наши дела, Густав?
ДЕЛОРИ. О делах – после. Как наш турнир, мадам Кассорэ?
ВИРГИНИЯ. Певцов ещё нет – из тех, кто прошёл первый тур.
Показался ПЬЕР.
ДЕЛОРИ. Зато есть Дегейтер! Пусть одному Пьеру и достанутся все лавры… Вы скоро там, Бонден? Робер, Альбер, разливайте вино. Я приготовил тост и не один.
БОНДЕНН и ЖАНЕТТА принесли вино.
АЛЬБЕР (разливает). Золотистое вино Шампани поэты называют «солнцем, пойманным в бутылку!» Сперва – дамам…
ДЕЛОРИ. Браво, Альбер, вы галантны. (Поднимает бокал). Друзья! Я хочу выпить за то, чтобы рабочие Лилля стали хозяевами своего города!
РОБЕР. Правильно! Ура! (Пьёт).
ДЕЛОРИ. Я надеюсь, что рабочее население Лилля будет единодушно, друзья мои! И тогда всё будет в порядке. Правда, господин префект вызывал меня и намекал на то, что в Париже не очень хотят, чтобы мэром такого крупного города, как Лилль, был такой рабочий, как я… Ну, что же, мне пришлось ответить: «Я не доставлю удовольствия господам из Парижа и своей кандидатуры не сниму!»
РОБЕР. Ничего! Префекту полезно есть кислое.
ДЕЛОРИ. Да, я ему так и сказал.
ЭДМОНД. А нам что ты скажешь?
ДЕЛОРИ. Социальная справедливость! Вот лозунг, которым я руководствовался всю жизнь! Социалистическая партия стала мне матерью, вдохнула в меня мужество для борьбы за интересы рабочего класса…
АНРИ. Это – какие же интересы? Можно… точнее?
ДЕЛОРИ. Я знаю, мэр не в силах будет изменить установленный порядок вещей. Но мэр может в пределах закона, в мирной борьбе изменить условия существования рабочих…
ЭДМОНД. Это какие-такие условия?
ДЕЛОРИ. Я обещаю, что булочные не будут обвешивать покупателей и торговать плохо выпеченным хлебом…
АНРИ. Только и всего?!
ДЕЛОРИ. Мы живём в трудное время. Революционный порыв угас. Все устали, разочаровались после падения Парижской Коммуны. Это надо понимать, учитывать…
Входит МАРТЕН.
АНРИ. Друзья, товарищи! Рекомендую: долгожданный гость из Парижа! (Мартену). Тут завязался узелок – самим нам не распутать. Проходите. Мы скоро вернёмся. Луиза, за мной! (Ушли.)
ДЕЛОРИ. С кем имеем честь?
МАРТЕН. Николя Мартен. Прибыл по просьбе товарищей из Рабочей партии – Жюля Геда и Поля Лафарга.
ЭДМОНД. Вот это гость, так гость! Просим вас к столу.
ДЕЛОРИ (тихо РОБЕРУ). Принесла нелёгкая. (Громко). Вина – нашему гостю!
МАРТЕН. Не беспокойтесь, месье Делори, кажется? Продолжайте свою речь.
ДЕЛОРИ. Вы к нам – за песнями? Помните у Потье: «Что? Песенка – всему конец? Напротив, всё начнётся с песни!»
МАРТЕН. Вы знавали поэта Коммуны Потье?
ДЕЛОРИ. Наслышан! Крайне левый, из тех, кто её губил.
МАРТЕН. Я слышал от Потье другое: «Несчастная Коммуна, сколько негодяев трудились над твоей погибелью…».
К МАРТЕНУ приблизился ПВЕР.
Всё же вспомнил меня, артист?
ПВЕР. Простите, не сразу. Борода сбила с толку… Как не помнить? Это на всю жизнь! Друзья, это коммунар Мартен!
Гостя окружили рабочие, обнимают его, «качают».
ДЕЛОРИ (стараясь скрыть злость). Так… На чём я остановился?..
Вбегает запыхавшийся АДОЛЬФ с пачкой бумаг.
АДОЛЬФ. Простите, шеф, задержал типограф. (Раздаёт, разбрасывает листовки). Читайте все! Голосуйте за Густава Делори! Вы будете пить свежее пиво. «Защитим интересы землевладельцев и коммерсантов!». «Тарелку супа бедняку!»[63]
МАРТЕН. Дожили господа реформисты! Докатились!..
ЭДМОНД. Вот вы, Мартен, знали что надо было делать. Вы сражались на баррикадах Коммуны. А мы тут песенки распеваем, пустяками занимаемся…
АДОЛЬФ. Совсем захмелел старик.
ЭДМОНД (двинулся на Адольфа). Что?! Что ты сказал, щенок?.. Да я тебя…
ДЕЛОРИ (становясь между братьями). Спокойней, Адольф… Прекрати, Эдмонд… Пьер, да разнимите вы своих братьев и начнём турнир. Внимание! Внимание! Начинаем турнир певцов. Пьер Дегейтер, вы обещали нам новую песню. Видимо, это будет что-то значительное, злободневное?..
АДОЛЬФ. Помнишь, Пьер, в день новоселья у Виргинии ты обещал нам песню к выборам.
ПЬЕР. Постой! (Мартену). Где же вы были всё это время?
МАРТЕН. Я уже и забыл… Где я не был? Был в Голландии, в Бельгии, в Германии, в Лондоне и даже в Северной Америке. Только не во Франции. Тут, у себя на родине, коммунарам не было места вплоть до амнистии восемьдесят первого года…
ПЬЕР. И Потье вернулся вместе с вами? Потье сейчас в Париже?
МАРТЕН. Да… На кладбище Пер Аашез, у стены коммунаров…
Слышатся отголоски реквиема.
ПЬЕР. Вы слышите, товарищи, умер наш Эжен Потье… Перестало биться пламенное сердце певца Комунны… (Берёт аккордеон, звучат аккорды, он произносит, напевает слова).
Презренны вы в своём богатстве, угля и стали короли! Вы наши троны, тунеядцы, на спинах наших возвели! Заводы, фабрики, палаты — всё нашим создано трудом. Пора! Мы требуем возврата того, что взято грабежом!Рабочие берут у МАРТЕНА листовки со словами, начинают подпевать ПЬЕРУ
ДЕЛОРИ. Позвольте! Стойте, Пьер! Что это такое? (Читает). Причём здесь Потье? Ведь речь шла о песне, которая будет вашей, Пьер…
ПЬЕР. Она и есть моя! Стихи – Потье, а музыка – моя!
ДЕЛОРИ. Это же… Яне знаю, как это назвать! Как?..
ЭДМОНД. Играй, пой, Пьер!
ДЕЛОРИ. Нет, нет, постойте. Не надо! Я прошу… Надо что-нибудь другое. У вас же есть прекрасные песни, Пьер, вроде: «Прощай, зима, морозы, вьюга… Летели ласточки к нам с юга…»
Слышится смех, свист.
ЭДМОНД. Послушай, мэр…
ДЕЛОРИ. Я ещё не мэр, Эдмонд. И если вы пойдёте на выборы с такой песней, то вряд ли когда-нибудь им стану… Поймите! Дни Коммуны прошли. Времена другие. Нужна гибкость в политике…
ЭДМОНД (отталкивает его). Врёшь, Делори! Времена, действительно, другие, и всё осталось тем же! Лилль как был босоногим, так и сейчас босоногий! Как тянули из нас жилы за кусок хлеба, так тянут и теперь. Ты лучше отойти в сторону! Да здравствует Коммуна!
ПЬЕР (продолжает).
Бой с врагом на исходе, час расплаты настал! Над миром восходит — Интернационал!Рефрен подхватывают все.
ДЕЛОРИ. Остановитесь, безумные! Эдмонд! Ты старше других, они послушаются тебя. Останови их…
ЭДМОНД. Отстань, пока не поздно… Не мешай нам…
Быстро входят ЛУИЗА и АНРИ.
ЛУИЗА. Обнимаетесь, братья Дегейтеры? С кем?!
ПЬЕР. Что с тобой, Луиза?
ЛУИЗА. И вы посмели к нам придти в «Свободу», Делори?
ДЕЛОРИ. В чём дело?
АНРИ. Товарищи, начали увольнять ткачей…
ЛУИЗА. Вы только послушайте, что сотворил ваш Делори. На чьи денежки веселится? На каком коне хочет въехать в мэрию?..
ДЕЛОРИ (резко оттолкнул Луизу). Каквы смеете?!
АНРИ. Делори, вы хвалили Альбера за галантность, а где она у вас? Вы отвратительно ведёте себя с женщиной! Я жалею, что миновала пора мушкетёрских поединков, а то я швырнул бы вам в физиономию перчатку. Да жаль, ткачи не носят перчаток. Дать пощёчину? Опять же, нет перчаток. Считайте, вы своё получили, мсье Делори.
ДЕЛОРИ. В чём меня хотят обвинить? В чём?
ЛУИЗА. А вот в чём. Бывший рабочий взял деньги на выборы мэра… из кассы фабриканта. Четыре тысячи франков!
ДЕЛОРИ.Ложь! Клевета!
АНРИ. Ваша карта бита, Густав Делори. Есть копия чека на эту сумму и на ваше имя.
ЛУИЗА (бросает чек, его подхватывают, читают). Вот она – иудина бумажка! АНРИ. Мы думали-гадали, кто выдвигал кандидатуру Делори? Оказывается – фабрикант!
ДЕЛОРИ. Я не допущу…
ХОР (начинает петь, пританцовывая вокруг Делори).
Скорей, минута дорога! Меня ведь ждут у пирога. Как депутат, в том нет секрета, я ел прекрасно целый год. Стол накрывают. Жду ответа. Быть депутатом мне вперёд! Скорей, минута дорога! Меня ведь ждут у пирога…ДЕЛОРИ пытается убежать, но его окружают, он падает, ползёт. Вслед ему с грохотом летят пустые консервные банки. ПЬЕР подхватил цилиндр.
ПЬЕР. Убежал и мэрский цилиндр позабыл…
АНРИ (шутливо напялил шляпу на голову Пьера). Чем не мэр – наш Пьер? ПЬЕР (надел на Анри). Нет, я артист! АКассорэ – мэр, так мэр!
ЛУИЗА. Пьер – это песня, а Анри – политика.
МАРТЕН. Женщина права…
РАБОЧИЕ. Долой Делори! Да здравствует мэр Кассорэ!
ВИРГИНИЯ (взобралась на стол). Стойте! Вы получите своего мэра, а я?.. Потеряю мужа? И почему стал плох Делори? Что вы тут устроили, чёрт возьми! Четыре тысячи франков? Подумаешь! А где их должен был взять Делори? У вас?! Из ваших пустых карманов?!
АЛЬБЕР. Вот это – дама, так дама! С такой – не скоро уснёшь!
В кафе смех.
ЛУИЗА (с гневом). Помолчи, кавалер! Перестань, Виргиния! Мужчины, делайте же что-нибудь!
МАРТЕН. К фабричным воротам, товарищи!
ХОР перестраивается в колонну и, имитируя её движение, продолжает песню Эжена Потье о депутате:
Господа, довольно, знайте честь! Будет вам всё только есть да есть! Пожалейте тех, кто в этом свете волей иль неволей – на диете. И потом ведь вам грозит беда — лопнете с обжорства, господа! А такая смерть – не смерть, потеха! И уж если лопнуть, так от смеха, лопнуть, так от смеха… Разве можно думать с полным ртом — и о любви – полсуток за столом? Масляные ваши подбородки чуть увидят – прочь бегут красотки. Ожиренье и в любви помеха. И уж если лопнуть, так от смеха, лопнуть – так от смеха…Занавес
Конец первой части
Часть вторая
Сцена восьмая
Контора небольшой лилльсской типографии. Входят ДЕЛОРИ в чёрном сюртуке и АДОЛЬФ, он тоже приоделся. БОЛЬДОДЮК торопится навстречу.
БОЛЬДОДЮК. Приветствую вас, мсье Делори… мсье Адольф.
ДЕЛОРИ. Привет, Больдодюк. Готовы мои корректуры?
БОЛЬДОДЮК. Ваше обращение к избирателям, господин кандидат – чудо полиграфии и… стиля, конечно. Дорогая работа, господин заказчик.
ДЕЛОРИ. Сочтёмся… После выборов. После…
БОЛЬДОДЮК. Что ж, потерплю… За проценты – конечно! Подпишите гранки, и мы вмиг отпечатаем тираж листовки. (Выходит.)
ДЕЛОРИ (озабоченно). Ищите, Адольф, ищите!
АДОЛЬФ (осматриваясь). Не видно…
ДЕЛОРИ. Смотрите лучше! Я знаю точно – ноты Пьера печатаются здесь.
АДОЛЬФ (порывшись в бумагах на конторке, передаст Делори нотный лист).
ДЕЛОРИ (читает). «Восстань, весь мир порабощённый…» (Кричит). Эй, хозяин, сюда! (Вошедшему типографу). Что это?
БОЛЬДОДЮК. Нотный заказ, мсье. Песня. Сочинение Пьера Дегейтера.
ДЕЛОРИ. Читайте, что вы печатаете! (Суёт ему ноты).
БОЛЬДОДЮК (надев очки). Неужели грубая опечатка на обложке? (Читает). «"Интернационал”. Стихи Эжена Потье. Музыка Пьера Дегейтера.
ДЕЛОРИ. «Опечатки»! Да вы погубите рабочего человека! Пьер может пострадать. Да и вам не сносить головы!
БОЛЬДОДЮК. За слова и ноты типография не отвечает.
ДЕЛОРИ. Но простит ли фабрикант такие оскорбления: «Паразит…», «Нам тунеядцы не нужны…». Скажите, вы заинтересованы в заказах фирмы «Фив-Лилль»? Хозяина Де ла Мотта?
БОЛЬДОДЮК (в тревоге, суетливо). Что надо сделать? Подскажите, мсье, прошу.
ДЕЛОРИ. Очень просто! Надо убрать имя автора![64]
БОЛЬДОДЮК. Анонимное сочинение? Исключено!
ДЕЛОРИ. Да вы меня не поняли. Оставьте только фамилию, без имени. Дегейтеров в Лилле полно!
АДОЛЬФ. Но могут подумать, что песню сочинил Эдмонд Дегейтер? А ведь и он зависит от Де ла Мотта.
ДЕЛОРИ (подумав). А вы возьмите всё на себя, Адольф. Пусть подозрение падёт на вас. И вы спасёте обоих братьев. Благородно?!
АДОЛЬФ. Мне тоже нельзя ссориться с хозяином. Я живу на средства религиозной общины. Святой Ксавье – тот же Де ла Мотт: ведь, средства на благотворительность идут от штрафов, которые он дерёт с рабочих!
ДЕЛОРИ. Ваш хозяин – я! Вам ничто не будет угрожать. Мэр Делори оградит вас от любых неприятностей!
АДОЛЬФ. Скорей поверят в авторство слона, который ещё в детстве наступил мне на ухо.
ДЕЛОРИ. Колеблетесь?.. Хорошо! Мы не укажем, что это – сочинение Адольфа. Просто «Дегейтер». Пусть ищут виновного хоть в Бельгии. Там существуют и другие Дегейтеры. Их вообще не так уж мало! Поняли, Больдодюк?
БОЛЬДОДЮК. Для меня нет резона, мсье. Одно беспокойство… Опять же, одна тысяча экземпляров из шести – уже отпечатана. Кто возместит потери?
ДЕЛОРИ. Пустяки! Прибавим к счёту мэрии. Опять же, все заказы после моего избрания мэром будут только в типографии Больдодюка!
БОЛЬДОДЮК. О! Такая игра стоит свеч!..
ДЕЛОРИ. Так зажигайте свои свечи, мсье Больдодюк!
БОЛЬДОДЮК (засуетившись). О! Тут есть резон! (Громко) Остановить машину! Перебор… (Ушёл за перегородку).
ДЕЛОРИ (рассматривает нотную линейку). Да! Мы убьём эту птицу в гнезде! Так будет спокойнее для всех.
АДОЛЬФ. Но она разлетится по свету!..
ДЕЛОРИ. Мы запретим её, и она умолкнет навсегда!
АДОЛЬФ. Но у нас, во Франции, как бы свобода слова…
ДЕЛОРИ. В законе имеется оговорка: всякое сочинение может запретить… автор!
АДОЛЬФ (с изумлением). Автор? Но вы же сами велели убрать с нот имя автора.
ДЕЛОРИ (вздохнув). Я не теряю надежды встретить умного и дальновидного человека, который поймёт, что бывают случаи, когда интересы общества дороже всего. Не так ли, мсье советник мэрии Лилля Адольф Дегейтер?.. Так что запрещайте песню своего братца!
Свет на сцене гаснет.
ДЕГЕЙТЕР (на просцениуме). Вот так из-за страха потерять более чем престижное место в мэрии мой брат Адольф стал пособником подлеца Делори, который уже полностью и открыто переметнулся на сторону классовых врагов.
Сцена девятая
Одна из фабрик Лилля, где почти все предприятия принадлежат Де ла Моту, который приступил к массовым увольнениям, решив заменить у новых станков взрослых рабочих детьми, которым можно платить сущие гроши. Рабочие теснятся у фабричных ворот. Их лидер МАРТЕН запевает «Интернационал». Песню подхватывают рабочие, прежде всего – хористы «Рабочей лиры»:
Вся власть – народу трудовому, а дармоедов всех долой!Навстречу поющим рабочим выходят ЖАНДАРМЫ.
ОФИЦЕР. Приказываю замолчать и разойтись!
Довольно королям в угоду дурманить нас в чаду войны. Война тиранам! Мир народу! Бастуйте, армии сыны!..ОФИЦЕР (подаёт команду). Заряжай!
В стороне показались ДЕЛОРИ и АДОЛЬФ.
ДЕЛОРИ (Адольфу). Ваше упрямство приведёт к кровопролитию. Решайтесь, пока не поздно… Да возьмите же себя в руки! Спасите ваших близких… АДОЛЬФ.Я… (Хочет бежать).
ДЕЛОРИ (хватает его за руку). Стойте… Ну!
Когда ж тираны нас заставят в бою геройски пасть за них — убийцы! В вас тогда направим мы жерла пушек боевых…ОФИЦЕР (командует). Целься!
ДЕЛОРИ. Ваша нерешительность – прямое предательство!
АДОЛЬФ (решился, выбежал вперёд). Я запрещаю… Вы слышите? Я запрещаю, запрещаю…
ОФИЦЕР. К бою готовьсь…
МАРТЕН. Пойте, товарищи! Они не посмеют стрелять…
АДОЛЬФ (бросается к Пьеру). Не пой это, Пьер! Умоляю, не пой!
ПЬЕР (остановился). Да тебе-то что задело?
АДОЛЬФ (как в бреду). Так надо, мой брат. Надо!
ЭДМОНД. Отвяжись! Ты сума сошёл или спьяну?
АДОЛЬФ. Пойми, Пьер, я спасаю тебя… Братьев спасаю… Я запрещаю! Вето… Накладываю запрет на исполнение «Интернационала»… (Офицеру). Эту песню сочинил я, я автор, и я… её запрещаю…
ОФИЦЕР. Прекратить пение! Именем закона песня запрещена!
МАРТЕН. Как? В республиканской Франции?!
ОФИЦЕР. Вы что – глухие? Сам автор протестует против исполнения его песни!
ПЬЕР. Кто? Я?!
ОФИЦЕР. Приказ ясен. Разойдись!
ПЬЕР. Возьмите это, господин жандарм. (Отдаёт нотную листовку). Тут подтверждено: автор песни – Пьер Дегейтер'. (В сторону Адольфа). А этот человек не имеет к ней никакого отношения.
ОФИЦЕР (заглянул в листок). Никакого Пьера! Есть просто «Дегейтер»'. (К Адольфу). Вы Дегейтер?
АДОЛЬФ. Да, да, я Дегейтер!
ПЬЕР. Подлог!
ОФИЦЕР. Это дело суда. Запрет на песню остаётся в силе. Разойдитесь!
АНРИ (выходит вперёд и запевает).
Бойс врагом на исходе, час победы настал…ОФИЦЕР. Ах, так? (Жандармам). Вперёд! Разогнать…
ЖАНДАРМЫ бросаются на рабочих. Рабочие сопротивляются. Начинается потасовка. ОФИЦЕР выхватывает из рук АНРИ флаг, ломает древко> бросает под ноги. В ту же минуту новый флаг возникает на другом конце сцены. ОФИЦЕР бросается туда. Знамя переходит из рук в руки…
АНРИ. Над миром восходит
Интернационал.
ОФИЦЕР. Замолчи, сволочь! (Достаёт пистолет, прицеливается, стреляет. АНРИ падает. К нему подбегает ВИРГИНИЯ, опускается перед ним на колени.
ВИРГИНИЯ. Анри!.. Анри! (Пытается приподнять мужа). Он… мёртвый! Вы слышите? Он мёртвый! (Рыдает).
Звучит мелодия «Интернационала» в тональности похоронного марша. ХОРИСТЫ, прикрыв Анри алым полотнищем, высоко поднимают певца на руках.
Гаснет свет. В луче – старый ДЕГЕЙТЕР.
ДЕГЕЙТЕР. Едва оправившись от потрясений, я подал на брата Адольфа в суд. Поверьте, главным было не оскорблённое самолюбие, а страстное желание освободить нашу песню от цепей.
Занавес
Сцена десятая
Зал суда. За судейским столом ДЕВЕТТ, судья, и ЗАСЕДАТЕЛИ, такие же безликие, как и законы. В стороне ДЕЛОРИ и АДОЛЬФ. В зале – друзья Пьера, участники хора «Рабочая лира».
ДЕВЕТТ (Пьеру). Продолжайте; истец. Кто представляет ваши интересы в суде?
ПЬЕР. У меня нет денег, чтобы нанять адвоката. Мои защитники – это мои песни.
ДЕВЕТТ. Только не вздумайте петь! У меня, знаете ли, очень болит голова. Я знаю, что вы – столяр, мебельщик. Причём здесь какие-то песни?
ПЬЕР. Да, я – рабочий. Но я – рабочий-шансонье. Моё творчество отмечено дипломами, призами за песни моего сочинения.
ДЕВЕТТ. Всё это не имеет никакого значения. Говорите только по существу дела. Есть ли у вас свидетели?
ЛУИЗА (из зала). Да спросите вы всех! Весь рабочий Лилль знает, что «Интернационал» написал Пьер Дегейтер, что его брат Адольф не может пропеть даже одной строчки куплета!
ДЕВЕТТ (раздражённо). Я не вас спрашиваю, а истца! К тому же нам нужны точные доказательства, а не пустые слова.
ПЬЕР. Вот документ. Я два года посещал вечерние курсы при Лилльской консерватории.
ДЕВЕТТ. Для чего? Чинили мебель?
ПЬЕР. Я изучал контрапункт и генерал-бас.
ДЕВЕТТ. Какой такой генерал? Какой пункт?..
ПЬЕР. Искусство мелодии и искусство гармонии!
РАБОЧИЙ (встаёт со своего места, подходит к судейскому столу, подаёт бумагу). Здесь сто двадцать шесть подписей. Сто двадцать шесть человек, знающих певца Дегейтера Пьера, называют его автором музыки «Интернационала».
ДЕВЕТТ (посмотрел). Подписи не заверены. Возвращаю.
МАРТЕН. Я беру на себя защиту интересов Пьера Дегейтера!
ДЕВЕТТ.Вы… адвокат?
МАРТЕН. Я член парламента от «Рабочей партии».
ДЕВЕТТ. О, депутат?! Вы имеете право… Но здесь слушается гражданское дело. Разбирается спор между братьями Дегейтерами. Не уголовное, а семейное дело. Домашний спор.
МАРТЕН (Пьеру). Хитро повернули дело, сутяги. (Громко). Дело не шуточное, господин Деветт. Из-за этой песни уже пролилась кровь.
ДЕВЕТТ. Терпеливо разъясняю: идёт семейный спор.
МАРТЕН. Но был подлог с изданием нот? Я спрашиваю суд, почему не выделена в уголовное дело преступная махинация Адольфа Дегейтера и Густава Делори?
ДЕЛОРИ. Я скажу об этом в своё время.
ДЕВЕТТ. Будем ждать ваших разъяснений, господин мэр города.
ПЬЕР. Делори – мэр, а Анри Кассоре убит!
ДЕВЕТТ (взрываясь). Говорите по данному гражданскому делу, о конфликте братьев Дегейтеров. Говорите правду только правду если хотите быть свидетелем, мсье Мартен.
МАРТЕН. Ещё в дни Коммуны я дал клятву умер еть, если нужно, но всегда говорить правду… С вашего позволения, обращусь к ответчику. Адольф Дегейтер, вы рекомендуетесь музыкантом и певцом. Извольте исполнить для доказательства вашей правоты хотя бы один куплет из ваших шансон.
АДОЛЬФ шипит, показывая, что потерял голос, о чём-то просит ДЕЛОРИ. Тот «переводит».
ДЕЛОРИ. У ответчика сорван голос.
МАРТЕН. Но у него и у вас уже давно сорвана совесть! Тогда пусть Адольф Дегейтер, не обременяя голосовых связок, исполнит мелодию собственного сочинения на каком-нибудь музыкальном инструменте.
ДЕЛОРИ (отвечает за Адольфа). Мой подопечный говорит: «К сожалению, в зале суда нет никаких инструментов».
ХОРИСТ приносит аккордеон.
ДЕЛОРИ протестует.
Адольф Дегейтер – не аккордеонист!
МАРТЕН. Я это предвидел. Требуется другой инструмент?.. (.Хлопает в ладоши).
РОБЕР и АЛЬБЕР вносят на лямках фисгармонию ПЬЕРА ДЕГЕЙТЕРА.
ДЕВЕТТ. Что это ещё такое? Убрать! Здесь не театр, не варьете, не концертный зал, а зал суда! Понимаете? Суда!
ПЬЕР. Здесь слушается музыкальное дело. Мы вправе приводить любые доказательства.
ДЕВЕТТ. Приказываю немедленно убрать музыку. Вон!
Оглянувшись на ЖАНДАРМА, РАБОЧИЕ уносят фисгармонию.
МАРТЕН. Уловка простая – превратить политический процесс в пошлый фарс с головной болью судьи! Дело ведётся формально, с унизительным снисхождением к человеку только потому, что он рабочий. Я протестую!
ДЕВЕТТ. Суд лишает вас слова за нарушение процессуальных норм. Вы свободны, мсье Мартен.
МАРТЕН. Верните нам «Интернационал», и мы уйдём…
ДЕВЕТТ (не слушая Мартена). Слово свидетелю господину мэру Густаву-Этьену Делори.
ДЕЛОРИ. Как давний друг семьи Дегейтеров, могу засвидетельствовать с точностью. (К залу). Скажите, друзья, Адольф был членом певческого общества «Лира рабочих», как и все Дегейтеры?
Г ОАО СА. Ну, был…
ДЕЛОРИ. Разве они не сочиняли шансон сообща, всей семьёй? Скажем, о подвалах и чердаках?.. Кто их разберёт – спел ли ноту «до» Пьер или «ре» Адольф? Путаница неизбежна.
ЭДМОНД. Все вы путаники, буквоеды!
ДЕЛОРИ. Скажи, дружище Эдмонд, мы были с тобой свидетелями сочинения куплетов Адольфом? (Певуне). «Мэр-то мой, ясно – мой!»
ДЕВЕТТ (взмолился). Господин мэр, не угодно ли хоть вам воздержаться от пения? Я болею… У меня – голова!
ЭДМОНД. Не передёргивай, Густав…
АДОЛЬФ хрипит и шипит.
ДЕВЕТТ. О чём вы… изволите говорить, господин Адольф Дегейтер?
ДЕЛОРИ («перевёл»). Он один сочинил новую песню, без «Лиры».
ЭДМОНД. Вздор! Наш Адольф никогда и ничего не сочинял!
ДЕЛОРИ. И ещё… Пьер не заявлял о своём авторстве. Потому типограф и поставил на обложке одну фамилию, без имени…
ПЬЕР. Это обман!
ДЕЛОРИ…тогда как Адольф заблаговременно зарегистрировал своё право в мэрии. Прошу приобщить к делу. (Подаёт бумагу).
ДЕВЕТТ (посмотрел). Всё законно, господин мэр. Документ скреплён печатью мэрии. Благодарю вас.
ПЬЕР. Нет, незаконно! Мэрия не производит подобных актов. Это вам не общество композиторов, в котором я состою
ДЕВЕТТ. Господину Адольфу Дегейтеру лучше знать, где совершаются подобные акты. Он – советник мэрии!
ПЬЕР. Что?! Адольф – уже советник? Смешно!
МАРТЕН. Позвольте? (Прочёл). Пустая бумажка. Вы нам подайте ноты, авторскую рукопись.
АДОЛЬФ шипит, передавая бумагу.
ДЕЛОРИ (посмотрел). Верно! Нотный манускрипт песни «Интернационал». Имеется подпись автора музыки: «Адольф Дегейтер».
ПЬЕР. Да это же копия с украденной в типографии листовки!
ДЕВЕТТ. Довольно криков! Суду всё ясно…
ПЬЕР (запевает). «Продажна власть, закон лукавит…».
ДЕВЕТТ. Прекратите пение! Слышите? Ой, голова моя, голова!
ЭДМОНД. Пой, пой, Пьер!
ДЕВЕТТ. Молчать!
ПЬЕР (поёт). «Налог за глотку нас берёт…».
ДЕВЕТТ. Пьер Дегейтер, за нарушение порядка в суде приговариваю вас к… тысяче франков штрафа…
ПЬЕР. «Богатых право нами правит…».
ДЕВЕТТ. Две тысячи франков!
ПЬЕР. Хоть два миллиона! Всё равно нет гроша! (Поёт). «А наше право – вечный гнёт!»
ДЕВЕТТ. Два года тюрьмы за неуплату штрафа и оскорбление суда. (Жандарму). Арестовать!
Затемнение. Музыка. Старый ПЬЕР вспоминает:
ДЕГЕЙТЕР. В постановлении суда было сказано: признать автором музыки «Интернационала» Адольфа Дегейтера и, согласно закону по воле автора запретить её исполнение впредь до иного решения. Моя песнь умолкла, как мне казалось, на долгие годы, а я попал в каменоломню на каторжные работы…
Затемнение.
Занавес
Сцена одиннадцатая
Мансарда. Поздний вечер. Горит свеча. ВИРГИНИЯ перебирает руками пустые коклюшки. За её спиной стоит ЛУИЗА.
ВИРГИНИЯ. Вы все смеялись надо мной, не верили мне. А я знала, что мои коклюшечки гулять не будут! Я едва успеваю справляться с заказами. Заказчики идут и идут без конца. Теперь я не сплю… Да, совсем не сплю. Тот, кто спит, остаётся без хлеба. А вот мой Анри не хотел искать заказов на стороне. Ах, Анри, Анри… Нет, нет, спасибо Делори за то, что он дал мне свет! Ты видишь, Луиза, сколько в комнате света?.. Зачем ты пришла ко мне? Зачем?.. У тебя много лишнего времени? Извини, у меня его нет… И не смей меня утешать! Я в этом не нуждаюсь. Все вы злые, злые… Что вам надо? Чего не хватало Анри? Бог не дал нам детей, но он дал нам жизнь. И он один вправе распоряжаться ею… И ты тоже – сухой, чёрствый человек. Ты мучаешь себя и Пьера… Если бы я не опоздала тогда, в тот день, я не позволила бы Анри лезть под пули. Мало пролито крови? Что дала людям Коммуна? Новые могилы на кладбище Пер-Лашез? Нет, если кто-нибудь избавит нас от нищеты, то только бог! Если он захочет, то простит нам наши грехи… Да, только бог, он один! (Луизе). Уходи! (Опустившись на колени, начинает молиться).
Хорал. ЛУИЗА уходит в затемнение, махнув рукой.
Занавес
Сцена двенадцатая
На сцене ПЬЕР. Он катит тачку, груженую камнем. Устал, измучен. Возле него ЖАНДАРМЫ.
ОФИЦЕР. Так, так… Давай, давай! А у него неплохо получается. (Пьер оступился и упал возле тачки). Э, а это уже зря! Такой молодец, а спотыкается.
ЖАНДАРМ. Может быть, он споёт всё-таки? Слушай, Дегейтер, какого чёрта ты упрямишься? Ты так много пел и говорил о хлебе. Вот он! (Показывает кусок). С поджаристой корочкой. Пой и бери его… Хочешь – ешь сам, а хочешь – пошли своей красотке.
ОФИЦЕР. Красотке? (Хохочет). Ты думаешь, она сидит на одном хлебе? Нашёл дурру! Чего ради ей поститься из-за этого каторжника…
Подкрутив усы, ОФИЦЕР начинает петь, подмигивая ПЬЕРУ
… Кто не видывал резвушки? Есть ли девушка славней? И красотки, и дурнушки спасовали перед ней…ЖАНДАРМЫ подхватывают припев.
Тра-ла-ла… У девчонки лишь юбчонка за душою и была… Хоть потом в её мансарде был и жемчуг, и тафта, заложила всё в ломбарде для любовника-плута…ПЬЕР (хватает из тачки камень). Заткнитесь, подлецы!..
ОФИЦЕР (хохочет). Чего ругаешься? Мы опять пришли не вовремя?
ПЬЕР (хрипло). В самый раз…
ОФИЦЕР (пнув Пьера ногой). Так чего же ты лаешься? Мы с тобой по-хорошему. Тебя назвали каторжником? Так разве ты не каторжник? И тут уж ничего не поделаешь. Каждому – своё. Тебе возить тачку, а нам… (Смеётся). Нам – пить вино! И так будет всегда, хоть ты тресни… И пошевеливайся, пока не получил затрещину. Давай, трогай!
ПЬЕР с трудом поднимается и, пошатываясь, катит свою гружёную камнем тачку. ЖАНДАРМЫ уходят вслед за ним.
Занавес
Сцена тринадцатая
Звучит Карманьола. Мы видим танцующую ЛУИЗУ Вокруг неё толпа. Несколько позднее выходят на сцену известные уже нам ЖАНДАРМЫ. Закончив танец, Луиза протягивает перед собой бубен.
ЛУИЗА. Всё! Представление окончено. Сбор в пользу певца из Лилля, каторжника и шансонье Пьера Дегейтера… Кто сколько может…
РАБОЧИЕ бросают в бубен монеты и расходятся.
ОФИЦЕР. Ну, что я говорил?.. Жизнь всегда возьмёт своё, а о женщине и говорить нечего. (Достает из кармана монеты, бросает их Луизе). Надеюсь, эти франки тебе не помешают, красавица?
ЛУИЗА. Франки – нет…
ЖАНДАРМ (приблизился). А я?.. (Берет её рукой за талию). А?.. (Луиза отвешивает ему полноценную затрещину).
Свет на сцене гаснет.
ДЕГЕЙТЕР. Отбыв свой срок в каменоломнях, я направился в Лилль, рассчитывая найти там своих друзей, близких. Но никого из них в городе не было. Лилль уже не мог прокормить всех, кто нуждался в хлебе, и они бродили по дорогам Франции в надежде найти хотя бы какой-нибудь заработок… И Луизы я не нашёл. Никто ничего о ней не знал. Уже ни на что не рассчитывая, а забрёл в кафе «Либерте»…
Занавес
Сцена четырнадцатая
В этот ранний нас посетителей в кафе нет. Входит ПЬЕР, он с котомкой. Увидев фисгармонию, поднял крышку, что-то сыграл…
ПЬЕР. Моя фисгармония!.. Видно, пошла с молотка… (Кричит). Эй, кто тут есть? Бонден!
В соседней комнате раздаётся женский крик. В зал вбегает полураздетая служанка ЖАНЕТТА. Ей преследует БОНДЕН.
БОНДЕН (схватив девушку за руку, тащит её обратно к двери). Нет, на этот раз ты не уйдёшь от меня. Хватит, повозился я с тобой.
ЖАНЕТТА (увидев Пьера). Помогите…
ПЬЕР (отшвырнулБондена). Стоп, хозяин!
БОНДЕН. Пусти, бродяга…
ПЬЕР. Оставь в покое девушку, скотина.
БОНДЕН. Ты кто такой? Немедленно убирайся отсюда, или я позову полицию.
ПЬЕР. Не узнаёшь меня, мэтр Бонден? Или притворяешься, паразит? На чьих песнях ты разжирел? Чья у тебя фисгармония?
БОНДЕН. Я не знаю тебя, каторжник.
ПЬЕР. Так я напомню тебе моё имя. На своей шкуре ты испытал силу рук Пьера Дегейтера. Мои руки разучились за годы каторжных работ выводить нотные знаки, но они могут размозжить любую тупую башку. Не заставляй их трудиться над головой осла.
БОНДЕН. Говори, что тебе от меня нужно?
ПЬЕР. Хочу знать обо всём. Что тут было без меня? Садись, хозяин. Сядь и ты, девушка. Как тебя зовут?
ЖАНЕТТА. Моё имя Жаннетта. Я знаю вашу жену Луизу Дегейтер…
БОНДЕН. Молчи, дрянь!
ПЬЕР. Говори ты, Бонден. Где моя Луиза? Дома её нет. Мансарда опечатана. Соседи ничего не знают. Никого из близких не нашёл.
БОНДЕН. У тебя нет дома, арестант.
ПЬЕР. Я спрашиваю тебя, где моя Луиза?
БОНДЕН. Мне нет дела до твоей жены. Своих забот невпроворот.
ПЬЕР. Скажи, Жаннетта, что ты знаешь о Луизе Дегейтер?
ЖАНЕТТА. Ваша жена…
БОНДЕН. Ты замолчишь, негодная?! (Замахнулся на неё).
ПЬЕР. Ах ты… (Скрутил ему руки). Так-то будет лучше. Говори! Говори правду.
БОНДЕН. Луизу прогнал домовладелец за долги. Твоё добро…
ПЬЕР. Вижу, моя фисгармония.
БОНДЕН. Взял с аукциона, чтобы не попала в дурные руки.
ПЬЕР. Ясно… Куда девалась Луиза?
БОНДЕН. Говорят, бежала с матерью и всем своим выводком к кузену на ферму. Спасалась от долговой тюрьмы.
ПЬЕР. Почему же ты, Бонден, не расплатился за неё? Ведь всё моё имущество у тебя.
БОНДЕН. Куда мне… Сам едва свожу концы с концами.
ПЬЕР. Не хитри, Бонден…
БОНДЕН. Больше ничего не знаю.
ПЬЕР. Ступай к дьяволу! Какой от тебя толк, лживая душа… Обойдусь!
БОНДЕН (шмыгнул в дверь). Каторжник…
ЖАНЕТТА (торопливо). Хозяин приведёт полицию. Письмо вашей жены у меня. Её адрес в письме. Уходите скорее. Бегите! Я повожу вас через кухню.
ПЬЕР и ЖАНЕТТА уходят. Высвечивается лицо старого ПЬЕРА.
ДЕГЕЙТЕР. На что я рассчитывал, направляясь тогда в Париж, сказать трудно. Но город Коммуны по-прежнему волновал моё воображение, звал к себе…
Занавес
Сцена пятнадцатая
Дорога в Париж. Бредут усталые ЛУИЗА и ПЬЕР. В руках у ЛУИЗЫ узелки с нехитрым имуществом. У ПЬЕРА – сумка с инструментами.
ПЬЕР. Низкий поклон Жаннетте! Если бы не она, не её участие, мы бы не встретились. Да и твоими родными не могу нахвалиться. Всё говорили: «Да поживите у нас своей молодой семьёй ещё!» Отдохнул, набрался сил – ив дорогу. Нет, нет, не хочу быть нахлебником! А в то, что нам повезёт в Париже, верю. Который мы уже день в пути, но что ни говори, а мы уже почти у цели. Душа поёт, петь хочется! (Остановился, запел).
Захожу ли я в светлый зал или в карнавале я…Да с таким голосом только пугать детей. (Огляделся по сторонам). Кажется, знакомые места… (Повернулся к заборупозвал). Эй, хозяин!.. Тут есть кто-нибудь живой?
ФЕРМЕР (из-за калитки). Чего тебе, бродяга? Нищим не подаю.
ПЬЕР. Вот, пожалуйста. Ты слышишь, Луиза? «Бродяга…». «Нищий…». (Фермеру). Разве я у тебя прошу что-нибудь? Мне нужна работа. Ты меня не узнаёшь? Помнишь, я когда-то предлагал тебе украсить эту доску резьбой «Лев инимфа»?
ФЕРМЕР. Так тебя ещё не повесили, выходит?
ПЬЕР. Выходит.
ФЕРМЕР. Зря! Таких, как ты, надо обязательно вешать.
ПЬЕР. Это почему же?
ФЕРМЕР. А ты вор. Вот почему.
ПЬЕР. Что же я у тебя украл?
ФЕРМЕР. Ну, не украл, так украдёшь.
ПЬЕР. Вот, чёрт возьми, разговор. Почему я обязательно должен красть?
ФЕРМЕР. А потому, что у тебя ничего нет, а у меня есть всё. И не разговаривай со мной, а то спущу на тебя собак. Понял?
ПЬЕР. Я прошу работы!
ФЕРМЕР. Работы нет.
ПЬЕР. Я согласен за харчи. За харчи!
ФЕРМЕР. Проваливай, тебе сказано. (Уходит).
ПЬЕР. Я беру тебя в свидетели, Луиза. Этот человек меня оскорбил… Какой негодяй! (Опускаясь на землю возле Луизы). Если так пойдёт и дальше, то вряд ли наши ноги донесут нас до Парижа… А ведь я говорил тебе – мои руки не будут гулять без дела. (Спохватился). А мы не потеряли мой диплом?
ЛУИЗА. Успокойся, он здесь.
ПЬЕР. Ты любишь меня, Луиза?
ЛУИЗА. Да.
ПЬЕР. Тогда дай мне… поесть.
ЛУИЗА (даёт хлеб). Держи.
ПЬЕР. Почему ты дала мне большую часть?
ЛУИЗА. Ты мужчина.
ПЬЕР. Но вас же теперь двое. И может быть, он – тоже мужчина? Как ты думаешь?
ЛУИЗА. Ешь, пожалуйста.
ПЬЕР. Я люблю тебя…
Затемнение.
ДЕГЕЙТЕР. Случилось так, что именно в Париже нас ожидало событие, которое вновь связало меня с «Интернационалом». Мы долго бродили с женой по предместьям столицы в надежде найти какое-нибудь пристанище. И вот однажды на Монмартре, уже ни на что не рассчитывая, мы столкнулись нос к носу и известным вам уже Николя Мартеном…
Занавес
Сцена шестнадцатая
Аванзал кафе в Париже. Стойка с напитками. Над нею плакат: «У НАС ПОЮТ ЛУЧШИЕ ШАНСОНЬЕ». Звучит мелодия самой, пожалуй, популярной песни той поры «Салют, Семнадцатый полк!»
КАБАРЕТЬЕ (встречает посетителей у входа). Проходите, господа! Вы не из России?.. Да? Очень приятно. Сегодня у нас поёт сам Гастон Монтегю с. Сам Монтегю с!
Гости проходят в зал. Входят МАРТЕН, смущённые ПЬЕР и ЛУИЗА.
МАРТЕН. Усаживайтесь. Сейчас вы перекусите, немного передохнёте, и мы всё обсудим. Всё будет хорошо, друзья!
ПЬЕР. Это большое счастье, что мы встретили тебя в Париже, Николя! Не так-то просто найти в таком большом городе человека, которого ты знаешь, которому веришь.
КАБАРЕТЬЕ (двинулся навстречу новым гостям). Прошу… (Обхватившему его Мартену). В чём дело? (Взглянул на Луизу, сидящую у входа на узле). А вам что угодно?
МАРТЕН. Не узнал, друг?
КАБАРЕТЬЕ (всматриваясь в лицо Мартена). Честное слово, сам Николя Мартен! (Обнимает). Вот так встреча!.. Всё тот же, хотя и постарел.
МАРТЕН. Можно подумать, что ты помолодел? (Пьеру). Это мой сосед по последней баррикаде… У меня к тебе просьба, кабаретье, мои друзья попали в беду. Надо помочь им.
КАБАРЕТЬЕ. Всё, что в моих силах… Но для начала, я думаю, ты и твои друзья пройдёте к столику и отведаете доброго вина.
МАРТЕН. И поесть что-нибудь. Мои друзья – с дороги…
Раздаются аплодисменты. Через аванзал проходит человек в красной блузе.
КАБАРЕТЬЕ. Это – Монтегюс! Послушайте, как он будет петь. Получите большое удовольствие. Его очень любят парижане. Его часто приходят послушать и русские эмигранты. Пойду распоряжусь на кухне. У меня, знаете ли, совсем помощников нет: два повара и гарсон. Служанку хорошую всё ищу, да не попадается подходящая кандидатура: то бездельница, то мнит себя королевой… Скоро вернусь. Ждите.
ПЬЕР (Луизе). А что если рекомендовать ему нашу Жаннетту? Совсем пропадает девчонка!
ЛУИЗА. И верно! Напишем письмо для неё моей маме, а она ей тихонько передаст. Но сперва нужно получить согласие этого кабаретье.
МАРТЕН. Вот и появилась у нас с тобой, Пьер, пауза для очень важной новости. Приготовься! Смотри, что у меня в руках!.. (Достаёт из кармана какую-то бумагу). Это – тебе. Это последнее послание твоего покойного братца Адольфа. Я слышал, что он в оккупации спутался с немцами и погряз в каких-то финансовых махинациях, что очень на него похоже. В итоге он покончил с собой. Я думаю, что о таком негодяе нам с тобой скорбеть не пристало! На, читай, Пьер!.. В этом письме, как ни странно, – твоя судьба.
ПЬЕР (берёт в руки бумагувглядывается в строчки). Не могу… Не вижу. Глаза что-то слезятся…
ЛУИЗА. Тогда вы прочитайте, дядюшка Мартен!
МАРТЕН (читает нарочито холодным, бесстрастным голосом). «Дорогой брат находясь в безумном беспокойстве не зная о том что будет дальше я передаю твоему шурину Дюбару это письмо признание которое я сделал бы сам если бы приехал в Париж по твоему призыву. Вот я никогда не делал музыки и тем более Интернационала, если я подписал один лист, то он был подготовлен Делори который пришёл ко мне в мастерскую в которой ты знаешь я работал для города а Делори был мэром я не мог ему отказать из страха быть уволенным а так как ты говорил что подписал музыку Дегейтер я думал что это не сможет принести тебе вреда. Я не думал сделать тебе вреда подписывая эту бумагу и к тому же он мне ничего не сказал для чего это нужно Если я тебе пишу, то потому что не знаю что может случиться не сердись на меня за это если бы я мог тебе тебе это передать лично то был бы счастлив Адольф Дегейтер. Лилль 27 апреля 1915»[65].
(Помолчав). Удивительно и по содержанию, и по форме. Какая вопиющая безграмотность! И это – рука советника мэра одного из крупнейших городов Франции! Полнейшее ничтожество во всём! Как вы теперь знаете, Пьер и Луиза, это письмо не только покаянное, но и прощальное. Адольф явно был готов оставить белый свет, что он и сделал. Но и после смерти Адольфа подлая история с его лжеавторством продолжилась – Делори имел дерзость на его могиле воздвигнуть обелиск с золотой линейкой «Интернационала».
ПЬЕР. Вот проклятие! И меня после моей смерти будет преследовать этот Делори!
МАРТЕН. Нет! Их карты биты! Это покаянное письмо ты предъявишь в суд высшей инстанции, и крыть им там будет нечем! И наша песня обретёт свободу. Я в этом уверен… А вот и вернулся наш кабаретье!
МАРТЕН. Я хочу представить тебе моих друзей. Они из Лилля. Луиза и Пьер Дегейтеры. Он – лучший шансонье Севера! Я рассчитываю, что он может подработать у тебя в кафе.
КАБАРЕТЬЕ. Вот как? Превосходно! Мсье Пьер будет петь у меня. О гонораре сговоримся. Если он запросит за выход меньше миллиона, то я заранее согласен! (Смеётся).
МАРТЕН. У Пьера есть песни, которых ещё не знает Париж. На стихи Эжена Потье.
КАБАРЕТЬЕ. О, это прекрасно! Монмартр чтит память великого поэта Коммуны. (Кричит). Гарсон! Вина, закуски для моих гостей…
Появляется с аккордеоном МОНТЕГЮ С. Вспыхивают аплодисменты.
МОНТЕГЮ С. Добрый вечер, друзья! Я рад снова с вами встретиться и петь для вас. Что вы хотите послушать?
ГОЛОСА. «Салют, Семнадцатый полк!..» Пойте всё, что хотите, Гастон!..
МАРТЕН (Пьеру). Самая популярная песня Монтегюса. Она в том же духе, что и у Потье «Бастуйте, армии сыны!»
МОНТЕГЮ С (растянул меха аккордеона). У меня есть нечто новое для вас. Я спою вам превосходную песню, написанную на слова Эжена Потье каким-то рабочим певцом, кажется, из Лилля. Я не знаю имени этого человека, но уверен, что его песню завтра будет петь вся рабочая Франция… А может, и вся Земля.
ЛУИЗА. Пьер, ты слышишь?!
ПЬЕР. Да, да, слышу… Это – не моя песня. Это – моё счастье!
МАРТЕН (встаёт). Пойдём, Пьер! Смелее!
ПЬЕР. Куда?..
МАРТЕН. На подмостки. Ты сам споёшь свою песню! Нельзя упускать такой случай.
ПЬЕР. Ты с ума сошёл! Нет, нет! Не могу. Да мне и не спеть: погиб мой голос!
МАРТЕН. Кому же петь, как не тебе?
ПЬЕР. Постой… Ты всего не знаешь… Дегейтер-певец кончился… Его больше нет.
МОНТЕГЮС. В чем дело, друзья? Я сказал что-нибудь не то?
МАРТЕН. Друзья! Я хочу представить вам шансонье из Лилля Пьера Дегейтера.
Аплодисменты.
МОНТЕГЮС (протягивает аккордеон Пьеру). О! Тогда есть смысл послушать «Интернационал» в исполнении его автора!
ПЬЕР. Нет, нет, пойте вы…
МОНТЕГЮС. В чём дело, коллега?
ПЬЕР молчит.
ЛУИЗА. Я прошу простить нас. Голос Пьера Дегейтера остался в каменоломни, а руки его два года держали кирку и отвыкли от клавишей. (Относит аккордеон Монтегюсу). Пойте вы!
МОНТЕГЮС (после паузы). Хорошо! В таком случае я буду петь вашу песню, Пьер Дегейтер.
Звучит вступление к «Интернационалу». Монтегюс начинает петь. В данном случае по-французски. Свет на сцене постепенно угасает, утихает мелодия. Высвечивается сидящий в кресле на просцениуме старый ПЬЕР. Он долго молчит.
ДЕГЕЙТЕР. Я прошу простить мне невольную паузу в моём рассказе. Вы сами понимаете, как я взволнован!.. Воспоминания вообще труд тяжёлый, если они – не о забавных и весёлых событиях в жизни. А если они охватывают почти всю жизнь на её исходе?.. Впрочем, не надо вам объяснять. Вы сами всё понимаете… Может быть, вы что-то хотите спросить? Пожалуйста! Прошу без церемоний: ведь мы тут все рабочие, люди труда, тяжёлых судеб, ну, может, за исключением самых юных из вас, которых я тоже вижу в этом зале…
ЮНАЯ РАБОТНИЦА (скорее всего комсомолка, из первого ряда). Товарищ Дегейтер! Нам лектор говорил о том, что вас измучили суды, которые никак не хотели признать вас автором музыки нашего гимна…
ДЕГЕЙТЕР. Спешу вас, девушка, успокоить. Суд высшей инстанции постановил стереть ложную подпись на памятнике мнимому автору. Этой подписи уже нет, а я объявлен полноправным автором музыки.
ПОЖИЛОЙ РАБОЧИЙ (привстав с места). Я слышал и читал, товарищ Дегейтер, что вам восемьдесят лет. А как сложилась ваша личная жизнь? Вы одиноки? У вас есть дети?.. Внуки?..
ДЕГЕЙТЕР (опустив голову и помолчал). Был сын Жюль. Подавал надежды как музыкант. Погиб на войне от немецкой пули. А жена моя Мари-Луиза Дюбар покоится за оградой собора в пригороде Парижа Сен-Дени. Близ усыпальницы французских королей. Там припасено местечко и для меня[66]. Мы, французы, вне зависимости от социального положения и политических взглядов, одержимы мечтой о спокойной старости, желательно – на природе, и местом для вечного покоя, которое нам по тем или иным причинам может приглянуться…
РАБОЧИЙ СРЕДНИХ ЛЕТ (с удивлением). А вас не смущает такое соседство – со всякими там королями?..
ДЕГЕЙТЕР (с нотками озорства). Пусть потеснятся короли перед французским рабочим и народным певцом!
В ответ гремят аплодисменты, переходящие в овацию. Идёт занавес. На сцене оркестр и хор. Звучат первые ноты «Интернационала». Дегейтер встаёт. Встаёт и весь театральный зал.
Занавес
1928–1978
Н. Травушкин. «Пьеса увидела свет и непременно будет жить». (Из рецензии на спектакль Астраханского областного драматического театра имени С. М. Кирова)
«Увлечённость темой, сознание политической её важности позволили Н. Сотникову создать своеобразную драматическую поэму… Работа театра подтвердила сценичность пьесы, раскрыла заложенные в ней возможности создания живых картин исторического прошлого, воплощения в характерных образах боевого духа французских рабочих, подаривших миру прекрасную революционную песню. В то же время это пьеса-плакат: бытовые сцены в ней перемежаются обобщённо-символическими, несущими в себе пафос классовых битв… Театр наш сделал хорошее дело: новая и весьма нужная пьеса увидела свет и несомненно будет жить».
Н. Травушкин, кандидат филологических наук
Астраханская областная газета «Волга», 1974,22 января 1974 года
А. Кршишановский. Из рецензии на спектакль Астраханского драматического театра имени С. М. Кирова «Певец из Лилля»
«“Интернационал” – вдохновенное детище несгибаемого человеческого духа. Вот о чём рассказывает нам спектакль. И очень важно, что основные действующие лица раскрыты как характеры полнокровные, имеющие определённые социальные и национальные черты… Стремление к масштабности, к динамическому развороту событий не подминает в спектакле индивидуальные человеческие судьбы, о которых мы узнаём по ходу действия.
…“Певец из Лилля” тепло встречен астраханским зрителем».
«Литературная Россия», 15 марта 1974 года
Н. А. Сотников. Самая памятная встреча. Публицистическое повествование в очерках и документах
«Можно считать, что вопрос о Дегейтере нигде в литературе не затронут и совершенно не разработан».
(Из парижского письма А. Н. Рубакина от 13 января 1935 года в Ленинград Н. А. Сотникову)
«Меня часто спрашивают: “Что нужно тебе, чтобы родилась твоя песня?” И, знаете, как я на этот вопрос отвечаю?.. Ничего, ровно ничего, кроме волнения, подлинного волнения!»
Пьер Дегейтер – в беседе с Н. А. Сотниковым в 1928 году
«Что такое мелодия “Интернационала” в сравнении с тем же танком и самолётом? Простой напев, не более. Однако этот напев, впервые прозвучавший в конце прошлого века, вошёл в жизнь миллионов людей. Никакая сила не может заглушить его, приостановить его влияние на ход мировой истории. Он сильнее армады танков и самолётов».
Д. Д. Шостакович
Н.Н. Сотников. Встреча на всю жизнь
Предисловие
Мне кажется, что я знал о нём всегда – с самых ранних лет я слышал от отца рассказы о Пьере Дегейтере, искусном резчике по дереву, композиторе, дирижёре, певце, поэте, а главное – революционере, авторе гимна «Интернационал». Стихи и поэмы Эжена Потье, написавшего текст «Интернационала», я прочитал позже. Зато обо всём, что касалось Дегейтера, судил не по летам.
Дегейтер был кумиром отца, тема создания «Интернационала», можно сказать, прошла через всю его жизнь с тех пор, как летом 1928 года он, молодой издательский работник, журналист, начинающий писатель, взял у гостившего в Москве старого певца коротенькое интервью. А дальше – многие годы поисков, сбора материалов, больших и малых открытий, но вместе с тем – и огорчений, и разочарований. Материал шёл трудно, материал сугубо французский приходилось собирать на расстоянии, изучать Францию, её историю, её культуру, её политику заочно. А судьба Пьера Дегейтера (1848–1932) – это чуть ли не вся новая и новейшая история Франции, если не придерживаться дат формально, а глубоко изучать истоки, взаимосвязи, традиции. От Дегейтера далеко и причудливо идут пути-дороги, уходят, разбегаются и вновь возвращаются к нему.
И действительно, изучая Дегейтера, нельзя не изучать его соавтора по гимну – Эжена Потье (1816–1887). И Дегейтер, и Потье – шансонье, народные певцы. Значит, надо внимательнее присмотреться, прислушаться к французской песне: и к славному прошлому – Беранже, и к Монтегюсу, которого видели слышал в Париже В. И. Ленин, и к тем шансонье, что составили славу современной французской песни и поэзии.
Пьер Дегейтер, родом бельгиец, не просто рядовой рабочий-поденщик или заводской пролетарий, а высокого класса мастер, победитель на многих конкурсах не только за песню, но и за творения из дерева – просто изделиями или поделками их назвать нельзя, ибо это искусство! Отец любил сравнивать молодого Дегейтера с Кола Брюйоном Ромена Роллана. Об этом он сказали самому Ромену Роллану, который в 1935 году гостил в Ленинграде, а одним из его гидов был отец. Они говорили не только о красотах Ленинграда и пригородов, но и о Франции, по которой Роллан, как признавался не раз, скучал. Это был материал, что называется, из первых рук. Он дал ощущение той атмосферы, в которой должно было происходить действие. Действие чего? Вначале отец хотел написать публицистическую книжку, ориентированную прежде всего на молодого читателя. Думалось также о романе, о повести. Были написаны очерки, статьи ещё в довоенную пору, либретто оперы, наконец – киноповесть «Певец из Лилля». Сценарий заинтересовал режиссера Владимира Петрова, который только что завершил работу над своим лучшим фильмом – «Петр Первый». На главную роль Пьера Дегейтера был утверждён Владимир Честноков. Прошли все актёрские пробы. Выборг и Вильнюс были избраны местами основных съёмок. В. Петров предполагал сдать фильм к 7 ноября 1941 года. Дата уже говорит сама за себя, ибо всё это – уже после 22 июня 1941 года!
А дальше множество вопросов и до сих пор непрояснённых подробностей. Отец не раз с горечью говорил мне, что в огне блокадных пожарищ сгорел негатив фильма, почти готового. У меня лично была счастливая возможность кое-что уточнить, прояснить. У Владимира Ивановича Честнокова я однажды был в гостях со своим товарищем, абитуриентом Театрального института, но разговор вышел очень коротким, время близилось к полуночи, хозяин дома только что вернулся после спектакля. Очень хотелось мне завести о фильме разговор, да постеснялся. Честноков дал товарищу кое-какие напутствия, пожелал, как водится, ни пуха ни пера, и мы откланялись. Да, точно, эта встреча состоялась в конце мая 1963 года.
Виделся с Владимиром Михайловичем Петровым в московском Доме кино и отец, они узнали друг друга, обменялись несколькими фразами, но о фильме не было даже упоминания. Я сетовал, а отец настойчиво объяснял мне, что даже упоминать об этом не следовало – ведь для режиссёра гибель фильма ещё большая трагедия, чем для сценариста: у того хоть текст остаётся, материалы, замысел весь в голове от истоков до разработки. В конце концов, можно даже в чём-то повторить процесс! А в кинорежиссуре – всё раз и навсегда!
И впрямь – остались тексты, многие подготовительные записи, документы, в том числе и подлинники! Сбереглись всем смертям назло на антресолях в коммунальной квартире на Мойке. Отец не раз к ним возвращался, продолжая разрабатывать заветную тему. Сперва был очерк «Слово о песенном чуде» в апрельском номере журнала «Детская литература», посвящённом 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, потом в том же журнале – статья «Певцы Парижском Коммуны» в третьем номере 1971 года и наконец, – очерк «Мечта о России» в четвёртом номере журнала «Волга» 1971 года.
В конце 60-х годов отец вернулся и к художественному воплощению образа Пьера Дегейтера. У пьесы «Певец из Лилля», жанр которой автор определил как драматическая поэма, было несколько редакций. В итоге последней из них заинтересовался театральный режиссёр А. Образцов. Он настоял на том, чтобы в спектакле было побольше движения, музыки, видимого действия. В результате психологическая и одновременно политическая драма стала приобретать черты мюзикла. В таком виде она и увидела свет рампы: в 1973 году 21 декабря в Астраханском драматическом театре имени С. М. Кирова, а в 1975 году – в Костромском драматическом театре имени А. Н. Островского. Предполагался вариант телеспектакля на Центральном телевидении, но А. Образцов тяжело заболел и скончался…
Отец мне всегда говорил, что для него нет большего счастья, чем выйти на премьере театрального спектакля к занавесу на вызов зрителей: «Автора!» Я с ним спорил, ибо при всём расположении к театру оставался убеждённым приверженцем киноискусства. Я, конечно, радовался успеху обоих спектаклей, доброжелательным отзывам критиков и журналистов, но в душе всё равно сожалел, что зрелищность заслонила думы – думы о счастье, о борьбе, о творчестве. В довоенном киносценарии и в ранних редакциях пьесы эти мотивы звучали сильнее, увлекали меня несравнимо больше! Конечно, хороши были и по-своему убедительны в роли Дегейтера в Астрахани – Н. Четвергов, а в Костроме – Е. Безмолитвенный, но не могу избавиться от восклицания: «Вот бы Владимир
Честноков как сыграл!» Но ни в истории театра, ни в истории кино, ни вообще в истории нет сослагательного наклонения в реальном действии.
Тему Дегейтера, тему рождения «Интернационала» отец завещал мне. И я к ней только-только приступаю. Мне не хватает той всеобъемлющей эрудиции, того знания Франции, её культуры, её истории, которая была у отца. Несколько лет то начиная, то приостанавливая работу, я разбирал самую значительную и самую сложную часть отцовского архива – красные папки с пометками: «ИНТЕРНАЦИОНАЛ»! Теперь передо мною восстановленные по многочисленным черновикам мемуарный очерк отца «Самая памятная встреча», цикл его лекций, прочитанный для кинематографистов об истории создания «Интернационала» и вообще о Франции, многочисленные документы, газетные вырезки, письма. Я убеждён, что работа эта только начинается, что она сулит ещё немало прозрений, ибо тема «Интернационала» вечная и неиссякаемая, как борьба за правду и справедливость.
И вновь у меня перед глазами встают два коротких эпизода. Я ещё дошкольник, но уже понимаю и чувствую – тяжёлая у отца пора: собирался в длительную творческую поездку да сломал, оступившись в метель, руку. Значит, не будет поездки, пропадёт увлекательный творческий заказ, не будет и денег. Штатной работы у него нет, договоров тоже. Я стараюсь его как-то отвлечь, развеять и прошу: «Почитай мне о Пьере!» Отец улыбается, достаёт из дальнего ящика довоенный сценарий, отпечатанный на папиросной бумаге, и произносит первые слова… И вот передо мной юный Кола Брюйон новых дней шагает по дорогам Франции. И куда он ни приходит – на шахты Деказвилля, в каменоломни Арраса или в доки Шербура – всюду его встречает его же песня, опередившая на путях-дорогах своего создателя. Она буквально несётся по стране, как окрылённая музыкой мысль!..
И второй эпизод. Болезнь неизлечима и идёт на последний приступ, но отец, собрав последние силы, рассказывает мне неизвестные ранее эпизоды своей жизни, а ведь он – ровесник века, и очень легко каждый раз определить, сколько же ему было лет. «Двадцать второе июня ошеломило меня, и ты знаешь, кто мне помог обрести уверенность и спокойствие? Пьер! Я вспомнил, что завтра 23 июня – день, когда в 1888 году впервые исполнил он на городском празднике в родном своём Лилле свой песенный шедевр! Завтра будет двадцать третье, а потом – и Девятое мая, правда, спустя четыре года…».
Глава первая Беседа в нескучном саду
В жизни моей было немало замечательных людей и памятных встреч. Завершая цикл мемуарных очерков, так мною и названный «ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ», я решил рассказать о человеке, с которым беседовал буквально полчаса, но который остался со мной навсегда.
1928 год сыграл в моей судьбе особую, переломную роль. Завершался слишком затянувшийся период литературной учёбы: в 1921 году демобилизовали меня из рядов Красной Армии с условием, что я пойду учиться в Киевский институт народного хозяйства, ибо только туда была разнарядка. Пришлось согласиться, хотя ни экономика, ни железнодорожное дело меня не привлекали. Зато мой отец, токарь полтавского депо, был несказанно рад – всю жизнь мечтал, чтобы я связал свою судьбу с железной дорогой! База у меня к тому времени была неплохая – реальное училище в Полтаве, желание учиться огромное. Профессорско-преподавательский состав, широта программ, возможность посещать лекции и семинары на других факультетах – всё это было бы прекрасно, если бы я и впрямь тянулся к инженерии. Но я с ранних лет мечтал о литературе, о театре, а потом – и о кино. Все эти мои интересы тот институт удовлетворить, конечно, не мог. Правда, он систематизировал мои знания, заставил кое-что повторить на новой основе из школьного курса, дал мне сведения, которые впоследствии мне пригодились в работе очеркиста и кинодраматурга. Но главное, пожалуй, в том, что он приучил меня самостоятельно учиться – всё-таки, что ни говори, уроки в реальном училище постоянно контролировались, и мы шли не от темы к теме, а от задания к заданию. Проучился я в Киеве два с половиной года и однажды, круто повернув свою судьбу, уехал в Москву, где был тогда центр литературной жизни. Украинским языком я владел настолько, что не испытывал почти никаких затруднений ни в общении, ни в учебном процессе. Дома у нас говорили по-русски. Мать, Васса Григорьевна, знала лишь отдельные слова украинские, читать не могла. Отец, Афанасий, языком украинским владел свободно, вёл революционную агитацию среди рабочих украинцев в 1905 году. Я часто бывал у его родичей, которые жили в знаменитой воспетой Гоголем Диканьке, и каждое лето находился в среде носителей прекрасного украинского языка, классического можно сказать: ведь именно полтавский говор лёг в основу украинской литературной речи! Всё это так, но думал и писал я по-русски. А тем более – художественные произведения. Это всё я говорю к тому, что в украинскую литературную жизнь я на равных войти бы не смог, украинским писателем не стал бы.
И вот – Москва начала 20-х годов! Очень непростое время и очень колоритное. В Москве всё происходило живее, нагляднее, ярче, чем в Киеве и Ленинграде, как я потом понял, всё сравнив и сопоставив. В Москве мне посчастливилось войти в театральную среду, а потом и в кинематографическую. Вольнослушателем поучился я немного во ВГИКе (сперва ещё – техникуме!), попробовав свои силы на сценарном и организаторском поприще – мы вместе с Ч. Сабинским и А. Роомом организовали в Москве небольшую кооперативную студию, где в основном ставились комедийные и агитационные короткометражки. Наиболее удачной была лента с названием «Гонка за самогонкой».
Однако надо было думать и о хлебе насущном, о постоянной штатной работе. Такая работа мне виделась где-то в сфере редакционно-издательской. Издательская деятельность расширялась, требовались редакционные сотрудники. Так я стал редактором Московского отделения Украинского кооперативного издательства «Пролетарий»[67], работавшего под руководством Агитпропа Украинского ЦК партии. Одновременно я сотрудничал с издательством «Прибой»[68] – не как автор, а как редакционный работник. В ту пору это было вполне возможно, да и материально я нуждался: надо было и родителям помочь, и сестре младшей, да и жиля в Москве, снимая углы, – своего не имел.
Профессиональных знаний, конечно, недоставало, и я старался учиться издательскому делу и основам полиграфии в Московском редакционно-издательском институте. И вот в 1927 году меня переводят в Ленинград в связи с открытием отделения издательства «Пролетарий». Решается и вопрос с жильём. Теперь я ленинградец, но по делам служебным и творческим часто бываю в столице.
Постепенно вхожу в литературную и театральную среду на невских берегах. Узнаю о возможном меня зачислении на Высшие курсы при Ленинградском институте истории искусств!
Это было воистину первоклассное учебное и одновременно научно-исследовательское учреждение той поры. Всё меня радовало в этом необычном вузе: самостоятельность, ранняя специализация, высокий демократизм атмосферы в сочетании с подлинной интеллигентностью и доброжелательностью, внимание педагогов (именно – педагогов, а не просто преподавателей!) к личным творческим устремлениям студентов. Фактически это даже не вуз и не курсы, а скорее всего – аспирантура или, если на медицинский лад, – ординатура, ибо занятие чистой теорией не декларировалось, зато всячески поощрялось личное художественное творчество. Кажется, я наконец-то нашёл то, что искал! И штатной работе, и литературному творчеству такое обучение не мешало, а напротив – всячески содействовало. К моему величайшему сожалению, проучился я там всего лишь два года – в 1929 году институт реорганизовывался, и слушатели курсов почти автоматически становились обычными студентами университета со всеми вытекающими из этого административно-правовыми последствиями. И всё же почерпнуть мне удалось немало – ив области теории и истории литературы, и в сфере искусствоведения, особенно я увлёкся историей архитектуры Ленинграда и его пригородов. И прежде из зарубежных литератур я отдавал предпочтение литературе французской, а в стенах Института истории искусств этот интерес возрос и был во многом удовлетворён. Это обстоятельство, как вы увидите, сыграло в моей творческой судьбе важнейшую роль.
И наконец то, о чем прежде говорить открытым текстом было бы невозможно, – о внутреннем ощущении политической ситуации. Надо сказать, что я и в Киеве, и в Москве, и в Ленинграде не терял связи со своими однополчанами из бригады Котовского, в которой мне посчастливилось служить. По ним я сверял время. Ведь мы в пекле самых горячих боёв жили ожиданием будущего, мечтаниями о нём! И многие из нас НЭПа не приняли органически. Я был среди тех, кто в знак протеста против засилия нэпманов вышел из рядов партии, в которую вступил, будучи рядовым бойцом взвода охраны штаба Котовского. Это был очень тяжёлый и мучительный процесс! Вернулся я в ряды партии в декабре 1942 года в блокаду под Пулковскими высотами в километре от фашистских батарей. И тогда, когда наш ансамбль 42-й армии исполнял «Интернационал», я думал о человеке, который мне встретился в Москве в 1928 году.
В Москву я приехал тогда по служебным делам, ненадолго. Многого сделать не успел – вся Москва была охвачена событиями, связанными с проведением VI Конгресса Коминтерна. Знакомые московские вездесущие репортеры сообщили мне в ряду других новостей, что на трибунах Мавзолея во время торжеств будут французские коммунары Пьер Фуркад и Густав Инар, что приехал французский композитор, автор мелодии «Интернационала» Пьер Дегейтер, что старик плохо слышит, быстро утомляется, но можно попробовать у него взять интервью.
Изо всех газет мне тогда была ближе всех «Вечерняя Красная газета». Впоследствии я буду работать в секторе городского хозяйства, рабочего снабжения и быта сперва литсотрудником, а затем заместителем заведующего, зачастую выполняя обязанности и заведующего. Что ж, сделаю репортаж для товарищей из своей газеты. Передам оперативно по телефону, а приехав в Ленинград, постараюсь дать материал пошире. Только вот в каком жанре, надо подумать. Во всех мероприятиях, связанных с проведением VI конгресса Коминтерна и последовавшего за ним V конгресса КИМа[69], я, конечно, принять участия не мог. И аккредитован не был, и свои издательские дела львиную долю времени отнимали. Но с Пьером Дегейтером я тогда всё же сумел повидаться и немного побеседовать. Дату правда, вспомнить никак не могу! Знаю, что был разгар июля, но жары не было, помнится даже прохлада. Во всяком случае, гости и французские коммунары, Фуркад и Инар, жившие в Доме ветеранов революции у нас в стране, были одеты в шляпы и в плащи.
Поспел я к Нескучному саду, когда торжество было уже в разгаре. Они стояли у трибун – все трое, вместе, но Дегейтер – чуть в стороне. Я потом подумал, что ему было неловко стоять с ними плечо к плечу – на баррикадах Коммуны он не сражался, коммунаром в собственном смысле слова не был, шёл тогда, в 1871 году, к Парижу, но не дошёл. И вообще вся его биография, всё его творчество не типичны, всё у него наособинку! И вы в этом, читая мои очерки и пьесу, убедитесь.
Я с трудом протиснулся к Пьеру Дегейтеру, держа в руках свой довольно потрёпанный блокнот и карандаш. Представился корреспондентом ленинградской «Вечерней Красной газеты», но слово «вечерняя» не употребил, чтобы не вызывать лишних вопросов. И вот я, двадцативосьмилетний журналист, издатель, начинающий прозаик, недавно опубликовавший свой первый рассказ, и заядлый театрал, делающий свои первый театральные обзоры для ленинградских газет и журналов, стою перед восьмидесятилетним маэстро!.. И, разумеется, волнуюсь. Его песню-гимн мы пели в конном строю у Котовского. С нею мы освобождали города и села. Под её звуки мы хоронили боевых друзей… Так вот, кто её создал!
Нет, не похож он на холёного маэстро, но не похож и на бодрого участника художественной самодеятельности, как мне представлял его заочно один московский репортёр. Обо всём ещё много-много мне предстоит узнать. А пока я вижу мягкого, очень приветливого старика, не просто приветливого, а я бы сказал даже – любезного, но не холодной, расчётливой любезностью, а сочетающего в себе деликатность и товарищескую сердечность. И всё же разговорить его трудно. Всё, что он говорит, в большей степени – лозунг, декларация, заявление для прессы. Вероятно, он думает, что именно этого от него ждут газетчики, но мне хочется узнать чуть больше. Пытаюсь продолжить беседу, и тут сад взрывается новыми и новыми рукоплесканиями, а потом звучит «Интернационал». Дегейтер медленно и немного виновато кивает мне головой, разводит руками – вот, дескать, не дают поговорить, и улыбается мне на прощание.
Эта добрая, грустная и чуть-чуть сокрушённая улыбка – со мною все эти годы. Когда я её вспоминал, мне становилось всегда светлее. Он был очень светлым человеком, иначе бы он не смог зажечь своей песней столько миллионов сердец на всей Земле!
А я тогда передал короткую информацию по телефону. Принял её какой-то неизвестный мне молодой сотрудник довольно равнодушно, как будто бы это была очередная какая-то информация о делах повседневных, текущих. Информация была маленькой, да к тому же её ещё и сократили. В результате тогда опубликованными оказались две заметки с интервалом в несколько дней. Большой репортаж, как говорят, не прошёл, а новые дела и заботы захлестнули… Шли дни, месяцы, годы, но время от времени передо мною возникало лицо Дегейтера, изрытое петельками морщин, его голубоватые, словно выцветшие глаза, его вьющиеся по ветру длинные седые волосы, его руки – руки дирижера и рабочего – виртуоза – резчика по дереву!
И я решил для себя – буду собирать материал о нём, буду писать. Окончательно я сделал свой выбор главной темы своего творчества, узнав о кончине Дегейтера в Париже в возрасте 84 лет. В Москве он так и не остался – ссылался на климат, на слабое здоровье, на желание быть похороненным на родине рядом с супругой, которую он горячо любил.
Каким чудом сохранились мои рабочие блокноты, записи техлет, не представляю себе! Через войну, через блокаду, через многочисленные переезды и превратности судьбы прошли и сейчас лежат передо мной. Они – тоже документ.
С кем только Дегейтер не встречался в те летние дни 1928 года в Москве! Он посетил Институт Ленина, был гостем ветеранов трёх революций, красноармейцев, школьников, музыкантов и работников музыкального сектора Госиздата[70], рабочих Мытищинского вагоностроительного завода… Вот подлинный текст приглашения тружеников подмосковного завода:
«Многоуважаемый товарищ! Завком нашего завода, коммунистическая ячейка и клуб имени Карла Маркса нашего вагоностроительного завода в Мытищах организуют 18 августа 1928 года музыкально-вокальный праздник в Вашу честь как первого пролетарского композитора, автора “Интернационала”, который так много говорит сердцу каждого пролетария. С “Интернационалом” мы создали первое свободное государство. Рабочие Мытищ имеют честь пригласить Вас на музыкальный праздник, чтобы выразить Вам свою глубокую признательность».
С коммунистическим приветом
Председатель заводского комитета
Данилин
Секретарь комитета ВКП/б/
Умерген
Председатель клуба
/Подпись неразборчива/
Пьер Дегейтер приглашение принял и впоследствии неизменно подчёркивал, что среди многочисленных встреч эта была особенно волнующей. Вероятно, Дегейтер в рабочей среде да ещё в атмосфере рабочего музыкального праздника чувствовал себя особенно легко и естественно. К тому же здесь от него не ждали общих политических фраз, а просто и сердечно интересовались его судьбой, его жизнью, историей создания его главной песни – «Интернационала». На всякого рода подробности о личной жизни Дегейтер был очень скуп и, кажется, лишь на встрече с мытищинскими вагоностроителями дал волю своим чувствам и воспоминаниям.
Думаю также, что ему, человеку очень скромному и естественному в своих раздумьях и переживаниях, претили заорганизованность, всякого рода ложный пафос. А всего этого хватало в те московские дни с избытком!
Вот текст ещё одного приглашения. На сей раз Дегейтера приглашают на встречу сотрудники внешнеторгового банка:
«Автору великого пролетарского гимна
Дорогому товарищу Пьеру Дегейтеру
Под звуки Вашего гимна русский пролетариат одержал первую победу над буржуазией. Ваш гимн вдохновлял нас в минуты побед и поражений и призывал нас к бою. Много ещё препятствий и боёв ожидает пролетариат на его пути. Пролетариат должен победить. Это его историческая судьба. Ваш гимн наполняет дух класса волей к окончательной победе над мировым капитализмом!
Члены Комитета ВЛКСМ
Коммерческого банка для внешней торговли СССР».
Разумеется, высокая оценка его песенного творения, сам факт включения его имени в эпицентр главных событий современности не могли не радовать Дегейтера, но всё же он чувствовал, что звон фанфар заглушает перед ним текущую во всём многообразии жизнь. А жизнь эта отнюдь не состояла лишь из праздников, шествий и демонстраций. Буквально в двух шагах от Красной площади теснились лавчонки Охотного ряда, задворки да и парадные фасады матушки Москвы отнюдь не блистали чистотой, и шли москвичи на праздничную площадь мимо рыночной церквушки с книжными развалами у паперти, куда ещё доносились звуки унылых церковных песнопений.
Жил Дегейтер в Москве не в гостинице, а Доме ветеранов революции. В сентябре 1928 года он писал друзьям, жившим в Сен-Дени, парижском пригороде, ныне окончательно слившимся с французской столицей:
«Я видел здесь то, с чем вы никогда не встречались в жизни. Я привезу вам фотографии здания, в котором живу. В этом прекрасном дворце когда-то скучали от безделья господа. Ныне он передан ветеранам рабочего движения и престарелым художникам. У меня здесь большая комната, рабочий кабинет и ванная. Я обеспечен всем необходимым… Могу повсюду ездить. В моём распоряжении автомобиль… Исполняю написанные здесь музыкальные вещи. Недавно сводный оркестр Красной Армии исполнял “Интернационал, и я дирижировал…».
Сейчас, тем более спустя столько лет, мне трудно себе представить, как жили в Доме ветеранов революции коммунары Сажин, Фуркад, Инар и Гё, но уверен, что у них, конечно, никакого персонального автомобиля не было. Чем я больше впоследствии изучал и узнавал Дегейтера и его творчество, тем яснее понимал, что он в те московские дни, с одной стороны, с благодарностью принимал повышенные знаки внимания, а с другой, – тяготился ими, всё более скучая о своей маленькой квартирке в Сен-Дени, о своей внучатой племяннице Люсьене, которая ему была дорога как родная внучка, о своём скромном, но традиционно желанном меню, о своём размеренном режиме дня, которому он полный хозяин, о Франции, которую он любил всем своим существом. Мы ещё будем об этом говорить дальше, но это именно так – автор гимна «Интернационал» был французом до мозга костей в большом и малом.
Здесь я прерву свой рассказ о пребывании Дегейтера в Москве. Скажу лишь, что он осенью всё-таки уехал, уехал навсегда. В Париж он привёз вырезки из газет, номера журналов. Друзья-коммунары впоследствии переслали ему по почте новые публикации, посвящённые ему и его приезду в СССР. С некоторыми из этих материалов я познакомился, как говорится, по горячим следам. В основном это разного рода газетные отчёты, материалы сугубо информационно-пропагандистские. На их фоне выделяются публикации текстов самого Дегейтера – в газете «Вечерняя Москва» 7 июля 1928 года и в журнале «Музыка и революция» № 7–8 за 1928 год. Но это лишь самое начало большой работы.
Однако приступить сразу мне к поискам не удалось: на повестку дня вышли другие темы, другие сюжеты, – преимущественно индустриальные. В последующие годы я работал почти исключительно в жанре очерка. Состоял в секциях очеркистов ЛААПа, писал о Хибинах, о Нивастрое, о лесе, о сланцах, о железной руде и металлургии. Я стал работать в секторе городского хозяйства, рабочего снабжения и быта «Вечерней Красной газеты», готовил книгу очерков о благоустройстве Ленинграда «Город образцовый», которая увидела свет в 1934 году. По-прежнему занимался театральной критикой, был литконсультантом и заведующим литературной частью Ленинградского Дома печати. В 1936 году дебютировал как театральный драматург сатирическим обозрением нравов западной журналистики «Алло, Запад!», а в 1938 году – как кинодраматург киноочерком о народных музыкантах «Гдовская старина», и всё же тема «Интернационала» и судьба Пьера Дегейтера меня не отпускали!
Глава вторая Иду по горячим следам
И вот я узнаю, что Пьер Дегейтер скончался в возрасте 84 лет 30 сентября 1932 года. Скорбь, горечь от утраты и в то же время чисто писательская тревога: это известие подхлестнуло меня как можно скорее по горячим следам в максимально возможной мере собрать материал. Надежды оформить командировку в Парижу меня нет. Значит, остаются прежде всего письма и почти исключительно именно письма. Первое моё письмо было в Коминтерн на имя Андре Марти[71].
«АНДРЕ МАРТИ, Москва, Коминтерн
Дорогой товарищ!
Несколько времени тому назад я обращался к Вам с просьбой помочь мне собрать материал о жизни Пьера Дегейтера – автора музыки “Интернационала”.
Вы были так добры, что ответили на моё письмо и переслали мою просьбу в Париж – директору “Юманите” товарищу Марселю Кашену [72].
Вчера я получил наконец ответ из Парижа. Написал мне не Марсель Кашей, а очень любезно ответил Ж. Дорио, который обещал оказать содействие в моей работе.
Сейчас я обращаюсь к Вам не только с благодарностью, но и с новой просьбой. Наши парижские друзья не могут рассказать об одном периоде жизни героя моего романа, а именно о его пребывании в Москве в 1928 году. Не могли ли бы Вы вспомнить этот эпизод или назвать очевидцев этого события, которые рассказали бы мне, при каких обстоятельствах проходила его жизнь в Москве, что он видел, как себя чувствовал, видя, как его песня стала боевым революционным гимном многомиллионного пролетариата.
Может быть, сохранились какие-нибудь документы, относящиеся к этой эпохе? Я бы просил предоставить их мне. Если подобные материалы не сохранились в Коминтерне, то не думаете ли Вы, что они могут быть в Институте Маркса и Энгельса?
На все эти вопросы мне крайне необходим Ваш ответ, за который заранее приношу искреннюю благодарность.
Писать мне прошу по адресу: Ленинград\ Мойка, 82, кв. 40. Н. А. Сотникову».
То письмо, что вы только что прочитали, – не первое (это видно и по тексту). Первое, к сожалению, не сохранилось в копии. Зато сохранились другие письма французским товарищам.
«Город Лилль, улица Мира, 258, “ЛАНШЕНЕ”,
Марселю Дешамп
Дорогой товарищ! Работая над книгой о жизни Пьера Дегейтера, автора музыки 'Интернационала', я просил Андре Марти помочь мне собрать материалы. Товарищ Андре Марти посоветовал мне обратиться к Вам с этой просьбой – дать некоторые советы, где можно получить материалы, относящиеся к лилльскому периоду жизни Дегейтера.
Не могли ли бы Вы вспомнить, что писала Ваша газета или другие органы печати о Пьере Дегейтере, и прислать мне, если это возможно, выдержки или выписки из этих газет? Нет ли в поле Вашего зрения людей, помнящих этого человека и способных в краткой форме изложить свои воспоминания о нём? Не издавались ли в Лилле брошюры о Пьере Дегейтере? Может быть, где-нибудь можно достать рукописный или напечатанный сборник его песен? Наконец, может быть, есть какие-нибудь книги, рассказывающие о быте лилльских мебельщиков в прошлом столетии, о рабочих хоралах той поры? Мне важны каждый небольшой эпизод, каждая деталь, которые способны помочь в моей работе! Я был бы чрезвычайно Вам благодарен, если бы Вы ответили на моё письмо и снабдили меня всеми возможными материалами.
Уважающий Вас
Н.А. Сотников.
Ответить прошу мне по адресу: Ленинград, Мойка, 82, кв. 40. Н. А. Сотникову».
И наконец, последнее из тех писем, что каким-то образом сбереглись. Русского оригинала нет, имеется только перевод моего письма в редакцию газеты «Юманите» на имя Марселя Кашена:
«Дорогой товарищ Кашен!
Товарищ Андре Марти переслал в своё время Вам моё письмо, в котором я интересовался материалами о жизни и творчестве Пьера Дегейтера, автора музыки “Интернационала.
Документы мне эти крайне нужны, так как я сейчас пишу книгу о жизни этого замечательного человека.
Товарищ Дорио, получив моё письмо в Сен-Дени, мне сразу же любезно ответил.
Однако столь же мне необходима и Ваша помощь.
Я бы очень просил Вас и товарищей в “Юма” поискать те номера, в которых были статьи о Пьере Дегейтере. Вы мне окажите большую услугу, если пришлёте эти публикации или же их копии, сделанные на машинке или переписанные от руки.
Может быть, Вы сможете мне назвать брошюры, в которых другие авторы так или иначе отразили интересующую меня тему?
Ваши личные воспоминания также очень хотелось бы иметь. Они мне были бы чрезвычайно полезны для литературной работы.
Я заранее благодарю Вас, товарищ Кашен, за Вашу любезность и прошу принять мои коммунистические приветствия.
Н.А. Сотников.
Мой адрес: Ленинград\ Мойка 82, кв. 40. Сотникову Н. А.».
Ответ пришёл сравнительно быстро. Его смысл сводился к тому, что в «Юма» (так журналисты и читатели любовно называют свою «Юманите») не было, к сожалению, значительных публикаций, связанных с жизнью и творчеством Пьера Дегейтера, в самой редакции среди сотрудников из числа ныне работающих его лично никто не знал. А видеть и знать – это не одно и то же.
Против такого аргумента возразить нечего! Я тоже многих видел, слышал, но писать о них бы не взялся: слишком мал материал! Ну, скажем, вскоре после демобилизации из рядов Красной Армии мне довелось побывать в Москве и в знаменитом кафе «Стойло Пегаса», где сейчас залы ресторана «Центральный», я видел Есенина, а потом уже, в самом конце литературного вечера, случайно повстречал его на улице. Холодало, поднялась метель. Он шёл, подставляя лицо ветру, и был он совсем-совсем другим, нежели среди своих «товарищей» по кафе – печальным, одухотворенным и в то же время – отрешённым ото всего происходящего.
Вот и всё, что я могу сказать. Остальное заняло бы описание обстановки в Москве той поры, атмосферы в «Стойле Пегаса» и т. д. Шум в кафе тогда стоял страшный, Есенин что-то читал, жестикулировал, но я бы не взялся даже предположить, какие именно стихи звучали из его уст – слишком далеко от него я сидел. А вот морковное кофе и эклер с сахарином запомнились отчётливо – голоден был смертельно! Больше ничего; кажется; в «Стойле Пегаса» тогда и не подавали…
Когда я приступил к работе над книгой мемуарных очерков «Памятные встречи», то решил круг кандидатов для воспоминаний сузить предельно. Писать буду только о тех, кто запал в душу, вошёл в сердце, сыграл роль в моей творческой жизни, оказал на меня по-настоящему сильное, решающее влияние – своими деяниями, своим обликом, своими трудами, своим творчеством. Вот Пьер Дегейтер! Видел его один раз, беседовал недолго; но всю жизнь изучал его судьбу, путь в революцию, путь в творчество. С остальными героями своих воспоминаний я встречался подолгу, не раз, многих знал на протяжении ряда лет, как, например, моего театрального кумира – актёра Иллариона Певцова.
Да, не сказал ещё об этом – отвечал мне не Кашей, а по его поручению один из сотрудников газеты (к сожалению, не помню его фамилии, а текст не сохранился). Однако товарищи из «Юманите» оказали мне неоценимую услугу тем, что связали меня напрямую с коммунистической газетой пригорода Парижа Сен-Дени «Эмансипасьон», объяснив это тем, что уж там-то точно знали лично Пьера Дегейтера.
Трудно передать мою радость, когда я получил из редакции «Эмансипасьон» подлинник – номер газеты от 1 октября 1932 года, почти наполовину посвящённый памяти Пьера Дегейтера. Этот номер, бережно укрытый в целлофановую плёнку, и сейчас лежит в моём рабочем столе. Переводить весь номер газеты, даже его половину, сугубо мемориальную, было делом не простым – газета даже на следующий год после своего выхода в свет выглядит пожелтевшей, потёртой, а тут столько лет прошло! Но ради этого очерка я предпринял попытку заново перевести некоторые материалы, в своё время оказавшие мне неоценимую услугу.
Что можно сказать о мемориальном номере в целом? Это газета большого формата, на четырёх полосах, первая из них вся обрамлена чёрной траурной рамкой. Слева от заголовка – эмблема «Серп и молот», над названием газеты – солнце, встающее над рабочими кварталами.
Очень меня взволновали отличного качества неизвестные мне ранее фотографии Дегейтера. В овале – фото Дегейтера 40 лет, то есть возраста, когда им был создан «Интернационал». На первой полосе справа двухколонное фото – Дегейтер в Москве с делегатами VI Конгресса Коминтерна англичанином Франком и американцем Уиршем. На второй полосе – Пьер Дегейтер в преклонном возрасте в своём рабочем кабинете в Сен-Дени. И наконец – кладбище, могила певца: длинная плита, на ней – раскрытая книга с нотными записями «Интернационала», а на противоположном конце плиты – куб с серпом и молотом, а на кубе – траурная ваза.
Дальше – на третьей и четвёртой полосах множество мелких заметок, информаций и объявлений, очень много объявлений!.. Вероятно, рабочей газете кантона Сен-Дени было очень трудно сводить концы с концами, выдерживать финансовое состязание с буржуазной прессой!
Считаю своим долгом передовую процитировать полностью:
«Пьера Дегейтера больше нет в живых. Пьер Дегейтер уходит от нас, окружённый любовью и почитанием пролетариев всего мира. Пролетарии города Сен-Дени, усыновившие его и справедливо гордые им, особенно скорбят о его кончине.
Воистину прекрасна была судьба лилльского мелкого резчика[73] по дереву!
Пьер Дегейтер умел перекладывать в музыкальные фразы чувства класса, которые с такой глубиной отражались в поэзии Потье. Простые трогательные мелодии шли прямым путём в сердца сотен миллионов людей всех стран, всех широт, всех климатических зон. К звукам этой увлекающей мелодии устремлялись пролетарии всех стран. Это боевая песня победившего пролетариата в СССР. Это боевой клич пролетариата в капиталистических странах. Это гимн надежды и возмущения китайского кули и африканского негра. Во всём мире музыка Дегейтера собирает эксплуатируемых для освободительной борьбы.
С чувством глубокого волнения перелистываю рукописи “Интернационала”, которые мне любезно передали родные Дегейтера. Пьер Дегейтер работал в течение долгих лет, чтобы усовершенствовать свои первые музыкальные звуки, какие он извлёк на маленькой лилльской фисгармонии. До последних лет своей жизни он обрабатывал свою песню, приспособив её для оркестров и голоса. Он отдал свою жизнь песне надежды и борьбы пролетариев.
У него хотели отнять его детище. Делори, социалистический мэр города Лилля, пытался лишить Дегейтера права на авторство его произведений. Только значительно позже, в самый разгар войны Адольф Дегейтер сознался брату, что подписал заявление о написании им “Интернационала” по приказанию Делори. Сегодня уже бесспорно установлено, что наш старый товарищ – подлинный автор “Интернационала”.
Для рабочих Сен-Дени Пьер Дегейтер не только автор “Интернационала”. Он также и старый ветеран, который остался верен своей партии, своему классу, революционному делу. Его жизнь была исключительно цельной. Он сохранял глубокую веру в судьбы пролетариата. Существенная черта его жизни – верность партии и ненависть к ренегатам и дезертирам. Во время каждой политической битвы в Сен-Дени мы видели его безоговорочно на стороне партии. Он произносил всегда своё слово в разразившейся борьбе, и слово это было всегда призывом в ряды партии или решительным обвинением против колеблющихся. Он не поддавался ни скептицизму, ни трусости. До последних лет своей жизни он сочинял песни для пролетарских организаций.
Рабочий Сен-Дени по призыву муниципалитета с полным единодушием проводит к последнему убежищу старого пролетария, который умел так глубоко передавать наши чувства и наши надежды».
Подписал эту передовую статью Дорио.
Справа от передовой – ноты и текст гимна, а левее – статья «Правда о гимне пролетариата» с таким подзаголовком: «Как творение Потье стало известным во всём мире». А ещё ниже идут слова: «“Интернационал” принадлежит революционному коммунистическому движению».
В этой газетной подборке, в которой, правда, немало и повторов, и противоречий (это – в пределах одного номера одной газеты]), встречается и избыточная риторика, выделяется текст самого Пьера Дегейтера. Вот эта маленькая публикация сможет нам поведать о том, каким он был, как писал, о чём думал на старости лет.
Итак, заголовок «СТАРЫЙ ВЕТЕРАН», а далее – редакционный текст:
«Пьер Дегейтер был замечателен не только своей великолепной песней – он представлял собою также образец верности партии. Год назад мы попросили его дать воспоминания о газете “Эмансипасьон”. Он прислал нам необычную заметку, которая показывает всю привязанность, которую он питал к партии рабочего класса».
И наконец, текст самого Пьера Дегейтера:
«Вы просите поведать вам о своём впечатлении от газеты. Это было довольно давно, как я помню, но я сохранил в памяти зарождение газеты и её основателя.
Я знал Вальтера с 1901 года, так как брат мой Эдмонд имел дела с Вальтером, и когда я навестил брата, то встретился с Вальтером. Но он был в Сен-Дени только с 1902 года. Я помню время, когда газета выходила маленьким форматом по цене в 2 су. Я получал её ежедневно во время моего пребывания в Лилле, так как я был в Лилле одним из основателей северной федерации и профсоюза резчиков по дереву. По этой причине я и перебрался в Сен-Дени.
Как житель Лилля, я никогда не разлучался с “Эмансипасьон” с самого основания газеты. Подумать только, что я знал её с самого основания, больше 30 лет! Я знал её основателя – Вальтера, видел Филиппа, Лапорта, Дескози, Бестеля… Бесполезно перечислять все эти имена!
Я ссорился много раз с этими ренегатами во время заседаний. Я им досаждал и тогда, когда передавал для газеты “Эмансипасьон” копии песен. Они говорили мне: “Да, это хорошо, но нет места!” Зависть была слишком велика. И часто я говорил им, что они ничего никогда не сделают для рабочего, что они карьеристы. Несколько раз я говорил Лапорту, что он никогда не будет коммунистом, потому что он карьерист. У Лапорта, Дескози и Филиппа всегда было много ревности и амбиций по отношению к Вальтеру.
Мой мальчик[74] и я, мы оба пригласили товарищей, чтобы организовать оркестр для ночного бала в честь газеты. И вы знаете, музыканты с готовностью приняли предложение участвовать в чествовании. Я могу это ещё раз вам засвидетельствовать.
Вот образец маленького припева, который мы пели под музыку:
Мы празднуем тысячный номер газеты “Эмансипасьон”. Надеемся – будет не тысяча их – миллион.Дегейтер.
Ноябрь 1912 года.
В это время я иногда посылал копии песен для ",Эмансипасьона”, но это не нравилось этим карьеристам за исключением Вальтера. Этот был добрым товарищем…».
Это светлое, немного наивное, но в то же время твёрдое и решительное послание написал Дегейтер в возрасте 83 лет! Читая единственный сохранившийся от него прозаический текст, я думаю о том, что самым горестным для него (да и не только для него – для каждого, наверное, из нас!) было предательство со стороны людей, которым верил, которым был предан. А Пьера Дегейтера предавали многие: родной младший брат Адольф, которого в семье любовно называли «Малыш» даже тогда, когда он стал седеть, Густав Делори, свой бывший брат-рабочий, за которого он наверняка в свое время голосовал, товарищи по синдикату резчиков и по социалистической партии, откуда его изгнали. Его выжили отовсюду, даже из родного города!
Оказывается, судя по приведённому тексту, первым перебрался в Париж старший брат Эдмонд и не просто на заработки – он входил в парижскую жизнь основательно, имел деловые отношения с редактором коммунистической газеты (тогда ещё – социалистической) – «Эмансипасьон». Тут очень важно и уместно подчеркнуть, что многие социалисты в душе с самого начала были коммунистами, и в то же время некоторые члены ФКП по сути дела были не просто социалистами, а опускались до прямого предательства рабочего дела.
И вновь – газетный текст
Сен-Дени
В воскресение множество рабочих отдадут честь Пьеру Дегейтеру. Все, для кого “Интернационал” является песней борьбы и надежды, соберутся вместе в своём едином братстве. В воскресение в Сен-Дени пролетарии парижских окраин сойдутся вместе, чтобы отдать последний долг Пьеру Дегейтеру, этому скромному рабочему революционная вера которого вдохновила на великолепные звуки “Интернационала”.
Мы опубликуем в ближайшее время подробности этой манифестации, которой предстоит быть внушительной. Вот несколько пояснений.
Вынос тела состоится в воскресение в 14 часов 30 минут на Биржу труда в Сен-Дени. Толпа рабочих и представителей различных организаций соберётся на бульваре Жюль Гед на правой стороне, чтобы пойти по направлению к муниципальному театру. Голова колонны будет на углу бульвара Жюль Гед и Республиканской улицы, а на площади Марити наши товарищи Марсель Кашен от имени ЦК Коммунистической партии и Жак Ду от имени муниципалитета Сен-Дени воздадут дань Пьеру Дегейтеру и особенно его произведению. Затем процессия двинется к кладбищу, и рабочие пройдут перед открытой ещё могилой.
Никто не ошибётся в великом значении будущего воскресения в нашу эпоху, когда по всему миру ширится грандиозная революционная борьба, когда миллионы эксплуатируемых всех рас сражаются и умирают под звуки “Интернационала”.
Буржуазная пресса, которая всячески стремится задавить рабочее движение, не смогла пройти мимо кончины Пьера Дегейтера, поместив несколько заметок в “Пари миль”, в “Интрансижан” и в газете “Эхо Севера», где была обширная информация о смерти Пьера Дегейтера.
Что думают рабочие-социалисты, которые зачастую пели полным голосом, как и их товарищи-коммунисты, гимн борьбы и надежды, о гробовом молчании газеты “Попюлет”? Автор “Интернационала” умер, а орган социалистов не находит ни единого слова!
Более того, “Заря Севера”, в которой пишут лидеры социалистов, опубликовала вчера циничнейшую заметку, отрицающую авторство победного гимна за Пьером Дегейтером. Это совершенно отвратительное отношение, и мы уверены, что в воскресение рабочие-социалисты будут с нами в колонне процессии.
Добавим, что у тела Пьера Дегейтера дежурят представители рабочих организаций, и, начиная с субботы, на Бирже труда Сен-Дени можно будет пройти перед гробом певца.
Сквер Тьера будет переименован, и имя гонителя коммунистов сотрётся с надписи доски, чтобы на его место встало имя ушедшего от нас Пьера Дегейтера».
Этому репортажу сорок шесть лет[75], а звучит он так, как будто повествует о вчерашних событиях! Каждая подробность буквально обжигает!
Вероятно, номер газеты готовился в несколько приёмов. Последняя информация пошла вдогонку, «в досыл», как говорят газетчики:
«Пролетарии Парижа устроили Пьеру Дегейтеру грандиозную революционную демонстрацию. Более 50 000 рабочих следовало за гробом Пьера Дегейтера. В волнующем прощании с Пьером Дегейтером наш товарищ Марсель Пашен, прославляя и вознося гимн маленького мебельщика[76] из Лилля, сказал, что “Интернационал – это могущественное средство объединения.
Похороны состоялись вчера. По ходу процессии тротуар был в чёрном от толп народа. Грозди людей висели в окнах. Они, как огромная волна, шли к площади Отел де вилле, и вскоре площадь целиком стала морем рабочих, женщин, молодёжи, рабочих, эмигрировавших из колоний и т. д.».
Комментируя этот номер «Эмансипасьон», А. Н. Рубакин писал мне на копиях документов, которые он изучал в Сен-Дени, о некоторых других публикациях, посвящённых смерти старого певца. Так, газета «Ревил де Норд» («Пробуждение Севера») от 28 ноября поместила материал под названием «Смерть П. Дегейтера, брата автора “Интернационала”». Ссора между братьями с самого начала не была ссорой семейного характера, а политической схваткой\ А. Н. Рубакин сообщил мне также, что публикации в связи с кончиной Пьера Дегейтера были также в «Юманите» от 3 октября 1932 года (понедельник), в «Приморском Севере» в среду 28 сентября 1932 года. Посему утверждение А. Гатова в его предисловии к однотомнику произведений Эжена Потье «Песни. Стихи. Поэмы» (М.: Наука, 1971), что Пьер Дегейтер скончался 26 НОЯБРЯ 1932 года, воспринимается как досадная опечатка или неточность. Напомню, что интересующий нас номер «Эмансипасьон» – от 1 октября 1932 года. Вероятно, «Приморский Север» проявил наибольшую оперативность, дав информацию через два дня. Однако, в конечном счёте, важнее всего не когда, а как, с каких позиций, во имя чего.
Сообщил мне А. Н. Рубакин, что скульптурный литейщик Шарль Лорензи, проживающий по адресу Париж, улица Департ 21, сделал посмертную маску Пьера Дегейтера. Обратите внимание – скульптурный литейщик, не скульптор, а тоже рабочий.
Анализ текста покаянного письма говорит о крайне низком интеллекте Адольфа и даже заставляет подумать о его сумасшествии. Письмо это, написанное в 1915 году, дошло до Пьера лишь в 1918 году, но оно и понятно – война! Получение ТАКОГО письма позволило Пьеру возобновить дело. В апелляционной палате в Париже 28 ноября 1922 года автором «Интернационала» был признан ПВЕР Дегейтер. Вот текст судебного постановления:
«По просьбе Пьера Дегейтера, живущего в Сен-Дени (Сена), улица Алует, № 2, вызвать повесткой в суд г-на Густава Делори, выборного депутата-мэра города Лилля (Север).
Принимая во внимание, что кассационная камера № 4 признала неправильным решение гражданского суда Сены от 17 января 1914 года, вынесла постановление 23 ноября 1922 года, по которому устанавливается, что Пьер Дегейтер – автор музыки «Интернационала». Доказательством тому является письмо, написанное 27 апреля 1917 года, незадолго до смерти, прежним ответчиком Адольфом Дегейтером, где содержится признание, что сочинителем названной музыки является Пьер Дегейтер, его брат. Означенное признание подтверждается обстоятельствами и документами, относящимися к делу и особенно свидетельскими показаниями на суде.
Приказать, чтобы подпись намогильном памятнике в Лилле в память Адольфа Дегейтера, которая свидетельствует, что автором “Интернационала” является не истец, а какое-то другое лицо, была снята в самый короткий срок, о чём должен позаботиться г-н Делори, депутат-мэр города Лилля».
Итак, вроде бы справедливость восторжествовала, но, как мы видим по французской прессе, ложь и клевета в отношении Пьера не угасли. И вот о чём я всё время думаю: только ли Делори был заинтересован в своеобразном параличе нашего гимна? Не тянутся ли следы в самые высшие сферы Франции? В Париже он как мэр Лилля бывал частенько. Возможно, он себя впоследствии страшно ругал за свой просчёт: хотел лишь разнообразить репертуар хора, а сам, того не ведая, выпустил ситуацию из-под контроля!
Благодаря А. Н. Рубакинуя смог подвести хотя бы предварительный итог общественного резонанса на кончину Пьера Дегейтера.
Публикации были в следующих газетах:
«Эмансипасьон» («Освобождение») – в субботу 8 октября 1932 года.
«Юманите» – в понедельник 3 октября 1932 года.
«Приморский Север» – в среду 28 сентября 1932 года.
Больше всего нас с Н. А. Рубакиным огорчила публикация в газете «Пробуждение Севера» («Ревил де Норд») от 28 ноября 1932 года уже самим заголовком: «Смерть П. Дегейтера, брата АВТОРА “Интернационала”». Ссора между братьями всё больше приобретала политический характер. Завершалась информация сообщением о памятнике… Адольфу Дегейтеру (!): «Памятник автору “Интернационала” выполнен в форме гроба и украшен музыкальной папкой, на которой изображены первый ноты знаменитой революционной песни». Этот памятник торжественно открыл Делори в Лилле 1 мая 1920 года. Двойное, если не тройное кощунство!
Именно здесь уместнее всего напомнить, что первое судебное решение состоялось в апреле 1914 года. Пьеру в иске было отказано. Адольф жил в немецкой оккупации. Рубакин упоминал о том, что Адольф «запутался в финансовых махинациях», что весьма на него похоже, но у меня сильное подозрение, что он вступил на путь сотрудничества с оккупантами, что тоже вполне вероятно. Почему сей грешник раскаялся перед кончиной (он – самоубийца)? Думается, что не по моральным причинам, не из чувства вины перед братом,[77]* который к нему в детстве и в юности относился не просто хорошо, но даже сердечно и ласково называл его МАЛЫШ. И вот этот «малыш» всё-таки сознательно совершает невероятно нелепый и подлый поступок, присваивает себе авторство «Интернационала» и тем самым (по закону Франции) имея возможность как «автор» запретить его исполнение в любую минуту и в любом месте на территории Французской республики]
Глава третья «Пишите мне на Париж»
Все эти французские материалы, конечно, очень помогли в работе, однако, мне позарез требовалось, кинематографическим языком выражаясь, установить ещё одну камеру, с другим ракурсом. Идеальный вариант был бы таким – познакомиться с советским журналистом или общественным деятелем, который бывает в Париже и мог бы, уделив моей просьбе некоторое время, кое-где побывать, кое-что посмотреть, а потом поделиться своими впечатлениями со мной. Пусть это будут только Париж, Сен-Дени. О Лилле я даже не мечтал! Это всё-таки очень далеко – пути туда у моего возможного знакомца могут и не пролечь.
И вы представьте себе, мой почти фантастический план осуществился! Я такого человека нашёл и заочно познакомился с ним. И где нашёл? В нашей же редакции газеты! «Вечерняя Красная газета» пользовалась большим авторитетом,[78]* о ней знали не только в Ленинграде, но и во многих городах нашей страны и за рубежом. Не стану нахваливать наш отдел городского хозяйства, в котором я работал сперва литсотрудником, а потом заведующим. Скажу лишь, что нашу работу не раз одобрял Сергей Миронович Киров, уделявший огромное внимание превращению Ленинграда в образцовый во всех отношениях город. В нашей газете был сильный отдел литературы и искусства. Она славилась своими высокохудожественными фельетонами и очерками. Многие будущие литераторы прошли её школу.
Предметом нашей особой гордости было то, что у нас имелся ряд внештатных корреспондентов за рубежом. Не помню сейчас, кто ведал этим отделом или сектором. Твердо помню, что собирались многие собственные зарубежные материалы прямо в секретариате. Вероятно, этот участок работы был поручен одному из заместителей ответственного секретаря. Редакция у нас была большая, журналистского народа – немало, своей работы – как газетной, так и другой творческой, но внештатной у меня – по горло! Естественно, я не вникал в дела каждого отдела, не всех сотрудников достаточно хорошо знал. И вот однажды, просматривая нашу газетную подшивку за несколько лет подряд, я обратил внимание, что самые интересные материалы зарубежные даёт из Парижа некий ЮНИОР. Редкий псевдоним для 30-х годов! Тогда уже либо брали какой-то псевдоним раз и навсегда, либо подписывались двумя-тремя псевдонимами, когда в одном номере шли в разных жанрах написанные свои материалы. Я стал у коллег расспрашивать о ЮНИОРЕ. Никто ничего толком сказать не мог. Лишь в секретариате мне объяснили, что так и только так хочет подписываться очень трудный и строптивый автор, врач по профессии, по должности – врач Советского полпредства во Франции. Пишет он литературно хорошо, править его не надо, но слишком уж всё у него наособинку, по всем вопросам своё мнение, берёт темы слишком круто, а за некоторые его проблемные материалы нас сверху поругивали. Ну, мол, не на уровне Кирова, но из агитпропа бывали сердитые звонки. Мы его теперь тщательнее читаем, больше правим, а он – на дыбы! Да ещё требует, чтобы ему авиапочтой газету доставляли. К гонорарам он относится равнодушно, зато литературных амбиций – хоть отбавляй! Вот такая, понимаете, характеристика! А зовут его Ру бакин Александр Николаевич.
Я и спрашиваю: «Когда вы очередной раз ему по редакционным делам писать будете, разрешите мне вложить в конверт и свою коротенькую записочку с одной маленькой просьбой справочного характера». «Попробуйте, – отвечают, – но учтите – характер у него не сахар!»
Так я и сделал. И вот получаю письмо. Потом писем этих было немало, некоторые из них сохранились (опять чудо!) и сейчас лежат передо мною на столе.
Каждое по-своему интересно, но их полная публикация займёт очень много места. Однако некоторые выдержки из его писем я обязательно процитирую.
Получаю первое письмо из Парижа от таинственного ЮНИОРА!
«Париж, 25 августа 1933 г.
Многоуважаемый товарищ Сотников!
Письмо Ваше относительно данных, касающихся Пьера Дегейтера, я получил. К сожалению, завтра я уезжаю на несколько недель в отпуск в Швейцарию и вернусь только в конце сентября. Поэтому не могу сегодня дать Вам много сведений. Я действительно знал Дегейтера и даже лечил его по поручению нашего Полпредства в Париже перед пего поездкой в СССР. После смерти его мною была написана статья о нём в “Вечерней Красной газете”, сотрудником которой я, как Вы, вероятно, знаете, состою под именем ЮНИОРА. К сожалению, статья моя о Дегейтере была так исковеркана редакцией “Красной газеты”, что вместо живого человека получился какой-то ходячий Интернационал. Между тем, Пьер Дегейтер был очень живым человеком, типичным французским рабочим и типичным народным певцом, каковым он оставался до самой смерти. Я постараюсь прислать Вам из Швейцарии копию моей статьи. Что же касается других статей о нём, то были только заметки в “Юманите” и в социалистическом органе “Ле Попюлер”, причём в последнем была масса вранья и клеветы на Дегейтера. Но ни в одной заметке не была выявлена живая личность этого характерного народного певца…».
Я процитировал первый абзац из первого письма ко мне А. Н. Рубакина и остановился. Оказалось, что цитировать его довольно сложно потому что он многократно повторяется даже в пределах одной страницы, и тут я, спустя многие годы вспомнил свой разговор с сотрудниками секретариата нашей «Вечерней Красной газеты». Да! Редактировать такие тексты было задачей непростой, тем более, что порою в одном и том месте встречались очевидные повторы и неточности. Однако я далёк от мысли во всём согласиться с коллегами из секретариата. Прочитав все впоследствии письма ко мне А. Н. Рубакина, я не мог не отдать должное его уму, эрудиции, политическому чутью, наблюдательности, несомненным литературным способностям. По-моему, он писал так же быстро, как и говорил. Вероятно, он был прекрасным лектором, педагогом, умелым популяризатором знаний. Я не в состоянии оценить его как врача, как медика, но, думаю, что его должность – врач Полпредства СССР в Париже – уже о чём-то говорит! Теперь самое время и место процитировать этот фрагмент письма:
«…Наше Полпредство в Париже поручило мне обследовать его, чтобы знать, сможет ли он выдержать путешествие. У Дегейтера был артериосклероз с очень высоким кровяным давлением, эмфизема и миокардит. Несмотря на всё это был он крепким стариком, только глуховат был очень и поэтому никого не слушал, а только говорил сам с немного виноватой улыбкой, как все глухие…
Дегейтер был в высшей степени жизнерадостным, полным жизни человеком даже тогда, когда ему было за 80 лет. Он как-то особенно чувствовал полноту жизни. В нём была типично французская привязанность к ней, я бы сказал – латинское понимание жизни. Он любил хорошо поесть, курить свою трубку во дворике перед своим домиком, любуясь небом, прохожими, рабочими на соседнем заводе. Он был по-французски глубоко привязан к своей родине и даже более того – к местожительству. Он был приглашён в СССР, и там, думали, он останется до конца своей жизни. Но он вовсе не собирался там оставаться… Прожил он всю свою жизнь во Франции безвыездно – дайна какие деньги мог бы он выехать!… Для него жизнь не мыслилась вне Франции».
Я читаю и перечитываю эти слова, и передо мной вновь и вновь встаёт старый Пьер в летние дни 1928 года. Вот, оказывается, откуда этот особенно пристальный взгляд в губы собеседника, этот наклон головы!.. И всё же надо отдать должное – глухоту свою он скрывал умело и артистично. Наверное, потому он боялся её проявить, что был прирожденным музыкантом, жил в мире музыкальных звуков. Меня лично потрясла фраза А. Н. Рубакина о том, что старый Дегейтер в Сен-Дени, сидя в своём дворике, любовался небом. Ведь далеко не всегда небеса играют всеми красками. Небо прекрасным бывает (и то далеко не всегда!) в часы восхода и заката, в переливах облаков, в ожидании грозы, может по-есенински «синь сосать глаза», но это больно и долго так вверх смотреть не будешь. А небо и в Париже бывает самым будничным, обычным. Так вот, старый Пьер ценил эту самую обычность, которой многие из нас принципиально не замечают.
Кое-что прояснило мне первое письмо А. Н. Рубакина в отношении и пенсии Дегейтеру. Тут есть различные расхождения – ив датах, и в характере пособия, и в истории его происхождения.
А. Н. Рубакин прямо утверждал, что «в 1926 году правительство СССР назначило ему пенсию в размере ста долларов в месяц»[79]. Во всех материалах, которые я прежде читал, речь всегда шла лишь о долларах и франках, и говорилось о пенсии от Коминтерна.
Послушаем, что говорилА. Н. Рубакин о быте Дегейтера.
«Ему сняли квартирку в три комнаты в Сен-Дени, дали подёнщицу для обслуживания и для стряпанья – подёнщица тоже была партийная и баловала его. Навещала его внучатая племянница, молоденькая девушка, для которой он написал песенку и сложил музыку для неё. Песенку эту он мне пел старческим разбитым голосом, но очень музыкально, несмотря на глухоту. Пел он мне и кое-какие из своих старых песенок» [80].
Первое письмо завершалось обещанием А. Н. Рубакина поискать в Париже сборник песен Дегейтера, который был издан небольшим тиражом и согласием вести переписку: «Пишите мне на Париж».
Второе письмо – от 7 ноября 1933 года начиналось уже менее официально: «Многоуважаемый Николай Афанасьевич!» Новостей оно не принесло. Зато в третьем письме – от 3 марта 1934 года А. Н. Рубакин сообщал, что «дело встало на правильный путь», что ему удалось достать адрес внучатой племянница Пьера Дегейтера и его золовки. Оказывается, они тоже жили в ту пору в Сен-Дени! Рубакин туда ездил, но не застал их дома. Это для меня принципиальная новость! Значит, внучатая племянница Люсьена[81] – это донка старшего брата Пьера – Эдмонда и его жены. Эдмонда давно уже нет в живых, а с его женой Пьер, вероятно, отношений не поддерживал. Зато внучатую племянницу любил как родную внучку. Несравнимо теплее и сердечнее у Пьера были отношения с зятем – Анри Кассоре, мужем его сестры Виргинии. Кассоре был искусным ткачом, профсоюзным активистом, очень обаятельным человеком. Виргиния была искуснейшей кружевницей!
В третьем письме А. Н. Рубакин, обычно довольно скупой на сведения о самом себе, изменил своим правилам. Он поведал своему корреспонденту, что он по научным интересам – врач-гигиенист, теоретик и историк здравоохранения, что он очень интересуется вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Неожиданно Александр Николаевич упоминал о своей книге, посвящённой Америке. Сетовал он и на отношение к нему со стороны сотрудников «Вечерней Красной газеты»: только за последнее время отклонены его статьи о революционном движении во Франции, о генеральной стачке… Аргумент – поздно прислали! А что делать, если «воздушная почта из Парижа в Ленинград идёт дольше, чем обыкновенная: письма из “Красной газеты” от товарища Ляса, посланные воздушной почтой, я получал на 12-й день!»
Следующее, четвёртое письмо датировано 13 января 1935 года и начинается уже чисто по-дружески: «Дорогой Николай Афанасьевич!» И опять – сетования на иностранный отдел, который в газете «сведён к минимуму». Все заявки, предложения остаются без ответа. А предложения были по-настоящему интересные:
0 Лиге Наций, о проблемах вхождения в Лигу Наций СССР. Материал был взят изнутри – в Лиге Наций Рубакин проработал экспертом три года (с 1929 по 1932 год)[82]. Судя по письму Рубакину руководство газеты не продлевает корреспондентский билет, не возобновляет подписку на свою газету… ЮНИОР огорчается, нервничает, ведь газета для него – это живая связь с Родиной, с любимым городом!
Я думаю, что находясь в эпицентре европейских дел, Рубакин по причине долгого отрыва от своей страны волей-неволей терял ощущение неотступных перемен, происходящих на Родине. А тучи у нас сгущались. После убийства С. М. Кирова атмосфера и в стране, и в городе резко сгустилась. Прокатились волной аресты, увольнения, перемещения, многие темы попали в разряд запретных, в лучшем случае – нежелательных, стала исчезать раскованность в подаче материалов, всё стало жёстче регламентироваться. Единственная сфера, где можно было ещё писать сравнительно свободно, – это сфера труда, трудового подъёма, новаторства, трудового героизма.
Культура Ленинграда резко суживала свою базу, она стала уменьшаться, как шагреневая кожа. Тогда я это наблюдал как практик, оперирующий кое-какими фактами, примерами. Совсем недавно, прочитав интереснейшую и поучительную монографию историка 3. В. Степанова «Культурная жизнь Ленинграда 20-х– начала 30-х годов» (Л.: Наука, 1976), к величайшему сожалению, изданную всего лишь пятитысячным тиражом[83], я словно пережил свою молодость заново. Буквально на глазах сокращалось число печатных изданий, театров, менялась их структура, типология, словно шло какое-то властное причёсывание единой гребёнкой.
В свете этих моих горьких размышлений особенно тревожно прозвучали для меня слова А. Н. Рубакина, который был как всегда порывист, искренен и горяч: «… Если восстановить истинный облик Дегейтера таким, какой он был, живой облик, а не схему, этого не напечатают ни буржуазные журналы здесь, ни наши партийные. Вы это сами поймёте отчасти на основании того материала, который я Вам уже послал. Я боюсь, что не наступила ещё эпоха, когда можно дать полный и действительный образ автора “Интернационала”».
А. Н. Рубакин сообщал также о том, что мою книжку о Ленинграде «Город образцовый» он получил, что в Ленинграде не был с 1931 года, что как врач-гигиенист сейчас изучает проблему наркотиков и высылает мне об этой проблеме свою статью во французском журнале «Монд».
А вот и последнее письмо, пятое по счёту, – от 13 марта 1935 года. Александр Николаевич жалуется на страшную занятость – оказывается, он сделал два доклада во Французской Медицинской Академии, «которые возбудили яростную полемику во всей печати, не только медицинской», в результате чего ему «пришлось давать ряд интервью журналистам, писать ряд статей для газет и журналов». Мой корреспондент отложил все дела и принялся за книгу на французском языке. К тому же он делал доклад об СССР и обществе друзей СССР. Да, доктор Рубакин это не просто служащий Полпредства. Круг его интересов широк и разнообразен, полемический темперамент требует постоянного вторжения в действительность. А ведь уже не молод! О своём возрасте он мне прямо не писал, но в том последнем, пятом, письме в связи с чтением моей книжки о современном Ленинграде поделился со мною некоторыми биографическими штрихами: «Я ведь знаю город насквозь, начиная с улиц, учебных заведений (я там кончил среднее образование и учился в университете в 1906–1907 годы вплоть до моего ареста и ссылки в Сибирь, откуда я бежал заграницу в 1908 году). Моё высшее образование… в ту эпоху проходило больше по тюрьмам, чем в университетах – я сидел в пяти петербургских тюрьмах». Дальше шло сопоставление, тщательное и квалифицированное, городского хозяйства Ленинграда и Парижа и вдруг, где-то между прочим проскочило невольное признание: «Я пишу о Вашей книжке с точки зрения иностранца». А. Н. Рубакин останавливается на диалектике социального и технического в современном мире и, подводя итог, подчёркивает, что на Западе «революции куда труднее, чем в России: очень уж тут кристаллизировалась жизнь и буржуазия богата, многочисленна и сорганизована невероятно»[84].
В том же письме Рубакин ставит точку на наших делах с поиском материалов о Пьере Дегейтере. Он, завершая письмо, утверждает, что во Франции «никто ничего серьёзного» о нём не написал, что «вопрос о Дегейтере нигде в литературе не затронут и совершенно не разработан», что только у него «имеются оригиналы документов о Дегейтере вплоть до его примечаний на песнях, писем и т. д.». Александр Николаевич объясняет свои поисковые трудности новым обстоятельством: «теперь Сен-Дени… находится в ведении мэра Дорио[85], недавно исключённого из Компартии Франции, и это осложняет для меня дело, как Вы можете представить». Рубакин выражал надежду все свои собранные о Дегейтере материалы переслать «товарищу Бонч-Бруевичу в Москву для Литературного Музея или для музея Революции».
Завершал Александр Николаевич, а фактически, как оказалось, прощался со мною навсегда такими словами: «…Напишите, я с удовольствием сделаю для Вас всё, что в моих силах. Крепко жму Вашу руку».
Больше мы никогда не переписывались и тем более не виделись[86]. Я навсегда сохранил добрую память об этом замечательном человеке, с которым меня сдружил Пьер Дегейтер. Конечно же, я ему ответил, поблагодарил за внимание, заботу и самоотверженность. Да, именно самоотверженность – ведь Рубакин не скрывал в своих письмах мне, что сам заинтересовался темой Дегейтера, что тоже будет о нём писать. Впрочем, как я понял, это, скорее всего, у Рубакина была бы книга публицистическая или научно-популярная. Меня же всё больше и больше привлекала возможность создать о Пьере произведение художественное, и в конце концов я твёрдо решил писать киноповесть и одновременно попробовать свои силы как оперный либреттист. Именно опера может получиться! В этом произведении всё напоено музыкой. Вот где простор для композитора! Материала, фактуры, как я почувствовал, вполне достаточно. Для диссертации, для монографии мало: там каждый факт, каждая деталь неизведанная могут затормозить творческий процесс. Другое дело – знание Франции, её истории и культуры. Здесь не может быть и речи о каких-то к себе послаблениях – читать, читать и читать!
Недавно, разбирая свой домашний архив, я нашёл рабочие тетради, а в них – библиографию. Вот только несколько записей наугад – «Лилльские ткачи» Пьера Ампа, его же рассказы, книги Эмиля Золя, писателя, возвеличивающего каждую мелочь в описании, монография «Революционная поэзия современного Запада», книги по истории капитализма на Западе и в России, книги на французском, немецком и русском языках, в том числе и русские дореволюционные издания. Я отдавал себе отчёт в том, что пригодится лишь малая доля прочитанного. Впоследствии я, став драматургом-педагогом, преподавателем на драматургических семинарах, организуемых Союзом писателей СССР и РСФСР, стану настаивать на таком тезисе: «Сперва как можно больше узнать, а потом как можно скорее всё забыть!» Таков парадокс психологии творчества[87]. Знания становятся твоей сущностью, они словно растворяются в твоём жизненном опыте. Легче всего мне при изучении этой темы давалось искусствознание – всё же, что ни говори, учили нас наши наставники в Институте истории искусств прекрасно! Труднее всего шло изучение политической истории Франции, очень сложной, запутанной, специфической. То, что Рубакин понимал с полуслова, я постигал долгим трудом. Да что говорить, если он свободно писал по-французски, а говорил на этом языке легко и естественно, как на втором родном.
И в письмах Рубакина самой сложной и полемичной темой оставалась именно политика, борьба партий, классов, профсоюзных течений – и всё это помножено на личностные отношения, возведено в ранг страстей!
Сейчас, перечитывая письма Александра Николаевича, я невольно продолжаю с ним спорить. Он, например, утверждал, что Дегейтер был «ярко революционен», но «революционен по инстинкту, а не очень сознательно», его революционность «чисто классовая», и в то же время он «был слишком революционен для того, чтобы стать» профессиональным до мозга костей певцом. Далеко не во всём я и тогда и тем более теперь соглашался с Рубакиным в отношении общей и музыкальной эрудиции Пьера. Тут идёт страшный разнобой: кто утверждает, что он ходил вольнослушателем на курсы при Лилльской консерватории, кто пишет, что он закончил курс по классу композиции. Думаю, что это две крайности. Дегейтер посещал занятия в качестве вольнослушателя и брал то, что ему было нужно для своих шансон! Оперу или симфонию он и не собирался писать. Что же касается общего образования, то хотя у нас нет конкретных данных, вероятнее всего, в анкете в графе «образование» у пето стоял бы прочерк. По разным данным, он начал работать с 7 или же с 8 лет, то есть его общий трудовой стаж, опять же, пользуясь современными понятиями, был около 70 лет! О круге чтения Дегейтера судить трудно – данных я пока не нашёл. Ясно одно: он любил французскую поэзию и знал её, читал политическую прессу, владел партийно-политической терминологией.
Что же касается интуиции, классового чутья, то в отличие от Рубакина я считаю все эти понятия со знаком «плюс», а не «минус». Совершенно ясно и другое: Дегейтер не имел широких познаний, разнообразных сведений из гуманитарных наук, однако, историей и историей декоративно-прикладного искусства интересовался всерьез, глубоко.
Наконец, вечная путаница в отношении его профессии: то токарь по дереву, то столяр, то резчик по дереву, что ближе к истине. Первые два понятия в современном значении даже на уровне высоких разрядов об искусстве не говорят. Но нельзя же подходить к прошлому с мерками наших дней! Иногда Пьера называют мебельщиком. Опять же, если представить себе нашу поточную мебель из ДСП и другой ширпотреб в мебельных магазинах, то убежден, что старику от такого «мастерства» стало бы худо! Он делал, а вернее – творил резную мебель по индивидуальным заказам. Мог сделать и простое, мог что-то починить, приладить, но это так – между прочим. Да и с Эженом Потье и его профессиями тоже какая-то случается путаница. Поначалу он действительно был упаковщиком мебели, но потом стал разрисовщиком тканей, а это не одно и то же, что работа в красильно-печатных цехах современного ткацкого предприятия. Я вот по приглашению
Общества книголюбов побывал на некоторых предприятиях города Иванова совсем недавно и прямо скажу – это типичный поток, ширпотреб, искусством там не пахнет! Потье же был подлинным художником, творцом, изобретателем. Искусным ткачом с несомненным художественным вкусом был зять Пьера Анри Кассоре. Сестра Потье Виргиния не просто на станке повторяла чужие узоры, а бесконечно изобретала свои. Все они по духу, по складу, по типу своему были гораздо ближе к средневековым цеховым мастерам, нежели к промышленным рабочим, привязанным к конвейеру. Видимо, поэтому они особенно резко выступали против капитализации производства, против превращения ремесленника-творца в жалкого придатка машины.
Не смог я согласиться, особенно прочитав материалы, опубликованные в газете «Эмансипасьон», с тезисом Рубакина о том, что к партии коммунистов Пьер Дегейтер «имел очень малое отношение», потому что «поздно появился в Париже» и был очень стар. Разумеется, есть политическая деятельность высшего порядка, а есть низовая, простая, незаметная, порою очень скромная работа в низовых звеньях своей партии. Товарищи из «Эмансипасьон», по-моему, верно оценили участие Пьера в жизни партии: они дали ему оценку с позиций не только товарищей по партии, но и земляков. Сен-Дени, город-предместье Парижа в красном поясе вокруг столицы Франции, с ратушей, над которой гордо реял красный флаг, – была подлинная новая малая родина Пьера. О Генте и Бельгии он вспоминал редко[88]. Лилль – город юности, первой любви, первых песен, надежд и счастья остался в тревожных воспоминаниях. В Сен-Дени Дегейтер нашёл себя и своих друзей, которые его недаром называли отец Пьер.
Так что письма Рубакина дали мне не только ориентацию, не только фактуру, но и материал для многолетней полемики, внутренней, идущей монологом.
Между тем, кончался 1935 год. Я поработал в качестве собкора «Известий» и спецкора газеты «Социалистический Донбасс» в Донбассе, познакомился со знаменитыми сталеварами Коробовыми, загорелся замыслом создать фильм о сталеварах-виртуозах и вернулся в Ленинград с твёрдой уверенностью, что пора наконец отдать все свои силы и время киноискусству.
Из газеты я ухожу. Первое время работаю консультантом Дома печати, который в ту пору был и клубом, и Союзом журналистов, и центром литературной и театральной жизни Ленинграда. Мы организуем Театр малых форм или, как его называли ещё, Театр печати, я становлюсь завлитчастью этого коллектива. Совместно с Е. Руссатом мы создаём драматургическое сатирическое театральное обозрение «Алло, Запад!», а в 1938 году на экраны выходит мой первый фильм «Гдовская старина», затем фильм «Пенаты», и наконец, начинается работа над сценарием фильма о Коробовых (у меня они – Колобовы) «Отец и сын». Ставили его молодые режиссёры О. Сергеев и С. Якушев. В фильме снимались Константин Скоробогатов, Владимир Честноков и другие замечательные артисты. Впоследствии мне удалось уточнить, что закончили его производством в июле 1941 года, он был тиражирован в 14 копиях и имел прокат с ноября 1941 года по май 1945 года – в основном в частях Ленинградского фронта.
За эти последние предвоенные годы я участвовал в освободительном походе Красной Армии в Западную Белоруссию, в Западную Украину. То, что я увидел, ошеломило меня – такого несусветного горя и такой нищеты и забитости я давно не представлял себе! В эти дни я не раз слышал «Интернационал» – на украинском и белорусском языках и, конечно же, на русском. И не только во время торжеств, на мероприятиях, так или иначе организованных. «Интернационал», как огонь, вспыхивал то там, то здесь и собирал вокруг себя освобождаемых и освободителей. Там, в предместьях Львова, я впервые увидел лик фашизма – наши бойцы, обыскав убитых поляков, представили нам, командирам-политработникам, документы, из которых следовало, что это не поляки, а переодетые в польскую форму немецкие фашисты! Ни одна тема, ни один сюжет выкристаллизоваться не успели, но в душе настало смятение – я чувствовал, что великие испытания ждут нас в скором будущем. Они уже на пороге. А потом – Финская кампания. В числе первых я оказался в разбитой финскими фашистами Кукоккале. У меня долго хранился номер нашей армейской газеты со стихами Александра Прокофьева, с тех пор ни разу не переизданными: «Они Кукокколу разбили! Смерть лахтарям, смерть лахтарям!»
Я вернулся в Ленинград ещё военный, затемнённый. Первым делом бросился к своей пишущей машинке, включил свет и… забыл занавесить шторы! Вскоре к нам, со снайперской точностью распознав квартиру и даже комнату, явился военный патруль, и мне долго приходилось оправдываться за свои действия. Под утро меня отпустили, и я вернулся домой, на Мойку. С малой войны ненадолго пришёл в мирную жизнь, чтобы вскоре уйти на войну большую.
В боях на Карельском перешейке не раз звучали слова и мелодии гимна, о котором я никогда не забывал, над историей которого я не прекращал работу. А время становилось всё тяжелее и суровее во всех отношениях. О переписке с другими странами и речи быть не могло – гремела Вторая мировая война. Она уже шла по тем французским дорогам, по которым я вёл своего Пьера Дегейтера.
… 14 июня без боя был взят Париж. Шёл год 1940-й…
Глава четвёртая Решающая в творчестве пора
Каким бы увлекательным и плодотворным не был подготовительный период, главное всё же в литературе – это процесс написания: саморедактура, шлифовка текста, разного рода дополнения, уточнения и т. д. Всё это может быть по-своему радостным и увлекающим процессом, но… второстепенным так же, как и подготовка к работе. Годы, прожитые в литературе, убедили меня в этой счастливой закономерности. Правда, мне встречались литераторы, больше всего любившие саму дорогу изысканий, но у них чаще всего многие замыслы до воплощения не доходили. Встречались и другие, особенно среди прозаиков, страстно любившие отшлифовку, чистовую отделку строки и абзаца, но и тут есть свои крайности. Мой отец, старый токарь-универсал, всегда мне говаривал: «Бойся снять лишнюю стружку!» Так же и я сделал себе заповедью слова: «Умей вовремя поставить точку и перейти к другому произведению».
Десять лет миновало со дня моей встречи с Пьером Дегейтером. Кипа папок с сотнями страниц выписок, черновиков и т. д., и т. и. громоздились в моей комнате на Мойке, а начисто не была написана ни одна страница! Своими счастливыми поисками я поделился с ленинградским драматургом, переводчиком и либреттистом Владимиром Николаевичем Владимировым. Сейчас профессия либреттиста – невероятная редкость, а самих либреттистов так мало, что их впору заносить в Красную книгу! Он хорошо знал музыку, владел многими секретами музыкальной драматургии, умел работать с композитором. У него было чему поучиться! Познакомил нас композитор Л. Ходжа-Эйнатов[89], который сотрудничал с нашим театром Дома печати чуть ли не с самых первых шагов этого творческого коллектива в 1936 году. И ещё одно обстоятельство, совершенно ясное в довоенную пору, а ныне требующее пояснения. И сейчас в Ленинграде бывают оперные и балетные премьеры (правда, чаще всего классических произведений, новинки редкостны!), и сейчас встречаются яркие, впечатляющие спектакли, становящиеся явлением музыкальной культуры не только города, но и всей страны. Однако в довоенном Ленинграде, можно прямо сказать, был культ музыкального театра}. В этом можно убедиться, пересмотрев заново такие довоенные фильмы, как «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится». Премьеры (и балетные, и особенно оперные) собирали литературную общественность, резонанс их был очень велик! И вот мы с Владимиром Николаевичем решаемся рискнуть и пишем в Кировский театр следующую заявку:
«Опера "ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
Миллионы людей во всём мире поют боевой пролетарский гимн “Интернационал” – эту песню борьбы, надежды, мщения и побед. Широкая публика и у нас, и на Западе мало знает происхождение “Интернационала”. У такой песни несомненно должна быть выдающаяся “биография”. Иначе чем же объяснить близость, понятность и силу воздействия её.
Интересно было точно установить, как создавалась и как пришла к нам эта песня, с которой мы шли в бой и побеждали на всех фронтах Гражданской войны и хозяйственного строительства, а также раскрыть “секрет” воздействия гимна на трудовое человечество всех широт и наций.
История рабочего движения давала скупые ответы на эти вопросы. Иногда они сознательно запутывались. Кое-кому хотелось скрыть от масс правду об “Интернационале”. В некоторых “сферах”, например, бытуют версии о мнимом авторстве Дегейтера. Разрешение всех этих вопросов представлялось тем более заманчивым и ценным.
О замечательной жизни песни и её автора рассказывается средствами самой песни. Так возникла мысль об опере “Интернационал”, поддержанная Ленинградским театром оперы и балета им. С. М. Кирова.
При содействии Коминтерна и лично тов. Андре Марти авторам либретто удалось получить из Франции ряд оригинальных материалов: ноты, документы, публикации и т. д., детально и правдиво рассказывающие об истории создания нашего гимна.
Выяснилось, что в основе “биографии” песни лежит острая драматическая коллизия. “Интернационал”– творение одного нерабочих-шансонье, творчество которых так высоко расценивал Ленин, возник на гребне высокой революционной волны и сыграл, даже в первые дни своего рождения, огромную организующую роль.
“Интернационал” в руках рабочих сразу стал слишком опасной силой для людей, боявшихся роста рабочего движения, и вокруг этой песни завязалась длительная борьба. Права на эту песню были узурпированы некоторыми дельцами и карьеристами из II Интернационала. Сплетя дьявольскую интригу, они подставили фигуру ложного автора, брата Пьера Дегейтера – Адольфа, который позволил себе спекулировать на песне. Подлинный автор гимна – коренной пролетарий, впоследствии – коммунист Пьер Дегейтер, не соглашавшийся играть на руку соглашателям и ренегатам, подвергся всяческим гонениям.
Признание и славу истинный автор музыки “Интернационала” получил только в СССР. На склоне лет увидел боевой шансонье, что его песня находится в надежных руках. В те дни, совпавшие с сороковой годовщиной гимна и восьмидесятой годовщиной автора, “отец Пьер” рассказывал историю своей жизни и песни, что было для него единым понятием. Вся долгая жизнь ветерана революции была посвящена гимну трудящихся, борьбе за правильное его истолкование и исполнение.
В оперном либретто, написанном И. А. Сотниковым совместно с В. Н. Владимировым при дружеском участии композитора А. П. Гладковского[90], воспроизводится не только история создания гимна, но и путь проникновения его в нашу страну. В этом вопросе подчёркивается личная роль В. И. Ленина, услышавшего эту песню в эмиграции. В. И. Ленин выведен в седьмой картине оперы (1903 год).
Окончание работы над текстом оперы “Интернационал” приурочено к пятидесятой годовщине со дня первого исполнения гимна (23 июня 1888 года).
Музыка оперы “Интернационал” заказана театром композитору А. П. Гладковскому) который предполагает ещё в текущем сезоне сдать первые две картины».
Впрочем, это не сама официально-деловая, довольно скупо и кратко написанная заявка, а её расширенный, аннотационный вариант, сделанный по просьбе театра. Помнится, я первый экземпляр сдавал в театр, а копию оставил себе.
Как я ни старался, но полный текст оперного либретто найти не смог! Жалко, конечно: ведь в нём были и любопытные находки, и кое-какая фактура, которая более нигде не встретилась и не обнаружилась.
С Владимиром Николаевичем мне работалось интересно. Во всём, что касалось исходного материала, он мне доверял полностью, а вот самому искусству музыкальной драматургии учил меня старательно и терпеливо. И, честно говоря, я понял, что это не моё призвание и не моё амплуа в будущем! Здесь должна во всем главенствовать не просто музыка, а будущая музыка!
И вдруг, спустя многие годы, я нашел краткий план либретто!..
«Краткое изложение либретто оперы “Интернационал”
I
Лилльский рабочий Пьер Дегейтер гордится своим ремеслом мебельщика. Он получил почётный диплом на конкурсе мастеров. Но Дегейтер любит не только своё ремесло. Он сочиняет песни, сам поёт их для своих товарищей в рабочих клубах, на празднествах. Дегейтер дирижирует рабочим хором.
В 1888 году Дегейтер познакомился со сборником стихов Эжена Потье. Его взволновало стихотворение поэта “Интернационал”, и он положил его на музыку. На долю рабочего-композитора выпал огромный успех. “Интернационал” стал петь весь рабочий класс.
II
Но в жизни композитора нарастает глубокая драма. Местные социалисты решили скомпрометировать певца. Оружием в борьбу становится родной младший брат Дегейтера Адольф. Инспирируется слух, что музыку написал не Пьер, а Адольф, который как автор запрещает исполнять своё произведение, на что имеет право по законам республики. Происходит ссора между братьями. За спиной Адольфа стоит мэр Лилля Густав Делори, предатель дела рабочего класса, испугавшийся взрывной силы рабочего гимна. Конфликт доходит до судебного разбирательства. Пьер Дегейтер, как подлинный автор гимна, проигрывает судебный процесс.
III
К городу подходят немцы. Пьер вынужден бежать в Париж. Глубокая социальная и национальная трагедия отодвигает на второй план личную беду.
IV
Случайно Пьер получает место торговца газет. Он живёт теперь в предместье Парижа – Сен-Дени. До него наконец доходит письмо его брата Адольфа. Во время Первой мировой войны он остался в местности, захваченной германской армией, сотрудничал с оккупантами, запутался в торговых махинациях. Перед самоубийством Адольф пишет Пьеру покаянное письмо, в котором глубоко раскаивается в совершённом преступлении. Он признается, что никогда не писал музыки, что заявление о том, что он был автором “Интернационала”, было подписано им под давлением мэра Лилля Густава Делори, у которого он был в подчинении как мелкий служащий мэрии. За это гнусное преступление ему была обещана должность советника мэрии. В предсмертном письме Адольф просит прощения у Пьера. Это известие по времени совпадает с известием о том, что песню Пьера страна Советов избрала[91] своим государственным гимном.
V
В Сен-Дени к власти приходит коммунистический муниципалитет. Пьер вступает в члены партии коммунистов Франции. Из СССР начинает приходить пенсия в 100 долларов. Товарищи по партии снимают ему квартирку заботятся о нём – ведь он уже стар и одинок – схоронил жену потерял всех близких. Его радость и утешение – внучатая племянница Люсьена, молоденькая портниха. Однажды в тихую жизнь старого рабочего певца и композитора ворвалась новость – его приглашают в СССР, в Москву. И старик собирается в путь…
VI
Лето 1928 года. Дегейтер в Москве. Красная площадь сотнями тысяч голосов поёт его песню. Это самая высшая награда, о которой он даже не мечтал! Теперь он может вернуться к себе в Сен-Дени. Навсегда.
VII
Снова весна. Снова демонстрация. 1 мая 1933 года над зданием муниципалитета Сен-Дени реет красный флаг. Рабочие срывают на углах домов таблички с ненавистным им именем палача Парижской коммуны Тьера. Коммунистический муниципалитет постановил: переименовать бульвар[92] Тьера в бульвар Пьера Дегейтера. На трибуне рядом с товарищами Марселем Кашеном, Дорио, Энно и другими товарищами стоит Люсьена Дегейтер[93] – наследница рабочей Франции, её надежда, её будущее.
Мощный порыв "Интернационала” звучит, как сильный и ликующий порыв молодого весеннего ветра».
Пока писал этот текст, готовился к встрече с представителями театра, узнал, что Дорио исключён из рядов Французской компартии. Естественно, в последней картине он появиться на оперной сцене не может. Другое дело, если бы это был, скажем, документальный очерк: всё-таки мэр на торжествах присутствует по должности. В опере же слишком велико обобщение. Ещё большее обобщение – в балете. А выше – лишь песня, тем более такая, как «Интернационал»!
Как драгоценнейшую реликвию храню крошечную вырезку из «Ленинградской правды» от 24 апреля 1933 года:
«Муниципалитет одного из крупнейших пригородов Парижа – Сен-Дени – большинством голосом постановил ПЕРЕИМЕНОВАТЬ БУЛЬВАР ТЬЕРА (палача Парижской Коммуны) В БУЛЬВАР ДЕГЕЙТЕРА, АВТОРА МУЗЫКИ “ИНТЕРНАЦИОНАЛА.”
Уже сегодня на домах бульвара Тьера появились новые таблички “БУЛЬВАР ДЕГЕЙТЕРА”».
Коммунар Пьер Дегейтер, коммунар по убеждениям, по духу, по сути своей, по характеру, по борьбе, по главному подвигу своей жизни – гимну «Интернационал» – победил того, кто обрушил волны кровавого террора на славных коммунаров, на автора слов этой песни песней. Коммуна взяла реванш над своими палачами и у себя на родине, во Франции.
Эту маленькую заметочкуя взял с собой на войну. Она побывала со мной в Берлине. Она вернулась со мной в Ленинград. И сейчас в Москве она лежит у меня под стеклом на письменном столе. Когда мне бывает особенно тяжело и горько, я смотрю на этот маленький пожелтевший от времени газетный листок с заголовком «БУЛЬВАР ДЕГЕЙТЕРА В ПАРИЖЕ», и мне становится легче, приходит второе дыхание. Так бывало, помнится, в боях на Гражданской войне, когда среди гари, дыма, клубов пыли, поднятой всадниками, взвивалось красное знамя.
…Одновременно с заявкой на либретто оперы «Интернационал» я работал над двумя статьями – о Пьере Дегейтере и Эжене Потье. 6 ноября 1938 года исполнялось 50 лет со дня смерти Эжена Потье, а 8 октября 1938 года – 90 лет со дня рождения Пьера Дегейтера. В том же 1938 году – 23 июня особый юбилей: полвека со дня первого исполнения гимна «Интернационал», точнее, песни, ставшей гимном сразу же, в день своего рождения'. Я как газетчик привык придавать датам особое значение, к тому же такого рода дата – надежды на публикацию. Написал несколько вариантов: сперва больше внимания уделял фактуре, интриге, драматизму рождения гимна, в последующих вариантах стремился к более обстоятельному анализу времени, обстановки, ситуации, обстоятельствам написания гимна. Написал – стал предлагать в различные издания и был чрезвычайно удивлён, даже ошарашен – этих статей пугались! Да, говорили мне, написано увлекательно, профессионально, со знанием дела, но… И тут шли разного рода толкования в зависимости от личностей тех, кто сидел в том или ином кресле. Кто ссылался на объём (я и так сократил их, статьи эти, до предела!), кто на то, что такого рода материал уже заказан, а ещё чаще – уже написан, кто говорил, что тема очень ответственная – надо в Москве посоветоваться…
Речь шла о государственном гимне СССР и одновременно – партийном гимне!
Я, увлечённый своей темой и погружённый в материал со всеми его тонкостями, как-то «забыл» это обстоятельство. А один мой старый товарищ, даже можно сказать приятель, как-то доверительно (один на один, конечно!) пошутил: «Я понимаю, что ты увлечён без меры, многого уже не замечаешь, свежим взором не смотришь, а ведь представь себе, что в дооктябрьскую пору кто-то пожелал бы проанализировать и воссоздать во всех подробностях (подлинных, психологически достоверных, в лицах!) историю царского гимна "Боже, царя храни!”
Как ты думаешь, пропустила ли бы цензура, а?» Я посмеялся, стал горячо доказывать, что аналогии нет и быть не может. И оказался неправ. Аналогии были.
Гимн уже не пели как песню борьбы и надежды, а порою тянули как обязательное песнопение, не вдумываясь в слова, не испытывая озарения. А тут – такая мера открытости в анализе! Критика, сопоставление, сравнение, драматизм!.. И я понял: одно дело, когда я обращаюсь к миру вымышленных, а в либретто и несколько условных, предельно обобщённых героев, другое – политический и поэтический анализ партийного и государственного гимна, пусть с самых что ни на есть благих намерений. Волей-неволей я вспомнил слова доктора Рубакина из письма ко мне о том, что время для подлинной правды об «Интернационале» не настало. А один опытный и мудрый журналист так мне сказал: «Ну и время ты выбрал для своей любимой темы! Ведь “Интернационал” – это неутолённостъ в боръбе \ И не играет роли, что до революции пели “это будет последний и решительный бой”, а потом “это есть…” Ведь никто и никогда не пел: “это был…” Понимаешь? У “Интернационала” не может быть прошедшего времени. Он всегда будет неудовлетворен тем, чего добился рабочий класс, да и не тот это класс, чтобы почивать на лаврах!» Замечательные слова! Навсегда я их запомнил. Действительно, об этом я как-то не подумал, увлечённый историей, да ещё в основном французской!
А на глазах наша история, текущая, современная, вступала в новую фазу. Повсюду звучали сплошные марши, но эти марши не грустили, не тосковали, как марши времён русско-японской войны, не вели в бой, не бодрили, а раздражали и, как это ни странно, усыпляли. Однажды я, слушая официальное исполнение «Интернационала» (а неофициально он практически уже не исполнялся), сделал для себя горестное открытие – он стал звучать ещё медленнее] На это обстоятельство обращал внимание в своих письмах мне доктор Рубакин – во Франции, мол, его поют живее, динамичнее!
Статьи я отложил в сторону, но бросить любимую тему не смог и написал заявку на «Ленфильм». Текст заявки сохранился.
«В Ленфильм. Сценарному отделу[94].
Французы поставили “Марсельезу”[95], а за нами долг – “Интернационал”. Фильм “Интернационал” мог бы заполнить пробел в тематике нашей кинематографии о рабочем движении на Западе… События, о которых речь будет идти ниже, несмотря на свою почти 90-летнюю давность, нисколько не потеряли своей остроты и злободневности. Речь будет идти о “биографии” песни – международного пролетарского гимна. Под знаменем этой песни идёт и сейчас ожесточённая классовая борьба на всех широтах, во всех странах. Значит, в основе “биографии” этой песни лежат такие мотивы, которые поднимают дух пролетариев, возбуждают чувства классовой непримиримости, борьбы. Очевидно, эта песня созвучна современным настроениям трудящихся.
Мы поставили перед собой задачу выяснить и воспроизвести обстановку рабочего движения в момент создания песни. Мы увидели, что эта песня, действительно, является отзвуком близких нашей эпохе событий.
Дело обстояло так. Парижские пролетарии только что понесли жестокое поражение. Рабочий класс, по мнению ряда авторов, переживал пору апатии и усталости после разгрома Коммуны. Так ли это на самом деле? По словам Маркса, Коммуна была не концом, а “началом социальной революции XIX века”. В творчестве Эжена Потье, поэта парижских баррикад, автора текста “Интернационала”, на следующий день после падения Коммуны возникает сильный мотив реванша: “Коммуна пример подала…” “Коммуна выжила однако…” “Коммуна громовым ударом встревожила весь мир…” а в неисполняющейся строфе “Интернационала” сказано им: “И лишь под знаменем Коммуны с себя оковы сбросим мы…” Энгельс считал Коммуну “гигантским толчком” для всего рабочего движения. Воздействие было немалое, если из недр рабочей массы мог возникнуть гимн международного пролетариата, из недр массы, которую считали умиротворённой.
Песня эта полна протеста и возмущения против самих “умиротворителей” – дельцов из II Интернационала. Отзвуки от “толчка” явно были очень сильные, если они нашли выражение в столь эффективной форме. Ясно, что такой взлёт народного творчества не мог не возникнуть на гребне высокой революционной волны.
Мы задались целью измерить, так сказать, высоту этой волны, этого взлёта и попытались восстановить, по возможности, всю обстановку рабочего движения на севере Франции в 1888–1889 годах, на родине мелодии “Интернационала”.
Обстановка, давшая этот взлёт, это выражение – гимн пролетариата, чрезвычайно любопытна. В ней мы, как в капле воды, видим сегодняшний мир капиталистического Запада[96]. Видим пролетариев, идущих под знамёнами марксизма, видим “социалистов”, погрязших в карьеризме, в соглашательстве, в предательстве интересов рабочего класса и скатывающихся либо к обывательщине, либо к реакции. Ведь наш “герой” Делори – это стопроцентный будущий Дорио!
Однако, широкая публика и у нас, и за рубежом не знает точно, как возникла, как создавалась эта песня борьбы, надежды и мщения, которую пели и поют во всех тех странах, где люди страдают и борются. Мало также известно, чью песню наша страна, страна победившего социализма, сделала своим государственным гимном. Каким путём попала к нам та песня, с которой мы шли в бой и побеждали на всех фронтах Гражданской войны и хозяйственного строительства? Очевидно, у этой песни есть особые права на такую высокую честь.
На эти два вопроса пытается дать ответ прилагаемая работа. Во-первых, она воспроизводит историю возникновения гимна путём показа страниц из жизни автора музыки – лилльского рабочего-революционера и народного певца Пьера-Христиана Дегейтера. Из этих событий вытекает, что песня возникла в накалённой атмосфере классовых боёв, чем можно объяснить близость её, понятность, созвучность и силу воздействия на пролетариат всего мира.
Во-вторых, решая вопрос о победном шествии гимна на шестой части света, мы можем прийти к выводу о личной роли Ленина, о том, что сам Ленин дал народам СССР эту песню. Ряд исторических данных дают указания на тот интерес, который проявлял Владимир Ильич к творчеству французских рабочих-шансонье, на то, что он в пору эмиграции услышал эту песню, правильно понял её и способствовал её распространению среди русских социал-демократических групп, перенёсших её на нашу революционную почву. Мы также устанавливаем чрезвычайно интересный момент, что песня и её автор подлинное признание получили только в СССР.
… В процессе работы над повестью я увидел, что многое в этом материале может очень хорошо прозвучать с экрана. Здесь налицо, по-моему, тот редкий случай, когда звук, песни нисколько не 'притягиваются” к сюжету, а органически участвуют в действии, движут и развивают его. Крайне заманчивым представляется использование в звуковом фильме обширного поэтического и мелодийного материала из творчества французских рабочих-шансонье. И мы используем мотивы многих прославленных народных певцов-композиторов, начиная от Беранже, Надо, Дюпона, того же Потье, Монтегюса – любимца Ленина, и до нашего героя – Пьера Дегейтера.
Действие в основном протекает в Лилле, отчасти в Париже и, наконец, в Москве. Нет, однако, надобности воспроизводить доподлинную "натуру” поскольку действие происходит почти в нашу эпоху и среди пейзажей, характерных для всякого промышленного центра.
Все эти соображения заставляют меня обратиться с просьбой ознакомиться с прилагаемой намёткой плана киносценария и решить вопрос о возможности постановки такой картины Ленфильмом. Драматургически данный материал некоторым образом уже разработан, поскольку мною написано по заказу театра оперы и балета им. С. М. Кирова оперное либретто. Само собой разумеется, в новой разработке будут учтены возможности кино и специфика жанра киносценария.
Н.А. Сотников
5 марта 1938 года
Ленинград\ 1, Мойка 82, кв. 40. Тел. 1-88-02».
Кое-где я сделал сокращения, чтобы не повторяться. Конечно, сейчас многое так и хочется исправить, уточнить, отредактировать, но документ есть документ, а он – лицо своего времени. А время, между тем, повторяю, становилось всё труднее и труднее во всех отношениях, в том числе и в плане творческой атмосферы.
Славное десятилетие студии, проходившее под девизом имени Адриана Пиотровского, о котором ленфильмовцы говорили, что он является «автором всех их фильмов», закончилось. Пиотровский был репрессирован и погиб в 1938 году. Пришли другие люди, возобладали другие настроения. Всё становилось строже, жёстче. Лишь в лучших съёмочных группах ещё теплились огоньки, зажжённые творческим созиданием, дружелюбием и раскованностью, столь важной для творческого процесса. Одно из первых замечаний, с которым я столкнулся, было таким: «Сталин поднял тост за сталеваров Коробовых, и вы это со своим соавтором в фильме “Отец и сын” учли. А где Сталин в Вашей новой заявке – в картине об “Интернационале”?» Мне хотелось напомнить, что Сталин родился за девять лет до рождения «Интернационала», в эмиграции не был, но я с трудом себя сдержал – оргвыводы могли быть очень скорыми не только в отношении заявки, но и в отношении автора заявки. Посему я стал обстоятельно объяснять, что фильм исторический, по материалу французский и т. д. В общем, по возможности ушёл от разговора в сторону.
В моём архиве сохранилась не только копия заявки на Ленфильм, но и копия «ориентировочного плана киносценария», имевшего уже подзаголовок «Рождение песни».
Перечитал я спустя многие годы первый набросок плана киносценария и огорчился – выглядит он скуповатым и схематичным. Смотрю из 1978 года в 1938 год – сорок лет даром не прошли! Почерпнул для себя детали, которые как-то позабылись. Оказывается, сына Пьера и его жены Мари-Луизы (она в других текстах чаще упоминается как просто Луиза) – в девичестве Дюбар (в хоре пела сопрано) – звали Жюль. У меня в первом варианте сценарного плана он ещё малыш. Пьер потеряет его на полях Первой мировой войны и останется один. Напоминаю, что лишь внучатая племянница Люсьена будет его радостью и утешением. Раз уже я опять заговорил о семье Дегейтера, то здесь стоит упомянуть ещё некоторые красноречивые детали.
Эдмонд, старший брат, токарь по дереву, в хоре «Лира рабочих» пел басом. Адольф – писарь, мелкий делопроизводитель в мэрии, благодаря предательству рабочего дела и своего брата Пьера стал советником в мэрии, любил выпить, на концертах пел очень редко (имел плохонький тенор), зато бойко торговал билетами, нотами, программками и т. д. Виргиния была не просто кружевницей – она творила гипюр и чёрный валансьён, была старостой хора, знала хорошо нотную грамоту. В хоре пела меццо-сопрано. Что же касается Анри Кассорэ, то он был тоже не просто ткач, а «бархатных дел мастер». Великолепно владел аккордеоном.
Всё это были очень талантливые люди – за исключением Адольфа Дегейтера: он среди нихмог выделяться только как посредственность и приспособленец.
Я уже говорил о знаменательнейшей дате – 23 июня 1888 года, когда впервые был исполнен «Интернационал» на празднике… И тут вновь у разных авторов начинается разнобой: кто пишет, что это праздник печатников, кто – газетчиков, кто – профсоюзный праздник. Вообще, термин профсоюз применительно к тому периоду в истории Франции неуместен: вернее – синдикат в значении «объединение рабочих одной специальности». Это нечто среднее между средневековым понятием цех и современным понятием отраслевой профсоюз. Убеждённые синдикалисты были отпетыми соглашателями. Их знамёна были не знамёнами борьбы, не цеховыми знамёнами, а некими религиозно-сусальными поделками типа «заводская матерь божья». Хозяев, разумеется, такие знамёна устраивали куда больше! В этом эпизоде, кажется, мне удалось передать галльский дух моих героев: молодёжь веселится на берегу реки Дель, шумит ярмарочный торг, вертится карусель, разгорается петушиный бой. И тут же группки рабочих обсуждают политические новости – «с шуткой, с перцем – галльским сердцем», как выражался один французский публицист! Вот она, та атмосфера, в которой впервые на свет явилась песня песней борьбы и надежд!..
В остальных эпизодах такой органичности мне тогда достичь не удалось. К тому же я бессознательно шёл ещё во многом от только что завершённого либретто с его рельефностью, театрально-оперной условностью. К тому же эпизоды были слишком длинные для фильма – это словно картины в традиционной пьесе в многих действиях и множестве картин. Это сейчас пьесы в лучшем случае из двух частей с одним антрактом состоят!
Ещё одно обстоятельство меня волновало тогда, продолжает волновать и сейчас. Никаким образом сам факт знакомства личного контакта между Потье и Дегейтером не подтверждён. Напротив – так или иначе почти все авторы, пишущие на интересующую нас тему, подчеркивают, что поэт и композитор знакомы не были. И в то же время драматургически это прекрасная возможность и безумно жалко её упускать! И большой погрешности в таком допущении нет, ибо маршруты скрывающегося от врагов Коммуны Потье и убежавшего из немецкого плена двадцатитрёхлетнего Дегейтера совпадают. Таку меня и в сценарии, и в последнем варианте пьесы возникает эпизод «В каменоломне». Они могли встретиться! И пятидесятипятилетний Потье мог оказать на юного Дегейтера всепоглощающее влияние. К тому же это всё очень зрелищно, романтично – каменоломня, полумрак, таинственность, строки «Интернационала» – на стене пещеры! И кинорежиссёр Петров, и до мозга костей театральный режиссер Образцов это допущение приветствовали.
Однако я теперь с вершины лет отрицаю это решение. Пусть на юного Пьера окажет влияние поэтическое слово, а дополнит его воздействие – героическая молва о поэте-коммунаре \ К тому же слишком велик временной разрыв – почти шестнадцать лет! Почему так долго МОЛЧАЛ Пьер-композитор, Пьер-певец?! Да, ОНИ могли встретиться, но они и шли разными дорогами – не в плане идейном, а в плане жизненном: Потье тайно уходил в эмиграцию – он уехал через Бельгию в Англию, а потом в США и вернулся лишь после амнистии изгнанником-коммунаром в 1880 году. А Пьер всё равно шёл в Лилль, где у него были родные, близкие, где его ждала невеста… С разными чувствами они шли каждый своей дорогой.
И здесь я вспомнил слова из писем доктора Рубакина. Да, если говорить о Пьере юном, то он действительно и стихиен, и во многом несознателен, и живёт больше интуицией, или, применительно к певцу и резчику-виртуозу лучше сказать – сердцем. Зрелый Пьер и тем более Пьер в старости – это умудрённый годами, жизненным и политическим опытом сознательный деятель, вступивший в ряды Французской коммунистической партии в возрасте семидесяти двух лет! И – не ради каких-то благ, удобств и т. д.! Он просто сделал закономерный для себя выбор – появилась партия, в которой он не мог не состоять.
Подлинная драматургия в самом социальном заказе – социалист Делори привозит из Парижа в Лилль сборник Эжена Потье «Песни революции», изданный друзьями поэта после его смерти. Книжка тоненькая, дорога из Парижа в Лилль долгая… Наверняка Делори её прочитал от начала до конца, хотя особенно любовью к поэзии и вообще художественному творчеству не отличался.
И здесь я хочу сказать о моих героинях – Виргинии и Луизе (будем называть её так). Чем больше я думал о них, чем чаще представлял себе их, тем больше в них влюблялся – в таких умных, талантливых, грациозных, гордых, преданных и отважных! Во Франции в ту пору женщины не имели права голоса[97], но у них был свой голос во всём – в труде, в политике, в повседневных делах и, конечно же, – в любви. И обе из них носили фамилию Дегейтер – Луиза стала Дегейтер, а Виргиния была Дегейтер в девичестве. И вообще в Лилле Дегейтеров много, это очень распространённая фамилия. Это сейчас она воспринимается лишь применительно к творцу «Интернационала».
В сценарии у меня Николя Мартэна не было. Вообще, это один из немногих героев, не имеющих прямого документального подтверждения. Я его нашёл в… песне Эжена Потье в отличном переводе Валентина Дмитриева! Там есть такой рефрен: «Слышь, Николя, хоть их взяла, – Коммуна не убита!» Это обращение к «тем, кто пережил кровавую неделю», обращение к другу-коммунару. Так у меня в пьесе появился Николя Мартэн, живой связной между Потье и Дегейтегодуром. Этого Мартэна сразу же испугался Делори – ведь это живой «человек из 1871 года, коммунар!»
У рабочего класса Лилля оказалось два врага – фабрикант Де ла Мотт, охвативший своими щупальцами всё и вся в городе, и продавшийся ему социалист-мэр Делори. Вот подлинные лозунги, с которым шёл к власти Делори: «Защитим интересы землевладельцев и коммерсантов!», «Тарелку супа бедняку!» (удивительно, но именно этот лозунг провозглашал Гитлер, добиваясь власти!), «Наше знамя – дева Мария», «Святой Криспин – покровитель сапожников», «Святой Элоа – патрон жестянщиков», «Узаконим подкидышей»… Под этими лозунгами гремит выстрел жандармского офицера и поражает насмерть зятя Пьера Кассорэ, рабочего кандидата в мэры.
В сё-таки, как мне пригодились подготовительные материалы, как помогли тысячи страниц прочитанного! Тяжело, адски тяжело вживаться в чужую, хотя и родную по духу среду! Впоследствии я не раз буду ругать своих учеников – молодых драматургов за слишком лёгкое и поверхностное отношение к иностранному материалу в их пьесах. Обращения к такого рода материалу для автора, который не жил подолгу за границей, может быть редкостным, исключительным и каждый раз оправданным творческой судьбой, когда вступает в свои законные права знаменитый девиз Льва Толстого «Не могу молчать!»
Впрочем, я так увлёкся, что невольно отступил от намеченной ранее хронологии. А может быть, это и к лучшему?! Ведь всё, что знаю пока о судьбе своего фильма «Певец из Лилля» я, знаете теперь и вы. Опера «Интернационал» не состоялась – неожиданно тяжело заболел композитор Гладковский, рухнули надежды!..
…Грянула война, работа моя была прервана, и вернулся я к ней по-настоящему лишь в начале 70-х годов. Сперва были статьи, очерки, а потом несколько вариантов «Певца из Лилля» – уже пьесы. Но и во время войны «Интернационал», его тема, его авторы оставались со мной. Сохранилась фотография – наш ансамбль 42-й армии Ленинградского фронта после выступления в одном из полков в Автово. «Интернационал» мы исполняли лишь в самых торжественных случаях или же, когда положение было особенно тяжёлым. Такая песня не может звучать всюду и повседневно! В своих многочисленных лекциях как журналист и политработник я по мере сил и возможности старался рассказать своим слушателям на фронте, в госпиталях о том, что знал сам о Дегейтере и его судьбе. Но систематически заниматься темой в военные годы я, разумеется, не мог. С тревогой и болью я следил за борьбой французских патриотов с фашистскими оккупантами, постоянно думал о докторе Рубакине, от которого многие годы не было известий.
Гремел «Интернационал» и под сводами рейхстага в мае 1945 года, и я один их тех, кому посчастливилось встретить День Победы в её эпицентре, расписаться на одной из колонн: «ДОШЁЛ ОТ НЕВЫ ДО ШПРЕЕ ВОЕНКОР СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ Н. СОТНИКОВ».
В Германии я жил в семье немецкого антифашиста врача Вальтера, имевшего несомненные литературные способности. По-немецки к концу войны я уже говорил вполне сносно, и мы часто проводили с ним вместе долгие осенние и зимние вечера 1945 года. Я ему доверял вполне и делился с ним порою тем, что сделал за рабочий день, – а работа у меня была ответственная, и увлекательнейшая – я разбирал немецкие киноархивы, находясь в резерве Главпура[98]. Так что мой статус мне был не совсем ясен: вроде бы на службе, а вроде бы уже и нет. Впрочем, как человека по складу своему и по привычкам сугубо штатского меня такое положение устраивало вполне. Моя жена продолжала работать в госпитале как военврач-хирург, и у неё служба была несравнимо более строгая и регулярная. Поэтому мы вместе проводили время, к сожалению, довольно редко и старались чаще бывать на природе, в окрестностях Берлина. Не стоит считать, что всё было до фундаментов разбито и уничтожено в ходе военных действий: мелкие города и посёлки часто брались с ходу, оставались почти неразрушенными, сохранившими исторические черты всех прошедших через них эпох.
Естественно, я часто думал о том, о чём не мог не думать блокадник, защитник Ленинграда, видевший своими глазами все ужасы фашистского нашествия – о Германии, о фашизме, о немцах, о пруссачестве, о том, какой была Германия в войнах. Помогали мне в этих думах мой «милый доктор Вальтер», как я его называл, и… Пьер Дегейтер.
Дело в том, что меня томили многие годы слова Рубакина о каких-то песнях Дегейтера явно шовинистического, открыто антинемецкого характера. Одна из них (мне таки не довелось её прочитать!) называлась «Немецкий спрут». Дегейтер был призван в армию в 1870 году, после короткого обучения в качестве драгуна попал на фронт, был пленён, унижён солдатами в форме немецкой армии. На германском фронте погиб его сын Жюль – это уже спустя четыре десятилетия! Что же получается? Автор «Интернационала» не выдерживает экзамена на интернационализм, а этот экзамен Маркс считал для коммуниста одним из важнейших! Но вот я сейчас сижу за одним столом с немцем в его доме, я, русский коммунист, офицер Красной Армии, и веду с ним на немецком языке (правда, с моей стороны плоховатом) беседу о пруссачестве, о том, почему фашизм получил такой силы взрыв именно в Германии, и получаю мудрые, чёткие, порою неожиданные ответы. Вальтер меня уверяет в том, что в немецком национальном характере удивительно сливаются основательность, неповоротливость с небывалыми взлётами духа, только один взлёт – в высшие сферы добра и разума, а другой, взвинченный, экзальтированный, вздымает немца, чтобы тут же обрушить его в пропасть. Этим, последним, качеством, по мнение Вальтера, и воспользовался Гитлер. Далее Вальтер приводит мне в пример нашего общего знакомого шофёра Ганса. Когда-то Вальтер спас как врач его от тяжёлой болезни, ещё до начала войны, и Ганс остался ему благодарен на всю жизнь. Они сейчас, когда есть возможность, подвозит нам по мере сил некоторое количества бензина для Вальтера да и меня порою – в Берлине и окрестностях с транспортом очень худо! Ганс не был лютым фашистом, но многие идеи фашизма ему импонировали. Потом он понял, что главное – это выжить, и вспомнил о своей второй профессии – колбасника, доставшейся ему от родителей. Сейчас он радостно приветствует меня и доктора Вальтера и называет нас товарищами! Он один из тех, кто первый закричал «Гитлер, капут!» Однако, глядя на Ганса, я представляю себе, каким бы он стал на Восточном фронте: в белорусских лесах, под Москвою, напротив меня – у Пулковских высот, где я немало допрашивал таких пленённых Гансов.
В чём беда, говорит мне Вальтер, так это в том, что в немцах очень силён дух обывательщины, и добавляет – к сожалению, это можно сказать и об антифашистах и даже о некоторых коммунистах. «Только самые волевые и стойкие из них (как это у вас, у русских, говорил Чехов?..) 'выдавливают из себя по капле раба”. Думаю, что раба даже легче из себя выдавить, чем обывателя. Ведь обывателем быть не так-то уж плохо! Во всяком случае, намного комфортнее, чем героем!» Да, Вальтер отличался не только умом, но и остроумием…
И тут во время нашего разговора из недр памяти всплыло имя Лео Вайса, корреспондента немецкой прогрессивной газеты «Роте фане». Его репортаж[99]о посещении им Пьера Дегейтера в Сен-Дени был опубликован в этой газете 6 января 1927 года. Мне прислали газетную вырезку французские товарищи из Сен-Дени вместе с другими материалами. Репортаж написан довольно скупо, чего-либо нового мне он. Литературные достоинства репортажа также не обратили на себя внимание, но даже мой поспешный перевод текста Вайса передавал ощущение теплоты и сердечности, с которой автор описывал и бедность домов и улиц Сен-Дени, и те тяготы и невзгоды, которые выпали на долю старого Пьера Дегейтера, который принял у себя дома немецкого журналиста и оказал ему гостеприимство. Нет, Вайс не был для Дегейтера «немецким спрутом», а был немецким товарищем, единомышленником, гостем. Как сложилась судьба Вайса спустя шесть лет, когда к власти пришли гитлеровцы? Скорее всего – трагически!..
Для Дегейтера много значили имена Карла Либхнехта-отца и Клары Цеткин.
Ещё раз представляю себе Пьера в драгунском мундире. Со своей частью, полком, он побывал у Пауэна, на Сонских холмах, в боях под Мецом был, видимо, легко ранен, наконец, он стал свидетелем разгрома «великой» армии Наполеона III, или, как его называли, Наполеона Малого, под Седаном. В армии Пьер был одним из самых беспокойных солдат. Там он читал, изучал и пропагандировал Коммунистический Манифест великих немцев Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а потом, вместе с группой товарищей дезертировав из разгромленной французской армии, тайком пробирался домой. На пути к Лиллю он должен был свернуть, ибо дома были немцы. Требовалось время, пока он смог вернуться на родину.
Так всё сложно, так всё переплетено и всё взаимообусловлено! Как впрочем, и теперь: мы с немцем Вальтером в поверженном Красной Армией Берлине слушаем по радиоприёмникам вести из ликующего Парижа, и живая французская речь перемежается шансонами. Живо искусство народной песни! И я, захваченный каскадом французских мелодий, начинаю рассказывать Вальтеру, повторяю, большому ценителю киноискусства, о фильме Жана Ренуара «Марсельеза». Фильм этот я смотрел до войны, режиссёр поставил его в 1938 году. Вальтер его, конечно, не видел: в гитлеровской Германии такая кинолента идти не могла.
Как эта светлая и мужественная кинолента контрастировала с тем, что я видел в Берлине в просмотровом зале в последнее время! Фашистская кинопродукция оставляла очень тяжёлый осадок у всех, кто по долгу службы знакомился с ней, а у меня, человека небезучастного к киноискусству и причастного к нему, – особенно. Не будет преувеличением сказать, что я в ту пору буквально отравился киноэкраном и потом долгое время не мог вернуться к прежнему свободному, раскованному, упоённому восприятию кинопроизведений.
Чтобы завершить тему доктора Вальтера, скажу, что жить он остался в ГДР, медицинскую практику почти оставил и стал писать для кино. Один из его фильмов я видел, к сожалению, в отрывках, но всё равно чувствовалась уже рука не новичка, а самостоятельного мастера. Тогда, в 1946 году, я прощался с ним, уезжая в Ленинград, как с другом.
Завершалась целая эпоха в истории века и очень большая и значительная глава в моей судьбе. Впоследствии я много думал над тем, что для представителей более младших поколений война была всем, они были ею полностью поглощены, они всю жизнь потом жили её воспоминаниями. Самыми травмированными лютой войной оказались поколения юношей войны и детей войны, и только послевоенное поколение смогло строить свою судьбу, словно пробившись через дымовую завесу. А у меня и до войны драматических сюжетов хватало, и судьба уже была немало выстроена мною и историей. Ведь всё-таки встретил я 22 июня 1941 года как ровесник века в возрасте зрелом и серьёзном. Так что после войны мне нужно было прежде всего продолжать то, что война помешала воплотить. И самым заветным творческим замыслом по-прежнему оставался замысел экранного и театрального воплощения темы «Интернационала».
Глава пятая О стихах и песнях авторов «Интернационала»
Без этой главы нам никак не обойтись. Ведь в конечном счёте не об истории Франции, прежде всего её политической истории, не об истории славных ремёсел мы вели речь, а о том, как все эти компоненты, слагаемые, условия, предпосылки привели к истории создания необыкновенной песни с феноменальной судьбой. Но и песня эта не стояла и не могла стоять особняком в творчестве её авторов…
Каком творчестве? Ловлю сам себя на слове! Литературном? Музыкальном? Не такой уж простой вопрос! Легче всего, разумеется, сказать, что для Потье – литературном, а для Дегейтера – музыкальном. Однако и Дегейтер был поэтом, и Потье – музыкантом, причём, как сейчас всё чаще думаю, они и в этом как бы уравновешивали друг друга: Дегейтер владел поэтическим песенным словом, из него при определенных условиях несомненно мог выработаться большой и оригинальный поэт, а Потье, превосходно чувствуя стихию шансон, был немного композитором даже тогда, когда его песни так и оставались на бумаге. Что касается собственно артистических, особенно вокальных данных, то, думается, здесь приоритет за Дегейтером, зато как оратор он проигрывал перед Потье.
Потье я не видел и не слышал, да и не мог – в силу причин временных, биографических. С Дегейтером виделся, беседовал, как вы знаете. Конечно, годы делают своё. Они и богатыря способны превратить в живое олицетворение возрастных недугов. Но вот странное дело – я отнюдь ростом не гигант (чуть выше 170 сантиметров), отчётливо помню, что Дегейтер был ниже меня, однако, чисто художнически в разные периоды работы над своей заветной темой я видел его рослым, удалым, статным, здоровым духовно и физически человеком. Мне всегда верилось, что его так и не надломили тяжкий труд, социальный гнёт, чердаки и подвалы, в которых он жил и работал попеременно, личные горести, невозможность долгие годы соединить свою судьбу с судьбой своей возлюбленной.
Как и Дегейтер, Потье проходит школу и профсоюзной, и партийно-политической борьбы. Потье – превосходный оратор, публицист. Дмитриев цитирует речи Потье. Это действительно шедевры политической публицистики! Его роль в истории общества, в истории политической, международной не меньшая, чем в истории поэзии.
В главе о самом «Интернационале» мы ещё вернёмся к разговору о кровавой неделе белого террора, направленной против коммунаров и сочувствующих им. Спасаясь от ищеек карлика Тьера и палача генерала Галифе, от которого в истории остались штаны соответствующего покроя и чёрная слава карателя, Потье ушёл в девятилетнюю эмиграцию. Сперва (и очень недолго) он прожил в Бельгии, потом пересёк Ламанш. Дмитриев утверждает, что Потье сперва жил со своей женой Каролиной в Гревзенде, небольшом портовом городке под Лондоном, а потом в самом Лондоне, где образовалась колония коммунаров-эмигрантов. Среди них были и коллеги Потье по перу – поэты Клеман и Шатлен. Здесь он прожил почти полтора года. Дмитриев упоминает о том, что в Лондоне у Потье родилась «ещё одна дочь, Маргарита». Тут есть некоторые, до сих пор не совсем ясные мне расхождения в фактуре. Из Парижа к бельгийской границе Потье бежал один. На вопрос, где и как произошла его встреча с женой и детьми, пока ответа нет. От палачей-ищеек он тоже скрывался в Париже один. Где и как спасались члены его семьи, тоже мне не понятно. Может быть, им укрыться, а затем выйти в назначенное место и время помогли друзья.
Второй волнующий меня вопрос – была ли встреча Потье с Карлом Марксом? Дмитриев и Гатов о такой встрече не упоминают. В моих довоенных записях, выписках, конспектах, к сожалению, разрозненных и сохранившихся лишь в отрывках, есть упоминание о возможности такой встречи. Во всяком случае, Карл Маркс, Фридрих Энгельс и секретарь Генсовета I Интернационала Фридрих Зорге[100] об Эжене Потье знали. О Потье– коммунаре – наверняка, о Потье-поэте – вполне возможно. А о Потье авторе «Интернационала»?.. Маркс – безусловно, нет, ибо он скончался в 1883 году, а текст «Интернационала», написанного в 1871 году, был впервые опубликован в сборнике Эжена Потье «Революционные песни» в 1887 году. В. Дмитриев подчёркивает в первых же строках главы «Наконец-то!», что ранее текст великого гимна не издавался. Однако… Как драматург я допускаю возможность, что при предполагаемой встрече Эжена Потье с Карлом Марксом в Лондоне поэт мог познакомить своего учителя с произведением, созданным совсем недавно и названным ТАК ЖЕ, КАК и основанное Марксом товарищество борцов за освобождение человечества от гнёта капитала – «Интернационалом»!
Этот сюжетный ход не даёт мне покоя! Здесь та же история, что и с допущением личного знакомства Потье с Пьером Дегейтером: с одной стороны, это МОГЛО БЫТЬ, а с другой, – это творческое допущение таит огромные возможности, которые так жалко упускать! Забегая вперёд, скажу ещё об одной совершенно реальной возможности – допущении того же рода: Пьер Дегейтер МОГ лично видеть и слышать Ленина и ДАЖЕ С НИМ ГОВОРИТЬ, может быть, и не зная в ту пору истинных масштабов величия своего невольного собеседника. Ведь Владимир Ильич слушал Монтегюса и беседовал с ним. Как раз в ту пору слушал Монтегюса и Пьер Дегейтер, очень возможно – в том же самом кабачке на Монмартре\..
В разных редакциях либретто оперы, пьесы и киноповести я то вводил эту ключевую сцену, то столь же решительно отказывался от неё. Почему? Я много размышлял над образом В. И. Ленина в кино и в театре, немало читал драматургических сочинений на эту ответственейшую тему. С одной стороны, я видел, что бывают удачи, когда Ленин ведет действие от начала до конца, как, скажем, в фильме «Ленин в Польше», с другой стороны, редко, но все же случались удачи, когда В. И. Ленин оказывался в эпизоде, но, как правило, ключевом, как, например, в фильме «Коммунист» – помните, Губанов приезжает в Москву за… гвоздями для стройки и добивается своей цели лишь на самом высшем уровне. И все же я и сам остерегался и учеников своих предупреждал и в лекциях, и на семинарах, и в личных беседах: стоит ли выводить на сцену или на экран Ленина ради нескольких слов, ради удовлетворения своих авторских амбиций, непременного желания тоже поучаствовать в создании Ленинианы! А мой тезис тут же подхватывали и режиссёры, особенно театральные: для нас, да ещё в малых театрах – это порою невыполнимая задача!
И всё же один из эпизодов так и стоит у меня перед глазами: Пьер в Париже голодает, перебивается тем, что торгует газетами. Он немощен, голоден, смертельно устал, он почти механически повторяет название продаваемой им газеты: «Пер паблик»… «Пер паблик»[101]… Навстречу ему быстрой своей походкой идет ещё совсем молодой Ленин вместе с другими русскими революционерами-эмигрантами, не только единомышленниками, даже напротив – постоянными оппонентами. И когда один из них с чувством политического вожделения роняет фразу: «А нам бы свою, пусть и маленькую республику!..», Владимир Ильич резко парирует: «А мы на маленькую республику не согласны! Не для России маленькая республика!» и проходит в кафе, где должен выступать Монтегюс, откуда уже доносятся звуки шансон и аплодисменты.
Встреча? Да! Но они друг друга не знают и лично не узнают никогда. Зато мы, зрители, знаем всё наперёд и поэтому нами овладевают и чувства гордости, и чувство горечи…
В одном из вариантов пьесы я пошёл таким путем. Уставший и замерзший Пьер заходит в ЭТО, в ТО ЖЕ кафе на огонёк. Он сидит в одном зале, а в ДРУГОМ ЗАЛЕ, как ему говорит кабаретье, сегодня русские революционеры и МОНТЕГЮС. И Пьер после нескольких шансон Монтегюса СЛЫШИТ свою ПЕСНЮ, свой «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» и именно тогда, а не на Красной площади в 1928 году он произносит свои знаменитые слова: «Это не моя песня. Это – мое счастье!»
И сейчас, написав эти строки, я убеждаюсь в том, что, вероятно, так тоньше, психологически достовернее и глубже! Да и исторически вернее. Не нужно слишком плакатного апофеоза – песня его уже не только оружие в руках французских социалистов, она как эстафета уже перешла к русским революционерам, и они увезут её на родину – в свою далёкую Россию. В киноповести я не стал предлагать московских встреч. В пьесе Пьер, рассказывая о своей судьбе и судьбе «Интернационала» рабочим мытищенского завода, все равно уносится мыслью в родную Францию. Франция была с ним всегда и всюду. И это тоже роднило Дегейтера и Потье, который стал видным деятелем Рабочей социалистической партии Северной Америки после приезда из Англии в США, но хотя он, по его же словам, после амнистии коммунарам в 1880 году вернулся «постаревшим и нищим», он все-таки вернулся. (Обо всем этом Дмитриев подробно и прочувствованно говорит в главе «Вновь на родине».) И вот он, Потье приходит к стене коммунаров на кладбище Перлашез, где мог бы лежать среди соратников. Он вступает в 1879 году во Французскую рабочую партию, программа которой была разработана с участием самого Карла Маркса! На муниципальных выборах партия собрала сперва 15 000 голосов, потом – 100 000, – и каждый раз Потье откликается на эти события поэтическими строками! Он ставит свою поэзию на службу родной партии.
Большое на меня впечатление произвёл анализ Валентином Дмитриевым поэмы Эжена Потье «Парижская коммуна» и особенно два акцента исследователя на цитатах: «Ты все бастилии разрушить не успела…» (это о Коммуне) и «Мы не умели ненавидеть» (это о коммунарах). Они не раздавили «гнездо гадюк», и вот сто тысяч братьев пали в огне вражеского террора! И – во многом потому, что Парижская Коммуна не стала Французской Коммуной. На помощь парижским коммунарам спешили единомышленники, и среди них был Пьер Дегейтер, но их отрезали от Парижа. Они не приняли участие в ТЕХ боях, но они на всю жизнь остались КОММУНАРАМИ по духу, по сути. Считал себя пожизненным коммунаром и Пьер Дегейтер.
Нам сейчас очень трудно судить о том, каким человеком был отец Пьера Дегейтера Адриан Дегейтер, однако, некоторые предположения сделать можно. В Бельгии было теснее, чем во Франции, процесс капитализации там протекал быстрее, скорее росла безработица, и на рынок труда соседней Франции Бельгия то и дело выбрасывала излишек рабочей силы. Так была и вытеснена семья Дегейтеров. Возможно, были и ещё какие-то причины, более локальные, конкретные. Адриан был неграмотным. Он даже не смог расписаться в декларации о переходе из бельгийского подданства во французское гражданство. Думается, он был умеренным и средним во всём: во взглядах, по своим способностям, по своему мастерству, однако, оставался хранителем каких-то и профессиональных секретов, и традиций.
А теперь прочитаем два документа. Как мне писал из Парижа Рубакин, они хранились в музее в Сен-Дени.
Список работ П. Дегейтера[102]
Интернационал – марш
Интернационал – хор на 4 голоса
Восставший – марш-песня
Вперёд, рабочий класс! – марш
Песня коммуниста – марш-романс
Детский клуб – детская песня, реалистический романс
Аэроплан – вальс
Неутешный – мелодия
Да здравствует бал! – песенка
Интернационал – марш (фанфара и фисгармония)
Роза в цвету – мелодия для девочек
Царица цветов – романс
Боевой марш – слова и музыка Дегейтера, подлинная рукопись, посвящается Вэланту Кутюрье, депутату.
Вперёд, рабочий класс! – слова Э. Потье, музыка Дегейтера, подлинная рукопись, представлена в то же общество (имеется печать) 6 апреля 1926 года, № 301. 865.
Возвращение ласточки – слова и музыка Дегейтера, подлинная рукопись, представлена в то же общество (имеется печать) 12 апреля 1926 года, № 301.836.
Все с пианино и без него
без пианино 1,25 су
с пианино 2,25 су
ул. Ласточек, 2
Сен-Дени
Копия Декларации, подписанная господином Дегейтером Адриеном и сюжет о его французском гражданстве
Копия Декларации, подписанной в Лилле Пьером Дегейтером о сюжете о французском гражданстве его сына Жюльена Аугусто. (В архиве И. А. Сотникова не найдена.)
Копия рукописи «Серп и молот», марш, слова и музыка Дегейтера.
Триумф русской революции, копия подлинника рукописи Дегейтера, слова Дегейтера, с пометками карандашом автора в конце.
Экземпляр газеты «Эмансипасьон», суббота, от 1 октября 1932 года, № 592, редакция и руководство: Биржа труда, 4, улица Шугер, Сен-Дени, номер посвящён Пьеру Дегейтеру. (Был в очень плохой сохранности.)
Да здравствует бал! Подлинная рукопись Дегейтера.
Мечта о России, слова Люсьены Дегейтер, музыка П. Дегейтера, автографы Пьера Дегейтера, слова и музыка.
«Эти документы даны для передачи товарищу Н. Сотникову, которые должен отдать доктору Рубакину не позднее 1 мая 1934 года» (Приписка А. Н. Рубакина).
Копия сделана 18 марта 1934 года доктором Рубакиным
И, наконец, тот самый уникальный документ!
Департамент Норд
Город Лилль
11.620x92
Республика Франция
Свобода, Равенство, Братство
Копия декларации,
подписанной господином Дегейтером Адрианом сообразно статьям 9 и 10 гражданского кодекса
В 1889 году 29 апреля к нам (мэру города Лилля) явился мьсе Дегейтер Адриан, живущий в городе Лилле, который объявил нам в присутствии мьсе Офре Анри и мьсе Бернарда Ашиль, что, родившись в Тенте (Бельгия) 10 апреля 1818 года от отца, родившегося в Тенте 17 июля 1795 года то есть, в то время, когда эта страна принадлежала Франции, и до обнародования в книге первой гражданского кодекса он желает обосноваться во Франции и требует прав француза на основании статей 9 и 10 § 2 гражданского кодекса. В подтверждение своей декларации мьсе Дегейтер Адриан нам представил свой акт о рождении и акты о рождении и браке своего отца. На основании этой декларации мы составили этот акт, который явившийся не мог подписать вместе с нами, так как не умел этого делать.
В мэрии Лилля в год, месяц и число, указанные выше.
Копия верна:
Мэр Лилля (подпись) Печать мэрии Лилля
(Подчёркнутые части написаны в оригинале от руки, остальное печатная формула. Отец Пьера Дегейтера был неграмотным до конца своих дней, ввиду чего он не мог подписать своей декларации).
Отец Эжена Потье (да и его мать) были и бонапартистами, и католиками. Сын не принял ни того, ни другого. История сохранила его имя – Жан-Франсуа. В. Дмитриев весьма убедительно и красочно описывает быт и атмосферу в доме Потье-старшего. Вот весёлый, озорной и уже пробующий свой поэтический голос сын возвращается с дружеской пирушки поздно ночью. Ему открывает дверь злой заспанный отец, которому надо с рассветом вставать, облачаться в старенький халат и до позднего вечера пилить доски, сколачивать ящики, в которые будет упакована дорогая мебель. Дегейтеры делали мебель, Потье её упаковывали. Неожиданная параллель! Потье-отец мог научить сына лишь самым простым ремесленным навыкам – сам большего неумел. Дегейтер-отец, хотя звёзд с неба не хватал ни над Бельгией, ни над Францией, был живым учебником таинств вдохновенного искусства резьбы по дереву.
«Одни песни у тебя на уме!» – сердится отец Потье. А сам Эжен в знаменитой песне о народном певце старике По-По, то есть о себе, в конечном счёте, вспомнит те дни ремесленного ученичества. Имеется два перевода этой песни – Гатова и Дмитриева. Мне лично больше нравится второй – он легче, изящнее, хотя, наверное, менее точен. Там есть прекрасный поэтический афоризм, который полностью применим и к Эжену Потье, и к Пьеру Дигейтеру: «А голова его полна одним и тем же: это песни».
Да, каких бы вершин ни достигали в своих ремёслах Потье и Дегейтер, как бы они ни трудились на ниве общественной, профсоюзной, партийно-политической, всё равно поэтическое слово выходило на передний план!
У Эжена Потье, конечно, масштабность политической деятельности и её размерах неизмеримо шире, чем у Дегейтера. Достаточно сказать, что он, встретивший Коммуну владельцем мастерской по росписи тканей, авторитет в области декоративно-прикладного искусства, достигший благодаря труду и таланту определённого достаточно высокого благополучия, без колебаний, несмотря на возраст (ему было уже почти 55 лет) и подорванное борьбой и лишениями здоровье, вступает в действующую армию, становится адъютантом командира батальона. Его избирают в Комитет безопасности того округа Парижа, где находилась его мастерская. Несколько ранее он, основатель профсоюза художников по тканям, профсоюза, примкнувшего к Интернационалу, ведёт борьбу за права мастеров-ремесленников. Ничего себе – владелец мастерской! Потье всё дальше и дальше отходит от своего дела, имея в виду налаженное производство в мастерской.
Он вместе с другими членами парижских секций Интернационала подписывает воззвание об образовании «Республики рабочих и крестьян». На выборах в Коммуну за него голосует 3 352 избирателя из 3 600. В Коммуне он вместе со знаменитым художником Густавом Курбе ведает вопросами литературы и искусства, затем включается в работу комиссии общественных служб. Стихов не пишет в эти дни совсем! Дел невпроворот! Он занимается порою самой простой, будничной, отнюдь не поэтической работой – вплоть до открытия мастерских по пошиву белья для национальных гвардейцев. Он занимается вопросами финансов, обороны, его волнуют проблемы ломбардов, квартирной платы. Это именно Потье настаивал на немедленном закрытии всех парижских публичных домов! Десятки, сотни забот с утра до вечера. Самые последние часы Коммуны… Где Потье? В. Дмитриев склоняется к мысли, что он был на баррикадах. Такой намёк имеется в письме Эжена Потье Лафаргу, однако, – именно намёк: Потье до удивления скромен! Однажды он прямо заявил, что его биография решительно не представляет никакого интереса. А ведь такой биографии могло бы с лихвой хватить на многие замечательные судьбы!
Кровавая неделя продолжалась с 22 по 28 мая 1871 года. Потье скрывался в мансарде где-то на Монмартре, на том самом Монмартре, где спустя почти 30 лет В. И. Ленин услышит из уст Монтегюса «Интернационал».
1888 год принёс Дегейтеру и небывалый творческий взлёт, и горечь коварства, предательства и обиды – его лучшая песня оказалась «законно» украденной в республике, девизом которой даже на официальных документах были слова: «Свобода. Равенство. Братство»! А было ему, напоминаю, всего лишь 40 лет! Вот после всех перипетий, после травли, исключения из социалистической партии и профсоюза, а по сути дела, после начала изгнания навек из родного Лилля он и получил первый, самый сильный и до конца не забытый удар со стороны врагов, в том числе – удар и по здоровью. Помню, мне Пьер так и сказал в нашей краткой беседе: «После того я словно потерял крылья и долго, и мучительно ждал, пока отрастут крылья новые…».
И всё равно я и в спектаклях, и в фильме мечтал видеть артиста сильного, полного жизнелюбия, оптимизма, неунывающего и неукротимого и вовсе не боялся того, что кто-то из возможных исполнителей роли будет выглядеть несколько моложе, задорнее и стройнее, чем сам Пьер в 40 лет[103]. Я писал не только и не столько конкретного Пьера Дегейтера со всеми нюансами его характера и судьбы, сколько французского певца – борца, рождённого французским народом, славным своим революционным духом и свободомыслием.
Думая о том, каким был певец, я не мог не думать о его песнях. Если о Потье-поэте есть литература у нас и на его родине, то Дегейтер-поэт обделён вниманием совсем. Читая по-французски, я могу сказать со всей ответственностью, что звучат его стихи легко и грациозно. С русскими текстами дело обстоит сложнее.
В 1972 году издательство «Музыка» тиражом в полторы тысячи экземпляров выпустило тоненькую книжку «П. Дегейтер. Песни в обработке В. Белого для голоса с фортепиано». Сборник включал в себя шесть песен в переводе Валентина Дмитриева, верного и давнего переводчика и исследователя творчества Эжена Потье. Так что обращение именно В. Дмитриева к песням Дегейтера было закономерным. Открывается сборник кратким предисловием «От переводчика». Какие-то факты биографического рода нам уже довольно известны, они к тому же бесспорны. Некоторые же продолжают вносить разноголосицу в биографию певца. Например, по В. Дмитриеву, получается, что Пьер сперва посещал классы Лилльской консерватории, но «сделаться профессиональным музыкантом ему не удалось: он стал мебельщиком и искусным резчиком по дереву». Думается, что сама постановка вопроса не верна: получается, что Пьер чуть ли ни ребёнком стал ходить в консерваторию! Он посещал, всё же скорее всего, КУРСЫ при консерватории будучи уже взрослым человеком в свободное время\ Это не просто переквалификация: не вышло одно, так решил попробовать себя в другом. К тому же, как мы знаем, ремесло носило потомственный характер, семейный, во многом – по-старинному цеховой. Так что предопределённость в выборе ремесла была!
Интересно то, что В. Дмитриев подтверждает год окончательного переезда Дегейтера в Сен-Дени из Лилля – год 1902-й, а также утверждение, что Дегейтер и в Сен-Дени организовывал, как и в Лилле, хоровые кружки из рабочих. Но самое главное – дальше: «При жизни Дегейтера было издано около двух десятков его песен. Талантливый самоучка, он большей частью сочинял мелодии на собственные тексты…». Далее В. Дмитриев называет кроме «Интернационала» ещё такие произведения на слова Потье как «Инсургент» («Коммунар») и «Вперёд, рабочий класс!» Остальные музыкальные произведения написаны Дегейтером на свои стихи. В сборник вошли песни «Красная Дева», посвящённая героине Парижской Коммуны Луизе Мишель, «Песня коммуниста», посвящённая Марселю Кашену, «Серп и молот», «Детский клуб» и «Да здравствует бал!» В. Дмитриев упоминает также песни «Возвращение ласточки», «Царица цветов», «Мечта о России» (при участии внучатой племянницы Люсьены) и «Триумф русской революции». «Мечта о России», «Серп и молот» и «Триумф русской революции» датированы 1927 годом.
Итак, по данным В. Дмитриева, при жизни Дегейтера было напечатано около 20 песен. Всё ли это? Полный ли это творческий багаж? Думается, что нет. Во-первых, Дегейтер стал регистрировать свои произведения в обществе авторов лишь после изуверской кражи у него авторских прав на его любимое детище «Интернационал»; то есть не ранее 1888 года. А писать он начал и стихи; и музыку гораздо раньше; ещё в юности; и продолжал творческую деятельность как минимум до 1927 года.
Вообще я как-то неожиданно поймал себя на том, что 1888 год для Дегейтера не только вершина творчества; но и пусть не совсем точная арифметическая; но биографически – середина жизни: родился в 1848 году в 1888 году написал музыку «Интернационала»; в 1928 году посетил страну где его песня стала государственным гимном. Сорок лет до вершины и немногим более – после.
А в плане творческом? Я как писатель не берусь давать сугубо профессиональный музыковедческий анализ песням Дегейтера. Могу о них судить как слушатель; как литератор; наконец – как автор ряда произведений о Дегейтере; как его биограф. О самом «Интернационале» речь в следующей главе. Что же касается других песен; то когда я познакомил нескольких музыкантов с нотами песенных произведений Дегейтера (мы в ту пору готовили музыкальное оформление спектакля «Певец из Лилля»); то все мои музыкальные эксперты чуть ли ни в один голос воскликнули: «Вот так столяр! Да это же зрелый музыкант-профессионал!» (Я каждому немного рассказывал о жизни и творчестве Дегейтера; давал; как говорят; вводные данные.)
Подобно своему учителю в поэзии Эжену Потье Пьер Дегейтер как поэт даёт посвящения: романс «Красная дева» посвящается «памяти Луизы Мишель»; «Песня коммуниста» – «депутату Марселю Кашену»; прежде всего; конечно; – коммунисту Кашену товарищу по партии. Для романса текст перенасыщен информацией. Судьба Луизы Мишель слишком велика и насыщенна; чтобы она могла уместиться в короткие строки трёх куплетов и одного припева. В поэтическом отношении (в переводе В. Дмитриева) выделяются первые строки первого куплета и последние строки припева. Процитирую их:
О Красной Деве не забыть; чьё сердце перестало биться… Умела ты людей любить; спешила ты за них сразиться!..И финал припева:
Дерзай; борись; расти детей; чтоб сменой стать тебе сумели; и пели песни новых дней[104]; чтоб о свободе песни пели!И вновь удивительное и красноречивое сопоставление! В 1887 году на похоронах Эжена Потье одну из самых пламенных речей произнесла Луиза Мишель. Скончалась она в 1905 году в возрасте 75 лет. Прощальную песню ей пишет Пьер Дегейтер. Имена Дегейтера и Потье пересекаются постоянно. У них общие друзья и общие враги. Неожиданно возникает датировка песни «Красная Дева» – 1905 год, год начала первой русской революции!..
«Песня коммуниста»; посвящённая депутату от ФКП Марселю Кашену как и песни «Мечта о России»; «Серп и молот»; «Триумф русской революции» написаны Пьером Дегейтером в последние годы его жизни. Все названные сочинения точно датированы 1927 годом, то есть созданы накануне поездки в СССР. Примерно к тому же времени относится и «Песня коммуниста»; во всяком случае; оперативный повод её написания ясен – объединение усилий Народного фронта Франции во главе с коммунистами с целью не допустить установления власти французских фашистов – кагуляров. Это воистину боевой марш! С таким маршем можно идти не только на демонстрацию; но и в бой.
Вперёд идите; коммунисты! Вперёд; вперёд; рабочий класс! Скорей дадим отпор фашистам; биржевикам; что грабят нас!Так начинается первый куплет. Обратите внимание; что первая и вторая строка специально противопоставлены третьей и четвёртой: в песне; как в жизни: коммунисты во главе рабочего класса; рабочий класс идёт за коммунистами; фашисты-кагуляры смыкаются тайно; а то и явно с финансистами-воротилами так называемого большого бизнеса.
Второй куплет характерен обращением: «Шахтёр, художник и рабочий, и скромный труженик полей…». Здесь очень важно отметить равноправие в ряду трудящихся людей творческих профессий: они тоже живут свои трудом, они тоже не эксплуатируют чужой труд.
В третьем куплете возникает тема гимна «Интернационал», который уже свыше четырёх десятилетий ведёт в бой солдат армии труда. Фашистов Дегейтер-поэт называет сворой убийц, бандитов и воров, он призывает к власти «рабочий форум», чтобы с пением «Интернационала» освободить труд и вернуть награбленное народу.
И наконец, четвёртый куплет, написанный с верой в то, что во Франции Народный фронт во главе с коммунистами победит:
Знамён полотнища алеют. К бою готовы мы давно. Силою нас не одолеют, врагам пройти не суждено!После каждого куплета – припев, звучащий как заклинание:
Так вперёд, коммунист, На борьбу! Твёрже шаг! С дороги, фашист! Поднимем алый стяг!Напоминаю, что Пьер Дегейтер умер в 1932 году, за год до прихода к власти в Германии Гитлера. Я не сомневаюсь в том, что если бы Дегейтер дожил до страшных лет войны, оккупации и унижения Франции, он бы в любом возрасте и при любом состоянии здоровья делал бы всё посильное для борьбы с врагом и его пособниками внутри страны.
В 1965 годуя с большим волнением смотрел полюбившийся мне фильм режиссёра М. Ромма и сценариста Е. Габриловича «Убийство на улице Данте», французский по материалу, интернациональный по своему духу, с очень точными политическими и психологическими характеристиками. Ведь так часто, к сожалению, бывает, что политические и психологические акценты в искусстве не совпадают, существуют сами по себе. А в картине старых кинематографистов всё было сделано очень точно и в то же время легко, непринуждённо. Прочитав мой очерк о Франции и её песнях, вы теперь уже поймёте, почему меня так разволновала эта кинолента и в плане личном, творческом. О многих образах можно было бы говорить долго и обстоятельно – они этого заслуживают. Но сейчас, в связи с темой Дегейтера, я хочу вспомнить лишь об одном, далеко не самом главном герое – отце главной героини, знаменитой французской актрисы, антифашистки, обыкновенном, вовсе не героическом провинциальном трактирщике. Он разбит параличом, стараниями дочери и друзей только-только пошёл на поправку, как в городок должны войти немецкие фашисты. Дочь и её друзья, будущие партизаны, требуют, чтобы старик согласился следовать с ними – они понесут его на руках.
«Нет, – качает головой старый француз, – я вам буду обузой, погибну где-нибудь по пути, свяжу вам руки своей неподвижностью, не в помощь вам буду, а в тягость. Я останусь здесь за этим столом, передо мной будет мясо, вино, я буду курить трубку, оставьте мне пистолет. Я старый солдат и минимум двух фашистов прихвачу с собой на тот свет! Вы таким меня и запомните!»
Я не ручаюсь, что точно передаю прощальный монолог старика. Прошло немало лет с тех пор, как я видел фильм, но эта сцена стоит перед моими глазами. И я почему-то всё время вижу на месте этого трактирщика… своего Пьера! При всей разности судеб, меры политической зрелости они оба сыновья своей Франции, французы до мозга костей!
Так, значит, ошибся Дегейтер в предсказаниях своей боевой песни! Вовсе нет! Кагуляры не прошли! Фашисты и их пособники были сметены с французской земли, а душой движения Сопротивления стали коммунисты, которым посвятил свои строки старый Пьер.
Композиторская ремарка Дегейтера к песне «Серп и молот» звучит так: «ПОДВИЖНО, УВЕРЕННО»:
Россия, дальняя страна, достойна славы мировой: ведь стала в наши дни она рабочим матерью родной. Там пролетарии берут заводы, домны, рудники, крестьянам землю отдают, — добились счастья бедняки! В новой России каждый молод, сбросив оковы навсегда… Славьте, народы, серп и молот и знамя алое труда!«Песню “Мечта о России” Дегейтер написал на слова своей внучки Люсьены». Так утверждает Валентин Дмитриев в своём предисловии к сборнику П. Дегейтер «Песни». Это не совсем точно – текст писал в основном Дегейтер, а внучка, увлечённая рассказами деда, сама не чуждая музыкальных способностей и живущая в мире песен деда, подхватывала ту или иную тему, ту или иную строку. Возможно, что какие-то строки принадлежат ей, допускаю, что даже – куплет и припев, но песня эта написана от лица Дегейтера, коммунара по духу, ветерана французского революционного движения. Это бесспорно.
Республика поэтов молодая, ты революцией освободила труд, и на земле, от края и до края, все нации тебя за это чтут.В своём переводе я старался сохранить песенность, напевность строк, их лаконизм и политическую конкретность.
Очень важна для понимания Дегейтера нами его песня «Детский клуб». В переводе Валентина Дмитриева она звучит несколько сантиментально, даже чуть слащаво. Она добра, чуть насмешлива и в то же время тверда, решительна и даже сурова! Редкостное сочетание в пределах одного произведения. Адрес песни совершенно определёнен – «ватага школьников предместий». Может быть, сочиняя эту песню, Дегейтер видел перед собою ребят – соседей из Сен-Дени. Вполне допускаю, что песня эта имела под собою и документальную основу – французские коммунисты открывали детские рабочие клубы, в которых ребята могли не только отдохнуть и развлечься, но и узнать правду и сравнить её с той ложью, которой их пичкали в школах.
Пусть дети бедняков права имеют те же! Любой из них готов учиться и в коллеже!Уточняю – коллеж для Франции среднее учебное заведение. Сам Пьер, как вы помните, с ранних лет встал за столярный верстак, и ему в старости так хотелось, чтобыу этих ребят детство было иным!..
Очень важна и для понимания Дегейтера, и для установления его постоянных творческих связей с учителем в поэтическом творчестве Эженом Потье третья строфа. Я привожу её также в переводе В. Дмитриева, отредактировав лишь первую строку, выходящую из поэтического размера:
Зачем же нам своих детей учить истории священной, когда истории людей они не знают совершенно?..Последовательный, глубоко продуманный и прочувствованный атеизм отличал и Потье, и Дегейтера, и многих других народных шансонье.
Буржуазная, эстетская, критика любит, отвергая эстетические достоинства политических шансон, подчёркивать их агитационность, отсутствие лиризма, тематическое однообразие, декларативность. А сами авторы видятся им жуткими аскетами, однолинейными, ограниченными людьми. Вот уж чего не скажешь ни о Пьере Дегейтере, ни об Эжене Потье, ни об их творчестве!
Наряду с политическими песнями у Пьера Дегейтера-поэта есть, например, полька «Да здравствует бал!». Вот её куплеты в переводе Валентина Дмитриева:
Всяк по-своему умеет в жизни радость отыскать. Мне, друзья, всего милее на балу потанцевать. Лишь услышу я мотив — сразу полон я огня, гибок, ловок и ретив… Так и тянет в пляс меня! Что за чудный танец полька! Ну, быстрей изволь-ка! Кто счастливей нас? Здесь каждый рвётся в пляс. То-то радость молодёжи, да и старым – то же! От веселья пьян я стал… Славный бал! От веселья пьян я стал… Славный бал!Я решил процитировать эту шансон полностью ещё и потому, что мне очень нравится её перевод, пожалуй, самый удачный из переводов Валентина Дмитриева стихотворных текстов Дегейтера. Я убеждён, что писал эти слова Пьер о себе. Он таким был в молодости – увлекающимся, озорным, весёлым, прекрасным участником дружеской встречи, пирушки, как у нас издавна говорят – компанейским человеком!
Любил Пьер природу северной Франции, а особенно – приход весны вместе с прилётом ласточек. Недаром одну из лучших своих шансон он назвал «Возвращение ласточки». За эту шансону молодой Пьер был увенчан лавровым венком на турнире рабочих певцов. Вот как звучат в моём переводе два её куплета:
Прощай, зима, морозы, вьюга и мрачных туч седая бахрома. Вернулась ласточка к нам с юга. Прощай, зима! Прощай, зима! С весной и с ласточкиным пеньем как будто жизнь не так сера. В душе страданья затихают, и вновь надежды оживают, что лучших дней придёт пора!С шансоной о ремесле резчика по дереву вы уже знакомы. Это подлинный поэтический шедевр! Вот он какой; певец из Лилля, резчик по дереву столяр-мебельщик поэт Пьер Дегейтер!
И это далеко не всё из написанного им! К величайшему сожалению; что-то мы не найдём уже никогда; что-то потребует длительных и мучительно трудных поисков; но убеждён; что с каждой находкой образ Дегейтера-поэта будет расти на наших глазах и представать перед нами всё новыми и новыми гранями.
О том; как любил; как ценил; как боготворил свою профессию; своё рабочее ремесло Пьер Дегейтер; лучше всех сказал он сам в своей песне «Моё ремесло». Хотя я дал себе слово рассказать о песнях Пьера Дегейтера в особой главе; кажется; здесь нельзя не сделать исключение: уж больно хороши стихи – и как раз по теме разговора! Читайте и (если можете себе представить мелодию); слушайте песню. Она звучит на русском языке впервые.
Ремёсел на свете большое число, но лучше всех прочих моё ремесло! С фуганком; стамескою и долотом я гордо стою над своим верстаком! На груды массивные дуба и клёна; как нежный родитель; гляжу я влюблённо и думаю: что изваяю из них; из дуба и клёна; – детишек моих? Смотря по тому что создаст вдохновенье и сколько заказчик заплатит мне денег! Ремёсел на свете большое число, но лучше всех прочих моё ремесло! Мне Фландрии стиль всех родней и милей — массивная мебель отчизны моей![105] Пройдусь я по дереву бойким рубанком, приглажу его долговязым фуганком — и вот под рукой вырастают плоды, которыми славятся наши сады, на ножках столов распускаются розы, и радуют взор виноградные лозы. Ремёсел на свете большое число, получше всех прочих моё ремесло! Из дерева сделаю пышный цветок, гирлянду, фигурку, изгиб, завиток, крестьянку с серпом, живописца с палитрой, прохожего с рожей весёлой и хитрой и двух прихожан за бочонком пивца, и с брюхом огромным святого отца, и льва, что свирепо рычит из-за кости, что острые зубы оскалил от злости.Я уже не говорю о поэтическом мастерстве автора, но обратите внимание на документальную сторону этой песни! Ведь здесь нет ни грана преувеличения – всё это умел делать Пьер. Делал, выставлял, участвовал в конкурсах. Мебель приходилось делать зачастую обиходно-утилитарную, пусть даже и нарядную, но Дегейтер делал и целые тематические панно из дерева, по сути дела – картины из дерева на дереве. Да и, как видите, породы дерева мастер отбирал не простые. К тому же он их специально заготавливал, обрабатывал, в особых условиях хранил. А теперь представьте себе, что этого потомственного резчика по дереву из Фландрии родом заставляют стать придатком машины, работать на потоке, на конвейере, что хозяин ограничивает его свободу буквально во всём, его, привыкшего иметь дело с заказчиком, а не хозяином!
Дегейтер-композитор писал свои шансон либо на свои слова, либо на слова Эжена Потье. Правда, есть одно исключение. Настала пора о нём сказать.
Песня, написанная Дегейтером-композитором, называется «Безутешный»:
Я совсем одинок и шёл безутешным по улицам, думая об исчезнувшей любви. Она ушла сегодня без единого слова…И так далее, и тому подобное о разбитом сердце пылкого влюблённого, а главное – в таком же духе. Это явно стихи не Потье и не Дегейтера. А чьи же? Кто же этот пылкий влюблённый? Оказывается, – адвокат Дюко де ля Ай, мсье отнюдь не первой свежести. О свежести поэтических образов и говорить не приходится! Почему же Дегейтер написал музыку на эти слова? Как писал мне Рубакин из Парижа, песня эта зарегистрирована обществом авторов музыки 13 апреля 1926 года за № 302. 157, но на рукописи стоит другая дата – 1907 и неизвестный автограф: «Музыка составлена П. Де Гейтер на стихотворение М. Дюко де ла Ай адвоката П. Де Гейтера в первой инстанции, который очень хотел убедиться, что П. Де Гейтер был музыкантом и композитором».
Забавный аргумент! А когда же написан сам текст? 5 марта 1894 года. Вероятно, именно в этот день адвокатское сердце дало огромную лирическую трещину! Значит, суд в первой инстанции был не ранее 1894 года! Значит, шесть лет тянулась история с мнимым авторством Адольфа Дегейтера до того, пока обстоятельства привели дело в суд. Так графоманский любовный стишок помогает нам определить дату суда в первой инстанции об авторстве великого гимна! Воистину от великого до смешного – один шаг. История забавная и в то же время очень печальная. Бесконечно жаль Пьера! Скорее всего, ему нечем было расплатиться с «безутешным влюблённым» за его адвокатский труд. Мебель делать долго, а написать песню можно за несколько дней или даже часов. И Пьер Дегейтер, имевший уже в ту пору славу шансонье, пишет музыку на стихи своего адвоката. Это как бы его гонорар защитнику!
Напоминаю, что дело об авторстве тянулось до 29 сентября 1922 года, когда решением Высшего апелляционного суда в Париже Пьер Дегейтер был признан автором музыки «Интернационала». Значит, от суда первой инстанции до последнего судебного решения прошло 28 лет! Если бы не то самое письмо Адольфа Дегейтера, дошедшее до адресата чудом, то справедливость буржуазного суда никогда бы не восторжествовала!
Теперь вы лишний раз могли убедиться в том, что мне как автору, несмотря на все тяготы и перипетии, в драматургическом плане везло необыкновенно. Ничего не надо было особенно присочинять. Материал отменный своей драматичностью и сюжетными поворотами. Многое даже выдумать трудно! А тут – всё, как есть на самом деле. Всё необычно в обычной, казалось бы, судьбе Пьера Дегейтера, автора музыки гимна «Интернационал».
А судьба Эжена Потье? При всём ещё общем с Дегейтером (бедное детство, труд с ранних лет, любовь к рабочей профессии, высокая степень рабочего профессионального мастерства) во многом – прямая противоположность: участие в вооружённой борьбе, в баррикадных боях, конспиративный опыт, большой масштаб политической деятельности (член Коммуны, на многих общественных постах), политэмигрант, представляющий опасность для контрреволюции, деятель международного рабочего движения, пламенный оратор и (уже чисто в личном плане) тяжело больной человек (невроз и кризы сосудов головного мозга после дикой бойни, которую устроила рабочим буржуазия). А в плане творческом – прежде всего поэт, автор более 200 произведений. В довольно представительном сборнике Эжена Потье «Песни. Стихи. Поэмы» – 78 произведений. Произведения Потье не раз издавались в СССР. Так, сперва в 1932 вышел сборник «Песни», затем был издан в 1938 году в Гослитиздате, впечатляет сборник произведений Потье, составленный Л. Андреевым «Это есть наш последний…», выпущенный на свет в издательстве «Детская литература» в 1964 году… Есть переводы более удачные, менее удачные, вовсе не удачные, но всё же русский и всесоюзный читатель с творчеством поэта-коммунара познакомиться может. К тому же имеется биографическая и справочная литература.
Что же касается Франции, родины Потье, то, по данным В. Дмитриеа, после сборника, 1908 года, изданного на деньги, собранные большей частью по подписке, а также вырученные от продажи второго издания «Революционных песен», лишь в 1966 году появилось на свет полное собрание произведений поэта, которую составил и снабдил своим предисловием П. Брюшон. Книга называется «Эжен Потье, рабочий, поэт, коммунар, автор “Интернационала”». При этом хочу подчеркнуть, что Пьеру Брюшону с большим трудом удалось найти для своей книги издателя.
А. Гатов в своём предисловии к сборнику Эжена Потье «Песни. Стихи. Поэмы» убедительно показывает, как издатели словарей и справочников во Франции тщательно боролись с упоминанием имени Эжена Потье – лишь в десятитомной Энциклопедии Лярусс (1960) есть десятистрочная заметка о нём. А В. Дмитриев в книге «Поэт-коммунар» уточняет, что даже в библиографических изданиях вплоть до 30-х годов имя Эжена Потье вообще не встречается.
Я специалистом по истории французской литературы не являюсь, тем более не знаю широко и обстоятельно французское литературоведение и критику, но меня просто потряс один пример в предисловии А. Гатов. Перечислив ряд имён, звучных не только для француза и не только для специалиста-литературоведа (поэтов Густава Надо, Пьера Дюпона, публициста Анри Рошфора, а также других журналистов и политических деятелей), А. Гатов приводит цитату из статьи «влиятельного буржуазного критика, реакционера и националиста» (подчёркнуто мною. – Н. А. С.) Франциска Сарсе. Статья была напечатана в газете «Франс» 26 марта 1887 года, то есть, больной Потье мог её прочесть. Оказывается Сарсе, готовясь к лекции о песне, из горы новых книг машинально взял в руки сборник Эжена Потье «Кто безумен?» (а безумен по мнению автора – безусловно буржуазный мир!): «С первых же строк я был захвачен. Передо мною предстал настоящий поэт… Потье – коммунист, должен я сообщить с сожалением… один из наиболее непримиримых». Какой благородный враг! Искренний! Пишет, что автор подлинный поэт, что его захватила сила и страсть строк Потье и в то же время честно признаётся в своей ненависти к нему. В наше время идейные враги стали мелочнее, подлее: они не замечают даже очевидности в проявлении таланта, знаний, ума, бьют врага, как говорится, сослепу.
А вот как отзывался о Потье в своей газете «Крик народа» Жюль Валлес: «Это старый товарищ по великим дням, изгнанный поэт. Это был настоящий поэт, немного неотёсанный. Но какой горячий темперамент! Какое мрачное воображение! Какая глубина и горечь ощущений! Это был коммунист, и один из самых непримиримых, он искренен и родился поэтом. У него есть песни-шедевры. Он чаще бывал выразительней, чем старый бродяга Беранже».
А Рошфор возвеличил Потье, назвав его «Ювеналом[106] предместий».
Потье очень любил Беранже, особенно его стихотворение «Фея рифм»:
Насколько песня облегчает грудь!
Ах, фея милая, ещё со мной побудь!
Рабочий песню заслужил трудом,
измучен он, и средства нет чудесней
поднять того, что сшиблен и прибит.
Пусть славной песней жажду утолит,
и мужество вернётся с песней! [107]
В. Дмитриев, который немало прочитал материалов, изданных во Франции в разные годы, среди наиболее частых штампов приводит два: произведения Эжена Потье – лишь «пропаганда насилия» и «призыв к ниспровержению существующего строя». Таких оголтелых высказываний в нашей прессе и критике я не встречал, но порою попадались на глаза попытки свести творчество Потье только к политике, пропаганде, агитации или же (в лучшем случае) к социальной сатире.
Между тем творческий диапазон Эжена Потье очень широк. Вот он рассказывает о судьбе тринадцатилетнего пастушка, который гордится тем, что умеет читать и писать:
Много песен в сердце моём. Я парил бы, пел соловьём. Но пока я ввысь не лечу, но пока я только молчу.Эжен Потье боготворил природу родины своей. Это французский лес, французская земляника, но мне, русскому человеку, в какой-то момент кажется, что всё это написано и обо мне, идущему сейчас подмосковной рощей с думой о песнях далёкой Франции:
Протоптана в лесу давным-давно тропинка, поросла густой травою, под сводом веток с пышною листвою здесь тихо и прохладно, и темно… …Укрытая травою, весела, как под вуалью губы молодые, алеет земляника… Налитые здесь ягоды, как звёзды – без числа.И это – тоже Потье!
И это – Потье, в этих саркастических куплетах владелец похоронного бюро жалуется квартальному полицейскому, что он скоро разориться, ибо «хоронят очень мало»! Песня называется «Каждый живёт своей профессией».
И это – тоже Потье, в этой песне-некрологе, которая начинается блистательным городским пейзажем:
Выпал снег – он кружился, невинный и покорный струе ветровой, и, как ласковый пух голубиный, лёг порошею на мостовой. Но следы отпечатали ноги, и колёса прошли, торопясь. Снега нет! Только грязь на дороге… Только грязь…Справедливости ради, надо сказать, что не все шансоны Потье понятны современному нашему читателю без комментариев. Есть образы, строки и целые куплеты, очень крепко привязанные к Франции, к какому-то факту, событию, есть и произведения, в целом требующие определённых (и немалых, неповерхностных!) знаний по истории Франции. А разве наш Н. А. Некрасов и А. С. Пушкин не требуют комментариев для французского читателя! Требуют, да ещё каких – развёрнутых, пространных! А и сегодняшняя русская наша жизнь – во многом тёмныйлес для иностранца. Мне тут недавно мой приятель, побывавший во Франции, рассказывал, как перевели в одной газете название фильма Василия Шукшина «Печки-лавочки»: «Отопительные устройства и небольшие деревянные сидения»! Всё сразу ушло, улетучилось! И печальная ирония, и бесшабашность… А попробуйте-ка на французский язык слово «бесшабашность» перевести!..
Здесь отмечу что все приведённые выше цитаты – это перевод, мастерски сделанный А. Гатовым. Величайшая сила сокрыта в поэмах Потье – одновременно и публицистичных, и ораторских, и откровенно лиричных. Даже сонет, тончайший инструмент вечных тем в поэзии, у Потье содержит и акварельные пейзажи, и страстность ораторского выступления на политическую тему. У Потье не было боязни «наступить на горло собственной песни»[108]: его творения вобрали в себя и все темы, и все виды пафоса, и почти в каждом жанре обрели гармонию.
В своей статье «Певцы Парижской Коммуны» («Детская литература», 1971, № 3) я, говоря о том, что выдающиеся шансонье Франции воспитали свой поэтический вкус не только поэзией, но и вдохновенным ремеслом (Беранже был ювелиром, Потье – разрисовщиком тканей, Дегейтер – мастером резьбы по дереву), приводил пример удивительных красок на палитре Потье-поэта, цитируя куплеты песни «Вторая молодость». Статья моя была несколько сокращена за счёт цитаты, и получилось, что Потье пишет о себе в пятнадцать лет! Нет, ему сорок, заявляет он в первой же строке. И тем дивнее звучат эти слова:
… Я вижу травы молодые им поцелуй дарят лучи, и льнут тюльпаны полевые один к другому, горячи… Луга мне бархатные любы. С природой рознь сведу на нет. Люблю её, целую в губы. Сегодня мне пятнадцать лет!Не правда ли, совсем по-другому прозвучали эти слова? Подчеркну и здесь – в переводе А. Гатова.
Я вовсе не занимаюсь детальным сличением всех переводов, но читателю может показаться, что я редко привожу цитаты из переводов В. Дмитриева. Справедливости ради, не могу не сказать, что некоторые произведения Потье я принципиально цитирую всегда только в его переводах. Например, шансон «Биография» (а по сути дела это Автобиография Потье) В. Дмитриев перевёл лучше А. Гатова. Достаточно привести такие замечательные строки о народном Певце По-По (читай – Потье):
Ему светильником – луна, а храмом служит свод небесный, и голова его полна одним и тем же: это песни!Есть и другие произведения, и другие темы, и многие-многие другие находки Потье, его открытия, откровения… О некоторых из них я скажу в следующей главе, последней. Ведь в конце концов я же не литературоведческий труд пишу, а рассказываю о том, как и кем рождалась ПЕСНЯ ПЕСНЕЙ.
И я горжусь, что первым рассказал об этом Владимир Ильич Ленин, в газете «Правда» в номере от 3 января 1913 года. Не помню уже, где-то я читал, что статья эта, подписанная Н.Л. поставлена на место передовой. Да, нет, в этом можно убедиться, раскрыв 57-ю страницу книги Эжена Потье «Песни. Стихи. Поэмы», где помещена репродукция полосы «Правды» с ленинским материалом. Напечатано скромно, просто, в подбор, на две неполных колонки. Впервые предположение о том, что эта статья принадлежит перу В. И. Ленина, сделал А. Гатов в 1937 году в газете «Известия», однако, документальное подтверждение пришло лишь в 1954 году, когда сотрудники ЦК Польской объединённой рабочей партии передали ЦК КПСС материалы из Краковско-поронинского архива, обнаруженные в Кракове. Среди материалов находился перечень статей, посланных В. И. Лениным в «Правду». В этом списке на обороте конверта значилось «поттьэ». Такая была тогда транскрипция фамилии поэта, а имя его писалось на русский лад – «ЕВГЕНИЙ». Перепечатывать, а тем более пересказывать статью В. И. Ленина, написанную в связи с 25-летием со дня смерти Эжена Потье, нет никакого резона. Желающий сможет прочитать (а может быть, – и перечитать) в 22-м томе Полного собрания сочинений (пятое издание) на страницах 273-й и 274-й. Что меня, писателя, потрясает в статье Владимира Ильича? Лаконизм, блестящее знания материала, все факты, которые приводит Ленин, полностью подтверждаются по многочисленным источникам, которые я изучал в течение всех этих почти 50 лет! Там, где Ильич сомневается, он даёт вводные слова. Например, дата написания Потье текста «Интернационала» неизвестна. Мы говорим об июне 1871 года, и В. И. Ленин пишет: «на другой день, можно сказать, после кровавого майского поражения…» (курсивмой. – Н.А. С.).
В ленинской статье имя автора музыки «Интернационала» не упомянуто. Нет и особенного эстетического анализа текста песни, зато ей даётся оценка как песне «всемирной пролетарской», с помощью которой «сознательный рабочий», куда бы ни забросила его судьба, каким бы чужаком ни чувствовал он себя, без языка, без знакомых, вдали от родины, – он может найти себе товарищей и друзей по знакомому напеву «Интернационала». Завершают статью слова, ставшие пророчеством:
«Потье умер в нищете. Но он оставил по себе поистине нерукотворный памятник. Он был одним из самых великих пропагандистов посредством песни. Когда он сочинял свою первую песнь, число социалистов-рабочих измерялось, самое большое, десятками. Историческую песнь Евгения Потье знают теперь десятки миллионов пролетариев…».
Владимир Ильич не поставил точку, завершая свою статью. Историческая песнь «Интернационал» продолжала и продолжает своё шествие по планете, направляя историю.
А теперь можно перейти к разговору о самом тексте «Интернационала».
Глава шестая О само́м «Интернационале»
Я с волнением и тревогой подхожу к этой главе, ради которой написано всё остальное. Конечно, имя Эжена Потье осталось бы в истории и без «Интернационала», но имя Пьера Дегейтера, боюсь, мы бы не узнали никогда. Да, какой-нибудь дотошный историк мебельного дела и резьбы по дереву на Севере Франции среди ряда мастеров первого ряда нашёл бы и имя Пьера. Да, какой-нибудь очень тщательный и беззаветно преданный шансон и её истории историк музыки мог бы встретить имя Пьера Дегейтера среди талантливых шансонье Франции второй половины XIX века – начала ХХ-го. Да, какой-нибудь самоотверженный историк рабочего и коммунистического движения Франции нашёл бы в архивах и документах, в библиотеках и частных собраниях упоминания о старом рабочем и шансонье, который в преклонном возрасте (в 1920 году) вступил в ФКП.
В творческой судьбе многих (если не всех?) художников непременно есть какие-то произведения ключевые, главные, которые стали таковыми и для творцов и для читателей, слушателей, зрителей. Возьмём, скажем, моего любимого режиссёра Владимира Петрова. Конечно, хороша по-своему его «Гроза» (по А. Островскому), добротны и профессиональны другие его киноленты, но для нас он прежде всего остаётся автором фильма «Пётр Первый». Говорила же Ольга Берггольц в своих «Дневных звёздах» о Главной Книге! Пусть это будет не книга. Это может быть и песня! Для Пьера Дегейтера это, конечно же, песня «Интернационал».
Если в творчестве Эжена Потье есть произведения, приближающиеся по уровню художественному, политическому, философскому к этой песне, то для Дегейтера это вершина, другие его произведения тоже самоценны (это не черновики, не гаммы), но они прежде всего путь к этой вершине, её окружение на полотне творчества.
«Интернационал»-мелодия для её творца была вспышкой, озарением, звёздным часом творчества, самой высокой и прекрасной звездой. Он и сочинил её, как я понял по короткой беседе с Пьером Дегейтером в 1928 году, довольно быстро. На уточнительный мой вопрос он тогда ответил какой-то скороговоркой, из которой я понял, что сразу – «в ночь», как бы первоначально, начерно, а потом через день сделал чистовой вариант, который с небольшими уточнениями и изменениями живёт и звучит повсюду на Земле.
Нам так и не удалось уточнить дату написания самого главного произведения Эженом Потье. Мы говорим – июнъ1871 года. Вполне допускаю, что – весь июнь. Совсем не верю в то, что такой шедевр с такой огромной насыщенностью, «грузоподъёмностью» был написан экспромтом, сразу.
«Интернационал» – словно магистральный сонет в венке сонетов. Он – творческий вывод из написанного, пережитого, продуманного и прочувствованного. Возможно, сразу, непосредственно как реакция на последние битвы Коммуны родился припев – бой действительно был ПОСЛЕДНИМ, РЕШИТЕЛЬНЫМ. Потье его продолжил в своей песне тогда, когда затихли последние выстрелы коммунаров. А дальше автор разрабатывал тему во всём её величии, во всей глубине философской и поэтической. Может быть, и впрямь работа шла ВЕСЬ ИЮНЬ. Вполне могу в это поверить.
И, тем не менее, «Интернационал» – не репортаж с последних баррикад Коммуны. В других своих произведениях Потье непосредственно о Коммуне говорит яснее, конкретнее, определённее: «Слышь, Николя! Хоть их взяла – Коммуна не убита!», «Коммуны след неизгладим», «Да здравствует Коммуна!» – вновь воскликнуть бы скорей», «Коммуна скоро свой саван знаменем взовьёт»…
«Интернационал» – песня французская, это политическая шансон, написанная в чисто французском духе. Чем больше я изучаю творчество шансонье-предшественников и шансонье-современников Эжена Потье и Пьера Дегейтера, тем больше в этом убеждаюсь.
И в то же время «Интернационал» – это интернациональная песня! В ней нет чисто французских примет, чисто французских черт, чисто французской специфики, тем более этнографического концентрата, которые бы делали текст трудным для понимания его человеком, принадлежащим к другой нации – не французской.
«Интернационал» – это песня трудящихся, песня порабощённых трудящихся, гордых, не смирившихся со своей судьбой, со своим положением, со своей участью, это песня сознательных тружеников, сознательных рабочих, передовых людей своего класса.
«Интернационал» – это классовая песня! Поэтому она так дорога и понятна трудящимся и так ненавистна буржуа и соглашателям всех мастей и типов.
«Интернационал» – общечеловеческая песня, ибо она обращена ко всему лучшему, что есть в людях, она открыта и для представителей правящего класса при условии, что они порвут с ним и придут в другой лагерь не как перебежчики, кающиеся грешники или искатели выгод, которые возможно им откроются, а как товарищи по борьбе, сделавшие свой выбор сознательно и бескорыстно. Таких примеров в истории было немало, но мне как драматургу, как кинематографисту особенно было радостно и волнительно узнать о взглядах немецких документалистов Аннели и Андре Трондайк. Оказалось, что авторы потрясающих по силе воздействия на зрителя лент «Русское чудо» (о роли Великого Октября в судьбах России), «Отпуск на Зильте» и «Операция “Тевтонский меч”» (о неофашизме в ФРГ), – родом из буржуазных семей. Как-то попалось мне на глаза газетное интервью. Оно до сих пор в памяти! С какой яростью и с каким пониманием природы и психологии буржуазии изнутри делятся мастера документального кино своими сокровенными мыслями и чувствами! Для меня как для участника войны этот пример особенно важен и дорог тем, что он – немецкий.
Не стану сейчас и именно здесь вдаваться в тонкости поэтического перевода «Интернационала», но в любом случае применительно к этому последнему тезису смысл песни-гимна ясен совершенно – род людской, весь род, весь люд, всё население планеты станут в грядущем Интернационалом, воспрянут в Интернационале.
Нет никаких сомнений в том, что и для Эжена Потье и Пьера Дегейтера слово «Интернационал» ассоциировалось с I Интернационалом Карла Маркса и Фридриха Энгельса, с Союзом коммунистов, с коммунистическими взглядами на мир, этот мир объясняющими и преобразующими.
«Интернационал» это вовсе не некая замена слова «международный». К сожалению, в прессе, на телевидении, на радио, да и в художественных произведениях порою эти слова выступали и продолжают выступать как синонимы. Более того, мне как-то в пределах одной экономической статьи попалось употребление слов «интернациональный» и «транснациональный» как синонимов! Весь мой редакторский, политический и творческий опыт яро этому воспротивился! «Транснациональный перелёт» и «интернациональный пафос искусства» – трудно себе представить понятия столь далёкие друг от друга!
«Интернационал» – это гимн труду. И в этом отношении он теснейшим образом связан с традициями лучших французских шансон и с трудовыми биографиями многих шансонье, которые были выходцами из рабочего класса, представителями наиболее квалифицированных рабочих профессий и специальностей, мастерами, достигшими в своём деле подлинных вершин.
«Интернационал» славит не только человека труда, но и атмосферу труда, труд как деяние. От строф-куплетов «Интернационала» – прямой и довольно короткий путь к системе взглядов Максима Горького на труд, его роль и его задачи в условиях строительства социализма в СССР.
«Интернационал» – это гимн борьбе, это боевой марш, походная песня. Только не чисто военный, не ратный подход и не короткий он с боями и привалами в пути, а поход в далёкое время, в грядущее, поход неустанный, гордый, многотрудный, не показной, не парадный, чуждый пацифизма, гневный.
«Интернационал» перекликается с шансонами «Инсургент» («Коммунар») и «Вперёд, рабочий класс!». Музыку ко всем трём песням написал Пьер Дегейтер. Он знали другие творения Потье, но именно эти вдохновили его на создание музыки.
Опять же, какими бы ни были переводы, но в любом из них инсургент, повстанец, коммунар, идя на бой с нищетой, с горем, бесправием, берёт с собой в поход ружьё. У него есть и другие виды оружия – слово оратора, песня, сила личного примера, высоко поднятое знамя рабочей профессиональной гордости, наконец – неотразимое оружие убеждённости в своей правоте. Но на выстрел можно ответить только выстрелом \ Поэтому он шагает с ружьём.
… В блокадную пору я вспоминал строки рефрена из этой шансон Эжена Потье, когда бывал в цехах легендарного Кировского завода, стоявшего у самого переднего края обороны Ленинграда и на глазах у фашистов ремонтировавшего и выпускавшего в строй танки. У станков, а точнее у рабочих тумбочек стояли винтовки[109] – каждую минуту была угроза прорыва обороны и уличных боёв. Об этом я рассказывал на политбеседах, об этом говорил на встречах с писателями, журналистами и работниками кино, непременно цитируя строки Потье через 70 лет после того, как они были написаны в 1871 году. Шёл первый год войны, были первые месяцы блокады…
«Интернационал» – это песенное слово политического оратора, искушённого в политике, человека мудрого, немало испытавшего на своём веку, немало постранствовавшего и повидавшего на жизненной дороге, человека начитанного, думающего и остро чувствующего несправедливость и зло, человека непримиримого, для которого компромисс, соглашательство исключены.
«Интернационал» – это песня, написанная в самом начале 70-хгодов прошлого века, спетая впервые в самом конце 80-х годов также прошлого века, звучит как написанная сегодня \ В этом её главное чудо. В этом её феномен. Впрочем это феномен любого шедевра литературы и искусства. Но ни одно из них так неразрывно не связано с политикой и насущными думами, чувствами и чаяниями трудящегося человека.
«Интернационал» – это злая сатира на мир капитала. В любых переводах в той или иной степени эти сатирические краски сохранены. Их не удалить, не затушевать. Их можно лишь либо усилить, либо ослабить.
«Интернационал» – песня лирическая! Да! Лирическая! Ведь лирика, в конце концов, не только любовная и пейзажная. В ней нет, конечно, пленительных описаний природы или женских характеров и портретов, но Природа Мать, оскорблённая и униженная капиталом, и есть любимая героиня Потье и Дегейтера – Свобода, которой они верны до конца.
Об Эжене Потье написано немало. Я никогда не скажу «вполне достаточно», ибо так сказать применительно к большому художнику слова в принципе нельзя. Можно сказать так – достаточно для того, чтобы иметь самое общее представление о жизни и творчестве. При всём уважении к написанному разными авторами мне думается, что собственно поэтического анализа, глубокого, тонкого, проникновенного пока ещё мы не имеем.
О Пьере Дегейтере написано очень мало, фрагментарно, эскизно, и я счастлив тем, что хоть как-то сумел восполнить этот пробел.
О самом «Интернационале» написано сравнительно много. Среди произведений, написанных на русском языке, нельзя не назвать прежде всего книги Симона Дрейдена. Первая его книга «Интернационал» вышла в Гослитиздате в 1965 году, второй раз я встретился с его трудом в книге «Музыка – революции», второе издание которой вышло в свет в издательстве «Советский композитор» в 1970 году к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и назывался главный раздел сборника «Песнь песней революции». Громадный труд, многие годы поисков и открытий, плотная, пожалуй, даже чересчур плотная, перенасыщенная фактура отличают это удивительное сочинение известного музыковеда. Самое большое достоинство книги Симона Дрейдена об «Интернационале» – широкий исторический контекст. Что же касается истории переводов «Интернационала» на языки народов СССР, то в этом отношении книга Дрейдена не имеет себе равных.
Но при этом меня решительно не устраивают сведения о Дегейтере. Получается, что он чуть ли ни выслан был в Лилль, в свой родной город! Где же тогда он жил до 1871 года? В Лилле, конечно!
Этот пример лишний раз показывает, сколь мало известно о Дегейтере даже специалистам!
И второе – никак не могу согласиться с критикой, резкой и огульной в адрес Валентина Дмитриева как автора книги «Поэт-коммунар».
К сожалению, и А. Гатов в предисловии к томику Эжена Потье «Песни. Стихи. Поэмы», и В. Дмитриев, и Симон Дрейден, и автор брошюры «Интернационал» и его авторы» музыковед А. Сохор («Советский композитор», 1961) мало внимания уделили анализу поэтического мастерства Эжена Потье. А ведь и А. Гатов, и В. Дмитриев прекрасно знают французский язык!
Пересказывать тексты литературоведов и музыковедов не стану. Желающие могут обратиться к этим книгам и сами подключиться к спорам, оценить те или иные тезисы. Выскажу свои суждения.
Одну из своих статей я так и хотел озаглавить – «Песня, которую знают все». Действительно, трудно найти в нашей стране человека, которые бы не слышал «Интернационал» или же не читал бы его хотя бы в ежегодных календарях[110]. К тексту наступила привычка, очень трудно заставить себя прочесть текст как бы заново!
К тому же (и здесь я тоже вовсе не согласен с Дерейденом!) перевод, сделанный А. Коцем, и безусловно сыгравший свою конкретно-историческую роль, максимально приблизив слова песни-гимна к реалиям революционной России, не представляется мне недосягаемым образцом совершенства. И дело даже не в том, что наиболее известный вариант, публикуемый повсеместно, представляет из себя три строфы по восемь строк и один припев в четыре строки, в то время как в оригинале – шесть строф и припев. В конце концов, А. Коц уже в 1931 году перевёл остальные строфы «Интернационала» и напечатал их в № 2 журнала «Звезда» за 1937 год. Напоминаю, что первоначально он в 1902 году перевёл первую, вторую и шестую строфы-куплеты. Но эти, так сказать, дополнительные строфы в канонический текст не вошли, гимн печатался и пелся без них. Публиковались они редко. Что же касается пения, то я их не слышал никогда.
Сам А. Коц, горный инженер, выпускник Горного института в Париже (до этого учебного заведения он закончил Горное училище в Донбассе) французский язык, конечно же, знал – иначе бы он не мог жить и учиться в Париже! Во французской столице он прожил пять лет – с 1987 года по 1902 год. Напомню, что окончательно Дегейтер переселяется в Сан-Дени именно в 1902 году. На каком-нибудь празднике, в каком-нибудь парижском кафе они могли бы и встретиться, и поговорить. Но встреча их произошла в 1928 году, в Москве, когда Пьер Дегейтер гостил в СССР.
Как же сам А. Коц рассказывает об истории своего поэтического перевода? Обращаю внимание на то, что он его называет не переводом, а «русским текстом»: «В 1902 году, перед своим отъездом из Франции в Россию, я написал русский текст “Интернационала” и направил его в редакцию социал-демократического журнала “Жизнь”, издавшегося тогда в Женеве и Лондоне. Стихотворение было немедленно напечатано[111] в книжке № 5 “Жизни” за 1902 год. Я перевёл лишь три строфы “Интернационала” из шести, которые имеются в подлиннике, руководствуясь главным образом тем, чтобы сделать песню более короткой, более удобной для исполнения, чтобы облегчить проникновение её крылатых боевых лозунгов в широкие рабочие массы». Это цитата из статьи А. Коца «Наш гимн». Статья опубликована в разделе «Приложения» сборника А. Коца «Стихотворения», вышедшего в свет в Гослитиздате в 1957 году тиражом в 10 000 экземпляров.
Книга стала редкостью, далеко не в каждой библиотеке она имеется. Поэтому не сказать о ней нельзя, как и о предисловии к ней литературоведа А. Л. Дымшица. Оказывается, почти полных 30 лет Аркадий Коц литературой не занимался – он работал в горнорудной промышленности. Писал А. Коц и свои стихи – с 1902 года по 1906, а затем – от случая к случаю в конце 30-х годов, больше всего он уделял внимания своему личному поэтическому творчеству в первые два военных года, когда он, уже тяжело больной, оказался в эвакуации на Урале. В 1943 году он скончался. Томик избранных стихов, переводов, статей и мемуарных очерков невелик, наиболее интересны в нём прозаические тексты, переводы произведений Эжена Потье и мемуарный очерк «Две встречи с Л. Н. Толстым». Фраза автора предисловия о «множестве лирических стихотворений» удивляет и озадачивает! В комментариях к сборнику, также написанных А. Л. Дымшицем, говорится о ряде публикаций стихотворений А. Коца (до революции – анонимных или под псевдонимами), о нескольких публикациях 1917–1918 годов и публикациях в предвоенные годы… Судить могу лишь о том, что прочитал. Несомненно, это был способный человек, имевший склонность к литературному труду. Возможно, он смог бы себя проявить ярче как мемуарист (воспоминания о встречах с Львом Толстым дают основание так полагать). Наверное, больше он мог бы сделать и как переводчик. Однако в его поэтический путь я решительно не верю. Если ранние стихи ещё вписываются в контекст рабочей, пролетарской поэзии начала века, то последующие его стихотворные сочинения уже конкуренции с подлинной поэзией не выдерживают. Скорее всего, сам А. Коц реально оценивал свои литературные возможности. Он оставался верен своей инженерной профессии, держался скромно, достойно, не кичился своими заслугами (а перевод «Интернационала» давал для этого повод!) и был как он сам писал в «Жизнеописании» 1933 года, «рядовым инженером по строительству социализма». Членом ВКП (б) не состоял, но безусловно по убеждениям был большевиком.
Фактически и он – автор одного произведения, переводного! Если бы А. Коц не сделал вольный перевод могучих строф Эжена Потье, то его имя мог бы вспомнить лишь очень дотошный исследователь пролетарской поэзии начала века. Что же касается его вклада в горнорудную инженерию, то судить не берусь. Предполагаю, что он был знающим, квалифицированным инженером, но не более того.
Справедливость требует сказать, что его авторское право нарушалось многократно: если в том же календаре-ежегоднике имя автора музыки стали печатать рядом с именем автора текста, то автора перевода не указывают до сих пор. А. Коц впервые представил читателям свой перевод анонимно и остался анонимным переводчиком для подавляющего большинства читателей и слушателей и по сей день.
На сегодняшний день, когда я пишу эти строки, по моим неполным данным, различных переводов «Интернационала» на русский язык насчитывается четырнадцать, включая прозаический перевод X. Раковского[112], помещённый в первом номере ленинской «Искры» в декабре 1900 года. О переводах «Интернационала» на другие языки я не берусь вести речь, но убеждён, что каждый из них представляет не только политический, исторический и поэтический интерес, но и может стать темой для художественного произведения – за каждым таким явлением стоят герои, характеры, судьбы, в судьбе каждого обращения «Интернационала» Потье к каждому народу таится огромной силы драматургия!
Задумав художественное произведение о Пьере Дегейтере, я не мог представить себе, как, когда и в каком виде зазвучит на сцене и на экране песня песней революции. Ещё в пору написания мною заявки на оперу я сперва чисто интуитивно, а потом всё увереннее и решительнее стал склоняться к мысли о том, что зрителя, слушателя надо УДИВИТЬ явлением на сцене «Интернационала». Если это будет традиционный канонический текст (до 1943 года «Интернационал» был и государственным гимном СССР), то будет и невольный сильный акцент в сторону официозности, протокольности. А ведь это – театр! Дать только мелодию? Тоже нельзя! Это же песня, а задумана была опера, слагаемая из революционных песен. Вот тогда-то и пришла мне идея предложить другой текст перевода. То, что мне удалось прочесть, меня не устраивало – были отдельные удачные строки, образы, но всё это оказывалось тяжеловатым для пения. Надо отдать справедливость Коцу, что его текст при всех его несовершенствах поэтических всё же поётся и заучивается сравнительно легко!
Опыта переводческой, тем более поэтической работы у меня не было. В годы Гражданской войны в бригаде Котовского, а потом на санпоезде писал я частушки, рифмованные рассказики, чтобы посмешить раненых и больных бойцов. Смеялись, значит было смешно! И на этом спасибо – для меня и улыбка бойца уже наградой была! О поэзии писал, читал немало, как редактор поэтических книг выступал, правда, очень редко: больше у нас шла проза и публицистика. Изо всех видов литературы больше всего любил я драматургию… Вот во имя драматургии я и решил во что бы то ни стало новый перевод одолеть!
Мой советчик и консультант по тайнам оперной драматургии Владимир Николаевич Владимиров занимался переводами профессионально, был к тому же сам поэтом-сатириком. Мою идею он одобрил, хотя и предупреждал, что чиновникам-ортодоксам это очень не понравиться. Текст перевода А. Коца, конечно, нигде никаким документом не канонизировался[113], но он был настолько, как говорится, на слуху, что новая интерпретация сама по себе могла вызвать протест. Но и мои чисто драматургические доводы показались моему товарищу убедительными. Короче говоря, он обещал мне посильно в этом деле помочь. Подстрочник у нас был хороший, вариантов я Владимиру Николаевичу предлагал немало. Он внимательно меня выслушивал, давал советы, прежде всего по ритму, рифмовке, обращал моё внимание на фонетику, давал некоторые советы чисто редакционно-стилистические, но в содержательную сторону перевода вмешиваться решительно отказался. Он убеждал меня, что для того, чтобы перевести такое произведение как «Интернационал», мало просто, как говорится, искать слова и перебрасывать слова из строки в строку, надо в душе пережить заново хотя бы малую долю того, что пережил Потье, надо весь материал повторить, подтвердить ещё раз – в своей душе, слиться с ним окончательно!
И я счастлив, что не оставил тогда своей надежды. В годы блокады я вернулся к поэтической работе, писал частушки, сатирические стихи, песни для нашего ансамбля 42-й армии… Изо всего написанного только две строки память сохранила: «Вперёд, сорок вторая, в году сорок втором!..» Мы тогда верили, что прорвём блокаду на год раньше… Потом переводил стихи или песни, если они встречались в пьесах моих учеников-представителей братских литератур Российской Федерации. Однажды написал монолог в стихах для своей, до сих пор непоставленной пьесы… Но как поэт остаюсь автором только одного произведения – перевода «Интернационала». Впервые мне удалось его обнародовать в журнале «Детская литература» в мартовском номере 1971 года в статье «Певцы Парижской Коммуны». С тех пор прошло семь лет, и я внёс в текст перевода некоторые коррективы. Поэтому именно сейчас он как бы звучит заново:
Итак, – «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» Эжена Потье
Гражданину Гюставу Лефрансе,
члену Коммуны[114]
Восстань, весь мир порабощённый! Восстань, восстань, народ-титан! Бурлит наш разум возмущённый, как огнедышащий вулкан! Сметём бесследно мы былое. Рабочий класс, вперёд, вперёд! Мы обновим лицо земное. Кто был ничем, тот всё возьмёт! Бой с врагом на исходе. Час победы настал! Над миром восходит Интернационал! Ни бог, ни Цезарь, ни трибуны нам не откроют дверь тюрьмы. И лишь под знаменем Коммуны с себя оковы сбросим мы! Презренный враг заходит с тыла, но эта хитрость нам ясна, — и чтоб железо не остыло, раздуем пламя докрасна! Припев Продажна власть, закон лукавит, налог за горло нас берёт. Богатых право нами правит, а наше право – вечный гнёт! Но скоро мы подарим свету великий равенства завет: прав без обязанностей нету, без прав обязанностей нет. Припев Вы, короли угля, металла, вы, короли подземных руд, одна лишь цель у капитала — душить и грабить честный труд! Набили сейфы эти воры. В них наша кровь огнём горит, но мы у них отнимем скоро всё то, что нам принадлежит! Припев Жизнь наша стала сущим адом. Пусть он достанется врагам! Солдат! Бастуй с рабочим рядом! Ты – брат и друг по классу нам! И генералы зря мечтают внести раскол в рабочий класс. По свисту пуль они узна́ют, что пробил их последний час! Припев Рабочий, пахарь! Все мы с вами — великой партии сыны! Землёй мы будем править сами. Нам тунеядцы не нужны! И если их воронью стаю мы уничтожим навсегда, — нам ярче солнце заблистает и не померкнет никогда! Бой с врагом на исходе. Час победы настал! Над миром восходит Интернационал! Перевод Н. А. Сотникова при участии Н. Н. Ударова.По-французски мы петь всё равно не научимся. Поэтому все прожекты о максимально близком к дословному поэтическом переводе стоит предать забвению. Подстрочник, как бы его стилистически мы ни шлифовали, как бы пространно ни комментировали, всё равно очень тяжело воспринимается на слух. Ведь это же песня! Живая, яркая, богатая интонациями. Мы уже говорили выше, что один из самых удивительных феноменов «Интернационала» в его сочетании общего и частного, всемирно-исторического и конкретно-исторического, национального и интернационального.
Строфы «Интернационала» звали к реваншу за Коммуну в ту пору, когда ещё до конца не рассеялся запах пороха над парижскими мостовыми.
А Пьер Дегейтер, не меняя ни слова, уже давал конкретную «привязку» к недавним событиям на Севере Франции, в родном Лилле: например, куплет «Продажна власть…» он направлял против лилльских властей, способствующих локауту, куплет «Вы короли угля, металла…» обращал против владельца кампании «Фив де Лилль» Огюста Де ла Мотта перед его особняком, куплет «Жизнь наша стала сущим адом…» был адресован солдатам, которые отказались стрелять в демонстрацию в Лилле…
Великий «Интернационал», решая общие, глобальные задачи, зовя на большие бои, никогда не чурался боёв мелких, местных, конкретных, ибо только из множества малых побед может родиться Победа большая, главная, одна на всех, кто ждал её и боролся за неё.
…Когда увидели свет мои публикации об «Интернационале» в журналах «Детская литература» и «Волга», меня стали приглашать сотрудники Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей СССР на выступления, но прежде всего просили дать название таким вечерам, встречам. Название родилось как-то сразу, само собой – «Песня, которую знают все». Во время этих выступлений я рассказывал подробно и о своей встрече с Пьером Дегейтером, и о многолетних поисках материалов и документов, и о тех замечательных людях, с которыми меня в ходе этих поисков свела судьба. И я вновь обратился к своим заветным папкам, документам, записям, черновикам, художественным текстам и вдруг понял, что и черновые подготовительные записи – не столько строительные леса, но в той или иной степени – памятники, достойные внимания. Так я задумал это произведение, которому долгое время не мог дать чёткого жанрового определения. Наконец, я решил, что это – ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ В ОЧЕРКАХ И ДОКУМЕНТАХ.
О многом ещё я могу и хочу сказать, но боюсь, что не успею завершить свой труд. А многоточие ставить никак не хочется! И восклицание, и вопрос – тоже. На многие вопросы ответят время, другие авторы, другие исследователи. А восклицаний было столько, что за их частоколом терялся облик моего любимого героя Пьера Дегейтера, реальные черты времени, в котором он жил. Значит, нужна точка. Последний абзац.
Какой?.. И тут я вспомнил о том, как сам впервые услышал «Интернационал» и научился его петь в конном строю. Было это в бригаде Котовского, воистину интернациональной по составу. В одном ряду сражались за правое дело русские, украинцы, белорусы, молдаване, цыгане… А в Южной группе Якира были и китайцы, и венгры, и чехи! Лично я тогда в равной мере владел русским и украинским языками. Меня даже однажды откомандировали в качестве переводчика на секретные переговоры с Петлюрой и Махно, которые вело украинское правительство в лице X. Раковского, того самого X. Раковского (он был тогда председателем Совнаркома Украины), который сделал первый прозаический перевод текста «Интернационала» для ленинской газеты «Искра»! Об этих переговорах мне впоследствии читать и слышать не приходилось. Если кратко, то шла речь о безоговорочной капитуляции и сдаче оружия, а в ответ на это – амнистии. Встреча прошла быстро. Ни тот, ни другой с предложениями Раковского не согласились, вели себя вызывающе высокомерно, особенно Махно, элементарные правила протокола не соблюдали. А говорить пожелали только по-украински, хотя явно русский язык понимали и владели им в достаточной мере. А вот Раковский разговорным русским языком владел слабо. Посему и потребовался надёжный переводчик. Им пришлось оказаться мне.
… Всё-таки интересную и богатую жизнь я прожил. Сперва её писал, теперь сам её перечитываю. Слышу – ветер в степи украинской ходит, даже лица моего сейчас касается. В руке повод… Закрываю глаза и вижу: вот она степь! Наш конный дозор. Далеко видно впереди и по сторонам. Светло ещё, но день клонится к вечеру. Мы едем шагом и поём песню о нашем прошлом, о нашем настоящем, о нашем будущем. Поём по-русски. Все. Мне как ровеснику века 19 лет. И песня наша совсем ещё молода! Да она и останется молодой навеки.
1928–1978
Н. Н. Сотников. «Пусть мужество вернётся с песней!». (Послесловие к повествованию в очерках и документах Н. А. Сотникова)
«Самая памятная встреча»
Написать это повествование я отца буквально уговорил. Он всегда считал, что материалы черновые, подготовительные, вспомогательные, самостоятельного творческого интереса не имеют. Когда я ещё в детстве замечал ту или иную тетрадку или стопку мелко исписанных страниц и спрашивал отца, что это такое, он отделывался общими словами – мол, заготовки к фильму о Пьере Дегейтере. Однако всё это богатство не выбрасывал, перевозил с собой с квартиры на квартиру, хотя всегда жил в тесноте. Не выбрасывал, но и не перебирал, не занимался анализом текстов, их сортировкой. Думаю, что ему было грустно это делать – фильм завершён в итоге не был, воспоминания тревожили, печалили, а поводов для других тревог и печалей у него в судьбе и так-то было предостаточно! И всё же не выбрасывал – понимал, какая ценность…
Всё началось с того, что в Московской писательской организации открылась очередная кампания по перезаполнению анкет, уточнению новых адресов и телефонов. Заодно уточнялись и жанры. Пояснить здесь кое-что необходимо. В науке физик может, конечно, углубиться в какую-то сопредельную научную отрасль, но физиком и останется, а вот в мире писательском жанры на протяжении жизни, особенно большой, долгой, меняются. (Вступал когда-то литератор в члены Союза писателей как детский писатель, а потом «ушёл» во взрослую прозу. Начинал автор как поэт, стал литературоведом…) Очень не простой вопрос, порою болезненный для писателя! Примеров у меня таких немало наберётся, но это будет слишком пространное отступление. Мой отец начинал как очеркист, стал кинодраматургом, потом стал преимущественно заниматься драматургией театральной\, в 60-е годы активно работал как театральный критик, увлёкся критикой детской литературы, постоянно сотрудничал с журналом «Детская литература», одновременно вернулся к очерку и публицистике.
Заполнял анкету отец при мне – я как раз тогда в Москву в командировку приехал. Я ему настоятельно советовал публицистику не забывать. А он в ответ сетовал на то, что всё тяжелее даются пути-дороги, что всё тяжелее становится собирать новый материал. А старый, мемуарный? Постепенно мы подошли в разговоре к необходимости собрать в одну книжку напечатанные в журналах и газетах последних лет блокадные очерки. Отец их почему-то упорно называл новел-ламы, а я не соглашался с таким жанровым определением. В результате увидела свет книжка «Были пламенных лет» о днях блокады Ленинграда, стотысячный тираж которой разошёлся мгновенно. Однако отец сигнального экземпляра уже не увидел…
Одновременно мы с ним начали готовить вторую публицистическую книжку – «Памятные встречи». Постепенно определился круг героев, «объектов мемуаров». Мы сразу решили, что дело не в объёме очерков – о ком-то может быть совсем маленький, а другой окажется даже книгой в книге. Скажем, о династии Дуровых в двух словах не скажешь. Кого-то отец знал лучше, видел чаще, с кем-то дружил многие годы, а кого-то видел всего лишь раз. Всё это тоже надо учитывать.
Вот таким вышел первый план-набросок: очерки о Г. Котовском, Н. Морозове, И. Певцове, Дуровых, о приезде в Ленинград Бернарда Шоу и Ромена Ролла-на (отец их каждого в отдельности сопровождал по Ленинграду как знаток истории города: Б. Шоу – в 1931 году, Р. Роллана – в 1935 году). Кроме того, отец наметил очерки о праздновании 200-летия Полтавской битвы, и о своих встречах с митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием в годы блокады и с главой буддийской церкви в СССР Еши Доржи Шараповым. У отца уже были готовы некоторые наброски. Другие материалы отец «перебросил» в сборник «Были пламенных лет» – о ботанике Н. В. Курнакове, зоологе Н. Л. Соколове. Была задумана и глава о скульпторе и реставраторе И. В. Крестовском, который немало сделал для сохранения в годы блокады памятников – красы и гордости города Ленинграда. В сокращённом виде все эти очерки нашли своё место в названной очерковой книжке.
Некоторых кандидатов в герои сборника «Памятные встречи» мы на нашем семейном собрании не утвердили. И дело тут вовсе не в историческом и творческом масштабе того или иного замечательного человека. Причины самые разные. Отец очень любил своих героев-рабочих и крестьян – металлургов отца и сына Коробовых и Ивана Кайолу, и председателя колхоза Ивана Емельянова, но о них специально писать очерки для книги «Памятные встречи» не собирался: «Я ведь о них уже киноочерки сделал – о Кайоле и Емельянове, а о Коробовых – художественный фильм. Нового не скажу».
В других случаях требовалась очень большая дополнительная работа с выездами из Москвы, а об этом, учитывая состояние здоровья отца, и речи быть не могло! В итоге мы твёрдо решили, что он будет работать над тем, что уже есть, наличествуетх, представлено в личном архиве, здесь, под рукой. Несколько дней мы занимались вместе разборкой (самой предварительной!) личного архива. Чего там только ни оказалось! И письма, и черновики, и копии документов, и вырезки из газет и журналов, и конспекты, и варианты того или иного большого, чаще всего драматургического произведения…
Я помогал отцу как мог, основное внимание обращая на сортировку упорядочивание. Лично мне работать было не просто психологически – буквально каждый документ хотелось тут же прочесть, о каждом расспросить отца, но время поджимало: всё хуже чувствовал себя отец, всё больше и чаще уставал. А для него разбор архива был процессом тревожным и зачастую печальным: сколько нереализованных планов, заявок, сколько невоплощённых замыслов!..
В итоге самым большим, самым последовательным и цельным оказался архивный фонд Пьера Дегейтера. Мы с отцом углубились в изучение сохранившегося материала. Фонд, конечно же, был ещё больше, но за прошедшие годы поредел. Непоправимый урон нанесла ему блокада.
Изучая материалы, я подумал: а что если в документальной форме с привлечением подлинных документов как таковых рассказать о том, как писатель встретил своего героя, какувлёкся его судьбой, его творчеством, как в течение многих лет оставался верен любимой теме. Отец сперва колебался, сомневаясь, будет ли это интересно. Я вначале не мог понять его аргументацию, а потом понял: он не учитывает того, что его знания данной темы несопоставимы с минимумом сведений об этом человеке, эпохе и стране, в которой он жил, у обыкновенного среднего читателя. Да что там среднего! Редко кто вообще знает подавляющее большинство фактов, которые страница за страницей раскрывались перед нами – для меня впервые, для отца – как отзвук былого. И тут я привёл отцу ещё один аргумент: «Ты судишь с позиции людей своего поколения, своего возраста, как ровесник века. А я как ровесник Победы, юность которого пришлась на начало 60-х годов, этого не знаю вовсе! Так что считай, что ты пишешь для нашего и более молодых поколений. Посему и не оставляй без пояснений и многие понятия давней эпохи, и сокращения, и мотивировку и обстоятельства тех или иных действий, событий, не бойся и психологического комментария. Это тоже станет документом эпохи».
Наконец, выслушав мой вариант плана-проспекта очерка, отец согласился. Так, шаг за шагом стал рождаться очерк, постепенно переросший в большую документальную повесть. В результате это произведение получило жанровый подзаголовок: «Публицистическое повествование в очерках и документах».
Работа у отца продвигалась как ни странно довольно быстро при её весьма значительном объёме. Но говоря так, я не учитываю высокую степень знания им материала и прекрасную память. Да что говорить, если он, тяжёлый раковый больной, за две недели до смерти в течение четырёх часов живописал мне в лицах обстановку на Украине в годы Гражданской войны!..[115]
Есть и ещё одна весьма весомая причина высокого темпа работы над повествованием: отец на пишущей машинке работать уже не мог, но он диктовал мне отдельные страницы и тут же называл источники из архива, откуда, что и с какой страницы нужно мне будет цитировать. Порою отчёркивал необходимые места в уже опубликованных им статьях и очерках, делал закладки в нужных нам книгах. Конечно, жили мы в разных городах, но в последнее время я в Москве бывал чаще, да и переписывались и перезванивались мы регулярно.
«Лучший отдых – перемена работы», – любил повторять отец. Дома ли у себя, в домах ли творчества – всюду стол, стулья, кресла, подоконники, даже пол были завалены рукописями, книгами, черновиками. В этом кажущемся хаосе был свой определённый порядок, в котором отец ориентировался свободно. «Не тронь эту груду записей, – говорил он мне, – это заготовки к третьей главе».
… Полностью смонтировать материал по отцовским чертежам я сумел лишь летом 1991 года, то есть спустя почти полные тринадцать лет после его смерти. Для меня эта работа оказалась несравнимо более тяжёлой, чем для него. Порою ради уточнения одной даты я перерывал груду литературы. Большие трудности и хлопоты составила для меня организация перепроверки переводов с французского. Очень тяжело поддавались прочтению некоторые не только слова, но и страницы отцовских рукописей, причём ключевых, которые просто так пропустить было невозможно. Ну и наконец, я все эти минувшие годы не мог заниматься только этой работой. Она требовала огромной самоотдачи и исключительного к себе внимания.
И вот этот огромный труд завершён. Рукопись лежит передо мною такой, какой её хотел увидеть отец. Впереди у меня ещё немало текстологической работы, но эта, пожалуй, была самой трудной и длительной, и в то же время самой увлекательной и вдохновенной.
Я уже не говорю об уникальности, феноменальности предмета нашего изучения – великой песни Эжена Потье и Пьера Дегейтера, о том, что в их судьбах – история не только Франции, но и всего трудового человечества. Был и есть один субъективный фактор, который я тоже не могу сбросить со счёта. Все окружавшие меня с детства люди к Франции и её культуре питали особое пристрастие. Французскую литературу и французское кино (правда, наряду с итальянским, послевоенным, разумеется) больше других зарубежных литератур и кинематографий любил мой отец. Моя бабушка по материнской линии Елена Андреевна по профессии фельдшер и учительница начальных классов, была очень начитанным человеком, в том числе и в зарубежной литературе, и тоже предпочитала французскую прозу. Если мои далёкие предки по дедовской линии были выходцами из Голландии (их, мастеров печного дела, сам Пётр Первый в Петербург пригласил), то предки моего деда (родной – Григорьев Илья Михайлович, умер задолго до моего рождения) Александра Константиновича Врио были выходцами из Франции. Александр Константинович меня растил с малолетства, воспитывал, занимался со мной по очень интересной им самим составленной программе. Умер он, когда я перешёл в шестой класс. Так что живо помню и его рассказы, и его уроки, и предания, которые он мне поведал. Брно – это переделанное на иной лад Бриё. Есть такое местечко во Франции. Его предков, морских офицеров, пригласила в Россию Екатерина Вторая. Французский язык дед знал прекрасно – и не какой-то учебно-книжный, а живой, разговорный, которым пользовался с детства. В Харькове в доме его отца штабс-капитана интенданта Константина Врио говорили по-русски, по-украински, и обязательно – по-французски.
Больше всего в моей семье почитали прозу Гюго, с малых лет мне читали и пересказывали его «Отверженных». Дед помнил множество французских шуток, каламбуров, загадок, сказок, песенок. Он хорошо знал быт и жизнь не только русского дворянства, но и французского. Вообще он был человеком замечательным. О нём я непременно напишу обстоятельнее и подробнее. Дед до последних дней жизни интересовался международными новостями и прежде всего вестями из Франции. Порою бабушка проверяла его знания французского языка таким образом: читала роман русского классика с вкраплениями французского текста, перевод обычно давался в сноске на той же странице. Она прерывала чтение, хитро усмехалась и просила деда: «А ну-ка попробуй прочесть и тут же перевести!» И закрывала ладонью перевод. Дед переводил с ходу и, как мне кажется, всегда живее, чем было в книге.
Я всегда больше любил поэзию и кино, чем прозу. Посему у меня живее в памяти французские шансон и фильмы. Без них я не представляю себе себя. Когда я был ещё школьником средних классов, по нашей стране триумфально прошёл фильм «Адские водители» с Ивом Монтаном в главной роли, потом мы запоем читали его воспоминания «Солнцем полна голова», слушали его концерты по радио – на концерты его в Ленинграде попасть нам не удалось[116]. Разумеется, у нас дома не раз говорилось об истории Франции, о её революциях, о её связи с Россией. Никакого предпочтения Франции при этом не было и быть не могло. Просто она была нам ближе иных стран. Я, правда, с детства живо интересовался Голландией и сохранил этот интерес до сих пор.
Вообще мне кажется, что дух романских народов ближе нам, славянам, русским особенно, чем других народов. Но это особая большая темя для специального и обстоятельного разговора.
В интервью Центральному телевидению СССР лидер французских коммунистов Жорж Марше сказал, что Коммунистическая партия Франции – «неотъемлемая часть общефранцузской культуры». Очень глубокое и проникновенное высказывание, с большими перспективами для продолжения и развития тезиса.
Конечно, есть Франция кагуляров, есть Франция ОАСовцев, была и, вероятно, есть Франция вишистов, Франция «сильных мира сего» (отличный был французский фильм!), но эта Франция никогда не занимала наши думы и сердца. Пленяла Франция народная, трудовая, Франция «Детей райка»[117], Франция революционно-героическая, Франция Движения Сопротивления.
Как редактор я с большим удовольствием и увлечением, даже одержимостью, работал над книгами серии «XX век: два лика планеты». Из них мне особенно дороги книги о Франции и об Италии. Сборник «Французские писатели о Стране Советов» составлял знаток французской прессы профессор В.С. Соколов. Помню его вузовские лекции по истории зарубежной печати. Особенно врезался в память его тезис: «Учтите, что коммунистическая печать зарубежных стран прежде всего ярко национальная печать. Иначе её не понять…». Углубившись в историю жизни Пьера Дегейтера и его друзей, я в справедливости слов этих убедился. Дегейтер и Потье могли быть только французами, национальная гордость и самосознание присущи им в максимальной мере. И не вопреки, а благодаря этому они в своём творчестве восходили к человечеству, не как к сумме стран, интеграции миллионов, а к человеческому интернационалу грядущего.
Но послесловие не может быть, не должно быть слишком большим. Иначе оно станет не послесловием, а предисловием нового произведения – уже моего, а я пишу всё-таки прежде всего о трудах своего отца.
Повторяю, что закончить свою работу он успел полностью. Незадолго до смерти своей в 1978 году. С тех пор прошло немало лет, и я просто обязан сказать коротко о том, что эти годы внесли нового в тему, которой отец посвятил полвека.
Прежде всего я написал письмо Александру Николаевичу Рубакину, честно говоря – без особой надежды на ответ. И вдруг получаю его письмо – на той же пишущей машинке, с той же графикой расположения текста, с той же размашистой подписью!
«Сотникову H.H., 197101, Ленинград, пр. М. Горького, 27, кв. 4. Уважаемый Николай Николаевич, получил Ваше письмо и в нём прежде всего печальное известие о кончине Вашего отца. Прошу принять мои искренние соболезнования… Я лично хорошо знал Дегейтера в Париже, лечил его и отправлял в Москву по поручению нашего посольства[118] в Париже, в котором я тогда работал. Мною о Дегейтере написано несколько работ по неопубликованным раньше материалам и по моим личным воспоминаниям (в «Советской музыке» и т. д.). Выступал я также в Москве с воспоминаниями о нём на разных собраниях. В Кишинёве молдавское кино сочинино о нём сценарий и фильм[119], в котором вывели и меня как врача Дегейтера. Но артист, который «меня» играл, не имел никакого сходства со мной. Фильм этот был сделан без моего ведома и участия. В годы войны я никак не мог встречаться с Вашим отцом, так как был захвачен во Франции и просидел два года в фашистском концлагере в Северной Африке (в Джельфе, Алжир), откуда бы освобождён только в 1944 году, когда в Алжир приехала советская миссия… В послевоенное время я тоже его не видел, хотя жил в Москве и был профессором 1 – го Московского Мединститута – теперь я персональный пенсионер союзного значения…
С уважением
Профессор А.Н. Рубакин. 103065, Москва, Новослободская у л. 57/65, кв. 45. 3 сентября 1978».
Ответил А.Н. Рубакин мне быстро, любезно и довольно обстоятельно. Однако – довольно путано, с повторами буквально через абзац, с рядом противоречий. И раньше эти моменты в его письмах (ещё к отцу!) прослеживались. Теперь они стали ещё резче бросаться в глаза. Но ведь надо учесть – ему в момент написания ко мне этого письма 88 лет! Через год его не станет. Он был старше моего отца на десять лет, и свою превосходную мемуарную книжку «Над рекою времени» (М.: Международные отношения, 1966) начал словами: «Когда разразилась первая русская революция в 1905 году, мне было 15 лет». Вот его точка отсчёта новейшего времени. Несколькими страницами выше, в предисловии к однотомнику мемуаров он напишет слова, которые могли бы стать девизом для многих выдающихся и честных людей нашего века: «Я был революционером, потому, что я не мог им не быть. Я из того поколения русской интеллигенции, для которого жизнь и служение народу сливались в единое, неразрывное целое. Поэтому и в моей жизни моя профессиональная, научная и литературная работа тесно связана с работой революционера. Мне довелось участвовать в подготовке революции, и я сделал для неё всё, что мог, как и мой отец, и я горжусь тем, что продолжил его славные традиции».
Эти слова на склоне лет пишет профессор, доктор медицинских наук, автор более 270 научных работ, член Союза писателей СССР. Через год в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» выйдет в свет его книга об отце «Рубакин» (Лоцман книжного моря). Она написана посуше, построже, хотя и в ней есть мемуарное, лирическое начало. К широкому читателю пришла и книга А.Н. Рубакина по вопросам геронтологии «Похвала старости» (М.: «Советская Россия», 1979). Я её читал, открытий особых не встретил, а вот мемуары читал буквально запоем!
И всё же главный его литературный труд – «Над рекою времени». В сущности, это хронология его судьбы с небольшими отступлениями, экскурсами, пространными описаниями. Хронология охватывает огромное и буквально перенасыщенное событиями время от 1905 года до победных салютов над Москвой. 40 лет! Проходят перед нами дореволюционная Россия, Франция, в которой Рубакин прожил почти 30 лет – сперва как русский политэмигрант, бежавший из сибирской ссылки, а потом как гражданин СССР, сотрудник полпредства Советского Союза в Париже, общественный деятель, лектор, публицист. «Французские» главы мемуаров А. Н. Рубакина – это превосходный учебник истории Франции XX века, это такой взгляд изнутри, который не имеет себе равных. Очень сожалею, что в период работы над сборником «Советские писатели Франции» не знал о книге А. Н. Рубакина. Некоторые главы, особенно о начале Второй мировой войны, так и просятся в нашу историко-литературную книгу! Главы «африканские» и «азиатские» (дорога домой, в СССР, была сухопутной и шла через Египет, Палестину, Ирак, Иран) тоже феноменальны, как феноменальна и судьба этого замечательного человека.
Попросите в больших библиотеках эти книги А. Н. Рубакина и прочитайте их медленно, неторопливо, углублённо. Они заслуживают именно такого чтения.
Я вовсе не хочу утверждать, будто все страницы и главы написаны на одинаковом уровне. Вовсе нет! В той же мемуарной книге есть и превосходное эссе «Роман Роллан, Анри Барбюс и другие» – по-моему, высшее достижение А. Н. Рубакина как стилиста, историка и критика! И, к сожалению, маловыразительный очерк о Пьере Дегейтере. В книге есть удивительные философские откровения и газетная скороговорка, факты, которым нет цены, и довольно банальные необязательные описания. Я вовсе не рецензирую однотомник. Я продолжаю открывать для себя этого замечательного человека, который сделал для меня как читателя столько открытий. Среди этих открытий самое дорогое для меня – страницы, посвящённые В. И. Ленину.
Прежде я полагал, что В. И. Ленин и отец А. Н. Рубакина Н. А. Рубакин знакомы лично не были. О рецензии В. И. Ленина на книгу Н. А. Рубакина «Среди книг» я знал, отмечал всего для себя, что Владимир Ильич книгу не только хвалит, но и приводит весьма серьёзные замечания (см.: В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, с. 111–112). А вот о переписке В. И. Ленина и Н. А. Рубакина как переписке автора и издателя, к сожалению, не ведал! Оказывается в 1913 году, готовя второй том «Среди книг» Рубакин-старший попросил В. И. Ленина специально для этого издания написать кратко о большевизме: «Уважаемый товарищ… лучше Вас никто не сможет этого сделать». В. И. Ленин такую статью написал, сопроводил рукопись письмом, также назвав Рубакина «уважаемым товарищем». Ленинский материал был напечатан во втором томе «Среди книг». Об этом с гордостью пишет Рубакин-младший в своей книге об отце, а в своих мемуарах «Над рекою времени» он приводит такую сцену навсегда оставшуюся у него в памяти: «… Отец мой вскоре вернулся, сердечно приветствовал посетителя и повёл его в свой кабинет, где они заперлись и долго разговаривали… Через некоторое время дверь открылась, посетитель вышел, унося какую-то книжку, приветливо простился со мной и ушёл. Тогда отец позвал меня в свой кабинет, закрыл наглухо дверь и почему-то шёпотом сказал: “Знаешь, кто это был у меня? Это был Ленин”».
Это было в Швейцарии, в городке Каларнне в 1909 году. Рубакин-сын вернётся в Москву и ещё 35 лет жизни отдаст медицине и литературе. Рубакин-отец останется в Швейцарии работать на Россию и жить во имя России. Он умер в Лозанне в 1946 году. Через два года урна с его прахом была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. В том же году превосходная библиотека Рубаки-на-отца, завещанная им Родине, вернулась на нашу землю и влилась в фонд Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.
Жизнь Рубакиных – это не пьеса, а роман-эпопея. О них можно писать без конца. Но ограничусь лишь ещё одним сюжетом: студент трёх факультетов Петербургского университета Н. А. Рубакин (за пять лет он одолел все их учебные программы!) познакомился со старшим братом В. И. Ленина Александром Ульяновым и вместе с ним посещал научный кружок. Под сильнейшим впечатлением от казни Александра Ульянова Н. А. Рубакин написал стихи, в которых мечтал «слабых духом поддержать, унижающих – унизить, обижающих – обидеть, в мёртвых снова жизнь вдохнуть, старый мир – возненавидеть, старый строй – перевернуть». Написано в 1887 году, когда Ленину было 17 лет. Через год в Лилле впервые прозвучит «Интернационал». Через 30 лет прозвучит выстрел «Авроры».
А через сорок один год Рубакин-младший переступит порог маленькой квартирки Дегейтера в парижском рабочем пригороде Сен-Дени. То, о чём рассказано в коротком очерке А. Н. Рубакина, вы уже знаете. Остановлюсь лишь на принципиально новых для нас деталях. Оказывается, Дегейтер жил на первом этаже небольшого домика среди заводских построек. Было у него две комнаты, обставленных старой мебелью, «на полках и шкафах стояли маленькие модели мебели, изящно и тонко сделанные». Обращает на себя внимание и описание распорядка дня у старого Пьера: в 7 утра кофе, в 12 скромный обед и ужин в 19 часов. Маленькие радости-слабости – немного вина и порцию «помм фрита» – жареного ломтиками картофеля. Утешался старый Пьер воспоминаниями о дорогих и близких ему людях о том, как он участвовал в конкурсах на звание лучшего рабочего-мебельщика. Как мы видим, конкурсы на звание «Лучший по профессии» – не наше изобретение. Особенно ценна фраза, характеризующая политические воззрения старого Пьера: «Примкнув к рабочему движению в период острой классовой борьбы во Франции, Дегейтер на всю жизнь сохранил горячий революционный порыв».
Ещё несколько уже ведомых нами фактов, изложенных довольно информационно-описательно, и на этом очерк завершается, однако, тема «Интернационала» звучит на протяжении всей книг «Над рекою времени». Это и Движение Сопротивления во Франции сражающейся, и спаянность в жутких условиях концлагерей бойцов интербригад – участников гражданской войны в Испании. «Интернационал» знают рядовые солдаты английской армии, здесь же в городе Алжире он звучит вместе с «Марсельезой» со сцены Оперного театра, его поют в Тунисе на небольшой станции вместе с английскими солдатами из встречного воинского эшелона, направляющиеся сухопутным путём в Советский Союз русские, украинцы, белорусы, поляки, испанцы и французы, как о них пишет А. Н. Рубакин, «товарищи по страданиям, товарищи по борьбе».
Мне очень жаль расставаться с Рубакиными, с их судьбами и деяниями, но впереди ещё несколько необходимых комментариев.
С ленинградским критиком и очеркистом Ильёй Борисовичем Березарком я был знаком с 1972 года, когда стал работать литературным консультантом в Ленинградской писательской организации. Он был уже стар, неухожен, жил один, плохо себя чувствовал и находил отраду в воспоминаниях. А на своём веку ему немало довелось встретить замечательных людей. От текущей литературной критики он отошёл и сосредоточил внимание на мемуарных очерках. Жил он на Моховой улице и ходил обедать в очень неплохую столовую на углу Литейного проспекта и улицы Некрасова[120]. Кормили там действительно вкусно, но и грубили посетителям отменно! Повадился ходить в обеденный перерыв в эту столовую и я, решив, что всё-таки пусть лучше хорошо кормят, но грубят, чем улыбаются, но отравляют.
Мы садились с ним за один стол, похваливали блюда, поругивали официанток… Слово за слово разговор заходил об истории, о литературе. Илья Борисович оживлялся и рассказывал мне охотно о тех очерках, над которыми в настоящее время работает. Встречался он в годы своей журналистской молодости с Есениным, Маяковским и… был одним из первых московских репортёров, которые брали интервью у Пьера Дегейтера! Илья Борисович сказал мне, что нашёл какие-то давние свои записи, что работа над очерком о Дегейтере продвигается медленно. Однако на одной детали Березарк тогда в беседе со мной остановился. «Вы знаете, – сказал он, – на что рассердился Дегейтер при встрече с репортёрами? На то, что они его назвали «мсье»! «Камарад\ товарищ, камарад Пьер! Так прошу ко мне и обращаться, – парировал старый певец и рабочий, хотя в обращении «мсье» для француза нет нот, которые для русского слышатся в слове «господин».
(Как вспоминал А. Н. Рубакин в начале XX века даже ненавистное нам слово БУРЖУА зачастую означало всего лишь ЖИТЕЛЬ города.)
В 1982 году в издательстве «Советский писатель» увидела свет самая полная мемуарная книжка Ильи Березарка «Штрихи и встречи». В своё время я её как читатель пропустил и вот только сейчас, спустя многие годы, прочитал. Первым, на что я обратил внимание в содержании, – был очерк «Камрад Пьер», и сразу же вспомнил наш давний разговор с автором мемуаров.
Почти вся фактура мне была уже известна. Поэтому я обращаю ваше внимание лишь на то, что выпадало из поля зрения других авторов, писавших о рабочем певце. Дегейтер на вопросы о песне своей, которую знает весь мир, отвечал скромно и просто: «Я ведь писал тогда песню для хора». Мелодию он создал за два дня. У композитора не было рояля, а лишь старенькая фисгармония. Припомнил Дегейтер и первое издание нот – зелёненькую листовочку с текстом и нотной записью с обеих сторон.
Очень меня удивили строки у Березарка, посвящённые… Сюзанне, а не Люсьене! Получается, что у Пьера была ещё и родная внучка, дочь его покойного сына. Другие исследователи и биографы Дегейтера этого не подтверждают. Лишь А. Н. Рубакин колеблется, называя Люсьену внучатой племянницей, оговариваясь – «внучатой племянницей её считал сам Пьер».
Березарк подтверждает факт, что в общей сложности Дегейтер прожил в Москве четыре месяца. Старик жаловался молодому репортёру, что встречался чаще с музыкантами, а вот с рабочими-мебельщиками – ни разу. Убеждён, что радости от продукции московских мебельщиков в 1928 году мастер-виртуоз не испытал бы! Может быть, это тоже учитывали организаторы поездки Дегейтера?.. Оказывается, старик привозил с собой альбом с фотографиями своих изделий и даже макеты мебели. Багаж у него был не малый!
В плане чисто творческом (да и биографическом!) особый интерес представляют сведения о песнях, которые в других источниках не назывались: был у Дегейтера цикл песен о цветах (лилиях, розах, сирени), были циклы песен о певчих птицах, об авиаторах Блерио, Фармане, Сантос-Дюмоне. Старик гордился знакомством с ними и радовался их успехам.
Лично меня потрясли два факта, изложенные в очерке Березарка мимоходом, между прочим: на встречах с москвичами Дегейтер не только дирижировал и рассказывал о себе, но и читал свои стихи. Несомненно – по-французски. Думается, что – тексты своих шансон, ибо никаких упоминаний о стихах, написанных Дегейтером не для песен, не имеется. И второе – оказывается, в юности Дегейтер собирал и записывал песенный фольклор гугенотов! Этот факт открывает целый пласт в возможных дальнейших исследованиях. Пока что отметим очевидное – Дегейтер в своих шансонах восходил к не только опыту современных ему народных певцов, любимого им Беранже, но стремился заглянуть вглубь веков.
Песни гугенотов носили не столько религиозный характер, сколько социально-политический характер и были, выражаясь современным термином, песнями протеста[121]. Впрочем, здесь для исследователя ещё непочатый край работы!
Очерк Ильи Березарка не упомянут в обширном библиографическом указателе в книге Симона Дрейдена «Песнь песней революции» (страницы истории «Интернационала»). Монография эта вышла в свет в издательстве «Советский композитор» к 100-летию со дня первого исполнения гимна в Лилле в 1888 году. Тираж её невелик[122] – 13 000 экземпляров. Знают о ней мало, хотя она, как и другие монографии на историко-музыкальные и историко-театральные темы Симона Дрейдена, заслуживает внимания и пристального изучения. Конечно, нельзя объять необъятное – литература по истории гимна «Интернационал» интернациональна и громадна по объёму, она существует на десятках языков зарубежных стран и на многихязыках народов нашей страны. Самое сильное впечатление в монографии Дрейдена (а она представляет из себя дополненное и расширенное переиздание части первой монографии «Музыка – революции» (м.: «Советский композитор», 1970) оставляют главы, посвящённые переводам и распространению «Интернационала». Очень плодотворны его поиски ярких проявлений судьбы «Интернационала» в истории XX века и отражения этих проявлений в произведенияхлитературы и искусства. Фактический материал оказывается воистину неисчерпаемым, он пополняется всё новыми и новыми примерами.
Приведу те из них, которые не отражены в монографии Дрейдена. Ещё в детстве мне отец рассказывал об одном итальянском послевоенном фильме про батраков на сборе винограда. Хозяин им запрещает есть виноград и требует, чтобы они пели – ведь поющий есть не может! И тогда они свистом исполняют «Интернационал»! К величайшему сожалению, до сих пор не могу уточнить название этого фильма. В «Амаркорде» Федерико Феллини можно забыть о многом из того, что вспоминает о своём детстве в итальянском довоенном провинциальном городке автор, но, убеждён, что этот эпизод у всех зрителей навсегда остался в памяти. Какой-то отчаянный скрипач на высоте купола собора играет «Интернационал», приводя в бешенство местных фашистов, выкрикивающих некий рифмованный злобный призыв. Им в беспорядочной пальбе удаётся убить скрипача, но остаётся ощущение, что мелодия продолжает звучать надо всеми событиями «Амаркода» и даже над блистательной музыкой к этому фильму Нино Рота.
«Интернационал» был гениально беззвучен в «Земле» Александра Довженко в сцене похорон Василия, сражённого кулацкой пулей, когда над ним звучат «новые песни про новую жизнь». «Интернационал», исполняемый в фильме «Мы из Кронштадта» сам становится неумирающим, непобеждённым главным героем. К большому сожалению, во многих средних, проходных историко-революционных фильмах «Интернационал» служил лишь фоном или рассматривался в качестве традиционного апофеоза.
Об «Интернационале» написано немало стихов. Не скажу словами В. Маяковского, что «хороших и разных». Разных – может быть, но скорее – дежурных, однообразных, неглубоких и неуёмно-пафосных, ибо нет ничего труднее для поэта, чем встать вровень с народной песней, а тем более – с такой песней!
Да и пути подхода к теме «Интернационала» были, как правило, однотипные: зал торжественно поёт гимн на собрании; в ходе боя наступает перелом, когда бойцов окрыляет эта песня. Вот практически и все основные варианты. Правда, Владимир Короткевич, несравнимо лучше известный читателям как автор исторических романов о Белоруссии, в своём стихотворении «День первый» воскрешает историю перевода на белорусский язык Янкой Купалой бессмертного текста Потье. В главе «На века» монографии «Песнь песней революции» Симон Дрейден приводит цитаты из стихотворений Евгения Винокурова, Константина Симонова, Юрия Инге, Павла Когана, Алексея Суркова… Цитирование короткое, составить представление о стихотворении в целом очень трудно, да и заботило музыковеда Симона Дрейдена не поэтическое мастерство авторов стихов об «Интернационале», не разработка темы, а подкрепление примерами тезиса о том, что тема «Интернационала» живёт и развивается в поэзии. Конечно, заманчиво собирать в единую подборку все стихи, посвящённые «Интернационалу», но, боюсь, что по указанным выше причинам её общий художественный уровень будет невысок.
Однако если бы такая подборка всё-таки состоялась, в неё не могло бы не войти стихотворение Евгения Евтушенко «Интернационал» с которым читатели смогли познакомиться, прочитав его сборник «Взмах руки», вышедший в свет в издательстве «Молодая гвардия» в 1962 году.
В тенистом Тринидаде, кубинском городке, где пальмы трепетали на лёгком ветерке… …И вдруг – волос колечки, коленки в синяках. Девчонка на крылечке с ребёнком на руках. Её меньшой братишка, до удивленья мал, забывшийся, притихший, с конфетою дремал. Девчонка улыбалась всем существом своим, девчонка нагибалась, как будто мать, над ним. Тихонько целовала братишку своего, «Интернационалом» баюкая его. Быть может, я ошибся?! Совсем другой мотив?! Я подойти решился, покой их не смутив. Да, это он, конечно, лишь был чуть-чуть другим — задумчивым и нежным — тот мужественный гимн. О Куба, моя Куба! На улицах твоих девчонкам не до кукол, мальчишкам не до игр. Ты делаешь, что хочешь, что хочешь, ты поёшь. Ты строишь и грохочешь и на врагов плюёшь! У них силёнок мало! Ведь на земле твоей «Интернационалом» баюкают детей!«Куба, 1961 год», – стоит под этими строками авторское примечание. Я немного сократил стихотворение – те строфы, в которых меткими штрихами давался облик острова свободы в начале 60-х. И сразу в памяти ожили кубинские песни по радио, фильмы Романа Кармена, фильм самого Евгения Евтушенко «Я – Куба», встреча Фиделя на ленинградских улицах и площадях летом 1963 года. Я сам видел Фиделя стоящим в открытом автомобиле, который шёл по Кировскому проспекту на небольшой скорости.
Через 52 года Евтушенко неожиданно вернулся к теме «Интернационала», только не в поэзии, а в публицистике. Вот он как характеризует в документально-автобиографической книге «Волчий паспорт» (Москва, издательство «Колибри», 2015) своё отношение к этому песенному чуду: «Я любил и до сих пор пою “Интернационал” – не как партийный гимн, а просто как песню. Но в рефрене “кто был ничем, тот станет всем” есть опасная двусмысленность. Если тот, кто был на самом деле ничем, становится всем, – это страшно. Так было после Октябрьской революции, и, к несчастью, случилось и после событий в августе 1991 года… Отечественный капитализм предстал как хищник, доселе невиданный, более пугающий».
Характерное признание для выдающегося поэта и гражданина, который то взмывает ввысь с блистательной переделкой довоенной песни Виктора Гусева «Полюшко-поле» («Армии Красной нет, и стала смерть напрасной. Поистлели старые шинели. Только песни наши уцелели…»), то сокрушается публично о какой-то сравнительно мелкой редакционной правке 60-80-х годов.
Приведённые поэтом слова – не рефрен, а русский текст «Интернационала» Коца: Потье ничего подобного не писал\ Что же касается комментария к этому афоризму, то надо строго различать социально классовое и морально-психологическое: прапорщики в Красной Армии командовали крупными соединениями и побеждали врага умением, мудростью, а не числом и экипировкой. Что же касается второго варианта утверждения, то оно во все времена себя никак не оправдывало: «Нестор Кукольник – не Гоголь, Фаддей Булгарин – не Пушкин-про-заик. То же, что сейчас творится в многочисленных писательских союзах, это «и смех, и слёзы, и диагнозы», как пошутил один остряк. Ни бушковы, ни маринины никогда не станут в один ряд даже с прозаиками третьего-четвертого рангов 50-60-х годов!
И последнее – политический диагноз поэта верный, но истоки куда более ранние: тут и НЭП, и кооперация Горбачёва…
Почти во всех стихах об «Интернационале» он «бушует», как у А. Суркова, «слетает с растрескавшихся губ», как у К. Симонова, бойцы у П. Когана им «задыхаются» на поле боя, а здесь он звучит как… колыбельная! Неслыхано! Один критик в те ещё годы сразу по выходу в свет сборника «Взмах руки» возмущался, что впервые «Интернационал» звучит «убаюкивающее», чем выявил полное непонимание стихотворения, отнюдь не случайного в творчестве поэта, которому тогда не было ещё и тридцати лет. В ту пору главным его девизом были строки: «И революционная мелодия – ведущая мелодия моя».
Поколение детей войны творчески оказалось более счастливым, чем их младшие братья. Проявить им себя, выйти к читателям оказалось несравнимо труднее, а тем, кто имел творческие завоевания, ещё труднее оказалось их удержать. Москвич Николай Зиновьев, более известный теперь по шлягеру «Зелёный свет», чем по лучшим стихам, в начале своего творческого пути так определял своё кредо: «В талалихинском таране – столкновение миров». Это было написано уже тогда, когда началась целая серия нападок на героическое прошлое, на тему подвига, а сам воздушный таран один «публицист» подло называл «азиатчиной»! Закономерным продолжением и развитием стихотворения о лётчике Талалихине было стихотворение Николая Зиновьева о болгарском курортном вечере где-то у самого Чёрного моря – он услышал, как из окон отеля, где проживали молодые туристы из ФРГ, грохнули куплеты фашистской залихватской песни «Хорст Бессель»! И наши советские ребята решили в ответ «ударить "Интерном”»! Стихотворение у Зиновьева получилось немного мальчишеское, дерзкое, но очень искреннее, радующее тем, что и у нашего поколения нашлись свои слова об «Интернационале» – не из книг и лекций, а из жизни. Это стихотворение я прочитал, когда писал обзорную статью о теме Победы в творчестве молодых поэтов. С той поры с поэтическим решением темы «Интернационала» я больше не встречался. Есть у меня стихотворение о том, каким было первое исполнение гимна 23 июня 1888 года в Лилле на празднике газетчиков и печатников:
Николай Ударов. Песня о дне рождения «Интернационала»
Начинает песню Пьер Дегейтер, знаменитый шансонье, и колышет, словно знамя, ветер красное его кашне. Он аккордеон берёт не новый, верный свой аккордеон. Наизусть ещё не знает ноты лучшей из своих шансон. А в кафе с названием «СВОБОДА» всё ликует и поёт. Новая шансона – для народа и, конечно, – за народ! Подпевает всё кафе за Пьером, улица поёт припев… Надо просто в счастье очень верить, в битву за него успеть. День рожденья этой песни вечен. Он – как праздник всех времён. Пьеру не отягощает плечи старый друг аккордеон. Пьер домой идёт вечерним Лиллем, слушает июньский гром. Гимн его уже встаёт над миром. Старый мир идёт на слом. Новый свет на свет ещё не вышел. Старый день ещё не догорел. Новый день и старый день услышат, что Дегейтер им пропел…Да и сам Пьер ещё не представлял себе, что он тогда пропел… Ему понравились стихи, он полюбил их, они позвали мелодию. Мелодию узнала вся Земля.
К столетию со дня рождения «Интернационала» было несколько публикаций в периодике, вышла книга Симона Дрейдена «Песнь песней революции», в Москве прошла научно-теоретическая конференция, на Центральном телевидении состоялась премьера документального телефильма по сценарию О. А. Гиллеверта «Интернационал». Фильм этот, к сожалению, я не видел, только слышал, что он перенасыщен фактами и в нём мало говорится о самих создателях гимна.
Подходит к концу и моя работа, которой я отдал немало сил и времени, начиная с 1978 года, когда её прервал мой отец.
1978–2016
Н.Н. Сотников. Гимн – не икона, надо – изменим! (Комментарий к повествованию Н. А. Сотникова)
Среди отцовских газетных вырезок мне попалась на глаза одна, имеющая к данному разговору самое прямое отношение. Автор – Д. Кальм. Название – «Переводчик Интернационала», газета – «Известия». Числа и месяца нет, но, судя по контексту, это 1937 год. Жанр?.. Есть и элементы репортажа, и обличье расширенной информации, а завершает текст весьма гневная реплика в адрес штатных сотрудников новорожденного Союза советских писателей (так именовался наш Союз в те годы): почему-де они, «деятели из канцелярий», «служат причиной долголетнего полного отрыва А. Я. Коца от творческой среды, от нашей литературной жизни». А ведь «в двух кварталах от Союза советских писателей живёт скромный старик, имеющий основание в этом году праздновать значительный и почётный литературный юбилей».
Признаться, я оторопел, прочитав этот текст. Новорождённому творческому Союзу лишь три года, штат сотрудников минимален, идёт огромная работа по созданию первичных организаций на местах (область, край, республика, где нет областного деления, и это и есть организация первичная). В уставе чётко и ясно сказано, что приём осуществляется только по личному заявлению автора.
Как многолетний штатный сотрудник могу сказать, что теоретически могла
быть инициатива первичной организации, могли активно творчески работающему литератору старшие товарищи сказать: «Подумайте, Икс Игрекович, не пора ли вам подавать заявление о вступлении в кандидаты члена Союза писателей? Подготовьте все нужные документы, а мы предварительно их посмотрим!» Однако НИ ОДИН такой случай не припоминается! К тому же, до Второго съезда Союза писателей СССР в 1954 году был институт КАНДИДАТОВ. Второй съезд это понятие отменил, о чём потом многие профессионалы сокрушались, ибо наплыв серых имён произошёл именно с середины 50-х годов. Можно было пойти другим путём и вступить, предъявив финансовые документы о доходах за год и помесячно, в профсоюзную группу при Литературном фонде. Коцу это было не надо, ибо он уже был пенсионером. Пенсионеров вообще принимали крайне неохотно и сперва в кандидаты, а затем и в члены Союза писателей. На моей «канцелярской» памяти один случай в Москве и один в Ленинграде. Общественный резонанс был крайне негативным. Как я слышал, пошли даже обращения по этим двум поводам в Ревизионную комиссию СП СССР. Это и понятно: членство в творческом Союзе – это есть признание профессионализма и как бы законное оформление «брака с музами»… ЛЮБИТЕЛЬСТВО в профессиональной среде никогда не поощрялось. Ярым противником такого любительства был добрейший и тишайший человек Михаил Исаковский.
К чести Коца, он и не собирался считать себя профессиональным литератором, вёл себя достойно и скромно. Да, именно в 1937 году в журнале «Звезда» были опубликованы в его переводе ранее не переводившиеся строфы «Интернационала», но всё равно, сколько бы ни было значимым одно произведение, оно одним и остается. В Уставе Союза писателей не оговаривались число и объём произведений соискателя, но существовала практика, были местные инструкции. Во всяком случае, для поэта почти всегда обязательными были ДВЕ книги: одну могли даже не принять к рассмотрению. В послевоенные годы были сделаны исключения для авторов, павших на войне. Их приняли посмертно. Надо ли было это делать, вопрос спорный. Было исключение из исключений: по рекомендации Леонида Мартынова, казахский поэт, пишущий на русском языке, Олжас Сулейменов был принят по московским газетным подборкам, правда, большим, но у него был ряд публикаций в Алма-Ате.
Это – первое, о чём нельзя не сказать. Второе – тон обращения к сотрудникам аппарата Правления СП СССР, которые и знать не знали, по какому адресу проживает автор русского текста «Интернационала». Вменять им это в вину, по меньшей мере, нетактично.
Третье – это цитата из беседы Кальма с Коцем: «Эсеровского толка[123] русская “Марсельеза” на слова Лаврова (“Отречёмся от старого мира…”) не удовлетворяла меня и, я думаю, многих». А ведь со словами Лаврова на устах шли рабочие и на забастовки, и на бой, и на гибель! Первый куплет в поэтическом отношении просто превосходен! Его строки стали крылатыми. «Ненавистен нам царский чертог» – это ведь лозунг Февральской революции!
Кроме того, тогда, во время написания Лавровым «Русской “Марсельезы”», вообще не было понятия ЭСЕР. Кальм не потрудился доказать «эсеровское начало» в песне Лаврова.
Вообще-то странным выглядит и время публикации текста Кальма: на обратной стороне газетной полосы идёт текст полного разгрома Бухарина, который, между прочим, три года назад на Первом съезде Союза писателей, учредительном, делал доклад о поэзии, что впоследствии послужило (наряду с другими причинами) изъятию из библиотечных фондов текста стенограммы писательского съезда. Не мешает напомнить, что Бухарин совсем ещё недавно возглавлял газету «Известия», где, несомненно, ещё продолжали работать его союзники и единомышленники.
А ведь в тексте «Интернационала», который стал именоваться «русским текстом» немало и политических, и чисто поэтических просчетов. К примеру, «весь мир голодных и рабов». И раб может быть сытым, и богач в какой-то период времени при каких-то обстоятельствах может быть голодным! Не могут не смутить и слова такие образы, как «умелая рука», такая «рифма», как «добро» и «горячо», наконец, такой ключевой образ, как мир трудящихся, «проклятьем заклеймённый». Буржуи и их лакеи, конечно, трудовой народ клеймят в прямом и переносном смысле слова, но ведь, по Коцу, получается, что трудящиеся изначально заклеймены проклятьем!
Вообще, никак не могу понять, почему, как утверждает С. Дрейден, никем и никогда не утверждённый русский текст «Интернационала» таким образом не анализировался, не пересматривался, не улучшался. Может быть, и следовало оставить лишь одну потрясающую музыку, а на новые переводы объявить длительный и очень строгий конкурс?..
Сам С. Дреден склонен навсегда канонизировать русский текст Коца. Недаром он обрушивается на любые попытки его критиковать!
В нынешней исторической обстановке, вероятнее всего, надо искать принципиально новый гимн с новой музыкой и новым текстом, оставив гимну нынешнему достойное и почётное место в истории.
Н.Н. Сотников. Наследники славных шансон
Закономерный вопрос: «Как и где развивались традиции лучших французских политических шансон?» И – «Был ли значительный перерыв времени в развитии этих традиций?» Начнём с вопроса второго. Думается, что значительного временного разрыва не было. Требуются огромная эрудиция, политическая целеустремлённость и большой опыт литературно-творческой работы, чтобы провести это интереснейшее исследование. Пока в порядке гипотезы предлагаю следующую схему.
В Германии набирает силу политическая песня, лидером которой несомненно является Эрнст Буш. В ту пору у нас зонги Буша знали мало, редкие специалисты. В СССР Буш приезжал уже после войны, в частности в Ленинград, где его в Доме писателя имени В. В. Маяковского встречали восторженно. Переведены его зонги на русский язык недостаточно и слишком однолинейно-жёстко. Знатоки говорят, что его песенный слог богаче. Почти одновременно набирает силу политическая песня в республиканской Испании. Эти песни перелетают через океан, приживаются в странах Центральной и Южной Америки. Расцвет южноамериканской политической песни – Чили времён борьбы с Пиночетом. Творения Виктора Хары становятся известны во многих странах мира. В Италии при Муссолини происходит лишь зарождение этих песен, которые, словно знамя, взмывают в зенит в партизанских отрядах. Значительно хуже изучены аналогичные песни стран южной и центральной Европы.
Новый взлёт таких песен – 50-е-60-е годы послевоенной поры. Как ни странно, их центр перемещается в США. Имена Пита Сигера и Дина Рида у всех на устах. У нас, в СССР, эти песни почти исключительно звучат на языке оригинала. Удовлетворительных переводов на русский язык мне не встречалось. Появляется термин – ПЕСНИ ПРОТЕСТА, термин не очень удачный, ибо в политической песне силён момент и УТВЕРЖДЕНИЯ НОВЫХ ИДЕАЛОВ. А разве этого нет в классических шансон героев повествования «Самая памятная встреча»?..
Если у французов главный музыкальный инструмент – аккордеон, то у авторов песен протеста – почти исключительно гитара. Лично мне, как делегату Шестого Всесоюзного совещания молодых писателей, посчастливилось быть на приёме в здании ЦК ВЛКСМ на встрече с чилийскими комсомольцами и молодыми коммунистами во главе с легендарной Гладис Марин. Довольно большой по составу чилийский ансамбль гитаристов спел несколько песен протеста. Испанский язык я не знаю вовсе, но запомнил припев на испанском языке. Недавно знаток испанского языка помог мне перевести его на русский язык. Звучит припев примерно так: «Вперёд во имя нашей свободы!» Думается, что подобные призывы на разных языках звучали и в других песнях протеста.
Судьба авторов-исполнителей: Дин Рид в ГДР погибает при очень загадочных обстоятельствах, Виктора Хару после зверских пыток убивают пиночетовские палачи.
Чрезвычайный вопрос: «А у нас в стране были ли подобные песни, и в какой мере их мотивы и элементы содержит так называемая бардовская (или гитарная) песня?» Тема эта изучена плохо. За исключением большой статьи доктора филологических наук, бывшего руководителя клуба авторской песни «Восток» Юрия Андреева «Фольклор или литература?», ряда предисловий к сборникам бардовских авторов (в 90-е преимущественно годы) и моих критико-публицистических статей в Ленинграде я других материалов не знаю. Иногда появлялись и ещё реже появляются высказывания самих бардов, ныне – чаще всего ностальгически-горестные о том, что бардовская песня переживает кризис.
Но ведь к бардовской песне относят и такую дребедень, как песенки о туристских кострах, «женщинах-скалолазках» и т. д. В то же время нельзя не назвать остро политический песней песню поэта, драматурга и сценариста Геннадия Шпаликова «Танцевальная площадка» о последних днях мира накануне грандиозной войны. Бывали и разного рода натяжки: песня о десантном батальоне, которую поют герои фильма «Белорусский вокзал» КАК сочинение военныхлет\ Надо решительно выводить подобные опыты за эти временные рамки: это – явление 60-х годов, так же, как песни Ножкина из фильма «Освобождение». «Мы пол-Европы по-пластунски пропахали(?)» напевают бойцы в последние дни войны. Исключено! Это – песня70-хгодов.
Нельзя не поставить вопрос об элементах сатиры, столь важных в творчестве французских шансонье. Эти элементы есть в песенном творчестве у Дина Рида, а ещё раньше – у шведа, американского эмигранта, Джо Хилла. В просмотровом зале редакции журнала «Искусство кино» главный редактор Евгений Данилович Сурков предоставил мне возможность посмотреть фильм о Хилле и оценить его (Сурков и тут вёл себя как преподаватель киноведческого факультета ВГИКа). Стилистически и в плане бытовом фильм сделан интересно и даже изящно, но это не главные слагаемые политического фильма о политическом певце. Вот именно о песенном творчестве (на английском языке) Хилла по большому счёту не говорится. У нас в Москве вышел небольшой сборник Хилла, переведённый так себе. Правда, лучшие переводы посвящены штрейкбрехерам и написаны очень сатирически ядовито.
Элементы политической сатиры содержатся в ранних песнях одного из основоположников бардовской песни у нас в стране Михаила Анчарова, особенно сильна дерзкая песенка шофёра-дальнорейсовика:
А сейчас мы Москву проходим… Нам повсюду «кирпич» висит: МАЗ для центра, видать, не годен. Что ж, прокатимся на такси!По моим данным, в ту пору этот текст не печатался. В нынешнее время в связи с небывалым ещё размахом и глубиной движением «дальнобойщиков»-дально-ресовиков за свои права (а это люди тяжелейшего и очень опасного труда!) эта песня обрела вторую жизнь и новую социальную тональность.
Новый взлёт политических мотивов в бардовской песне – это пора 90-х годов и по настоящее время. Лучшие образцы предоставлены в творчестве бывшего моряка Александра Харчикова. Я был на его концерте и скажу уверенно: музыка на пять, исполнение – на четыре, тексты с точки зрения стихотворной – на четыре с минусом, но политически – на ОТЛИЧНО. Есть и ещё несколько имён, но они куда меньше известны, чем Харчиков.
И, наконец (прошу прощения за нескромность, которая поэту более чем простительна!), – автор этих строк. У меня почти 200 песен, политических – около пятидесяти. Других примеров на сегодняшний день я не знаю.
Николай Ударов. Поэт, которому завидовал сам Гёте. (Цикл стихотворений и песен о Беранже, учителе Эжена Потье)
«Ах, отчего я не Беранже!»
Эжен Потье И голова его полна одним и тем же. Это – песни! БеранжеНиколай Ударов. «Он видел с крыши дома штурм Бастилии…»
Час придёт! За отчизну сочтёмся с врагами!..
Беранже Он видел с крыши до́ма штурм Бастилии. Недаром революции взрастили нас! Они для нас эпиграфами стали, чтоб мы в любых невзгодах устояли. Грохочут камни первый гимн победный. Парижский мальчуган девятилетний уже тогда в себя вбирает звуки. К высотам поэтической науки его судьба когда-нибудь поднимет и зазвучит по всей Европе имя, свет оставляя в сердце и в душе — певец народный Пьер-Жан Беранже.Народ – это моя муза!
От народа я себя никогда не отделял.
Если есть в мире поэзия, то я не сомневаюсь, что надо её искать в народе. Мой патриотизм несмотря на мои шестьдесят лет сохранил весь пыл юности.
Временами лучшей музыкой для нации бывает барабанный бой, зовущий в атаку!
Я не могу быть равнодушным ко славе родины моей.
И всё это – тоже Беранже!
Песня о короле шансон
«Если песни атакуют то, что неприкосновенно и священно, если Бог, религия, закон становятся их мишенями, то почему их щадить?»
(Из речи прокурора Маршанжи) Прокурор Маршанжи судит Беранже: – Против бога, против власти, против короля ты живёшь в духовной страсти, собственность хуля. Как тебя не покарала молния в пути? Столь нахального нахала в мире не найти! От дверей незримых ада не храню ключей, но и ада нам не надо для твоих скорбей. Посиди-ка, друг, в темнице, песни там попой! И тогда угомонится буйный разум твой. – Я отвечу вам шансоной. Вот мой приговор. Я молюсь на это солнце, на родной простор. Вот оно – моё богатство! А народ – мой бог! Не пристало мне пугаться тюрем и дорог! Пусть звучат мои куплеты памятней молитв. Правят светом лишь поэты, а не короли! Над судом и приговором посмеюсь я всласть. Посильнее прокурора я имею власть. Что касается темницы, мне темница впрок! В тишине должны родиться сотни славных строк. Эй, вы, стража! Проводите короля шансон и скорее посадите на казённый трон! — Шансонье Беранже судит Маршанжи. Прокурорский портрет знает белый свет. Ты про Маршанжи больше не пиши. В каждой из шансон — правда и закон, а в любом законе — тема для шансоны!Тюремные торжества
Во время второго тюремного заключения десятки (если не сотни!) почитателей таланта Беранже навещали его в тюрьме, приносили гостинцы, беседовали с ним, занимая всё время поэтического узника. Ему просто некогда было писать! И он попросил тюремщиков… упорядочить все эти посещения! А деньги на штраф в 10 000 франков были собраны по подписке. Небывалые факты в истории литературы!
В тюрьме опять большой приём, большой приём, вот дело в чём! Приходят гости погостить и Беранже спеть попросить. Они ему несут еду — и не простую ерунду — ту, что оценит и гурман. Вот – блюдо, вот – вина стакан. Тюремщик! Не хватайся за живот! Будь подобрей – тебе перепадёт! Хоть вы, тюремщики, продались, но видно, что изголодались! Ешь, пей, угодно что душе, но береги для всех нас Беранже!Дом творчества беранже
Беранже в тюрьме писал. Десять месяцев – не шутка! Только песен голоса — словно свет во мраке жутком! От его шансон всё поёт кругом. Голова хмельна словно от вина! Доигрался ты, певец! Много было в песне перца! У тебя такое сердце — миллион вместит сердец! От его речей сердце горячей, голова трезвей, мудрый взгляд острей! Неугоден ты для всех, потому что ты свободен. Ну, а самый главный грех в том, что ты всегда народен! Ты в тюрьме своей, как в стране своей, и тюремщик твой будет петь с тобой! Десять месяцев пройдут, и тюремщик скажет важно: – Вы свободны! Вас там ждут на свободе песни ваши! — Их нельзя поймать. Их нельзя сослать. Их нельзя убить. Их нельзя забыть.«Когда примолкли песни Беранже?.
Когда примолкли песни Беранже? Когда пришли другие песни? Когда ушли его ровесники? Когда прошли слова в его душе? Когда укрыли крылья туч светило Франции кипящей? Когда поэт подвёл черту в судьбе своей под настоящим?.. Пусть лучше строчку оборвёт моё последнее мгновенье, чем навсегда перо замрёт и не вернётся вдохновенье!«Слова, слова!..»
Слова, слова!.. Мелодии он брал из лучших песен Франции старинной, свои куплеты ими окрылял, и получалось, что давал своё им песенное имя. Слова свои никак не мог не петь. Мелодия, ты чья теперь, ответь!.. Свет не угаснет, станет маяком. Пой, слово, шелест трав и вещий гром!Свой Париж покидал Беранже
Меня покинул светлый дар стихов. Прощайте, песни! Старость у дверей. Возница наш – седое время. «Я искал убежища в Пасси, Фонтебло, Туре…» («Моя биография») Беранже Придётся покинуть Париж… Что мне суета? Что мне слава?.. Отрадна мне слов величавость. Придётся покинуть Париж. А может быть, я устарел?.. В столице царит суматоха. Настала другая эпоха. Понять я её не сумел. Известны слова без меня. Я песням своим не хозяин. Что в сердце моём, я не знаю. А ну, лошадей погоняй!.. Пусть вихрем несутся они! Пейзажи летят перед нами!.. Умел поспевать за словами, умел разжигать я огни. Как знать, может быть, этот бег сумеет их где-то настигнуть, и вновь я сумею постигнуть свой век и свой жизненный век?.. …И всё-таки сердце волнуется!.. Забудут меня – ну и пусть! А ежели я не вернусь, то песни, конечно, вернутся!Глядя на портрет Беранже
Негероическая внешность. и годы далеко не вешние: не осени, – зимы грядет пора… Свои он песни всюду слышать рад! Их не забыли! Их ещё поют! Пусть автора не всюду назовут. Да пусть не помнят имени всегда — нет, не угасла; шансонье звезда. Её не поглощает небосклон. Сияй во славу будущих времён!Слово Эжена Потье о Пьере-Жане Беранже
«Как жаль, что я – не Беранже!»[124]
Его стихи всегда в моей душе.
Вот – всенародной Франции певец,
для всех, о ней поющих, образец!
Ведь, прямо скажем, голос не силён.
Пьер в музыке совсем не искушён,
но ведает напевы старины,
которыми стихи его полны.
Он полноват, немного хриповат,
но сколько он сумел смести преград!
Но сколько смог он навести мостов,
творец задорных песенных стихов!
Их новый шансонье не повторит,
нас новыми стихами покорит,
но лучшие куплеты продолжают
того, кто стал для нас неподражаем.
Как Париж прощался с Беранже
Справа, слева – всё войска-то! Знать, покойник был богатый и, конечно, очень знатен. По процессии видать нам. Комендант, что всех начальник, это шествие венчает. Эскадрон – впереди, эскадрон – позади. И по формам, и по лицам — всё полиция, полиция!.. А народ не допускается, тихо слёзы льёт и мается, не пускается народ… А процессия идёт… Королей так не хоронят: их скорей в могилы гонят! Та французская традиция всей планете пригодится! Похоронят молча — побоятся мощи! Это не монархи, у́хи, о́хи, а́хи, это сам народный голос, Франции народной гордость. У него такая мощь, — как в грозу сильнейший дождь! Он пробудит всходы будущей свободы.Н.А. Сотников. Из поколения в поколение (Живые страницы истории династии Дуровых)
ОБЩИЕ ДЕВИЗЫ ДУРОВЫХ
«Поучая, забавлять, поучать!»
«Мыработаем для тех, кто учится, и для тех, кто учит!»
«Клоун смеет быть публицистом!»
А. В. Луначарский
Я шут, друзья, тяжёлых наших дней.
Обязанность моя смешить не королей,
что не внимают свысока
народным воплям, стону…
И своего я колпака
не дам за их корону.
В. Л. Дуров
Мой господин – народ. Ему я и служу.
Арена – вот моя баррикада.
А. Л. Дуров
«Я счастлив, что родился в России, вырос в Москве, что всю свою творческую жизнь верно служил нашему русскому народу».
Ю. В. Дуров
(Из радиовыступления)
«Горжусь, что девиз герба рода Дуровых – ''Служение Отечеству”!»
Н. Ю. Дурова
(Из телепередачи)
Н.Н. Сотников. История дома Дуровых. (О династии Дуровых и об этой уникальной книге)
Хотя, казалось бы, о представителях династии Дуровых так или иначе слышали многие, написано о Дуровых совсем мало, творческая история представителей этой славной династии изложена крайне не равномерно, бегло и поверхностно. И, – к сожалению, чаще всего весьма сухо. А ведь это жизнеописание, – словно цирковое представление: яркое, красочное, многозвучное, в целом, несомненно, увлекательное и весёлое, хотя и не без грустных нот.
Причин несколько: трудность, специфичность материала, нежелание отдельных представителей династии углубляться в некоторые детали, подробности (они предпочитали чаще всего отделываться от журналистов кратким рекламно-информационными интервью), а главное – очень неоднозначные, запутанные личностные отношения внутри династии, прежде всего – раскол на два лагеря: московский, идущий от Владимира Леонидовича Дурова, и воронежский, идущий от Анатолия Леонидовича, младшего брата. Конфликт этот восходит к началу XX века, но остро отзывается в творческой практике до сих пор!
Есть и остаётся и ещё один очень важный аспект проблемы: почти все Дуровы были людьми литературно одарёнными, а Наталья Юрьевна Дурова стала профессиональной писательницей, причём, не только детской, как чаще всего ее титулуют. Естественно, Дуровы рассуждали так: «Зачем я буду давать обильный фактический, во многом уникальный материал какому-то постороннему литератору, тем более журналисту, когда я сам (сама) об этом смогу написать и рассказать!» В этой логике есть своя правда и свой резон. Единственный представитель династии – Юрий Владимирович Дуров – согласился в течение ряда лет встречаться с писателем Николаем Афанасьевичем Сотниковым и в красках и волнующих подробностях живописать не только свою биографию, но и всю по возможности историю Дома Владимира Дурова!
Что же касается собственного авторства, то нельзя не назвать и не отдать написанному щедрую дань таким книгам, как превосходные художественные, публицистические и научные книги самого В. Л. Дурова, мемуарный очерк его дочери Анны Владимировны Дуровой-Садовской «По вечерам на старой Божедомке», книги для детей и взрослых Наталья Юрьевны Дуровой, правнучки Владимира Леонидовича.
Что же касается отца Наталья Юрьевны, внука (и одновременно – приёмного сына) Владимира Леонидовича Дурова Юрия Владимировича Дурова, народного артиста СССР, не только дрессировщика, но и артиста кино и эстрады, то он широкой публике читающей почти не известен. Да, были рекламные буклеты, брошюра и очерки одного из немногих в нашей стране циркового писателя Юрия Благова, но все эти публикации так или иначе связывались с гастролями, новыми программами. Редко кто даже пытался заглянуть в годы тридцатые, а тем более двадцатые, без которых понять и осмыслить творческий путь Юрия Владимировича невозможно. К тому же он является как бы связующим звеном между старшими и младшими поколениями династии. И ещё важный факт – единственный Дуров, кому удалось примирить московскую и воронежскую ветви Дуровых и даже создать общий аттракцион со своим двоюродным братом В. Г. Дуровым (паспортная фамилия до принятия псевдонима – Шевченко).
Судьба Юрия Владимировича Дурова больше, чем у других представителей династии, пестра, загадочна и даже авантюрна. Поделиться многими (но всё же – не всеми!) подробностями можно было только с другом. Таким другом ему стал Николай Афанасьевич. Они вместе ездили на гастроли, вместе работали над репертуаром, вместе проводили часы досуга, а главное – вели долгие-долгие беседы, на которые редко какой деятель литературы и искусства отважился бы с другим автором, который одержим быстротой и утилитарностью.
В результате за многие годы и родилось повествование «Из поколения в поколение». В целом оно публикуется впервые, хотя фрагменты и главы в сокращении публиковались и звучали по радио, и легли в основу сценария одной из первых телепередач СССР на Интервидение в 1963 году.
В повествовании немало весёлых, даже анекдотических страниц. Недаром эти страницы пользовались такой популярностью у ребят разных поколений! Вообще, это повествование, по сути дела, – КНИГА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ, что ныне большая редкость. Главное в ней – история призвания, история становления мастера дрессуры, который унаследовал от деда и от своей тёти любовь к природе, трепетное, даже, можно сказать, сердечное отношение к «братьям нашим меньшим», говоря словами Сергея Есенина.
В повествовании рядом с Юрочкой, Юрой, Юрием Владимировичем живут и действуют его легендарный дед, друзья деда – корифеи науки и искусства, его тётя, бабушка, его воронежские родственники. В последней главе на арену событий выходят дети Юрия Владимировича – дочка Наталья Юрьевна и сын Юрий Юрьевич.
Так, неожиданно для себя, Николай Афанасьевич Сотников, автор брошюры, изданной к 100-летию со дня рождения В.Л. Дурова, стал цирковым писателем. Наряду с Юрием Благовым он был награжден медалью к 50-летию советского цирка и приглашен в качестве консультанта для работы над энциклопедическим словарем «ЦИРК», который выдержал два издания в издательстве «Советская энциклопедия».
…А начиналось всё с неожиданного знакомства в санаторной столовой в Кисловодске: за одним столиком соседями оказались Юрий Владимирович Дуров с женой и дочкой Наташей, ещё школьницей, и тогда ещё НЕцирковой писатель Н. А. Сотников.
Н.Ю. Дурова. Сопроводительное письмо Н. Н. Сотникову в связи с завершением просмотра рукописи Н. А. Сотникова «Из поколения в поколение»[125]
Уважаемый Николай Николаевич!
Высылаем рукопись Вашего отца. Надеемся, что благодаря генам и Вашему дарованию она приобретет новое звучание и будет опубликована.
С уважением,
Главный режиссер-директор театра,
Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Н. Ю. Дурова
Зав. лит. частью
С. В. Орлеанская
18 октября 1991 года
Н.А. Сотников. Не очень краткое предисловие о том, как родилась эта книга
Сейчас на склоне лет оглядывая свою жизнь, я вижу у самых её истоков три радости, три сказки, три чуда, которые сопровождали меня всю жизнь. Первое чудо – это краса природы, неповторимой, тогда ещё почти нетронутой, классической украинской – одним словом – полтавской. Второе чудо – это книги, которых у моего отца, деповского токаря, было немного и были они скромные, не в золотых тиснениях, но главное, что они были со мной, с нами, что их читали, что они жили в нашей семье. И третье чудо – это цирк. На драматических спектаклях я побывал впервые уже учащимся реального училища, старшеклассником, оперный спектакль впервые увидел в Киеве студентом Института народного хозяйства, недавно демобилизовавшимся из Красной Армии, а вот цирк будто бы знал всегда. Мне потом отец с матерью говорили, когда я стал уже взрослым, что они меня в цирк с малолетства брали. Таков мой зрительский опыт, но был ещё и опыт профессиональный, о котором я особенно подробно рассказать хочу.
Отец мечтал, чтобы я стал железнодорожным инженером, но для этого необходимо было получить среднее образование. Значит – реальное училище. В Полтаве оно славилось и своими педагогами, и своими традициями. Готовился для поступления в училище я самостоятельно, благо читать и писать уже умел. Проверял меня и консультировал один знакомый студент, любивший возиться с малышами. Испытания я выдержал, сумму за оплату, с трудом накопленную отцом, можно было внести несколько позже, и я посчитал себя полноправным учащимся. На мои скромные сбережения форму я купить не смог, а на фуражку денег хватило. Вот с этой фуражкой и прибыл я прямо в Диканьку, где тогда гостили мои родители. В Диканьке информация распространялась мгновенно, и слух о том, что сын «паровозного токаря» (так в селе отца звали) Микола Сотников стал реалистом, обежал всё село. И я лихо прошёлся по улицам в этой горделивой фуражке.
Лето я решил провести в трудах, искал себе работу и нашёл её неожиданно. В Полтаву приехал цирк! Он приезжал и раньше, но тогда меня водили на представления как маленького, а теперь я реалист и несмотря на свои восемь лет смотрюсь довольно солидно – все десять дать можно!
Среди гвоздевых номеров полтавской программы сезона 1908 года был фокусник, отгадывающий, вернее, помнящий наизусть любую страницу и строку из романа Льва Толстого «Война и мир»\ О н выходил на арену по красной ковровой дорожке в длинных шароварах, в живописной кофте с высоким жабо по подбородок и, озорно осмотрев зал, предлагал: «Вот роман “Война и мир”. Я знаю его наизусть! Называйте номера страниц и порядковое число строки сверху и снизу, а я буду вам читать текст графа Льва Николаевича Толстого!». Мальчишки-ассистенты разносили по рядам несколько огромных томов романа, и начиналось представление, о котором потом долго шумели Полтава и ее окрестности. Фокусник ни разу не ошибся, даже интонировал знаки препинания и при необходимости их называл, а однажды обратил внимание на опечатку! Цирк грохотал от аплодисментов. Остальные номера в этот сезон поникли и поблекли перед чудом превосходной прозы великого писателя. Зал, в котором книгочеев было не много, впервые для себя постигал красоты толстовского слога. И это тоже было открытием.
Мальчишки с важным видом собрали экземпляры романа и удалились за кулисы. И тут я понял – вот кем мне надо это лето поработать! После представления я подошел к фокуснику. Он был ещё в наряде и не разгримировался. Только ходил как-то странно, припадая чуть на левую ногу и постоянно шевелил пальцами высоких мягких остроносых на персидский манер туфлей.
– Читать умеешь? Книги любишь?.. А, уже реалист! Хорошо. Знакомых среди цирковых нет? Тоже хорошо. Ну вот что. Мне нужен главный ассистент. Эти мальчишки, что разносят книги по рядам, важничают напрасно: они главного секрета не знают. А вот тебе я вынужден буду его раскрыть, но если ты меня выдашь, то ты лишишь меня работы и вообще всяких средств существования… – Тут даже сквозь грим я увидел, как помрачнело лицо фокусника. – Понял?
Я безоговорочно принял все условия маэстро. Фокус его, благородный и эффектный, был довольно прост, но оригинален и тщательно продуман. Шнур полевого телефона тянулся под длинным ковриком, по которому маэстро выходил на середину арены, в конце коврика была клемма. Контакт достигался тем, что на правой туфле имелась медная плашка, чуть выступавшая из-под подошвы. А далее всё очень просто: шаровары, кофта, жабо – вот пути следования провода, наушники располагались так, что слышимость была вполне сносной даже при фоновом шуме в зале цирка. Но… при условии отменной дикции главного ассистента, который сидел с тремя томами романа за кулисами и жадно слушал то, что повторит громовым голосом маэстро: «Итак, том первый, страница десятая, третья строка сверху!..» Возникала короткая пауза, которая была мне сигналом – командой, и я принимался лихорадочно искать нужное место, переводил дыхание и четким, по возможности красочным голосом начинал: «В Лысых Горах, имени князя Николая Александровича Болконского>, ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней; но ожидание не нарушало стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя…».
«А как же быть с французским текстом?» – спро́сите вы. Предусмотрено было и это возможное затруднение: ведь французские слова и целые фразы, абзацы щедро рассыпаны по тексту романа. Маэстро оговаривал это условие: я-де выучил только русский текст. А если французский текст в заявленной странице всё же попадался, то он делал паузу и говорил: «А далее – по-французски. Верно, я говорю, почтеннейшая публика?» Публика глядела в контрольные розданные по рядам книги и визжала от восторга!
Гонорар мой был солидным – и не только для восьми лет, но и для взрослого мужчины! Настолько солидным, что его с лихвой хватило и на форму, и на книги, и даже на первый взнос за обучение в реальном училище. Отец с матерью работу мою одобрили. Особенно их порадовало, что работа моя связана с книгой, да ещё такого великого писателя, как Лев Толстой, который у нас в доме после Пушкина и Гоголя благоговейно почитался. И потом, если меня спрашивали, кто тебе мол, помог получить образование в реальном училище, я неизменно с шуткой отвечал: «Лев Толстой». И рассказывал эту историю.
Кому и когда только я её не рассказывал! И бойцам бригады Котовского, однополчанам своим, и раненым в санитарном поезде, и товарищам по учёбе, и на журналистских и театральных вечеринках в Москве и Ленинграде, и солдатам 42-й армии под Пулковскими высотами в начале войны, и снова раненым – только уже в госпитале на Петроградской стороне в блокадном Ленинграде, и уже весной сорок пятого года в канун штурма Берлина…
А однажды, уже после войны, поведал я эту историю Юрию Владимировичу Дурову, с которым сперва познакомился, а потом и подружился в Ленинграде. Мы, помнится, вместе встречали в гостинице Новый, 1946-й год. За столом были (за исключением меня) только цирковые артисты. Тамадой главенствовал Юрий Владимирович. Он властью своей приказал «Каждый рассказывает цирковую байку, нет, две: первую – о том, как он впервые попал на цирковое представление, а вторую – о том, как пришел работать на арену!» И началось великолепное представление! Ведь далеко не все цирковые артисты – «разговорники». Многие из них на арене молчуны: воздушные гимнасты, например! Разве что слова команд вылетают из их уст: «Але, оп!» Но все без исключения оказались яркими рассказчиками. Блеснул в тот вечер несколькими забавными и поучительными историями и Юрий Владимирович. Ну, а меня как писателя от обязанностей освободили, однако, я попросил не делать для меня исключения: «Я тоже на арене работал!» На вопросы: «Когда? Где?» ответил с намеренными паузами: «В 1908 году… В Полтаве… Ассистентом у фокусника!..» Народ был заинтригован, и все обратились в слух.
Я им рассказал то, что только что узнали и вы, и был вознаграждён аплодисментами, а Дуров, посоветовавшись с ветеранами арены, присудил мне первый приз на нашем застольном представлении.
Я уже, обрадованный и несколько смущённый, приумолк, как вдруг на меня со всех сторон посыпались вопросы: «А часто ли приезжал цирк в дореволюционную Полтаву? А какой она была в начале века? А видел ли я князя Кочубея?..»
– Не только Кочубея, – говорю, – видел, но и самого царя, Николая-последнего со всеми чадами и домочадцами!
Отговориться двумя-тремя словами мне не дали и потребовали от меня нового устного рассказа. Такой рассказ у меня получился сам собой. Впоследствии, записав его, я дал ему такое название: «Виктории Полтавской юбилей»[126].
…Закончиля второй свой рассказ, смотрю по сторонам. Он ведь в другом жанре – не байка, не устная юмореска новогодняя, а притча получилась довольно серьёзная, с большими обобщениями, хотя на цирке и заквашенная. А ведь и правда: если бы не цирк, не научился бы я так лихо на велосипеде кататься. Знакомых хлопцев с велосипедами у меня не было да и быть не могло. Тогда это явно роскошь – не то, что сейчас. Может, и не увидал бы я всего того, что увидел. Просто-напросто проводили бы меня тихонько чёрными ходами к деду Григорию, полакомился бы и всё тут.
… Долгая тишина над столом у нас установилась, не новогодняя какая-то. Я и говорю: «Ну вот – неуместен мой второй рассказ оказался. Законы классической драматургии: единство места, времени и действия. Место то же, время то же – в 1947-й год мы вступили, а закон единства действия я нарушил».
– Нет! – в один голос гости наши протестуют. – Мы юмором, как сладким, объелись. Нужен чёрствый хлеб исторической правды. Вы нам этот хлеб и поднесли.
Меня эти слова растрогали и успокоили немного. Поглядели мы на часы – время! Хоть и не детское, а с завтрашнего, то есть с сегодняшнего уже дня – утренники новогодние. В две-три смены придётся работать! Надо спать, сил набираться. Расходились нехотя – хорошо мы второй послевоенный Новый год встретили!…
На следующий день у Юрия Владимировича работы было невероятно много, но в антракте нашёл он время вернуться к нашему вчерашнему, то есть сегодняшнему разговору:
– Николай Афанасьевич! Вы и среди ветеранов ветераном оказались. У меня память хранит множество интереснейших фактов, событий, поучительных историй, но писать я не могу! Вы видите, какой у меня день, какое цирковое хозяйство, какой ритм!.. А что если мы работать будем так – я в редкие промежутки между представлениями и репетициями стану вам рассказы рассказывать, а вы будете что-то записывать, что-то просто запоминать, наберёте для меня вопросы, – отвечу на них. Заодно и современный цирк, уже, как видите, послевоенный, лучше узнаете со всех сторон. А потом, глядишь, и получится то, что вы нужным найдёте: очерк, записки, повесть, дневники… Я и сам ещё не знаю, в каком жанре нам лучше повествование вести. Только учтите, что времени у меня всегда будет мало: только начну разговаривать, а тут то новость какая-нибудь, то перемена в программе, то кто-нибудь из зверей моих заболеет… Всего не предвидеть! Поэтому, чтобы вам меня разговорить, нам надо будет растянуть наше интервью на многие месяцы, боюсь – даже на годы! И не в одном городе всё это будет, а в разных – по ходу моих гастрольных поездок. Что я берусь обещать, так это помощь с билетами и с гостиницами. Ну а в цирк, конечно же, вы будете иметь право свободного входа и на репетиции, и на представления! Я понимаю, что у вас и других забот хватает. И хлопотно всё это, и накладно, но вам как писателю путешествовать тоже интересно будет. И не просто так – ас цирком! Это же тоже сюжет, если хотите! Можно даже роман написать или сценарий фильма. Фильм очень интересный может получиться. Так что решайтесь!..
И я решился.
… И закрутилась, словно в калейдоскопе, города и цирки. Где мы только ни побывали вместе! Я разделял и радости, и заботы, и тревоги цирковых артистов, научился многим их секретам, узнал сокровенные тайны приёмов и методов работы. Некоторые из них были простейшими, но лишь в основе своей. В конце концов всё гениальное просто.
Вот два примера. Огромный удав, сила которого, как утверждают зоологи, громадна и несоизмерима с силой одного, даже очень сильного дрессировщика, в его руках податлив и послушен. Он из него, что называется, верёвки вьёт! Оказывается, на манеже температура в три раза меньше той, при которой удав жизнедеятелен. Он почти спит у нас на глазах, а нам кажется, что мы свидетели смертельного боя! Правда, удав довольно много весит, и поднимая удава над собой, артист в любом случае демонстрирует свою силу и ловкость.
Другой пример. Фокусник распиливает у нас на глазах несчастную очаровательную девушку, самую что ни на есть настоящую. Но и пила тоже настоящая! О ужас! Распилил! Руки и голова – в одной половине ящика, а ноги – в другой. Опилки настоящие. Вот горсть их берёт в руку фокусник и рассеивает по ветру на манеже. Что же случилось? Как всё произошло? А всё, оказывается, тоже очень просто по сути своей. Девушки две. И обе прекрасно натренированы, настолько, что умеют каждая умещаться в любой из половинок одного большого ящика. А ведь и наш номер с чтением наизусть романа тоже в истоках своих прост. Главное – разработка, доведённая до совершенства, до артистизма. Всё это в конечном счёте розыгрыш зрителя, но не для того, чтобы посмеяться над ним, поставить его в нелепое, дурацкое положение, а розыгрыш ему на радость, а порою – и на пользу: ведь девиз Дуровых «Развлекая, поучать, поучая, развлекать» относится не только к ребятам, но и к взрослым.
Однако, постоянно вращаясь в цирковой среде, я и сам попадал в дружеские розыгрыши. Один из таких розыгрышей был вовсе не обидным, даже почётным, но очень уж неожиданным! И в этом был его эффект.
Разумеется, сопровождая Юрия Владимировича в гастрольных поездках, я не мог быть поглощён этой работой целиком и полностью на месяцы и годы. У меня были другие творческие дела, планы, наконец, договорные обязательства перед редакциями и киностудиями. Порою приходилось прерывать какую-то дуровскую гастрольную поездку и мчаться в Москву по делам, а потом догонять цирк уже в другом городе по ходу его следования. Так, однажды догоняля цирк на теплоходе по Волге. Приехал на поезде в Ярославль, а цирк уже в Саратове. Что делать? Прямого поезда нет, самолётного рейса тоже… Оставался один путь – речной. Дал телеграмму, вовсе не надеясь на некую пышную встречу: «ОПОЗДАЛ ТЧК БУДУ ТЕПЛОХОДОМ». Вообще-то я попросил телеграфистку написать «СЛЕДУЮ», так что «БУДУ» – это её редакторская правка. Получилось довольно забавно.
…Теплоход гудит, медленно идёт к причалу. Пристань заполнена праздничной толпой. Над головами транспаранты, лозунги, слышится музыка… Но самое поразительное – это целая гора цветов! Выше человеческого роста! Бросили сходни. Я оказался первым в очереди. Иду себе со своей вечной спутницей пишущей машинкой «Континенталь», подаренной мне за освещение Берлинской операции в газете «Красноармейская правда» Первого Белорусского фронта, а в другой руке несу скромный чемоданчик, плащ через руку перекинут… Обычный скромный пассажир преклонного возраста. И вдруг вся праздничная толпа устремляется к этому самому пассажиру и приветствует его и оказывается, что всё море живых цветов от вчерашних цирковых представлений – ему и никому более! А на одном из транспарантов такой озорной текст: «ТЫ БЫЛ ЗА НАМИ ВЕЗДЕХОДОМ, ПОБУДЬ НЕМНОГО ТЕПЛОХОДОМ!»
Смолкли гудки. На набережной и на палубах теплохода остановилось движение. Все замерли в немой сцене и, вероятно, задались вопросом: «Кто же он, этот седовласый пассажир, которого так встречают на пристани?»
Недаром я в ответ однажды написал такие слова Юрию Владимировичу:
Юрий Дуров — мастер каламбуров, розыгрышей режиссёр, на арене может всё!Только не надо думать, будто мы только пировали, веселились и разыгрывали друг друга. Я видел не раз Юрия Владимировича и смертельно усталым, и удручённым, и горестным и именно поэтому он так ценил минуты беззаботного смеха и безоглядного веселья!
Очень не простыми психологически были для него минуты (очень редко ЧАСЫ, чаще всего именно МИНУТЫ!) воспоминаний о детстве, о юности, о молодости, о довоенных и военных годах. И мне материал давался нелегко! По таким крупицам мне материал собрать ещё не приходилось никогда! Обычно шла лавина материала, а вот какие-то детали, частности действительно приходилось добывать, словно золотой песок. Но основа была известна почти сразу.
И всё же случались не только минуты – часы отдыха, а однажды мы вместе на прогулке провели целый день! Кажется, – единственный полный день за всю нашу многолетнюю дружбу, когда мы не работали, не беседовали друг с другом, а внимательно слушали третьего человека – нашего общего собеседника. Им оказался знаменитый дальневосточный зверолов, но, прежде всего, именно тигролов Богачёв.
Приехал я на Дальний Восток в 1956 году для работы над сценариями киноочерков «Приамурье» и «По Нижнему Амуру». Одновременно продолжал записывать устные рассказы Юрия Владимировича Дурова. Это, пожалуй, был единственный сезон, когда мне удалось органично совместить две работы – мемуарную и сценарную. И помогли нам в этом Дальний Восток, Хабаровски Амур.
В хабаровском городском саду среди цветников и фонтанов сверкал цветными огнями цирк-шапито. На фасаде пестрели рекламные щиты с дуровскими зверюшками. По утрам мы с Юрием Владимировичем встречались там, гуляли, беседовали, я докучал ему вечными вопросами, а он уже привык и к ним, и к моему неизменному блокноту, с которым я никогда не расставался.
Больше всего тянул нас к себе Амур-батюшка. Всё шире и шире разливался он в начале июля, переполняясь запоздалыми в том году талыми и ливневыми водами. А вода всё прибывала с верховьев. На отдалившемся левом берегу кустарник уже казался травой, а деревья – кустами…
Как-то Юрий Владимирович, размышляя вслух об особенностях дрессировки разных животных, вдруг остановился и спрашивает меня:
– А вы, Николай Афанасьевич, когда-нибудь у настоящих тигроловов бывали?
– Нет, – отвечаю.
– И я не бывал, но очень хочется, хотя тигры, как вы знаете, не мой профиль. Мне тут в цирке один служитель, из дальневосточников, коренников, говорит, что от Хабаровска неподалёку живут тигроловы Богачёвы.
– А как вы на этот разговор вышли? – спрашиваю.
– Да очень просто! Начали с паводка, с разлива Амура, а разговор о тигроловах сам собою зашёл: мой новый знакомый, приятель этих Богачёвых, и говорит: «Испортит этот паводок все дела и планы Богачёвым!»
– Завтра у вас представлений нет. Давайте рискнём – съездим к тигроловам! Может, больше не придётся!..
Юрий Владимирович поколебался немного (на подъём он всё-таки тяжеловат был!), но согласился.
И вот обыкновенная «Победа», хабаровское такси, катит нас по шоссе. На самом берегу полноводной Уссури, сливающейся тут с Амуром, мы довольно быстро отыскали домик старого тигролова Ивана Павловича Богачёва.
Всё было необыкновенно в этом полукрестьянском-полуохотничьем доме и во дворе. У собачьей будки «на часах» с поленом в лапах стоял годовалый медвежонок. У сарая кормились маленькие кабанята. Возле колоды-корыта дремали мохнатые лайки… А рядом – самая простая крестьянская живность: куры, петух, кот – хранитель уюта…
Хозяин дома и глава династии, высокий плечистый бородач, пожаловался нам:
– Заливают нас Амур вместе с Уссури. Давно таких вод не было!
Мы втроём присели на лавочке под деревьями. Иван Павлович Дурова узнал сразу – хабаровские газеты читал регулярно, а там немало фотоснимков в связи с цирковыми гастролями.
– За тиграми пожаловали, Юрий Владимирович? – пошутил Богачёв. – Помнится, когда ваш дедушка приезжал в Хабаровск представления давать, он тиграми не занимался. А вот заяц у него был потешный! Цельным снарядом из пушечки палил!
– И внуки с тиграми не работают, – отвечал гость-дрессировщик. – Интересуюсь вашим медвежонком. Хотелось бы чёрного уссурийского зайца отловить. Поможете?..
– Попробуем. Да ведь в тайгу-то пойдём далеко только зимой, по первому снегу когда звериные следы хорошо видны…
Меня старый Богачёв встретил довольно скептически:
– Насчёт кино? – переспросил он и усмехнулся. – Один кинооператор ходил с ним на охоту да малость растерялся. Принялся снимать тигра, которого мы взяли, а аппарат позабыл раскрыть с испугу. Колпачок какой-то не убрал, что ли…
– Так ничего и не снял? – в один голос спросили мы.
– Сня-я-л! – протяжно ответил старик. – Только немного погодя. Пойманного тигра мы выпустили обратно и опять поймали – уже перед открытым этим (какего?…) объективом!
Нас удивила смелость охотников, их находчивость, но более всего – уважение к чужому труду, к труду кинематографистов. А с людьми из кино Богачёвы встретились тогда впервые. К тому же ведь не волка они ловили, а уссурийского тигра, который по праву может считаться самым страшным из хищников. Даже лев, царь зверей, уступает ему в росте, силе и уме. А семья Богачёвых взяла живьём сорокуссурийцев!
– Как же вы их берёте? – удивлялись мы.
– Да голыми руками и берём, – невозмутимо пояснял Богачёв. – У нас свой метод. Мы ловим без ям, без капканов, чтобы не повредить зверя, не сделать ему больно. К тому же у нас в Зооцентре строгий ГОСТ – снижают расценки даже за вырванный клок шерсти.
Потом Богачёв, увлёкшись, стал рассказывать о том, как ценятся красавцы тшрыуссурийские (или, как их ещё называют, амурские) на международном рынке зверей. За такого тигра можно выменять даже слона!
– Эх, жаль! Мало тигров в тайге осталось! Были такие горе-звероловы – нервы не выдержат и убьют зверя сгоряча! За шкуру копейки получат, а неприятностей – вагон и маленькая тележка! Живого-то зверя куда интереснее брать! Тут и ум, и сноровка нужны! На короткой дистанции страшнее зверя нет, а вот на длинной он быстро выдыхается. Лёгкие у него слабые, что ли…
Постепенно из рассказов старика Богачёва стала вырисовываться картина поимки тигра-уссурийца по богачёвскому методу.
…Тигровая падь покрывается первым снежком. В зарослях перевитых лианами лимонника, притаилась тигрица-мать. Её глаза устремлены на молодого изюбря, мирно поглощающего побеги кустарника. Вдруг тигрица срывается с места и, мягко подобрав лапы, ползком пробирается к ничего не подозревающему изюбрю. Почуяв опасность, он поднимается на дыбы и, круто развернувшись, на одних задних ногах, делает большой прыжок в сторону. Тигрица рвётся вдогонку. Изюбрь выбивается из сил, и хищница стремительным прыжком настигает свою добычу. Ударив изюбря мощной лапой, по затылку, где находится чувствительная сонная артерия, она вмиг валит его наземь. Слегка подкрепившись мясцом, тигрица бросает добычу и громко рычит, приглашая своих проголодавшихся детей к обеду. А сама движется дальше по тайге, продолжая свой разбойничий промысел.
– Тигрица – лютый зверь! Беспощадный! А мать – заботливая: до трёхлетнего возраста водит за собою подростков, пока те не научатся охотиться на крупную дичь. Мелкой живности они не едят, не любят, что ли…
И вот два молодых тигра медленно подходят к растерзанной туше изюбря. Усталые и голодные, они буквально набрасываются на еду, рыча и фыркая. Но тут к обедающим тиграм приближается ещё один участник облавы. Деловито урча, по следам тигриного выводка идёт… медведь.
– Эта компания часто по тайге так ходит, – продолжает свой рассказ Богачёв. – Взрослая тигрица впереди, молодёжь – за мамой следом, а уссурийский медведь, шатун и бродяга (не спится ему!), как привязанный, – следом за ними тащится. Самому мишке охотиться лень. Он довольствуется теми кусками, что упадут с богатого стола повелительницы тайги. Медведь знает, что тигрята-подростки ему не опасны (они ещё не умеют убивать), а сильная и смелая мать ушла далеко вперёд. Мишка нахально отнимает у тигрят пищу и зарывает её в землю. Он, видите ли, любит мясо с душком! И – про запас.
Такое шествие по тайге нам, охотникам, поиск очень даже облегчает. Тигрицу мы ловить не станем – она ещё может новых тигрят принести. Тигра-самца поймать ещё труднее, да к тому же для дрессировки он никак не годится: злой, неукротимый. И вот ещё что (обратите внимание!): оставляя молодых тигров без еды, медведь изнуряет их, что тоже на руку нам, охотникам. Тигры не очень-то выносливые звери. Между медведем и тигрятами загорается драка. Рёв слышен по всей округе. И на снегу следы потасовок видны. И тогда в это звериное шествие включаются собаки. За ними, таясь, бегут охотники. Хищникам, конечно же, очень жаль расставаться с едой, да приходится удирать от лаек. Но вот лай становится всё неистовее и яростней! Лайки настойчиво преследуют тигров, пока те не устанут окончательно. Медведь нам не нужен – чего с ним делать! Худой он в ту пору, облезлый. Ступай, косолапый, на все четыре стороны! Ты сделал своё дело. Наконец один из тигров-подростков выбегает на полянку и останавливается, порывисто дыша. Собаки настигают его около валуна или большого дерева. Зверь ещё грозен, хотя и изнурён преследованием. Вздыбившись, он лапами отбивается от наседающих на него лаек. Впрочем, учтите – собаки вплотную к тигру не приближаются: их дело лаять, пугать, раздражать. А вот человек близко подходит к разъярённому зверю. Я, к примеру, иду к нему с одной палкой. Ружьё помощникам оставляю – как бы сгоряча не выстрелить! Как ни тяжело зверю в этот момент, он на миг замирает!.. Тигр даже в такой обстановке не теряет своего одного свойства. А какое это свойство? Любопытство! Зверь удивлён.
Обычно всё живое в страхе бежит от него, а тут какое-то неведомое существо на двух ногах движется на него да ещё в непривычном для звериного глаза вертикальном положении! Тут я, пользуясь коротким замешательством зверя, точным движением сую эту свою палку в тигриную пасть. Тигр яростно грызёт её, как будто бы всё зло в ней, в этой палке! И тут он судорожно сжимает челюсти.
– Пасть в порядке! – кричу я своим ребятам, потом обегаю зверя и набрасываю ему для верности дела на морду крепкую повязку-ошейник из сыромятных ремней. Теперь вроде всё в порядке, но остаются ещё лапы с такими, я вам скажу, когтищами, что на кривые кинжалы похожи. Один удар такой лапы лошадь сваливает с ног, не то что человека!
А тут дальше у нас определённый порядок есть. Каждый своё дело делает. Один набрасывает крепкую петлю из конского волоса на левую переднюю лапу, второй – на правую, третий опутывает ремнями задние лапы. Я в это время поглядываю по сторонам – не вернётся ли ненароком мать-тигрица!.. Очень редко, но и такое в нашей практике случается!..
Так четверо почти безоружных людей, можно сказать, голыми руками ловят трёхлетнего тигра. Управившись с первым зверем, они устремляются за вторым – далеко он, как правило, уйти не успевает. К тому же он блокирован лайками. Итак, оба тигра связаны. Охотники сквозь путы продевают жерди и на руках уносят свою добычу во временный охотничий домик. Гордые звери потрясены всем, что произошло за какие-то считанные минуты. Долго-долго они будут ещё приходить в себя. И тут нужны и внимание, и ласка, и забота. Да-да, даже ласка!
Старик Богачёв нам так говорил:
– Понятно! Звери, если к ним хорошо относиться, легче и быстрее забывают о насилии, о поимке, их легче укротить, а потом и дрессировать. Ну это уже не по моей, а по вашей части! – Богачёв улыбнулся, склонил голову в поклоне и обратил две ладони к Дурову.
– Не по адресу, не по адресу! Вы же знаете – я с тиграми не работаю. А вот Николай Афанасьевич своими глазами видел, как за два месяца в Рижском цирке Александр Николаевич Александров-Федотов превратил двух молодых уссурийцев в настоящих цирков артистов.
Дальше разговор у нас зашёл об Александрове-Федотове, об Ирине Бугримовой, Маргарите Назаровой, о других дрессировщиках, о цирке вообще, о жизни цирковой… На прощание старик Богачёв угостил нас на славу домашними кушаньями – он и кулинар оказался отменный! А мы его сердечно пригласили – я на кинопросмотр на Дальневосточную студию кинохроники, а Юрий Владимирович – на свою программу в цирк. Старику всё это было очень интересно. Он оживился, помолчал немного, но всё же сразу отказался – дела, хозяйство!..
По пути в город и потом много раз во время наших продолжающихся встреч в разных городах мы с Юрием Владимировичем сердечно вспоминали старика
Богачёва, его рассказы, его удивительную манеру слушать и говорить. Он умел расположить к себе людей, более того, завораживал их. И нам подумалось – почти одновременно! – ане гипнозом ли брал Богачёв?.. Может, былу него какой-то особый неразгаданный и невысказанный им секрет?..
Впоследствии, как я узнал от своих дальневосточных приятелей, преемником Богачёва стал его племянник. Порфирий Прокофьевич, который многому научился у своего дяди, славно продолжил его дело. А теперь кто?.. Даже не знаю. Много лет прошло с тех пор, много воды в Амуре и Уссури утекло. Знаю, что были известные в Приморьи братья Трифоновы, по профессии комбайнеры, но по призванию – тигроловы. А больше ни о ком не знаю. Редкая это профессия!.. Нет! Редчайшая!
* * *
Рассуждали мы с Юрием Владимировичем и о проблеме профессионализма. Его этот вопрос всегда волновал чрезвычайно! И это понятно. В цирковом училище до сих пор нет факультета или отделения или даже учебной группы, где бы готовили дрессировщиков. Остаётся только один путь – через практику, через ассистентуру. Однако опыт показывает, что даже самый прилежный и старательный ассистент, который трудов не боится, цирку предан, зверей любит, не страшится их, которого не пугают трудности и опасности профессии (а всё это уже немало!) дрессировщиком может и не стать. Оному не хватает артистизма, выдумки, художественной жилки, фантазии, другой вроде и склонен фантазировать и придумывать, но занимается прожектерством, не имеет строгого обоснования, организационного обеспечения номера и тем более программы! Третий вроде бы этим требованиям отвечает, зато публики боится больше, чем зверей! Такой артистом не станет никогда! Четвёртому просто элементарных знаний не хватает. Ну ладно бы учиться хотел, так нет – за книгу не усадишь! Ведь в ассистенты, как правило, отличники по учёбе не идут… А ассистенту всё приходится делать. Чистой и лёгкой эту работу никак назвать нельзя. Я как-то думал раньше, что в ассистенты идут чаще всего ребята сельские, из семей зоотехников, ветеринаров, лесников, охотоведов… И оказался неправ. Не те слагаемые характера дают эти профессии. И риск совсем другой, и простор в селе и в лесу, и воздух чистый. А тут? Теснота вагонов (отнюдь не мягких и не купированных!) во время гастролей, едкий запах за кулисами (это ведь не закулисный мир драматического театра, где в худшем случае пахнет краской и клеем), вечная неустроенность, ненормированные рабочий день, рабочий вечер и рабочая ночь, вечная привязанность к зверям, к цирку, к актёрскому общежитию (редко-редко – гостинице!). Вроде бы и много ездят сами, а много ли видят? Что север, что юг, что белые ночи, что ночи черноморские – всё равно труд один, и ритм заведённый, привычный. Да и насчет перспектив все очень неопределенно: в двадцать лет ассистент, в тридцать лет ассистент, в сорок лет ассистент… А будет ли свой номер? Доверят ли зверей? К тому же ассистент больше зависит от своего дрессировщика, нежели, скажем, ассистент кинорежиссёра от своего шефа – режиссёра-постановщика. Нередко бывает так, что ассистент дрессировщика остаётся у разбитого корыта. Ну, предложат ему в цирке другую должность, тоже такого же рода. Ещё реже бывает, что в другой цирковой профессии ассистент дрессировщика себя проявит.
В своё время Владимир Леонидович Дуров мечтал о школе дрессировщиков, составил даже программы занятий. Но всё равно, в любом случае вопрос в кадры упирается. Кому учить? Далеко не у каждого дрессировщика есть педагогическая жилка, желание и готовность учить другого… Написал я слово «другого» и задумался. «Другого» значит «чужого». А своего, родного? Тоже далеко не всегда получается, однако, это путь самый реальный и по сути своей почти единственный.
Вообще, я вам скажу, цирковые дети меня всегда потрясали!
Пожалуй, ни в одной профессии, ни в одной среде я не видел столь раннего повзросления, такой самоотверженности, преданности делу, гордости за него, как в цирке! А ведь ребятам, детям цирковых артистов, ох как не просто живётся! Один только пример – дочка Юрия Владимировича Дурова Наталья Дурова, дрессировщица и писательница, училась в детстве в СТА школах! По ходу следования цирка, по карте гастрольных поездок. Месяц, два, редко уже три… И опять всё сначала: новая школа, новый класс, новые товарищи, новые учителя. Только-только успела познакомиться, пора прощаться. И ведь что интересно, цирковые ребята, как правило, хорошо учатся, легко входят в школьный коллектив, легко осваивают новый материал, не боятся выйти на аудиторию, быть вызванным к школьной доске. Да что там школьная доска да класс на тридцать пять – сорок учеников, когда каждый день они выходят к тысячам зрителей, всегда готовые работать, дарить радость, выходят в любом настроении и, что греха таить, не всегда при хорошем самочувствии. Живительно они закалённые, решительные, самоотверженные!
У нас в литературе не так. Чаще всего условия тепличные, после школы – Литинститут. Балует слишком и родительская подстраховка, и родительская рука, которая правит «детские» рукописи и ведёт из редакции в редакцию, от публикации к публикации… Я вовсе не хочу сказать, что цирковые артисты своим детям не помогают. Помогают, разумеется, – и примером, и советами, и конкретными уроками и именем своим, и авторитетом. Чаще всего они берут своих детей в свой же аттракцион, в свой номер, в свою программу, дают им, как говорится, режиссёрский ввод, привлекают к репетициям, весьма часто и с большой пользой для себя: участие маленьких членов известной цирковой фамилии вызывает у зрителя интерес, любопытство, умиление, а порою и смех, если малыш, похожий на папу или маму или на них обоих, скажем, венчает акробатическую пирамиду или выводит на арену без поводка дрессированную зверюшку. Однако все они работают вместе, на одну программу на один номер, в редких случаях номер выделяется, вычленяется, но всё равно находится под родительской опёкой. Свой голос у юного дебютанта ещё не слышен. А вот в литературе именно с самостоятельного голоса начинается талант. И чем скорее происходит размежевание между литератором-отцом и литератор ом-сыном, тем лучше, лишь бы оно не носило характера непримиримости, противостояния. Пусть будут споры, разногласия, коренные отличия в манере, в подборе тем, в способе их выражения. Это всё допустимо и к разладу не приведёт. Я знал писательские семьи за свою жизнь в литературе уже почти полувековую, знал их немало и в разных краях страны. Сказать, что это явление массовое или даже просто распространённое, я не могу. Примеров у меня не много – в пределах двух десятков, не более.
В других видах искусств число примеров несравнимо больше. В чём же тут дело? Думаю, что там легче происходит процесс передачи приёмов ремесла, больше зримости, конкретности. А какая конкретность в литературе? Сидит за пишущей машинкой отец и над чем-то мучительно размышляет, делает какие-то пометки на бумаге, потом рвёт её в досаде, делает новые наброски на листках блокнотов – и не только за письменным столом, но и на ходу, в транспорте, где угодно. Его орудия – слова, но в то же время на словах объяснить, что он делает со словами, очень трудно, а порою (не боюсь этого утверждения!) и невозможно. Правда, бывают случаи, когда родители-писатели берут ребёнка в свой литературный «аттракцион», делают его своим соавтором. Бывает соавторство явное, титульное, а бывает и скрытое от читательских глаз, но от настоящего профессионала такие тайны не укрываются.
Проблема преемственности, династийности меня давно интересовала и даже волновала и как писателя, и как педагога, и как отца. Аично я был против того, чтобы мой сын Николай становился писателем. Я хотел его склонить к какой-нибудь увлекательной научной специальности, перспективной, творческой. Поговаривал об океанографии, об электронике – ни в какую! Пошёл в журналистику, стал изучать издательское дело, одновременно выступал как критик и поэт. Бывали случаи, когда наши с ним статьи и рецензии оказывались одновременно в одних и тех же отделах критики «толстых» журналов, бывали случаи, когда мне приходили его гонорары, был случай, когда один поэт-графоман и большой любитель горячительных напитков набросился на меня с бранью в ресторане Центрального Дома литераторов, полагая, что я – автор разгромной рецензии на него в «Литературной газете» в то время как эту дерзкую и в чём-то даже издевательскую рецензию написал мой сын. Спутать нас было нетрудно: редко в каком журнале или тем более газете ставили перед фамилией второй инициал – отчество, а имена у нас одни, мы тёзки, оба подписываемся одинаково: «НИКОЛАЙ СОТНИКОВ».
Такую историю в цирковом искусстве я себе не представляю, хотя и там на афишах некоторая путаница бывает, но в цирке не боятся дополнительных уточнений: «Юрий Дуров – старший и Юрий Дуров – младший», например. А в литературе за исключением пример с Дюма-отцом и Дюма-сыном другие примеры что-то не припомню.
Что же касается литературы, литературных склонностей, способностей и даже таланта, то в династии Дуровых они присутствовали неизменно, правда, у всех в разной мере и степени, однако, пример и образец для подражания был известен каждому и каждой: Надежда Андреевна Дурова, прославленная девица-кавалерист, автор замечательных «Записок», напечатанных А. С. Пушкиным в «Современнике». В. Г. Белинский так отозвался о литературных достоинствах автора: «Что за язык, что за слог был у кавалериста-девицы!» Не от неё ли наследовали Дуровы страстную любовь к животным? Седло своего боевого коня Алкида Надежда Андреевна Дурова считала своей колыбелью. Ординарец Кутузова и автор Пушкина – редактора «Современника», о встречах с которым она поведала в повести «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения», – воистину судьба невероятная человека необыкновенного. Многие полагают, что она – автор одного лишь прозаического произведения. Вовсе нет: кроме названной мемуарной повести были у неё и другие произведения – повести и рассказы, но известны они ныне историкам литературы, редким специалистам. Была ли её единственным и главным призванием литература? Боюсь, что нет. Алкид казался ей дороже Пегаса, а поле боя и военные походы милее письменного стола и полётов воображения. Вот её заключительный аккорд к запискам «Кавалерист-девица» (Происшествие в России): «Минувшее счастие!., слава!., опасности!., шум!., блеск!., жизнь, кипящая деятельностию!..» Да, всё это не литературные девизы и заклинания! Как бы то ни было, но тишина, покой, уединённость, простор воображению более подходят для литературного труда. Слава? Что ж, от неё никто не откажется, но слава литературная и слава боевая друг с другом уживаются непросто. Мой сын, занимаясь как критик поэзией Великой Отечественной войны, не раз приводил мне примеры: вот – прекрасный боевой путь, достойный романа, а у поэта, прошедшего этот путь, слова стёртые, образы заёмные, зато поэт с довольно скудной боевой биографией оказывается первопроходцем в поэзии!
Грустно это признать, но всё-таки В. Г. Белинский прозу Надежды Дуровой перехвалил: «Кажется, сам Пушкин отдал ей своё прозаическое перо…». Видимо, решающую роль сыграла биография, поступки, необычайная горделивость автора «Записок», и великий критик был этой биографией и личностью пленён.
Не согласен я и в оценке реалистичности дуровской прозы: до пушкинской волшебной простоты ей далеко, хотя внимание приковывает порою прежде всего описание действий. Мне кажется, что суровая и точная простота идёт у Дуровой-автора от склада жизни и быта Дуровой-кавалериста. Что же касается передачи чувств, волнений, душевных бурь, то в «Записках» своих она берёт лучшее от русских сентименталистов и худшее у романтиков. Женский сентиментализм, которая Дурова так упорно и тщательно прятала под боевым мундиром, выплёскивается в её прозе. Простительнее всего он в описании прощаний со своими верными друзьями-животными – конём Алкидом и собакой Амуром.
Я вообще к утверждению прямых наследственных влияний в передаче способностей и характера отношусь довольно скептически, но вот отношение Дуровых к своим четвероногим друзьям Надеждой Дуровой буквально завещано. Дуровы умели скрывать от зрителей на арене и в жизни свою боль, свои муки, свои страдания. Их неизменно выручали артистизм, сила духа, воля, но волю слезам они давали (и не стыдились этих слёз!), когда умирали любимые животные! Я сам был таким слезам свидетель, и сам с трудом удерживался от них.
«Ах, Алкид! Алкид! Веселие моё погребено с тобой!.. Не знаю, буду ли в силах описать трагическую смерть незабвенного товарища и юных лет моих и ратной жизни моей! Перо дрожит в руке, и слёзы затмевают зрение!» А кто ещё товарищи у Надежды Дуровой? «Я поехала одна на перекладных, взяв с собою в товарищи только саблю свою, и более ничего». Это Надежда Андреевна приезжает на побывку в родной дом, из которого бежала во взрослую мужскую боевую ратную жизнь! Она узнаёт всё и радуется, что была услышана «двумя нашими собаками Марсом и Мустафою; они кинулись ко мне с громким лаем, в ту же минуту превратившимся в радостный визг; верные добрые животные то вились вокруг ног моих, то прыгали на грудь, то от восхищения бегали во весь дух по двору и опять прибегали ко мне. Погладив и поласкав их, я взошла на лестницу…». Так возвращается домой девица-кавалерист – в мундире, который удивляет, страшит и озадачивает её домочадцев, не видевших её ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА! Детально передав свой диалог с горничной матери Натальей, Дурова не забывает сказать, что «дала Марсу и Мустафе по кренделю и велела им идти; они в ту же минуту повиновались». А окриков Натальи, с которой ни день не расставались, не разлучались, не послушались!
Над своими «Записками» Надежда Дурова работает в пути, всюду, куда её заносит военная судьба, она свою рукопись «просматривает наскоро», «не поправляя ничего, да и куда мне поправлять и для чего; их будет читать своя семья, а для моих всё хорошо». Прямо скажем, с таким настроением вступать в литературу грешно! А Дурова и не вступала в литературу, она действительно писала свой дневник для себя и для своих, а уже потом оказалось, что и для нас всех, читателей многих уже поколений.
У Надежды Дуровой нет смелых исторических параллелей, глубоких обобщений философского и политического характера. Её слова в адрес монарха слащавы, напыщенны, её многие рассуждения на общественные темы звучат наивно. 1812 год захватил её, а 1825 год прошёл мимо неё. Сама начинавшая службу с рядовых, она не верит в высокие чувства простого солдата на поле брани, не верит, что оно может стать для него «полем чести». Она не раз на страницах своей книги поёт гимн свободе, поначалу уверяя себя и нас, что свобода – «драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку!» КАЖДОМУ… Потом всё отчётливее и яснее проступает у Дуровой мысль, что это прежде всего свобода женщины не быть женщиной-рабой даже во дворянстве, свобода выбирать себе мужскую судьбу, судьбу боевую, ратную. То барский ребёнок, то робкая девушка, то дерзкий кавалерист, то по-детски скучающее по отцу шестнадцатилетнее дитя, чертёнок, смертельно боящийся возвращения под родную кровлю…
Необычайно противоречива и по-своему пленительна она во всём! Вот последние страницы её «Записок», предпоследний абзац, в котором страх «бросить меч» и «осудить себя на монотонные занятия хозяйства» и «незабвенные воспоминания» о боях и походах и восхищение «дикими берегами Камы», а до этого – маленький бесхитростный рассказ о маленькой собачке по имени Амур, о любви собаки к человеку. Потеряв в доме отцовском Амура, Дурова, не боящаяся свиста пуль и ядер на ратном поле, «смертельно пугается» за своего четвероногого друга, которого в тот же день смертельно искусал громадный чужой пёс: «Истинного веселия никогда уже не было в душе моей: оно легло в могилу моего Амура…»
Потеря собаки и новый, последний по счёту крутой поворот в судьбе – равнозначные понятия,равновеликие по переживаниям!
Выйдя в отставку в 1816 году в возрасте 33 лет, Надежда Андреевна доживёт до 83-х! Это нам сейчас, в конце XX века, кажется, что всё это «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», говоря пушкинскими словами. А на самом деле год смерти Надежды Андреевны Дуровой вовсе не далёк – это 1866 год, а Владимир Леонидович родится на свет в 1863 году, через год – его брат Анатолий. Выходит, они уже жили в ОДНО ВРЕМЯ: у неё был самый закат, у них самый рассвет.
Никакого открытия в этом сопоставлении дат нет, но всё-таки оно и для меня самого вдруг явилось неожиданным! Даже чисто психологически время Надежды Дуровой я лишь угадывал, а братья Дуровы были моими современниками: ведь я – ровесник XX века.
Прежде чем перейти к ним, основоположникам династии, я хочу несколько слов сказать о Дуровых-потомках. Отец девицы-кавалериста Андрей Дуров был обедневшим дворянином, офицером гусарского полка, после выхода в отставку получил должность городничего в далёком провинциальном Сарапуле на Каме на территории нынешней Удмуртии. Далековато и по нынешним масштабам, а в те времена – вообще даль несусветная! Вот куда забросила судьба отца Надежды Дуровой!
Ещё при первых Романовых смоленско-полоцкие шляхтичи Туровские переселились на башкирские земли. Здесь сперва стали зваться на русский лад Туровыми, а потом почему-то стали Дуровыми. Как мне удалось выяснить, Надежда Андреевна Дурова – не родная бабушка будущим дрессировщикам Владимиру и Анатолию, а двоюродная! Посему все рассуждения о каких-то прямых родственных генных приобретениях требуют большой осторожности. Нет сомнения в другом: о своей родословной в общих чертах братья Дуровы знали, дворянами, имеющими трёхсотлетнее дворянство, себя осознавали.
Однажды, как утверждает автор книги «Братья Дуровы» А. Таланов, уже искушённый в своём ремесле Анатолий Дуров столкнулся с хамством какого-то офицерика, заоравшего на него: «Клоун, ты разговариваешь с офицером!» На это Анатолий Дуров с гордостью ответил: «Козёл, ты разговариваешь с дворянином!» Вышла дуэль, правда, закончившаяся выстрелами в воздух. При чём тут козёл? Да дело в том, что дуровский дрессированный козлик не уступил места на дороге тому самому офицерику. К тому же и номер дуровский носил антивоенный, антиармейский по сути свой характер.
«Труды жизни военной», как писала в своих «Записках» Надежда Дурова, братьев не манили. В военной московской гимназии они учились неохотно, с радостью посещая лишь гимнастический зал. Прямой путь из военной гимназии был бы в кадетский корпус, затем в юнкерское училище, наконец – офицерская служба, армейские будни. А далее – читай повести и рассказы Куприна!.. И братья Дуровы предпочитают будни цирковые[127]. Если Надежду Дурову влёк, манил, звал, увлекал военный быт, и этот зов унёс её из дому, то непосед Владимира и Анатолия радостно тревожили огни манежа, цирковая музыка, кочевая жизнь артиста. Роднили их с девицей-кавалеристом романтика дорог, жажда славы и опять же, литературные способности.
Продолжая изучать жизнь и деятельность Надежды Дуровой, я вдруг сделал для себя открытия: не только лишь грядущие сабельные звоны, пороховые дымы и костры на привалах решили её военную судьбу, но прежде всего то, о чём она не писала и о чём как-то умалчивают многие её биографы.
Прежде всего надо сказать, что она не была девицей! Она была замужней дамой и матерью! «Записки» – произведение в основе своей документальное, но автор намеренно пропустила страницы о своём замужестве. В 1801 году восемнадцати лет отроду она была выдана замуж за чиновника В. С. Чернова, скорее всего, – подчинённого градоначальнику Андрею Дурову. Через год она родила сына, а уже в 1804 году, оставив мужа и ребёнка, вернулась к отцу, как пишет один биограф, «из-за семейных неурядиц», но, как подчёркивает другой, – она была увлечена есаулом казачьего отряда, который стоял в Сарапуле. Таким образом, на верном коне Алкиде, подаренном ей отцом, она бежала не просто из родительского дома, не вообще в армию, а конкретно – догонять казачий отряд с есаулом, фамилию и имя которого известные мне источники не сохранили.
Такова необходимая вставка в начало её биографии. А вот столь же необходимое дополнение к последней главе её жизни. В старости, имея пенсию и чин штабс-ротмистра в отставке, она живёт попеременно то в Сарапуле, то в сравнительно недалёкой от него Елабуге в доме брата. Своего дома у неё, вероятно, нет, своей семьи явно нет, нет личного счастья, личная жизнь не сложилась. Она и в преклонном возрасте продолжает носить мужской костюм и сердится, когда к ней обращаются как к женщине] Это уже больше чем причуда!
После знаменитых «Записок» она пишет «Добавления к «Девице-кавалерист» (1839), роман «Гудишки», и, как уже ранее говорилось, – повести и рассказы. Печатается в самых авторитетных, престижных журналах России. Напомню, что дебютирует она отрывками из своих «Записок» в пушкинском «Современнике» (№ 2 за 1836 год). Какие же это журналы? «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки». Однако, в 1841 году в возрасте 58 лет прекращает заниматься литературной деятельностью, живёт уединённо, по-прежнему обожает животных, по-прежнему бодра, здорова, судя всему, у неё ясный ум и прекрасная память.
Эта память была ещё лучше в юности, в молодости. Почему же она утверждала, что в 1806 году ей шёл семнадцатый год? Как ни считай, получается двадцать три, а это уже немало, особенно для того времени, для первой трети минувшего века! Брату Василию в 1809 году 14 лет, значит, он родился в 1795 году. Он младше сестры Надежды на 12 лет. Умирает Надежда Андреевна в 1866 году в доме брата, если брат жив, то ему в ту пору 71 год. Есть ли у него дети?
Отца братьев Дуровых зовут Леонид Дмитриевич. Он – полицейский пристав Тверской части в Москве. Напоминаем, что Владимир рождается в 1863 году, Анатолий – в 1864 году. Мы с вами возвращаемся к исходному рубежу. А как же отчество деда братьев Дуровых? Андрей Дурова? Не Васильевич ли? Тогда недостающее звено в родословной восстановлено. А если нет?.. Но я не раз читал и слышал, что Надежда Дурова – их двоюродная бабушка. Может быть, сёстры дали начало династии? Нет, нет! Они бы не сохранили дуровскую фамилию, выйдя замуж. Маленький сын Надежды Андреевны? Но он бы остался Черновым!
Пока остаётся одна версия: у брата Надежды Дуровой Василия был сын Дмитрий. Он – отец Леонида, а Леонид – отец братьев Дуровых. Иная версия у меня лично решительно не выстраивается!
И вот ещё что и удивляет и как-то печалит: никаких следов маленького сына Надежды Дуровой от Чернова не просматривается. Возникает такое ощущение, что для неё сына не существовало. Ну, ладно, пусть она возненавидела бывшего супруга (вероятно, и развод-то у них оформлен не был через Синод?), но чем виноват сынишка?.. Может быть, Чернов увёз его в другой город?.. Аможет, мальчик и умер?.. Возможен и такой вариант, Чернов скрывал от ребёнка имя матери. Да и выросший мальчик вряд ли возлюбил бы бросившую его в младенчестве мать!
Автор книги «Братья Дуровы» А. Таланов, да и оба брата в своих мемуарах пишут о «бабане», бабушке по отцовской линии Прасковье Семёновне. Она была матерью Леонида Дмитриевича Дурова, отца выдающихся артистов. Жила она во Вдовьем доме, гордилась тем, что она вдова обер-офицера, хранила предания семьи мужа, берегла портрет Надежды Дуровой и рассказывала о ней навещавшим её внукам. Своя родословная, видно, у неё была не очень-то примечательной, и она вела речь о родословной мужа.
Сама же обстановка во Вдовьем доме, доме сиротливой старости, предтече нынешних домов для престарелых, была горестной, тоскливой. Мальчишкам Дуровым запомнились разного рода строгости и приевшийся овсяный кисель. Да, разносолов там не подавали! В рассказе Куприна «Святаяложь» подобный Вдовий дом изображён красочнее и обстоятельнее: «Вот, наконец, палата, где живёт его мать (героя рассказа мелкого чиновника Семенюты. – Н. А. С.). Шесть высоченных постелей обращены головами к стенам, ногами внутрь, и около каждой кровати – казённый шкафчик, украшенный старыми портретами в рамках, оклеенных ракушками. В центре комнаты с потолка низко спущена на блоке огромная лампа, освещающая стол, за которым три старушки играют в нескончаемый преферанс, а две другие тут же вяжут какое-то вязанье и изредка вмешиваются со страстью в разбор сделанной игры. О как всё это болезненно знакомо Семе-нюте!» И – самому Куприну, который в детстве дружил с Анатолием Дуровым и, вполне возможно, вместе с Толей навещал во Вдовьем доме его «бабаню», пил казённый кипяток, принесённый «покоевой девушкой лет пятидесяти» в синем фирменном платье и белом переднике, хлебал овсяный кисель, а потом, спустя многие годы, написал необыкновенно горестный и в то же время добрейший рассказ о дружбе матери-старухи и сына-неудачника.
К Пушкину у меня с детства отношение благоговейное, и меня всегда очень волновали подробности знакомства Надежды Дуровой с великим поэтом, редактором «Современника», страшно хотелось живо вообразить себе, как они познакомились, как протекал разговор такого редактора и такого необыкновенного автора, к тому же дамы – в пушкинскую пору среди авторского актива журналов, современным языком выражаясь, они были редчайшим исключением. Не то, что ныне. У меня как руководителя семинаров по драматургии Союза писателей РСФСР число женщин-драматургесс чаще всего превосходило число драматургов…
И я решил обратиться к самому авторитетному источнику – письмам самого Александра Сергеевича, собранным в последнем томе последнего из известных мне собраний его сочинений. Читал я пушкинские письма и невольно вспоминал его сетования на то, что мы бываем ленивы и нелюбопытны! Ведь ответы на многие вопросы – вот они, перед нами, и не надо ездить за тридевять земель ни в прямом, ни в переносном смысле этого слова!
И вот десятый том у меня на письменном столе. Первое письмо брату Надежды Андреевны Василию Андреевичу – от 15 июня 1835 года, в Елабугу, письмо любезное и доброжелательное, хотя В. А. Дуров (а они с А. С. Пушкиным познакомились на Кавказе в 1829 году) докучал своей назойливостью и прожектами. Об этих прожектах говорится и здесь: «жалею, что из ста тысячей способов достать 100000 рублей ни один ещё Вами с успехом, кажется, не употреблён». Но всё же главная тема письма иная: брат хлопочет перед Пушкиным за сестру, но именует её братом \ Речь идёт о тех самых «Записках».
Следующее письмо – от 19 января 1836 года, уже Дуровой, но обращается к ней Пушкин «милостивый государь Александр Андреевич». Смысл письма – разминулась рукопись «Записок» с адресатом.
17 и 27 марта 1836 года – вновь письмо Василию Андреевичу, теперь уже с редакционно-издательским уклоном, по поводу рукописи «братца», который «летом будет в Петербурге», однако, загадка разгадана, и Пушкин завершает письмо такими словами: «Прощайте, будьте счастливы и дай бог Вам разбогатеть с лёгкой ручки храброго Александрова, которую ручку прошу за меня поцеловать». И там же приписка: «Сейчас прочёл переписанные «Записки»: прелесть! Живо, оригинально, слог прекрасный. Успех несомнителен».
Нет сомнения, что Пушкин был увлечён как читатель, но эмоциональный аккорд дополняют следующие строки, уже из письма поэта к Натали от 2 мая 1836 года, из Москвы в Петербург: «Что записки Дуровой? Пропущены ли цензурою? Они мне необходимы – без них я пропал». Издателя волнует издательский успех, «Записки» становятся «гвоздевым» материалом второго номера «Современника» за 1836 год.
Новое письмо автору – от 10 июня 1836 года, опять же из Петербурга в Елабугу. Это уже редакторские суждения о названии и призыв вступать на поприще литературное столь же отважно, как и на то, что прославило автора, то есть ратный путь. Очень важные слова перед припиской: «Полумеры никуда не годятся». Думается, это пушкинский завет и всем последующим поколениям литераторов. А приписка любезна и гостеприимна: «Дом мой к Вашим услугам. На Дворцовой набережной, дом Баташева у Прачечного мосту».
Около 25 июня опять же – из Петербурга в Елабугу и вновь Дуровой. Письмо от Дуровой Пушкин в ответ именует «откровенным и решительным», носящим «отпечаток… пылкого и нетерпеливого характера». Отвечает на сей раз Пушкин по пунктам, слова «по пунктам» подчёркивает. Дурова его торопит с цензурой, изданием, деньгами… Мне лично кажется, что всё это очень неделикатно: во-первых, она лишь вступает «на новое», «чуждое ещё» ей поприще, во-вторых, это не просто издатель журнала, а первый в России поэт!
Вот и всё… Я, уже машинально, листаю последний том, последние его страницы и вновь переживаю последние месяцы жизни Пушкина… В Петербург Дурова приехала, свои впечатления о стольном граде и о встречах с Пушкиным описала в повести «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения». А с братом её, скорее всего, Пушкин более и не свиделся.
В седьмом томе того же издания в цикле «Table-Talk»[128] есть такая запись Пушкина «О Дурове» от 8 октября 1835 года, то есть уже после первого письма в Елабугу. Запись носит, как и другие записи цикла, анекдотический характер: «Брат в своём роде не уступает в странности сестре». И А. С. Пушкин, и М. И. Пущин в воспоминаниях «Встреча с А. С. Пушкиным за Кавказом» подтверждают, что Василий Андреевич Дуров, как и отец его Андрей был городничим. Пушкин завершает свой шуточный текст цитатой из письма В. А. Дурова к нему: «История моя коротка: я женился, а денег всё нет».
Можно только предполагать, но не предположить я не могу. Одним из ста тысяч способов достать деньги и разбогатеть Василий Андреевич избрал… публикацию произведения сестры! Это именно он выступил по средником между автором и издателем, сам, конечно же, в литературных и издательских, журнальных в данном случае, делах не разбираясь. Может быть, он и торопил сестру, торопил события. Сестра с солдатской прямотой пошла путём его советов. Впоследствии, вероятно, имущественные проблемы между братом и сестрой вставали ещё острее: недаром она жила у него непостоянно. Дата смерти Василия Андреевича, указанная в примечаниях И. Семенко к десятому тому собраний сочинений Пушкина более чем условна – «после 1860 года»!
Отношение Пушкина к Дурову Пущин выразил довольно определённо: «Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина; забота его была постоянно заставлять Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений, которые заставляли Пушкина хохотать от души; с утра он отыскивал Дурова и поздно вечером расставался с ним». В общем, интерес бескорыстный, однако общение оказалось обременительным – пришлось помогать Дурову платить карточные долги, вести его на своей коляске аж до Москвы! Пущин, правда, утверждает, что в Новочеркасске они разъехались и что ему пришлось снабжать деньгами обоих.
Иное дело Надежда Дурова. Пушкин поверил в неё как в писателя, как в творческого человека, как в настоящего и, возможно, будущего сотрудника[129] «Современника». Его переписка с ней – верх обходительности, участия и доброжелательности, прекрасный пример для подражания редакторам.
* * *
Была тема, о которой я с Юрием Владимировичем говорить не решался. Тема эта, а точнее проблема литературного мастерства. Меня очень волновало и волнует до сих пор всё, связанное с этим феноменом! Применительно же к династии Дуровых – особенно. Почему? И Владимир Леонидович, и Анатолий Леонидович, и Юрий Владимирович и тем более Наталья Юрьевна писали, владели пером. А основоположники династии ещё и рисовали: Владимир Леонидович писал маслом на полотне и лепил, Анатолий Леонидович писал красками по стеклу, делал моментальные рисунки с натуры, в том числе и карикатуры. Особенно мне полюбилось живописное полотно Владимира Леонидовича Дурова «Журавли на болоте». Учёные журавушки улетели и принялись танцевать на болоте, охотник полюбовался ими, но спустил курок. Эта картина – прощальный привет и поклон драгоценным питомцам от их воспитателя и дрессировщика. Однако как бы то ни было, но даже если я буду потрясён какой-то зрелищно яркой картиной, сценой, то всё равно не смогу ничего изобразить на полотне – кисть меня не станет слушаться! Писать, рисовать Владимир Леонидович и Анатолий Леонидович несомненно умели. Вообще, надо сказать, в цирке работают на редкость разносторонние в своих способностях люди! Они владеют несколькими цирковыми жанрами, умеют выполнять ручную работу по изготовлению реквизита, декораций, многие умеют шить, знают токарное, слесарное, плотницкое ремёсла, разбираются в электротехнике, а нынче – ив электронике! Но меня, повторяю, более всего волнует литература.
Несомненно, сперва Дуровы обратились к литературному творчеству для пополнения своего репертуара, для того, чтобы сделать его самобытным и самостоятельным во всех отношениях. Выходные монологи у них обоих были преимущественно стихотворными. Историки цирка, как правило, отдают предпочтение в этом жанре Анатолию Леонидовичу. Автор книги «Братья Дуровы» А. Таланов, например, считает, что монологи младшего Дурова отличались «большей остротой, глубиной, доходчивостью, чем у старшего брата». Но тут же отмечает, что «методы дрессировки были намного слабее, примитивнее».
Стих Анатолия Леонидовича действительно богаче, щедрее на интонационное разнообразие, раскованнее. Стих старшего брата тяжелее, степеннее, он более патетичен, в нём силён ораторский пафос. И всё же для обоих стихи не были главным, самоценным явлением. Чаще всего это лишь пролог к представлению, и восходят такие монологи к раешникам, дедов-зазывал на ярмарочных балаганах. Лишь интонация другая. Скороговоркой, с притоптыванием, присвистыванием стихи Дуровых не произнесёшь!
И всё-таки большинство их текстов – это атрибуты циркового искусства: либо для цирка, либо о цирке. Они от цирка неотделимы. Мне очень понравились слова Ильи Эренбурга, в которых выражена суть дарования Владимира Леонидовича: «Был он по природе поэтом и поэзию нашёл в мире четвероногих актёров». Однако я себе не представляю Дуровых как литераторов исключительно – даже профессионального писателя Наталью Юрьевну Дурову дочь Юрия Владимировича. Несомненно, она могла бы навсегда оставить арену и вообще работу с животными и целиком и полностью перейти на работу за письменным столом. Ну допустим, выступала бы ещё перед читателями, особенно, ребятами… И тем не менее сперва её властно позвал манеж, а потом Уголок дедушки Дурова, из которого она ныне создаёт огромный культурно-просветительный комплекс во главе с Театром зверей, единственным в мире таким театром.
А проза Дуровых? Какая она? Сперва, повторяю, тоже сугубо репертуарная. В ней мало от чистой литературы и больше от актёрской импровизации: шутки, скетчи, каламбуры в прозе, ответы на вопросы из циркового зала… Анатолий Леонидович подвёл итог (как он думал, предварительный, а вышло, что окончательный) своей творческой деятельности: в 1914 году в Воронеже малым тиражом вышла в свет его книга «В жизни и на арене». Я думаю, что тематику книг его старшего брата тоже комментировать не надо: названия говорят сами за себя: «Записки дуровской свиньи», «Звери дедушки Дур о ва», «Мои звери», «Мои пернатые друзья», «/дрессировка животных. Психологические наблюдения над животными, дрессированными по моему методу (40-летний опыт)». Что касается последней книги, то это сочинение отчасти научного, отчасти научно-популярного характера с выходом на вопросы практики дрессуры, содержания зверей и ухода за ними. Издана она была в Москве в 1924 году, в ней 500 страниц и 79 иллюстраций! Остальные книги в жанровом отношении представляют из себя научно-популярные и одновременно мемуарно-биографические очерки, написанные живо, метко, с юмором. Что же касается «Сильных мира того», то эта книга особая, она в жанровом отношении ближе к памфлету, но тоже в дуровском стиле! Ну а разве «Записки дуровской свиньи» при всей её научно-практической пользе лишена черт памфлетности?..
Записки Анны Владимировны Дуровой-Садовской, вкраплённые в монтаж текстов Владимира Леонидовича Дурова, отрывки из документов, писем, воспоминаний об Уголке зверей и самом их владельце и хозяине, тоже, по сути своей мемуарные очерки, правда, очень короткие и фрагментарные. Это как бы закадровый комментарий в документальном и научно-популярном кино.
Рассказы Анатолия Леонидовича Дурова хотя и могут восприниматься каждый в отдельности, всё же представляют из себя те ж очерковые главы одной мемуарной книги. Разве что какие-то сцены, эпизоды в них рассмотренные более подробно, крупным планом. И опять же, – они все – либо о цирке, либо об историях, непосредственно связанных с цирковой жизнью и цирковыми представлениями.
Интересно подчеркнуть, что все Дуровы так или иначе были связаны с музейным делом и научной популяризацией своей художественной практики: Анатолий Леонидович ещё в 1901 году купив в Воронеже дом, превратил его в музей редкостного профиля: в нём был и чисто художественно-живописный отдел, и отдел по истории творчества хозяина, и отдел краеведческий, и отдел, скажем так, общеисторический, и собранье разного рода курьёзов и сюрпризов для посетителей… Недаром в этот музей с таким удовольствием приезжали «Учащие и учащиеся», как любил говорить Анатолий Леонидович. Музей этот был неофициальный, общедоступный, в нём царил дух выдумки, веселья, даже озорства, и в то же время он был довольно представителен, богат и серьёзен.
В 1909 году в Москве на старой улице Божедомке Владимир Леонидович покупает особняку принца Ольденбургского и устраивает в нём свой музей и научно-исследовательскую лабораторию для изучения зоорефлексов, «Фабрикурефлексов», как значилось на вывеске. Себе и членам семьи он оставляет лишь три комнаты, но и в них он неразлучен с небольшими по размеру зверьками. Здесь он живёт до 1934 года, до того самого дня, когда он, семидесяти одного года отроду, умирает, простудившись на съёмках научного фильма. Работает всегда, везде, с радостью, с полной отдачей, самозабвенно…
Эстафету руководства Уголка принимает сперва его жена Анна Игнатьевна, потом его дочь Анна Владимировна, создательница Театра зверей, в котором с неизменным успехом шли поставленные ею спектакли «Терем-теремок», «Как звери Уголка Дурова полетели на Луну», «Как Василий-дровосек в лесу друга нашёл», «Медведь и дрессировщик», а также многочисленные концертные программы для ребят разных возрастов.
Мне бы хотелось обратить внимание читателей на следующие обстоятельства. Дуровские особняки и в Воронеже, и в Москве особенно (куплен у принца Ольденбургского, шутка сказать!) были весьма дорогостоящими и выдавали в великих артистах людей состоятельных. И здесь очень важно подчеркнуть, что заработаны средства на них были личным неутомимым и вдохновенным трудом. Возможно, что кто-то иной вложил бы капиталы в доходное предприятие, может, купил бы цирк, стал его владельцем, нашёл бы ещё какое-нибудь подобное доходное предприятие. Братья Дуровы, обустраивая своё, независимое жильё, свою недвижимость, свой, если хотите творческий и материальный мир, не забывали об общественном благе. Если какие-то доходы от билетов и экскурсий они получали, то это были в прямом смысле гроши. К тому же подавляющее большинство, выражаясь современным языком, мероприятий и у Владимира Леонидовича, и у Анатолия Леонидовича носили бесплатный характер. А вот неудобств и хлопот себе и тот, и другой своими домами-музеями прибавляли.
У артистов, да и вообще у деятелей искусства пики признания, славы и достатка и даже богатства быстро сменяются полосами неудач, бедствий и даже разорений. Гастроли по Западной Европе позволили Дурову-младшему даже дом в Париже купить и пожить там на широкую ногу а потом… Он был вынужден наняться к ничтожному дельцу Максимюку который остался в истории циркового искусства лишь как виновник ранней гибели выдающегося клоуна и дрессировщика. Деньги привели Анатолия Леонидовича в мариупольский цирк? Да, но не только! Творческий кризис, потеря своей аудитории, неумение, а может быть, и нежелание приспособиться к новым условиям, реакция на общественно-политическую реакцию, усугубившуюся с началом Первой мировой войны – вот далеко не полный перечень причин столь ранней и горестной кончины. Формально – от воспаления лёгких и от тифа, но это лишь последняя капля!..
Судьба Владимира Леонидовича оказалась несравнимо счастливее: он и с цирком не порывал, и сумел обрести себя в иных занятиях – музейных, научных, просветительских, чисто литературных. Запас его, скажем так, жизненной прочности оказался большим, чем у брата. К тому же – время. Говорят, что литература подразумевает обязательное долголетие. Не только литература, но и любое творчество. Жизнь так коротка, а успеть сделать надо так много!.. Были, конечно, и социально-политические причины, но вы о них прочтёте в следующих главах моего повествования. О своём деде (одновременно и отце!), наставнике, учителе, воспитателе нам с вами расскажет Юрий Владимирович Дуров.
Любимый лозунг Владимира Леонидовича Дурова историки цирка и литераторы, пишущие о Дуровых, «ЗАБАВЛЯЯ, ПОУЧАТЬ, ПОУЧАЯ, ЗАБАВЛЯТЬ!» весьма упростили и обкорнали, оставив только первую его часть: «ЗАБАВЛЯЯ, ПОУЧАТЬ», но не менее важна и вторая, собственно педагогическая, воспитательная часть афористичной формулы.
Относясь с большим уважением ко всем представителям дуровской династии, я как ихлетописец и как зритель (а я видел на арене выступления всех Дуровых!), всё же отдаю предпочтение самому старшему в роду основоположнику – Владимиру Леонидовичу. Когда мы говорим «дедушка Дуров» (а это сочетание знают не только миллионы ребят, но и миллионы их родителей!), эти слова могут относиться только к нему, патриарху русской клоунады и русской художественной гуманной дрессировки животных. Анатолий Леонидович, младший его брат, умер в 1916 году в возрасте 54 лет. Ну, какой он был дедушка?! Мужчина в самом расцвете сил! А дедушкой, окружённым бесчисленными зрителями, маленькими и большими, но сохранившими в душе свет детства, был именно он – Владимир Леонидович!
Талантов от природы щедрейших, он мог бы стать кем угодно! Его дочь Анна Владимировна вспоминала, что, не зная нот, он по слуху играл на рояле сложнейшие произведения Чайковского, Шопена, Баха, часто импровизировал сам. Он поставил уникальный в мировом киноискусстве фильм «И мы как люди», в котором все роли исполняли только звери, и на экране не было ни одного человека. И об этом фильме у нас разговор ещё впереди. Но всему на свете он предпочёл великое звание «шута его величества народа; короля шутов, но не шута королей».
* * *
… Обо всём этом я думал тогда, летом 1956 года на амурских берегах, не зная ещё многих и многих подробностей, обстоятельств, деталей, не обладая ещё даже минимумом собранного и освоенного материала, для того, чтобы начать писать своё повествование хотя бы в черновиках, хотя бы в отрывках, но – начисто, на машинке. Иначе не могу: у каждого литератора своя манера, свои привычки, свой опыт, свои пристрастия.
Но, впрочем, именно тогда я стал писать первую главу. Для того, чтобы сесть за неё, мне не хватало какого-то яркого факта, который послужил бы толчком, настроил на верную интонацию. А свободное время, между тем, у меня появилось. Все кинематографические дальневосточные дела складывались успешно, и я почувствовал, что могу начинать приступать к другой большой работе.
И вот однажды как-то случайно мы разговорились о прессе, о её роли в судьбе цирковых артистов, и я попросил Юрия Владимировича:
– А когда о вас появилось первое упоминание в печати? Наверное, уже в середине тридцатых годов, когда вы пришли к своему номеру?
Юрий Владимирович усмехнулся и ответил мне загадочно, чуть нараспев:
– Те газетные материалы – само собой! Но впервые моё имя в печати прозвучало в восемнадцатом году! – И, выждав паузу, продолжил:
– Четырнадцатого августа восемнадцатого года в информационной заметке в газете «Правда» сообщалось о детском утреннике в Сокольниках. Говорилось о том, что в первом отделении была показана кинолента «И мы как люди», а во втором – славились лучшие дуровские животные: пёсик Пик, который был назван исполнителем главной роли только что просмотренного фильма и поименован так «Пик Пикович Фокс-Терьеров», крыса Финька и другие четвероногие друзья-артисты. Завершалась заметка словами о том, что «выступил также внук В. А. Дурова – Юрочка, прочитавший несколько стихотворений, которые очень понравились детям». До сих пор наизусть помню! Так что моё первое выступление было чтецким, но всё же артистическим.
В тот же вечер я сел за свою любимую пишущую машинку «Континенталь», которая, бедняжка, недавно тонула в одном из притоков Амура прямо на нанайской лодчонке. Старик нанаец, помнится, кричал: «Ругай меня, ругай! Моя перевернула твой лодка и патапила твой чимадан!» Однако было неглубоко, машинку достали, высушили, местный мастер смазал её, и вновь она стрекочет на маленьком столике в гостиничном номере. И на чистой странице появляется первое название первой главы:
Дедушкин внук
Родился Юрий Владимирович 12 января 1910 года. Через восемь лет, как вы теперь уже знаете, его имя как маленького артиста впервые будет упомянуто в прессе. Но это выступление не станет премьерой, потому что премьеры, правда, в кинематографе были и прежде.
Однако, прежде чем рассказывать о них, надо хотя бы кратко поведать о семье самого Владимира Леонидовича Дурова, дедушки Дурова, как его зачастую называют. У него и у его жены Анны Игнатьевны было трое детей: дочь Наталья Владимировна, актриса эстрады и кино, рано ушедшая из жизни, Анна Владимировна Дурова-Садовская, принявшая после смерти своей матери на себя все хлопоты по Уголку зверей, и сын Владимир Владимирович, прямо унаследовавший профессию отца. К сожалению, работать на аренах ему довелось недолго – лишь три года: с 18 до 21 года. Скончался он от туберкулёза.
Юрий Владимирович – сын Натальи Владимировны Дуровой и одного из представителей московской знати. Наталья Дурова была первой в России женщиной-конферансье. Работала она в театре Валиева «Би-ба-бо». Иногда снималась в кино. Вот это-то обстоятельство и определило раннюю актёрскую судьбу сына. Мать прочила ему актёрскую карьеру, мечтала об известности, популярности, славе… Малышом Юра был симпатичным, кудрявым, забавным… Как-то увидел его представитель кинофирмы Ханжонова и предложил матери снять сына в нескольких фильмах, где требовались маленькие артисты.
Первая проба оказалась первой ролью. Юру поставили перед «юпитерами» без рассеивателей и стали втолковывать задачи:
– Улыбнись, детка… Сделай грустное выражение лица… А теперь скажи «мама» и посмотри на яркий свет…
Так продолжалось долго, чуть ли ни весь день. А ночью малыш ревел от нестерпимой боли в глазах. Мать, прикладывая крепкий чай и свинцовые примочки, ругала себя на чём свет стоит и клялась, что никогда больше не позволит издеваться над ребёнком!
Но постепенно Юра привык к съёмочной площадке, научился по мере сил и возможностей остерегаться слишком яркого прямого света и даже полюбил съёмочный процесс.
Первый фильм, в котором он снялся, назывался «Старость Лекока». Заглавную роль исполнял весьма известный в ту пору артист Николай Салтыков. Сюжет фильма был немудрён: бандит Лекок украл ребёнка, сына богатых родителей, чтобы получить выкуп. Убегая от сыщиков, Лекок-Салтыков спускался с малышом с крыши самого высокого в тогдашней Москве дома, который громоздился в Большом Гнездиковском переулке. Малыш болтался на верёвке между небом и землёй, пролетая мимо всех четырнадцати этажей! Вот какая была тогда техника кино! А то и сейчас иногда читаешь и слушаешь киноведо в, историков дореволюционного кинематографа и диву даёшься: всё-то у них в давних лентах статично, всё примитивно, съёмок с движения нет, камеру из комнаты в комнату переносят и т. д. А Юра несмотря на свои шесть, а потом и семь лет помнил потом всю жизнь свои кинопремьеры как бесконечный каскад трюков, изобретений, неожиданных смекалистых решений. Другое дело – во имя чего, для воплощения какого содержания это делалось! Вот тут-то, конечно, похвастаться было нечем.
Следующая кинолента с участием маленького Дурова называлась вычурно и сентиментально: «Будь проклят ты, разбивший мою жизнь!» Одну семью всегда постигало несчастье, когда раздавались звуки скрипки бродячего музыканта. Мальчуган бросал ему милостыню из окна, срывался и… падал вниз. Такие трюки становились «специальностью» юного актёра. Падал он, конечно, на специально приготовленный мягкий матрасик со сравнительно небольшой высоты. Так Юра проходил начала акробатики.
В одном фильме, название которого с годами забылось, помнилось лишь, что в нём снимались такие знаменитости, как Вера Холодная и Иван Мозжухин, маленький мальчик почему-то убегал из дома. Заблудившись, он замерзал в сугробе. Юру и в самом деле добросовестно зарывали в снег, а потом, окоченевшего, растирали спиртом.
В следующей киноленте, которая называлась «Юлиан Отступник», малютку убивали кинжалом. Артист, игравший роль жесточайшего убийцы, слишком вошёл в роль и не рассчитал силу удара – настоящий, довольно острый кинжал, проколол войлочную страховочную подкладку под туникой, и Юра получил первую в жизни травму, след от которой остался навсегда. Юрий Владимирович этот след мне демонстрировал. Он был почти невидим, ибо затерялся среди многочисленных ран, полученных преимущественно от животных уже на арене во время представлений и репетиций.
Вы спросите: «А как же мать на всё это смотрела?» В ней постоянно боролись два чувства: чувство материнской заботы и жажда актёрской славы.
Наступил февраль 1917 года. Юре навсегда запомнились первые дни Февральской революции. Именно тогда Владимир Леонидович Дуров вышел на улицы и площади со своим зверинцем. В колесницу был запряжён слон, который держал в хоботе красный флаг с надписью «ВПЕРЁД!» Дедушка Дуров ехал в шутовском наряде и говорил с толпой. Весь свой аттракцион Владимир Леонидович выводил на московские улицы и в день Первого мая 1917 года. В карнавале принимали участие шуты разных времён и народов, а возглавлял шествие на разукрашенном грузовике сам дедушка Дуров, первый шут его величества народа, окружённый своими четвероногими друзьями и помощниками.
Однажды нам с Юрием Владимировичем посчастливилось вместе пережить заново эти дни – мы смотрели старую кинохронику! Юрий Владимирович с большим волнением смотрел на эти кинокадры. Когда зажёгся свет, он торжественно произнёс:
– А знаете, в эти дни я тоже выступал перед народом. Мама повязала мне огромный красный бант, повесила на шею за тесёмочку большую жестяную кружку и повела в артистическое кафе «Бом». Там я читал с эстрады какие-то детские стишки и собирал пожертвования в пользу политических заключённых, выпущенных из царских тюрем.
Октябрьские дни неминуемо пришли на смену дням февральским. Маленький Юра запомнил выстрелы, доносившиеся на Арбат со стороны Никитских ворот. В те дни его на улицу не выпускали. Обстановка на улицах была тревожной, особенно в центре города. А вот дедушка Дуров не послушался запретов своей жены и Анны Владимировны – буквально убежал из дома и целый день не возвращался домой! На все уговоры он неизменно отвечал:
– Я – народный шут. Я всегда должен быть со своим народом!
Эти слова Юра запомнил навсегда.
Началась Гражданская война. К общим для всех тяготам и лишениям присоединилось и семейное горе – ушла из жизни Наталья Владимировна. И тогда Владимир Леонидович официально усыновил Юру. Таким образом, он стал ему одновременно и дедом, и отцом. Это обстоятельство меня как писателя, как драматурга особенно в устных рассказах Юрия Владимировича тронуло и увлекло! Это было необычно и с точки зрения нравственной, и с точки зрения событийной. По сути дела, Юрий Владимирович был единственным из Дуровых, кто с раннего возраста вырастал под наблюдением, опекой, присмотром у Владимира Леонидовича, ставшего уже легендарной личностью. Он был его прямым, непосредственным учеником. Он видел его быт, окружение, был свидетелем незабываемых встреч, сцен. Конечно, ценнейший материал, в том числе и в виде мемуарных записок, оставила Анна Владимировна Дурова-Садовская, но она, во-первых, смотрела на всё происходящее глазами человека другого поколения, во-вторых, далеко не всё, из того, что знал и умел дедушка Дуров, было ей нужно, необходимо для изучения, освоения. Юрий Владимирович вбирал в себя практически всё, что относилось к искусству дрессировки, к школе циркового артистизма. Посему его воспоминания о жизни в доме деда, о беседах с дедом, об уроках деда, для меня как для летописца династии Дуровых стали бесценными.
Правда, в доме на старой Божедомке, в знаменитом уже тогда Уголке зверей в те давние годы было скучновато. Все животные попали в плен к белым. Их отрезала от Москвы Гражданская война и заперла в Крыму. В Уголке оставался тощий верблюд по имени Чижик (Дуровы, как я потом узнал, не любили слова «кличка» и применительно к животным всегда произносили слово «имя») и разные мелкие зверюшки: попугай-певец, заяц-барабанщик, собака-математик, морские свинки-плясуньи и кошки, жившие вместе с крысами в добром согласии.
Весь «скарб» и «номер» укладывался на одном извозчике, когда Владимир Леонидович, Анна Владимировна и маленький Юра выезжали на гастроли в клубы. На кондитерской фабрике «Эйнем» они выступали за шоколадки. На мельничном комбинате – за мешочек муки. Так перебивался дедушка Дуров в годы разрухи, стараясь накормить членов семьи и своих дрессированных животных.
А положение в стране становилось всё тяжелее. Москва голодала. Одинокий верблюд Чижик обгладывал кору с деревьев в саду Уголка зверей. Этот худой верблюд был единственным транспортным средством дуровского аттракциона. Москвичи с удивлением разглядывали необыкновенный выезд – двухгорбую клячу, запряжённую в дровни. Один подвыпивший гражданин, завидев Чижика сквозь снегопад, в ужасе бежал, закрыв лицо руками: верно, подумал, что допился до чёртиков!
Кучером был маленький внук, седоком – дед. Внук часто отвозил дедушку к наркому Луначарскому. Пока дедушка справлял свои дела, внук с Чижиком мёрзли и мечтали о пропитании. Наркомовские совещания тянулись долго, и верблюд за это время невозмутимо обгладывал все афиши на театральном столбе: всё-таки они были питательнее – на клею!
Изобретательность двухгорбого друга навела малыша-кучера на мысль о приработке. Как-то он выпряг Чижика, оставил сани у подъезда Наркомпроса и отправился на Манежную площадь «пленять своим искусством свет». Верблюд опускался на колени, ложился на снег, вставал и кланялся уважаемой публике. Такое зрелище не могло не заинтересовать прохожих, и они бросали свои монетки в шапку Дурова-внука. Можно смело сказать, что это и была его подлинная премьера как циркача, дрессировщика.
А внук между делом спрашивал у своих невольных зрителей, который час, выслушивал ответы и ужасался: пора было возвращаться к подъезду Наркомпроса! Он быстренько сворачивал свой «цирк» и устремлялся к парадному подъезду, там запрягал Чижика, дожидался дедушки и как ни в чём ни бывало спокойно отвозил его домой.
Несколько раз ему это всё легко сходило с рук, но однажды он, слишком увлечённый своими представлениями, задержался на площади, а дед, пораньше освободившись, увидел пустые сани и, вероятно, всё понял. По следам, оставленным Чижиком, он довольно легко нашёл «циркачей» и, наградив внука подзатыльником, прекратил навсегда эти представления. Чижик был водворён на конюшню Уголка зверей, а внука было решено срочно отдать учиться в какую-нибудь школу. В какую школу он попал и к кому он попал, мы расскажем несколько позже, а теперь самое время сказать хотя бы несколько слов о том фильме, который демонстрировал перед началом своих выступлений Владимир Леонидович.
В те далёкие годы начала века лично мне не удалось его посмотреть, и познакомился я с ним зимой 1960 года лишь благодаря Анне Владимировне Дуровой-
Садовской и тогда же по горячим следам написал об этом фильме рецензию для журнала «Советский цирк», который напечатал её в седьмом номере за тот же год и щедро проиллюстрировал кадрами из дуровской киноленты.
Почему я пишу что рецензия запоздалая? Да потому что Владимир Леонидович создал свой фильм в 1912 году! Сохранились заглавные титры киноленты:
И МЫ КАК ЛЮДИ
(«Как хороши, как свежи были розы…»)
Сатирическая мелодрама
Сценарий и постановка В. Л. Дурова
Оператор А. Ханжонков
Да, да, тот самый знаменитый, без которого невозможно себе представить историю русского дореволюционного кинематографа «фабрикант русских кинематографических картин, состоящий в запасе по войску Донскому есаул», как он значится в одном правительственном документе, первый в истории России организатор научного отдела при кинофабрике, знаток кинорынка и кинопроката, весьма состоятельный и очень занятой человек, соглашается на роль оператора в дуровском фильме, в котором все роли играют только звери! Прямо скажем, хлопотливо и тревожно было в такой кинокартине работать оператору, да и попал этот оператор в довольно щекотливое положение – ведь снималась фактически пародия на игровые фильмы его кинофабрики, фабрики Александра Алексеевича Ханжонкова. И тем не менее один из самых удивительных в истории кино фильмов был создан в результате творческого содружества выдающегося артиста цирка и кинопромышленника.
Сколько времени продолжалась работа над фильмом, пока уточнить не удалось. Судя по всему, он был полностью готов осенью – основная натура летняя, один эпизод зимний. Но, думается, работа над фильмом началась значительно раньше – ведь четвероногим артистам нужен был большой репетиционный период, хотя многим фокусам, приёмам и трюкам они были обучены прежде. Владимир Леонидович постарался свести воедино всё, что умели его четвероногие друзья, но так, чтобы они всё делали строго по ходу сюжета, претворяя сценарий в жизнь.
Итак, представим себе, что мы с вами попали в просмотровый зал!
…Мими, маленькая симпатичная болонка, и простецкий фокстерьер Пик живут по соседству. На подоконнике томно лежит на шёлковой подушечке изящная Мими. Мимо пробегает Пик и застывает, поражённый её красотой! Собачки полюбили друг друга с первого взгляда. Пик приглашает возлюбленную на тайное свидание к себе в гости, послав ей записочку следующего содержания: «ДОРОГАЯ МИМИ! ПРИХОДИ КО МНЕ ЧАСОВ В ДВЕНАДЦАТЬ. У МЕНЯ ЕСТЬ ПРЕКРАСНАЯ СВИНАЯ КОТЛЕТА. ПОЕДИМ И ПОВЕСЕЛИМСЯ. ЛЮБЯЩИЙ ТЕБЯ ВСЕМ СЕРДЦЕМ ПИК».
И вот заветное свидание состоялось. Оно сопровождается чаепитием, музыцированием и танцами. Мы видим сад, цветущие розы. Сценка в саду завершается словами: «КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ…» Пик угощает Мими котлеткой с чайком. Сидя на стульчике, за столом, пёсик открывает лапкой кран самовара. После чего следует титр: «А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО МУЗЫКИ И ТАНЦЕВ».
Гостеприимный хозяин вскакивает на пианино и бренчит по клавишам. Мими на задних лапках танцует перед ним вальс. Но идиллия нарушена громким лаем сенбернара Лорда, дядюшки, опекуна Мими. Он хватает зубами за шиворот свою беспутную племянницу и утаскивает подальше от горемычного Пика.
Сердитый дядюшка сидит в своём кабинете за письменным столом. В зубах у пса дымящаяся сигара. Он обдумывает создавшееся пикантное положение. Титр поясняет, к какому выводу приходит Лорд, – надо немедленно увезти легкомысленную девицу Мими на курорт, чтобы пресечь предосудительную связь болонки-аристократки с плебеем-фокстерьером. Лорд входит в будуар Мими. Она лежит на белоснежной постельке. Дядя лаем объявляет ей о своём решении.
Начинаются сборы в дорогу. Собаки-слуги приносят господские чемоданы, укладывают вещички. Но Мими успевает переслать с левреткой-горничной письмо Пику.
Звериный вокзал. Впервые на экране показана знаменитая дуровская железная дорога. Кассир-обезьяна продаёт билеты. Начальник станции гусь звонит в колокол. Собираются многочисленные пассажиры, которых изображают куры, утки, собачки различных пород и размеров, поросята. Носильщики-хорьки тащат багаж пассажиров первого класса. Лорд и Мими получают билеты.
Удручённый и подавленный Пик сидит дома в одиночестве – Мими не пришла на свидание. О, эти женщины!.. Но вот в кадр вбегает левретка и подбрасывает в окошко тайное послание. Пик нервно разрывает конверт и читает: «ПРОЩАЙ, МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПИК. НАШЕМУ СЧАСТЬЮ НЕ БЫВАТЬ. ДЯДЮШКА УВОЗИТ МЕНЯ НА “СОБАЧЬЮ РИВЬЕРУ”. ЦЕЛУЮ. МИМИ». Пик опрометью мчится на вокзал. Увы! Виден хвост уходящего поезда. Пёсик грызётся с кассиром-обезьяной, с начальником станции – гусём, требуя отправки любым проходящим поездом. Пику отказывают. Тогда он вспрыгивает на площадку товарного вагона и отправляется вдогонку за любимой.
Морской берег. У пристани – дымящий пароход. Крысы-матросы готовят корабль к отплытию. Пассажиры-курортники атакуют пароход. Это те же куры, утки, собачки. Появляются Лорд и Мими. Они занимают места на палубе. Судно благополучно отчаливает.
К опустевшей пристани подбегает бедняжка Пик. Крупным планом – тоскующее завывание пса, проливающего подлинные слёзы. В ярости он грызёт скалу! И тут влюблённый решается переплыть море! Мы видим, как Пик прыгает в воду и плывёт в затемнение.
А на пляже курорта богачей «Гав-гав» идёт своим чередом роскошная жизнь! Под зонтиком в шезлонге Мими принимает солнечную ванну. Дядюшка Лорд лечит в воде тёплого моря свою старческую подагру.
Вечером дядюшка развлекает тоскующую по Пику Мими в кабаре «Человеческий нос». Видна надпись: «ВХОД В ПРАВУЮ НОЗДРЮ, ВЫХОД В ЛЕВУЮ». К огромному человеческому носу козлы и ослы подвозят в колясочках публику. Последним из гостей прибывает дядюшка Лорд с племянницей в фаэтоне, запряжённой парой пони.
Зал кабаре. За столиками сидят разные зверюшки, пьют и закусывают: что-то лакают из чашечек. Виден занавес эстрады. Показывается голова знаменитого дуровского слона Бэби, которого ещё малышом Владимир Леонидович купил в Гамбурге у крупнейшего звероторговца Европы Карла Гагенбека. Бэби выступает в роли конферансье. Это явный намёк на популярного в ту пору конферансье Валиева, отличавшегося весьма плотной комплекцией. Бэби приветливо машет хвостом и раздвигает занавес. Начинается представление!
На сцене кот-канатоходец. Канат густо усеян крысами. Осторожно перешагивая через препятствия и не реагируя на живую пищу, перед нами торжественно шествует акробат-балансёр пушистый ангорский кот Васька.
Следующий номер программы – морской лев-жонглёр. Он подбрасывает зубами горящие факелы, балансирует мечами. В довершение всего просит публику поаплодировать ему, усердно хлопая самого себя ластами.
Последним выступает сам Бэби, рекордсмен по поднятию тяжестей. Слон – «голый». На нём только трусы. Подняв штангу, силач раскланивается. При повторном поднятии штанги у силача от натуги лопается резинка на трусах, гигантские трусы сползают, и Бэби сконфуженно покидает сцену.
На среднем плане у самой эстрады стоит столик для самых почётных гостей. На сей раз за ним Лорд с Мими и их камердинер бульдог. Для них выступает пеликан Босоножка, подражающий несравнимой Айседоре Дункан. Номер балетный сменяется номером вокальным: осёл исполняет арию «О не тяни меня за хвост!..» Он стоит на каком-то деревянном подмоете и тычется мордой в ноты. Между нотными страницами дедушка Дуров, наверное, положил какое-то угощение.
… И снова – пляж. Мими резвится на песочке. Дядюшка Лорд греет больную лапу. Вдруг Лорд тревожно залаял. Волны прибивают к берегу бездыханное тело утонувшего в пучине морской Пика. Горе Мими неописуемое! Истинным любителям животных скажем сразу, что актёр Пик Пикович Фокс-Терьеров, как его любовно называл дедушка Дуров, остался живым и невредимым и потом ещё не раз выступал перед зрителями.
На экране надгробный памятник с надписью: «ЗДЕСЬ ЗАРЫТА СОБАКА». Мими прибегает на могилку Пика, вспрыгивает на пьедестал и жалобно воет…
Перебивка – кадры с подушечкой, цветами. Мими вспоминает счастливые мгновения, в титре: «КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ…» Последний кадр – зима. Падает снег на несчастную Мими, замерзающую и гибнущую на могилке незабываемого милого друга…
Прошло почти четверть века с того дня, когда художественный руководитель Уголка зверей Анна Владимировна Дурова-Садовская устроила для меня просмотр дуровской фильмотеки, а я всё помню так ясно и отчётливо, как будто это было вчера. Сама Анна Владимировна принимала участие в съёмках этого фильма в качестве ассистента своего отца. На мой вопрос, какая сцена была самой сложной в постановочном отношении, она не задумываясь ответила: «Сцена в кабаре! Одержать зверей на месте, за столиками, не дать им разбежаться, проявлять интерес к постороннему, а сосредоточиться на угощениях и на эстрадной программе нам помогла… еда, смена еды! При этом каждому давались не обычные продукты, которые он получал изо дня в день, а что-то его природе свойственное, но непременно деликатесное, праздничное!»
– Учёные звери могут творить чудеса! – доказывал Владимир Леонидович Анатолию Васильевичу Луначарскому и в качестве примера демонстрировал ему свой фильм. Как вспоминала Анна Владимировна, Луначарский хохотал до слёз. Этот фильм помог Дурову добиться от наркома просвещения заграничной поездки за редкими животными в Гамбург к наследникам Карла Гагенбека и покупки киноаппаратуры для специальных съёмок животных.
Луначарский, по достоинству оценив дуровский фильм, как пародию на салонные жеманные киноленты и злую сатиру на буржуазное общество, особенно заинтересовался постановочной стороной дела. Владимир Леонидович заверил Луначарского, что каких-то особых феноменальных секретов в работе не было. В художественную ткань фильма включались такие эпизоды, с такими номерами, примерами дрессировки, которые были уже опробованы, обкатаны на публике, которые были для животных привычны, более того – для них интересны в игровом отношении. Скажем, в сцене сбора гостей в кабаре обращает на себя внимание лихой наездник дог – он так лихо скачет на ослике, что можно подумать, будто весь век свой провёл на скачках! Оказывается, Владимир Леонидович увидел подобное озорство дога на репетициях и постарался закрепить этот навык, сделать его ещё правдоподобнее, ещё комичнее. Ведь в данном фильме ситуация такова: чем животные серьёзнее что-то делают перед экраном, тем забавнее будут в итоге их действия для зрителей.
Как кинематографист я в разговоре с Анной Владимировной обратил внимание на то, что все сцены сняты на среднем плане (ну, почти все, во всяком случае!). Анна Владимировна сказала так: «Во-первых, это дань тем фильмам, которые мы пародировали, во-вторых, – веление времени и техники съёмок, а в-третьих, – на общем плане зверюшки смотрелись бы мелковато. Что же касается крупного плана, то и звери испугались бы киноаппарата, и экран увеличил бы какие-то черты и подробности, которые от такого увеличения бы пострадали. Каждая маленькая сцена снималась отдельно. Получилось, удалось – надо было срочно фиксировать полученный результат! Если представление «И мы как люди» было бы спектаклем, то от многих эпизодов пришлось бы отказаться, а другие пришлось бы сократить или упростить. Сам процесс фильмопроизводства пошёл нам как дрессировщикам на пользу. Отец потом не раз говорил, что работа над фильмом многому его научила, показала какие-то новые, совершенно неожиданные, неведомые грани дрессировки!»
Я подхватил эту мысль и напомнил Анне Владимировне, что несколькими годами ранее Лев Толстой, посмотрев всего лишь несколько кинолент, пришёл в восторг и заявил, что киноаппарат произведёт переворот в художественном сознании и мышлении, совершит революцию в мире литературы и искусства. На это мне Анна Владимировна ответила, что и отец её к киноискусству относился очень серьёзно, внимательно следил за текущим репертуаром, знал режиссёрские и актёрские имена, интересовался проблемой экранизации произведений литературы.
На мой вопрос, почему же Владимир Леонидович не повторил опыт ленты «И мы как люди», Анна Владимировна сказала, что тут несколько причин: и отсутствие продюссера, и дороговизна, и занятость другими делами, и увлечение уже чисто научными съёмками, которые впоследствии Владимиру Леонидовичу казались более интересными, чем игровое кино.
А потом мы в нашей беседе вернулись к фильму «И мы как люди». Я неожиданно даже для себя спросил: «А почему у Пика такая странная кличка?» Оказывается, пёсик был совершенно белый, но на спине его чернело пятно в форме пикового туза. Вот и назвали его так в шутку! С этим именем он и прославился как киноартист русского дореволюционного кино!
Кинолента «И мы как люди» была замечена. Портреты сенбернара Лорда в роли дядюшки-опекуна Мими облетели многие газеты и журналы мира. Он, действительно, был самым колоритным и комичным изо всех других героев фильма. Мне довелось видеть экземпляр фильма с титрами на немецком языке. Анна Владимировна говорила мне, что фильм шёл и в других странах, не только тех, где в ходу немецкий язык. Появились в прессе и отзывы. Вероятно, это первый и, скорее всего, последний пример из истории кинокритики, когда рецензент анализировал «на полном серьёзе» «работу» четвероногого артиста: «Пёс Пик, исполняющий главную роль, передавал очень естественно то, что требовалось по смыслу постановки… Пик натурально волновался, отыскивая свою возлюбленную. У него даже появлялись слёзы на глазах, когда это было нужно режиссёру-постановщику…»
Конечно же, собака сценарий не читала и даже не знала, кого она изображает, однако, всё делала точно по велению режиссёра. «Я играл, – вспоминал Владимир Леонидович, – её чувствами, меняя по желанию настроение собаки: радость сменялась тоской и отчаянием и обратно…»
Впоследствии Владимир Леонидович в своей книге «Дрессировка животных» вспоминал о своей работе над фильмом «И мы как люди» и иронически отмечал особенности этой работы: «Четвероногие артисты гораздо лучше и надёжнее двуногих: не капризничают, не требуют авансов. К своему делу относятся честно и старательно…»
Работа над фильмом оставила добрый след в памяти дедушки Дурова. Он с удовольствием и весёлостью вспоминал о ней. Ведь он не только развил и вознёс на небывалую высоту искусство дрессировки, не только испытал себя в новой творческой профессии – в качестве сценариста и кинорежиссёра, но и показал себя прекрасным знатоком современного ему кинематографа, все штампы и безвкусные приёмы которого высмеял зло и беспощадно. Одновременно он высмеивали современное ему высшее общество.
Кинолента сыграла и ещё одну роль – роль историка циркового искусства и дуровской династии, ибо история Дуровых – это одновременно и история особенно ярких выдающихся их питомцев. Мы можем читать о собаках Бишке, Запятайке, легендарной Каштанке, имя которой увековечил Антон Павлович Чехов, о верблюде Чижике, но всё равно нам не представить себе, как они двигались, какими были артистами на арене. Но вот перед нами фильм – живая летопись мастерства дуровских питомцев!
Связь с киноискусством Владимир Леонидович работой над фильмом «И мы как люди» не ограничил. Но об этом – позже. А пока обратимся к школьному детству Юрия Владимировича Дурова, дедушкиного внука и сына.
Беспокойное отрочество
Дед задумал дать непослушному внуку вполне приличное образование. С этой целью он определил его… в женскую частную прогимназию Ржевской! И маленький Юра оказался единственным мальчишкой среди девчонок. Дед, вероятно, решил, что девочки будут оказывать благотворное влияние на непослушного мальчугана. Ржевская была давней знакомой Владимира Леонидовича и лишь поэтому согласилась выполнить его странную и необычную просьбу. Она ведь являлась полноправной хозяйкой своего небольшого учебного заведения, которое при новой власти доживало свои последние сроки.
Надо отдать должное – учили в прогимназии Ржевской толково, старательно, можно сказать со всей определённостью, – обстоятельно, и Юре многое запомнилось на всю жизнь. Редко, но всё же ему доводилось в последующие годы встречаться со своими бывшими соученицами. Среди них была, например, известная артистка балета Горская.
Тем временем события на фронтах Гражданской войны приносили всё новые и новые вести. Белогвардейцы были изгнаны из Крыма. Помощник Владимира Леонидовича Н. П. Волков получил возможность доставить наконец-то в Москву на родную Божедомку остатки зверинца. Многие из животных погибли, другие порядочно ослабели от голода. Совсем больным приехал любимец дрессировщика слон Бэби. Ему так требовалось тепло! Но в Уголке зверей стоял холод. Слон на поправку не пошёл и слёг.
Вся семья Дуровых пыталась поставить слона на ноги, но Бэби не поднимался, несмотря на самый внимательный и заботливый уход. Собственный вес ему уже был не по силам. Не помог бедняге даже пуд моркови, с неимоверным трудом раздобытый у спекулянтов, ни все одеяла, отданные из дома в зверинец, чтобы согреть слона. Бэби погиб. Плакали все члены семьи, плакали все служащие, которые тоже очень любили и ценили четвероногого артиста.
Трагикомичным было последнее выступление Бэби перед зрителями в Симферополе. На улицах шла стрельба. От случайно залетевших в цирк пуль погибли учёные пеликаны. Служащие в панике разбежались. И тогда Бэби, почувствовав сильный приступ голода, оторвался от привязи и вышел на улицу. Тем временем стрельба утихла, и тотчас же у булочной образовалась большая очередь за хлебом. Дисциплинированный слон занял место в хвосте очереди, хотя запах хлеба его манил и тревожил. Увидев столь необычного посетителя, точнее покупателя, очередь буквально растаяла на глазах, а Бэби, оставшись один, великолепно перекусил, отправив в свой рот весь хлеб на всех полках, после чего вежливо стал раскланиваться перед стоящими в отдалении покупателями. И тогда они поняли, откуда появился такой ненасытный покупатель, и немного успокоились. Правда, все они на сей раз остались без хлеба – поступления из запасов не предвиделось.
«Бэби» в переводе с английского «ребёнок», «дитя», «малыш», в конце концов! Ничего себе малыш! Бэби был довольно большим и сильным слоном. Откуда же такое имя? Знаменитый немецкий торговец животными Карл Гаген-бек продал Владимиру Леонидовичу «карликового» слона. Дедушка Дуров и в молодости был очень доверчивым человеком и даже представить себе не мог, что столь уважаемый и авторитетный зоолог его обманет. А слон между тем рос и рос, не по дням, как говорится, а по часам, и выяснилось, что он никакой не карликовый, а самый обыкновенный слонёнок, который должен стать большим и сильным слоном. Вот почему его так и назвали – Бэби!
А тем временем шли будни – день сменял день в Уголке зверей на старой Божедомке. Наконец-то решился вопрос, давно заботящий дедушку Дурова, – об организации детских представлений в помещении самого Уголка. Каким бы ни были выездные спектакли, но должен быть и стационар! Даже драматические, оперные и балетные артисты, как правило, лучше играют на своей сцене. Что же говорить о животных!..
Маленьких зрителей особенно увлекала зрелищная сторона спектаклей: на сцене восходило солнце, пенились волны, набегая на берег, где приютилась водяная мельница. Трудолюбивый хорёк привозил мешки с пшеницей, суетились помольщики – морские свинки, мыши растаскивали зерно. Каждый делал, что мог и что умел. Мельница работала полным ходом!
Уголок зверей имел и своего «крёстного». Им стал Анатолий Васильевич Луначарский. На премьеру нарком приехал вместе с женой и детьми. Два сына наркома, почти ровесники Юры, были одеты в красноармейскую форму: на них красовались маленькие будёновки и длинные кавалерийские шинели. В Юре заговорила мальчишеская зависть и он… подрался с Тотошей Луначарским. Так звали в детстве в домашнем кругу сына Анатолия. Впоследствии Юрий Владимирович не раз встречался с молодым литератором Анатолием Луначарским, а после окончания Великой Отечественной войны с горестью увидел его имя на мраморной доске в Центральном Доме литераторов. На этой доске – имена тех писателей, кто не вернулся с войны…
А дедушка Дуров придумывал себе всё новые и новые заботы. Без дела он себя не мыслил! Зимой все животные Уголка жили в тёплых помещениях, а летом Владимир Леонидович старался создать для них естественную обстановку на воле по примеру Гамбургского зоосада Карла Гагенбека. Подобная обстановка отчасти была впоследствии создана в Московском зоопарке.
На ветвях фруктовых деревьев, словно в райском саду, сидели попугаи. Между двумя горками бегали на приволье лисицы и барсуки. Из грота выглядывал ещё слабый от недоедания горный орёл. А за садом шло поле. Давно это было! С тех пор Москвы совсем не узнать! А в ту пору на территории бывшего Екатерининского парка устраивались народные гуляния. Москвичи кружились на каруселях, качались на качелях, смотрели балаганные представления с участием чудо-силачей, дев-сирен и шпагоглотателей. Деды-зазывалы выкрикивали:
Представление начинается! Сюда, сюда все приглашаются! Стой, прохожий! Остановись! На чудо наше подивись!Владимиру Леонидовичу нравилось это веселье, это раздолье забав и шуток. Ему вспомнилось начало его творческого пути. Он сравнивали сопоставлял времена, отмечал про себя, что ушло навсегда, а что ещё осталось…
Вот здесь-то и решил дедушка Дуров устроить свой балаган-зверинец! На балконе медведь-«зазывала» бил в колокол, приглашая на представление. И народ шёл в дуровский балаган, предпочитая его всем остальным. В дуровском балагане не только показывались дрессированные животные, но и показывался процесс дрессировки. Это было подлинным новаторством, причём, новаторством смелым. Во всяком случае, у многих цирковых артистов это начинание Владимира Леонидовича восторга не вызывало. А молва о новой затее дедушки Дурова быстро по Москве разнеслась!
Что там дрессировка, её отдельные приёмы, когда на глазах у зрителей проводились и репетиции, вообще – святая святых работы! Новым видом представлений заинтересовались и учёные. А неугомонный Владимир Леонидович уже задумал новое дело – научную зоопсихологическую лабораторию при Уголке зверей. Экспериментируя, он учился сам и привлекал научные силы к своим опытам.
Особенно его волновали игры зверюшек. Он восторгался непосредственностью их движений, тщательно изучал их привычки, постоянно стремясь отличить то, что присуще тому или иному виду от того, что характерно именно для данного экземпляра. Как я потом убедился, на эту тонкость авторы книг и статей о Дуровых не обращают пока должного внимания. Ведь для Владимира Леонидовича не было просто собак или даже просто фокстерьера, а был прежде всего любимый конкретный фокстерьер, как он его в шутку называл, «Пик Пикович Фокс-Теръеров»!
Юрий Владимирович ещё в Хабаровске рассказал мне о такой памятной ему сценке. Маленькая собачонка грызла большую кость. Это привлекло внимание ненасытного орла. Он подлетел к ней и стал отбирать у неё добычу. Завязалась неравная битва. В пылу схватки орёл захватил собачку когтями и поднял её вместе с костью в воздух. Окрик проходившего мимо Владимира Леонидовича заставил хищника бросить жертву на землю. Собака взлетела невысоко и не разбилась. Мужественный и стойкий нрав пёсика очень потом пригодился в дрессировке. А другая собачонка такой же породы и того же примерно возраста могла бы в данной ситуации повести себя совершенно иначе: потерять навсегда способность выступать одна или, что вероятнее всего, – вместе с другими животными.
И об этой истории поведал с восторгом и почти детской непосредственностью и изумлением Владимир Леонидович Анатолию Васильевичу Луначарскому. Одна из таких бесед ясно запечатлелась в памяти Юрия Владимировича Дурова. По его словам, дед убеждал Луначарского в уникальности ситуаций, связанных с животными, особенно дрессированными, в значении киносъёмок для науки:
– Человек, особенно, если он актёр, ещё может повторить сознательно ту или иную сценку, удачный жест, а животное, пусть и самое талантливое, именно так уже не сделает! Короче говоря, без кинотехники не обойтись!
В итоге разрешение на поездку за рубеж было получено, средства изысканы. Кроме кинозабот Луначарский возложил на Владимира Леонидовича покупку редких животных у звероторговой фирмы Карла Гагенбека в Гамбурге, и дедушка Дуров спешно засобирался в дорогу.
Взять Юру с собой дедушка не мог, а отправлялся в Германию он надолго. С кем же оставить внука? Дед поразмышлял и рискнул отдать Юру на время своей заграничной поездки в детский дом. Юра встретил дедовское решение без энтузиазма, но особенно не печалился: что ж, детдом, так детдом, тоже по-своему интересно!
Больше всего в детдоме Юра интересовался книгами – библиотека там и впрямь была неплохая. Он до самозабвения зачитывался приключенческими романами Майн Рида и Фенимора Купера, его воображение захватили картины прерий, чудесные экзотические звери… В конце концов, он решил убежать… в Америку!
О своём решении он никого не предупредил, ни с кем из товарищей не поделился, считая, вероятно, что этот «подвиг» достоин того, чтобы совершить его исключительно собственными силами и непременно в одиночку.
Решение принято, но как его осуществить? Америка далеко, на трамвае не доехать. К тому же она – за океаном. Значит, надо править поближе к морю и к тому морю, которое поближе к Атлантическому океану. Итак, – Балтика! Выходит, придётся сперва добраться до Петрограда, а там как-нибудь в Кронштадт, а уж из Кронштадта на океанском корабле!.. Мальчишеское воображение разыгрывалось всё больше и больше.
И вот маленький Дуров, проводивший дедушку в Германию, один на вокзале. Какой-то сердобольный машинист паровоза согласился довезти его бесплатно до Петрограда. Юра насочинял ему, что едет разыскивать раненого отца-красноармейца, которого ждёт-не дождётся домой в Москву серьёзно захворавшая мать, работница фабрики…
Живость воображения и склонность к сочинительству у Юры в детстве были необыкновенные. Слушая со смехом рассказы Юрия Владимировича о его выходках, забавах и выдумках, я не раз сожалел о том, что Юрий Владимирович не стал пытаться написать хотя бы несколько рассказов о своём детстве. Это была бы увлекательная книжка! Особенно её горячо приняли бы мальчишки среднего школьного возраста!
Поскольку литературные ассоциации в работе над этим повествованием владели мною постоянно, я невольно стал сравнивать маленького Дурова с известными мне литературными героями и пришёл к выводу что ближе всех он по духу и даже по складу характера к Лёньке Пантелееву герою повести Алексея Ивановича Пантелеева, с которым мы были добрыми приятелями.
… Итак, фантазия помогла нашему герою в итоге добраться до Кронштадта, только на сей раз, по Юриной легенде, отец был краснофлотцем.
Вся эта эпопея закончилась довольно прозаически: Юра оказался в детдоме, только уже не в простом, а в особом – для малолетних правонарушителей! Кое-что там действительно напоминало корабельную жизнь, была своя романтика. Воспитателями, «дядьками», служили отставные боцманы, не расставшиеся со своими корабельными дудками.
Система воспитания в колонии была, мягко говоря, своеобразная. Ребята бездельничали, были предоставлены сами себе почти весь день. Детдом размещался неподалёку от кронштадтского морского кладбища, и любимым развлечением детдомовцев стало плавание по заливу в футлярах от похоронных венков!
По утрам ребят выстраивали у столов, на которых стояли чашки с чаем и булки. Вместо традиционной прежней молитвы они пели куплет из «Интернационала». Этим самым дядьки-боцманы прививали детдомовцам «революционность», хотя никакими революционерами сами они не были. Изнанка дела во всём оказалась старорежимная. Когда кто-то из ребят стащил несколько булок из кладовой, всех построили и повели в старую кладбищенскую часовню. В мрачном подземелье с одним из мальчишек случился нервный припадок, и только тогда дядьки испугались и вернули ребят в столовую, допустив наконец к остывшей каше.
После этого происшествия Юра вместе с одним шустрым пареньком написали жалобу в наробраз и нашли способ передать бумагу по назначению. Приехала комиссия, началось долгое разбирательство, а Юра тем не менее твёрдо решил покинуть это «богоугодное место». Ему удалось узнать адрес дальнего родственника со стороны бабушки – доктора Миглицкого, дяди Пети, как Юра звал его с детства. Дядя Петя тотчас откликнулся, взял «племянника» на поруки, и отрок был выдан под расписку.
А в Петрограде Юру встретила радостная весть – в здешний цирк приехал… дедушка Дуров! Завершилось его заграничное турне. Юре очень хотелось скорее вернуться домой, на старую Божедомку, но как показаться деду на глаза после всех его фокусов явно не циркового свойства? И тогда Юра придумал такой вариант – написать письмо тёте Ане, то есть Анне Владимировне, письмо в стихотворной форме.
Сам Юрий Владимирович никак не хотел автору сего повествования показывать свой ранний литературный опыт. Рукопись, конечно, не сохранилась, а на память какие-то строки в конце концов он согласился воспроизвести:
О, тётя! Как Вы не судите, хотя мальчишка я плохой, за путешествие простите! Спокоен буду я душой!..И так далее, и тому подобное… В общем – монолог кающегося грешника!
Письмо отправилось в дальний путь из Петрограда в Москву, а Юра направился в цирк, на галёрку. Слава деда была в зените! Цирк гремел от аплодисментов! Ребята буквально завалили дедушку Дурова цветами, и растроганный Владимир Леонидович произнёс слова благодарности, подчеркнув, что из всех зрителей больше всего любит ребят.
Это заявление обнадёжило блудного сына (и одновременно – внука!), хотя сразу же предстать перед дедовскими очами он не рискнул. Заночевал в манеже на сетке, оставленной после полёта гимнастов. А что? Мягко и удобно! А в цирке было тепло, и Юра уснул, как дома, светло и безмятежно. А в сущности говоря, арена и была всегда в его жизни родным домом!
Утром цирковые служащие нашли нежданного гостя и показали его самому Дурову… Никакой расправы над внуком он не учинил, даже обошлось дело без подзатыльника. Был просто долгий и страстный монолог огорчённого и обиженного старика. И вот это-то на Юру и подействовало сильнее всего! Ему стало стыдно, неловко и горько, и он дал себе слово во всём помогать деду.
Первое боевое задание оказалось очень необычным даже для видавшего виды циркового мальчишки.
Дедушка снова куда-то отлучился, внука временно поселили в Петроградском цирке и поручили ему кормить… козла для научных целей. Дело в том, что доктор Миглицкий вёл научную работу в Институте экспериментальной медицины. По его просьбе Владимир Леонидович дал ему козла для каких-то научных экспериментов. Юра должен был кормить этого козла исключительно куриными яйцами – таково было условие задуманного эксперимента. От яичной пищи у козла должна была развиваться некая особая железа. Впрочем, во все тайны эксперимента отрока не посвящали, зато вручили ему первую сотню яиц и деньги для дальнейшей покупки этих хрупких продуктов питания.
Козёл к яйцам относился равнодушно, ел их исключительно из-за необходимости. Маленькому научному сотруднику стало жалко козлика, и он перевёл бедное животное на сено и овёс, что, разумеется, козлу больше нравилось, а сам великолепно питался омлетами и яичницами-глазуньями. Вообще, Юра рос озорным и, как видите, в пай-мальчики не годился!
Когда через некоторое время дядя-учёный обследовал «яичного» козла, то оказалось, что нужная железа нисколько не развилась. Зато воспитатель козла заметно пополнел и окреп после своих скитаний по детским домам.
…Из-за границы дедушка Дуров привёз немало интересных животных: слониху Нону молодого шимпанзе Мимуса, пять гиен (четырёх пятнистых и одну – самую страшную, – полосатую!). Небывалых на Руси звериных артистов сопровождал дрессировщик Бауэр, торговый представитель фирмы Гаген-бека. Бауэр постоянно подчёркивал, что все эти звери уже обученные. Однако бауэровская дрессировка была не ахти какой сложной и изобретательной: гиены по велению бича поднимались на тумбы, прыгали через кольца. В общем, работа довольно примитивная.
Вот к этой-то группе мрачных существ и прикрепил своего внука и воспитанника, пояснив, что он находится в таком возрасте, когда не работать уже нельзя ни в коем случае. Так и начался путь Юры в цирковом искусстве.
Гиены Юре не понравились – противные зверюги! Рычат, как будто хихикают. Но нравится – не нравится, а работать надо. И он поневоле овладел основными приёмами как по общей дрессуре, так и по конкретной, касающейся именно гиен. Немало читал о них, слушал пояснения деда, а самое главное – перестал их бояться на репетициях и представлениях.
Впервые дрессированных гиен дедушка Дуров показал в Ростове-на-Дону, затем – ив других городах. Интерес номер вызывал, но чувствовалось, что зрители номер в целом воспринимают неважно, а к гиенам испытывают не столько боязнь, сколько отвращение. А в Москве на детском утреннике гиены так перепугали ребят (в зале стоял сплошной рёв!), что номер с того дня был обречён. Юра-ассистент дрессировщика расстался с гиенами без сожаления. И всё же ничто не проходит бесследно: первый профессиональный опыт, первая школа, первые выступления – всё это навсегда осталось в памяти будущего мастера цирка.
И тут необходимо сделать следующее отступление. Рассказывая мне о своих детских и отроческих годах, Юрий Владимирович не раз сокрушался, что многое недопонял, недооценил, находясь постоянно с дедом. «Большое видится на расстоянии» – эти есенинские слова Юрий Владимирович приводил в беседах со мною не раз. Он относился к деду прежде всего как к родному и самому близкому человеку и далеко не всегда представлял себе его подлинные творческие масштабыj его значение в истории отечественной культуры и науки. Ограничивать мир его интересов только цирком было бы в высшей степени несправедливо. А в последнее десятилетие он вообще был мало связан с цирком. В 1924 году дуровский Уголок зверей перестал служить репетиционной площадкой, где многие годы животных готовили для работы на манеже. «Уголок» переименовали в «Практическую лабораторию по зоопсихологии при Главнауке».
Участие в работе этой лаборатории – вот неоценимая школа для будущего дрессировщика! Но Юрой овладела страсть к актёрскому искусству…
Я написал эти слова и остановился. Дальше строка моя что называется не шла! И тогда я решил по горячим следам показать написанное Юрию Владимировичу: он прочитал начальные главы повествования довольно быстро, текстом остался доволен, особенно отметил интонацию и композицию. Я пожаловался ему, что работа моя приостановилась, что мне не совсем ясны отношения, которые сложились в ту пору у внука и деда. Юрий Владимирович кивнул понимающе головой, помолчал с грустью и так мне ответил:
– Это сейчас мне ясно, что судьба поставила меня рядом с редчайшим человеком, выдающимся разносторонним талантом, крупным деятелем культуры. Мне и тогда было известно, что дедушка мечтал о близких ему последователях, учениках, продолжателях его дела. Некоторые надежды он, видимо, возлагал и на меня. Но его постоянно разочаровывал в ту пору мой метущийся, непоседливый нрав. Я рвался из мира зверей в мир, если так можно выразиться, человеческого, актёрского искусства, всерьёз помышляя о работе в кино, театре, на эстраде. К профессиональной работе с животными я вернулся уже значительно позднее. Всё это не могло не нарушить моей близости с дедушкой, о чём я пожалел тогда, когда было уже слишком поздно!..
И, вы знаете, кем он с годами всё чаще представляется мне, когда я его вспоминаю? Литератором, даже в большей степени, чем дрессировщиком, и учёным, исследователем. Он был близок к литературному миру, дорожил им, в своё время был другом Чехова и другом детства Куприна. Без него не стало бы «Каштанки» и «Белого пуделя». Правда, сам он беллетристом не был. Его жанры – очерк, художественная публицистика, памфлет, научно-популярный очерк, однако, и в самых, казалось бы, специальных книгах чувствуется живость, образность его слога. Некоторые из этих книг создавались у меня на глазах, а материалом большинства книг был животный мир Уголка, окружавший меня с детства.
Никогда не забуду чествования дедушки в день 50-летия его творческой деятельности. К переполненному залу из-за тяжёлых портьер подтянутый и помолодевший на манеж легко выбегает (!) Владимир Леонидович Дуров, которому тогда было уже под семьдесят лет \ Лучи прожекторов, как в фокусе сошлись на его выпрямившейся фигуре, облачённой в традиционный «дуровский» костюм. Широким жестом он поднял руку, и сразу в тысячной аудитории наступила та изумительная тишина, которая выражает самый уважительный приём любимого артиста.
Дедушка заговорил вдумчиво и взволнованно. Голосом трибуна он произнёс лучший из своих стихотворных монологов «Полвека я ношу шута названье…»:
… И много лет служа душой народу, я ждал, когда же, наконец, увижу я желанную свободу и оживёт народ-полумертвец? И ожил он. Мозолистые руки низвергли гнёт былого навсегда. Рабочий люд под скипетром науки творит свой мир – мир братства и труда…Конечно же, он и брат его Анатолий не ждали этих новых дней пассивно. Они превратили арену цирка в политическую трибуну, а право на такую трибуну можно было завоевать лишь выдающимся мастерством.
На арене Владимир Леонидович был обаятелен и артистичен. От него исходили радость, веселье. Он наполнял жизнерадостностью своих зрителей и слушателей. Взрослые зрители часто говорили о нём: «Дуров – это одно из самых ярких воспоминаний детства». Дети дедушку Дурова просто обожали! Ведь это он сделал для них явью чудесные басни Крылова о забавных и умных зверюшках!
Да, он был выдающимся артистом-исполнителем! Его имя не раз ставили рядом с именами больших артистов драматической сцены…
Юрий Владимирович увлёкся, был, что называется, в ударе. Я внимательно слушал его, боясь даже уточнительным вопросом прервать его монолог. Вообще же, прямо скажу, разговорить его было непросто. И вовсе не потому, что он не хотел говорить, не желал делиться воспоминаниями, нет! Он был слишком сосредоточен на своей текущей работе, которая его притягивала к себе невидимым магнитом даже на далёком расстоянии.
Пожалуй, именно тогда, в Хабаровске, он впервые на моей памяти позволил себе немного раскрепоститься, отрешиться от текущих дел: и гулял много, и вот, как вы уже знаете, к тигроловам Богачёвым согласился съездить…
Там же, в Хабаровске, я после нашего долгого задушевного разговора начал главу, которую назвал так:
Окольные дороги на манеж
Почему окольные, вы узнаете и согласитесь с этим определением. И всё-таки – на манеж\ Как от него не уходил Юра, а манеж от себя не отпускал надолго. Впрочем, всё по порядку.
… А между тем Юра всё больше и больше влюблялся в театр. Чего он только не предпринимал в те годы, чтобы проникнуть на любой спектакль, киносеанс или концерт! Ради билетов он даже подружился с подростком Гришей – билетёром кинотеатра «Молот» и сада при Доме Красной Армии. Этот военный клуб был открыт в здании бывшего Института благородных девиц. Это теперь там сплошной асфальт, цветники, а в ту пору по склонам горы Ивана Воина, где нынче военная гостиница, росла высокая, густая и довольно сочная трава. А «уголковским» обезьянам требовалось молоко. Бабушка приобрела корову которую Юра должен был пасти. Он добросовестно выполнял роль пастуха весьма недолго. Непоседливый нрав сказывался постоянно во всём! Кормилица обезьян оставалась привязанной к колышку а пастух отправлялся на пруд: купаться, кататься на лодке и учиться плавать. С плаванием дела шли неважно. Однажды эти уроки чуть было ни привели к трагическому исходу: Юра захлебнулся и стремительно пошёл ко дну. Окрестные ребята с трудом вытащили его на берег и откачали, а потом с удовольствием приняли его в свою компанию. В сущности говоря, внук выдающегося циркового артиста ничем внешне не отличался от московских мальчишек этого в ту пору ещё совсем тихого и провинциального уголка столицы.
Дуровская бурёнка была с норовом. Как-то под вечер она сама отвязалась и направилась в Уголок зверей, не дождавшись своего нерадивого пастуха. Бабушка пришла в ужас! Не утонул ли внучёк? Не случилось ли с ним что-нибудь опять?..
А внук тем временем, позабыв обо всём на свете, упивался у летней эстрады космическими рассказами Полевого-Мансфельда «Барышня в кафе», «Старуха на курорте» и другими. Его стали очень привлекать комедийные жанры, особенно бытовые зарисовки. Восхищал и артистический талант Полевого, мгновенно перевоплощавшегося то в барышню, то в старуху, то в хулигана… Вот на кого он хотел быть похожим – на автора-исполнителя, чтобы покорять своим талантом эстрадного зрителя!
В домашнем кругу говорили, что Юра неплохо читает – у него отличная дикция, звучный голос, приятный тембр. И он возмечтал стать театральным артистом! Удивляться тут нечему – повлияла среда. Да ещё какая!.. Его тётушка Анна Владимировна Дурова вышла замуж за великолепного артиста Малого театра Прова Михайловича Садовского и стала Дуровой-Садовской. Новая семья стала жить в доме на Божедомке, который буквально как в сказке превратился на глазах у домочадцев в театральный клуб. К супругам Садовским и к дедушке Дурову, общительному, весёлому человеку, превосходному собеседнику, стали часто на огонёк заглядывать гости, одни имена которых вызывали у юного театрала восторг. Достаточно назвать таких известных мастеров сценв, как А. И. Южина-Суматова, А.А. Яблочкину, В. Н. Пашену. Приходили и молодые артисты: Николай Рыжов, Виктор Ольховский. Наталья Сац и Сергей Розанов представляли детский театр.
На семейных вечерах звучала гитара артиста Сашина-Никольского, виднейшие артисты читали стихи, монологи, устраивались импровизированные концерты. Владимир Леонидович веселил гостей игрой на одной струне, натянутой на бычий надутый пузырь. Гости и хозяева любили просто посмеяться, подурачиться. Они выглядели порою беззаботными, как дети, и Юру поражала их раскованность, их талантливость, сквозившая буквально во всём!
Юрий Владимирович не раз жаловался мне, что не запомнил тех искромётных шуток, экспромтов, сценок… В свою очередь, участники дуровских вечеров вряд ли запомнили парнишку, почти подростка, который уважительно подавал им пальто в передней старого дома на Божедомке.
И вот, напитавшись театральных впечатлений, Юра предпринял обход театральных студий, которые плодились в тогдашней Москве, как грибы. Состоялась и новая встреча с музой кино, причём, при довольно забавных обстоятельствах.
В один из тёплыхлетних вечеров 1925 года Юра отправился к бабушке на дачу в Кунцево. Я знаю этот московский пригород, в наши дни полностью слившийся с Москвой, но в ту пору это было тихое и по-своему уютное дачное место. Однако юному Дурову любоваться красотами времени не хватало – ему поручили поливать огород и дали в помощники ослика, который прибыл на дачу из Уголка зверей по жаре и решительно не хотел работать, подтверждая своё ослиное упрямство. Охотнее выполнял Юра разного рода поручения бабушки, связанные с поездками в Москву. И на сей раз он сел в пригородный поезд, вооружённый бидоном для подсолнечного масла…
…Написал я эти слова и подумал: «Читатель уже привыкший к проказам Юры, наверняка догадается, что масло он не привезёт!». И этот читатель будет прав. Так и вышло на самом деле.
Прибыл поезд на Александровский (ныне Белорусский) вокзал, а на площади народу – тьма! Оказывается, толпа ожидает поезда со знаменитыми американскими кинозвёздами той поры Мэри Пикфорд и Дугласом Фербенксом. Юра знал этих артистов. Обаятельную Мэри он видел в фильме «С чёрного хода», а ловкий прыгун поразил его воображение в кинолентах «Робин Гуд», «Знак зеро» и «Багдадский вор».
Бабушкино поручение мгновенно вылетело из головы, бидон упал и куда-то укатился, когда поклонник знаменитостей пробирался в толпе поближе к перрону. Толпа была такой густой, что протиснуться сквозь неё не хватало силёнок. И вдруг она расступилась… перед автомобилем кинохроники, на котором важно восседал кинооператор В.Н. Головня. Он узнал парнишку, которого снимал ещё в детских ролях, и любезно предложил место в автомобиле.
Прибытия гостей ожидали с парадного подъезда. Но, как потом выяснилось, Мэри испугалась толпы. Тогда изобретательный Дуглас вместе с женой совершил головокружительный прыжок через забор и скрылся в гостинице от докучливых почитателей. Но толпа не успокоилась, развернулась и устремилась по Тверской улице к отелю «Савой». Киномашина толпу опередила. Юра схватил чемоданчик с киноплёнкой и на правах ассистента оператора ворвался в номер!..
Мэри милостиво встретила начинающего «коллегу» и даже погладила его по курчавой голове. А толпа между тем запрудила Пушечную улицу и скандировала под окнами «Савоя»:
– Мэ-ри!.. Дуг-лас!..
Мэри любезно показывалась зрителям у одного окна, а Дуглас – у другого. Так они раскланивались много раз. Однако публика жаждала видеть супругов вместе. И тогда Дуглас проделал очередной головокружительный трюк: взяв Мэри на руки, он выбрался с нею наружу и по карнизу верхнего этажа прошёл от одного открытого окна до другого…
Публика ахнула от удивления! Потом завыла от восторга, разразилась овациями и, удовлетворённая острым зрелищем, стала растекаться по домам.
А в гостиничном номере стрекотала кинокамера. Юра при сём присутствовал и узнал план экскурсии Дугласа и Мэри по Москве. Затем всё закружилось, завертелось! Он последовал за гостями в Третьяковскую галерею, потом в Петровский парк, где снимался короткометражный фильм под названием «Поцелуй Мэри», в котором удалось сняться и Юре, правда, где-то там, на третьем плане, в качестве статиста.
Стоила ему эта очередная встреча с миром кино недёшево! Был строгий выговор от бабушки за возвращение на дачу без масла, бидона и денег. Всё порастерял восторженный парень! Зато приобрёл непреодолимое желание во что бы то ни стало получить профессию актёра!
А тут из гастрольной поездки вернулся дед. Ни о каком кино он и слышать не хотел и увёз внука вместе с цирком. Но осенью Юра всё-таки поступил в ГТК – Государственный техникум кинематографии, как именовался с 1925 года будущий ВГИК. На первых порах он помещался в старинной башне Никольских ворот теперь не существующей стены Китай-города. Позднее это единственное в своём роде учебное заведение переехало в роскошное здание старого ресторана «Яр», воспетого в цыганских романсах. Помните, «Соколовский хор у “Яра” был когда-то знаменит. Соколовского гитара до сих пор в ушах звенит…». Нынче это здание перестроено в гостиницу «Советская».
Мне ГИК той поры дорог и близок тоже. Там я ведал делами сценарными и помогал режиссёрам формировать учебный репертуар[130]. Вместе с Чеславом Сабинским и Абрамом Роомом мы организовали небольшую кооперативную студию, где ставили комедийные короткометражки вроде забавной ленты «Гонка за самогонкой».
Я работал со студентами, встречал их на пороге новой неведомой жизни в начале учебного года и до сих пор удивляюсь, как мы тогда не встретились с Юрием Владимировичем! А ведь вполне могли познакомиться и подружиться уже тогда, в середине двадцатых годов! Живо представляю себе, как он с трепетом входит в храм музы кино и попадает… в цирк! В гимнастическом зале будущие артисты кино качаются на трапециях, бегают по канату, кувыркаются на ковре, пытаются овладеть тайнами кульбита и сальто.
Да, в то время и театр, и кино преклонялись перед цирком, черпали в его раскованности, раскрепощённости вдохновение. Цирковой трюк был едва ли не главным средством воздействия на зрителей во многих фильмах и спектаклях. Вспомните хотя бы «Приключения мистера Веста в стране большевиков» Льва Кулешова, «Красных дьяволят» Ивана Перестиани. Иногда это оправдывалось сюжетом, характерами, обстоятельствами, памфлетностью образов, но порою подобное увлечение принимало формы несуразности, особенно при экранизации классики и постановки реалистической драмы на сцене. Наиболее забавным и характерным будет наверняка пример с постановкой гоголевской «Женитьбы» неким театром «Колумба» в сатирическом романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
Кинодокументалисты и новаторы игрового кино в своих поисках шли дальше, и их опыты были плодотворнее. У молодых Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова, Григория Козинцева и Леонида Трауберга рождался так называемый «монтаж аттракционов». От актёров и натурщиков требовалась пластика особого рода, которая была, прямо скажем, родом из цирка.
А Юре Дурову было немного странно учиться в театре и кино тому, что он уже знал в цирке: боксу у артиста Самойлова, гимнастическим этюдам – у Владимира Плясецкого и Ады Войцех, которая весьма неплохо ходила по проволоке…[131]
Была, конечно, и теория, существовали и лекционные занятия, но студенты больше любили живое товарищеское общение с такими мастерами, как Яков Протазанов и Владимир Гардин. Охотно встречались с кинематографическим «молодняком», как тогда говорили, сами молодые Сергей Эйзенштейн и Всеволод Пудовкин.
ГТК ставил и свои фильмы, таким образом организуя производственную практику. Первым подобным опытом стала кинолента «Банда батьки Кныша». Роль главаря банды играл Николай Салтыков, прежний партнёр Юры Дурова по его, ещё детским ролям, а Юра исполнял роль одного из членов страшной шайки, что ему очень нравилось: шутка ли – скакать во весь опор на неосёдланной лошади! И опять, роль чисто каскадёрская, номер почти цирковой! Впрочем, попробовать себя в качестве наездника Юре дали бы товарищи-циркачи, но, видно, такова инерция: в гостях всё кажется лучшим, чем дома…
И тут опять резкий поворот в судьбе – неудержимо потянуло домой, в Уголок зверей, к дедушке. А у дедушке гастроли, на сей раз в Ленинграде. И тут внук ему уже помогает вести всю закулисную часть программы. Что это такое? Хозяйство большого аттракциона громоздкое, сложное и ответственное. Чужому человеку, человеку со стороны не доверишь! Медведям нужны тумбы, пони – попонки, собачкам – бантики, слону – сахарок в нужных количествах, морскому льву – рыбёшку… Всё должно быть подготовлено точно и в срок, подано умело и своевременно.
Тогда в Ленинграде Юра получил и первую производственную травму: как-то медведь, которого он выводил из клетки, цапнул его за руку и почти оторвал большой палец. Пришлось обращаться к врачу. Потом ассистенту досталось от полосатой гиены. Дед учил внука – во всех таких случаях виновато не животное, а человек.
Закончились гастроли, вернулись дед с внуком в Уголок зверей, домой. Приходит как-то к Юре в гости приятель, дальний родственник, тоже безмерно увлечённый театром, и торжественно сообщает, что у Юрия Завадского только что организовалась театральная студия:
– Пошли поступать?!
– Пошли!
Юра надевает русскую вышитую рубашку – ему очень нравилось быть на Есенина похожим. Сперва так и хотел – Есенина читать, но потом решил готовить отрывок из пушкинской трагедии «Борис Годунов» – удивлять экзаменаторов, так удивлять! Репетировал сцену у фонтана с сестрой приятеля, консультировался с артистом МХАТа Коноваловым, отрабатывал с ним речь Самозванца.
И вот настал день испытаний. Стойт Юра перед Завадским, Телешёвой и Абдуловым. Начинает, произносит первую строку…
– Постойте! Прочтите-ка лучше то, что вы читали в клубе хлебников!
Юра в недоумении замер. Откуда корифеи современной сцены знают о его более чем скромных опытах на актёрском поприще? Речь шла о юмористических рассказах Полевого-Мансф ель да. Юра со слуха выучил их наизусть и решил попытать счастья – отправился к автору-исполнителю на квартиру. Маститый актёр эстрады принял юного чтеца приветливо, внимательно выслушал его и вынес следующий приговор:
– Я никому на свете не позволю пользоваться моим репертуаром, но, принимая во внимание то, что вы хорошо копируете меня и выступать с этим собираетесь на рабочих клубных площадках, я не возражаю. Вот вам, молодой человек, моя записка…
Юра взял в руки бумагу и прочитал, глазам своим не веря: «РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЙ РЕПЕРТУАР». Подпись. Дата…
Вероятно, кто-то из экзаменаторов у Юрия Завадского слышал одно из Юриных выступлений. Разгадка довольно проста: в ту пору драматические артисты часто выступали как чтецы на эстраде.
Юра поразмыслил и решил прочесть «Барышню в кафе».
– Интересно, – скупо сказал Юрий Александрович. Больше абитуриента не мучили и отпустили с миром, а вскоре он прочитал на доске объявлений свою фамилию в ряду принятых в студию драматического искусства!
Деда в Москве не было, и Юра начал ходить на Сретенку в театральную школу. Студийцам преподавали технику речи, грим, обыгрывание воображаемых предметов. Последнее ему особенно удавалось: воображения и фантазии хоть отбавляй! Вскоре студийцы приступили к постановке учебного спектакля «С любовью не шутят». Юре больше всего запомнился не сам спектакль, а товарищи-студийцы, среди которых было немало по-настоящему одарённых драматических артистов. Достаточно назвать имена будущего главного режиссёра театра имени А. С. Пушкина И. М. Туманова и Ростислава Плятта. Всё необходимое для спектакля студийцы делали своими руками: бутафорию, реквизит, декорации. И всё это очень пригодилось будущему мастеру циркового искусства в дальнейшем!
Дедушка по-прежнему не придавал никакого значения опытам работы внука в кино и театре. Собираясь на очередные гастроли, он в очередной раз объявил о своём решении:
– Если ты не хочешь быть настоящим артистом цирка, то я из тебя сделаю рабочего человека!
Сказано – сделано. И Юра был определён в школу фабрично-заводского ученичества при типографии Борщевского на Садово-Триумфальной улице. Сперва шло ознакомление в общих чертах с типографским делом, а потом без особого энтузиазма Юра стал изучать печатное дело, однако, полиграфическая карьера Дурова-внука была прервана… любовью.
Ему уже шёл семнадцатый год, и в общем-то ничего удивительного в этом нет, но ситуация, в которую он попал как юный влюблённый оказалась весьма не простой.
Среди типографских «фабзайцев» была юная девушка Полина. Юра приглашал её в Сокольнический парк, читал ей стихи любимых поэтов, веселил её устными юмористическими рассказами из репертуара Полевого-Мансфельда. Работала Полина чаще всего во вторую смену, и Юра, отработав своё время, терпеливо дожидался её у ворот. В конце концов, он стал часто опаздывать на работу, получал взыскания, выслушивал нотации и в итоге перестал вообще ходить на работу! А дома громогласно объявил, что типография… сгорела! Может быть, и сгорела, но только – в огне юношеской неистовой любви! А так всё было на месте, следов пожара обнаружить не удалось. С этим известием одна из сотрудниц Уголка зверей вернулась домой, и Юра был разоблачён в очередной раз. Деду пошла телеграмма… В ответ пришла другая. Юра её текста не запомнил, но смысл был прост – пусть идёт, куда хочет! И Юра пошёл, конечно, к Полине. Больше он никуда идти не хотел!
Полины дома не оказалось. Вместе с ней в комнате жила одна милая сердечная девушка, которая была к Юре неравнодушна и по этой причине охотно раскрыла ему глаза на коварство Полины, которая, оказывается, уделяла больше внимания другому «фабзайцу». Юра бросился искать Полину и предложил ей выбор: «Он или я! Выбирай!» И девушка с простодушной наивностью ответила:
– Нет, лучше ты уйди, Юра…
И он ушёл. На чердак общежития ФЗО, чтобы сразу же покончить счёты с жизнью! Разорвал на себе рубашку, выхватил из кармана перочинный нож… Но тут явился комендант общежития и деловито указал:
– Можешь это делать, где угодно, но только не во вверенном мне учреждении.
Расправу над собой неудачливый влюблённый решил продолжить дома, и тоже на чердаке. Взял и резанул ножом по руке, как Петроний, но вдруг заорал:
– Караул! Спасите!
В карете «Скорой помощи» он услышал наставления врача:
– Петроний вскрывал вены не у запястья, а в сгибе локтя. И не на чердаке, а в ванной!
В больнице Юра пробыл недолго, но выписываться ему не хотелось. Фактически дедушка прогнал его из дома, его уволили из типографии, от него отказалась Полина… Все несчастья сразу!
Но выход из положения нашёлся сам собой – Юра решил… торговать щенками! Была у него собственная овчарка, которая принесла девять породистых щенков. С помощью одного знакомого соседа, большого любителя собаководства, он стал реализовывать пёсиков. Но не тут-то было! Одна соседушка, зная, что внук с делом не в ладах, решила, что Юра украл у деда собачек, и пожаловалась на него в милицию. Началась следственная волокита, хотя дело не стоило и выеденного яйца.
И тут опять, словно бог из машины в античном театре, все конфликты разрешил дед, вернувшийся с одних гастролей, чтобы после короткого отдыха отправиться на гастроли другие.
На сей раз внуку пришлось помогать деду в делах погрузочных – ведь у Владимира Леонидовича по тому времени был самый большой среди цирковых артистов страны аттракцион!
Дед уехал, а внук остался в Москве с неизменным для него вопросом «Что делать?». И вдруг Юра узнаёт, что в Москве открывается особенный театр – «Театр книги». Руководил им Лев Новый. Такой псевдоним придумал себе чтец Кириллович. Он долго не мог остановиться на подходящем названии, придумывал то одно, то другое. Иногда его театр именовался «Театром на костре», иногда – «Театром у костра», но суть творческого коллектива оставалась неизменной – там прежде всего учили ЧИТАТЬ, устно, художественно. В репертуаре были произведения Эмиля Верхарна и Сергея Есенина. Молодые чтецы явно подражали Владимиру Яхонтову и Александру Закушняку. Потом Лев Новый решил, что молодым студийцам надо обязательно вместе сыграть в каком-нибудь спектакле, и поставил одноактную пьесу «Осиное гнездо». Там были какие-то пикантные сцены, смущавшие артистов своей избыточной откровенностью, скажем так. Но тут вновь вернулся дед, многотерпеливый и неугомонный, и извлёк внука из этого «Осиного гнезда».
Дуров-старший и не подозревал, что театральные страсти в его доме вскоре разгорятся с новой силой. Владимир Леонидович дружил со Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом. Прославленный театральный режиссёр очень любил цирк, животных, с удовольствием бывал в Уголке зверей. Порою он заезжал на Божедомку вместе со своим приятелем и помощником Юрием Бонди. Когда-то все они втроём придумали такой вариант – в те дни, когда мейерхольдовский театр бывал выходным, его сцена отдавалась во власть Дурова и его четвероногих друзей. Возникал своеобразный цирк на сцене. Как проходили эти выступления, Юрий Владимирович, к сожалению, мне передать не мог – ведь он, ассистируя деду, во время спектаклей всегда находился за кулисами. Там он оставался по ночам: сторожил сон животных, оберегал их покой. От нечего делать, через всю пустую сцену качался, чтобы не хотелось спать, на трапециях, оставшихся после спектакля «Смерть Тарелкина». Почему сухово-кобылинские персонажи минувшего столетия должны были заниматься акробатикой, Юра уразуметь никак не мог. В творческой манере нового для него театра он принимал далеко не всё, но ко всему приглядывался с интересом и пользой. Особенно любопытно было ему наблюдать за репетициями спектакля «Рычи, Китай!» по пьесе Сергея Третьякова. И Юру опять неудержимо потянуло на театральную сцену. На сцену, а не на арену! А дед вновь манил внука на манеж. Он настоял на том, чтобы внук отправился с ним на гастроли в Воронеж.
Цирк-шапито в Воронеже стоял в Первомайском саду. Представления шли хорошо, давали полный сбор! Дед лишь одним был озабочен – куда отправить животных после окончания гастролей: ведь в ту пору московский Уголок зверей ремонтировался.
Владимир Леонидович поразмыслил, посоветовался с местными властями и решил задачу очень просто: уезжая за границу на лечение, он оставлял внука со зверинцем в том же саду. Клетки поместили в раковине открытой эстрады. А в закрытом помещении сада гастролировал Московский театр классической буффонады. Там режиссёр В. М. Бебутов почему-то называл оперетту.
Конечно же, Юра бросился посещать все спектакли подряд: «Гейшу», «Цыганского барона», «Мадмуазель Нитуш», «Джильетту из Норбоны», «Корневильские колокола»… Юра даже поселился в раковине эстрады, чтобы быть поближе к театру оперетты.
Один огорчительный случай ещё более сблизил Дурова-внука с этим театром. Стало холодать, и Юра купил себе хорошее одеяло. Остаток денег (а это был цирковой гонорар) он положил под подушку и отправился на очередной спектакль. Вернувшись «домой», он не застал ни денег, ни подушки, ни одеяла! Обокрали! Куда податься? Пришлось пойти в опереточные статисты. И дела понемногу поправились. Юношу заметил Валерий Михайлович Бебутов и поручил ему первую, правда, бессловесную роль – роль шута в «Джильетте из Норбоны». Это было уже нечто своё, родное, близкое, почти цирковое.
Оставив дуровских животных на попечение служителей цирка, новоявленный артист оперетты снова ушёл от дела, от цирковой службы и отправился кочевать с театром, у которого в столице не было стационарного помещения. Так Юра снова попал… в Москву, где театр давал представления в рабочих клубах. Хотя вокальными данными Дуров – внук не обладал, он получил роль Кунингама в «Гейше» и… пел!
Вскоре театр Бебутова должен был перекочевать в Одессу, а в Уголок зверей вернулся его строгий хозяин, которому Юра заявил:
– Дедушка, я уезжаю с театром Бебутова!
Пока шли ссоры деда с внуком, «буффонада» укатила к Черному морю. Уехал по делам и дед. А внук опять остался у разбитого корыта: и без театра, и без цирка!
И снова пришел на помощь «его величество случай» – так назывался один, довольно популярный тогда водевиль.
Муж одной из артисток оперетты администратор Тидеман когда-то слышал, что Юра с успехом читает юмористические рассказы Полевого-Мансфельда.
– Вы, Дуров, вполне профессионально копируете рассказчика, – заявил предприимчивый импресарио. – Юмор – это вещь! Юмор нужен всегда и всем. Хотите кусок хлеба с маслом? Тогда выступайте в моих концертах!
С грустью посмотрел Юра на свой неказистый костюм. В чем выступать перед публикой? Эстрадник, чтец должен быть одет подобающим образом – положение обязывает. К счастью, они с Тидеманом оказались одного роста и примерно одинаковой комплекции. Костюм администратора пришелся артисту впору. Так был получен своеобразный аванс. За три концерта Юра отработал свой костюм, с четвёртого выступления пошла чистая прибыль! Хотя концерты проходили на маленьких клубных площадках, но зато довольно часто. Появился успех не только моральный, но и материальный, и Юра вспомнил слова Тидемана: «Юмор – это вещь!»
И всё же никакого удовлетворения судьбой не было! В кино сыграно мало, получилось ещё меньше. В драме сыграно «не то». В оперетте толком не спето. А на эстраде – копии чужого обкатанного репертуара.
Невольно Юра стал вспоминать рассказы деда о начале его артистической карьеры. Было время, когда Владимир Леонидович выходил в отрепьях на манеж и поражал цирк небывалыми прежде для этого вида увеселения куплетами:
Ветерком пальто подбито, а в кармане ни гроша, С этой доли поневоле затанцуешь антраша…Смех Дурова-старшего был горьким, разящим. Вот что говорилось о природе смеха в дедушкиных куплетах:
Хоть смех есть вещь приятная, бывает разный смех, совсем не одинаковым является у всех…Далее дедушка Дуров иронизировал над смехом лавочника, обдурившим в очередной раз за прилавком бедняка, умилялся наивному и беззаботному смеху ребёнка, склонившегося над любимой игрушкой. Потом сатирик снимал на виду у всех цирковых зрителей лохмотья, садился у гримировального зеркала и вслух размышлял о своей судьбе, и из его души, словно крик, вырывались слова:
Толпа…Да что толпе пустой — я, гаер, клоун, комик, значу? Коль вдруг пред нею я заплачу, мне бросят только золотой да пару яблочков впридачу… Запла́чу… Это плач святой…И цирк отзывался рукоплесканиями. В глазах циркового зрителя стояли слёзы, словно он присутствовал на трагедии в прославленном театре, а не на представлении бродячего цирка!
Святой плач! А тут одни лишь пустые побрякушки, которыми приходится тешить своё актёрское самолюбие! Так размышлял над судьбой своей Дуров – внук восемнадцати лет отроду. Так вспоминал о юности своей в беседах со мной Юрий Владимирович Дуров, известный на всю страну (и не только на страну свою!) мастер циркового искусства. Он, оживляя давние года, то хохотал до упаду над своими проделками, то грустнел и жалел деда, которому достался такой беспокойный и непослушный воспитанник, то умолкал, вспоминая самые чёрные дни той поры…
В эти два чёрных понедельника Юра потерял двух дорогих для себя людей.
Юра был покорён искусством юной воздушной гимнастки Лизы Борель. Это была его вторая любовь, затмившая неудавшуюся любовь к Полине. Полина – прелестный, милый, добрый, но, что ни говори, довольно заурядный человек. А Лиза Борель на глазах становилась звездой цирка. Она блистала умом, артистичностью, от неё исходил свет таланта и красоты. Воздух был её стихией! Нет ничего прекраснее работы под куполом цирка, когда исчезает боязнь высоты и пространства, когда гибкое натренированное тело как бы теряет весомость и вопреки законам физики парит, словно птица. Лиза работала и вдохновенно, и искусно, и осторожно, но однажды строгий, казалось бы, расчёт не оправдался, и она разбилась насмерть на репетиции. Произошло это на арене Московского цирка. Проститься с Лизой пришла вся цирковая столица! Был траурный митинг, горькие взволнованные слова произнёс Вильямс Труции… Для Юры всё происходящее предстало в сплошном чёрном тумане.
Это случилось 12 ноября 1928 года. А равно через неделю 19 ноября цирковая общественность была потрясена страшной вестью, прилетевшей из далёкого Ижевска – «в результате несчастного случая на охоте» погиб Анатолий Анатольевич Дуров, сын Анатолия Леонидовича, самый лиричный, самый душевный и, можно сказать, самый нежный клоун – дрессировщик из династии Дуровых.
Гроб с телом Анатолия Анатольевича доставили в Москву. В крематории состоялось прощание. В час траурного митинга Юрий попросил слово и прочитал своё стихотворение «На смерть дяди»:
Как всё могло произойти, я не пойму, не растолкую! Как от живых ты мог уйти, попав под пулю, под шальную?..Юра до конца свой горестный монолог не дочитал – слёзы подкатили к горлу. Его двоюродный брат Владимир, родной племянник дяди Анатолия, крепко пожал ему руку.
Тогда Юрий и не подозревал, какое значение будет иметь для него эта траурная встреча. Гибель дяди Толи произвела крутой переворот в судьбах Дуровых-внуков и сблизила их. Именно в те дни началась их общая творческая биография. Вместе они прошли творческий путь длиной в шесть лет. Они – люди одного поколения: Владимир всего лишь на год старше Юрия. У них удивительно схожие судьбы. Володя тоже с малолетства рос в своеобразном Уголке – музее и причудливом саду своего деда Анатолия Леонидовича Дурова в Воронеже. Мальчиком Володя тоже жил в окружении дрессированных животных, вращался в актёрской среде. Подростком Володя помогал своему дяде Анатолию Анатольевичу Дурову в его работе на манеже, позже стал его официальным ассистентом. Правда, Володя в отличие от Юры закончил среднюю школу, потом учился некоторое время в Лесном институте и в театральной студии имени В. Э. Мейерхольда. И в этом отношении судьбы двоюродных братьев схожи – мятущиеся души!
К началу 1923 года дядя Толя приобрёл и даже успел обучить большую группу дрессированных животных, в том числе и экзотических. Кому теперь работать с ними? Юридически прямой и единственной наследницей этих животных стала вдова дяди Толи Анна Юрьевна Дурова. Как хозяйка аттракциона она могла, конечно, продать зверей или сдать их в аренду, но кто будет с ними работать непосредственно?.. Творческим наследником мог стать только Владимир, одарённый, образованный и уже достаточно умелый артист. Прервав обучение в театральной студии, он поступает на службу в аттракцион к собственной тётушке.
Да, много необычного в мире цирка! Человеку со стороны никогда до конца в него не войти, к нему не привыкнуть. По существу, девятнадцатилетний артист вышел на манеж одиноким. Это сейчас в девятнадцать лет ещё только в цирковом училище учатся – и то не всегда на старших курсах. Далеко не всем даже обязательным азам дрессировки успел дядя Толя научить своего племянника. А надеяться на помощь коллег не приходится – по-своему умелые и ловкие ассистенты прятали «ключи» от дрессировки, берегли свои большие и малые тайны от удачливого соперника, которому досталось такое богатство, такой великолепный, единственный в своём роде в стране аттракцион! Опереться Володя мог только на близких ему людей – двоюродного брата Юрия и родного брата своего – тоже Анатолия, третьего по счёту Анатолия в роду Дуровых.
Вот так, зигзагообразными путями всё же пришёл на манеж Юрий Владимирович Дуров, пришёл навсегда, ибо, как считают цирковые артисты, из этого тринадцатиметрового заколдованного круга выхода в иную творческую жизнь, иную профессию не бывает…
Здравствуй, цирк, отныне и навеки!.
В один из осенних дней 1928 года Юрий Дуров был официально приглашён к Анне Юрьевне Дуровой в её аттракцион. Его непосредственными и единственным начальником и шефом стал его двоюродный брат – руководитель аттракциона Владимир Григорьевич Шевченко-Дуров. Впрочем, роль хозяйки ограничивалась лишь выплатой зарплаты ближайшим родственникам. Во всём остальном она положилась на молодёжь. За каждым ассистентом была закреплена группа животных, за которыми он должен был ухаживать, чистить клетки, задавать корм, заниматься погрузкой и разгрузкой, сопровождать в дороге, как правило, в товарных вагонах, а самое главное – участвовать в репетициях. И не только в репетициях.
Дедушка Дуров, кинематографическим языком выражаясь, Юру в кадр не допускал. Володя к братьям относился иначе – напротив он постоянно искал возможности как-то включить их в цирковое действие: они выводили и уводили четвероногих артистов, подавали реквизит, подыгрывали в сценках-репризах, а не отсиживались во время представлений за кулисами. Вообще, вся троица – Владимир, Юрий и Анатолий – имели довольно занятный вид: Володя выходил к зрителям в традиционном дуровском одеянии, а Юрий и Анатолий были одеты в матросские костюмы. И в этом был определённый сценический смысл, особенно когда на арену выводили морских львов. При работе с кенгуру Юрий переодевался в костюм американского ковбоя, хотя Австралия, конечно, далековата от Америки.
Вообще, братьям работалось легко и дружно. В этом большую роль играли и родственность, и дружелюбие, и то, что они все были почти ровесниками. Всё это помогало взглянуть на цирк новыми глазами. Юрии Владимирович рассказывал мне, что даже атмосфера цирка, которую он знал неплохо, стала для него роднее и дороже. Почувствовали братья и острое чувство ответственности – ведь именно они теперь стали прямыми продолжателями дуровских традиций. Владимир Леонидович, старейшина династии, корифей, в последние годы непосредственно с цирком связан был мало – он углубился в дела музейные, научные, литературные. Так что для зрителей Дуровыми стали теперь они – славная тройка!
Группа животных у них была смешанная; что тоже соответствовало дуровским традициям: слон, морские львы, обезьяны, пони, медведи, собаки, попугаи, лисицы, петухи, голуби, мыши. Всё милые и давно знакомые Юрию животные. А вот с кенгуру он встречался впервые. Надо было знакомиться и привыкать друг к другу…
Теоретиками дуровские внуки не были, но историю дрессуры, традиции дуровской школы они знали. На одном из первых совещаний Володя предложил такую программу:
– Будем работать с пёстрой по составу группой, часто менять программу, постараемся сделать её цельной и по продолжительности постараемся её довести до целого отделения, то есть примерно будем ориентироваться на час.
Такая установка братьев вполне устроила. Они ей придерживались и впредь. Это, скажем, у Филатова – только медведи, у Бугимовой – тигры и львы, у Александрова-Федотова питомцы поразнообразнее, но тоже только из породы кошачьих.
Часто вспоминали братья и завет замечательного зоолога Брема, в одинаковой степени популярный и почитаемый и у московских Дуровых, и у воронежских: «Чем больше человек любит животных, тем больше он становится человеком».
Ещё одна заповедь, которой братья свято следовали, – быть комическими укротителями, избегать сцен нарочито опасных, щекотящих нервы зрителей. Пусть в цирке радость будет беззаботной, но не бездумной.
Не раз обсуждался братьями и вопрос об артистизме на арене. Если в спорте натуга, нескрываемое напряжение ещё допустимы, хотя и нежелательны всё равно, то в цирке весь эффект пропадает, если артист не может скрыть трудностей, возникших при подготовке и проведении того или иного номера. В цирке так и говорят: «Искусство акробата не в том, чтобы научиться стоять на голове, а в том, чтобы всем своим видом показать зрителю, что ему это делать легко и приятно». И молодые Дуровы как к высшему благу стали стремиться к актёрской подаче каждого выхода на манеж с дрессированными животными. И тут, надо сказать со всей определённостью, и Юрию, и Владимиру, помогли их театральная выдержка, начальное театральное образование. Всё больший и больший интерес они стали проявлять к драматургии циркового номера и программы в целом: делали постоянные записи, сочиняли сценки, как правило, мимические, но сюжетные, довольно динамичные. К каждому номеру подходили с учётом возможностей каждого из животных. Так, например, родился номер «Кенгуру-боксёр», пользовавшийся у зрителей неизменным успехом. На ринг выходили кенгуру и Юрий Дуров. Боксировали они настолько профессионально, что зрители начинали забывать, что перед ними цирковой номер, и следили за ходом битвы, как будто находились в спортивном зале на соревнованиях по боксу.
А, по сути дела, в отработке этого трюка особенного мастерства дрессуры и не было. Так называемый исполинский кенгуру по самому строению своего тела, по жизненным навыкам словно предназначен природой к боксированию. Для этого животного характерна вертикальная поза, сильный корпус опирается на мощный хвост и на длинные задние ноги, короткие же передние ноги всегда готовы отбить направленный на них удар. Надевай на эти передние ноги боксёрские перчатки и приучай кенгуру к ним! А потом уже обучай животное видеть соперника и вести с ним бой.
Боксируя с кенгуру, Юрий Дуров играл роль не дрессировщика, а спортсмена, то есть, работа в большей степени была артистической, нежели цирковой. Бойцом он был темпераментным, страстным и заражал своим спортивным азартом весь зрительный зал цирка.
Далеко не всегда братья придумывали что-то не бывалое, оригинальное – порой они брали традиционный для Владимира Леонидовича номер и давали ему новую жизнь на арене. Так произошло с комической сценкой «Слон-парикмахер». У дедушки Дурова роль клиента играл карлик, а в сходном номере слон намыливал метлой и брил гигантской бритвой Юрия Дурова. Он садился в кресло с самым невозмутимым видом, а когда слон «перекармливал» его мылом, то делал вид, будто всё идёт нормально. Это создавало дополнительный комический эффект, и весь цирк покатывался со смеху.
Однако не следует думать, будто все микророли Юрия Дурова носили комический характер. Например, однажды братья создали сценку – пантомиму «Турксиб». Песок арены изображал песок пустыни. С арены за кулисы уходила лента железнодорожного полотна, где-то вдали вырисовывался силуэт паровоза с горящим фонарём как бы освещающим путь в завтрашний день. Владимир читал монолог о Турксибе, а Юрий изображал кочевника – киргиза, проводника верблюжьего каравана. Юрию предстояло сыграть и удивление, и восхищение новизной, и смутную тревогу, и передать какие-то зримые черты национального характера… Говорят, это у него получалось. Я, к сожалению, ранние программы Дуровых-внуков оценить не могу – видел их на арене уже зрелыми мастерами в послевоенные годы.
А тогда, в конце двадцатых – начале тридцатых годов братья Дуровы работали дружно и слаженно, переезжая из города в город, увлечённо экспериментировали и в области формы, и в характере содержания. Юрий Владимирович в беседах со мной называл эти годы «быстрыми». Цирковой конвейер гастролей тогда не утомлял, здоровье у всех было отменное, если случались травмы, то не значительные, без которых обойтись не может ни один дрессировщик.
Первым гастрольным городом братьев Дуровых стал Харьков. Успешно проходили их гастроли в Ростове-на-Дону, Витебске, Смоленске… О Смоленске надо сказать особо. В этом городе Юрий встретил и полюбил Зину Борознину. Так, в девятнадцать лет в 1929 году, он стал женатым человеком. Семейный очаг новой супружеской четы располагался на колёсах. Через пять лет после свадьбы у них родилась дочь Наташа, будущая актриса цирка, писательница и общественный деятель. О ней разговор у нас впереди.
А пока вернёмся к молодым Дуровым. Зина увлеклась дрессировкой, полюбила работу ассистента, привязалась к животным. Она знала и оберегала каждого зверька, помнила и хранила каждую мелочь из громоздкого реквизита и гардероба, переживала за всё и вся в цирковой жизни мужа. Остерегаться приходилось не только зверей, но и людей. Время было суровое, и жизнь циркового артиста не сводилась к парадам и манифестациям показного безграничного оптимизма, как в популярном фильме «Цирк».
Особенно стали досаждать артистам цирка местные бюрократы разных видов, мастей и рангов. В Сумах Владимир Дуров исполнял свою интерпретацию коронного номера Владимира Леонидовича Дурова «Сон охотника»: на выстрелы должны были слетаться голуби, которые сами добровольно забирались в охотничью сумку – ягдташ и садились на ствол стреляющего ружья, совершенно его не боясь.
По долгу ассистента этого номера Юрий выпускал голубей на встречу выстрелам из директорской ложи. Однако туда забралось, как в берлогу, во время представления, какое-то крупное местное начальство и помешало полёту птиц!
На арене возникла неловкая пауза. Потом раздался нетерпеливый голос Владимира:
– В чём дело?
– Мне мешают работать! – ответил Юрий и указал рукой на сидевшего с надменным видом в ложе местного туза. Осветитель не преминул послать на «сильного мира того» столь же сильный луч прожектора, весь циркувидел виновника срыва номера и тотчас же вознегодовал, потребовав удаления чина из ложи.
Чин, удаляясь, злобно прошипел Юрию Дурову:
– Погоди! Ты ответишь за это! Пулей вылетишь из города вместе со своим зверьём!
Назавтра действительно Юрий Дуров был вызван для объяснения своего поведения в «сферы», но и там, в «сферах», он держался по-дуровски невозмутимо:
– В наше время такой номер не пройдёт! Вы – не генерал Думбадзе, но я, хотя и младший, но всё же Дуров!
«Номер» действительно не прошёл, но для этого пришлось обратиться уже в республиканские «сферы» и потратить немало сил и нервов.
Между тем, тридцатые годы шли на перелом, обстановка становилась всё тревожнее и напряженнее. Грозовая атмосфера передавалась и в цирковой среде. Но неизменно братьям помогал тот моральный климат, который они создали в своём маленьком, но дружном коллективе, где превыше всего ценилось братство, доброжелательство, трудолюбие, увлечённость, взаимопонимание.
…Конечно, они могли бы и дальше так работать, но Юрия Владимировича привлекала возможность создать свой, собственный, аттракцион, увидеть на афише свою фамилию и имя крупным шрифтом. Естественное желание для артиста, для любого самостоятельного творческого человека! Длительная совместная работа с Владимиром Григорьевичем оказалась прекрасной школой и, как это не покажется странным, более практически ценной, нежели непосредственные уроки у дедушки Дурова. А впрочем, так бывает не только в цирке! Опытный юрист с благодарностью вспомнит своего первого непосредственного куратора, хотя и отдаст дань уважения и благодарности читавшему общий курс профессору университета. Так бывает и в медицине, и в сценическом искусстве…
К тому же братья уже могли свободно обходиться друг без друга. Программа Владимира Григорьевича вышла на столичный уровень. Содрессировщиков и ассистентов он мог найти и обучить в Москве, а Юрий Владимирович почувствовал себя вполне готовым для того, чтобы вести самостоятельную работу.
В январе 1935 года братья по-братски расстались.
«Прибыл на гастроли знаменитый дуров!»
И никакой не знаменитый, а лишь начинающий на двадцать пятом году жизни свой самостоятельный творческий путь! Ну вот, опять с Дуровыми путаница – не указывают имени, инициалов. Прямо-таки положение, как в своё время с Владимиром Леонидовичем и Анатолием Леонидовичем. Там тоже были неясности, недомолвки: на афишах писалось то «старший», то «настоящий»… В последствии я узнал, что помимо всего прочего оба брата Дуровы защищались от самозванцев – неких Чукарева и Дурнова, которые перед своими фамилиями имели наглость писать фамилию «Дуровы». К тому же отношения между самими братьями безоблачными назвать было бы никак нельзя. Я уже немало знал об этих сложностях, но всё как-то не решался с Юрием Владимировичем заговорить на эту тему.
А беседа наша на сей раз была в Баку. Я по-прежнему, старался по мере сил и возможностей сопровождать Юрия Владимировича в его гастрольных поездках. Пишу свою книгу в разных городах. «Пишу» – это не совсем то слово. Лучше сказать – «пишу и переписываю, постоянно дополняя и уточняя текст». Вся беда в том, что не может мне уделять много времени Юрий Владимирович, и я ни в коем случае его за это не упрекаю. У меня не велико литературное хозяйство (рукописи, черновики, блокноты, фотоматериалы и т. д.), но и то они присмотра требуют, наведения порядка, столь необходимого, и это весьма утомляет. А в цирке у дрессировщика, когда в аттракционе около ста животных!.. Даже представить себя никак не могу в этой роли!
Юрий Владимирович что-то начнёт рассказывать, потом забудет… К какому-то важному эпизоду вернётся через несколько месяцев, а то и лет, и я переписываю ту или иную главу. Начал книгу в Хабаровске, продолжил в Костроме, Саратове, Запорожье, Ленинграде, а вот теперь пошли бакинские страницы – и как нельзя вовремя: в Баку пишу о бакинском периоде жизни Юрия Владимировича. Только с тех пор прошло более двадцати лет. Целая эпоха по нашим-то быстро летящим временам!
Мы ходим по бакинским улицам, Юрий Владимирович ищет следы былого и вспоминает о своих первых самостоятельных гастролях. Весной 1935 года работал он не в приземистом здании старого бакинского цирка на улице Гаджибекова, а в саду кинотеатра «Эдисон» и не на манеже, а в зверинце. Как же это получилось?
В дни московских гастролей Владимира Григорьевича Дурова и его братьев ЦУГЦ (такое сокращение имело тогда Центральное управление госцирков) сделал весьма лестное для молодого дрессировщика Юрия Дурова предложение:
– Вы можете преступить к подготовке своего номера. Выдрессируйте группу животных и работайте самостоятельно. Отправляйтесь в зверинцы и отбирайте для работы необходимых животных.
– Мне дадут и слона? – с трудом сдерживая волнение, проговорил Юрий Владимирович.
– А почему бы и нет? – отвечали в управлении. – Создавайте типично дуровский аттракцион. Какой же Дуров без слона?!
Юрий Владимирович давно мечтал о самостоятельной работе. Но где взять живой материал для номеров? Как приобрести живые «орудия производства»? Ведь животные стоят очень больших денег!
Крупный зверинец находился в ту пору в Баку. Приезжает Юрий Владимир в этот город на Каспии и первым делом – в зверинец. Нашёл. Стоит перед вагоном в зверинце и любуется слонихой Лилей. Глаз оторвать не может!
Лиле одиннадцать лет, возраст для слонов зрелый. Работая с Лилей, Юрий Владимирович обнаружил, что слон не только очень умное, но и чрезвычайно трудолюбивое животное. Работе со слонами дед его не обучал. Какие-то навыки дрессировки слонов были, но в большей степени – ухода за ними. Припоминались, конечно, и страницы книг Брема, и Карла Гагенбека, но это всё теория, даже не столько теория, сколько история изучения человеком мира животных. На практике же приходится во многом идти на ощупь…
Итак, знакомство состоялось, а вскоре прошли и первые уроки. Слониха уже узнавала своего нового хозяина в лицо, по голосу, когда он ласково здоровался с ней: «Лиля, Лилечка…». Основы слоновьей премудрости заняли два месяца. Лиля ходила по тумбам, раскланивалась перед воображаемой публикой, поджимая ножку в реверансе, двигалась «испанским шагом», как лошадь, выбрасывающая обе ноги вперёд, поднималась на «ов», становясь на дыбы… Юрий Владимирович был решительным противником так называемых «смертных» номеров, но на рисковые номера, особенно в начале своего самостоятельного пути шёл охотно. С Лилей он не боялся самых опасных экспериментов, доверял ей.
Так родился номер «Слон-канатоходец». Дрессировщик ложился на деревянный брус, положенный на четыре массивные тумбы. Лиля, балансируя и осторожна неся своё огромное тело по узкой перекладине, переступала через хозяина. Как шла подготовка номера? Сперва ей клали под ноги мешок с сеном, а когда она научилась легко и грациозно переступать через мешок, место мешка занял дрессировщик.
С этим номером всё шло хорошо, пока однажды не отказала электростанция. Весь цирк погрузился во тьму именно в тот самый момент, когда Лиля занесла над хозяином ногу. Возможно, некоторые зрители, привыкшие к цирковой изобретательности, решили, что так и надо. Но дрессировщик так не считал и был в ужасе: оступись Лиля хотя бы на один сантиметр и!.. Что было делать? Мгновенно подняться с доски? А вдруг Лиля испугается и, потеряв равновесие, обрушится на хозяина всей своей тяжестью? И дрессировщик решил остаться на месте. Через несколько минут, длившихся целую вечность, вспыхнул долгожданный свет, и дрессировщик увидел Лилю на другом конце бруса на последней тумбе. Она стояла, высоко закинув хобот и ожидая кусок сахару, который всегда полагается ей после окончания номера. Получив сахар, Лиля раскланялась. Юрий Владимирович был растроган – Лиля спасла ему жизнь!
Но этот номер постигло ещё одно испытание, в котором виноват был уже несомненно сам дрессировщик, не рассчитавший с математической точностью прочность бруса и тумб. Вдруг, возле передних ног Лили с треском разломился брус! Лиля неминуемо должна была бы упасть на хозяина и раздавить его! Но умница Лиля и на этот раз спасла ему жизнь. Падая, она так высоко подбросила задние ноги, что совершила кульбит, перевернувшись через голову, чего, конечно же, в джунглях слонам делать не приходится. Да и в цирке никто ничего подобного прежде не видывал!
Этот необыкновенный случай доказал, что слоны способны жертвовать собой во имя хозяина. Правда, Лиля после случившегося была настолько напугана своим падением, что понадобилось два месяца, чтобы снова «натаскать» её на этот трюк – только уже на несравнимо более прочном бруске с металлической основой.
Слоны вообще очень осмотрительны и осторожны. Каждый раз, когда Лиле приходилось переезжать из города в город (а это происходило довольно часто) она, прежде чем подняться по вокзальной платформе в вагон, осторожно пробовала трап. И если трап скрипел и шатался, Лиля идти в вагон решительно отказывалась. Её не удавалось сдвинуть с места, пока не подавался другой, более прочный трап. И лишь убедившись в его прочности, слониха продолжала путь.
Юрий Владимирович на примере Лили убедился в том, что у слона очень развито чувство доверчивости и, я бы сказал, симпатии к животному-партнёру, с которым он постоянно работает. Так, Лиля очень привязалась к верблюду, и в его присутствии быстрее успокаивалась, лучше слушалась.
Лиля служила Юрию Владимировичу верой и правдой почти двадцать лет! За эти годы они вместе выступили почти на двухстах манежах страны\ И ни разу слониха не подводила своего друга и воспитателя! В 1958 году Лиля ушла на покой в один из передвижных зверинцев. Круг её цирковой жизни замкнулся: выйдя на арену из зверинца, она в зверинец и вернулась. В зверинце она прожила всего лишь год, очень скучала по цирку, по хозяину и тихо скончалась в 1959 году в Петрозаводске. Весть об этом была для хозяина подлинным горем. Он вспомнил с необыкновенной отчётливостью, как Лиля проходила по брусу в абсолютной темноте, руководствуясь лишь тонко развитым чувством осязания, как бы сосредоточенным на кончике хобота, и каким-то необъяснимым чувством заботы о человеке.
С Лилей Юрий Владимирович никакого горя не знал! В то же время на слона Макси Владимира Григорьевича Дурова и на слона Сиама, учинившего страшный разгром в Рижском цирке, положиться было никак нельзя. Макси был упрям и строптив, а Сиама даже пришлось вывести из программы и передать в Рижский зоопарк, где он и жил за каменной стеной, демонстрируя посетителям свой буйный нрав. А Лиля всё делала легко, играючи, как бы с удовольствием: била ли ногами в бубен в зверином «джазе», кружилась ли в звериной карусели, брила ли клиента в своей «парикмахерской», уносила ли хозяина на хоботе после окончания выступления… Таких верных друзей дрессировщику доводилось встречать не часто.
Второй любимой воспитанницей Юрия Владимировича была собака Нора из породы доберман-пинчеров. О цирковых собаках можно рассказывать часами! Как часто они бывают главными «виновниками» славы циркового артиста! Вспомним хотя бы Запятайку, Бишку и Пика Владимира Леонидовича Дурова, Лильго Анатолия Леонидовича, Кляксу Карандаша и Манюню Бориса Вяткина.
Владимир Леонидович собак любил особенно и изучал их, вероятно, основательнее, чем других животных, даже специальный научный труд о дрессировке охотничьих собак создал.
Нора особой славы своему дрессировщику не принесла. Это была его личная собака, выдрессированная ещё до приезда в Баку. Нора умела делать довольно простые вещи: кружиться вокруг своего хвоста, изображая собачий вальс, выступать в роли «математика», лаем называя, сколько будет дважды два или, скажем, от пяти отнять три, но она была с хозяином неразлучна, помогала ему чем могла в работе на манеже. Он настолько привык к своей Норе, что не мог начать репетицию, пока она не появится рядом с ним.
Состав первой группы животных оказался у Юрия Владимировича не очень-то разнообразным и богатым: морской лев Лотос, лисицы, петухи, голуби. Да и первые номера особой изобретательностью не отличались. Это были, например, традиционный дуровский номер «Лисица и петух» (лиса и петушок мирно сидят на одной тумбе и не трогают друг друга), известный уже нашим читателям номер «Сон охотника». Так что постоянно подтверждать справедливость слов бакинской афиши было трудновато! Тем более, что директор зверинца Вольфовский дал на весь подготовительный период всего лишь пятнадцать дней! Но и эти дни Дурову целиком не принадлежали – в обязанности молодого дрессировщика входило обслуживание посетителей, демонстрация им животных, ответы на вопросы и т. д. «Знаменитый» артист, известный тогда только фамилией, а не фамилией и именем, работал на маленькой арене зверинца по сеансовой системе, выступая по выходным и праздничным для горожан дням до двенадцати раз подряд\ В будние дни число выступлений, конечно, сокращалось, но всё равно общая нагрузка для начинающего артиста являлась фантастической! Что уж говорить о его питомцах, работа которых нуждалась ещё в постоянной шлифовке. И тогда Юрий Владимирович решил вести репетиции прямо на представлениях: и для зрителей особый интерес, и для артиста двойная польза. Иногда он сопровождал свои репетиции-спектакли пояснениями, например, объяснял, почему собака на воле любит покрутиться вокруг своей «оси»: она просто уминала слишком высокую траву, чтобы устроиться на отдых или на ночлег. Простота объяснений публику порою просто обескураживала, но всегда ещё больше заинтересовывала.
Спешка с подготовкой номеров для выступлений ещё больше усилилась после того, как директор Бакинского зверинца сосватал Юрия Владимировича в Ашхабадский цирк. Если в Харькове он дебютировал как содрессировщик, то в Ашхабаде – уже как дрессировщик, руководитель группы, именованной несколько преждевременно аттракционом. До подлинного аттракциона было ещё далеко! Впрочем, «сосватал» – не совсем то слово: директор «продал с красотой» своего сотрудника. «Продать с красотой» в ту пору означало – с бумом преподнести гастроли, устроить заблаговременную рекламу, пышно анонсировать выступления.
Поясню и слово «аттракцион». В переводе с французского значит «притяжение», «привлечение», хотя смысловое понятие, конечно, определённее и шире: это самостоятельная программа, полностью обеспеченная всем необходимым, готовая к гастролям в стандартных стационарных и передвижных цирках.
Итак, молодой дрессировщик получал своеобразный аванс, который должен был с успехом отработать.
Нужно сказать, что в середине тридцатых годов некоторые периферийные цирки не входили в систему ЦУГЦа, а принадлежали УЗП – управлениям зрелищных предприятий на местах. Фактически Юрия Владимировича «перепродали» под соусом «громкого имени» в «заморскую страну». За Каспий полетели телеграммы, были посланы высокопарные афиши о предстоящих гастролях «всемирно-известного Дурова». Это уже был такой перехлёст, что оправдать его никакими благими намерениями нельзя!
Закулисная, рекламная сторона сделки Дурова мало интересовала. Его волновало другое – что он повезёт в Туркмению?
Кое-что уже знала и умела слониха Лиля. Хорошо, хотя и не очень эффектно работала собака Нора. Отрабатывались номера с морским львом и мелкими животными. Но этого для аттракциона маловато!..
И тогда Юрий Владимирович срочно начинает готовить свой вариант классического дуровского номера «Прачка енот».
Юрий Владимирович припомнил методику подготовки номера, которую не раз видел в Уголке зверей. Дедушка Дуров заворачивал в лоскуток ткани кусочек мяса и бросал в лоханку с водой. Енотик начинал полоскать тряпочку, потом разворачивал её и с удовольствием съедал приманку.
Казалось бы, номер готов, но дрессировщику не хочется, чтобы публика видела, как енот на её глазах ест мясо из лоскутка. Енот по уже сложившейся привычке начинает полоскать тряпку, а мясо получает из рук дрессировщика. После нескольких репетиций у енота устанавливается рефлекс. Он привыкает к тому что за полоскание лоскутков он всегда будет получать пищу отдельно, в качестве своеобразного «гонорара».
Сложнее дело продвигалось с дрессировкой морского льва. В Баку Юрию Владимировичу повезло: в зверинец поступили обитатели калифорнийского побережья Тихого океана – два морских льва.
Сочетание слов «морской» и «лев» кажется неожиданным. Но оно оправдано: у самцов есть подобие чёрной гривки на шее, к тому же они издают львиноподобное рычание. Морские львы – не хищники. Они питаются мелкой рыбой. Эти животные словно рождены для цирка. Карл Гагенбек называл их «самыми весёлыми» из ластоногих. Морские львы – природные жонглёры. На арене им в этом искусстве нет равных. Да и в других сферах деятельности они могли бы стать замечательными помощниками человеку. У Владимира Леонидовича были проекты использования дрессированных морских львов для поисков косяков рыбы, для спасения утопающих, для срезывания мин под водой, стоящих на мёртвых якорях. В Балаклавской военной бухте царское военное министерство предоставило Владимиру Леонидовичу экспериментальную площадку, но проектам этим не суждено было сбыться из-за косности военных чинов.
Однако главная «специальность» морских львов – всё же жонглирование, балансировка. Чем только они не жонглировали! И мячиками, и горящими факелами, и фетровыми колпачками, держали на носах шесты с медными тазами на шестах и ничего не роняли!
Однажды Юрий Владимирович был свидетелем такого случая на репетиции в Уголке зверей. Мячик упал с носа любимого морского льва дедушки Дурова Лео. Желая получить награду, Лео сполз с тумбы, схватил мячик зубами, рывком головы подбросил его кверху, поймал на нос и, балансируя, как канатоходец, не только дополз до своей тумбы, но и взобрался на неё, не теряя ноши! Дедушка Дуров закрепил случайную находку подкормкой. В другой раз он уже нарочно заставлял Лео ронять и поднимать мячик.
Почему же морские львы наделены такой невероятной способностью? Нет ли здесь какой-то особой тайны? Секрет довольно прост: охотники за ластоногими знают самое уязвимое место у зверя – тонкую черепную коробку. На ощупь темя морского льва напоминает жёсткую пергаментную бумагу, в чём я убедился лично, когда мне Юрий Владимирович однажды разрешил погладить самого спокойного из его воспитанников. Для того, чтобы завладеть шкурой морского льва, охотники отрезают ему путь к воде и легко ударяют палкой по голове. Этого оказывается достаточно!..
Как слон постоянно ощущает всю тяжесть своего тела, так морской лев «помнит» о своём самом уязвимом месте и всячески оберегает его.
Есть и ещё один секрет, тоже природный, тоже довольно простой в отгадке.
У Морского льва очень узкий пищевод, и ему трудно проглотить рыбину с хвоста. Поэтому он, схватив рыбку как попало, выныривает на поверхность моря, подбрасывает добычу вверх и… ловит её с головы. Отсюда – гибкость шеи, обострённое чувство расчёта движений.
Обучение Лотоса шло довольно быстро. Некоторыми «ключами» к дрессировке морскихльвов Юрий Владимирович уже владел, а ученик ему попался способный. Лотос обладал завидным аппетитом и всё время требовал рыбы, рыбы, рыбы… На репетициях он всё время мотал головой, ластами… А разве это не находка для дрессировщика? А что если эти жесты и возгласы помогут весёлому диалогу на арене?..
Дрессировщик спрашивает у Лотоса:
– Ты меня не подведёшь?
– Не-е-е-т! – рычит его ластоногий друг и отрицательно машет головой.
– А что бывает, когда ты меня подводишь?
Лотос рычит и ударяет себя ластой по боку, как бы шлёпает себя.
А в зале не умолкает смех, особенно детский!
К моменту хождения за одно море, как в шутку величал Юрий Владимирович свои первые гастроли в качестве дрессировщика, Лотос уже умел подбрасывать колпачки, аплодировать, шлёпать себя по животу…
Итак, можно собираться в дорогу. Первая самостоятельная погрузка (да ещё какая – морская!), первая выгрузка… Возникает ещё одно непредвиденное обстоятельство. Директор зверинца поручает ему передать Красноводскому зверинцу привезённых из Москвы крокодила и удава, животных явно «недуровской» специальности. С этими «милыми» тварями уже были всякие трудности, но одно дело – на суше, другое – на море. Удав у Вольфовского уже попадал в фельетонную ситуацию по дороге из Москвы в Баку. Его просто-напросто… украли в купе поезда, пока Вольфовский ходил поесть в вагон-ресторан. Удав путешествовал в корзинке, был не очень-то уж и большим и спал. Так его вместе с корзинкой какой-то незадачливый воришка и прихватил. Можно себе представить, как он был «счастлив» приобретением, увидев, кого похитил! Корзинка с удавом была потом найдена – лавры звероторговца Карла Гагенбека воришку не привлекали: ему чего-нибудь попроще бы!..
…Юрий Владимирович занял отведённую ему каюту, осмотрелся, поворчал немного – ехать будет прохладно. Как бы звери не замёрзли! Он, конечно, знал, что пресмыкающиеся как бы застывают при пониженной температуре. В неотапливаемом помещении они становятся вялыми, медлительными… Помните пример с артистом Исаакяном, крутившим над головой огромного удава?..
И вот, Юрий Владимирович, верный своему обещанию доставить «гадов» в целости и сохранности в Красноводск, укутывает их одеялом и отправляется в пароходный ресторан, повторяя путь своего директора – кушать-то хочется всем!
Сидит спокойно, обедает. Пароход трогается. В ресторан к нему заходит уборщица (Дурова на пароходе уже все знали), просит ключи от каюты, отправляется на уборку. А Юрий Владимирович из окна ресторана любуется видом морской гавани. Настроение у него самое поэтическое, возвышенное, и вдруг на весь пароход раздаётся душераздирающий крик!
Всё понятно! Пар из котельной разогрел помещение. Согревшиеся крокодил и удав оживились, выползли из-под одеяла…
Юрий Владимирович, бросив трапезу, мчится опрометью в свою каюту. В коридоре – плачущая уборщица. На пороге каюты раскрытая пасть крокодила. На полу ползающий удав.
Как спасти положение? Есть только один выход! Дуров бежит к капитану с криком:
– Немедленно прекратите топку!
В первый миг его сочли сумасшедшим, но потом поняли – другого выхода нет. Через четверть часа гады поостыли и начали засыпать, и Юрий Владимирович водворил их обратно в корзину.
Наконец пароход набрал скорость. Каспий есть Каспий. Переход оказался бурным, тревожным, но в целом прошёл благополучно. В Красноводске крокодила и удава Дуров сдал в местный зверинец и спокойно вздохнул: миссия завершена, а эти звери как были чуждыми, так чуждыми и остались. Дуровы с ними не работали[132].
А вот и Ашхабад. Нескромные крикливые афиши на оптимистический лад не настраивают. Однако опасения развеялись, и ожидания ашхабадцев оказались не напрасными – публика молодого дрессировщика приняла, поверила в то, что он и есть тот самый, знаменитый, которого обещала реклама. Сам же Юрий Владимирович свой цирковой дебют в новом качестве в беседах со мной оценивал довольно скромно:
– Чем я сумел тогда привлечь внимание публики? Наверное, – молодостью! Ещё бы! Такой молодой, а уж слона на дыбы один ставит! Это, наверное, – первая причина, а вторая – привлекательность моих юных друзей – Лильки, Лотоса, Норы…
И закружил Юрия Владимировича цирковой конвейер, первый в его самостоятельной творческой жизни. Опять Баку, потом – Донбасс, Макеевка, Енакиево… И всё же полного удовлетворения своим цирковым статусом у Юрия Владимировича не было – ведь гастролировал-то он в составе того же самого зверинца, а не «большого» цирка, о котором всё чаще мечтал.
Однако, как бы то ни было, а именно в это время он прошёл уже, образно говоря, не среднюю, а высшую школу мастерства.
Да, что ни говори, а у дрессировщика главным критерием его профессионального совершенства являются его ученики – четвероногие и пернатые друзья. По-прежнему самым любимым помощником Юрия Владимировича был морской лев Лотос. С ним он любил общаться не только, так сказать, по делам службы, но и просто так, по-товарищески. Лотос даже стал узнавать свой выходной марш и торопился, заслышав его, на арену. Вряд ли Лотос отличал мелодию от мелодии, но у него установился рефлекс: звучит музыка – значит будет рыба на угощение!
Юрий Владимирович всё больше и больше привязывался к своему ластоногому другу, но тут с Лотосом произошла беда. Отрабатывая номер, он уронил во время представления на глазах у зрителей мяч, с азартом догнал его и, сделав резкое движение головой, чтобы подбросить мяч кверху, вдруг проглотил его!.. Мяч начал проваливаться в глотку и бесследно исчез в пасти. Лотос старался отделаться от застрявшего в горле предмета, но засасывал его всё глубже и глубже. Дуров даже видел, как мяч, напоминая опухоль, скользил всё ниже, ниже под эластичной, глянцевитой кожей животного.
Дрессировщик растерялся – такой случай произошёл с ним впервые, такого он не наблюдал и прежде. Однако, твёрдо помня, что артист должен прежде всего по возможности стушевать свою неудачу (а ведь несчастье произошло не на репетиции, а на представлении!), он бросил морскому льву другой, запасной, мячик. Лотос ловко поймал его и понёс к себе на тумбу.
Закончив номер, дрессировщик в смятении созвал консилиум. Что делать? Два ветеринара и один хирург совещались долго и, наконец, предложили два варианта спасения ластоногого артиста. Первый вариант: извлечь проглоченный мяч хирургическим путём. Второй вариант: впрыснуть апоморфин, сильное рвотное средство. Первый вариант Дуров с ужасом отверг – он даже представить себе не мог, что в глотку его любимца войдут длинные щипцы! Итак, избран был второй способ. Но дело осложнялось тем, что ветеринарам никогда не приходилось работать с такими особенными пациентами. Они оба были специалистами по крупному рогатому скоту. Никто не знал, какая доза апоморфина подходит для организма взрослого морского льва!
Юрий Владимирович с тревогой добивался ответа, какая же доза поможет спасти животное, не погубит его ядовитое средство? Ветеринары дают уклончивые ответы – мол, доза смертельной не будет.
Приходится соглашаться. Выхода нет.
И вот Лотос сидит на своей привычной тумбе и поглощает свою любимую рыбу. Есть он ещё может. Значит, не всё потеряно. Ещё дедушка Дуров учил внука: «Пока животное хочет есть и ест, есть надежда на его выздоровление». Ветеринар быстро сделал укол, ввёл лекарство. Действие апоморфина должно было начаться через минут пятнадцать. Врачи ушли, и дрессировщик остался с больным зверем. Лекарство не действовало! Надежды оставалось всё меньше и меньше. К тому же мяч был не цельный, а с прокусом. Значит, туда мог просочиться желудочный сок. При гниении он отравит несчастное животное! И тогда дрессировщику пришла в голову спасительная мысль – надо перекормить Лотоса! Ведь морские львы – страшные обжоры и меры не знают! Лотосу ничего не стоило за один присест слопать пуд свежей рыбы! Он мог бы съесть и больше! И тогда излишнюю рыбу морской лев «отдаст обратно». Таково защитное свойство организма. Излишек пищи будет действовать лучше любого рвотного средства.
На следующее утро Юрий Владимирович организовал для любимца сеанс обжорства. Лотос ел рыбу без устали! Вот проглочено одно ведро, вот второе, третье… Всё идёт в бездонное брюхо! Но… Никакой «отдачи»!
Скормив морскому льву пятьдесят килограммов свежей рыбы и не дождавшись никаких результатов, дрессировщик отправился спать. Но какой может быть сон, когда гибнет любимец, да ещё такой талантливый артист! Три дня сиднем сидел неимоверно располневший Лотос и никакого эффекта! В душе дрессировщик уже оплакивал своего питомца. Видимо, не удастся его возвратить к жизни, к работе. Потеря «калифорнийца» была к тому же весьма чувствительным и финансовым ударом для зверинца – Лотос стоил не одну тысячу рублей золотом.
Самый пугающий признак недомогания морского льва – это постоянное сидение на суше. Если он не спускается в бассейн поплавать, значит, он либо не здоров, либо дурно настроен.
В тревожном ожидании проходят четвёртый день, пятый… И вдруг Лотос медленно сполз в бассейн и понемногу стал шевелиться в воде. Более того – у Лотоса появились первые признаки аппетита!..
Служащий принёс ведро рыбы, и Дуров дал своему питомцу небольшую форель. Лотос обрадованно проглотил её. Но какая это была форель? Отчаянию Юрия Владимировича не было предела! Оказалось, что вся рыба в ведре протухла! Откуда только её принёс этот бестолковый служитель! Теперь в трагическом исходе дрессировщик уже не сомневался.
Но дело обернулось самым неожиданным образом. Тухлая рыба сыграла роль очистительного средства. Она сделала то, что не смогла сделать введённая через шприц доза апоморфина. Часа через три Лотос «отдал обратно» не только спасшую его форель, но и все пятьдесят килограммов непереваренной рыбы, обременявшей желудок, и… злополучный мяч!
Вот уж верно говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло!». Радости дрессировщика не было конца, когда Лотос через день приступил к исполнению своих артистических обязанностей.
И всё же Лотос вскоре погиб. И случилось это в тот день, когда Юрий Владимирович переходил из зверинца в «большой цирк». Лотоса погубил туберкулёз. Этот диагноз для Дурова и его новых товарищей стал сенсацией. Как же так? Ведь Баку – город довольно тёплый, а летом просто жаркий, выпадают и знойные, палящие дни, совсем такие же, как на родине морских львов. Но самое удивительное в том, что другие морские львы, с которыми впоследствии работал Юрий Владимирович в несравнимо более суровых в климатическом отношении условиях, никогда туберкулёзом не страдали.
Конечно, не только своим особенным характером отличается каждый конкретный зверь от другого, но и особенностями своего здоровья. То, что одному легко и радостно, другому в тягость, то, что один переносит незаметно, другой воспринимает как непосильную для него нагрузку. На одном травмы заживают без осложнений и препятствий, другого приходится лечить долго, упорно, мучительно…
А разве у нас, людей, не так? Даже в одной семье, даже среди братьев, даже среди близнецов? Стоит ли этому особенно удивляться!
Что же касается морских львов, то, как подметил однажды в беседе с Юрием Владимировичем один старый ветеринар, первоисточник гибели Лотоса – в сквозняках. Да, в самых обычных сквозняках! Они, эти сквозняки, гуляют по цирку взад и вперёд. От них страдают и люди, и звери, и зрители, и артисты. Сквозняк опасен тем, что он незаметен, это враг-невидимка. Он скор на расправу. Ну, если это весна или тем более лето, если температура воздуха в цирке и за его пределами близка, это ещё не так страшно. А если возникает резкий перепад температур?! В океане ветра гуляют и не такие, но там нет сквозняков. Видимо, Лотосу со сквозняками особенно не повезло. Простуда сыграла коварную роль, внешних признаков её никто не заприметил.
… С тех пор минуло двадцать лет, а Юрий Владимирович переживал утрату своего любимца так, словно это произошло вчера.
Вообще, в эти бакинские дни Юрий Владимирович был грустен. Он и чувствовал себя неважно, и перемена погоды на него тяжело повлияла, и воспоминания на этот раз особенно растревожили, и я был уже не рад, что пристал к человеку со своими блокнотами.
По календарю в Закавказье весна, а город весь завален снегом. Идёт сильный перепад давления. Раньше в молодости это как-то вовсе не замечалось, а теперь погодные перемены всё чаще и чаще дают о себе знать. Юрий Владимирович лежит в гостиничном номере. Надо бы поспать, отдохнуть, но подушка словно горит у него под головой. Звери без присмотра не остались. Никто не обидит, не забудет ни страуса-эму Петьку, ни его тёзку – престарелого ламу, ни морского льва Пашку, и начинающих артистов – морских львят Лору и Талисмана, ни слониху подростка Лэди, а вот с продуктами беда – они остались на загородной базе! Из-за снежных заносов их теперь будет трудно своевременно привезти в Баку. Главное рыба, рыба и ещё раз рыба – ив нужном количестве и в необходимом ассортименте. Вот, скажем, новый любимец дрессировщика – морской лев Пашка. За какую-нибудь кильку или салаку ни за что не станет отрабатывать сложный трюк, а за кусочек осетрины он на арене творит чудеса! И Юрий Владимирович хватает телефонную трубку и срочно отправляет своего ассистента в гастроном, чтобы купить один килограмм осетрины для Пашки. Маленький кусочек этой рыбы станет вечером «вести» целый номер!
Ещё дед завещал Юрию Владимировичу святое правило дрессуры: «Нам самим будет хорошо только в том случае, если будет хорошо нашим животным». Эту заповедь внук не устаёт повторять всем своим сотрудникам, помощникам и ученикам.
Мне очень хочется как-то отвлечь Юрия Владимировича от тревожных мыслей, настроить его на иную волну, и я прошу его рассказать о светлом и радостном событии в его жизни – переходе в «больший» цирк, на большой аттракцион.
Эти воспоминания для Юрия Владимировича и впрямь действуют как лекарство. Он оживляется, привстаёт, усаживается на гостиничном диване и начинает вести речь о новой главе в своей артистической судьбе.
Большой аттракцион
Опытный дрессировщик Леонид Иванов довольно успешно вёл смешанную группу животных. Вообще он был человек очень уравновешенный, осторожный, но однажды, выступая на арене Ленинградского цирка, упал с верблюда и, ударившись головой о барьер арены, тут же на месте на глазах у зрителей скончался от кровоизлияния в мозг. Давно такой беды не было в мире нашего цирка! Весть эта разнеслась по многим городам.
Без хозяина остались все животные Иванова. Цирковое начальство решение приняло быстро и очень неожиданно для Юрия Владимировича – передать всю группу дрессированных зверей в его распоряжение! На приём и передрессировку давалось два месяца. Срок минимальный! Но выбора не было, и игра стоила свеч. К тому же это была уже не арена в зверинце, а зверинец на арене. Разница громадная! И речь шла не о чередовании каких-то случайных номеров, а о формировании цельной программы как художественного циркового спектакля.
Юрий Владимирович понял, что именно сейчас ему предоставляется несравнимая ни с чем прежде возможность возродить дуровские традиции на современной арене. Итак, следовало вернуться к живому слову на манеже, подумать о юморе, сатире, о зрелищности, о контакте со зрительным залом, об изобразительном и музыкальном оформлении программы.
Для разработки новой программы Юрию Владимировичу была выделена репетиционная площадка в Брянском цирке. Вскоре в Брянск приехали опытный режиссер Б. А. Шахет, композитор Зиновий Дунаевский и художник В. П. Мочульский. О таком мощном подкреплении Дуров даже не мечтал! Теперь все они вместе должны были приняться за подготовку большого аттракциона.
А что же было получено из аттракциона Иванова? Несколько пони, верблюд, обезьяны, попугаи, собаки… Все они как-то, выражаясь кинематографическим языком, не «монтировались» с теми животными, которые уже были у Юрия Владимировича. Но самое главное – не были ясны элементы дрессировки Иванова. Хорошо, что в Брянск, тоже по решению циркового начальства, прибыл человек, который всё это знал и помнил, – ассистент Иванова И. М. Бабутин. Он и помог в короткий срок воссоединить две группы животных.
Как же отрабатывалась программа? Пустой цирк. На зрительских местах никого, кроме творцов будущего циркового представления. Дуров выводит животных на манеж, рассказывают о возможностях каждого четвероногого артиста, о его «послужном списке», «сыгранных им ролях», дает свои рекомендации и прогнозы. Художник Мочульский присматривается, тут же делает эскизы декораций, костюмов. Композитор Зиновий Дунаевский особое внимание обращает на тональность каждого из будущих номеров, на его ритм, на ритм представления в целом. И вот уже рождаются первые такты музыкального сопровождения. Особенно сосредоточен режиссер Борис Шахет. Он намечает варианты группировок, передвижения животных, определяет место дрессировщика в каждой из пантомимических композиций.
И по вечерам в гостинице за чашкой чая продолжались эти репетиции. Борис Александрович рассказывал о том, как он пришёл в цирк из драматического театра, с эстрады. Оказывается, главной школой ему послужили массовые театрализованные представления на стадионах, физкультурные парады на улицах и площадях. И всё-таки Шахет остановился на цирке. В этом смысле их биографии с Юрием Владимировичем схожи – где бы они ни работали, куда бы ни устремлялись, а к цирку возврат был неизбежен! Впоследствии Юрий Владимирович работал с другими цирковыми режиссерами: с А. Г. Арнольдом, Г. С. Венециановым, Н. Н. Зиновьевым, М. С. Местечкиным, но навсегда сохранил благодарность к своему первому режиссёру, который среди первоочередных творческих задач назвал и такую – найти обязательно коренное отличие в манере, в стиле, в композиции и т. д. от программы Владимира Дурова. А сделать это было очень непросто! Общность традиций, сходные составы животных, годы совместной работы – всё это весьма усложняло обретение независимости в плане творческом, постановочном.
С тех пор прошло немало лет, зачастую в гастрольном конвейере Юрий Дуров бывал в том же городе где живо помнили выступления Владимира Дурова, и никто не смог сказать о каких-то повторах, сходных приемах, вариантности и т. д. А ведь основу этого творческого постановочного размежевания заложил именно Борис Александрович во время тех далёких и никогда не забываемых двух брянских месяцев.
Именно там же, в Брянске, и состоялась премьера дуровского большого аттракциона. После Брянска был Смоленск, а после Смоленска – сразу же Москва!.. Итак, в конце 1936 года Юрий Владимирович отправился получать свой «столичный диплом», как он не раз говорил в беседах со мной. И вот этот «столичный диплом» был защищен на отлично!
Описывая мне вторую половину 30-х годов такой, какой он её увидел и запомнил, Юрий Владимирович собственно цирковым делам внимания уделял немного, больше и охотнее рассказывал о том, что он видел во время своих дальневосточных и поволжских гастролей, с кем встречался, как ощущал на арене движение времени.
Что же произошло? Нет ли тут какой-то загадки? Вовсе нет. Просто-напросто закончился период учения, началась работа, работа стала удаваться, появилась уверенность в себе, своих силах, своих соратниках и помощниках, вот и появился досуг, которого прежде не хватало хронически! Появилась возможность пристальней вглядеться в зрительный зал, встречаться со зрителями не только в цирках, но и на рабочих местах, в заводских цехах, на стройках. А стройкой становилась вся страна! С большим и искренним удовольствием Дуров вспоминал встречи с металлургами и строителями Магнитогорска, Челябинска, Прокопьевска. Юрий Владимирович подчеркивал, что в довоенную пору сеть зимних цирков, особенно в рабочих районах страны, была даже больше, чем в 50-е годы. В маленьком городке Березняки жители своими силами построили скромный, но отвечающий всем нормам и правилам зимний цирк.
Уральские гастроли сменились поволжскими, и приезд в Саратов совпал как раз с пиком испанских событий: в городе разворачивалась компания по сбору средств в помощь детям героев Мадрида. С успехом шли благотворительные концерты, причём, в ходе репетиций была найдена необычная форма выступлений, очень привлекательная для зрителей и слушателей. Театральные работники делали то, что цирковые, а цирковые артисты выступали как чтецы, разыгрывали отрывки из спектаклей. Например, артист драматического театра И. А. Слонов, обыгрывая свою фамилию, выезжал на сцену на… слоне! Артистка того же театра Тамара Оганезова выводила на сцену дрессированных пони. А дрессировщик этого слона и этих пони Юрий Владимирович Дуров сыграл наконец-то роль Самозванца в «Сцене у фонтана»! Исполнилась его заветная мечта! И Юрий Владимирович ещё раз поблагодарил дедушку своего за то упорство, с которым он доказывал внуку, что театральная сцена не для него, а для него, как и для всех Дуровых, одно призвание – манеж цирка!
И вновь дорога на восток, на Дальний Восток на сей раз. Подъезжая к Владивостоку, Юрий Владимирович впервые в жизни увидел затемнение – и не кинематографическое, для съёмок, а настоящее, военное. Когда подъезжали к станциям Приморская и Угольная, проводники опустили на окнах шторы, и дальше пассажиры ехали, как в туннеле. Первое впечатление от Владивостока: хмурый залив, сумрачное небо, расчерченное лучами прожекторов. Особого напряжения в приморском городе не было, но чувствовалась постоянная настороженность. На улицах преобладали люди в военной форме. Это было начало событий на озере Хасан. Вскоре в городе появились первые раненые бойцы и командиры Красной Армии. К шефской работе в госпиталях сразу же подключился и Юрий Владимирович. Он взял с собой морского льва, мелких зверюшек. Таких артистов ни раненые, ни медперсонал в палатах ещё не видели! Выступали циркачи без устали, и не овации были их наградами, а улыбки на лицах защитников восточных рубежей Родины.
Именно тогда, в те дни, началась военно-шефская работа Юрия Владимировича Дурова, и именно тогда в его цирковых номерах впервые прозвучала сатира, причём чисто в дуровском духе. В то время во Владивостоке действовали консульства ряда государств. На одном из цирковых представлений присутствовал японский консул со свитой. Увидев гостя, Юрий Владимирович громко спросил своего нового морского льва Павла I:
– Скажи, Паша, как расправилась доблестная Красная Армия с самураями у озера Хасан?
Морской лев зарычал и стал бить себя ластами по бокам, а дрессировщик, обращаясь в зал, понимающе подтвердил:
– А-а, расшлёпали?..
Сценка вызвала шквал аплодисментов в зале, а сотрудники консульства под свист и улюлюкание зала покинули в спешке свои места. Так неожиданно для себя самураи превратились в дуровских статистов!
Через некоторое время Юрий Владимирович вновь оказался у дальневосточников, на сей раз в городе Улан-Удэ. Поблизости от бурятской столицы разворачивались халкингольские события. Сразу же была создана фронтовая цирковая бригада, которую возглавил А. М. Волошин, впоследствии директор Училища циркового искусства. Юрий Владимирович очень огорчался, что в состав бригады его из-за громоздкости номера не взяли и предложили лишь разовые выступления в прифронтовой полосе и в госпиталях.
Не знал, не думал артист, что весь его военный опыт очень скоро пригодится и что полстраны будет фронтом, и вся восточная часть страны станет тылом.
А пока подошёл знаменательный юбилей – двадцатилетие советского цирка. Двадцать лет прошло с того самого дня, как В. И. Ленин в 1919 году подписал декрет о национализации зрелищных, в том числе и цирковых предприятий. На юбилей Юрий Владимирович был вызван правительственной телеграммой. Он принял участие в юбилейных торжествах и был дважды награждён: орденом Трудового Красного Знамени и званием Заслуженного артиста РСФСР. И всё это – на двадцать восьмом году жизни! Всего лишь полтора года назад он работал в зверинце, лишь формировал свой аттракцион, и вдруг такая высокая оценка труда! Анатолий Дуров-младший, например, создал свой аттракцион и свою программу почти за двадцать лет.
В Москве Юрий Владимирович узнал очень важную цирковую новость. Оказывается, было решено создавать постоянно действующие цирковые коллективы под единым художественным руководством. Среди первых таких худруков оказался и он. Ему предстояло в большом передвижном цирке проводить единую художественную линию, формировать программу, создавать цельные представления. Но всё перечеркнула война.
Цирк уходит на фронт
В середине июня 1941 года Юрий Владимирович в Москве готовился к гастролям в Смоленске. Туда уже были отправлены вагоны с животными. Дома цирковые артисты бывают редко, поэтому привязанность к дому у них не меньшая, чем у моряков или, скажем, полярников. Из окон дуровской квартиры на Большой Калужской улице виднеется Нескучный сад. Милая сердцу старого москвича картина. А старому москвичу всего лишь 31 год. В этом возрасти в наши дни многие творческие работники лишь начинают свой путь в искусстве. Юрий Владимирович – уже признанный мастер! Его знают и узнают не только любители цирка. Слишком раннее признание тоже порою вредит творческому человеку, может быть, – даже больше, чем слишком долгое непризнание. Во всяком случае, в литературе дело обстоит именно так. К тому же литература – занятие, рассчитанное на долголетие, как отлично сказал один мудрец. Цирк – другое дело, цирк – искусство молодых.
Юрий Владимирович, конечно, знал о том, что цирковые артисты для обороны страны представляют особый интерес. Пусть их численно мало, но в спец-группах, разведотрядах они могут творить чудеса. Правда, к дрессировщикам это не относится. Опыты Владимира Леонидовича с морскими львами в Балаклавской бухте – давняя история. Не то время! Про осьминогов и дельфинов, готовящихся к спецзаданиям за океаном, он краем уха что-то слышал, но особого значения этим слухам не предал. Дуровское искусство в основе своей мирное, весёлое, светлое. Какие уж тут военные приготовления!
В беседах со мной Юрий Владимирович говорил, что большую войну он скорее предчувствовал, чем предвидел. Поэтому, услышав по радио трагическую весть, он весь обратился в порыв и сразу же оказался в военкомате Ленинского района столицы. Там на него с удивлением уставился какой-то начальник и вежливо, но твёрдо заявил:
– Идите, Юрий Владимирович, и занимайтесь своим делом.
И Дуров понял, что единственный пост, который ему доверят в грядущих испытаниях, это пост дрессировщика, артиста цирка. И он оказался прав.
Однако война есть война. Скорее в Смоленск! Ведь туда уже прибыли животные! Вместе с женой Юрий Владимирович в тот же день отправляются в Смоленск. Зинаида Тимофеевна в тревоге и смятении: Смоленск – это её родной город. Теперь он стал прифронтовым. Так быстро!.. Но пока в городе тишина. Идёт обычная жизнь. Кажется, что воюет один лишь директор местного цирка Н. С. Бурунский, бомбардируя Главк телеграммами:
«Где же Дуров? Пора начинать работу. Уже проданы все билеты на шесть представлений вперёд!»
На следующий вечер Дуров уже на манеже. Начинается представление!.. И вдруг он слышит, как к звукам бравурной музыки примешивается необычный гул. Это, оказывается, первые гитлеровские самолёты-разведчики!
Но в городе паники нет. Нет и бомбёжек, люди свободно ходят по улицам. Однако атмосфера сгущается. Дуров даёт второе, третье представление. Всё вроде идет нормально, в программе никаких сбоев. А в зрительном зале пустовато… Людям не до развлечений. На шестой день зал почти пуст. Так бывало при дедушке, когда какой-нибудь самодур вроде купца Епишкина закупал для себя одного все билеты. Игралось, вспоминал тогда дедушка хуже во всех отношениях – он не мог жить без зрительного зала, без народа, которому адресовал своё искусство.
Сборов смоленские гастроли не дают. Денег в кассе нет. А ведь животных это не касается! Слон хочет есть по-прежнему и в прежних количествах!..
В городе атмосфера всё больше сгущается. Смоленск заливают потоки беженцев. Гитлеровцы заняли Минск. Оттуда успели уйти наши артисты: дрессировщик морских львов Т. И. Брок, эквилибрист Е. Т. Милаев, неунывающие клоуны Н. А. Антонов и В. М. Бартенев. По Минскому шоссе пришли пешком артисты МХАТа… Есть и первые жертвы: погибли ассистентки Т. И. Брока. И это лишь первые утраты. Их число будет множиться с каждым днём!
Внезапно и Смоленск стал ареной кровавых боёв: гитлеровцы сбросили на город десант в форме советских милиционеров! Рабочие дружины вылавливали и уничтожали непрошенных гостей. Именно тогда цирковым начальством было принято решение срочно эвакуировать цирковых артистов в Москву.
Странное зрелище представляла собою смоленская улица, круто спускавшаяся к вокзалу: вперемежку с орудиями, танками, телегами и пешеходами двигался звериный караван с верблюдицей Катькой и слонихой Лилькой во главе.
Железнодорожный узел был подвергнут жестокой бомбардировке. Налёт продолжался около сорока минут. Дуровские животные были охвачены паникой. Лишь слониха Лиля проявила исключительную стойкость и мужество. Деловито разбив ящик с хлебом и до отвала наевшись, она щедро накормила ещё и верблюдицу передавая ей хоботом через перегородку буханку за буханкой. Этот день – 2 июля 1941 года – Юрий Владимирович запомнил навсегда. Это была его настоящая встреча с большой войной.
Ночью при потушенных огнях эшелон двинулся в путь. До Москвы добрались сравнительно быстро, но комендант города выгрузку не разрешил и направил эшелон в Ярославль. В этом славном приволжском городе цирк зажил обычной жизнью: давались представления, циркачи постоянно бывали в госпиталях, число которых росло с каждым днём. Но и сюда доносилась война!
Каждый раз после представления Юрий Владимирович проходил мимо школы, где помещался госпиталь. Наблюдательность для артиста, особенно циркового, особенно постоянно рискующего дрессировщика – неотъемлемое свойство его натуры. И вот стал Дуров обращать на то, что при вражеских налётах и пролётах самолетов-разведчиков в одном из окон пятого этажа приоткрывается светлая щёлочка. Вначале Юрий Владимирович не придал этому значения – в госпитале раненые, много молодёжи, а молодость, как известно, беспечна… Но однажды он всё-таки не выдержал и поделился своей тревогой с дежурным врачом. Вместе они ринулись на пятый этаж и в одной из палат обнаружили, что световые сигналы подаёт один из раненых. Впоследствии выяснилось, что это фашистский агент, замаскировавшийся под русского раненого пехотинца. Говорил он по-русски плоховато, но кто от раненого требует блестящих речевых данных – госпиталь это не цирк, не театр и не эстрада! Для врачей и медсестёр он был всего лишь раненым средней тяжести. Молчит, значит, ему хорошо! Надо умножить заботу, усилить питание! А шпиону только этого и надо!..
Однако на счету у Юрия Владимировича за годы Великой Отечественной войны был не один шпион, а два! Первого он разоблачил в самые начальные дни войны при помощи… попугая! Впрочем, этот эпизод красочно описан Натальей Юрьевной Дуровой в её книге «Большой театр “Малышка”». Предоставим ей слово.
«Смоленск, война, а цирк работает, потому что цирк, как и все, был на своём посту. Недалеко от цирка находился детский сад. Я часто приходила туда со своим попугаем. Детям нравилось, как попугай кричал: “Доброе утро!” – и объявлял: “Сегодня в цирке Дуров!” Попугай прекрасно лаял и мяукал, в ответ на стук кричал: “Кто там?” Пожалуй, это и был весь запас его человеческих слов, если не считать одной песенки, но об этом дальше. Город был полон грохотом близких взрывов, ужасом первых бомбёжек и напряженно-лихорадочным настроением людей. Попугай, как и все животные в цирке, чуявший беду, растерял от страха весь запас человеческих слов, кроме двух: он ошалело выкрикивал одну фразу: “Кто там?” Но однажды попугай оказался героем дня.
Биография попугая была не известна даже нам. Его подарили отцу матросы. Он совсем не говорил и часами хохлился в клетке, реагируя лишь на кошку. Ни одного русского слова попугай не произнёс, сколько его ни учили. Как-то я зашла с ним во двор цирка, где слон принимал душ. Командуя слоном, отец кричал: “Лили, ком цурюк!”– что означало: “Иди назад!” Вообще, по старой традиции дрессировщики иногда употребляют в работе немецкие слова. Услышав их, попугай неожиданно встрепенулся и залился весёлой песенкой на немецком языке\ Дома, уже шутки ради, отец поздоровался с попугаем по-немецки, и тот снова спел песенку. Прошёл год; попугай, “вспомнив” немецкую песенку, словно обрёл дар речи, легко заучил русские слова и фразы, а немецкие больше не повторял. Вскоре и мы перестали вспоминать этот забавный случай, а военные тревоги и совсем вытеснили его из нашей памяти. Был получен приказ срочно эвакуировать государственные ценности и учреждения из Смоленска: фронт приближался к городу. Последнее представление в цирке, упаковка за кулисами. И вдруг появился человек, срочно требующий Дурова. Его повели в гардеробную.
– Юрий Владимирович, – сказал он, обращаясь к моему отцу, – хорошо, что ещё успел вас застать! Уполномочен передать – приказ не действителен. Вы пока остаётесь здесь.
– Значит, цирк получил разрешение выступать в частях действующей армии? Наконец-то! – обрадовался отец.
В это время в конюшню упала “зажигалка” (так называли мы для краткости термитные бомбы). Отец бросился туда. Незнакомец остался один в гардеробной, опасливо посматривая на раздражённого бомбёжкой гепарда. Возвратившись, отец застал удивительную сценку: попугай выкрикивал развесёлую немецкую песенку, гепард скалил клыки на пришельца, а тот, зажатый между гримировальным столиком и стеной, боялся пошевелиться.
– Вы знаете немецкий язык? – спросил незнакомца вскользь отец, отгоняя гепарда.
– Увы! К сожалению, кроме родного русского, не говорю ни на одном, разве что чуть-чуть балакаю по-украински. Однако сейчас речь о другом. Я остаюсь от управления комитета руководить прифронтовой бригадой.
– Очень хорошо. Тогда позвольте распорядиться, чтобы прекратили упаковку. Извините, что ещё на несколько минут я оставлю вас в этой весёлой компании, – указал отец на гепарда и заливающегося песенкой попугая.
– Только, пожалуйста, недолго! – с досадой обронил пришелец.
Ему действительно долго ждать не пришлось. Через несколько минут два красноармейца выводили его из гардеробной.
Пожалуй, в истории следовательской практики это был первый случай, что диверсанта помог обнаружить цирковой попугай! Отец моментально сообразил, что песенку могли вызвать у попугая только слова, сказанные по-немецки».
Вот и весь отрывок в повествовании, посвящённом тому, как ребята-москвичи увлеклись цирком, как их шефом стала в ту пору уже известная актриса и писательница Наталья Дурова. Сама Наталья Юрьевна этот эпизод больше не комментирует. А мне, как участнику и Гражданской войны, и Финской, и походов на Западную Украину и в Западную Белоруссию и, конечно же, журналисту-лето-писцу Великой Отечественной, здесь не терпится обратить ваше внимание на некоторые военно-политические обстоятельства, которые могли не попасть в поле зрения Натальи Юрьевны как человека не военного, к тому же в момент описываемых ею событий – всего лишь семилетней девочки!
Если тот, «ярославский», диверсант был средней руки корректировщиком, «ракетчиком», как тогда говорилось (сейчас это слово обрело иное звучание, иной смысл), то «смоленский» шпион – птица покрупнее! Обратите внимание, как он говорил, как представлялся, какая у него речь, как он вовремя умел смолчать, выждать паузу. Одного лишь не учёл – немецких традиций в дрессировке, немецкого циркового жаргона, связей цирковых русско-немецких, идущих ещё от Карла Гагенбека и Владимира Леонидовича Дурова. О феномене попугая он будь и семи пядей во лбу знать, конечно, не мог. А вот избегать при дрессированных животных использовать немецкие слова, даже междометия и ругательства (наверное, он по-немецки рявкнул на гепарда!) при его квалификации он должен был бы!
У вас не возникло вопроса: «А зачем немецким фашистам циркачи, Дуров?» Это же не военные инженеры или картографы, или иные носители военных тайн! Но нельзя забывать о возможном пропагандистском эффекте: гебельсовская пропаганда оповестила бы весь свет, что внук известнейшего мастера цирка в руках у немцев! А дальше фашисты могли бы пойти на любые провокации и подтасовки. Нет никакого сомнения, что Дуровы никогда бы не стали ни играть для немцев, ни играть на немцев! В этом нет никакого сомнения! Одно только удивляет, почему Юрий Владимирович в прифронтовом городе не спросил удостоверения у новоявленного представителя управления Комитета… вероятно, по делам искусств! Да был перед войной такой Комитет. И мне не раз приходилось с ним согласовывать дела драматургические. Но тут надо учесть и горячее желание Юрия Владимировича быть на фронте, поближе к передовым позициям, и его неистребимую доброжелательность, доверчивость и уважительность к людям. С этими его качествами, с многочисленными проявлениями этих качеств я за долгие годы нашей дружбы встречался неизменно.
Видно, «смоленский» шпион сумел резко повысить бдительность Юрия Владимировича, увидевшего в лицо коварство и вероломность врага. Подтверждение тому – «ярославский» лазутчик, обнаруженный им в госпитале.
Да-да, последние ярославские дни запомнились именно этой, почти детективной историей. А вскоре пришла новая разнарядка. Следующий город – Омск. При погрузке на станции Всполье артисты вновь попали под жуткую бомбежку, но остались целыми и невредимыми. Это была последняя встреча дуровских животных с вражеским огнём. Больше они войны не видели, а вот их дрессировщик, бывая постоянно в Москве по делам, постепенно привык к регулярным авианалетам, затемнениям и прочим атрибутам сперва прифронтовой, а потом просто военной Москвы.
А в Омске первая встреча произошла не со зрителями, а с городским военкомом. Фронт требовал всё новых и новых бойцов, эвакуированные на восток заводы – новых рабочих, а тут – цирк! Молодые, прекрасно тренированные люди!.. И военком щедро одарил их всех призывными повестками. Всех – от клоуна до униформиста пятидесятилет, от скрипача до слоновожатого! Всех, кроме самого Юрия Владимировича Дурова. То, что он забронирован на высшем уровне, военком, видимо, знал.
Пришлось Юрию Владимировичу обратиться в местные руководящие инстанции. Не в меру ретивого служаку укротили. Цирк отстояли.
Следующим городом в гастрольном военном конвейере определили Ташкент. Был он в ту пору городом эвакуированных, которые принесли с собою изо всех оставленными с боями городов и сёл неизбывное горе. И тут как нельзя кстати пришёлся цирк! Однако довольствоваться лишь старой довоенной программой артисты не могли. Требовались какие-то репризы, сценки, номера, непосредственно связанные с событиями, волновавшими всех. Так родилась патриотическая цирковая пантомима «На подступах к городу N».
Сюжет пантомимы был несложный. Наши цирковые артисты обслуживают фронт. На город наступают фашисты, вылавливают всех подозрительных, проверяют и артистов: «А что вы умеете? Как докажете, что вы – циркачи, а не советские разведчики?» И каждый артист показывает своё мастерство. Затем Красная Армия на этом участке фронта переходит в наступление, отбивает город. Что ж, и такое бывало, но, к сожалению, слишком редко в те начальные этапы войны!.. Дуров играл роль командира полка, спасавшего наш город. Он въезжал в город-манеж на танкетке. Трещали мотоциклы, гремела пальба… Вот такое необычное было цирковое представление!
По-прежнему главнейшую свою задачу артисты цирка видели в выступлениях перед ранеными. Но в Ташкенте госпиталей было немного. Зато Сталинабад (ныне Ашхабад) по праву можно было назвать госпитальным городом. В туркменской столице Дуров и его товарищи не только работали как артисты, но и помогали обслуживать раненых, используя для этих благородных целей и цирковой транспорт, и отчасти реквизит. Всё шло в дело!
Следующий город – Нижний Тагил. Он запомнился необычными даже для видавших виды артистов выступлениями – прямо в заводских цехах. На танковых башнях делался настил, сооружались подмостки, по которым на настил выходили артисты и животные, и представление начиналось!..
К весне Дуров со своими товарищами перекочевали в Златоуст. Разбили шапито, приготовились к выступлениям, но не учли того, что этот край занимает чуть ли не четвёртое место в мире по числу осадков. В мае навалило… уйма снегу! Шапито было завалено по шапку. Мучились артисты, но ещё больше страдали животные. Дуров бросился к «отцам города»: «Помогите!» «Отцы города» милостиво выделили утеплённый посудный склад. Помещение, конечно, не самое для цирковых дел подходящее, но весьма теплое. Однако торгующие организации Златоуста в восторг от такого решения своих прямых начальников не пришли и стали тянуть волынку с передачей помещения под цирк. Тогда, получив на это «добро», циркачи стали выносить посуду и обустраивать помещение. И всё равно – посудный склад годился только как конюшня, склад для реквизита и провианта. Надо же где-то выступать! И тогда Дурову удалось добиться разрешения выступать с цирковой программой на сцене городского театра. Цирк чередовался с драмой. Слон выходил на сцену, предварительно укрепленную толстенными досками. Пожалуй, это был единственный подобный случай в работе Юрия Владимировича. И он, вспоминая об этих днях, постоянно подчёркивал: «Вот я опять вернулся на сцену драматического театра! Не было бы счастья да несчастье помогло!»
Тем временем Главное управление цирков, эвакуированное в Томск, прислало своего представителя В. М. Мусатова, впоследствии – директора Куйбышевского цирка, с просьбой:
– Юрий Владимирович! Помогите отвоевать здание в Челябинске. Оно занято эвакопунктом. Все наши артистические кадры на Урале и в Сибири. Людям надо где-то жить и работать, а площадок для выступления мало! Многие цирки остались за линией фронта, многие пострадали от вражеского огня… А Челябинский цирк – один из лучших.
Закончил представитель Главка свою тираду неожиданно: мы, мол, наслышаны о ваших дипломатических способностях в переговорах с местным начальством и верим, что и эта миссия будет успешной!
И Дуров отправился в Челябинск – отстаивать одно из немногих уцелевших цирковых зданий. В те дни враг был уже отогнан от Москвы. Из Челябинска выехал домой, в столицу, Московский Малый театр, а свой драмтеатр ещё не прибыл. В разросшемся и густонаселённом Челябинске почти не было зрелищ за исключением двух-трёх кинотеатров.
Не станем вдаваться во все перипетии дуровской миссии, скажем лишь, что цирк открыть удалось, и сезон был открыт, и работали артисты по два раза в день с полным аншлагом!
Из Челябинска артисты направились в Магнитогорск. Здесь произошла встреча Юрия Владимировича с его первым цирковым режиссёром Шахетом, который предложил создать специальный военно-патриотический номер в русском национальном духе. Но как отказаться от привычного дуровского одеяния? Страшновато было выйти из прежнего художественного образа и не создать эквивалентный ему новый! И всё же предложение режиссёра было и своевременным и интересным. Дуров загорелся! А тут как раз поездка в Москву. Отправились вместе с режиссёром. Долго ходили по костюмёрным Большого театра, примеривались к разным нарядам. Надевал Юрий Владимирович тогда и костюм Бориса Годунова, и боярский кафтан – не подходит! Придётся шить заново! И вот с помощью художника по костюмам и мастеров-костюмёров появляется русский дуровский костюм, которым он пользовался все военные да и многие послевоенные годы!
Гремели бубенцы, в манеж влетала тройка борзых лошадей. Ею правил удалой молодец на облучке, а позади седоками были медведь с гармонистом. Нетрудно догадаться, что удалым молодцем был Юрий Дуров. Звучал патриотический монолог, неизменно отзываясь в сердцах зрителей:
Эй, вы! Залётные! Эй, кони вороные! Летите сквозь равнины и поля! Хоть день, хоть год – и всё края родные, всё та же ширь, всё та же мать-Россия, родная наша вольная земля. Кто меч дерзнёт поднять? Чьей ты поддашься силе? Не раз сюда врагов вела судьба. И кости их дожди косые мыли, ветра́ мели, и вновь весной всходили над прахом их тяжёлые хлеба…Стихи звучали в монологах Юрия Владимировича всё чаще. Некоторые тексты писал он сам, но чаще пользовался текстам поэтов-профессионалов, однако, по согласованию с ними вносил в монологи и что-то своё, дуровское. Именно в те военные годы определился окончательно общий пафос выступлений Юрия Дурова как лирико-патриотический. То, что совершенно не вязалось бы с манерами и обликом другого артиста, другого представителя династии Дуровых, для Юрия Владимировича было естественным. Даже какие-то слишком прямолинейные, нарочитые строфы и строки в его исполнении, будучи включенными именно в его программу, словно смягчались, одухотворялись, становились поэтичнее.
Весну 1945 года Юрий Владимирович встречал таким монологом:
Родина! Верен я сердцем тебе! Народ! Ты – моё вдохновенье! С тобою всегда я в труде и в борьбе. Ты – в каждом моём представлении!..А День Победы Дуров встретил в Казани! В четыре часа утра задолго до того, как заговорило радио, горожане уже каким-то чудом узнали о завершении войны. Артисты выбежали на улицу и увидели слёзы радости на глазах у стоявших тесной толпой у репродукторов. Отовсюду неслось долгожданное слово «Победа!». Артисты мгновенно помчались в цирк, чтобы устроить праздничную кавалькаду. Они надели костюмы, вывели на улицу разукрашенных животных. Но какой бы праздничной ни была цирковая кавалькада, картины народного ликования были праздничней её! Юрий Владимирович с восторгом говорил мне, что участников цирковой кавалькады горожане подбрасывали в воздух так же, как лётчиков, моряков, пехотинцев, всех, кто с оружием в руках завоевывал Победу. И вот вместе с ними над ликующей толпой кружатся в воздухе клоуны, акробаты, наездники, жонглёры… Подбросили несколько раз и Юрия Владимировича – но без особого энтузиазма: он уже тогда отличался весьма солидной комплекцией и весом. Так что его вскоре оставили в покое, и он наблюдал за происходящим со стороны.
… Долго у цирковых артистов потом горели щеки от смущения и ныли бока от «качаний». А вечер ом на арене Казанского цирка состоялось самое радостное и торжественное представление изо всех, какие только переживал в своей жизни Юрий Дуров. Он сам так и говорил мне в наших беседах-воспоминаниях в перерывах между цирковыми представлениями.
… А жизнь продолжается!
День Победы – «праздник со слезами на глазах», как поётся в популярной песне. Как только Юрий Владимирович дошёл до этой даты, мы с ним оба не только испытали радостное возбуждение, но и загрустили, вспоминая тех, кто до девятого мая не дожил. А таких славных людей было немало и в литературной, и в кинематографической, и в цирковой среде. Цирковую жизнь 20-30-х годов я знал несравнимо хуже, а вот к цирку 50-х годов настолько приобщился, что стал чувствовать себя в цирковой среде своим человеком. Разумеется, при этом оставаясь в своей роли – роли писателя, а то и летописца некоторых памятных страниц цирковой истории. И вот по мере того, как мои главы стали приближаться к дням текущим, работа стала идти всё медленнее и медленнее. Да и сам материал жизненный изменился, появились повторы, исчез былой драматизм событий, всё шло как-то равномерно, привычно, знакомо и однообразно.
Я написал главу «Города и годы», перечитал её и даже не решился показывать Юрию Владимировичу: получился просто-напросто беллетризованный комментарий к хронике гастрольных поездок. Более того, я почувствовал, что стал остывать к этой рукописи, брал её в руки уже без былого нетерпения: скорей бы продолжить брошенную строку! Может быть, я и впрямь устал от этих разъездов по городам? Это я-то, литератор, сопровождающий цирковых артистов, устал! А они? Они всю жизнь так живут!
А в моей жизни действительно произошли серьёзные перемены. Работу над цирковой темой я сочетал с делами сценарными: увидел экран мой документальный фильм о сталеваре Иване Кайоле «Грядущему навстречу», торопил меня новый сценарный замысел – о председателе колхоза «Иван Емельянов, крестьянский сын». Я продолжал выступать в печати и по радио как критик и публицист, звали меня и оставленные на время мои пьесы о Михаиле Ивановиче Глинке, который всегда был моим кумиром…
Но самое главное то, что в мою жизнь вновь вошла штатная работа. На сей раз – в качестве литературного консультанта по драматургии при Правлении Союза писателей РСФСР. Работа эта захватила меня полностью. На меня обрушился поток рукописей, рецензий, мне необходимо было постоянно бывать на премьерах в драматических театрах. Ожидали меня и поездки, причем, – порою в те же самые города, что я посетил вместе с Юрием Владимировичем, но суть поездок теперь уже совсем иная, да и свободного времени в обрез: каждый раз надо было встретиться с активом местной писательской организации, побывать в управлении культуры, в местном отделении Всероссийского театрального общества, на двух-трёх спектаклях в местном театре (а ещё лучше – на премьере спектакля, поставленного по современной пьесе!)…
А что раньше? Раньше совсем другой ритм и режим дня! Утром не спеша встал, позавтракал, отправился знакомиться с городом, где-то днём после обеда два-три часа бесед с Юрием Владимировичем, а там, глядишь, пора и собираться на цирковое представление. Программу я уже знал наизусть, и Дуров на меня не обижался, когда я то или иное представление «прогуливал». В вечерние часы я любил в гостинице написать странички три-четыре из той или иной главы своего циркового повествования…
В общем, жизнь круто менялась! Но и начатую работу над повествованием я тоже бросать на произвол судьбы не хотел. Посоветовался с Юрием Владимировичем. Он поразмыслил и согласился со мной: действительно, послевоенные главы вольно или невольно проигрывали перед предыдущими. Мы оба, не сговариваясь, вышли на тему, точнее проблему, интересующую и историков, и литераторов, и многих деятелей искусства: а где же начинается история и где она завершается^. Вот отзвучали аплодисменты, подведя итог премьере. Так что же, она уже история, ушла в историю? А мы не успели её и пережить, прочувствовать? Или, скажем, проблема поколений. Нас разделяет десять лет. Начало века видим совершенно по-разному да и двадцатые годы – тоже, а потом впечатления как-то выравниваются, мы начинаем жить эпохой при всей разности судеб и индивидуальностей почти одинаково…
Совершенно разная у нас и война. У меня – блокадный Ленинград, фронтовая журналистика, кинохроника, затем Первый Белорусский фронт, взятие Берлина, длительная работа в архивах поверженной Германии. А у Юрия Владимировича за исключением Смоленских и Ярославских гастролей – далёкий тыл, труд на арене до изнеможения, жизнь при всех обострившихся осложнениях привычная, цирковая, к которой готовы и душа, и тело. А вот теперь в послевоенные годы мы часто бываем вместе, ездим по одним и тем же городам, пишем историю цирка, и эта история всё ближе и ближе подступает к нам, того и гляди перевернёт страничку отрывного календаря…
– Знаете что, Николай Афанасьевич? – вдруг предлагает Дуров. – Давайте сделаем так. Пусть в основе послевоенных глав будет не материал после бесед, которые мы с Вами ведём, а сами беседы с их спорами, ассоциациями, воспоминаниями… Ну вот начнём хотя бы так…
Первый послевоенный год, 1946-й, Юрий Владимирович начинал в Ленинграде, городе с очень разборчивой, избалованной многими отличными гастролями цирковой публикой. Что ей показать? Чем удивить? Чем порадовать? В цирковой среде бытует мнение, что цирковая работа не так уж разнообразна. Это театральная премьера может ошеломить, изменить представление зрителей о данном театре. А цирковые жанры можно сосчитать по пальцам, зато повторов и штампов воистину не счесть! Стало быть, так или иначе, а главное – это отделка каждого номера, работы над которым можно и нужно довести до блеска. Полностью соглашаясь с этим, Юрий Владимирович тем не менее неустанно работал над драматургией своих цирковых программ. Первая послевоенная программа получила название «Зоологическое ревю». Русские народные пляски и песни словно обрамляли номера с животными. Сам дрессировщик выступал в национальном костюме, читал героико-патетические монологи, обращаясь в зрительный зал к фронтовикам:
И опять зазвенел перелив бубенцов. Рвутся кони мои вороные. И на лучших местах здесь я вижу бойцов, что сражались во славу России!Автором монолога был Сергей Михалков, с которым Юрий Владимирович начал творческое сотрудничество ещё в военные годы. Монологи в стихах для него писали также Алексей Симуков, В. Масс и М. Червинский… Сам же Дуров всё реже и реже брался за литературное перо. Зато его всё больше и больше стала привлекать цирковая режиссура. Он решился уподобить цирковой манеж старинной базарной площади с её балаганами, бродячими артистами, неизменным медведем, скоморохами… Проблемы национального своеобразия цирка стали предметом его постоянных раздумий.
^алая русская тройка с Юрием Дуровым в русском костюме с берегов Невы домчала до берегов Днепра, в Киев, потом она рванулась на Дальний Восток и вновь вернулась в Москву, где дуровские номера были включены в программу «Наши гости». Это был длинный парад достижений советского многонационального цирка: вместе выступали туркменские наездники А. Калгановы, узбекская наездница Лола Ходжаева, украинские эквилибристы Ф. и А. Миктюк, татарская акробатка Б. Карачурина, азербайджанские силовые акробаты М. Мирзоев и М. Манучаров, дагестанские канатоходцы под руководством Рза Али-Хана, тувинские жонглёры во главе с Оскал-Оолом… Был и чисто русский номер – «гигантские шаги» Н. Павлова. В этой программе Юрий Владимирович дебютировал как постановщик – вместе с Борисом Шахетом он поставил третье отделение программы.
Представление «Наши гости» с успехом прошло в Ленинграде, Риге, Казани, Сталинабаде и Ташкенте. На рекламных щитах появились слова, обыгрывающие название программы: «НАШИ ГОСТИ – желанные гости!» Мне посчастливилось видеть это представление в Ленинграде, и оно осталось у меня в памяти именно как парад творческого мастерства, которое каждый народ донёс из глубин веков. Впоследствии по драматургическим делам я побывал и в Дагестане, и в Туве и вспомнил этот праздник циркового искусства.
Постепенно, слово за слово мы с Юрием Владимировичем в наших беседах всё чаще стали уделять внимание именно проблеме национального своеобразия в цирке. Я ему приводил примеры из прозы, кинематографа, театральной драматургии и невольно подталкивал своего приятеля на разговор о цирке: «А вот в цирке, мне думается, особенно в дрессировке трудно найти яркую национальную окраску!» Юрий Владимирович решительно со мной не соглашался:
– Почему же? Вот начнём хотя бы с того, что у каждого народа своя климатическая зона, своя неповторимая природа, свой привычный ему животный и растительный мир. Я как дрессировщик, конечно же, больше всего пекусь о мире животных. В Грузии водятся туры, каких нет, скажем, в Белоруссии, но зато Белоруссия могла бы дать дрессированного зубра, и сценка могла бы называться, ну, например: «Утро в Беловежской пуще». А вот в Киргизии водятся снежные барсы (или, как их ещё называют, ирбисы) и беркуты. Могла бы быть потрясающая сценка «Весна на склонах Ала-Тао». Даже горы, и те у наших народов разные! Ну что общего у Кавказа и Алтая, Памира и отрогов Ала-Тао? Это мог бы цирковой художник в декорациях, костюмах, освещении выразить очень впечатляюще!
Мне очень понравился отличный конный номер М. Туганова «В горах Кавказа» с «хромающей», якобы раненой лошадью. И обратите внимание! Вот два всадника – кавказец Туганов и туркмен Хаджибаев. Оба храбрецы, виртуозы, но совершенно разный стиль, иные привычки, даже осанка – и то разная.
Я видел на арене работу и М. Туганова, и Д. Хаджибаева и не мог не согласиться с замечаниями Юрия Владимировича, однако, как литератор, я всё же больший акцент делал на исходном литературном материале, сетуя на то, что он используется пока ещё явно редко и недостаточно. Естественно, наш разговор перешел к проблемам национального характера. И тут Юрий Владимирович рассказал мне о знаменитом Кадыр-Гуляме.
– А Вы знаете его настоящую фамилию? Его зовут Владислав Константинович Янушевский. Родился он не в Средней Азии, а в Литве, но долгое время жил и работал в Узбекистане. К тому же он прошел отличную цирковую школу с детских лет. Но это уже другая тема!.. Посмотрите, как он обращается с верблюдом! Будто с колыбели был кочевником! Удивительная и очень поучительная судьба! Слов он не произносит, но, обратите внимание, какая у него богатая мимика, какая жестикуляция, пластика. Вспомните и согласитесь со мной – перед нами человек Востока.
А потом Юрий Владимирович невольно возвращался к главной своей теме – к животным, столь милым его сердцу:
– Как Вы думаете, есть ли у зверей национальный характер? Я уверен, что люди и звери, живущие вместе в одной стране, в одном климате оказывают друг на друга взаимное влияние. Звери и люди уже не могут друг без друга. Звери привыкают к людской заботе, люди – к помощи животных, они их олицетворяют, даже обожествляют, делают своими кумирами, рисуют на гербах государств и городов, устраивают в честь них праздники, приглашают на свои праздники. Ну что за масленица на Руси без медведя!
Пример с медведем меня убедил, но я выдвинул другой пример – со слоном. Слоны, как известно, живут либо в Индии, либо в Африке, и то и другое от России далековато… И тем не менее, дуровскую школу дрессировки, дуровский аттракцион без слона представить себе невозможно!
Юрий Владимирович засмеялся и сказал, что дуровские слоны не простые, а очень сильно обрусевшие, чуть ни всю страну в товарных вагонах исколесившие и всякого лиха на пути хлебнувшие.
– К тому же, – добавил он, – мы слонов с малолетства приручали и на наш российский лад переучивали.
– А обезьяны? – не унимался я. – Вот совсем не вписываются в русский интерьер. Такие они экзотические!
– По природе своей – да. Но воспитание опять же наше, наша школа, наша публика, да и номера – тоже наши. Возьмите хотя бы историю любимца деда моего – шимпанзёнка Мимуса. Москва-матушка стала его родиной, а семьёй – семья деда, где он жил словно младший ребёнок. Вот у меня гамадрил Яшка во весь опор по арене скачет на вороном пышногривом пони. Материал для номера заморский, а сам номер русский! А возьмите другую мою любимую обезьянку – Люлю, которая с веером в руках по канату ходит, а потом садится ножка на ножку. Ведь это всё подсмотрено прямо на манеже. Она у меня в какой-то степени одну известную воздушную гимнастку копирует. А вот кого, не скажу! Уж больно не дружеский шарж получился! У меня в номерах и в программах в целом объединены не только по природе своей чуждые друг другу звери (ну скажем, петух и лиса), но и биологически бесконечно далекие друг от друга. Судите сами, что общего между слоном и морским львом, верблюдом и зайцем, страусом и пуделем! А у меня они все вместе не только в аттракционе, в программе, но и даже в одном номере – «Звериная карусель»!
– Но ведь есть животные, с которыми Вы, Юрий Владимирович, принципиально не работаете. Например, кошачьи, змеи, крокодилы…
– Ну, крокодилов и змей я органически не переношу! Что же касается кошачьих, то с ними есть кому работать: Александров-Федотов, Бугримова, Назарова, Эдер… Они и другие мастера делают это блестяще. У каждого свой стиль, свой подход, свой творческий почерк. А вот такого смешанного аттракциона ни у кого нет. Это признак нашей, дуровской, школы! Впрочем, Николай Афанасьевич, крокодил у меня был! На манеже появлялся тот самый Крокодил, которого все знают по одноименному сатирическому журналу. В руках у него вилы – того гляди кольнет! Но это был не настоящий крокодил, и играл его актер И. М. Южин, а мои животные представляли из себя живые карикатуры. Южин наступал на меня и, рыча, произносил такие обличающие строки:
Почему-то нынче Дуров избегает каламбуров. Слишком мало он даёт сатирических острот. Вдруг забросил бич сатиры внук великого задиры. Чтоб он деда не забыл, ты напомни, Крокодил, и задай ему урок — вилы в бок!– Какой же это год? Мне такого номера видеть не довелось!
– Это конец 1948 – начало 1949 года, наше сатирическое международное обозрение. Номер ставили известный уже вам Шахет и режиссёр Арнольд. Художником был знаменитый карикатурист Борис Ефимов! Тексты нам писали Михалков и Сухаревич, была у меня и «Прощальная песенка», с которой я покидал манеж, завершая программу. И всё же радости особой эта сатира у меня не вызвала. Слишком плакатной, нарочитой была злободневность. Даже в международной сатире была очень строгая порционность, дозировка, а ведь дуровский юмор и дуровская сатира всегда были очень смелыми, раскованными! Ну, какая, скажите, смелость громить пресловутый план Маршалла![133] Или клеймить позором поджигателей войны, особенно после того, как в нашей стране был принят закон, запрещающий пропаганду войны! Гораздо больше замир агитировали мои голуби, которые под знаменитую песню Дунаевского «Летите, голуби, летите…» слетались ко мне со всех уголков цирка! Романтика и патетика лучше отвечали и моему душевному складу! А в 1950 году мне пришлось в программе «За мир во всём мире» вместе с ослом, свиньёй, собаками и поросятами клеймить поджигателей войны всех мастей. Тут же звучали и «Гимн демократической молодёжи», и песня Шостаковича «Мир победит войну». В этой программе как чтица дебютировала моя Наташа. Она читала «Монолог матери». В руках участников парада были листы со Стокгольмским воззванием… В общем, от цирка как цирка очень мало что оставалось. Живопись без живописи, цирк без цирка, театр без драматургии… Всё это нам так хорошо знакомо!
Наш начавшийся на оптимистических нотах разговор приобретал минорную тональность. От цирка требовали газетных приёмов и газетной оперативности. Если в конце 20-х годов современная тема органично входила в программы, её искали, интерпретировали, находили ей художественное решение, то в конце 40-х – начале 50-х годов положение было иное. Так и появились далеко не всегда отчётливые намёки то на войну в Корее, то на воротил большого заокеанского бизнеса, то на великие стройки той поры… Юрий Владимирович называл мне гастрольные города, среди которых были вновь Саратов, вновь Магнитогорск, Новосибирск, Хабаровск… Рассказывая мне о среднеазиатских гастролях, Юрий Владимирович оживился, обрадовался:
– Для узбекских ребятишек мы устроили праздник ёлки, по-нашему, по-северному! С Дедом Морозом, со Снегурочкой, с медведями!..
Вот это запомнилось, запечатлелось в душе!..
– А чем ещё те годы памятны? – спрашиваю.
– Да вот была одна травма на арене, не такая страшная, как от укуса морского льва, но тоже весёлого было маловато! А вышло всё так. Работал на арене с медведем. Что-то его то ли напугало, то ли разозлило… А тут ещё ремешок-намордник порвался, и миша меня за ногу цапнул! Сильный был укус! Чувствую, что ботинок наливается кровью. Но разве могу я публике показать свою боль или даже просто неудачу? Нет, конечно. Довожу номер до конца, с трудом покидаю манеж и… В памяти полный провал. Прихожу в себя уже в больнице. Не буду вас страшить подробностями. Одно скажу– двадцать шесть швов наложили! Пришлось прервать гастроли. После больницы попал в санаторий, в Кисловодск. Так неожиданно для себя впервые за многие годы отдохнул. Вот она – наша жизнь цирковая!
Любили мы с Юрием Владимировичем после двух-трёх представлений премьеры дать ей оценку сличить свои впечатления; ощущения от программы в целом и отдельных номеров. Начинали с премьеры; а потом слово за слово вспоминали лучших цирковых артистов; полюбившиеся нам номера. Меня очень интересовала точка зрения Юрия Владимировича; его подход к работе коллег по манежу. Кого же он больше всего ценил, кем больше всего интересовался? Я полагал; что прежде всего – дрессировщиками; и ошибся. Оказывается; клоунами! Особенно – теми клоунами; кто выступал с животными. Это Карандаш с собачкой Кляксой; Борис Вяткин с его забавной собачёнкой Манюней; клоун Акрам со своим неизменным ишаком.
Оценивая работы дрессировщиков разных поколений; Юрий Владимирович всегда старался в беседах со мной показать; что нового привнёс в искусство дрессировки тот или иной мастер арены. Он хвалил Бориса Эдера за спокойную непринуждённость; высокий темп работьц умение сопровождать «страшные» номера шутливыми разговорами с животными; органическое решение новых тем – например; на арене Эдер обыгрывал папанинскую льдину разрабатывал цирковыми средствами тему полярников; покорителей Севера; и это получалось у него легко; артистично!
Говоря об Ирине Бугримовой; Юрий Владимирович подчеркивал; что она – дочь ветеринарного врача, с детских лет любила и понимала животных; что она пришла в цирк из большого спорта; стала чемпионкой по лёгкой атлетике. Вот эти два слагаемых плюс органичный артистизм и сделали её одной из лучших дрессировщиц!
В творчестве дрессировщика слонов А. Н. Корнилова больше всего Юрий Владимирович ценил его номер «Слоны и балерины». Его увлекало противопоставление тяжёлого слона и воздушной изящной балерины! «Отличный; впечатляющий контраст! – говорил он мне. – А ведь балерина в собственном амплуа никакого отношения к цирку не имеет, и тем не менее в цирковой номер прекрасно вписалась!»
Оценивая номера Степана Исаакяна; Дуров отмечал; что лично он более склонен к сценке; пронизанной национальным армянским колоритом. Абстрактная экзотика; конечно; впечатляет; но скорее в постановочном плане – собственно дрессуры в ней немного.
Говорили мы и о других дрессировщиках; но больше мне запомнились те; о которых я только что выше упомянул. Однако не только искусством клоунов и дрессировщиков интересовался Юрий Владимирович. Он высоко ценил воздушных гимнасток сестёр Кох – Марту Зою и Клару творца тройного сальто в воздухе Евгения Моруса, эквилибриста Льва Осинского, который вернулся с фронта без одной руки, но работает на манеже так, что зрители даже не замечают протеза у акробата! Я, в свою очередь, когда речь зашла об Осинском, привел пример из литературы – ещё более тяжелое положение у московского писателя Иосифа Дика: у него рук нет вообще. Он всё делает ногами. Даже водит автомобиль. Если меня порою подвозят на своих машинах московские приятели в гололёд или сильный снегопад, я немного опасаюсь, а вот с безруким Диком совершенно спокоен!..
Маршрутами судьбы
Рассказал Юрию Владимировичу о Дике и сразу же пожалел об этом – не надо было про автомобили и всякие дорожные дела вообще говорить: в 1953 году под Вышним Волочком на зимнем шоссе машина, в которой ехали Дуров с супругой, попала в аварию. Юрий Владимирович был доставлен в больницу, а его супруга погибла! Едва подлечившись, артист снова вышел на арену. С переломанной рукой, заключённой в гипс, он поднимал слона на «ов» и кланялся публике с улыбкой! Никогда ему не было так тяжело выступать! Никогда он так близко не понимал горя своего двоюродного деда Анатолия Леонидовича Дурова, который оставлял умирающего сына и шёл на манеж в своём клоунском наряде!..
Но и тогда его закружил цирковой конвейер! Рига, Саратов, Горький, Куйбышев, Сталинград, Тбилиси… Ушёл из жизни дорогой человек. Один за другим угасали любимые животные: обезьянки Люлю и Яшка-наездник, совсем сдала слониха Лиля. Ей на смену пришла в Таллине юная слониха Лэди, про которую было написано в паспорте зверинца: «Дрессировке не поддается». Механической? Возможно! Но – не дуровской! Ушёл на покой любимец Юрия Владимировича лама Петя. Он подарил его юннатам Тбилисского дворца пионеров.
И опять карусель конвейера! Иваново, Архангельск, Одесса, Ростов-на-Дону, Воронеж, Сталинабад, Запорожье и… Первые зарубежные гастроли. На сей раз – Польша, а в Польше – Варшава, Лодзь, Белосток… Самой радостной рецензией на дуровскую программу была коротенькая информация в одной из польских газет. Называлась заметка просто и выразительно: «Штурм цирка!» Польские гастроли знаменательны были и тем, что впервые в печати появились «Записки Дурова-внука» – был у нас с Юрием Владимировичем такой вариант литературной записи его автобиографии. Другие фрагменты этого варианта в 1961 году опубликовал в третьем номере журнал «Наш современник». Назывались записки в целом «Здравствуй, цирк!» и включали они в себя главки «Ассистент дрессировщика»; «В наших зверинцах»; «Мой первый цирк» и «Мой большой аттракцион». Предваряло публикацию моё предисловие. К сожалению; редакция предпочла этот; условно говоря; средний период в жизни и творчестве Юрия Дурова; в то время как мне всегда казалось; что самое интересное – это детство; отрочество и ранняя юность, то есть жизнь рядом с дедом; атмосфера; окружающая его; Москва тех незабываемых и полных неповторимого своеобразия лет. К тому же наш редактор кое-что «подсушил»; предпочтя всему слишком плотную фактуру. И всё же мы оба были рады – наши беседы услышали читатели; бывшие; нынешние и будущие цирковые зрители.
В 1963 году тот же «Наш современник» в шестом номере поместил мой исторический очерк «Дедушка русского цирка». Публикация была юбилейной; посвящалась столетию со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова. В том же году в издательстве «Знание» вышла в свет моя брошюра «Владимир Дуров». Вот; собственно; и все мои дуровские публикации! Мало! До обидного мало! И «распечатывать» другие варианты книги по журналам и еженедельникам не было ни сил; ни времени; и новая работа заставила дуровскую рукопись отложить в сторону…
Мы с Юрием Владимировичем уже привыкли к нашим совместным поездкам; нашим многочасовым беседам; нашей совместной работе. Но встречались мьц однако; всё реже и реже. Наши маршруты не пересекались ни разу за исключением одного: мы оба в 1959 году оказались в Ленинграде в дни зимних школьных каникул. Я приехал навестить сына Колю и повёл его с собой на представление; в котором участвовал Юрий Владимирович; познакомил его со своим другом; провёл за кулисы; «познакомил» и с морским львом, слоном; и с другими обитателями таинственного циркового мира. А потом мы отмечали вместе с Юрием Владимировичем Новый год! Как всегда; вспоминали города и годьц страницы нашей книги; которая тогда в первоначальном варианте так и называлась – «Записки Дурова-внука». Почему? Я очень любил Аксакова; особенно его славную книгу «Записки Багрова-внука». Вот так и родилось это первоначальное название.
А потом мы виделись с Юрием Владимировичем только в Москве. Помню один долгий разговор летом 1962 года. Дуров чувствовал себя неважно: где-то простудился да и переутомление сказывалось… Лето стояло прохладное; затем; правда; погода немного исправилась. В номере гостиницы «Пекин» было неуютно. Юрий Владимирович покашливал; постоянно делая глотки крепкого чая. Больше всего в тот вечер он мне рассказывал о грузинских маршрутах; о том, как он вместе с артистами грузинского цирка выступал в районном центре Сагареджо; как ехали на трёх автобусах; а в грузовиках мирно соседствовали; любуясь красотами Кахетищ морской лев, бурая медведица; шотландский пони. Весна была запоздалая; повсюду цвёл миндаль – незабываемое зрелище! Но где выступать? В райцентре нет цирка? Цирка действительно нет, но, оказывается, в центре селения высится большое круглое здание, увенчанное куполом. А внутри – амфитеатр со свежеокрашенными скамьями, рассчитанный на восемьсот мест! Неплохо для райцентра! Есть и небольшая арена, посыпанная опилками и укрытая ковром. А всё остальное – как в настоящем цирке: и яркие нарядные люстры, и прожектора, и другая аппаратура… Откуда такое богатство? Оказалось, что местные мужчины обожают традиционную грузинскую борьбу. Из этого села вышли многие знаменитые спортсмены и даже чемпионы. И вот республиканский спорткомитет не поскупился и отгрохал это славное сооружение. Здесь проводятся соревнования по борьбе, но сегодня не борьба собрала публику. Юрий Дуров в Кахетии обращается к своим зрителям по-грузински. Он повторяет мне грузинские слова и спрашивает: «Ну, как? Похоже на грузинскую речь?» Я киваю головой и аплодирую выходному монологу, произнесенному на языке Шота Руставели.
Тбилиси сыграл в жизни Юрия Владимировича особую роль. В этом городе сложилась его новая семья. Он женился на знаменитой наезднице народной артистке Узбекской ССР Лоле Ходжаевой. Юрий Владимирович и Лола своего сына называли Юрием. Так появился ещё один Дуров – Юрий Юрьевич, или Юрий Дуров-младший. Впоследствии и он вышел на манеж с дрессированной им обезьянкой в традиционном для всех Дуровых-мужчин клоунском наряде.
Удивительная судьба у цирковых артистов! Никто больше в мире искусств так не связан с дорогами: кинематографисты отснимут материал в экспедициях, и начнётся студийный монтажно-тонировочный период; театр проведёт гастроли и вернется домой, а циркачи, или, как говаривали в прошлом веке, циркисты, всё в пути, в пути, в пути…
Спрашиваю Юрия Владимировича о том, какая из поездок принесла ему самые большие и сильные впечатления. Ну, хотя бы из числа послевоенных.
– Ну, конечно же, дальневосточные встречи со звероловами! В 1946 году ещё до нашего знакомства в Кисловодске я побывал на острове Тюлений. Морской лев – моя давняя любовь, но каждый экземпляр в буквальном смысле слова – на вес золота. К нам он поступает кружным путём – через Западную Германию или Голландию. Очень изнеженный зверь! Его родина – калифорнийское побережье. Он очень разборчив в еде, чувствителен к любым переменам погоды. И я подумал: «А что если найти ему замену, биологически близкую?» В дальневосточных краеведческих музеях я видел чучела разнообразных ластоногих: белух, котиков, моржей, нерп, но морского льва там не было. Я обратился к специальной литературе.
Ба, да у нас есть свой морской лев – сивуч \ Очень близкий морскому льву родственник. А вдруг он поддастся дрессировке? Вот тут-то и пал выбор на остров Тюлений, лежащий у оконечности Сахалина в Охотском море. Главцирк согласие да л, а в Союзпушнине и Зооцентре меня огорчили – оказывается, интересующие меня острова вместе со зверосовхозами отошли в ведение Министерства совхозов. Я уже совсем запутался в этих ведомственных сетях! А надо торопиться. Основные массы сивучей уплывают от нас в середине сентября. Выручили военные моряки. В то время как раз близ острова Тюлений тралили мины, оставшиеся после войны. В моё распоряжение предоставили один из малых тральщиков. Вся команда судёнышка состояла из очень молодых моряков. Старшему из них, лейтенанту С. Сеитову, было всего лишь 23 года! Моряки увлеклись моей идеей и с удовольствием мне помогали.
Необычное плавание дало много свежих и неповторимых для меня, сухопутного в общем-то человека, впечатлений. Мы шли мимо острова Сахалин, через Татарский пролив, были в заливе Терпения, в бухтах святой Ольги и святого Владимира… Я ощущал себя прямо-таки мореплавателем! Всюду меня окружала северная экзотика. Вот проплыл морской зверь – хищная касатка. Издали показались фонтаны кашалотов… Но моряки прежде всего должны были интересоваться другим «зверьём» – вражескими минами. Одну из найденных мин мы расстреляли из пушки, а другие вылавливали тралом.
В открытом море мы отметили первую годовщину Победы над Японией. На нашем маленьком судёнышке было большое торжество. Ребята просили меня рассказать о цирке, и я с радостью делился с ними бесконечными забавными происшествиями из цирковой жизни, по возможности, с «морским уклоном»: старался припомнить такие байки, где были вода, моря, реки, морские животные, морская тематика… Моряки хохотали ото всей души! Они и представить себе не могли, что на их крохотном кораблике будет такое устное представление давать дрессировщик, а я тем более не мог себе представить, что буду в море в такой чудесной компании вдали от берегов делить с военными моряками досуг и веселье.
И вот наконец-то на виду показался желанный остров. Над морем поднималась небольшая скала, очень строгая и неприступная. Пришвартовались, найдя удобное место. Осматриваемся и видим нечто вроде небольшого пляжа. На окрестных скалах – птичий базар с сотнями тысяч кайр, а на песке – лежбища с десятками тысяч ластоногих. За несколько миль до остова мы слышали звериный рёв и птичий гам. Я страшно обрадовался! Что и говорить – попал в свою стихию. Спрятался и наблюдаю за поведением местных обитателей. Вот кайры учат птенцов плавать. Столкнет мамаша сверху со скалы малыша крылом в воду, а сама плывёт рядышком, поглядывает, как её ребёнок в воде осваивается. Между прочим, я именно тогда узнал, что хвалёный американский яичный порошок, которым дельцы из США пичкали «маршаллизированные» страны, изготовлен из яиц диких морских птиц – собирали для продажи даровые яйца на птичьих базарах. Вот она цена «благодеянию»!
Глаз не могу оторвать от скопления ластоногих. Если какой-нибудь шаловливый малыш отобьётся от своего стада, рачительные мамаши загоняют детёнышей домой. Котиков больше всего. А нет ли среди них сивучей? Если они и есть, то они затерялись в массе котиков. Встретили мы там и охотников-промысловиков. Подумал и решил попросить их поймать для меня несколько котиков. Не возвращаться же с пустыми руками! Поймали для меня десятка три – от самых крохотных до огромных самцов! При погрузке один из котиков вроде как умер, а остальные показали себя опытными и умелыми беглецами. А тот, который «умер», оказался ловким симулянтом: почувствовав себя в родной стихии, он мгновенно ожил и быстро уплыл. Особую прыть беглецу придало появление на горизонте хищницы-касатки.
В дороге котики томились, тоскливо ревели, ничего не ели, словно объявили голодовку в знак протеста против пленения. Через несколько суток мы благополучно прибыли во Владивосток. Мой помощник по хозяйственной части В. Мильво, извещённый по радио о нашем улове, вполне подготовился к приёму морских гостей. Были изготовлены клетки, заказаны четыре бассейна. Но гостям всё было не мило. Они по-прежнему отказывались от еды. Пришлось попытаться кормить силой! Не помогло ничего! Только пятеро самостоятельно стали глотать рыбу. Лишь один прожил у меня шесть месяцев. Это был своеобразный рекорд. Не удалось мне даже попробовать их дрессировать, потому как все силы были брошены на сохранение их жизни…
Юрий Владимирович нахмурился и махнул рукой – что, мол, говорить – такая беда вышла!
Я хорошо понимал его – и не потому лишь, что за годы нашей дружбы научился ценить и любить его животных, искренно горевал, когда они болели или тем более гибли. Я им и сам, находясь на Дальнем Востоке, пытался чем мог помочь в поисках сивучей. В устье Амура я познакомился с опытным зверобоем И. К. Непомнящим. Человек чуткий и увлекающийся, он живо откликнулся на мою просьбу. Она уже стала как бы моей, хотя, конечно, исходила от Юрия Владимировича.
– Морской лев? – переспросил Непомнящий. – Видали мы такого зверя. Чуть ли не в Амурском лимане даже… А зачем и кому он нужен, мы не знали. С производственной точки зрения проку в нём никакого: жиру мало, шкура невелика… Короче говоря, взяли, да и выбросили в воду!
– Что же вы наделали! – воскликнул я. – Вы взяли и выбросили в воду пуд золота!
– Да, – сокрушённо протянул зверобой, – что же теперь делать-то? И сейчас нам на него идти несподручно. Наш кунгас приспособлен для белухи. Для неё и специальная снасть сделана. А за сивуч ем вашим надо идти в открытое море. Тут и сеть нужна помельче, и судно покрепче. А самое главное – приказ нужен. Из Главка. У нас и без того план по белухе велик!
В общем, я понял, что дело не в сети, не в судёнышке, а в бумажке. Ничего нет удивительного. Как шутил герой одной комедии, «на том и стоим – на бумаге с печатью и стоим».
Пока шли телеграммы в Главк, пока там что-то согласовывалось, решалось, побережье затянулось густыми туманами. За белухой я пять раз вместе со зверобоями сходил – почти пятьсот хищников взяли! Я тоже, как заправский зверобой, стал этими показателями гордиться. А вот сивуч ни разу в сетку не попался… Зато мы с Юрием Владимировичем оба в разное время приняли морское дальневосточное крещение…
Беседа наша продолжалась, шла какими-то кругами, захватывая то одну сферу, то другую. И вот вольно или невольно вернулись мы на круги своя, на старую улицу Божедомку в Уголок зверей, пристань, от которой начались все жизненные маршруты Юрия Владимировича.
Элегия и ода славных дней
– Это всё путешествия, странствия, дороги… А если поставить вопрос иначе?..
– Я уже понял вас, Николай Афанасьевич! Можете вопрос не формулировать. Вы хотите узнать о том, был ли у меня Дом, Дом с большой буквы, который, как маяк, звал меня все годы. Был, есть и останется навсегда. И вы сами мне его назовёте! Это дом деда, Уголок зверей, бывший особняк принца Ольденбургского на старой Божедомке. Где бы я ни был, я мысленным взором охватываю его комнаты, залы, лестницы… Я иду по нему и вновь вижу перед собой этот земной рай, откуда сам себя изгонял по недомыслию и непониманию истинной ценности того богатства, которое мне уготовила судьба.
Больше всего я любил нашу парадную, нашу лестницу. На ней – уголок природы, отражённой в скульптурных образах животных первобытных времён. Всех этих динозавров и ихтиозавров вылепил из глины мой дед. Он словно приглашал посетителей заглянуть в прошлое мира зверей.
Музею была отдана правая часть особняка. Там в динамических позах застыли лучшие из четвероногих друзей Владимира Леонидовича, соучастники его трудов и славы: старый друг Топтыгин, верная собака Бишка, умница-обезьянка Гашка… Это не скульптуры, а чучела. Они казались мне такими натуральными, такими родными, что я воспринимал их как живые существа. О каждом из них можно рассказывать долгие и увлекательнейшие истории. Все они – герои дедушкиных представлений, книг, картин, фильмов…
В другой половине дома по всей дедушкиной квартире вплоть до бабушкиной спальни резвилась уйма живых зверьков и птиц. И среди этого шумного «народца», как любил говорить дед, жил и работал он – странный, необыкновенный человек, старый, весёлый клоун с лицом мудреца.
Сидит он в своём Уголке зверей и придумывает волшебные истории, в которых ворона играет роль кучера, страус – коня, гусь – солдата, курица – балерину, енот – прачку…
Иногда дед, испытывая мою мальчишескую храбрость, оставлял меня одного ночью в большом зале. Где-то ухал лесной филин, во мраке светились глаза какого-то хищника… Здесь было царство сказок наяву, да и сам дед казался не каким-то абстрактным магом и волшебником, а добрым сказочником. И вправду был он немного «неземным», непрактичным в житейских делах человеком. Например, не вникал в цены в магазинах и на рынке, не очень интересовался актуальными текущими, как мы сейчас говорим, животрепещущими новостями. Зато какому-нибудь занятному номеру мог отдать все силы и всё время без остатка. Помню, с каким увлечением он работал над номером «Оркестр». Слон крутил ручку шарманки, осёл бил в литавры, морской лев дудел в рожок и бил ластом по барабану, пеликан под эти «сладостные» звуки вальсировал…
Запомнилась мне работа деда и над номером «Небывалая школа». Дед очень любил неожиданные сочетания животных. Вот и в свою школу он собрал очень разных учеников, которые в природе вместе не встречаются: в школе «учились» три морских льва, пеликан, слон и две собачки. Слона вызывают к доске. Он старательно пишет мелом палочки. Собачки лаем объявляют результаты математических упражнений. Морской лев стирает ластом с доски неправильные ответы. И никто никого не обижает, никто никого не трогает, не задирает. Тут и ребятам в обычных настоящих школах есть чему поучиться!
С чего начиналась дуровская школа дрессировки? С огромной всепоглощающей любви ко всему живому! «Мои маленькие друзья, – говорил дедушка, – всегда бодры, веселы. Это их неоценимое достоинство. Ласка всё может сделать с животными! Я не могу быть жестоким, потому что люблю и жалею зверей. Забитые и запуганные, они худо работают на манеже».
Неудивительно, что звери дедушки стали моими друзьями и остались моими друзьями на всю жизнь. Про славного ездового верблюда Чижика я вам рассказывал. Очень привязана ко мне была слониха Нона. Какое это было спокойное, великодушное и терпеливое животное! Я даже не ел сладкого ради Ноночки – всё отдавал ей. Зато какие радостные, красивые по звучанию клики, подобные звукам фанфар, издавала она при моём появлении!
Вы меня как-то спрашивали, как относился Владимир Леонидович к ребятам. Не к тем, которые там, где-то далеко в зрительном зале, а к тем, которые озорничают, всюду лезут, всё высматривают. От мальчишек в Уголке зверей не было отбоя. Напрасно думают, будто в 20-е и 30-е годы дед был каким-то отшельником. Нет и ещё раз нет! Двери Уголка зверей были открыты для желающих и, прямо скажем, кое-кто даже злоупотреблял дедовской добротой. Но о ребятахя так сказать не могу. Они приносили доброму дедушке Дурову (они его так и звали, очень редко обращались к нему по имени и отчеству!) то воронёнка, выпавшего из гнезда, то где-то пойманную белку, то кошечек, то собачек… Дедушка всегда стремился заинтересовать ребятишек жизнью животных, разбудить в них сочувствие к беззащитным зверькам.
В дрессировке дед очень любил контрасты. Самого большого эффекта он достигал там, где стремился привить животному что-нибудь вовсе не свойственное его натуре. Ну, скажем, собака добровольно влезала в ошейник, пугливая пустельга садилась добровольно на ствол громко стреляющего ружья!
Меня часто спрашивали и о моей работе, и о работе деда: «А какой самый большой секрет дрессировки?» И я не боялся выдать этот секрет. Он действительно есть. Это отбор! Дед оставлял себе лишь наиболее способных, я бы даже сказал, в своём роде феноменальных учеников, исключая из своей дуровской школы тупиц и лентяев. Его любимое изречение было такое: «Умнику – пирог, а дурака – за порог». Так что, в шутку говоря, всеобучем дело и не пахло! Да он и не нужен, этот звериный всеобуч и в современных условиях. Что толку тратить силы и время на животное, от которого не будет творческой отдачи! Да и содержание зверей, особенно крупных и редких, обходится очень дорого.
В дальнейшем и я сам не раз убеждался в том, что восприимчивость у животных далеко не одинакова. Вот взять хотя бы дедушкиных прославленных фокстерьера Пика и сенбернара Лорда. Это они с блеском исполняли главные роли в фильме «И мы как люди». Портреты Лорда в роли старого дядюшки-опекуна юной болонки Мими облетели многие европейские газеты. Дед очень гордился тем, что собачье фото печаталось в газетах. Лорд даже научился чуть-чуть говорить: он довольно внятно произносил слово «МАМА». А Пика обессмертил в своих ученых трудах академик Бехтерев. Он восторгался и собакой Марсом, которая не только водила гостей по Уголку зверей не хуже экскурсовода, но и воспринимала на слух ноты и различала цвета!
Уча зверей, дед учил и людей, высмеивая с помощью животных их недостатки. Вместе с тем он утверждал, что «не он учит зверей, а они его учат». Дед восторгался преданностью и честностью собак, идеальной любовью лебедей, слухом кошки, которая слышит даже шажки мышонка, остротой зрения у совы, видящей ясно и во мраке, мускульной силой перелётных птиц, обонянием охотничьих собак, которое он считал просто чудесным!..
Очень трогала деда и дружба между его подопечными. Мне лично в Уголке зверей больше всего запомнилась дружба собаки с пеликаном. Когда погибла собачонка, то умер от горя и её приятель пеликан. Ослепла собачка Томи, и пёсик Яшка стал поводырём своего друга.
В волшебном мире Уголка зверей всё служило искусству и науке. Мы с вами как-то спорили о том, что больше ценил Владимир Леонидович. Я всё-таки и спустя годы после нашего спора остаюсь при своём мнении – искусство он ставил выше, в том числе и в последний период своей жизни. Наука была его союзницей, помощницей. Она упорядочивала его наблюдения, порою советовала, проясняла какие-то наблюдения…
А в искусстве превыше всего дед ценил артистизм, лёгкость, изящество, красоту! Дед не знал нот, но по слуху играл довольно сложные произведения. Никаких нот не знали и знать не могли попугаи. А так точно воспроизводил мелодию, исполняемую дедом великолепный певец – зелёный попугай! Он вел её ритмично, в той же тональности, испытывая при этом присущее подлинному таланту наслаждение! А серый попугай Жако подражал звуку пилы, звону разбиваемого стекла… Такого бы «звуковика-шумовика» на киностудии при перезаписи!
Вообще питомцы деда были очень музыкальны. Однажды из цирка убежал пеликан. Он услышал звуки оркестра, послушал музыку и спокойненько вернулся домой, к своему рабочему месту. Одна из дедушкиных собачек при грустном мотиве глубоко вздыхала и опускала головку, а при бодром, жизнерадостном – поднимала мордочку, и ушки её становились высокими, чуткими.
Среди любимцев деда были и лисы. Лисица обычно пользуется дурной славой, олицетворяя собой хитрость, коварство, лукавство! Вспомните хотя бы народные сказки! А у деда лисицы были послушными, деловитыми, работали в радость, дружили с петухами, не обижали кур. Акуры танцевали не хуже балерин! «Обучить» курицу танцевать – не такое уж хитрое дело: варвары, сторонники «механической дрессировки», делали это так: нагревали на огне железный лист и ставили кур на мелко присыпавший этот лист песочек. Поневоле запляшешь! Владимир Леонидович обратил внимание на то, как разгребает ногами курица землю в поисках еды. Порою делает она свои «поисковые шаги» неуклюже, а иногда эффектно, зрелищно. Тогда дед стал зарывать в землю кусочки еды, потом убирал землю, и курочка шаркала ногами, ожидая подкормки, которую уже получала из рук дрессировщика. Вроде бы просто! А какой громадный труд стоит за этим трюком! Говорят, что курица глупа, даже выражение есть такое: «Глупа, как курица!» А у куриц, оказывается, отличная память на людей. Был у нас такой забавный случай. Курочка была уже почтенная, в возрасте, давно не работала, занималась семьёй и детишками – жёлтенькими цыплятками в садике возле Уголка зверей. Вдруг метнулась к вышедшему в сад деду, зашаркала ножками, а получив кусочки хлеба и отдав «гонорар балерины» цыпляткам, возвращалась к деду и вновь исполняла свой «хлебный» танец.
Ну, о Мимусе я и рассказывать не буду! Вы о нём не раз слышали и читали. Вообще меня всё больше и больше огорчает то, что авторы книг, статей и очерков о цирке действуют по принципу «Где густо, где пусто, где нет ничего»! Одни и те же страницы и примеры без устали повторяются, а другие, не менее яркие и впечатляющие, остаются в тени.
Животные у деда не только дружили между собой, но и учили друг друга в дуровской школе дрессировки по-настоящему а не понарошку как в том учебном классе, про который я Вам рассказывал. Морской лев Лео «показывал» менее способному собрату Ваське, что нельзя убегать с тумбы и преграждал ему путь за кулисы. С морскими львами дед творил чудеса! Однажды он поставил отличную атеистическую сценку. Морской лев Паша, облаченный в рясу, становился ластами на аналой и завыванием произносил нечто подобное слову «аллилуйя». В это время «дьякон» Лео с кадилом в зубах ходил вокруг «батюшки» и кадил ладаном. Зрители прямо со смеху падали, наблюдая эту сценку!
… Много было у нас смешного, много поучительного, немало и грустного, от чего до сих пор при воспоминаниях сжимается сердце, но всё это было родным, неповторимым, единственным. С каждым годом я всё чаще и чаще совершаю эти мысленные экскурсии по Уголку зверей, нашему дому, по своему детству и отрочеству.
Мы в этот вечер долго ещё вспоминали годы минувшие, совместно и раздельно прожитые, дома, гостиницы, города, купе и каюты, вокзалы и аэропорты. Оба мы были на пути-дороги жадные, до новых впечатлений охочие! Однако меня всё больше и больше огорчало состояние здоровья Юрия Владимировича. У него сдавало сердце, развивался диабет, всё чаще мучила одышка. Не мог похвастаться здоровьем и я, но ничего ещё, держался, чуть ни всю Россию исколесил, работая в Совете по драматургии Союза писателей РСФСР[134]. А ведь я на целых десять лет старше Юрия Владимировича. Наше поколение ровесников века покрепче других, более младших поколений, что ли! Давно это замечаю. А может, сыграло роль то, что я вырос на благодатной Украине, детство провёл в Диканьке, где, говорят, такой микроклимат, что впору санаторий строить! В детстве получил немало и солнца, и витаминов – запасся на все войны и все испытания, на всю жизнь! Да ещё витамина «Ц» вкусил в малолетстве – так мы в шутку с Юрием Владимировичем нашу любовь к цирку называли. Цирк и есть тот ни с чем не сравнимый витамин бодрости, раскованности, искреннего веселья, детской беззаботности, который в любом возрасте, как говорят врачи, показан и может быть рекомендован в любых дозах!
Ваш выход, Наталья Дурова!
Речь, конечно, шла о цирке как зрелище, а не о цирке как работе. Работа эта тяжёлая, небезопасная, требующая отменного здоровья, закалки, тренированности, силы. Восхищаясь трудолюбием и дисциплинированностью цирковых детей, я тем не менее часто ловил себя на том, что недооцениваю их трудности. Детству зрителей они дарят неиссякаемые радости, а сами-то в полной ли мере наделены радостями детства?..
К этим раздумьям я вернулся вновь в декабре 1946 года в Кисловодске, где в санатории имени Дзержинского познакомился с Юрием Владимировичем Дуровым, его женой Зинаидой Тимофеевной и их двенадцатилетней дочкой Наташей. У девочки уже было профессиональное заболевание дрессировщиков – отравление аммиаком! На арене Наташа, Наталочка, как я её называл всегда, выступала с четырех лет, а с девяти – имела трудовую книжку, в которой значилась следующая запись: «УЧЕНИК ДРЕССИРОВЩИКА».
Аммиак оказал влияние на почки, но болезнь, к счастью, удалось, что называется, перехватить. Взрослый человек и то после таких переживаний серьёзно задумался бы: а стоит ли продолжать осваивать эту опасную и весьма вредную для здоровья профессию, тем более, что свет на ней клином вроде бы и не сошёлся – девочка в свои двенадцать лет серьёзно помышляет о художественной литературе, пишет рассказы о животных! Узнав об этом, я загорелся, тут же всё, что мне Наташа показала, прочитал и искренне порадовался. О своём решении и одновременно как бы редакционном заключении я торжественно объявил юной писательнице и её родителям: «С этими рассказами можно обращаться в Литературный институт на творческий конкурс!» Так оно и вышло спустя пять лет – в 1951 году Наташа стала студенткой Литинститута, в том же году она начала печататься в периодике, а спустя два года увидела свет её первая книга «Гибель старого Ямбо». Ямбо – это слон. Этого слона Наташа лично не знала – история была давняя, дореволюционная, нашедшая свое отражение в какой-то одесской газете. Но Наташа знала много других слонов, история цирка не была для неё книжной абстракцией – живая изустная история циркового искусства жила за кулисами и на арене, а династия Дуровых в цирковых летописях занимала и продолжает занимать одно из самых почётных мест, во всяком случае, без истории династии Дуровых история цирка немыслима!
Тогда, в 1951 году, Наташа одновременно сдала экзамены и в театр-студию МХАТа, и в Ветеринарный институт. Решила себя испытать, попробовать себя в актёрском драматургическом амплуа, и в этом, как вы теперь уже знаете, повторила путь проб и поисков своего отца, который тоже тянулся к театру и эстраде, а в результате всё-таки предпочёл цирк.
«А Ветеринарный институт тут причём?» – спросите вы. Отец настоял, чтобы дочка хотя бы курс-два закончила по этой специальности. Наташа согласилась и заочно проучилась полтора года. Ветеринаром не стала, но о решении своём не жалела: узнала азы этой необходимой для дрессировщика профессии, познакомилась с видными учёными в области ветеринарии. «А как же она совмещала два вуза?» – и этот вопрос неминуемо встаёт перед читателем. Ответ простой: совмещала два заочных вуза – Литературный и Ветеринарный. Трудолюбия и упорства ей не занимать. Сессии были по два раза в год. В этом смысле в школе учиться было труднее – там задания давались на каждый день, и у каждого учителя был свой почерк, свои требования, свой подход. Учителя-то менялись вместе со школами, а училась Наташа, дочь цирковых артистов, почти в 100 школах\ Такова цирковая жизнь: месяц-полтора-два в одном городе, и снова в путь! Новая школа. «Знакомьтесь, ребята! Это новенькая. Зовут Наташа Дурова. Из цирковой семьи!..» Только начнет привыкать, осваиваться, с ребятами дружить – и новый класс, и всё сначала. Училась ровно, хорошо, а в старших классах – и ещё лучше, чем в младших и средних. Девятый и десятый классы уже заканчивала в Москве. Так решили родители, на том и настояли. И правильно сделали. Закончила школу Наташа с серебряной медалью. Но не думайте, будто все предметы любила она одинаково. Вовсе нет! Предпочитала науки гуманитарные, ну и биологию с географией, конечно: дрессировщику без них не обойтись! А вот математику настолько не любила, что даже номера с собачками-математиками не вела! Считать не хотелось!
Сам процесс писания, создания литературных произведений с детства давался ей легко. Писала только от руки, к пишущей машинке, без которой я, например, как без рук, так и не привыкла. Писала почти без черновиков, густо, отрабатывая «про себя» каждое слово. Сочиняла с удовольствием, не было у неё вымученности, искусственности, которые так огорчают в рукописях начинающих да и не только начинающих авторов. И что ещё я отметил сразу – так это свободное владение материалом. Цирк она знала и чувствовала уже тогда – в отроческие годы. И, конечно, не мог я не оценить любви Наталочки к животным. Излишними похвалами талант легко можно испортить, особенно в начале творческого пути, но для себя я сделал такой прогноз: в анималистике с годами Наталья Дурова как писательница займёт видное и во многом исключительное место. И я счастлив, что этот прогноз оправдался.
«Да неужели вы её ни разу ни за что не ругали как наставник, как первый редактор?» – и такой вопрос будет справедливым. Критиковал я Наташу за излишнюю густоту фразы, шутил при этом, что пищевые концентраты очень калорийны, но для еды не столь вкусны, как натуральная пища. Обращал её внимание на то, что она порою упускает превосходные драматургические возможности того или иного рассказа и даже абзаца. «Вот из этого абзаца я (хочешь, верь, хочешь, не верь!) смог бы сделать одноактную пьесу, как минимум! А ты мельком сказала и бросила!..»
Не скажу, что всегда меня Наташа слушалась, однако, потихоньку я её к драматургии стал приобщать. Со временем она заинтересовалась этой работой, сделала несколько сценариев научно-популярных и документальных фильмов, стала автором диафильмов для ребят. Очень редкостный и интересный жанр! Жалею, что лично мне в нём поработать не довелось! Увлеклась Наташа и игровым кинематографом. Я её познакомил со своим старым товарищем Виктором Владиславовичем Эйсымонтом, постановщиком фильмов «Жила-была девочка», «Огни на реке», «Судьба барабанщика»…
Виктор Владиславович тоже любил цирк и давно мечтал о сценарии на цирковую тему. Как-то мы с ним разговорились о цирковой жизни, о её необычности и драматизме, и я ему предложил поставить фильм по повести Натальи Дуровой «Арена». Эйсымонт замыслом загорелся и попросил меня как можно скорее познакомить его с автором «Арены». Знакомство это состоялось, но замыслу осуществиться было не дано – вскоре Виктор Владиславович скончался. Так что «Арена» пока не имеет экранного воплощения, а инсценировку именно этого произведения я как-то себе не очень представляю. То есть сделать-то можно, но эффект будет во многом ослаблен. Арена хорошо смотрится в кино, а на театральной сцене получатся бесконечные закулисные эпизоды. Зрелищный эффект будет заранее утрачен. В одной пьесе на сцену взгромоздили батискаф для изучения жизни обитателей дна океанского. Получилось всё очень бутафорски скучно и даже нелепо. Нет, не этим силен театр! Пусть уж лучше будет на сцене по чеховским заветам – за чайным столом сидят и беседуют герои, а в них рождаются и рушатся миры…
Повесть «Арена» была поворотной в судьбе Натальи Дуровой: первое большое произведение о цирковой жизни для взрослого читателя. Повесть заставила Дурову бросить цирк и заняться на время только литературным творчеством. Повторилась история почти десятилетней давности, только там всё было наоборот. Наташа отлично защитила диплом, и ей, начинающему детскому писателю, было сделано заманчивое и почётное предложение – стать заместителем главного редактора одного из «толстых» всесоюзных журналов! Казалось бы, литературная карьера складывалась как нельзя лучше: книга за книгой выходят её рассказы о животных, появляются переводные книги, на оборотах титулов которых значится «Литературный перевод Натальи Дуровой», а тут ещё и перспектива стать одним из руководителей литературно-художественного журнала!.. И всё же Наташа уходит в Уголок зверей, который в ту пору возглавляла её двоюродная бабушка Анна Владимировна Дурова-Садовская. Быстро пролетели три года, и вот в 1959 году её приглашает на работу Союзгосцирк. Предложение весьма заманчивое и почётное – подготовка программы к 100-летию Дуровской династии. В трудовой книжке новая запись. Первая, как вы помните, была «ученик дрессировщика», потом, в 16 лет, «дрессировщик-стажёр» и наконец – «дрессировщик».
В 1961 году у неё появился морской лев Лель, удивительное создание! Животное умное, талантливое и очень добродушное. Могу похвастаться: я не только гладил рысь Котьку, но и снимался с Лелем[135]. На снимке так и запечатлелось – я за пишущей машинкой, а рядом со мною Лель; мордашкой в клавиатуру тычется. Наташа так и говорит всегда: «В моей жизни появился…». И дальше называет кличку зверя. При этом произносит кличку так, что она звучит; словно имя человеческое\ И в этом тоже дуровская традиция; идущая от Владимира Леонидовича. Животные входят в жизнь дрессировщика навсегда.
Десять лет она работала в системе Союзгосцирка; а когда скончалась Анна Владимировна Дурова-Садовская; возглавила Уголок зверей; вернулась в дом; в котором вырос её отец; в котором прожил почти четверть века её прадед – Владимир Леонидович… «Помогают и стены на родине. Отчего же им нам не помочь?..» – вспомнил я строки поэта Владимира Соколова; с которым Наташа училась на одном курсе в Литинституте. Пусть ей помогут эти родные стены в жизни; в творчестве; в её ежедневных заботах!
Этот дом воистину родной. Он встретил её; когда ей всего лишь от роду было несколько дней. А вышло всё так. Юрий Владимирович и Зинаида Тимофеевна; ждавшая рождения ребёнка; отправились вместе в очередные гастрольные поездки; хотя дед был категорически против. Ждать ребёнка надо дома! А появился ребёнок на свет семимесячным около Пермщ в вагоне… Внук телеграфировал об этом деду. Рассерженный и взволнованный до крайности дед сделал, казалось бы; невозможное – он раздобыл… самолёт! Простой; конечно; кажется; какой-то маломестный; вроде «кукурузника»; и через несколько часов по знаменитым ступеням бывшего дворца принца Ольденбургского на старой прежде Божедомке, а ныне улице Дурова поднимались молодые родители со своей новорожденной дочерью. Дед встретил внука-сына оплеухой (третьей по счёту: первая – за верблюда; вторая – за неаккуратность при работе с волком). После этого «поздравления» Владимир Леонидович опрометью помчался в свою комнату отрезал от беличьего полушубка рукав, сунул в этот рукав семимесячную правнучку и только тогда немного остыл.
Как начала ходить правнучка; он так и не увидел. Родилась Наташа 13 апреля; а 3 августа прадед скончался; простудившись на съёмках научного фильма.
Беличий рукав; белочкино гнездо спасло маленькую правнучку. Росла она здоровой; сильной; смелой; с малолетства обожала животных. В детстве у неё не было кукол – и не потому что не могли ей купить их, достать, а потому что животные; особенно звери-малыши; куда лучше любых кукол и плюшевых мишек и зайцев!
Самой маленькой я Наташу не видел. Цирковые дети взрослеют быстро; и передо мною в первый послевоенный год предстала уже довольно взрослая и серьёзная барышня; с которой было интересно общаться на равных. В подлинно творческой среде общение на равных – норма. Так и должно быть. Посему я был очень удивлён; услышав в поезде от одной случайной попутчицы; жительницы одного из малых приволжских городков; рассказ о её детстве; о том, что родители с детьми почти не общались, за стол общий не садились, держали ребят от себя на расстоянии… Типично мещанский подход к воспитанию! В среде художественной интеллигенции всё наоборот! Ребята, избравшие путь отцов и дедов, довольно быстро становятся товарищами не только по жизни, но и по творчеству, соавторами, напарниками, а возможно, и соперниками!
К тому же годы делают своё дело, стирают понемногу возрастные границы. Когда Наташа принесла мне две свои книги и три переводные, я сказал ей, что вижу перед собою сложившегося профессионального писателя. В 1963 году летом, кажется, в июле, по Интервидению шла моя передача, посвящённая династии Дуровых, и Наташа была её ведущей. А спустя десять лет мы поменялись ролями: на утреннике в Центральном Доме литератора 4 марта 1973 года ведущим был я, а сценарий творческой встречи «У нас в гостях писательница, актриса и дрессировщица Наталья Дурова» написала Наташа.
Настал час, когда я поздравил Наташу с замужеством, а потом – и с рождением сына Миши. С мужем Наташи Михаилом Пантелеймоновичем Болдуманом, замечательным драматическим артистом, одним из старейших мхатовцев, мы подружились и не раз вместе встречали Новый год и другие праздники. Вместе бывали мы и в будние дни, не только с точки зрения календарей, но и по тональности настроения. Наташа всегда навещала меня в больницах, куда меня укладывали настырные и неумолимые врачи, старалась скрасить мои больничные горести.
На одной из ранних книг своих Наташа сделала мне следующую дарственную надпись: «ХРАНИТЕЛЮ ВСЕХ НАШИХ СЕМЕЙНЫХ ТАЙН». Я был тронут таким доверием и как друг семьи, и как летописец династии Дуровых и надеюсь, что его оправдал.
А однажды добрые слова в мой адрес «написал» рукой своей дрессировщицы морской лев Лель. Мы с ним вместе сфотографировались за письменным столом. Слева – я, а справа он, а перед нами та самая моя любимая пишущая машинка «Континенталь», о которой я уже писал в первых главах этого повествования. Лель ластой, словно рукой, указывает на клавиатуру машинки. Изо всех Наташиных животных я, пожалуй, больше всего именно к Лелю и был привязан, и он всегда милостиво разрешал себя погладить. Внизу этой фотографии рукой Наташи сделана такая дарственная надпись: «ДОРОГОМУ КРЁСТНОМУ ПАПЕ В ИСКУССТВЕ, НИКОЛАЮ АФАНАСЬЕВИЧУ СОТНИКОВУ С УВАЖЕНИЕМ ОТ ЛЕЛЯ И ЕГО ХОЗЯЙКИ». И подпись: «Н. ДУРОВА».
… А вот с отцом Наташи, Юрием Владимировичем, мы в последние годы виделись, к сожалению, довольно редко. Я был привязан к Москве, а если и выезжал, то мои маршруты с маршрутами его гастролей не совпадали. Чувствовал себя мой старый друг тоже неважно – и диабет мучил, и сердце всё чаще давало о себе знать… Всё труднее он переносил переезды, бытовую неустроенность.
Мне он не раз говорил, что стал предпочитать тишину, диалог с книгой. Появились у него и неведомые мне ранее увлечения – коллекционирование портативных радиоприемников и магнитофонов…
Много сили времени Юрий Владимирович отдал обучению профессии дрессировщика своего сына Юрия. С каждым годом он доверял ему всё более и более трудную работу, приучал его к самостоятельности и в творчестве, и в организаторских делах.
С цирком он был связан так же, как и в прежние годы, однако, неожиданно вновь встретился с музой кино.
Как-то работал он на гастролях в Киеве, жил в гостинице «Украина», а соседями по этажу оказалась съёмочная группа фильма «Освобождение». Однажды решили кинематографисты отдохнуть от трудов праведных и пошли развеяться в цирк. А тут на арену на своей замечательной тройке выехал Юрий Владимирович. Режиссёр-постановщик фильма-эпопеи «Освобождение» Юрий Озеров сразу же забыл о том, что пришёл отдохнуть, отрешиться от забот, и чуть ли не на весь цирк воскликнул:
– Черчилль! Эврика!
Дело в том, что он никак не мог найти подходящего исполнителя на роль Черчилля, а Юрий Владимирович в последние годы жизни был очень внешне похож на бывшего английского премьера.
После представления Озеров ринулся за кулисы и стал настойчиво и горячо уговаривать Юрия Владимировича согласиться на пробы, которые провели тут же, в Киеве, на киностудии имени А. П. Довженко. Пробы оказались отменными! Правда, эта последняя киноработа внесла сумятицу в дела Юрия Владимировича: ему пришлось скорректировать свои прежние планы, а на Юрия Юрьевича, совсем ещё юного, легла двойная, если не тройная нагрузка. Съёмки, конечно, нарушили привычный ход жизни и работы. Так и сыграл свою последнюю роль на киноэкране прославленный мастер цирка, сохранивший любовь к искусству кино на всю жизнь.
Я смотрел все серии киноэпопеи «Освобождение». Меня, как участника Великой Отечественной войны, прошедшего путь от стен блокадного Ленинграда до рейхстага, волновала прежде всего историческая достоверность. Когда на экране появился Юрий Владимирович, я, зная, что именно он играет роль Черчилля, видел на экране Черчилля, а не своего старого друга. И в этих словах – уже оценка его киноработы.
Конечно, особенности фильма в целом и почти каждого из эпизодов таковы, что о большой драматургии каждого, даже главного в киноленте образа, говорить не приходится. Это восстановленные средствами кино эпизоды истории. Да и к тексту относиться с особым зрительским почитанием я не могу. Здесь важно другое: вот это было и, вероятно, именно так, а это могло быть, а вот тут – явный перебор или наоборот – не в фокусе оказалось то или иное событие. Во всяком случае, в такого Черчилля, которого нам представил Юрий Владимирович Дуров, веришь.
Любил в послевоенные годы Юрий Владимирович и свои авторские лекции-концерты. Говорят, они очень с большим успехом проходили. Мне, к сожалению, побывать на этих встречах Дурова со зрителями не удалось.
И всё же до конца жизни он остался верен манежу. Цирк его не просто манил, а требовал к себе своего подданного. Ведь и первое слово, которое Наташа прочитала по светящимся неоновым разноцветным буквам, было: «ЦИРК»!
Я был счастлив поздравить Юрия Владимировича с шестидесятилетием и присвоением ему звания Народный артист СССР…
… А вскоре до меня дошла трагическая весть – 22 февраля 1971 года в Брюсселе на зимнем стадионе во время циркового представления Юрию Владимировичу внезапно стало плохо. Он, верный главной артистической заповеди «никогда ни при каких обстоятельствах не терять перед зрителями лица», с неимоверным трудом добрался до кулис и упал.
Его дважды возвращали к жизни. Когда он впервые очнулся, то успел на французском языке с улыбкой рассказать своим спасителям-реаниматорам несколько французских анекдотов. Бельгийские врачи были потрясены – такой пациент им ещё не встречался! В госпитале только и слышалось: «О, мьсье Дуров, мь-сье Дуров!..» Потрясло их как врачей и то, что они увидели на теле дрессировщика, – десятки всевозможных шрамов, ран, царапин, ссадин, следов операций. Это всё – «автографы» разных животных за разные годы!.. Иметь такой набор памятных знаков от своих животных и продолжать их любить, помнить, вспоминать о них с грустью! Даже рысь Котьку, которая нанесла несколько ран Наташе, Юрий Владимирович оставил в аттракционе, разве что в звериной «должности» понизил: теперь она не выступала с сольными номерами, а принимала участие в параде животных на арене в финале представления.
… В третий раз вернуть к жизни Юрия Владимировича не удалось. Последнее, что он успел, это сделать устное завещание с просьбой похоронить его рядом со своей первой женой Зинаидой Тимофеевной.
Как знать, может быть, в последние мгновения перед ним предстала Москва, улица имени деда, родной дом, Уголок зверей, он услышал звон трамвая, делающего остановку возле особняка, почувствовал прохладу парадной лестницы, украшенной дедовскими скульптурами доисторических животных, увидел себя двадцатичетырёхлетним с новорожденной дочкой на руках поднимающимся, чтобы предстать пред грозными очами деда своего и отца одновременно… Помню, как-то в Хабаровске Юрий Владимирович, скучая о Москве, при мне тихо и безответно произнёс: «Уголок зверей, родной для сердца уголок…». И добавил, улыбнувшись: «Вот какая игра слов получается…».
Понеслись горестные вести в Москву и в Бухарест, где тогда гастролировала Наташа. После похорон она в тот же день была вынуждена вернуться к румынским зрителям – арена не ждёт!
Воля Юрия Владимировича Дурова была выполнена. Сперва с ним прощался цирк, потом – Москва, по улицам которой проходил автобус на Новодевичье кладбище, где стоит теперь ещё один памятник…
Есть такой обычай у членов династии Дуровых—ушедшему из жизни ставит памятник тот, кто непосредственно продолжает его дело. От государственных субсидий по линии Министерства культуры Наталья Юрьевна отказалась и поставила памятник отцу сама по тому проекту, который ей предложил скульптор Пётр Шапиро.
Теперь они вместе, герои моего повествования, – дед и внук… Скульптор Иван Шадр изваял фигуру почтенного человека в шутовском костюме с лицом мудреца и с обезьянкой в руках. Воистину смелое, небывалое скульптурное решение! А чуть поодаль приковывают взор две плиты чёрного мрамора, поставленные перпендикулярно друг к другу. На вертикально установленной плите контрастно смотрится белый барельеф – профиль Юрия Владимировича Дурова в его традиционном цирковом костюме с непременным жабо, а на горизонтально положенной плите надпись:
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР
Юрий Владимирович Дуров
1910–1971
папе
от
Н. Дуровой
… Владимира Леонидовича и Анатолия Леонидовича Дурова называют гениальными клоунами. И это сочетание настолько необычно, настолько непривычно, что даже останавливает взгляд. Однако это определение столь верно, сколь и неожиданно. Но не только в историю циркового искусства ДУРОВБ1 вписаны золотыми строками. Без них невозможно себе представить и историю культуры и науки конца минувшего века и века двадцатого, и историю народа – ведь они были народными артистами не только по званию, но и по сердечной сути.
История династии продолжается в творчестве Натальи Юрьевны Дуровой, Юрия Юрьевича Дурова, Терезы Васильевны Дуровой, Терезы Ганибаловны Дуровой… Из поколения – в поколение!
1946–1978
Н.Н. Сотников. В блокадный город ехал… цирк!
Как-то разговорились мы с Натальей Юрьевной Дуровой о днях ленинградской блокады, и вдруг она произнесла: «А ведь я была в блокадном Ленинграде!..» Настала очередь удивляться мне: хотя я специально изучаю историю династии Дуровых, продолжая работу, начатую моим отцом Николаем Афанасьевичем Сотниковым, но о таком факте слышу впервые.
Оказывается, зимой 1943 года в московской гостинице «Москва» была срочно сформирована литературно-концертная бригада в составе: прозаик и публицист Борис Горбатов; поэт, прозаик, публицист и драматург Константин Симонов; главный редактор газеты «Красная звезда» Давид Ортенберг. А цирковых артистов представляли Юрий Владимирович Дуров, маленькая Наташа, его девятилетняя дочка, и сестра ныне широко известного дрессировщика Мстислава Запашного Нона, подруга и ровесница Наташи.
… Детские израненные воспоминания! Ладога. Дорога Жизни. Дорога смерти… Дребезжащий грузовичок. В кузове – Юрий Владимирович Дуров, Наташа, Нона и муж легендарной фронтовой певицы Клавдии Шульженко (и сам музыкант) Коралли.
И в том же кузове на раскалённом от непрестанном бомбежек ладожском льду – дребезжащее пианино, на котором Коралли что-то наигрывает на ходу под крыльями фашистских стервятников. А девочек, Нону и Наташу, он во время налётов прячет под… клавиатуру пианино: места там для двух девчушек хватает, но эта забота столь же трогательна, сколь и наивна, вполне достойна подлинно талантливого человека, которые всегда в душе остаётся ребёнком.
И не с пустыми рукам ехали в город-герой дрессировщики – животных везли! Куда? В блокадный Ленинград, где даже кошки и собаки диковинкой стали! Подумать только! Медведя-трёхлетку и лисичку, с которой выступала Наташа.
…Воинские части, блокадные заводы, какие-то госпитали… Всё перемешалось в памяти, всё закружилось перед глазами. И вдруг чей-то фотоаппарат запечатлел одно из мгновений.
Всматриваюсь в этот фотоснимок родом из блокады. Почти мирная сценка: добрый дядя, нарядно одетый, побритый и весёлый, обнимает двух девочек. Ну, чем не детский утренник на новогодней ёлке!
А это ведь и есть БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД 1943 года!
Будет Наташа с отцом и в Берлине, почти у самых Бранденбургских ворот выступать. А потом прилетят лётчики и унесут их в другую, самую для нас главную столицу мира, – в Москву, на главную площадь – Красную, встречать День Победы!
Тысячи восторженных людей. Маленькая площадка, на которой с трудом умещается цирковая повозка. На облучке – Наташа Дурова, а отец её Юрий Владимирович читает своим великолепным актёрским голосом стихотворный монолог о Победе, о России, о народе-победителе.
Дуровы опять с народом, как провозгласил Лермонтов, «во дни торжеств и бед народных». Точно так же Владимир Леонидович Дуров, дед Юрия Владимировича и прадед Наташи, приветствовал в феврале 1917 года крах царизма. А теперь его внук и правнучка приветствуют крах фашизма, отпев его в Берлине и возвеличив победителей в Москве.
Легендарный полководец Маршал Советского Союза Г. К. Жуков не раз утверждал, что детям нечего делать на фронте, но, увидев выступление Наташи Дуровой в Берлине, изменил своё мнение: «Дети на фронте – это вестники Победы!» Великолепный, по-жуковски отточенный афоризм! И тогда режиссёр-постановщик штурма Берлина вручил Наталье Дуровой, рядовой, необученной одиннадцатилетней московской школьнице, именной гвардейский значок.
Мог ли он предположить тогда, в мае 1945 года, что станет эта девочка всемирно известной актрисой, писательницей и общественной деятельницей и… кавалером полководческого ордена Жукова!
«Слово – полководец человеческой силы!» – как тут не вспомнить блистательный афоризм Владимира Маяковского!
И сугубо воинская, флотская, матросская награда встала вровень с этим орденом – медаль Ушакова. С шестого на седьмое мая 1945 года Юрий Владимирович с дочкой выступали на боевых кораблях, стоявших на рейде в Кенигсберге, тогда не Калининграде. Русские циркачи приветствовали русских матросов и офицеров флота у самого оплота прусского духа, на новых землях Государства Российского.
И ещё тремя дорогими для сердца наградами огненных лет подвигов, страданий и славы гордится Наталья Юрьевна Дурова: это медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Напомню, что в сорок пятом Наташе Дуровой было всего лишь 11 лет!
«Нам дороги эти забывать нельзя», – поётся в знаменитой песне Льва Ошанина. И юная школьница Наташа Дурова прошла этими дорогами и внесла свой детский, но артистический вклад в нашу общую Победу.
…Минуют годы, и в таком нарочито прозаическом учреждении, как собес, инспекторша будет задавать десятки вопросов Наталье Юрьевне, не поверив в то, что у нее такой огромный трудовой стаж: ведь с восьми лет в трудовой книжке её отца гордо значились слова: «УЧЕНИЦА ДРЕССИРОВЩИКА». Так что не просто дочкой известного матера арены въезжала в блокадный Ленинград по Дороже Жизни Наталья Дурова, а полноправной актрисой.
Спустя многие годы после начала работы над дуровской темой я узнал, что девизом герба Дуровых были слова «СЛУЖЕНИЕ ОТЧИЗНЕ». Дворянский герб как таковой ушёл в историю, а девиз остался, продолжая окрылять судьбы представителей этой славной династии!
Ю. В. Дуров. «Гуманность в духе дуровских традиций» (Фрагмент радиовыступления для детей по Всесоюзному радио)[136]
…Вот небольшой рассказ о биографии моих дедов[137], о методах дуровской дрессировки. Что я могу сказать о себе (если вас это интересует)? Я начал свою деятельность у своего дедушки Владимира Леонидовича Дурова с семилетнего возраста. Я тоже рано остался без родителей[138], прошёл тоже школу, довольно-таки в то время суровую. Но в 1936 году я уже самостоятельно работал аттракцион. В 1939 годуя был награжден орденом Трудового Красного Знамени и званием Заслуженного артиста республики[139].
Вас, конечно, интересует вопрос, есть ли продолжение династии Дуровых, дуровских традиций. Думаю, что я вас порадую, если скажу, что, конечно, есть[140]. А многие дуровские традиции восходят к моему деду Владимиру Леонидовичу Дурову. О нём немало написано, но всё же каждый раз повествование о его остротах, шутках, репризах вызывает в любой аудитории живейший интерес.
Представьте себе: вечер, арена, начало представления. Владимир Леонидович Дуров выпускает десять собак в манеж, и у всех на хвостах сделаны большие бутафорские замки. А сам молчит! Ну, публика изумлённая начинает, конечно, спрашивать, в чём дело, почему у собак на хвостах замки. Объясните! Дуров жестом, мимикой показывает, что ему, дескать, об этом говорить не разрешено. Но когда публика, особенно рабочий народ с галёрки, начинают настаивать, дед объясняет народу, в чем дело. Он отвечает так: «Простите, но губернатор ПРОхвост запретил говорить!» Я думаю, что игра слов вам, конечно, понятна.
Дед выходил в манеж, брал у кого-нибудь из публики царский серебряный рубль и начинал его валять в руке. Когда его спрашивали: «Дуров, что вы делаете?», он отвечал: «Так, ничего особенного! Просто так дурака валяю!» А всем было известно, что на серебряном царском рубле было изображение царя-ба-тюшки Николая Второго.
Вот такие острые политические шутки! Они, естественно, вызывали любовь трудового народа и ненависть царского правительства. Они помогали подтачивать давно прогнивший царский престол.
Война 1914 года застала его на гастролях в цирке «Буфф» в Берлине, в Германии, в самом центре, и он, конечно, как русский патриот, как русский артист, не мог не откликнуться на это событие и откликнулся на него по-своему, по-дуровски. Он вывел в манеж (конечно, сначала её научив), свинью, которая подкапывается под кайзеровский шлем. (Был такой шлем с пикой, который носил Вильгельм всегда.) И когда Дурова спрашивали, что она делает, он отвечал: «Швайн виль хельм», то есть, в переводе на русский: «Свинья хочет шлем», а в сочетании слов получается «СВИНЬЯ – ВИЛЬГЕЛЬМ». Таким образом он оскорбил особу императора, за что был арестован, предан суду, и только заступничество такого большого революционера и замечательного адвоката, каким являлся Карл Либкнехт, который выступал на этом процессе в его защиту, сделало приговор довольно мягким, то есть его приговорили интернировать на родину, ну, что ему, собственно говоря, и нужно было.
Вот это, так сказать, первая политическая заслуга Дуровых, но есть ещё самая главная.
В то время наши русские клоуны, русские артисты, разговаривая в манеже, подражали иностранцам, думая, что это гораздо комичнее. Выходя в манеж, они коверкали русскую речь, говорили на полуломанном-полуиностранном языке, причём, образ самого клоуна был довольно-таки неприятен, потому что они всегда (а это в кинокартинах о старом цирке видеть можно) являли собой образы с размалёванным лицом – наполовину чёрным, наполовину красным, с широким ртом, сделанными гримом глазами, в ужаснейших костюмах с такими гиперболическими ботинками, в пальто, и с широченными брюками, и весь репертуар их был на потеху того жирного буржуа, который пресыщено хотел животного смеха. Они обливали друг друга водой, разбивали тухлые яйца, то есть делали всё то, что унижало достоинство человека.
И вот мои деды были первыми, кто отбросили эту старую дурацкую цирковую традицию. Они вышли в манеж совершенно без грима, с человеческим лицом, в костюмах придворных шутов, но именовали себя так: да, мы шуты, но мы шуты не царей и не королей, а шуты Его Величества Народа, то есть они на первую ступень ставили народ, а себя называли придворными этого большого короля-народа.
И вот таким образом уже этот пятачок наш родной – манеж – перестал быть местом такого низкого пошиба, развлекательной ареной. Он как бы получил свою гражданственность, и уже с этого манежа можно было читать (конечно, рискуя!), можно было бросать в публику острую публицистическую пропаганду. Цензура была очень строгая, но они с ней не считались![141]*
Таким образом манежи стали трибунами, и вслед за ними пошли их последователи: возникли такие имена, как Виталий Лазаренко[142], Бим-Бом[143], Братья Таити[144]и другие.
Появилась целая плеяда ПОЛИТИЧЕСКИХ клоунов, которая помогала революционному движению России и революционализации нашего искусства. Это – вторая заслуга моих дедов.
Ну, а третья, которую я считаю тоже очень важной, по-моему, может быть наиглавнейшей в наше время. Надо сказать, что Анатолий Леонидович Дуров не дожил до радостного дня победы Великой социалистической Октябрьской революции и умер в 1916 году в Мариуполе от тифа. Мой дедушка, Владимир Леонидович Дуров, умер в 1934 году на 72-м году своей жизни. Он радостно встретил приход Октябрьской социалистической революции, победу того дела, которому он посвятил всю свою жизнь. Я помню, в это время в манеже он читал так:
Полвека я ношу шута названье. Полвека я весь истиной горю и, не боясь ни мук, ни наказанья, я людям всем о братстве говорю. Полвека! Да легко ль сказать – полвека! Уж нет былой, отжившей старины, и я, я, шут, для блага человека отдал всю жизнь до этой седины. Хоть нёс я в голод с вами все мученья, но не согнулся я от злых невзгод. Язык шута насыщен обличеньем для тех, кто жал и угнетал народ. И много лет, служа душой народу, я ждал и ждал, когда же наконец увижу я желанную свободу и оживёт народ-полумертвец! И ожил он! Мозолистые руки низвергли гнёт былого навсегда. Рабочий люд под скипетром науки творит свой мир – мир братства и труда! Быть может, кто-нибудь вопрос предложит: «Чего ж молчишь теперь ты, шут-старик? Иль новый быт тебя уж больше не тревожит и кем-нибудь привязан твой язык?» И я, ваш шут народный, отвечу так спросившему в ответ: «Народ живёт лишь десять лет свободно! Рабом же был он триста долгих лет!» Теперь же знания свои и чувства я отдаю, чтоб просветить народ, и новый мир бессмертного искусства в содружестве с наукой процветёт![145]Вот так он выступал в свои последние годы в манеже. Надо сказать, что в самые последние годы он больше всего занимался научной деятельностью. В то время, о котором я вам рассказывал, Дуровы ещё не были дрессировщиками в полном смысле этого слова, ибо они работали с такими мелкими животными, как куры, гуси, свиньи, собаки, которые все служили им только обрамлением к той политической сатире, которую они преподносили публике в манеже[146]. По-настоящему стал дрессировать только мой дед.
Советская власть, оценив прежние заслуги Дурова, присвоила моему дедушке первому из цирковых артистов звание заслуженного артиста республики, назвало одну из московских улиц, бывшую старую Божедомку, улицей Дурова, подарило ему на этой улице дом[147], бывший особняк принца Ольденбургского, и главное – дала возможность поехать за границу, где Дуров приобрел такие ценные экземпляры экзотической фауны, как обезьяны-шимпанзе, морские львы, слоны и так далее.
Да, так вот последние годы своей жизни Дуров посвятил преимущественно научной деятельности и меньше выступал в цирке. В доме на Божедомке он создает так называемую практическую лабораторию по зоопсихологии. Зоопсихология – это молодая наука о жизни и психике животных. С ним работают такие большие светила науки, как академики Бехтерев, Павлов, профессор Кожевников и другие. И вот там, в этой, как любил говорить дедушка, фабрике рефлексов, создаётся[148] первый в мире гуманный метод дрессировки животных, основанный на научном принципе.
Надо сказать, что раньше существовал только один метод дрессировки[149] – так называемый механический, когда дрессировщик путём болевого воздействия на животного, путём кнута и страха заставлял его делать то или иное движение, то или иное задание..
Настоящего, сознательного артиста таким методом воспитать невозможно, ибо, если вы чего-то добьётесь от этого животного, то когда вы выйдете с ним работать в манеж, на публику, животное выйдет с поджатым от страха хвостом, с прижатыми от страха ушами, с глазами, от страха направленными на кнут или палку дрессировщика. И психология у зверя будет такова: поскорее сделать то, чему научили болью, и поскорее вбежать в клетку, где его оставят в покое.
Оценивая нашу работу или работу других советских дрессировщиков, вы заметите, что животные работают непринужденно, весело и даже другой раз импровизируют в манеже, как мой любимец морской лев Пашка. Чем же это достигнуто?
Это достигнуто названным методом дрессировки. В чём же он заключается? Он зиждется на трёх научных принципах.
Первое – это воздействие на психику животного, чтобы дать понять животному, что ты от него хочешь, и распознать каждое животное, его индивидуальность, его природные качества.
Второе – установление у этого животного по Павлову определенного условного рефлекса.
И третье – закрепление этого рефлекса-вкуса по схеме.
Я сам сейчас наговорил столько научных терминов, что вам, конечно, сразу всё не понять. Поэтому я постараюсь на простом примере рассказать, как это делается.
У меня имеется американский енот, пушистый такой зверёк, который изображает из себя прачку. Весь номер заключается в том, что я выпускаю из домика прачечной Тишку на столик. Он выходит оттуда, поднимает плакатик. Прачечная Тишки открыта. Потом перелистывает деревянную такую книгу, как бы в поисках заказов. После этого я ставлю перед ним лоханочку с водой. Зверёк бросает туда тряпку, начинает её старательно стирать.
Казалось бы, странно – как можно такого маленького зверька заставить делать совершенно сознательные движения! А дело в том, что дрессировщик, прежде чем взять какой-нибудь объект, какое-то животное для дрессировки, должен досконально его изучить. Он должен знать его природные качества, его повадки, его привычки, его поведение на воле, а также поведение в неволе, изучить его индивидуальность, личность, потому что животные, как и люди, – все разные, каждый имеет свою особо выраженную индивидуальность: один – злой, другой – добрый, один – ласковый, другой – неласковый, один – флегма, другой – очень энергичный и так далее.
И вот надо распознать животное, надо примениться к его индивидуальности, ибо врождённые рефлексы очень трудно переламывать.
И вот, изучая о еноте литературные материалы, я прочитал у Брема (Вы Брема, наверное, знаете, Тамара Андреевна[150], – этот человек посвятил свою жизнь изучению жизни животных на воле и издал много книг по этому вопросу), что американский енот (его родина – Южная Америка) именуется ещё «медведь-полоскун». Откуда это название? Оказывается, природа его создала так, что на воле, найдя какую-нибудь пищу, он прежде чем её съесть, обязательно должен найти воду, пополоскать в ней пищу, и лишь потом он может её скушать. Таким уж его создала природа! Я подумал, как можно применить эти природные качества. Значит, можно из него сделать прачку, если он может полоскать пищу! Но как это сделать?
Я взял енота, правда, полуголодного, потому что мы всегда репетируем на голодный желудок. Я вам объясню, почему. Поймите, если животное попало в неволю, то оно полностью зависит от человека. Оно лишено самого главного – добычи себе пищи. Если человек принесет ему пищу, оно будет жить, а если человек о нём забыл, оно умрет. Когда человек приносит ему пищу, это уже является общением животного с человеком. Животное ждёт человека, потому что ОН приносит ему пищу! И в этом проявляется его доверие к человеку идёт так называемый период акклиматизации, что очень помогает дрессировке!
Итак, я выпустил на столик енота, взял и поставил перед ним лоханочку с водой, взял грязную тряпочку, завернул в неё кусок мяса и бросил в воду. Енот чувствует запах, видит, что я что-то завернул, начал стирать эту тряпку, потом развернул её, увидел мясо и съел его. Проделав это несколько раз, енот понял, что там есть пища. Казалось бы, номер готов, но мне, как артисту-дрессировщику, не нравится, что он что-то такое разворачивает, находит… Мне нужно откристаллизовать номер, выработать рефлекс, в данном случае на стирку.
Тогда я решил обмануть енота. Я взял и бросил тряпку без мяса. Енот начал стирать одну лишь тряпку, а мясо получил у меня из рук. Проделав это несколько раз, енот усвоил, что если он будет стирать тряпку, то станет получать мясо, как мы с вами получаем зарплату за собственную работу.
На этом маленьком примере я показал все три научных принципа: первое – воздействие на психику животного, установления условного рефлекса по Павлову (в данном случае – стирательное движение) и закрепление этого рефлекса-вкуса по схеме так, чтобы животное знало, за что оно работало.
Таким образом мы сознательно подходим к действиям животного, а самое главное, что этот метод – гуманный. Мы сейчас проповедуем гуманность не только к животному, но и к человеку, к природе в целом. У нас в последнее время (в прессе вы, вероятно, читали) было несколько случаев зверского отношения и к природе, и к животным…[151]
И вот задача Дуровых – бороться, пропагандировать любовь ко всему живому, ибо это вырабатывает и характер самого человека, чтобы он рос гармонически. Для этой цели я тоже веду эту пропагандистскую работу. У меня в номере есть такой монолог. Художественно он обставлен так: на арене – собака-математик. Клоун оскорбляет эту собаку, и я, заступаясь за неё, читаю такой монолог:
Собака славная, хочу тебе сейчас я принести большое извиненье. Смотрю на блеск твоих собачьих честных глаз и думаю – всегда ли ты у нас хорошее встречаешь отношенье? Собак мы любим, верно, но по привычке попросту хамим. Мы говорим: «Собаке – смерть собачья!» и «Не твоё собачье дело!» – говорим. Мы заявляем склочнику порою, хоть вовсе он не пудель, не барбос, — не суй, мол, всюду свой собачий нос, «Ты – сукин сын!» и прочее такое… «Собачий нос» – ведь это выраженье мы заявляем гневно и всерьёз! «Собачий нос!» – А сколько преступлений помог раскрыть иной собачий нос! Когда же слово «верность» говорим мы, мне случай вспоминается один. Жила собака в городе под Римом, хозяин ездил на работу в Рим. Она его безмерно обожала, храня на сердце верности печать. Она его на поезд провожала и прибегала к поезду встречать. Шли дни… Вот как-то сел хозяин в поезд и укатил. Тогда была война. Собака суетилась, беспокоясь, но ничего не ведала она! И снова, снова к поезду бежала и каждый день ждала его, ждала!.. Пятнадцать лет хозяина встречала! Пятнадцать лет!.. Но встретить не смогла. И жители такую беспримерность сумели по заслугам оценить: собаке памятник поставили они и надпись крупно вывели: «ЗА ВЕРНОСТЬ!» Когда я вижу, как ребята порой, собаки, мучат вас, мне кажется, что всем ребятам надо услышать этот маленький рассказ. Сказать ребятам следует умело про то, что в нашем видели краю, как наша Лайка в космосе сгорела, науке отдавая жизнь свою, как шли под танк, держа в зубах гранаты, собаки, чтоб фашистов истребить. Так можно ль после этого, ребята, не уважать собак и не любить?! Гуманность в духе дуровских традиций! Её мой дед отстаивал весь век. И я старался у него учиться, но всё ж считаю нужным извиниться — я добрым должен быть! Ведь я же – человек! Поцеловать мне дай-ка разрешенье, мой верный друг, мой маленький собрат, и всенародно попросить прощенье, как говорил ещё Сергей Есенин, за всё, в чём был и не был виноват![152]Вот такими монологами мы стараемся привить и взрослым, и детям любовь ко всем животным, ко всему живому.
1970
Н.Ю. Дурова. «Радиовыступление моего папы мне очень дорого». (Из письма И. Ю. Дуровой Н. Н. Сотникову)
… Прежде всего прошу извинить меня за столь поздний ответ. Дело в том, что мне передали его совсем недавно… (то есть, моё письмо. – Н. С.)
Благодарю Вас за присланную расшифровку радиовыступления моего папы. Это выступление мне очень дорого. Воспоминания о моём деде[153] – тоже. С Вашими комментариями я ознакомилась. Там всё правильно. Что же касается монолога о собаке, то его написал Юрий Благов[154].
Рада, что есть ещё люди, которые чтут память о моём отце и постарались спасти плёнку с его выступлением. Хотелось бы её иметь в нашем музее.
… Благодарю Вас за память и внимание к нашей династии, за заботу о нас.
Желаю Вам добра.
Ваша Н. Дурова.
Н.Ю. Дурова. «Жду вашу с отцом книгу!». (Из письма Н. Ю. Дуровой Н. Н. Сотникову)
Добрый день, дорогой Николай Николаевич!
Недавно вернулась из Карловых Вар, немножко отдохнула и подлечилась. Это было мне крайне необходимо, учитывая, что я уже много лет совсем не отдыхала, а только приобретала всё новые болячки, травмы и очень много работала и в театре[155], и на радио, и для телевидения.
В моё отсутствие пришли Ваши письма. Спасибо Вам за все хлопоты и заботы о книге «Из поколения в поколение» с моим предисловием.
…Отвечаю на Ваши вопросы. Вы спрашиваете, какие зверята были у меня в детстве. Это были самые разные животные: собачка Майка, сурок Сурочка, пони Звёздочка, слон Няня, доберман-пинчер Нора. В годы войны – гепард Кай, премьера[156] у которого состоялась в Челябинске и в Иркутске.
С животными я всегда играла и играю до сих пор.
Сначала я выступала в аттракционах отца, а самостоятельно вышла на арену с рысью, и это описано в повести «Котька». Работали со мной куницы Макс и Мориц, лисица Дымка, две дворняжки, грачи, морж, морские львы, слон.
Впервые в истории дрессуры появились мои работы с носухой, кинкажу, цаплей, разными пингвинами, морскими слонами[157]. Мечтой В. Л. Дурова было показать миру дрессированных моржей. И я воплотила в жизнь эту мечту прадеда, многие годы даря зрителям работу с моржами.
Шведская академия искусств ведёт регистрацию таких впервые проведённых работ в дрессуре. Японский президент «Общества любителей птиц» Мцуро Сан считал, что дрессировать такую птицу, как цапля, невозможно. Однако своей работой с цаплей Цапочкой я доказала ему обратное. И эта работа теперь тоже зарегистрирована как первая в истории дрессуры.
Дела цирковые у меня всегда тесно связаны с литературными. В своих повестях и рассказах я в основном отражаю то, что случалось в жизни, в работе с моими животными, с цирком, со мной.
По существу, у меня не было животных, с которыми я не хотела бы работать, но ограничения были, так как такие животные, как мыши и крысы, вызывают у меня аллергию. Мечтаю поработать с ломинтином (тюленем).
Относительно камышовых и песчаных котов могу сказать, что они, вообще-то, поддаются дрессировке, но степень опасности работы с ними выше даже, чем в работе с крупными хищниками. Лапы таких котов устроены особо: они своими когтями впиваются в жертву так, что вытащить их невозможно, потому что когти переплетаются намертво!
Николай Николаевич! Ещё раз благодарю за всё. Желаю добра. Поздравляю Вас с 1 мая и Великим Днём Победы! Здоровья Вам!
Жду Вашу с отцом книгу![158]
Ваша Наталья Дурова.
Н.Н. Сотников. Легендарной была с детских лет. Краткое послесловие к судьбе, которое нельзя не написать
Впервые я увидел Наталью Юрьевну в 1963 году в кабинете отца, в ту пору ответственного секретаря Совета по драматургии Союза писателей России. Она пришла к нему как к своему литературному наставнику, можно сказать, крёстному отцу в литературе, за каким-то советом. Было ей тогда 29 лет, но выглядела она совсем юной: очень подвижная, спортивная, волевая. Всё это очень полезные качества для литератора, но для дрессировщицы – обязательные!
Затем она приезжала в Ленинград на гастроли: наш цирк на Фонтанке был её родным домом, она, как и её родной прадед Владимир Леонидович Дуров и двоюродный прадед Анатолий Леонидович Дуровы, именно в цирке Чинизелли делали премьеры своих программ. Эту традицию переняла Наталья Юрьевна, и можно сказать без преувеличения, наш цирк она любила больше других.
Третья встреча была тоже очень короткой, но особенно драматичной – скончалась руководительница московского Уголка зверей Анна Владимировна Дурова-Садовская, родная тётя Натальи Юрьевны (правильнее сказать, что Наталья Юрьевна – её внучатая племянница), и эстафету руководства Уголком зверей пришлось принять быстро и решительно. Скажем прямо – на литературной продуктивности это не могло не сказаться: административно-хозяйственные дела росли, как снежный ком. Рос и Уголок, который уголком-то назвать можно было лишь по традиции – это ныне огромная территория вдоль улицы Владимира Дурова.
Наконец, были ещё три поездки в наш город, две гастрольные, одна, очень короткая, – на 60-летие главного режиссёра нашего цирка А. А. Сонина. Два раза мы видались в Москве: Дурова приняла деятельное участие в похоронах моего отца и приютила нашу съёмочную группу документального фильма «Сорок первый наш год призывной…», который создавался на Лентелефильме в 1983 году к 40-летию прорыва блокады Ленинграда. Кинематографистам так понравилась «Страна чудес дедушки Дурова» (так ныне именуется Уголок зверей), что они единогласно выразили желание принять участие в создании фильма о династии Дуровых. К величайшему сожалению, этот замысел остался неосуществлённым, а сам Лентелефильм перестал существовать.
Теперь я понимаю, что не только доброе отношение ко мне определило такое особенное внимание и участие к нашему будущему фильму (два эпизода снимались в Москве, остальные – в Ленинграде и в Ленинградской области), но и та детская гастрольная поездка в блокадный Ленинград – Наталья Юрьевна тоже себя считала хоть немного, но блокадницей!
Будет явной неправдой, если я скажу, что наши с ней отношения и товарищеские, и деловые (я был у неё в Ленинграде как бы пресс-секретарь), и редакторские (она мне доверила редактировать свою книгу воспоминаний о юности и молодости), и дела по литературному наследию моего отца драматурга и очеркиста Н. А. Сотникова (Дурова была членом Комиссии по его литературному наследию при Правлении Московской писательской организации) являлись абсолютно безоблачными: мы и спорили, и порой обижались друг на друга, и не сходились во многих позициях, особенно в последнее время, но это, в конечном счёте, не влияло на наши взаимные оценки друг друга. Я всегда считал и считаю её умнейшей женщиной в России (с ней, на мой взгляд, из числа тех, кого я знал лично, могла соперничать только кинорежиссёр, жена и друг А. П. Довженко Ю. И. Солнцева), всегда высоко оценивал её лучшие книги о животных, очень сердечно принял последние мемуары, посвятил ей несколько своих стихотворений. В одном из них я удивлялся, что жизненные и литературные пути-дороги привели меня, хотя я младше её на 12 лет, ко многим друзьям её юности: мне дороги московский поэт, её однокурсник, Владимир Соколов, украинская поэтесса Лина Костенко, её однокурсница. Пересекались мои пути с её приятелями Робертом Рождественским, белорусским поэтом Рыгором Бородулиным, среди общих знакомых у нас были поэт Михаил Дудин и прозаик Глеб Горышин. Я уже не говорю о десятках менее известных литераторов, артистов и цирковых деятелей!
Наталья Юрьевна внимательно следила за моими литературными делами, искренно интересовалась ими, радовалась тому, как продвигается подготовка к печати незаконченной рукописи моего отца «Из поколения в поколение (Живые страницы истории Дуровых)». В 1984 году подарила мне однотомник своей прозы «Избранное» с такой надписью: «Семье Николая Сотникова-младше-го, столь же талантливого, как и его благородный отец, с любовью! Н. Дурова». В 1998 году она благословила в литературу и мою дочку Марианну Сотникову надписав на её первой, в авторском издании, книжке стихотворений и песен для ребят и взрослых «Разноцветные снега»: «Друг мой Марианна! Ты достойно продолжаешь династию талантливых писателей Сотниковых:, преданных своей Родине – России! С нежностью Н. Дурова». Наталья Юрьевна очень обрадовалась, узнав, что Марианна, как выпускница факультета журналистики нашего университета защитила дипломную работу на тему «Публицистика в творчестве Владимира Дурова». Ещё больше её вдохновило известие о том, что в издательстве «ЛИК» вышла наша с дочкой составительская книга «Братья Дуровы на литературной арене», правда, не обошлось и без претензий – почему в однотомнике тексты и Анатолия Дурова! Не очень-то, мягко говоря, дружили основоположники династии, эхо их напряжённых отношений отозвалось и в правнуках.
Подхожу к «цирковой» полке на одном из своих стеллажей. Снимаю с этой полки первое, сравнительно небольшое по объёму избранное тогда ещё начинающей писательницы – «Ваш номер». Кроме автобиографической одноимённой повести в сборник вошли отличный ранний рассказ Дуровой «Гибель старого Ямбо» и впервые – фотоиллюстрации из семейного архива, что в изданиях художественной литературы большая редкость. На титульном листе автограф: «Нашему другу, хранителю семейных тайн и реликвий, Николаю Афанасьевичу от уже давно взрослой Наталки! Помните мою Котьку, те хорошие годы и автора! Наташа. Н. Дурова».
Котька – это рысь, разумеется, дрессированная, но далеко не ручная. Дурова пришла в восторг, увидев, что отец Котьку не боится и даже погладил её по голове и почесал за ушками!
…О Дуровой написано очень много, но это почти всё за исключением обстоятельной статьи критика, знатока детской литературы, бывшего заместителя главного редактора журнала «Детская литература» Игоря Мотяшова, в основном информационные материалы о гастролях, о новых представлениях, о юбилеях… Больше всего интервью, которые давать Дурова любила, но буквально заставляла журналиста следовать за ней по пятам, предлагая не только ответы, но и вопросы. Сам видел, как она «наседала» на представителя западногерманской газеты «Ди вельт» (словарный запас немецких слов у неё был значительный, но произношение, как я понимаю, не совсем органичное для немцев). Это интервью проходило у меня на глазах в Москве, в прадедовских интерьерах Уголка зверей. А в Ленинграде мне довелось организовать для неё целую пресс-конференцию! ВСЕ приглашённые живо откликнулись, приехали на представление, а затем прошли в малый зал Дворца культуры имени Горького. Беседа (ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОГО СПЕКТАКЛЯ!) шла три часа!
Нагрузки, которые задавала себе Дурова, были по моим меркам сказочные: здоровенные молодые мужчины не выдержали бы того, что с актёрской улыбкой переносила пожилая, очень больная и вся израненная своими четвероногими питомцами (тойже Котькой!) Дурова!
Речь у неё была отменная – чистая, ясная, голос отлично поставленный ещё отцом Юрием Владимировичем в её раннем детстве. Широкая начитанность множилась у неё на импровизационный дар. Среди выступавших на арене цирка на Фонтанке (третье отделение, только для своих, юбилей А. А. Сонина) Дурова выступила лучше всех! Что все и отметили. Были поздравления забавные – например, легендарный кино Шурик Демьяненко на ослике выезжал, но безмолвствовал, – но таких глубоких и отточенных слов не произнёс никто!
Наталья Юрьевна мужественно и непоколебимо перенесла все тяготы и беды, которые выпали на долю Уголка зверей в 80-90-е годы, и сумела не только его сберечь, но и расширить до масштабов культурно-просветительного комплекса «Страна чудес дедушки Дypoea».
В её судьбе как родные жили десятки людских судеб. Помню, с какой сердечностью она рассказывала мне о том, как на гастролях в Ереване серьёзно заболела её ассистентка, а в ту пору в Ереванском цирке со своей программой гастролировал Леонид Енгибаров. Заглядывал в цирк и гостивший в столице Армении Евгений Евтушенко, которого Дурова знала ещё со студенческих лет по Литературному институту. Так вот, они оба, отбросив все свои дела, принялись выполнять хлопотные и вовсе не престижные обязанности ассистента дрессировщика!
К слову сказать, Дурова была одной из первых, кто отметил литературный талант циркача Леонида Енгибарова. И вообще, величайшее счастье нашего русского цирка в том, что на его арены выходили в разные десятилетия мастера одновременно и в литературе! По изученным мною источникам, только немец Карл Гагенбек, партнёр и консультант прадеда Натальи Юрьевны Владимира Леонидовича Дурова, имел явные литературные способности, да и то он писал довольно суховато, разве что за исключением страниц, отразивших детские и отроческие впечатления.
… Нет сомнения, что о Наталье Дуровой будут написаны книги, созданы фильмы. Личностью она была легендарной. С этим согласятся даже её недруги. А в том, что она легендарна, нас убеждает хотя бы её блокадная гастроль 1943 года.
Н.Н. Сотников. Необходимые комментарии к повествованию об истории династии Дуровых
Отец завершил посильную для него после тяжёлой болезни работу над текстом весной 1978 года, незадолго до своей кончины. Разумеется, за минувшие годы в цирковедении в целом и изучении жизни и творчества представителей Дуровской династии появилось немало нового, существенного, значительного. В то же время после так называемых «Перестройки» и «Реформ» преимущественно в прессе и тележурналистике началась целенаправленная кампания по унижению и даже уничтожению светлой памяти о Дуровых. В какой-то мере эти тенденции блокировала и сдерживала Наталья Юрьевна Дурова, не только прекрасная дрессировщица и мастер прозы, но и отважный полемист, мудрый дипломат и очень острый на слово собеседник. Как знающий её с отроческих лет друг семьи могу с уверенностью сказать, что и сам, общаясь с ней, многому у неё научился, особенно в планировании, в организационной работе, в некоторых приёмах ораторского искусства.
Её отца, Юрия Владимировича, я лично знал в те годы, когда ещё был мальчишкой, и поэтому прямой выучки от него не получил за исключением забавного эпизода в январе 1959 года, когда он разрешил мне попробовать себя в качестве дрессировщика маленькой и очень юной обезьянки, с которой мы принялись играть в волейбол. Мой цирковой дебют завершился трагикомически: мама этой обезьянки, вся трясясь от злости, сумела открыть клетку, вцепилась мне в пальто и «с мясом» оторвала у нового утеплённого пальто хлястик, за что меня и моего папу отчаянно ругала потом моя бабушка, а его, соответственно – тёща.
Ну, да что «атака» обезьянки по сравнению с многочисленными атаками двуногих горилл из мира журналистики!
Безродные космополиты, как их справедливо называли в первые послевоенные годы, буквально набросились на основателей династии, потомственных русских дворян, которые стали обвинять в принятии Советской власти (!). С другой стороны, им стали сочувствовать: ведь их так притесняли, так притесняли!.. Хочется смеяться и плакать одновременно! Анатолий Дуров скончался в 1916 году (диагноза два – воспаление лёгких и тиф, что не противоречит друг другу, а скорее всего дополняет друг друга). При Анатолии Дурове и в Воронеже, и в других городах, куда он выезжал на гастроли, Советской власти просто ещё не было!
Владимир Леонидович, его брат, был буквально спасён Наркомпросом и лично Луначарским. Так бы сейчас – заботливо, бережно, уважительно обратились чиновники к выдающимся деятелям литературы, искусства и культуры!
Не скрою, когда я на журфаке читал небольшой практический курс лекций об особенностях авторского права, не мог не привести в примеры и разного рода правовые казусы: например; сам особняк на улице Божедомке (затем улице имени Владимира Дурова) был на попечении государства; но почти все вещи, в том числе и очень дорогие; украшавшие интерьеры; были ЛИЧНОЙ собственностью семьи Дурова; и на вещи эти никто не покушался. Советское государство щедро помогало Владимиру Леонидовичу в делах научных; музейных; цирковых; организационных; финансовых… Всего не перечислишь! Некоторые конкретные примеры встречаются в тексте повествования «Из поколения в поколение».
Лично я был свидетелем; как не в меру нахальная чиновница Главного управления культуры Москвы (а именно этому управлению подчинялся Театр зверей; а затем вся «Страна чудес дедушки Дурова»; о чём я далее скажу несколько слов). Наталья Дурова ответила на все вопросы «ревизорши»; а потом дала ей понять; что пора и честь знать – впереди репетиция! Но дамочка опять пошла в наступление; и тут в наступление пошла любимая слониха Натальи Дуровой: она грозно затрубила и стала, как сверхтяжёлый танк; двигаться на дамочку. Та заверещала и буквально выбежала на улицу. Лично мне Дурова поведала; что тогда ей вослед сказала: «Будет знать и не будет лезть!».
С администраторами несравнимо более высоких рангов Дурова вела себя на равных и очень многого добивалась. ДОБИВАТЬСЯ учила меня и она. Был момент; когда она настойчиво стала мне предлагать у себя пост заместителя генерального директора по оргработе. А это свыше 500 зверей; более 120 сотрудников; громадная территория; напряжённый; по-дуровски интенсивный труд и, пардощ – никакой славы!
Да я вот прочту своё стихотворение – мне уже букет цветов и чего-нибудь сладенького; как дуровскому животному зрители и слушатели несут!
Бесконечные хлопоты; протечки; перегревы и недогревы животных (то, что одному хорошо; второму просто беда!) и т. д. Я вежливо и даже душевно поблагодарил за доверие; но твёрдо дал понять; что на этот подвиг не гожусь. Другое дело – беречь честь и достоинство Дуровской династии! Этим я и сейчас безвозмездно; по долгу сердца; занимаюсь.
Вернёмся к «жертвам» Советской власти. ВСЕ Дуровы её приняли; на неё работали. Никто не эмигрировал. Никто с беляками не сотрудничал. Сын Анатолия Леонидовича Анатолий Анатольевич ОТКАЗАЛСЯ выступать для белых и при первой же возможности бежал от них; пересёк с большим риском границу и некоторое время работал за рубежом. Опять же, при первой же возможности он вернулся на Родину.
Вы уже; уважаемые читатели; знакомы с трагическим эпизодом; говоря чеховскими словами; «выстрела на охоте». Сохранилась фотография: мой отец с двумя ижевскими писателями стоит у МРАМОРНОГО знака на месте гибели Анатолия-младшего (см. тетрадку с фото). Отец принципиально не верил в роковые совпадения и считал; что это месть затаившихся беляков!
Больше всего спекуляций на самой больной странице истории детства Юрия Владимировича Дурова. Многие авторы, как по команде, стали использовать сомнительный оборот: «Рано остался без матери». Но ведь не говорилось, чем болела, где похоронена. Ведь не на Луну же она улетела из Астрахани!
Тележурналюги дошли до того, что стали в одном репортаже утверждать, что Наталью Владимировну Дурову «растерзала толпа черни»! За что? За то, что она – потомственная дворянка? Единственный автор, цирковой писатель Юрий Благов, который мне шутил, что он больше СВОЙ в мире цирка, чем свой в Центральном Доме литераторов, в своей публикации в журнале «Нева» прямо написал о том, что любимую дочку Владимира Леонидовича Дурова зверски зарубили «донцы-молодцы», то есть белоказаки, причём так, что «хоронить было нечего»! Страшная подробность!
Вот почему о гибели матери, бабушки, прабабушки в семье Владимира Леонидовича Дурова принципиально НЕ ГОВОРИЛОСЬ. НИКОГДА эту тему не поднимал во многих откровенных беседах с Юрием Владимировичем и мой отец.
Таким образом, перед нами две кровавые жертвы ВРАГОВ Советской власти: сын младшего брата и дочь брата старшего. То, что сами основоположники династии были постоянно жертвами царской власти мы и не говорим. Порою читаешь доморощенных «дурововедов» и дивишься: всё-то у них, как любил говорить мой мастер на заводе, «с хиханьком да хаханьком»: там – выслали из города, здесь – запретили выступление, но в целом-то и ничего особенного! А ведь высылки и запреты – это финансовые крахи, долги, потери сотрудников, которые тоже хотят есть-пить, спать и продолжать путь не по шпалам! На Кавказе Владимир Леонидович и в тюрьме посидел, не очень долго, но для творческого человека – это трагедия. Не то, что для моего соседа по коммунальной квартире, который, будучи вором-рецидивистом, зверски избил другого моего соседа, был взят в милицию, славно провёл ночь среди таких же «отморозков», а утром вернулся домой с плутоватой улыбочкой: «Здрасте! А это – опять я!». Ему ничего и не было! А в «клетке-обезьяннике» посидеть в радость – своих корешей встретил. Наговорились вволю за всю-то ночь!
Для тончайшего интеллигента, дворянина сидение в тюряге с уголовниками, – подлинная трагедия!
Я уже не говорю, о том, что оба брата были узниками в кайзеровском Берлине. Ну да там хоть в камерах почище было!
Вернёмся, однако, к дворянскому вопросу. Владимир Леонидович и тем более Юрии Владимирович, как мне известно, эти вопросы особенно не «педалировали», хотя и не отрицали своих корней. Мой отец был глубоко убеждён, что корням этим примерно 300 лет, но не больше. И тут Наталья Юрьевна, уже в «перестроечное» время вдруг стала наращивать эти времена и дошла до того, что стала утверждать, будто её прямой предок был ПОСТЕЛЬНИЧЬИМ у Ивана Грозного! Впервые обнародовала она это «открытие» на ленинградской пресс-конференции «Династия Дуровых и современность», которую я собрал по её просьбе во Дворце культуры имени Горького, где шли гастроли дуровского коллектива. Весело и, как всегда, остроумно Наталья Юрьевна обыгрывала забавные подробности придуманного ею сюжета. Лично я, собрав газетчиков, просил их ЭТОТ сюжет даже не упоминать.
Придумала Дурова ещё один сюжет: будто она – родная правнучка легендарной Надежды Дуровой, девицы-кавалериста. Я, опять же, весьма вежливо пытался её убедить в обратном и даже рисовал схемы и ветки родословного древа, в меру своих графических неспособностей, конечно. Никак не получалось! Двоюродная – да! Родная – ни при каких условиях! «Так что же, сын Чернова фамилию поменял?» – спрашивал я. «А может, и поменял – престижнее было!» Я стал возражать, что, мол, хотя и не историк XIX века, но её гипотеза немыслима. Да и вообще, мне как мужчине Чернова даже жалко: сбежала молодая жена, бросив маленького сына. На побеге сделала себе имя, а Чернов и так-то зависим от отца Надежды и унижен им!
«Поцапались» мы дважды в сравнительно недавние времена. Помните американскую девочку в «горбатые» времена Саманту Смит, которая очень боялась войны и вместе с папой примчалась в Москву эту войну предотвращать? Лично у меня весь этот сюжет вызывает десятки вопросов – от приезда Саманты, до её гибели с отцом в самолёте, уже в США, Наталья Юрьевна вдруг делает невероятные попытки, и ей удаётся заполучить Саманту с папой к себе в Театр зверей! Обширная пресса, шум, паблисити!.. Надо ли всё это?
Проходит какое-то время, и я узнаю о том, что Наталья Юрьевна ТАК ЖЕ гостеприимно принимает в своей сказочно-звериной «стране» Леониду и Георгия, кандидатика на русский престол, и с ними фотографируется. Ну, тут я уже просто взорвался и высказал всё, что у меня, лютого антимонархиста, в душе накипело!
Дурова не обиделась и попросила меня быть её редактором. Дело в том, что в последнее время она мало и трудно писала. Ещё бы! По себе знаю с «младых ногтей»: литературой надо заниматься КАЖДЫЙ ДЕНЬ и даже КАЖДЫЙ ЧАС, может быть, более интенсивно, нежели скрипкой занимается скрипач, а фортепиано – пианист-профессионал. И вот готова автобиографическая повесть о студенческих годах, о пути на манеж, о московской коммунальной квартире, о дружбе с соседкой по этой квартире (семья Дуровых жила в коммуналке!) писательницей Таратутой, открывшей нам всем заново Этель Лилиан Войнич!
Я от повести пришёл в восторг! Давно такие радовался. Это – словно второе рождение мастера прозы, причём, прозы взрослой. За время её гастролей я работу провёл, мы встретились… Почти со всеми доводами она согласилась, но в какой-то последний момент в двухтомнике (я был сторонником одного тома, но объёмного) она резко сокращает повесть, дробит её, лишает неповторимо увлекательной цельности! Я очень был огорчён. В том числе и тем, что ряд иллюстраций, которые я как редактор не одобрил, всё-таки в окончательный макет были включены.
Незадолго до своей кончины Дурова выпустила ещё миниатюрную книжку микроэтюдов «Зимний соловей», где наряду с шедеврами есть просто литературная перебранка, и два однотомника (увесистых!), куда она включила свои студенческие, учебно-плановые рассказы: вероятно, не хватало «натяжки» на большой объём. Это было моё второе огорчение.
Как писательница она могла бы выйти на больший уровень и достичь большей высоты. Тому пример – её повесть о юности.
В самые последние годы Наталья Юрьевна допустила ещё ряд просчётов, прежде всего, приоткрывая некоторые, вовсе необязательные для широкой публики, подробности личной жизни.
Я не просто противник, а решительный враг акцентов на личную жизнь в произведениях деятелей литературы и искусства о литературе и искусстве. Мне это тем более было горько, что я в их семью был вхож и чувствовал себя в этом семейном доме своим человеком, может быть, даже в большей степени, чем мой отец: как-то больше на равных наши отношения получились. По душе мне был выдающийся артист и очень милый человек ученик самого Станиславского Михаил Пантелеймонович Болдуман. Сдружились мы и с маленьким Мишей, очень способным мальчиком, но очень одиноким: мать всё время с животными, отец всё время в театре. Под Новый год, оставив со своей тётей по материнской линии маленького Мишу, Наталья Юрьевна, Михаил Пантелеймонович и мой отец заказывали столик в ЦДЛ: Дуровой очень нравилось быть на виду, на людях, даже слишком нравилось, что не нравилось её учителю, моему отцу, и её мужу, который был намного её старше.
Как сейчас вижу перед своими глазами большую, но не очень-то обихоженную квартиру в доме № 6 по улице Горького (рядом с Красной площадью!), лежащего почти не подвижно после операции Болдумана, неулыбающегося школьника Мишу, который утешался проекционным 16-миллиметровым киноаппаратом, и Наталью Юрьевну, которая готовила для своих мужчин… лапшу! В семье два народных артиста СССР, дача, «Волга», гонорары – и вдруг лапша! Меня угостили. Я из вежливости немного поел, но только раздразнил свой ресторанный аппетит!
Умер Болдуман. Вырос Миша. Начались полосы отчуждения. Сперва Дурова их скрывала, а потом СОГЛАСИЛАСЬ их обнародовать даже в телепередачах! Я с горечью и даже ужасом две такие передачи видел, но сделать уже ничего не мог.
Сперва в одиночестве умирает Дурова, затем при очень загадочных обстоятельствах в пути, в поезде, а затем в какой-то больнице на трассе «Москва – Ленинград» – Миша-младший, который принципиально не захотел включаться в династическую цепочку.
Вёл он образ жизни странный: имея отличную родительскую квартиру в центре Москвы, снимал какую-то хибару на окраине; владея несколькими иностранными языками, будучи знатоком биологии моря, подрабатывал на погрузке и разгрузке. В самое последнее время обратился к довольно едкой сатире и выпустил несколько брошюр в анархическом издательстве «Красный матрос», сотрудники которого искренно скорбели, узнав о его кончине.
Тележурналюги после этих двух кончин (матери и сына) бросились на освещение такой «творческой» темы, как делёж имущества, при этом тема сохранности архива, музея, рукописного фонда (что более всего волнует меня) не поднималась.
К руководству «Страны чудес дедушки Дурова» пришёл сводный брат Натальи Юрьевны, сын её отца и узбекской наездницы Лоллы Ходжаевой Юрий Юрьевич Дуров. Формально династия продолжается, тем более что у Юрия Юрьевича и его жены Веры есть дочка – Наталья Юрьевна /Дурова! Её в шутку называют Наталья Юрьевна Вторая. Наследница традиций. Какая?.. Время покажет.
Последний раз я встретился с Натальей Юрьевной на 60-летии главного режиссёра цирка на Фонтанке Сонина. В третьем отделении (только – для своих!) Дурова выступила с блеском! Я искренно её поздравил, но и позавидовал: ведь она плохо себя чувствовала, и на душе её было горько. Такая сила самообладания!
Поговорить особенно не удалось, только немного, во время банкета. Дурова попросила, чтобы я её проводил до Московского вокзала. Больше мы никогда не виделись.
Я счастлив, что у меня была такая дружба, что у нас были общие симпатии (прежде всего – однокурсники Дуровой по Литинституту поэт Владимир Соколов и украинская чудо-поэтесса Лина Костенко).
О Наталье Юрьевне я думаю постоянно, вспоминая её и Болдумана актёрские уроки, которые очень помогли и помогают мне.
Что же касается Дома-музея Анатолия Дурова в Воронеже, то я там пока ещё не побывал. Только переписывался. Тележурналюги и здесь успели «подгадить»: я смотрел жуткую передачу об Анатолии Леонидовиче Дурове. Результат тот же – вместо восхищения и гордости (дрессировщик, артист кино, артист-сатирик, литератор, изобретатель мотоцикла, превосходный лектор!..) – глумление, насмешки пигмеев над великаном и даже – попытки обелить немецких фашистов, разгромивших дом-музей, где всё было бескорыстно создано «для тех, кто учит, и тех, кто учится». Воистину – гуманность в духе дуровских традиций!
Горжусь, что мне как автору проекта, консультанту и составителю удалось ВПЕРВЫЕ переиздать все основные произведения основоположников династии. Очень нарядный томик «Братья Дуровы. Впервые вместе на литературной арене» украшает мой книжный стеллаж и возглавляет цирковую полку.
В ходе работы над этой очень трудоёмкой книгой (с текстами Владимира Леонидовича мне очень помогла Наталья Юрьевна Дурова) возникла неожиданная заминка. В цирковом музее на Фонтанке мне разрешили сфотографировать цветную афишу 1914 года: дуровский дрессированный бычок Казачок шпыняет турецкого султана. А какого?.. Я обратился за консультацией сперва на кафедру тюркологии, а затем – на кафедру истории стран Ближнего Востока нашего Восточного факультета. Долго шли поиски ответов. Наконец мне аспирант-историк торжественно по телефону сообщил: «Нашёл! Нашёл, кого бодал бык Казачок! Это Мехмед V, старый и безвольный султан, который царствовал с 1909 года по 1918 годы, втянул Турцию в Первую мировую войну. Именно при нём в 1915 году свершилось одно из самых страшных преступлений в мировой истории – армянская резня, сопровождавшаяся дикими изуверскими преступлениями против мирного армянского населения.
Мехмед V в 1918 году уступил трон своему сыну Мехмеду VI, который наслаждался султанской властью всего лишь четыре года: революционная волна под водительством генерала Мустафы Кемаля (в будущем Ататюрка – отца тюрков) превратила Турцию в республику, а последнего турецкого султана англичане на крейсоре вывезли в спешном порядке как драгоценную реликвию в свой туманный Альбион, где и закончились его бесславные дни».
Так благодаря Владимиру Дурову я стал немного тюркологом, а афиша (бычок Казачок наступает на Мехмеда V), очень нарядная, я бы сказал декоративнокрасочная, явилась визитной карточкой этого уникального томика.
…Не завершаю повествование своё, а лишь делаю остановку. К творчеству династии Дуровых нельзя не возвращаться.
Два письма из Воронежа
[ФАШИСТЫ РАЗОРИЛИ ДУРОВСКИЙ МУЗЕЙ]
(Из письма Н. Н. Сотникову
заведующей домом-музеем А. А. Дурова в Воронеже И. 17. Бойковой)
Уважаемый Николай Николаевич!
Дом-музей А. Л. Дурова в Воронеже является отделом Воронежского областного краеведческого музей, который, к сожалению, не располагает интересующей Вас росписью произведений В. Л. Дурова, А. Л. Дурова и А. А. Дурова в периодической воронежской печати. Литературного отдела в нашем музее тоже нет. Сведениями о периодических изданиях Анатолия Анатольевича Дурова мог бы располагать музей его имени в Таганроге. Что касается произведений, характеризующих Анатолий Леонидовича как литератора, то в фондах нашего музея хранится принадлежащая его перу книга, изданная в Воронеже в 1914 году. Её переиздание (частичное) было предпринято издательством «Искусство» в 1980-е гг.
Дом-музей А. Л. Дурова в Воронеже в годы войны сильно пострадал. Погиб архив А. Л. Дурова, его личные вещи. Всё, что находится в современной экспозиции, пришлось по крупицам собирать по всей стране. Много в этом деле помогал внукА. Л. Дурова – В. Г. Дуров и его внучка Т. В. Дурова.
Будем Вам очень признательны, если Вы вышлите изданный Вами томик В. Л. Дурова «Мои звери»[159] для нашей библиотеки.
С уважением Бойкова Ирина Петровна. Зав. домом-музеем А. Л. Дурова.
Воронеж, улица Дурова, 2, дом-музей А. Л. Дурова
Уважаемый Николай Николаевич!
Получила Ваше письмо с вырезками из газет. Огромное спасибо. Было бы интересно узнать, какими источниками Вы пользовались, говоря о том, что А. Л. Дуров был посетителем ресторана «Старая Вена», в каких годах это было?
Посылаю Вам публикации в воронежской прессе о жизни нашего музея.
Сообщите мне, пожалуйста, о Ваших научных изысканиях, о взаимоотношениях А. Л. Дурова и литературы. Если нет экземпляров публикаций, хотя бы библиографию. Я включила Ваше имя в научную картотеку исследователей творчества А. Л. Дурова.
Заведующая отделом «Дом-музей А. Л. Дурова»
И. П. Бойкова
18 августа 2006 года
Николай Ударов. Когда число «тринадцать» – счастливое число! (Цикл стихотворений и песен о цирковом искусстве)
Посвящается светлой памяти Народной артистки СССР Наталье Юрьевне Дуровой, которая вдохновила меня на создание этого цикла песен и стихотворений о цирке.
По сути дела, это самостоятельная маленькая книга, которая должна войти в состав большого сборника «Поэзии родные сёстры» о роли поэзии в судьбах других видов искусства.
Когда манеж – твоя судьба
И вновь не вырваться из круга!.. Тринадцать метров роковых![160] Когда сюда проникнет скука, её сметёт веселья вихрь! А в цирке всё, как дважды два, когда манеж – твоя судьба! Грохочет музыка оркестра и словно в ясный день светло. И дебютанты, и маэстро, творите ваше ремесло! А в цирке всё, как дважды два, когда манеж – твоя судьба! У вас вовек не будет будней и остановок на пути. Какое это счастье – людям огонь таланта принести! А в цирке всё, как дважды два, когда манеж – твоя судьба!Когда число «тринадцать» – счастливое число
Ругают все напропалую число «тринадцать» там и тут. Не женятся, не голосуют — число другое изберут. Не защищают диссертаций и не проводят юбилей. Число проклятое «тринадцать»! Ты нас повсюду пожалей! В любых отелях исключают под этой цифрой номера́, решать судьбу предпочитают не в этот час, не в этот раз! Число повсюду роковое идёт везде и тут, и там. На нём проклятье вековое. О нём никто не скажет нам. Кто говорит, что предрассудок, кто пробурчит: «В нём что-то есть!» В искусстве цирка безрассудном в числе «тринадцать» скрыта месть всем предрассудкам и сомненьям, в нём гордый вызов: «Прочь, беда!» Пройдитесь вы по всем аренам, проверить можно без труда — всегда тринадцать, лишь тринадцать. И не найти метраж другой. Ты должен в цирке повстречаться с неповторимою судьбой!Песня о форганге
В цирке слово есть такое — «форганг». Это слово – и магнит, и маг. Жёсткий занавес, ворота в волшебство, для артистов цирка – божество! Форганг, форганг! Ты – эмблема арены и флаг, ты – для каждого номера старт. Нам с тобой и чёрт не брат! Льётся свет цветных прожекторов в этом самом ярком из миров, и оркестр права свои берёт, и черёд форганга настаёт!..Песня о бродячих циркачах[161]
Пройдут леса и горы, и реки, и ручьи бродячие актёры, простые циркачи. Надежды и отчаянье, нежданная беда — всё будто бы сначала и словно навсегда! Ночёвки на полянах, манеж – на площадях. Их суховеи ранят, и грозы не щадят. И всё же их фургоны по свету колесят, и все для них знакомы, и все у них в гостях. У них малы доходы, не греет их наряд. Зато у них свобода дороги выбирать. У них всегда движенье по лучшей из планет. У них лишь день рожденья, а дня забвенья нет!На арену первый шаг Цирковая песня
Кто хоть раз барьер перешагнул и с манежа цирку присягнул[162]; купол увидав над головой прямо над собой, тот ещё не знал, что вдруг навсегда за ним сомкнётся круг! Арена, арена! В судьбе такая перемена! Ты стал теперь совсем другим — от счастья молодым! Кто хоть раз перешагнул барьер, тот ещё, конечно, не премьер, тот ещё, конечно, ученик, но уже навек влюблённый в цирк. Даже первым номером своим ты уже чуть-чуть незаменим! Арена, арена! В судьбе такая перемена! Ты стал теперь совсем другим — от счастья молодым! Кто барьер перешагнёт хоть раз, тот, хотя не мастер первый класс, но уже совсем не новичок: твёрдо знает, в цирке что почём! Ты, манеж и зрители – одно, а другое в цирке не дано!Песня о творческих династиях
Из поколенья в поколенье[163] идёт искусства пополненье. Кто говорит, что это гены и родословья благодать. Кто говорит – родные стены готовят смену неизменно, а смена эта на арене умеет с малых лет блистать! А всё куда гораздо проще! Пусть говорят, что говорят! Есть вечный труд и днём, и ночью, неутомимый, неумолчный, и вдохновитель, и помощник. Вот – главный творческий заряд! А вдохновенье, вдохновенье само, как солнце, не взойдёт. Из поколенья в поколенье, из поколенья в поколенье, из поколенья в поколенье нам сердце жжёт, не бережёт священный творчества огонь!Во славу сатиры и сатириков
Я – шут, друзья,
тяжёлых наших дней.
В. Л. Дуров (1907 год) Я – шут! Я тут как тут! Я клоун, озорник и плут, для власти – нестерпимый зуд. Меня бранят, меня корят, меня со свету сжить хотят, но я не ведаю преград и этому безмерно рад. Порой хотят не замечать меня, но нет ещё противоядия от яда ярости моей. Остроты сделались острей и, несомненно, горячей, и вот уже в стране моей огни священной революции в такое пламя соберутся, что обуздать его нет сил. Верховный суд Всея Руси есть наша меткая сатира. Вот это сила, так уж сила!..На улице Дурова есть особняк
На улице Владимира Дурова в Москве находится знаменитый Уголок зверей, единственный в мире. Этот особняк В. Л. Дуров сам не строил, он его купил, но преобразил полностью не столько переделками, сколько своими деяниями.
По вечерам на Боже домке[164]* не гаснет свет в особняке. Всегда уютно в этом доме. Сюда приду я налегке. Оставлю за его порогом невероятно тяжкий груз. Пусть тайны мне свои откроет сей храм наук и дружных муз. На всей планете в целом свете такого места не найдёшь. Здесь взрослые – такие дети!.. Был я сюда когда-то вхож. Перечитай всё, что написано, и фильмы все пересмотри, но всё равно понять немыслимо, как тот огонь всегда горит. И не скульптурой, не картиной не объяснить наверняка, какой владел волшебной силой сам патриарх особняка.Тех самых Дуровых блока дная гастроль
Девиз герба рода Дуровых – «СЛУЖЕНИЕ ОТЧИЗНЕ». Блокадной зимой 1943 года в составе литературно-концертной бригады Ю. В. Дуров вместе с дочкой Наташей, юной дрессировщицей, и Нонной Запашной, её ровесницей, прорвались в блокадный Ленинград\ где дали ряд выступлений перед ленинградцами и бойцами Ленинградского фронта.
Трясётся старая полуторка вновь по ухабам ледяным, приедет в Ленинград под утро и наши судьбы породнит. Не хлеб и не медикаменты она везёт в блокадный мрак — артистов цирка и медведя, и дрессированных собак. Среди в страданья искушённых немолодых уже мужчин две восьмилетние девчонки и старый музыкант один. Под крышку прячет пианино он спутниц маленьких своих, когда над самою машиной фашистских самолётов вихрь. Когда налёт, он им играет, и пианино дребезжит. Дорога Жизни продолжает и наполняет смыслом жизнь. Талант наивен, как ребёнок. Талант большой – всегда дитя. Над безоружной колонной всю ночь стервятники летят. Хотя так редко попаданья сулят кресты на грудь врагам, стоит под Ладогой сиянье. Всегда огни сияют нам. Машин погибших светят фары десятки лет с таких глубин, чтоб мы, блокады прорывая, не разучились жизнь любить. К нам свет идёт и судьбам нашим даёт невиданный разбег, навек вселяя в нас бесстрашье на век людской и новый век. А новый век не за горами: ещё какой-то поворот — и вот предстанут перед нами и новый век, и новый год, тысячелетие откроют. А там такой векам простор, что нашей русской птице-тройке лететь вперёд во весь опор!.. Но даже там, в предельных далях, которых нет ещё как нет, сияньем праведным одаривая, блеснёт зарёй блокадный свет, и современник лет грядущих, почти не ведая преград, вберёт в распахнутую душу твой мир, блокадный Ленинград, в который по Дороге Жизни шла дрессировщиков гастроль. Всегда «СЛУЖЕНИЕ ОТЧИЗНЕ» для них – и отзыв, и пароль!Песня о школьном маскараде[165]
Я вижу себя в карнавальном костюме, в жабо. Я – клоун, я – Дуров, слонов и собак дрессировщик. Всерьёз я горжусь маскарадной своею судьбой. Другие костюмы хотя и нарядней, но проще! А что у меня? Из бумаги весёлый наряд. И чу́дные звери мои – все игрушки. Костюмы других и девчат, и ребят, наверное, всё-таки лучше! Кто – рыцарь, кто – лётчик, а кто – богатырь среди бесконечных волшебных царевен. А я дрессировщиков боготворил и в выборе этом доныне уверен. Инспектор манежа! Я Вас попрошу: Вы Дуровым сразу меня объявите! Когда-нибудь песню об этом сложу… Мой номер объявлен. Иду! Извините…Песня ов утреннем цирке
Не так уж много радостей у детства, особенно в лихие времена, но только детство так светло надеется, но только детству радость суждена. Она – во всех невидимых приметах, в совсем-совсем обыденных вещах. Все в детстве – живописцы и поэты и все, конечно, ходят в циркачах. Себя мы на арене представляем, аплодисменты ловим и цветы. Мы о печалях в цирке забываем: лишь в цирке детство с радостью на «ты». Никто не остановит, не одёрнет — не то, что в повседневной суете! И публика – на все четыре стороны, и все забыли о своей судьбе. Гремят оркестры и летят под купол весёлые лучи прожекторов. Цветной туман тебя опять окутал, и ты опять смешался с детворой. Приди ко мне по щучьему веленью, такая невозвратная пора!.. И вновь на цирковое представленье идёт на встречу с детством детвора!Песня о путеводных гастролях цирковых
Гастрольная мелькает карусель… И лишь метраж манежа постоянен. По всей Земле за тридевять земель от цирка и до цирка расстоянья. Но ты на любом полустанке припомни, как свой отчий дом, цирк на Фонтанке, цирк на Фонтанке, цирк на бульваре Цветном! Программу никогда не повторить, и каждый номер заново творится. Искусство до конца не покорить. Должны мы все искусству покориться! Так пусть на пути неустанном сияют двойным маяком цирк на Фонтанке, цирк на Фонтанке, цирк на бульваре Цветном! «Ваш выход!» – и летишь, как в первый раз, туда, где свет, и музыка, и лица. Мгновенья эти очаруют нас. Мы на манеж выходим вновь родиться! Смеркается в пути или светает, звезда двойная на пути твоём — цирк на Фонтанке, цирк на Фонтанке, цирк на бульваре Цветном!Песня о цирке Чинизелли
Для цветов осенних мало акварели. В жёлто-красных листьях весь газон. Наконец-то в цирке Чинизелли открывается сезон. Всё смешалось на арене и в партере — все сословья, все наречья, все века… Два часа как будто в сказке пролетели под напевы циркового сквозняка. На арене скачут кони, пляшут кони, а под куполом горят прожектора. Девятнадцатый недавний век закончился, на дворе пришла двадцатому пора. Тишину оркестр внезапно поколеблет, и гимнастка белой птицей промелькнёт… И совсем уже другое поколенье в этом зале все места займёт. Пронесутся революции и войны, и программа поменяется не раз. И теперь уже у нас над головою свет премьеры разгорелся и угас. Лишь арена остаётся неизменной, неизменно мастерство и удальство, неизменны цирковые эти сцены и ковёрных неизменно баловство! Снегопады прилетят украсить землю. А весной земля умоется грозой. Целый век в старинном цирке Чинизелли не кон-ча-ет-ся сезон.Н.Н. Сотников. Как я тоже был дрессировщиком Рассказики
Вообще-то, конечно, каждый хороший специалист к орудиям своего труда чужих, в том числе и членов семьи, не допускает: нажмут что-нибудь не то, включат как-то не так – и пиши-пропало! Этот принцип ещё строже, если речь идёт о дрессированных животных. На то они и животные: у них есть своя память, зрительная, слуховая, чаще всего отлично развито обоняние, и они по запаху чуют – хозяин или нет к ним пожаловал. Дрессированное животное, отобранное по принципу старшего Дурова, Владимира Леонидовича «Умнику – пирог, лентяя – за порог» (его брат, Анатолий Леонидович, обыгрывал поведение животного на арене и посему мог обходиться простейшими с ним тренировками), УНИКАЛЬНО. Малейшая травма, в том числе и психологическая, может поставить под угрозу номер и даже всю цирковую программу, а не только отделение, аттракцион. Убытки материальные и моральные в таких случаях оказываются огромными и очень часто невосполнимыми.
Посему разрешение дрессировщика поиграть с его пернатыми и четвероногими подопечными – признак особого расположения к желающему себя попробовать в роли Дуровых, знак величайшего доверия.
О своём детском опыте игры в мячик с маленькой обезьянкой-девочкой и о злющей реакции мамы этой девочки я уже рассказывал. Разрешение мною было, напоминаю, получено от самого Юрия Владимировича Дурова.
Остальные мои «опыты» связаны уже с Натальей Юрьевной Дуровой. Она приехала на гастроли в Ленинград, ей было предоставлен зал около Речного вокзала, и я зачастил к ней на репетиции и спектакли. Однажды куда-то подевалась ассистентка, и Наталья Юрьевна мне доверила вынести на сцену Дома культуры в клетке-домике енотика-«прачку». Домик и енотик неожиданно оказались тяжеловатенькими, но я всё-таки дотащил их до кулисы. И тут енотик проявил недовольство, высунул лапки из прутьев и стал меня цапать. Я не хотел, чтобы меня цапали и травмировали, рявкнул на енотика и тряханул его домик. Енотик забился в угол и примолк. Но когда пошёл номер, он всё делал, как надо, от начала до конца, и Наталья Юрьевна удивлённо воскликнула: «Чего это он сегодня такой смирный? Даже не капризничает!» Оказывается, енотские капризы порою приходилось обыгрывать словесно.
Следующее испытание – подготовка к трюкам огромного зайца-самца. Кормить, конечно, перед выходом на сцену нельзя, но я половинку сочной и очень аппетитной морковки ему дал. Зай схромкал очень быстро и потянулся за добавкой. Не получив добавки, он стал задираться. Между прочим, не считайте, что зайцы это такие маленькие забавные тюфячки, как в мультфильмах: взрослый заяц-самец способен обхитрить волка, упав и притворившись дохлым, и острейшими когтями задних лап порвать любителю зайчатинки брюхо. В таких случаях волк, завывая, медленно уползал от своей добычи, готовясь отправиться в волчий ад, а зай вспрыгивал и уносился прочь. Бывают, конечно, особи уставшие, измождённые голодом, но ТОТ заяц к этой категории не относился. Я, разумеется, не волк, худо-бедно клетка нас разделяла, но зай воистину обозлился, оскалил зубы (они очень твёрдые и острые!) и, как говорят, «стал возникать». Как на грех, Дурова в этот момент была в другом помещении, а номер близился. Я схватил клетку (тяжёлая!), водрузил её на маленькую низкую тележку и принялся катить в сторону кулисы (сцена была сравнительно глубокой и широкой). И тут мой зай опять учинил бунт – стал метаться, цапаться за прутья. Я рассердился, схватил швабру (она стояла неподалеку), просунул палку и немножко наказал зайчишку. Заяц оторопел, ибо такого отношения давно не встречал и попритих. А тут и музыка грянула. Ваш выход, заяц-барабанщик!
Третьим, точнее, третьей была мишка Маша, девочка, игравшая в спектаклях роль олимпийского медвежонка. На ней так и оставался поясок с олимпийской символикой – пятью кольцами. Так она и выступала в ревю «И мы – спортсмены!»
Машенька была хотя по возрасту и маленькой, но довольно сильной и строптивой. Отличалась она и своим рекордом: умела ходить по лесенке, довольно широкой, на ПЕРЕДНИХ ЛАПАХ! Правда, при этом она всё время недовольно рычала. Дурова мне разрешила ухватить Машу рукой за лапу и держать её так до выхода на сцену. Другую лапу держала ассистентка, которую Маша знала. Но всё равно рычание было злючным и возрастало. При этом я забыл сказать, что у Маши был намордник: зубы, несмотря на детский возраст, у медведицы были такие, что пути-дороги к хирургу могли распахнуться в любую минуту. Когда Маша устала стоять, ей дали немного походить на четырех лапах, но на сильном поводке. А я сбегал в буфет, купил несколько кусочков хлеба. Баночка с мёдом у меня была в кармане пальто: купил для себя, но решил поделиться с Машей. Открыл баночку, чуть-чуть окропил хлебные куски, растёр их, чтобы мёд распространился равномерно, и после перерыва смело шагнул к своей новой знакомице и дал ей бутерброды сперва понюхать. Машенька аж присела и приоткрыла ротик. Через дырку в наморднике я сунул ей сперва один ломтик, затем второй. Мишка пришла в восторг. Когда мы снова встали в один ряд, она уже не оттягивала мне руку своей лапой, а держала ей довольно свободно.
Четвёртым был волк Данилка. Скажу вам честно – собак, особенно больших боюсь: не хочется делать уколы, как делала их моя младшая тётя, которую летом куснула в спину соседская на даче собака. А тут – волк! Большущий! Без намордника!.. Но мне Дурова сообщила, что Данилка вырос среди людей, что его, совсем кроху, нашли на барже (как он туда залез?..) в московском Речном порту, что он и в лесах-то не бывал. «Ты знаешь, – таинственно произнесла Дурова, – он с первых дней всё с людьми да с людьми, маленький был, так всё время на ручках, как котик! Ты его не бойся. Можешь даже погладить!» Что я и сделал. Данилка очень дружелюбно на меня посмотрел и вякнул.
Каков же был его номер? Он играл роль… Волка из мини-спектакля «Красная шапочка». Красной шапочкой была его личная няня Лариса Мельникова. Шли они, как и положено в сказке, к бабушке, несли ей в корзиночке гостинчики, а корзиночку в зубах тащил… Данилка! Красная шапочка и её серый друг делали на полянке привал, звучала музыка из детского спектакля «Где-то, где-то по опушке, где-то, где-то по полянке Красная шапочка идёт…», а Данилка художественно и довольно музыкально подвывал мелодии.
Зал, особенно детская его половина, от восторга визжали! Ребята, конечно, сказочку читали, но такой живой сказки представить себе не могли.
Когда номер кончился, пошёл занавес (перед антрактом этот номер был последним), Дурова мне сказала: «А теперь позови за собой Данилку. Он за тобой пойдёт прямо за кулисы. Там у него в миске мясо…» Я позвал и, действительно, Данилка встрепенулся, пошёл вслед за мной, мордой потёрся о мои ноги и поспешил к миске.
Последние два мои цирковые приключения были уже в Москве, в Театре зверей. Дурову кто-то вызвал в кабинет, а следующий номер был репетиционным. А в центре номера – огромный перуанский попугай Ара. Он был очень голоден и его надо было, как сказала Дурова, «чуть-чуть прикормить». Мне были даны две тарелки: одна с печеньем, а вторая – с клубникой! О! Такое искушение для меня!.. Ара был за ногу привязан к ножке стола, но в пределах метра-полутора мог передвигаться довольно свободно. Не мешает сказать, что у себя на родине такой громадный попугай ударом клюва сбивает на землю довольно толстую ветку. Мне не очень хотелось, чтобы моя рука была также сбита. Ия стал с Арочкой разговаривать. Интонацию чувствуют почти все существа, понимают, добрые слова или злые. Мои были добрые, но я по возможности незаметно чередуя печенье и клубничку, подкармливал и себя. Ара это «усёк» и стал трясти головой, издавая какие-то воинственные звуки, примерно такие: «Ах-ха-ха-а!». Я не стал испытывать судьбу и всё, что оставалось в тарелках, отдал своему пернатому приятелю.
Но всё же самое удивительное существо, с которым я подружился, была маленькая (для слонов, конечно!) слониха-девочка Даша. Она с Дуровой репетировала на большой сцене нового зрительного зала, а в этот момент в зал пожаловала наша киносъёмочная группа. Дело в том, что в самом конце 1983 года на студии «Лентелефильм» завершались съёмки нашего документального фильма о поэтах Ленинградского фронта, о прорыве блокады Ленинграда «Сорок первый наш год призывной…». Оставалось только интервью с Александром Межировым, москвичом. Приехать-то мы приехали, а с гостиницей вышла заминка, и мы остались с тяжёлой аппаратурой, голодные и продрогшие без крыши над головой. Пока я договаривался с Правлением Союза писателей СССР, пока нас оформляли в общежитие Аитинститута, надо было где-то пробыть часа два, и Дурова нас любезно пригласила к себе.
Самая молоденькая из нас, администратор, увидев Дашу, бросилась к ней, как дошкольница с криком: «Ах, какая хорошая слоночка!». Этот порыв Дурова осадила решительно и резко: «Назад, девушка! Даша очень не любит женщин. А мужчины могут подойти и даже погладить Дашу по хоботу…». Однако было поздно: Даша резко наклонила голову, пошла на администраторшу, и так ей поддала, что та улетела за кулисы. Спасло её от травмы то, что она приземлилась на крепко свёрнутый второй занавес.
«Ну, вот! Что я вам говорила! Женщины! От Даши три шага назад!» Потом Дурова подхватила меня и тихо сказала: «Даша возбуждена и огорчена. Надо её как-то утешить. На вот это большое зелёное яблоко и сунь ей в хобот. Она тебя не тронет и будет очень рада…». Я так и сделал и ещё нежно погладил Дашеньку по хоботу… Дашенька затрубила, подняв высоко хобот, а затем этим хоботом очень бережно обняла меня, обхватив пояс и плечи. Мы с Дашей немного «поговорили», но надо было продолжать репетицию. Съёмочную группу мы увели из зала и все вместе пошли осматривать конюшни, а Даша вдруг соскочила со сцены, довольно высокой, догнала меня у дверей, ещё раз обняла и затрубила, но её властно на сцену позвала Дурова.
А я, погрустив, подумал: «А если это – любовь?..»
Марианна Сотникова. Театр зверей (Стихи и песни о цирке и цирковых животных)
Как я с Дашей подружилась
Помню я слониху Дашу из Театра зверей. Мне вначале было страшно приближаться к ней. Эта девочка-слониха очень велика, ходит грозно так и тихо, на подъём легка! На хвосте краснеет бантик. Зритель очень рад! Даша лучше всех собачек веселит ребят. Всё мотает головою, хоботом трясёт и про нас, мой друг, с тобою понимает всё. Я отправлюсь за кулисы, к Даше подойду близко-близко, близко-близко… Прямо на беду! Даша мне протянет хобот, тёплый и смешной. …Так друзей порой находят родственных душой! С тех пор слоны ушли из снов. С тех пор я не боюсь слонов!Учёные козочки
Мы – козочки учёные. Рога у нас кручёные. У нас звенят бубенчики. Весёлые мы девочки! Мы – козы не домашние, м ы – дикие, мы – страшные, когда мы все на воле — в горах или на поле. А на арене цирка ведём себя мы тихо.Всех на свете красивей!
Я – обезьянка. Я – иностранка. Сижу я в клетке зоопарка. Ни на кого я не похожа. Я всем ребятам строю рожи. Дразню людей. Дразню зверей. Я всех на свете красивей!Город волшебный добрых чудес Весёлая песенка
Посвящается замечательной артистке, писательнице и дрессировщице Н. Ю. Дуровой
Город волшебный добрых чудес! Там – птичий щебет, простор до небес! Явится сказка, как в сказке сама. Гляди без опаски и запоминай! Там во всю слоны трубят для ребят! Там хорошенькие мишки носят юбки и штанишки. Удивляясь, бегемотик открывает ротик! В городе этом веселье царит. Он разноцветно огнями горит. Флюгер на крыше — слоник смешной, будто бы вышел на встречу со мной! Там боксируют боксёры, там лошадки все – танцоры, добрые бульдожки тренируют ножки, новенькие слаксы примеряют таксы! Город чудесный, огнями гори! Новое детство добром озари! Мы не забудем волшебные сны. Звери и люди вовеки дружны!Н.Ю. Дурова. «Дрессируй свои слова!». (Из письма Н. Ю. Дуровой Марианне Сотниковой)
«Дорогой друг Марианна! Обе твои книжки – и поэтическую “Разноцветные снега”, и прозаическую “И звери в памяти живут” прочла с удовольствием. Рада, что ты продолжаешь семейные традиции, вступая в литературу. Желаю тебе на этом трудном поприще больших удач. Знаю, что ты очень любишь животных. Дрессировщицей тебе, конечно, не стать, а вот слова в своих сочинениях дрессируй умело и постоянно!»
Наталья Дурова – Марианне Сотниковой
Н.А. Сотников. «Он был вольнолюбивый патриот» (Из выступления Н.А. Сотникова перед творческим коллективом Костромского областного театра имени А. Н. Островского)
…Как автор я бесконечно рад, что начались застольные репетиции нашего будущего спектакля «Встреча в веках». До недавней поры это была только моя пьеса, а теперь это наше общее творчество. Автор почти всегда знает о своих героях больше, чем режиссёр и актёры, театральные художники и музыканты. Это и понятно: он многие годы врабатывался в дорогую и заветную для него тему.
Вы меня, конечно, спросите: «А историки? А краеведы? А музыковеды? В том числе и такой первоклассный знаток творчества Глинки, как академик Астафьев, сам композитор, к тому же!» Так отвечу: «Методологически у нас разный подход! Порою знатоки вдаются в такие дебри, уходят с головой в такие тонкости, что нам на театральной сцене их никак не учесть, не выразить художественно-образно!»
О дворянском быте первой трети XIX века у вас будет лекция княгини Волконской. Вы знаете, что она теперь, переехав из Парижа в Москву и активно участвуя в творческой судьбе своего сына Андрея, руководителя ансамбля старинной музыки «Мадригал», щедро делится с творческими работниками своими знаниями, зачастую – уникальными. Ведь даже в самом тщательном труде не сказано о множестве важных и психологически тонких деталях, которые мы с вами можем обыграть в ходе представления. Возможно, приедет Волконская и на одну из последних репетиций, чтобы посмотреть и послушать спектакль в целом.
Пока я не могу не сделать одно из общих замечаний. Почему-то никто из наших коллег не воспринял термин СТОЛБОВОЙ дворянин. Термин восходит не к столбу, а к столбцам, то есть строкам в книгах родословия. При этом хотелось бы подчеркнуть, что родовитость не равнозначна даровитости и другим достойным качествам.
Так что не стану отнимать хлеб у Волконской, тем более что, прожив до революции 17 лет на свете, высшее дворянство я не знал среднее я видел мельком (ведь Полтаву именовали так: дворянский городок), рядовых дворян из чиновников знал лучше, но всё равно не так обстоятельно, как крестьян и рабочих.
А вот на политико-идеологическом аспекте остановлюсь особенно, прежде всего – в связи с темой «Глинка и декабристы». Не могу не вспомнить слова академика Б. В. Асафьева о том, что «тема о Глинке всегда была боевой, горячей темой русской музыкальной школы, утверждающей и отстаивающей свою великую самобытность».
На первый взгляд, о Глинке сказано немало (два игровых фильма, один документальный, два романа, две пьесы, книга в серии «Жизнь замечательных людей», не забудем и переизданий мемуаров современников Глинки и самого
Глинки), при этом освещались различные страницы биографии великого композитора крайне неравномерно.
«В начале жизни школу помню я», – писал Пушкин о себе. Лицейская тема – фундамент всей биографии поэта. А вот так называемому Благородному пансиону, который по широте охвата знаний явно мог соперничать с тогдашними университетами, явно не везёт. Этот пробел я хотел восполнить, написав пьесу «Вдоль Фонтанки-реки» о юных петербургских годах Глинки. Не забудем, что учителем, гувернёром (на несколько воспитанников, в том числе и на Глинку) был Кюхельбекер, который в прямом и в переносном смысле слова связывал поколение Пушкина и поколение своих учеников. Однокашником Глинки был и младший брат Пушкина Лев. Не станем переоценивать его личность, но он был памятливым и увлечённым пропагандистом стихов брата.
Да, программа благородного пансиона при Лицее была менее обширна. Что же касается Благородного пансиона на Фонтанке, где преподавал В. Кюхельбекер и где учился М. Глинка, то по педагогическому составу он, конечно, уступал Лицею. Моральный климат был значительно хуже, нежели в Лицее первых лет его существования, но учебная программа была довольно обширна, а в чём-то и превышала лицейскую. Итак, в пансионе преподавались: логика, нравственная философия, право, политэкономия, математика, военные науки, физика, химия, естественная история, география, статистика, история словесности (история литератур) русская, древнегреческая, латинская, немецкая, английская, французская. По желанию можно было дополнительно изучать языки персидский, испанский, итальянский. В программу входили архитектура, рисование, черчение, пение, танцевание, фехтование. Конной выездки, как в Лицее, не было. За музыкальные занятия надо было платить дополнительно («на то особо»). Вообще же, если лицеисты учились и содержались бесплатно, то в пансионе плата была значительная и даже сравнительно состоятельный помещик отец М. И. Глинки Глинка-старший, обучая сына, весьма напрягал свой бюджет.
Учебный год продолжался 11 месяцев. В июле были каникулы. Режим в пансионе был значительно мягче и, прямо скажем, «разболтаннее» чем в Лицее пушкинской поры.
Влияние Кюхельбекера на Глинку трудно переоценить, так как он, не только преподаватель, но и гувернер нескольких пансионеров, в том числе и Михаила Глинки, был с ним неразлучно три года почти каждый день! Закончил пансион Михаил Глинка в 1822 году. Нет никакого сомнения, что через уроки Кюхельбекера Михаил испытывал на себе огромное влияние Пушкина как поэта и как личности.
Я глубоко убежден в том, что именно в Благородном пансионе следует искать истоки «великой самобытности», о которой и говорил академик Асафьев. Более того, создание первой русской истинно национальной оперы «Иван Сусанин» и было выражением декабристских взглядов Глинки.
Очень меня огорчает, что некоторые авторы, пишущие о Глинке, либо игнорируют напрочь декабризм в творчестве Глинки, либо упрощают его до крайности. Так, например, А. Новиков приписал Глинке более чем странное суждение о рылеевском кружке: «Чудят!» С Сенатской площади Глинка якобы убежал панически, как обыкновенный трусливый обыватель!
На самом же деле Глинку привела на площадь солидарность с восставшими, тревога за жизнь любимого им Кюхельбекера, друзей своей юности: сослуживца Бестужева, соучеников Глебова, Палицына и других…
Упрощённо рисует образ Глинки той поры и Б. Вадецкий. По поводу декабризма и декабристов придуманный Вадецким Глинка походя и равнодушно бросает реплику: «Я слышал об этом…». Не стоит забывать, что и сам Глинка подвергался жандармскому обыску, был вызван на допрос к грозному герцогу Вюртембергскому, своему высшему начальнику по службе в Министерстве путей сообщений.
Всеволод Успенский утверждает, что Глинка безразлично и равнодушно относится к декабризму. Вовсе нельзя согласиться с заявлением о том, что в занятиях музыкой он видел «отдохновение от назревающих волнений».
Нет, мы вправе считать Глинку представителем именно декабристской культуры. Разумеется, при этом нельзя вдаваться в другую крайность и навязывать роль Глинке… активного заговорщика! Да, именно так! Один из биографов Глинки додумался до такого искажения биографии великого композитора. В тайных обществах он, конечно же, не состоял, но о существовании их был в какой-то осведомлён и разделял основные взгляды лидеров декабризма…
Вполне допустимо и такая параллель: друзья могли сознательно сберегать Глинку, как и Пушкина, от смертельного риска.
Вполне будет обосновано и такое предположение: Глинка столкнулся с предателем декабризма, зловещей фигурой того времени И. В. Шервудом, который в Смоленске стал мужем Элизы Ушаковой, близкой приятельницы и даже возлюбленной Глинки. Так завязывается сложнейший узел личных и общественно-политических противоречий.
У нас с вами сравнительно короткая беседа, а не профессиональный курс или семинар в консерватории или на истфаке университета. Мы должны непременно помнить, ради чего собрались, и не отвлекаться на слишком общие темы и проблемы. Иначе мы к тому же и все строгие сроки подготовки спектакля пропустим.
Есть у меня и принципиальные частные пожелания. Актрисе, которая будет играть роль жены Глинки, стоит помнить, что в своей наглости, равнодушии и даже цинизме она превзошла Наталью Гончарову: решиться на венчание, тайное и коварное, глубоко оскорбительное для Глинки – это своеобразный рекорд среди дворянок той поры! «Наша-то Мария Петровна замуж вышли…» – горестно сообщает Глинке слуга. «Как так – замуж? При живом-то муже?..» Одна из самых горестных сцен у меня в пьесе – это беседа Глинки с его крепостными музыкантами: он неожиданно прерывает репетицию: «Не могу больше! Душа пуста!» Эти слова далеко выходят за пределы того времени, о котором наш спектакль…
Очень прошу актёра, играющего поэта и царедворца Жуковского, не идеализировать своего героя: да Жуковский заботился о Пушкине, затем – о Глинке, заступался за некоторых опальных талантов, но есть в его характере и в творчестве ноты, которые в школьных программах по литературе, да и в вузовских всячески приглушились – сознательно или же по незнанию. Это и роль царедворца (не все знают, что над учителем наследника престола при жизни посмеивались сатирики, живописуя его с указкой в руке!), и взлелеянная им реформа смертной казни в России (Жуковский хотел, чтобы она совершалась без европейской жестокости, а в храме, под песнопения, чуть ли ни к радости осуждённого!), это и явно нездоровый интерес Жуковского к похоронно-загробным мотивам[166]. Что же касается Глинки, то Жуковский оказал ему медвежью услугу, сосватав в качестве либретиста барона Розена. До сих пор «розеновщина» растравляет великую оперу Глинки! [167]
Сам Жуковский называет Розена «усердный стихотворец»! Не был ли сам Жуковский[168] слишком усердным царедворцем?..
Хронологические рамки пьесы, концентрации действия вокруг истории создания оперы «Иван Сусанин» не позволили мне как автору даже приблизиться к проблеме последних дней жизни Глинки. А ведь это для его друзей и нас, его наследников в веках, больной и далеко не прояснённый вопрос! Дело не в простуде: в конце концов организм у Михаила Ивановича хотя и не был богатырским, но и хилым его назвать нельзя никак, так как, судя по свидетельствам современников, Глинка выдерживал весьма большие нагрузки. Есть какая-то зловещая интрига с письмами, которые он получил незадолго до кончины, с какими-то явно запредельными денежными тратами… Есть неясность и с диагнозом. Не вдаваясь в некоторые слишком натуралистические детали, скажу, что есть гипотеза об отравлении Глинки. Один из моих учеников, начинающий драматург, по профессии криминалист, в этом абсолютно уверен. Не ведут ли следы в корпус жандармов, в зловещее Третье отделение личной царской канцелярии?
У этой моей пьесы есть пьеса-предшественница – «Славься!», напечатанная в Смоленске в 1954 году[169]. Ныне я предпочитаю ту пьесу которая принята к постановке вашим театром. Хотя всё же сожалею о том, что некоторые важнейшие мотивы в новую пьесу из той не вошли: это характеристика лютого гонителя Глинки Фаддея Булгарина, это финал, когда рабочий сцены зычно кричит на чиновников за кулисами: «Пропустите! Наше "Славься!” идёт!» В то же время новая пьеса динамичнее, воспринимается она легче. Единственная просьба – не делать слишком большие акценты на личных переживаниях Глинки. Хотя, прямо скажем, утраты невелики: корыстная и своенравная итальянская певица, ненавидящая «унылые и скорбные» русские песни, перед которыми сам Глинка преклонялся, не отпускающая Глинку на родину, и жена Мария Ивановна, которая принесла Глинке столько бед… Пусть в спектакле на первый план выйдет главная любовь Глинки – любовь его к русской музыке'.
И, наконец, – самое главное: Глинка и XX век, Глинка и современность. Здесь сейчас я не буду перечислять всего того, что сделано в нашей стране для увековечивания памяти Глинки, а сделано немало! Но лично я считаю самым главным качественное обновление текста и частично либретто поэтом Сергеем Городецким. Вероятно, эта его заслуга смело может быть поставлена в ряд с его протекцией юному Сергею Есенину в столичном граде на Неве. Другие же стихи Городецкого, на мой взгляд, могут заинтересовать только знатоков, специалистов.
А теперь представим себе блокадный Ленинград, ледяной подвал Театра драмы имени Пушкина. Здесь под «оркестр» бомбежек, сирен и орудийного гуда пишет своё проникновенное и восторженное сочинение о Глинке музыковед и композитор Асафьев. И вот – снятие блокады. «Январский гром» (такое было кодовое название операции!). Сперва оркестры исполняют «Славься!» Глинки, а затем морозный воздух заполняет величественный «Интернационал» другого моего кумира – французского композитора Пьера Дегейтера. Так породнилась величальная русского народа и русскому народу и революционный гимн всей планеты Земля.
Завершаю нашу беседу двумя короткими самооценками Глинки: «безмерная и постоянная тоска по Отчизне» на чужбине и «нежелание рядиться в чужие перья» (это – о музыкальном творчестве).
Кострома, 1965 год
Печатается по тексту стенограммы.
КОММЕНТАРИЙ СЫНА
Когда был уничтожен Советский Союз, когда возникла Рээфия, то встал вопрос о новом гимне. Для этих целей была избрана мелодия Глинки, на которую несмотря на все конкурсы так и не написали слова. Возникало и другое предложение – мудрое и верное: сделать гимном «Славъся!», но лидерам РФ того времени этот вариант принципиально не подходил: им никак не хотелось славить Россию так, как славил её Глинка.
До 1944 года гимном СССР был «Интернационал» Пьера Дегейтера и Эжена Потье. Заменил его по инициативе «союзников» (прежде всего Англии с Черчиллем во главе) с тех пор трижды менявшийся гимн Александрова, С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. Опять же – родственные судьбы двух великих мелодий!
Н.А. Сотников. Когда он родился, запел соловей Лирическая трагедия о юных годах Михаила Глинки в трёх действиях, восьми картинах с эпилогом
«Музыка – душа моя».
М. И. Глинка
«… Глубокие истоки творчества Глинки таятся в русской народности».
Академик Б. В. Асафьев
«Он поступает последовательно и правильно: он знает интонации крестьянской русской речи, с детства знает качество говора, напевность и смысл вокала…».
Академик Б. В. Асафьев
«… Глинкинские русско-исторические тенденции, как они отражены в “Сусанине”, ближе крылеевским тенденциям, чем к карамазинским».
Академик Б. В. Асафьев
«…Я первый русский композитор, который познакомил парижскую публику со своим именем и своими произведениями, написанными в России и для России».
М. И. Глинка (Из письма к матери из Парижа 12 апреля 1845 года)
«… всё в народе и от народа».
Академик Б. В. Асафьев
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Михаил Глинка, начинающий композитор
Иван Николаевич, его отец, смоленский помещик
Евгения Андреевна, его мать
Милочка, младшая его сестра, впоследствии самый верный ему родной человек, хранитель и пропагандист его музыкального наследия
Авдотья, старая няня, родная по духу сестра пушкинской Арине Радионовне
Лиза (Элиза) Ушакова, дальняя родственица, желанная невеста и враг на всю жизнь
Лев Пушкин, брат великого поэта, однокашник Михаила Глинки по Благородному пансиону в Петербурге
Сергей Соболевский, ихобщийдруг
Кюхельбекер, гувернёр в Благородном пансионе, поэт, гражданин, чистокровный немец и при том русский патриот
Колмаков, подинспектор в Благородном пансионе
Шарль Майер, пианист, музыкальный педагог, репетитор Глинки
Глебов и Палицын – соученики Глинки по Благородному пансиону
Княгиня, музыкантша-любительница
Генерал, музыкальный меценат
Уездный лекарь в Смоленской губернии, немец
Илья, дирижёр
Яков, камердинер
Алексей, кучер – крепостные слуги Глинки в Петербурге
Гость Глинки-отца, чрезвычайно похожий на гоголевского Ноздрёва
Гостья его же, тоже гоголевского типа, вроде «дамы просто приятной»
Жандармский офицер в Петербурге
Моряк-декабрист
Гости, оркестанты, слуги
Действие происходит в 1822–1825 годах в Петербурге, в селе Новоспасском и в Смоленске.
Эпилог – в Милане в 1833 году.
Действие первое
Картина первая
Сводчатая комната с толстыми стенами. За окном Благородного пансиона виднеется Фонтанка с аркадами Калинкина моста елевой стороны. Четверо юношей в казённых мундирах прилежно склонились над письменной работой. Хохолок Глинки виднеется за раскрытым роялем. Звучит соната Гуммеля. За дверью послышались громкие шаги.
СОБОЛЕВСКИЙ. Идут! Прячьте листки…
Бумаги исчезли со стола. В дверях показалась нескладная фигура гувернёра.
ЛЕВ ПУШКИН (обрадовался). Кюхельбекер! Добрая душа… Послушайте, пожалуйста, Вильгельм Карлович. Читай-ка, Соболевский, что у тебя получилось?
СОБОЛЕВСКИЙ (расправил бумагу, плутовато улыбнулся). Сей прощальный кант звучать будет так:
Подинспектор Колмаков Умножает дураков…А дальше… пока не сочинил. Как у тебя, Пушкин?
ЛЕВ ПУШКИН (с живостью прочёл).
Он глазами всё моргает И жилет свой поправляет!КЮХЕЛЬБЕКЕР (громко и странно рассмеялся). Молодец, Лёвушка! Не в братца ли пойдёшь? Кстати, об Александре…
СОБОЛЕВСКИЙ (нерасслышал) записал строфу). Пойдёт! Твой черёд, Глинка.
Пальцы Глинки уверенно и быстро пробежали по клавишам. Он обернулся, продолжая играть.
ГЛИНКА. Не положить ли нам слова сего канта на мотив, вроде песенки Кавоса «Душа ль, моя душенька»?
ЛЕВ ПУШКИН. Ну, ну! Как это будет? (К Глебову и Палицыну). А ты, Глебов, что написал?
ГЛЕБОВ. Я был занят другими стихами. Переписывал у Палицына пушкинскую «Вольность».
ПАЛИЦЫН. Его ода – не ниже радищевской!
ЛЕВ ПУШКИН. Выше, Палицын. Выше!.. Играй, Глинка.
Глинка заиграл, запел шуточный кант о Колмакове. Друзья подтянули. Вдруг, моргая глазами и подтягивая жилет, приблизился сам Колмаков.
СОБОЛЕВСКИЙ (в замешательстве). Ай! Колмаков!
КОЛМАКОВ (отрывисто>, хрипловатым баском). Гневаюсь, но не наказываю. Последний день вы в Благородном пансионе. Поправляю. Глупо сказано. Не «умножает», а обучает дураков.
ГЛИНКА (закрылрояль). Это мы так, Иван Екимович. Мы уважаем… Ваша любовь к наукам…
КОЛМАКОВ. Сие известно. А вот вы, Глинка, предпочли науке легкомысленную музу…
За раскрытыми окнами раздались сильные и своеобразные звуки. Юноши бросились к окнам.
КЮХЕЛЬБЕКЕР (усмехнулся). Нарышкинская весенняя серенада. Музицирует беззаботная столица!
ЛЕВ ПУШКИН. А красив всё же роговой оркестр на лодках! Трубы так и тянутся к небесам, словно могучая пальмовая ветвь.
ГЛИНКА (восхищенно). А так торжественны аккорды глюковой «Ифигении». Величественный небесный орган! Какое волшебное дуновение!.. По-моему, только народ-гений смог сыграть такую музыку. Не правда ли, Вильгельм Карлович?..
Оркестр утих. Вероятно, лодки скрылись за мостом.
КЮХЕЛББЕКЕР. Я думаю иначе, друзья. Кого можно приучить – всю жизнь дудеть одну лишь ноту на одной дуде?.. Только – раба! Потому и нет нигде в Европе подобной музыки.
ГЛЕБОВ. Понятно. Там почти не осталось крепостных.
ПАЛИЦЫН. Нарышкинские роговые музыканты имена свои позабывали. Так до старости и зовутся: не Прошка, а «До», и не Тишка, а «Ре»!
ГЛИНКА (задумчиво). Не человек, а нота?! Страшно…
КОЛМАКОВ (вмешиваясь). Неблагонамеренно судите. Довольно опасно!
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Что вы, Иван Екимович? В безобидном разговоре о музыканте…
КОЛМАКОВ. Добавлю. Звучат вольнодумные ноты!
ГЛИНКА. Повторите! Повторите, что вы сказали?
КОЛМАКОВ. Петушитесь? Довольно!
ГЛИНКА (повторяет). «Звучат вольнодумные ноты»?… Прелесть! Невзначай изрёк, а ведь верно. Не правда ли?
ГЛЕБОВ. Звучат вольные ноты? Спасибо, Иван Екимович.
ПАЛИЦЫН. Неужели может быть… такое в музыке? Не только в стихах?
КОЛМАКОВ. Довольно об этом. Вы намерены переодеться, господа? Готовы ли к выпускному балу? Гости. Событие!
ЛЕВ ПУШКИН. Скажите, Иван Екимович, по правде. Что нам всем предстоит? Будьте нашим оракулом.
КОЛМАКОВ. По секрету? Скажу…
ГЛИНКА. Как Глебов, Палицын?
КОЛМАКОВ. Друзья-неразлучники? Вольномыслия много. Не вижу у них доброго пути.
ГЛЕБОВ, ПАЛИЦЫН (вместе). Что? Что вы знаете о нас двоих?
КОЛМАКОВ. Помолчу. Знает кошка, чьё мясо съела.
ГЛЕБОВ. Ну, а Глинка?
КОЛМАКОВ. Глинка? К выпуску! Благонравен. Трудолюбив. Я бы сказал, даровит. Всё легко даётся.
ГЛИНКА. Ну, а Сергей?
КОЛМАКОВ. Соболевский? Гм… На второй год! Не созрел нравственно. Атеист!
ЛЕВ ПУШКИН. Но-но! Не посмеете. Сергея брат отстоит.
КОЛМАКОВ. Пушкин Александр? Гм… Себя бы отстоял!..
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Не говорите лишнего, Колмаков.
КОЛМАКОВ (заморгал, задёргал жилет). Вы тоже на волоске, Кюхельбекер. Как воспитатель…
ЛЕВ ПУШКИН. О чём он говорит?
КОЛМАКОВ. О крамольной речи в защиту Пушкина… Предупредил? Довольно. Удаляюсь. С вами греха не оберёшься. Не опаздывайте в актовый зал. (Ушёл).
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Фу, утомил… Лёвушка, я видел брата.
СОБОЛЕВСКИЙ. Да объяснитесь, наконец!
ГЛИНКА. Что с Пушкиным? Что с Кюхельбекером?
ЛЕВ ПУШКИН (обеспокоен). Как он? Что у него?
КЮХЕЛЬБЕКЕР (печально). Наш корифей, певец любви, свободы и «Руслана» завтра нас покинет.
ЛЕВ ПУШКИН (упавшим голосом). Я так и думал… А каков он?
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Весел! Духом не упал… Я призывал к протесту любителей словесности. Речь держал, о которой Колмоков намекал. А Пушкин мне говорит: «Ты всё тот же, Кюхля, крикун, мечтатель и поэт». А у меня на душе горько…
СОБОЛЕВСКИЙ. Я не понимаю. Что вас так тревожит?
ЛЕВ ПУШКИН. Брат покидает Петербург не по своей воле.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Обещал зайти проститься. Уезжай, мой любезный друг, брат по музе и судьбе. Лицейской жизни милый брат!
ГЛИНКА (удивлён и огорчён). Куда? Зачем?..
КЮХЕЛЬБЕКЕР. В Бессарабию. Генерал Милорадович гонит Пушкина из столицы за «возмутительные» стихи. Бунтовщиком считает.
ПАЛИЦЫН. Угнетение истинно тяжкое!
ГЛИНКА. Пушкина – в ссылку?!
ГЛЕБОВ. А за какие стихи?
ПАЛИЦЫН. Сам знаешь. Поищи в своей тетради.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Их знаю все. В списках ходят по рукам. (Усмехнулся). Александр прочёл их губернатору. Даже записал по памяти, хотя… кое-что утаил.
ЛЕВ ПУШКИН (горячо). Я скажу! Помню наизусть…
Увижу ль, о друзья, народ неугнетённый и рабство, падшее по манию царя?..ГЛЕБОВ (подхватил).
И над отечеством – свободы просвещённой — взойдёт ли наконец прекрасная заря?..КЮХЕЛЬБЕКЕР. Так мы думали прежде. Была надежда на милость царя. Теперь мы думаем иное…
Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу…ПАЛИЦЫН (продолжил).
Твою погибель, смерть детей с безумной радостию вижу…КЮХЕЛЬБЕКЕР. Они знают всё…
СОБОЛЕВСКИЙ (поглядел на дверь). Тс-с, идут!
Вошёл слуга Глинки – Яков, одетый в форму пансионского служителя. В руках у него – фрак.
ГЛИНКА. Что это, Яков?
ЯКОВ. Фракс-с, барин. От портного. (Прослезился). Ваш первый фрак! Как время-то идёт. Сколько лет при вас, а не заметил, как мужчиною стали!
ГЛИНКА. Полно, Яков. Отчего же горевать?
ЯКОВ (вытер глаза). Время, говорю, летит. Одевайтесь, Михаил Иванович.
ГЛИНКА. Положи, потом. Принеси-ка нам вина. Посошок на дорожку.
ЯКОВ. Мигом-с! (Убегает).
СОБОЛЕВСКИЙ. Заодно и мне пожелаете счастливого пути. Пора бежать в чужие страны, доучиваться. Трудно на Руси…
ГЛЕБОВ. Не спеши, Сергей. Дома дела много.
ПАЛИЦЫН. Правильно! Кто будет избавлять Россию от самовластия и рабства?..
Возвращается Яков с бокалами вина на подносе.
ЛЕВ ПУШКИН (поднимает бокал). «Кубок янтарный полон давно. Ну, за кого же выпью вино?…»
КЮХЕЛЬБЕКЕР. «Пейте за славу, славы друзья!»
СОБОЛЕВСКИЙ (чокается). За славу Пушкина!
ГЛЕБОВ. За Кюхельбекера, который научил нас чувствовать и мыслить!
Друзья пьют. А Глинка – уже у рояля, пробует подыгрывать звучным стихам Пушкина. Импровизированный напев подхватывают молодые голоса.
ВСЕ (поют). «Я, благодарный, пью за вино…».
Прибывает запыхавшийся Яков.
ЯКОВ. Барин\.. Михаил Иванович!.. Слышите? Старый барин за вами прибыли – Иван Николаевич!
ГЛИНКА (обрывает игру). Папенька?!
ЯКОВ. Скоро будут здесь. Зашли к господину инспектору. С ними – господин Колмаков и маэстро Майер.
ГЛИНКА (вздохнул). Отец собрал совет. Опять начнут бранить за музыку и толковать о жизненном призвании. Что делать? Кем быть? Скажите!
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Думайте, чем помочь Отчизне…
ЯКОВ. А Кухлю требуют к господину директору.
КЮХЕЛЬБЕКЕР (встаёт). Настал мой час… расплаты.
ЛЕВ ПУШКИН. Я не позволю! Я покажу ему, дьяволу белоглазому!
СОБОЛЕВСКИЙ. И я с вами. Кавелину не поздоровится от моей ярости. Мне терять нечего.
ГЛИНКА. И я пойду!
ЯКОВ. Вам нельзя-с, барин. Батюшка-барин у порога. Одевайтесь поскорее.
Кюхельбекер, Пушкин и Соболевский уходят.
ГЛИНКА (Глебову и Палицынц). А вы?..
ГЛЕБОВ. Мы – пока в стороне.
ПАЛИЦЫН. Нам подумать надо… Белая ночь на дворе…
Уходят. Яков облачает хмурого Глинку в новый фрак, осматривает его, одёргивает фалды.
ЯКОВ. Непривычная одёжка. Словно у кузнечика крылья…
Появляется Иван Николаевич в сопровождении Колмакова и Майера.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (обнимает сына). Ну, Мишенька, поздравляю! Аттестован с отличием… Все домашние целуют, обнимают, ждут. Скоро тронем в Новоспасское.
ГЛИНКА. С приездом, папенька. Спасибо. Здравствуйте, месье Майер. Вы хотите дать мне урок?..
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Я пригласил маэстро для другого дела. Видишь ли…
МАЙЕР (с акцентом). Месье Мишель, вы уже слишком много знайт, чтобы брать у меня уроки…
ГЛИНКА. Месье Шарль! Я потеряю вас?..
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Покажись-ка во фраке?.. (Повёртывает сына). Всем хорош, сынок, да вот росточком не вышел!
ГЛИНКА (озобочен). Как же будет с уроками, маэстро?
МАЙЕР. Но я могу приходить к вам… Как это по-русски?.. (Вспомнил). По-приятелски! И мы станем вместе музицироват.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Вот видишь, Мишенька? Маэстро то же самое говорит, что и я. Полно тебе обучаться музыке. Сколько у нас этих учителей пребывало? Не счесть! Я не говорю о гувернантах и прочих домашних. (Загибает пальцы). Англичанин Фильд – раз!
ГЛИНКА (вставляет). Всего три урока. Жаль, хороший был учитель… первостепенный!
МАЙЕР (горделиво). Джон Фильд и меня учил музык!
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (будто не слышит). Потом – француз Оман… Немец Цайнер… Итальянец Тодди обучал тебя пению… Четыре?..
ГЛИНКА (быстро). Плохой музыкант, как и все, подобные ему, перелётные птицы певчие. Тодди в нас воспитывал попугайство итальянское или мартышество…
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (раздражаясь). Да я – не об этом. Слушай! Теперь – месье Майер. Пять? У скрипача Бёма брал уроки? Шесть!
ГЛИНКА. Увы, папенька. Не быть мне скрипачём. Бём находит мою кисть несвободной.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Опять ты – не о том! Из пансиона выпускают молодых людей с правом на чин десятого класса?
КОЛМАКОВ. Подтверждаю. Именно – десятого.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Изрядно! По-нашему, по-военному, это будет…
КОЛМАКОВ. Сравниваю. Штабс-капитан!
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Почти догнал отца. Я капитан в отставке.
ГЛИНКА (покачал головой). С моим-то ростом? Здоровьем? Не гожусь я в военную службу.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Ох, знаю! Здоровьем слаб… (С оттенком нежности). Мимоза!.. (Наставительно). Зато можно быть образованным, видным чиновником…
КОЛМАКОВ. Титулярный советник!
ГЛИНКА. Не буду я, папенька, чиновником. Не пойду служить в канцелярию. Хочу быть вольным…
КОЛМАКОВ. Подозреваю. Перепутает все бумаги. Нотами испишет циркуляры.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (вспылил). Как?! Ты – старший в новом поколении старинного рода Глинок – не пойдёшь в службу?.. Все наши деды и прадеды служили своим государям. Чем будешь жить? Дела в поместье плоховаты…
Нлинкав задумчивости, не откликается.
КОЛМАКОВ. Кем быть? Разъясняю. Благородный пансион готовит юношество к особо важной службе. Уточняю. К дипломатическому поприщу.
ГЛИНКА (поднимается на цыпочки, чтобы казаться выше). Дипломатический язык – не по моим зубам.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Ох, знаю. Простодушен…
ГЛИНКА (решился). Я выбрал себе иное поприще…
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (обеспокоен). Какое поприще?
ГЛИНКА. Служение искусству!
Отец и Колмаков рассмеялись, закашлялись.
Я буду музыкой служить Отечеству!
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (откашлялся). Ох, уморил! Дворянин и вдруг – музыкант?!
КОЛМАКОВ (примирительно). Понимаю. Музыка содействует успехам юношества в свете.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. И я понимаю музицирование как приятное препровождение времени. (Подтянулся). Говорят, его величество государь-император Александр Павлович сам изволит нередко играть на скрипке. Правда, – в тесном кругу августейшей фамилии. Его сиятельство граф Аракчеев – тоже тонкий ценитель музыки, хотя и духовой, военной. Но столбовой дворянин – музыкант по профессии? Не могу и помыслить!
КОЛМАКОВ. У нас для пропитания только нищие поют… Лазаря.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Беда с мальчишкой, беда! Ох, не к добру пел соловей при его рождении! Бывало, в ребячестве заберётся на хоры к музыкантам и подыгрывает им – то на скрипице малой, то на флейте-пикколо. Выволок однажды из оркестра, разбранил. Дескать, чему ты научишься с мужиками? А он-то и отвечает: «Что делать, папенька, когда музыка – душа моя!» Подумайте, в одиннадцать-то лет, и уже вся душа его была в музыке! Ох, чуяло моё сердце – вырастет скоморохом.
КОЛМАКОВ (поморгал, подёргал жилет). Дополняю. Много крепостных музыкантов. Зачем дворян – в оркестры? Услаждайте слух в салонах.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (насмешливо). Не к вельможам ли наймёшся увертюры Россини разыгрывать?
ГЛИНКА. Я сам сочиняю пьесы для музыкантов.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (обозлился). Россини всё равно из тебя не выйдет!.. Как вы полагаете, маэстро? Положимся на суд месье Майера.
МАЙЕР. Так вот, сыграйте, пожалуйста, что-нибудь новое, своё!
ГЛИНКА. Извольте… Вот мои вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя».
Полилась мелодия. Майер слушает с непроницаемым лицом. Отец и гость заслушались. Окончив первую часть, Мишель выжидательно посмотрел на учителя.
МАЙЕР (медлительно). Я тоже полагаю, Россини из Глинки не выйдет..
Глинка с недоумением, с укором поглядел на любимого маэстро. Отец особенно обрадовался поддержке с той стороны, с какой меньше всего ожидал её.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Вот-вот! Маэстро то же самое…
МАЙЕР (заканчивает фразу). Но зато может выйти… Глинка!
Придвигает свой стул к роялю, и они в четыре руки с Мишелем проигрывают вторую часть.
Крайне важно делать свою музыку в России. Я понимаю вас, юноша, и желаю… Как это по-русски? В пух и прах!
ГЛИНКА (обнимает его). Ни пуха, ни пера!.. Папенька, позвольте поучиться композиции?
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Нет, нет и нет! Хватит твоих забав. Возращайся в деревню, привыкай к хозяйству, коли служить не хочешь. Там и займёшься на досуге… композициями.
МАЙЕР. Простите, но загубить талант в глуши?! Не разумительно!
ГЛИНКА. Не разумно? Вы так считаете?!
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Слушайся старших!
ГЛИНКА. Хорошо, отец! Я согласен. Пойду служить в департамент. Останусь в Петербурге… А теперь позвольте мне уйти на время. Там Лёвушка с Сергеем сражаются за Кюхлю.
КОЛМАКОВ (входя). Садитесь. Меры приняты. Кюхельбекер остаётся.
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (поднимается). Готовься лучше к балу. А мы пока прогуляемся с маэстро по Фонтанке. (Уходят).
Пауза. Появляется Лёвушка в расстрёпанном виде.
ЛЕВ ПУШКИН. Фу!.. Не пустили к его превосходительству. Выставили стражу. (Застёгивает мундир). Но я им показал напоследок…
КОЛМАКОВ. Подрались с надзирателем?
ЛЕВ ПУШКИН. Поколотил палача Гёка. Разделался!
КОЛМАКОВ. И вы позволили себе, Пушкин, поднять руку на человека?!
ЛЕВ ПУШКИН (хохочет). И это – человек? Нет, это – просто Гёк!
КОЛМАКОВ. Ведь выгонят из пансиона. Куда пойдёте?
ЛЕВ ПУШКИН. В юнкера! Давно мечтал уйти из вашего благородного… застенка.
КОЛМАКОВ. Ну и ну! Вылитый братец…
Вбегают торжествующий Глебов и Палицын.
ГЛЕБОВ. Лев – молодец! А я наподдал торгашу Трике.
ПАЛИЦЫН (вытирает руки). И я бил обжору Биттена. За все съеденные мои рисовые каши с молоком рассчитался.
КОЛМАКОВ. Пушкин, Соболевский, Глебов, Палицын… Отпадают. Кто будет танцевать на балу?
ГЛИНКА. Я не умею… боюсь.
КОЛМАКОВ. Пропал… бал! Глебов, Палицын, а вы что думаете делать?
ГЛЕБОВ, ПАЛИЦЫН (вместе). Родине послужим. Народу!
Занавес
Картина вторая
Глинка стоит в колонном вестибюле, у порога концертного зала. С удовольствием прислушивается к звукам музыки. По лестнице поднимается Соболевский. Раскрывает объятия.
СОБОЛЕВСКИЙ. Миша, дорогой…
ГЛИНКА (целует). Сергей, какая радость! Откуда, друг?
СОБОЛЕВСКИЙ. Из Парижа. Немного доучился.
ГЛИНКА. У тебя папенька щедрее… Чем увлекался?
СОБОЛЕВСКИЙ. Искусствами! Прослыл российским меценатом. Завёл дружбу с Берлиозом.
ГЛИНКА. Счастливец! Такой музыкант… (Прислушался). Погоди. Мой любимый квартет Крузеля с кларнетом. С детства его помню. (Морщится). Однако дядюшкин музыкант Илья сыграл бы чище, с большим чувством, нежели сиятельный кларнетист-генерал.
СОБОЛЕВСКИЙ (заглянул в зал). Зато партия виолончели – в искусных руках графа…
Квартет умолкает под аплодисменты.
ГЛИНКА. Ну, как Москва, Арбат, Собачья площадка? Что дома у тебя?
СОБОЛЕВСКИЙ. Всё стоит на месте. Все ожидают Глинку в гости…
Слышится голос хозяина дома.
ГЕНЕРАЛ. А теперь, господа, насладимся искусством дорогой княгинюшки. Просим!
КНЯГИНЯ (голос из салона). Я исполню вариации на тему Моцарта – нашего Глинки.
Аплодисменты, потом – аккорды арфы.
СОБОЛЕВСКИЙ (уважительно). О, восходящее светило! Пойду послушаю твою даму с арфой.
ГЛИНКА. Арфа – прелестный инструмент, если пользоваться им с толком. Я послушаю отсюда.
Соболевский уходит в зал. По лестнице взбегает Лев Пушкин – уже в форме офицера.
ЛЕВ ПУШКИН. Потанцуем?
ГЛИНКА (недовольно). Иди в зал. Дай дослушать.
ЛЕВ ПУШКИН. Ах, дама с арфой? Пардон… (Убегает).
Вскоре арфа умолкла. Раздались аплодисменты.
ГЕНЕРАЛ. Шарман!.. Граф, прошу вас. Ваше соло!
За колоннами зазвучала виолончель. На площадку вышла княгиня.
КНЯГИНЯ. Мишель?! Где же вы были? Я играла ваши вариации. Они восхитительны!
ГЛИНКА (целует руку). Я слушал в вестибюле, чтобы избежать смущения.
КНЯГИНЯ (чуть игриво). Вы так скромны!
ГЛИНКА. Нет, я слишком строг к себе и к исполнению.
КНЯГИНЯ. Я вам не угодила? Вы мною недовольны?
ГЛИНКА. Увы, княгиня. Подчас тонкость обращается в жеманство.
КНЯГИНЯ. Испытайте меня снова. Не лишайте ваших новых сочинений. Я должна играть у государыни. Что надо сделать, чтобы заслужить ваше одобрение?
ГЛИНКА. Немного потрудиться. (Подаёт нотный листок). Если вам угодно… Вот новое, для вас.
КНЯГИНЯ (расцвела). Новенькое? Для меня! О, благодарю. (Читает). «“Моя арфа”. Романс Михаила Глинки». Как поэтично! И мило с вашей стороны. Позвольте сразу разобрать романс?..
ГЛИНКА. Ваш дом и ваша воля. (Провожает даму до дверей).
Утихла виолончель. Увидев Глинкунавстречу двинулся дородный генерал.
ГЕНЕРАЛ. Михаил Иванович!.. Порадуйте новеньким. Сегодня у нас – ценители. Есть ли новое?
ГЛИНКА. Сложилось «Рондо» в русском духе.
ГЕНЕРАЛ. «Рондо» – ив русском духе?.. Откуда это у вас, батенька?
ГЛИНКА. Представьте, князь, ямщик затянул преоригинальную песню. Я записал мотив и обработал в форме «Рондо».
ГЕНЕРАЛ. Вот оно что!.. Мой вам совет, юноша. Не сочиняйте в простонародном стиле.
ГЛИНКА. Но ведь музыку-то создаёт народ! Мы, композиторы, только её аранжируем.
ГЕНЕРАЛ. Аранжируйте на здоровье! Только светский музыкант не станет черпать сюжеты из мужицкой жизни.
ГЛИНКА. Позвольте, князь. Разве опера итальянца Кавоса «Иван Сусанин» – не из мужицкой жизни?
ГЕНЕРАЛ. Но ведь сюжет изложен в итальянском духе!..
В зале заиграл духовой оркестр. Генерал захлопал в ладоши, направляясь в зал.
– К танцам! К танцам, господа. Новый венский вальс…
Зашумел бал. Глинка, оставшись в одиночестве, рассеянно наблюдает за танцующими. Приблизился Лёвушка с улыбкой и заговорил в такт вальса.
ЛЕВ ПУШКИН. Мишель, послушай…
Однообразный и безумный, как вихорь жизни молодой, кружится вихорь вальса шумный, чета мелькает за четой…ГЛИНКА. Прелесть! Музыка, а не стихи. Наверно, Пушкина?
ЛЕВ ПУШКИН. Да, конечно, его! Прислал новую главу «Евгения Онегина». Мы вместе почитаем.
ГЛИНКА. Непременно! У меня от этих слов зароились такты своего вальса. Волшебные слова!
ЛЕВ ПУШКИН. «Что ты, Ленский, не танцуешь?» Тебя ведь ждут. Меня послала за тобой княгиня. Учти, генерал ревнив, как бес… Впрочем, она сама сюда идёт. Счастливый!
ГЛИНКА. Идёт? Но не за этим, Лёвушка…
Лев Пушкин отошёл. Приблизилась княгиня.
КНЯГИНЯ. Мишель! Что за музыка романса – упоение! Слова немного вяловаты.
ГЛИНКА. Сослуживец сочинил, Бахтурин. Как будто бы, опрятно.
КНЯГИНЯ. Не спорю. Гладкие стихи. Но в них нет той… чувствительности, какая есть в мелодии.
ГЛИНКА (обеспокоен). Чувствительность?! Видно, я не сумел выразить свои чувства.
КНЯГИНЯ (понизив голос). Ищите нужные слова. (Показывает листок). Здесь неразборчиво написано: «Очей любимой свет»?
ГЛИНКА. Я думал о другом: «Отчизны милой свет»!
КНЯГИНЯ (обидясь). Ищите верные слова! О ревуар, месье.
Дама уходит. Послышалась кадриль. К задумавшемуся Глинке подходят Лев и Соболевский.
СОБОЛЕВСКИЙ. Не узнаю тебя, Мишель. Не танцуешь, не играешь. Чем ты озабочен?
ЛЕВ ПУШКИН (иронически). «Разочарованному чужды все оболыценья прежних дней…».
ГЛИНКА. Что это? Пушкин?
ЛЕВ ПУШКИН. Элегия Баратынского «Разуверение».
ГЛИНКА. Хороши стихи. Мне как раз нужны слова для романса.
ЛЕВ ПУШКИН. Добуду!
ГЛИНКА (заглядывая в зал). Лёвушка, ты хорошо знаешь военных. Кто этот юнкер, что кружится с девушкой-блондинкой?
СОБОЛЕВСКИЙ. Кажется, задето ваше сердце, мой друг! Кем же? (Смотрит сквозь лорнет). По-моему, Элизой Ушаковой.
ЛЕВ ПУШКИН (присмотрелся). А с нею – некий Шервуд, Джон или Иван. Пустейший малый! Но честолюбив донельзя. Впрочем, без всяких надежд на успех… в службе. Но в любви…
СОБОЛЕВСКИЙ. Неужели и тут нас обскакает чужеземец?
ГЛИНКА. Лев, скажи, что тебе известно об этом Шервуде?
ЛЕВ ПУШКИН. Немного. Родом англичанин. Сын механика. Отец был выписан царём Павлом для мануфактуры. Сынок служил на юге. Бывал в Каменке у Пестеля и Муравьева. Ныне рвётся в высший свет.
ГЛИНКА (вглядываясь). Сухой профиль, как на пятаке. Неприятное лицо…
Появляется Кюхельбекер.
КЮХЕЛЬБЕКЕР (обрадован). «Ба! Знакомые всё лица».
ГЛИНКА. Вильгельм Карлович! (Обнимает).
КЮХЕЛЬБЕКЕР (протягивает руки Льву и Сергею). Я очень рад, друзья, вас видеть. Чужой я в этих салонах.
ГЛИНКА. Как вам жилось в первопрестольной?
КЮХЕЛЬБЕКЕР. По-прежнему гоним цензурой. Слыхали новость? Нам с Одоевским закрыли «Мнемозину».
ГЛИНКА. Жаль! Хороший был журнал.
СОБОЛЕВСКИЙ. И назван хорошо: в честь матери всех муз, богини Мнемозины.
ЛЕВ ПУШКИН. И что же – теперь?
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Рекомендован в секретари к Нарышкину. Велел придти сюда. Поеду с ним в Париж, если сговоримся… Как ваша музыка?
ГЛИНКА (вздохнул). Днями скриплю пером в департаменте. Вечерами развлекаю дочерей начальника игрой на фортепиано.
СОБОЛЕВСКИЙ. Скромничает. Восходящее светило! Желанный гость во всех салонах Петербурга.
ГЛИНКА (смеясь). Как же! Вон сочинил эту кадриль, а светская публика, увлечённая танцами, не расслышала моей музыки.
СОБОЛЕВСКИЙ. И приняла её за французскую.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Не хандрите, Глинка. Я верю в ваш талант. Вы способны возвеличить российскую музыку.
СОБОЛЕВСКИЙ. У меня по этому поводу возникла эпиграмма. Угодно? (Читает).
Есть Обер и Мейербер, их усыпали цветами, но однако ж, например, есть и Глинка между нами. Родился́ он на Руси, и по этой-то причине — будь хоть ангел с небеси; не сравняется с Россини!КЮХЕЛЬБЕКЕР (громко и странно рассмеялся). Молодчина Соболевский! Не в бровь; а в глаз этим… меломанам. Так и в словесности. «До какого бы цветущего состояния довели россияне свою литературу, если бы познали цену языка своего!»
ГЛИНКА. Хорошо сказано!
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Не мои слова. Умнейшей женщины России.
СОБОЛЕВСКИЙ. Припоминаю эти слова академика Дашковой, президента!
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Чем закончилось ваше дело в пансионе, Сергей? Меня вытурили в два счёта, не дав опомниться.
СОБОЛЕВСКИЙ. Выпустили с наградой – Евангелие в сафьяне. Пушкин отстоял… письмами к сильным мира сего. (Взглянул на брегет). Однако нам пора в балет. Истомина танцует.
ЛЕВ ПУШКИН. Она прелестна! Какая ножка, какие глаза, а талант…
ГЛИНКА. Слышите, Вильгельм Карлович?.. Талант – на последнем месте!
СОБОЛЕВСКИЙ. Ты с нами?
ГЛИНКА. Нет, я в театры больше не езжу. Что у нас дают? В опере – «Зефира и Флору», в балете – «Аполлона и Палладу»… Витаем на Олимпе, а своего не видим и не слышим.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Вот и займитесь своим. Тут непочатый край работы. Кому же, как не вам?
ГЛИНКА. Со своим трудненько протолпиться. На сочинение сил хватает. Их нет на претворение в жизнь.
ЛЕВ ПУШКИН. Ты мрачен, Мишенька. Уйдём отсюда.
ГЛИНКА. Уйдём! От здешней музыки становится тошно.
КЮХЕЛЬБЕКЕР (прощается). Нам не по пути? Я к Синему мосту, к Кондратию Рылееву.
ЛЕВ ПУШКИН. К Рылееву? Пожалуй, нам по пути.
ГЛИНКА. А мне – можно с вами? Я увлечён его «Думами».
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Вам? Не рекомендую, Глинка. Дом у Синего моста на подозрении у Третьего отделения собственной его величества канцелярии.
ГЛИНКА (берёт его за руку). Всё равно, пойду!
КЮХЕЛЬБЕКЕР (легонько отталкивает его). Не пущу!
ГЛИНКА. Жаль. Поклонитесь от меня поэту за чудесные слова: «Нет в мире выше ничего предназначении поэта…».
КЮХЕЛЬБЕКЕР (добавляет). «Святая правда – долг его».
Занавес
Конец первого акта
Действие второе
Картина третья
В углу кабинета Глинки стоит ёлка, украшенная одними лишь клетками с чирикающими певчими птицами. Яков бросает им зёрна с подноса, который держит Алексей.
АЛЕКСЕЙ (поглядел в окошко). Народ чего-то расшумелся. Куда-то войско гонят. (Понизив голос). Слыхаля, братец, будто господа желают делать бунт! Самого царя вязать решили.
ЯКОВ. Тише! В уме ли ты, Алёшка? Услышит барин, а его покой нам дорог.
АЛЕКСЕЙ. Такого… не скрыть, Яков Ульяныч.
ЯКОВ (ворчливо). Заладила сорока Якова. А ну-ка, марш отсюда. Наведайся к лошадям.
Алексей покорно уходит. Яков кормит птиц. Немного погодя входит Глинка, зябко кутаясь в тёплый халат.
ГЛИНКА. Расчирикались, пернатые певуньи. Спать не дают. С чего бы это растревожились? День серый, тусклый.
ЯКОВ. Каково изволили почивать, барин?
ГЛИНКА. Плохо, Яков. Боли донимают в пояснице.
ЯКОВ. Вчерась маленько загуляли? Вот оно и того… донимают. Прикажете одевать?
ГЛИНКА. Нет, худо мне. Пошли-ка Алексея к гомеопату. Мы с тобой займёмся дома.
ЯКОВ. Слушаю-с. (Берёт поднос). Вот записка. Ливрейный лакей принёс. Вернётся за ответом.
ГЛИНКА (читает). От княгини. Сменила гнев на милость. Зовёт музицировать. Скажи, я сплю, уехал, болен, что угодно… Не поеду! Поёт она жеманно, инфантильно, в модном духе.
ЯКОВ. Тэк-с. А к нам уж гости приходили.
ГЛИНКА (у зеркала). Кто так рано?
ЯКОВ. Кухля, гувернёр наш, и…
ГЛИНКА. Кюхельбекер – давно не наш гувернёр, и тебе не Кюхля, а Вильгельм Карлович. Понятно? Ты никогда не понимал, какой он человек.
ЯКОВ (небрежно). А что понимать? Гувернёр – почти слуга.
ГЛИНКА (приглаживает непокорный хохолок). Слуга? Ты, пожалуй, прав. Но не вполне. Народу он – слуга! Родину любит…
За окном раздался цокот копыт.
Как беспокойно нынче. Отчего?
ЯКОВ. Не знаю, Михаил Иванович. Войска куда-то гонят.
ГЛИНКА (после паузы). И что же – Кюхельбекер?
ЯКОВ. Сказал: «Зайду потом. Барчонка не буди». (Рассмеялся). Потешный, несуразный человек, наш Кухля. Просил пистолета. Мой, говорит, ненадёжен. Откуда, говорю? Оружия не держим… С ним был какой-то барин в армяке. Каховский, что ли?
ГЛИНКА (думая о своём). Каховский? Не понимаю. (Идёт к бюро, перебирает бумаги). Стихи… Стихи…
ЯКОВ. Кофий подавать?
ГЛИНКА (не слышит, негромко читает). «Альсальд задумался, забыл печаль души, и грусть и муки…». Нет, плохо! Не ладится с ритмом. (Бросает листок).
В передней дребезжит колокольчик. Яков идёт открывать. Появляются Соболевский, Лев Пушкин и Глебов.
СОБОЛЕВСКИЙ. Очнись, Глинка! Принимай гостей.
ГЛИНКА. Соболевский?! И Пушкин! И Миша Глебов. А Палицын где?
ГЛЕБОВ. В полку.
ГЛИНКА. Каким вас ветром занесло?
ЛЕВ ПУШКИН. Холодным! Мороз сегодня лютый. Вели подать чего-нибудь… согреться.
ГЛИНКА. Яков! Пуншу… Ля думал – Кюхельбекер. Мне нужен совет поэта. Кстати, Лёвушка, что с братом?
ЛЕВ ПУШКИН. Александр? Всё там же: в Михайловском, в ссылке, под надзором.
ГЛЕБОВ. Аты ожидаешь Кюхлю?
ГЛИНКА. Мелькнул сегодня чуть свет и исчез. Странный какой-то. Искал оружия. Обещал зайти.
СОБОЛЕВСКИЙ (у фортепиано). Удачно! Отыскался след. (Наигрывает, подпевает). «Душа-ль моя, душенька…».
ГЛИНКА. Что происходит? Объясните!
ГЛЕБОВ. Узнаешь после. Подождём Кюхлю. Можно?
ГЛИНКА (задумавшись). Прошу, прошу.
СОБОЛЕВСКИЙ (поглядел на птиц и с нежностью – к Глинке). Что, соловушка, невесел? Что головушку повесил?
ГЛИНКА. Так… хандра.
СОБОЛЕВСКИЙ. Всё думаешь о жизненном призвании? Не трудись! Всё решится волею небес.
ГЛИНКА. Нет, волею отца. Опять велит служить.
ЛЕВ ПУШКИН. Как? Ты ушёл со службы?..
ГЛИНКА (смеясь). Из-за запятой! Синтаксис подвёл.
ГЛЕБОВ. Когда хотят прогнать со службы, всегда найдётся… запятая!
СОБОЛЕВСКИЙ. А ведь былиной слух: не пожелал Глинка сочетаться узами брака с перезрелой дочерью начальника…
ЛЕВ ПУШКИН. Я знаю правду. Без памяти увлёкся Музой. Небось, о славе мечтает? Тогда и брак, и служба – нипочём, как у брата Александра.
ГЛИНКА (что-то записал, потом разорвал написанное). И в сочинительстве не вижу проку. Народ меня не слышит. Меценаты нос воротят. Требуют подражаний Европе.
ГЛЕБОВ (поднял брошенный листок). А ты, я вижу и послушался. Воспел некоего «Альсальда».
ГЛИНКА (прохаживаясь). Пустое… Романтическая дань средневековью, как и задуманная опера «Матильда Рёкби».
СОБОЛЕВСКИЙ. По Вальтеру Скотту? Мода! С лёгкой руки Жуковского.
ГЛЕБОВ. Что нам эти «Альсальды» и «Матильды»? Вспомни слова Бестужева в «Полярной звезде» о «безнародности и умилении чужим». Или призыв Кюхли в журнале «Мнемозина»: «Да создастся для славы России поэзия истинно-русская!»
ГЛИНКА. Ах, пылкий Глебушка! Ведь им закрыли «Мнемозину». А что касается меня… С моими ли характером и волей затевать… переворот в российской музыке?..
СОБОЛЕВСКИЙ (заглянул в ноты на пюпитре). А это – что? Обманщик! (Читает).
ЛЕВ ПУШКИН (подпевает). «Стоит, растёт высокий дуб в могучей красоте…». (Коснувшись причёски Мишеля). Он – только с виду покладистый да мягкий. А нутро-то непокорное, что хохолок на голове! Как ни старайся, не пригладишь. Им овладела русская стихия…
Входит Яков с подносом.
ЯКОВ. Требовали пуншу? Грейтесь, господа! (Ушёл).
СОБОЛЕВСКИЙ (наливая). За твоё здоровье, Мимоза!
ГЛЕБОВ (пригубил, нетерпеливо). Что же с Кюхлей? Времени – в обрез.
ГЛИНКА (отхлебнул). Полно загадывать загадки. Что вы затеваете? Скажите, наконец!
ГЛЕБОВ. Ты нетерпелив и любопытен, как женщина. Что ж, немного обождём. Сыграй нам!
ГЛИНКА. Вам?.. Сыграю.
Играет своё «Рондо». Но после нескольких аккордов умолкает. За окнами снова раздаются конский топот и барабанная дробь. Мишель резко захлопнул крышку инструмента.
Нет, не могу я так работать. От этого сумбура вся музыка летит из головы!
ЛЕВ ПУШКИН (насмешливо). Вам тишины недостаёт, покоя? Тепличное растение! Весь сжался и увял, как потревоженная веточка мимозы.
ГЛЕБОВ. Не о том ли Кюхля говорил: «Разве лиру Пушкина настроил шелест царскосельских лип? Ни мало! Гроза двенадцатого года. И Пушкин – это искра, выбитая из души народной нашествием врага». Вот отсюда – ода «Вольность» и злоба острая к тиранам.
ГЛИНКА (садится на тахту, поджав под себя ноги). Не всем же быть такими. У меня, друзья, другое. Пою, как скворушка, – с чужого голоса…
ГЛЕБОВ. Да поднимись, Мишель! Над нами новая гроза нависла. Послушай и воспрянь. Сегодня… (Осёкся, увидев предостерегающий жест Льва Пушкина).
ЛЕВ ПУШКИН. Поднимись и спой. Есть ли у тебя новый романс, Глинка?
СОБОЛЕВСКИЙ (смеясь). Теперь его волнует только арфа…
ЛЕВ ПУШКИН. Отстали, сударь. Фея звуков порядком утомила нашего Орфея-Глинку. Слишком много «вариаций».
СОБОЛЕВСКИЙ (хохочет). Так вот, кому он посвятил романс «Не искушай меня без нужды»!
ГЛИНКА (добродушно). Как вы беспечны! Не о вас ли Пушкин говорил: «Младых повес весёлая семья»? (Пошёл к инструменту).
ГЛЕБОВ (встаёт). «Младым повесам», кажется, пора на пло… (Подметил знак Льва Пушкина). Немного прогуляться. Да что таить! Сегодня все идут на Сенатскую площадь!
ГЛИНКА (рассеянно берёт аккорды). Большой парад? Ах, да! Наверно, присяга новому царю Николаю. Идите без меня, друзья. Я не охотник до подобных зрелищ. Займусь моей сонатой. (Играет).
ГЛЕБОВ (тихо Льву). Я всё ему скажу!
ЛЕВ ПУШКИН. Побережём его, как друзья берегут моего брата. Пусть поживёт в счастливом неведении. Излишние волнения вредны его таланту.
ГЛЕБОВ. Пожалуй, ты прав. Пойдёмте. Я ждать не в силах. Меня тревожит поведение Кюхли. Нам велено смотреть за ним и помогать. А где он?.. Прощай, наш гостеприимный хозяин!
ГЛИНКА (поднимается). Прощайте. Желаю приятно провести время. (Провожает гостей до дверей). Яков!
Появляется Яко в с виолончелью, сменив фартук на сюртук.
ЯКОВ. Прикажете подыграть?
ГЛИНКА. Оставь виолончель. Тут требуется альт. Пишу сонату для альта и фортепиано.
ЯКОВ (взял альт). Извольте. Где моя партия?
Усаживаются, играют. Вдруг снова задребезжал колокольчик. Яков неохотно идёт открывать. Глинка играет один. В передней шум.
ГЛИНКА (недовольно). Кто там такой?..
Вошёл Кюхельбекер.
Вильгельм Карлович! Добрая душа… (Обнимает). Лёгок на помине. Вас дожидался Глебов. Может быть, зайдёт ещё. Пообедайте со мной. Вы мне нужны. Поэт мне нужен.
КЮХЕЛЬБЕКЕР (озабоченно). Я больше не пишу стихов. И вашего обеда не дождусь. Спасибо. За мной сюда придут. Не бойтесь, под окошко. У вас на Загородном тише.
ГЛИНКА. Прошу садиться. Яков, кофе! Вы так взволнованы. У вас дуэль? И Глебов – секундант?
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Вроде. Только пострашнее. Вы ничего не слыхали? Впрочем, Глинка – не от мира сего.
ГЛИНКА. Да что у вас стряслось?
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Всего не скажу. Секрет – не только мой.
ГЛИНКА (с лукавством). Романтическая история! Тогда – молчу. Как жилось в чужих краях?
КЮХЕЛЬБЕКЕР (поглядывая в окошко). Сперва недурно. Секретарствовал у вельможи. Читал лекции о русской словесности. Видно, перехватил через край, призывая к народности. Наш посол признал их, лекции мои, вольнодумными. Взял – и выслал меня из Парижа. (Громко рассмеялся). У русского царя предлинная рука!
ГЛИНКА. Не пойму, отчего наш патриотизм считают вольнодумством?..
Яков приносит кофе.
ЯКОВ. Выпейте чашечку, Вильгельм Карлович. (Ушёл).
КЮХЕЛЬБЕКЕР (прислушивается). Вы сильно переменились, Мишель. Повзрослели, что ли?
ГЛИНКА. Всё думаю о ваших давних стихах: «Что несёт нам день грядущий, отцвели мои цветы…».
КЮХЕЛЬБЕКЕР (отмахнулся). Грех молодости, байронизм. Вас не радует композиторство?
ГЛИНКА (с чашкой кофе). У нас не водится такой профессии. В России этот труд сопряжён с досадой, с унижением. Мы дилетантствуем, подвизаемся в салонах.
КЮХЕЛЬБЕКЕР (не отводя глаз от окна). Когда же мы дождёмся собственных Россини, Моцартов и Берлиозов?
ГЛИНКА. Своих? Не скоро. Недавно я играл в салоне законодателя российских вкусов Нессельроде.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. И что же довелось услышать?
ГЛИНКА. А вот и то – «От вашей музыки, Глинка, пахнет дёгтем».
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Пустое говорят! И – скверное! Отголоски народной души, со щедростью рассыпанные в песнях, способны возбудить великое в искусстве!
ГЛИНКА (оживлённо). Бы так чудесно говорите! И моим смутным мыслям это близко.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Это – не мои мысли, – Ломоносова, насчёт природных способностей русских. Хочу добавить. Кто любит свою Отчизну, тот не сидит, сложивши руки. А борется, чем может. Кто – песней, кто – стихом, а кто – и…
Раздался частый стук в окошко.
ГЛИНКА (вскочил). Что такое? Почему так резко?
КЮХЕЛЬБЕКЕР (подбежал к окну). За мной пришли. Меня зовут. (Открыл форточку). Минуту обожди! (КГлинке). Прощайте…
ГЛИНКА (обнимает). Спасибо вам за всё! Ваши советы и упрёки всегда дают толчки для размышлений. Жаль, вы сейчас не пишете стихов…
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Я скверный стихотворец. Пора в этом сознаться. И поэтому избрал иное оружие. Но и воякой оказался неумелым, дон Кихотом. Своё я отслужил. Пора в путь… Хочу попросить… Не знаю, как сказать…
ГЛИНКА. Прошу, скажите! Может быть, деньги?..
КЮХЕЛЬБЕКЕР (торопливо). Не в них нужда, в другом. Скажите Якову – пусть даст тулуп овчинный и валенки. Зима!
ГЛИНКА. Велю, конечно… Яков! Тулуп и валенки. Но кто вас ждёт? Что с вами приключилось?
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Всё прояснится потом.
Яков приносит тёплые вещи. Вместе с Мишелем заботливо облачают Кюхлю и провожают его. Глинка возвращается к инструменту. Снова звучит соната. Снова дребезжит колокольчик. Яков в сердцах идёт в переднюю, с кем-то препирается у двери.
ЯКОВ.Уйди! Не время…
АЛЕКСЕЙ (в дверях). Беда, барин. Беда!..
ЯКОВ. Уйди, чурбан. Молчи!
АЛЕКСЕЙ (ворвался в кабинет). Барин, беда!
ГЛИНКА (не прерывая игры). Чего тебе, Алёша? Оставь лекарство, отдохни.
АЛЕКСЕЙ (не вытерпел). Беда! Стреляют на Сенатской…
Музыка оборвалась.
ГЛИНКА (встал, снова уселся). Как?! Так вот что было! Ляне понял…
АЛЕКСЕЙ. Да вы не слышите меня?!
ГЛИНКА. Нет, говори. Я слушаю.
АЛЕКСЕЙ. Восстало войско! На царя пошло! Бунтует… (Перевёл дух). А Кухля, наш гувернёр, в царёва брата стрелял…
ГЛИНКА (вскочил). Кто?.. Кто тебе сказал?
АЛЕКСЕЙ (словоохотливо). Иду я, значит, к гимипату…
ГЛИНКА. Да говори всё сразу!
АЛЕКСЕЙ (скороговоркой). И повстречал нарышкинского рогового музыканта «Ре», приятеля. Он сам видал с лесов Исаакия, как стрелял наш гувернёр.
ЯКОВ. Про Кухлю, братец, врёшь. Он был у нас намедни.
АЛЕКСЕЙ. Вру?.. Нарышкинские люди знают Кухлю. Он был у них секлетарём. (Сознался). Даян сам забрался на леса собора…
ЯКОВ. Для чего?
АЛЕКСЕЙ. Кидал поленья в супостатов! А Кюхля сразу убёг, как промах дал или осечка вышла. Должно быть, к нам пошёл. А только губернатора убивал другой. Какой-то барин в армяке.
ГЛИНКА (все понял). Милорадовича – Каховский! Месть за Пушкина.
АЛЕКСЕЙ (тихо). Бунтовщиков повсюду ищут.
ГЛИНКА (сердито). «Ищут»! Что ж ты раньше не сказал?
АЛЕКСЕЙ. Я говорил про беду, а вы играли.
ГЛИНКА (машинально). «Играли!» (Спохватился). Бумаги… (Подбегает к бюро, выгружает из ящиков письма). Подведу друзей, знакомых. (Торопливо просматривает, что-то рвёт, комкает). Чего стойте? Огня! Огня побольше.
Слуги раздувают огонь в камине.
ЯКОВ. Горит! Давайте, барин. (Бросает в огонь бумаги).
Гремит артиллерийский залп. Дрожат стёкла. Мечутся в клетках птицы. Слуги застыли у камина.
ГЛИНКА (опустился на диван). Стреляют пушки. Что делать? Как помочь? Их же всех побьют! Ведь там – Бестужев, Саша Одоевский, Палицын, Глебов… Пушкин с Соболевским туда пошли. Рылеев – должно быть, впереди. Как это у него? «Кто русский по сердцу, тот гордо и смело, и радостно гибнет за правое дело…». Пропал мой Кюхельбекер. Пропали все… Что делать?!
ЯКОВ (рассудительно). Уехгстъ надо, барин, в Новоспасское. В деревне – тишина, спокойствие.
ГЛИНКА. Нет, нельзя бежать. Стыдно!
АЛЕКСЕЙ. Новый царь всю гвардию разбил. Крови – страсть! Нечего тут делать. (Подошёл к окну).
Под окном топот. Потом выстрел, вопль.
Как он его свалил, злодей!
ГЛИНКА. Кого?.. Кто?
АЛЕКСЕЙ. Жандарм – какого-то офицера.
ГЛИНКА. Бежать!
ЯКОВ (радостно). В деревню, барин? Давно бы так…
ГЛИНКА. Нет, на площадь! Одеваться.
ЯКОВ (горестно). Куда – вы? На верную погибель?!
ГЛИНКА (рассердился). Чего стойте? Одеваться, скорей!
Занавес
Картина четвёртая
Как видение, возникает в полумраке заиндевелый «Медный всадник» с простёртой рукой. Взмыла пелена бурана, словно поднятая артиллерийским залпом, прикрыв площадь снежной мглой. Глинка остановился за крайней колонной Сенатского дома, рядом с аркой Галерной улицы. Вспышка орудия на миг осветила статуи на крыше: Милосердия, Правосудия, Веры… Глинка протёр запорошенные снегом глаза, беспомощно огляделся.
ГЛИНКА. Милосердие… Правосудие… Неправда! Огонь, стужа, мгла… Куда идти? Зачем? Не знаю… Хорош, нечего сказать. Ничего не видел и не слышал. Сидел, сложивши руки. Опоздал. Нескладно получилось. «Нас было бы не мало. Мы бы помогли вам», – говорил мне Алексей. Мужик, а хотел идти со мной. Я пошёл один…
Новый оглушительный залп.
Такой ужасный шум! Все мысли врозь… Да, вспомнил: «Послушай и воспрянь». Может быть, соната зазвучит иначе? Только этим выразит своё участие?.. Нет, нельзя стоять, сложивши руки. Что делать?.. И рядом – никого.
Вдруг увидел пробирающегося к арке знакомого человека.
Никак, Пушкин? (Громко позвал). Лёвушка!..Лев!.. Пушкин!..
Порыв ветра, хаос звуков заглушили его слова. Но вот Пушкин остановился у незажжённого фонаря. Наклонившись, приподнял чью-то неподвижную фигуру. Потом положил тело на снег и пошёл дальше – без фуражки, в распахнутой шинели. Увидел Глинку.
ЛЕВ ПУШКИН. И ты здесь, Глинка? Зачем? Скорей беги домой. Всему – конец!
ГЛИНКА. А ты… зачем на площади? Один, без оружия…
ЛЕВ ПУШКИН. Искал среди убитых Кюхлю, Глебова. Не нашёл. Мельком видел Бестужева. Одержимый! Поэт точил саблю о гранит «Медного всадника». Как это могло случиться? Тупая шашка и картечь орудий? Неравный бой! Погибель…
ГЛИНКА. Да нет, живы. Они скрылись. Я знаю.
ЛЕВ ПУШКИН. Спаслись? Молодцы! Тогда уйдём отсюда, из царства… обречённых.
ГЛИНКА. Уходить? Не найдя друзей? Нельзя, Лёвушка. Скажи, что делать?
ЛЕВ ПУШКИН. Не знаю, Миша. Я не был в тайном обществе. Пришёл сюда один, как ты. В толпе потерял Сергея. Совсем не понимаю, что надо делать.
ГЛИНКА (шагнул за колоннаду). Я знаю! Понял…
ЛЕВ ПУШКИН (удерживает его). Остановись!..
Новый залп разорвал воздух. По сенатскому крыльцу дробно застучала картечь. Пушкин уводит Глинку.
Проклятие! Новый царь-батюшка щедро угощает верноподданных. Подлый тиран! Цвет нации, всю гвардию под ноги положил. На трон взошёл по трупам. (У арки). Уходи на Галерную. На площади – никого. Всех убивают. Куда пойдёшь?
ГЛИНКА. Куда? Хотя бы… голову сложить. Куда же я… без них?
ЛЕВ ПУШКИН. Довольно красных слов! Уйдём отсюда.
ГЛИНКА. Трудно будет жить, когда всё мертво.
ЛЕВ ПУШКИН. Живи среди живых. Есть люди на земле! Всех не погубят.
ГЛИНКА. Куда же нам уйти?
ЛЕВ ПУШКИН. Скорей скрывайся, как укрылся Кюхля, мудрый человек. Если не себя, так хоть талант свой пощади. Вон дом Бахтурина на Галерной. Ступай к нему. Сиди хоть до рассвета. И подумай, как помочь России своим искусством. Нам нужен Глинка живой…
Занавес
Картина пятая
Бледный петербургский рассвет. Яков и Алексей гасят свечи. Зачирикали птицы. Возвращается Глинка в распахнутой шубе. Слуги бросаются навстречу.
ЯКОВ. Батюшка-барин! На вас лица нету… Живы, здоровы?
АЛЕКСЕЙ. Как там, барин, на Сенатской?..
ГЛИНКА (бросает шубу). Поздно! Никого не мог дозваться. Живых на площади не видел. Одного лишь Лёвушку повстречал у Галерной.
АЛЕКСЕЙ. Эх, баре! Не позвали вы нас! Сколько было у собора крепостных, работных людей. Мы бы им показали! Помогли бы…
ГЛИНКА. Слыхал. Помолчи. За мной идут…
Резкий звон колокольчика в передней. Слуги остолбенели.
Пришли! Принимай гостей, Яков. Пойду переоденусь. (Уходя). Скройся, Алексей. Ты ведь был… там.
Ушёл в спальню. Слуги убегают из кабинета. Потом Яков приводит жандармского офицера.
ОФИЦЕР (гремя шпорами, отрывисто). Из корпуса жандармов. Здесь проживает господин Глинка?
ЯКОВ. Д-да., Г-глинка.
ОФИЦЕР (быстро). Борис? Дмитрий?
ЯКОВ. Н-нет, М-михаил Иванович.
ОФИЦЕР. Ты что – заика?
ЯКОВ (овладев собой). Так, с ознобу.
ОФИЦЕР. Где твой барин?..
Входит Глинка во фраке, знаком отсылает Якова.
ГЛИНКА (сухо). Я слушаю вас.
ОФИЦЕР. Честь имею… Бунтовщик Кюхельбекер – не ваш дядюшка? (Ходит, оглядывая все углы).
ГЛИНКА. Бунтовщика Кюхельбекера не знаю. Знаю – воспитателя, поэта. ОФИЦЕР. Род занятий не имеет значения. Он вам родня?
ГЛИНКА. Он в родстве с Дмитрием, Борисом, моими свойственниками.
ОФИЦЕР. Я так и думал. (Заглянул в шкаф).
ГЛИНКА (резко). Тогда зачем вламываться ко мне?
ОФИЦЕР. Я вопросы задаю! (Осматриваясь). Стало быть, его здесь нет? (Перебрасывает ноты на пюпитре). Я спрашиваю…
ГЛИНКА (негодуя). Вы с обыском от начальства или – от себя? Зачем бросаете ноты? Я ими занят.
ОФИЦЕР (направляюсь к затухающему камину). И вам неведомо его местопребывания?
ГЛИНКА (закрывает собой камин). Нет… ничего.
ОФИЦЕР (подозрительно). Жгли бумаги?.. Всё сожжено.
ГЛИНКА. Топят слуги печи.
ОФИЦЕР. А вы давно его не видели?
ГЛИНКА. Я был очень занят.
ОФИЦЕР (внезапно). На площади были!
ГЛИНКА (нашёлся). И вы там были?
ОФИЦЕР (замялся). Гм-м. Смотря, в каком смысле.
ГЛИНКА. Я говорю в том смысле, что вы меня там не видели. Повторяю – я очень занят музыкой.
ОФИЦЕР. Так… А где вы провели сегодняшнюю ночь?
ГЛИНКА. Музицировал! У Константина Бахтурина, поэта и сослуживца. Слова искали для нового романса.
ОФИЦЕР (натягивает перчатки). Тогда прошу прощения, тороплюсь. Я снова наведаюсь к вам. За справками.
ГЛИНКА (брезгливо). Я все справки выдал.
ОФИЦЕР. Все ли?.. Подумайте хорошенько: вы на подозрении. Вам придётся держать ответ перед герцогом Вюртембергским, в своём ведомстве путей сообщения.
ГЛИНКА. Я выйду в отставку. Не буду служить! Прощайте.
ОФИЦЕР (многозначительно). Буду рад видеть вас снова.
ГЛИНКА. Не знаю. Не уверен в этом.
ОФИЦЕР. Почту за честь навестить… сочинителя моднейших романсов. (Идёт к дверям, напевая). «Не искушай меня без нужды…». До свидания, маэстро! (Загремев шпорами, ушёл).
ГЛИНКА (подождал, пока хлопнет дверь). Яков, Алексей!
ЯКОВ (в дверях). Я тут, а Алёшки нету.
ГЛИНКА (с беспокойством). Где он?.. Что с ним?
ЯКОВ. Мы догадались. Алёшка запрягает лошадей, а я пожитки собираю. Мигом! (Убегает).
ГЛИНКА (раздумывает). Да, надо ехать. Нельзя в столице оставаться. Безоружен… Помочь Руси своим искусством? Ах, Лёвушка, где умения взять?.. Возвращается Яков с шубой и валенками.
Да, придётся ехать, Яков.
ЯКОВ. В Новоспасское?
ГЛИНКА. Нет, заграницу, доучиваться композиции.
ЯКОВ. Хоть на край света! Лишь бы побывать в деревне мимоездом. А пустит ли старый барин заграницу-то?..
ГЛИНКА. Не знаю, Яков, не знаю…
ЯКОВ. Одевайтесь потеплее, барин. Путь лежит неблизкий.
ГЛИНКА. Я брал для Кюхли твой тулуп. Возьми мою бекешу.
ЯКОВ. У меня есть полушубок. Не тревожьтесь. Каково бедняге в поле? Уйдёт наш Кухля или не уйдёт?
ГЛИНКА. Уйдёт! Он прыткий. Ты не забыл виолончель привьючить?
ЯКОВ (повязывает барину шарф). Первым делом – инструмент!
ГЛИНКА (поглядел на клетку). А птиц отдай соседям. Скажи – пусть заберут. Весной – на волю.
ЯКОВ. Первым делом – на волю. Непременно…
Входит Алексей в кучерском армяке и с кнутом.
АЛЕКСЕЙ. Кибитка подана, барин. Дозвольте мою скрипку взять?
ГЛИНКА. Да. Укутай её хорошенько. И ноты собери. (Огляделся). Так. Как будто, всё. А где альт?
ЯКОВ. Улюжен-с. Всё готово в путь-дорожку.
ГЛИНКА. Да поторапливайтесь. Он может придти. Он ещё придёт.
ЯКОВ. Кто придёт?
ГЛИНКА. Жандарм.
ЯКОВ (убегает). Мигом-с!
АЛЕКСЕЙ (укладывая скрипку, что-то напевает). «Люблю я зимнюю дорогу!»
ГЛИНКА. Повтори-ка. Повтори мотив.
АЛЕКСЕЙ. Это самое? (Поёт). «Не белы снеги забелелися…». Душевная песня, барин!
ЯКОВ (вернулся в полушубке). Посидим по обычаю перед дорогой, чтоб была недолгой.
Глинка в шубе и в шапке опускается на стул перед фортепиано и берёт несколько аккордов.
ГЛИНКА. Прощай, Петербург….
Занавес
Картина шестая
Сенной сарай. Устало склонив голову на руки, полулежит Кюхельбекер. У догорающего костра греются Глебов, Палицын и незнакомый флотский офицер с солдатским ружьём в руке.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Всё тихо, Глебов. Единственное наше спасение – буран. Любую погоню закружат бесы. Это – счастье.
ГЛЕБОВ. Вы ещё верите в счастье, Вильгельм Карлович?
КЮХЕЛЬБЕКЕР. А что же делать? Если не верить во всё лучшее, то очень трудно будет жить в изгнании, в крепости или на каторге.
ПАЛИЦЫН. Тогда уж лучше верить в дьявола! Если не сам сатана, то кто же помог этому тупому царю-солдафону прогнать нас с Сенатской площади?
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Нечистая сила тут не причём. Наше неумение сражаться и наше… одиночество. Абсолютную монархию во Франции свергал весь народ!
ПАЛИЦЫН. По-моему, нас погубила чья-то измена, предательство. Какой-то выродок, гнуснейший проходимец выдал царю тайну заговора.
ГЛЕБОВ. Я знаю – кто. Нас подло предал некий Шервуд. Так можно ли верить в добродетель? Ему доверились как брату.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. А кто он – этот Шервуд?
ГЛЕБОВ. Ландскнехт безродный. Этим иноземным бродягам всё равно, кому продавать своё оружие. Негодяи!
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Тише, не кричи, Михаил. Я верю в нашу вольность.
ГЛЕБОВ. Из меня эту веру выбила царская картечь. Все жертвы оказались напрасными.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Помнится, ты говорил иначе в тот день, когда принимал присягу в кружке Рылеева. Целовал какого-то юношу. Всех поздравлял со светлым праздником вольности.
ГЛЕБОВ. Этого юношу я видел мёртвым у подножья медного царя, когда стемнело.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Что ж, в его жизни был хоть один день вольности, счастья.
Этот декабрьский день для многих будет счастливым. В жизни моей России был один счастливый день! Не все страны могут этим гордиться.
ГЛЕБОВ. Увы! Это было счастье… с ошибками.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Разве в памяти народа останутся от этого дня одни лишь наши ошибки?.. Люди будут драться за наши идеалы! Будут сражаться за свет немеркнущей полярной звезды! Я верю – сбудутся наши мечты, хотя бы – через сто лет!..
ГЛЕБОВ. Утешение для потомков. Нам с вами уже не придётся стоять в рядах борцов.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Человек всегда борется для будущего!
ПАЛИЦЫН. Вы устали, Вильгельм Карлович. Поспите часок. Мы с моряком посторожим ваш сон.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Спасибо, друзья. Поспи и ты немного, Глебов. Может, утихнет боль твоей раны.
ГЛЕБОВ (зарывается в сено). И то правда. До рассвета далеко. Я сменю вас, приятели.
МОРЯК. Приятных сновидений… Умаялись, бедняги. Мы будем вместе на часах, пехота, или посменно?
ПАЛИЦЫН. Я чуть вздремну. Через час поднимусь…
Тишина. Послышался отдалённый звон бубенцов.
МОРЯК. Кто-то едет… Загашу костёр. (Забрасывает огонь золой). Авось, пронесётся мимо.
ГОЛОС (снаружи). Тпр-ру!
ВТОРОЙ. Что такое? Сбился с пути?
ПЕРВЫЙ. Пристяжная захромала. Видать, расковалась.
ВТОРОЙ. А где мы стоим?
ПЕРВЫЙ. В поле. Где-то в поле…
ТРЕТИЙ. Э, да тут что-то маячит…
Распахнулась дверь сарая. Появился Яков.
Тут рига, барин. Был костёр. Тепло! Кто-то грелся. Заходите. Эй, есть тут люди крещёные?
ГЛИНКА (входит). Заходи и ты, Алексей. Грейся.
АЛЕКСЕЙ. Я повожусь с подковой. Подкормлю коней. Отдыхайте.
ЯКОВ (раздувая огонь). Пойду помогу Алеше. (Ушёл).
ГЛИНКА (прислушиваясь). Конечно же, здесь кто-то есть. Я даже слышу людское дыхание.
МОРЯК (из-за угла). Кто мешает спать честным гуртоправам? Закрой дверь: застудишь сарай!
ГЛИНКА. Скажи спасибо, добрый человек, что я помешал тебе угореть. В сарае полно дыма!
МОРЯК. А если ты такой любитель свежего воздуха, то убирайся отсюда подобру-поздорову.
ГЛИНКА. Э-э, да у тебя, видать, есть крепкие зубы, гуртоправ!
МОРЯК. Не хочешь ли ты, чтобы я испробовал их на твоей шкуре?
ГЛИНКА. Надо бы посмотреть на этого пещерного медведя! Вот только фонарь раздобуду!.. (Уходит).
МОРЯК. Да это петербургская ищейка! Его нужно тут же прикончить! (Вскидывает ружьё). Проснись, пехота!
ПАЛИЦЫН. А я и не сплю. Он не один заявился. Да и выстрел будет нам не кстати. Постой-ка, постой-ка… Голос у него вроде мне знакомый!
МОРЯК. Схвачу его за глотку – и дело с концом!
Сарай освещается. Входит Глинка с фонарём в руках.
– Ну, вот и я. А где же тут храбрые гуртоправы?..
МОРЯК (из засады). А мы зачем тебе?
ГЛИНКА. Хотел послушать ваших песен.
МОРЯК (соседу). Если он и шпион, то хоть весёлый. Эй, довольно смеяться! Говори, что тебе нужно и кто ты такой?
ГЛИНКА. Я музыкант…
МОРЯК. Но-но! Без шуток.
ГЛИНКА. Я говорю правду. Для моих композиций нужно много песен. В каких краях вы только не побывали…
МОРЯК (выходит на свет). Тебе незачем об этом знать. Эй, руки вверх! Стрелять буду.
ГЛИНКА. Так вот они, какие гуртовщики… Беглецы с Сенатской площади.
МОРЯК (поднялружьё). Молчать!
ГЛИНКА. Зачем же мне молчать, когда я сам едва ушёл от голубого жандарма его величества.
ПАЛИЦЫН (выходя). Руки вверх, говорю!.. Обнимай меня, Глинка. (Обхватил его).
ГЛИНКА. Палицын?! (Увидел поднявшегося Кюхлю). И Кюхельбекер! Слава богу, вы живы…
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Вот удивительная встреча! Буквально, по Вальтер-Скотту. Глебов, проснись! Это твой маленький тёзка, наш сердечный друг. Глинка, я спал под вашим тулупом.
ГЛИНКА (смеётся). А я без стука вошёл в вашу спальню.
ПАЛИЦЫН. Долой ружьё, моряк! Перед нами композитор Михаил Иванович Глинка!
КЮХЕЛЬБЕКЕР (заключает Глинку в объятия). Вот не думал, не гадал.
ГЛИНКА. Вильгельм Карлович! Добрая душа… Вы на свободе! И Миша Глебов жив. (Обнимает). Ты ранен, Миша?..
ГЛЕБОВ. Пустяки.
ГЛИНКА. Какой чудесный случай. (Поклонился моряку). Прошу извинить меня, господин офицер, за беспокойство. Я не думал, что у меня шпионская наружность. Теперь я всё знаю про эту вашу дуэль. Вас Лёвушка искал среди убитых у Невы. Что с вами будет?
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Не знаю. Заедем на денёк в смоленскую деревню, к моей сестрице Устинье Карловне. Передохнём немного и…
ГЛИНКА. Вам надобно бежать в чужие страны. И как можно дальше и скорее.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Я говорил вам: у русского царя – предлинная рука.
ГЛИНКА. Да, вас искал жандарм в моём шкафу. Расспрашивал о сыновьях Устиньи Карловны Глинки.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Настал мой черёд у вас просить прощения за беспокойство.
ГЛИНКА. Офицер ушёл ни с чем. Правда, обещал ещё наведаться. Я знаю, мне не простят моей привязанности к наставнику Кюхельбекеру, дружбы с соучениками Глебовым и Палицыным, с поэтом-бунтарём Бестужевым. Не простят моей любви к поэзии Пушкина, к музе Рылеева… Вы знаете всё, Вильгельм Карлович. Скажите, что делать?
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Ни в коем случае не возвращаться в Петербург, пока свирепствует тирания. Они не пощадят ни вашей молодости, ни таланта. Не засиживайтесь и в Новоспасском. Волна террора докатится и до деревни…
ГЛИНКА. Я знаю, что мне делать! Я поеду с вами. У меня кибитка, тройка лошадей, преданные слуги. Мы живо перейдём рубеж.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Чтобы потом… не вернуться? Нет, нет, нет! Вы нужны Родине. Чиновник, музыкант, помещик может выехать за границу открыто. Скажем, для занятий контрапунктом или для лечения невралгии.
ГЛИНКА. А как же – вы?..
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Мы будем пробираться к Польше на попутных, как добрались сюда с обозом гуртовщиков… Вы спросили, что вам надо делать? Где бы вы ни были, помните о нас – скитальцах. Помните о декабрьском славном и печальном деле, о Родине-страдалице…
ГЛИНКА (повторяет, как клятву). Буду помнить!
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Напоминайте всем людям на Земле о нашей любимой Отчизне! Воспойте её величие. Расскажите, какой она была и какой она будет!.. Пойте о России так, чтобы одни, защищая её, хватались за оружие, а другие – трепетали бы от страха!
ГЛИНКА. Но как это сделать? Я ничего не знаю, не умею.
КЮХЕЛЬБЕКЕР. Вам только двадцать один год. Станет сил на всё… Снаружи раздался явственный конский топот.
МОРЯК (у входа). Вот теперь – наверняка жандармы!
ЯКОВ (вбегает). Барин! Михаил Иванович, солдаты скачут.
АЛЕКСЕЙ (прибежал). Уходите, господа, в поле. Там позади есть лаз. Я сено брал…
ГЛИНКА. А я затею долгий разговор с погоней. Проезжий барин с притороченной к саням виолончелью – благонадёжный собеседник. Прощайте и уходите скорей!
ПАЛИЦЫН. Прощай, Глинка, не забывай. (Исчез за стогом).
ГЛЕБОВ. Прощай, тёзка, и помни, что и ты был на Сенатской площади!
ГЛИНКА (обнял Кюхлю). Буду помнить. Всю жизнь буду вас помнить.
Занавес
Действие третье
Картина седьмая
Почтовая станция в предместье Смоленска. На горе виднеются очертания городских башен и церковных куполов. У крыльца стоит Яков. Со стороны двора загремели бубенцы. Появился Алексей.
ЯКОВ. Вот и Смоленск златоглавый! Считай, Алёшка, мы почти дома, на воле… Кибитка готова?
АЛЕКСЕЙ. Всё готово, Яков Ульяныч. Коней накормил, напоил. Пристяжную перековал в кузне. Домчимся быстро до Ельни. А там и Новоспасское – рукой подать.
ЯКОВ. Страсть как хочется деревенских щей поесть, в баньку по-чёрному сходить с веничком берёзовым.
АЛЕКСЕЙ. Чего же мы ждём?
ЯКОВ. Барин родственницу проведали, Елизавету Алексеевну, господ Ушаковых дочку. С малолетства в дружбе-с. Любят нашего Михал Иваныча, как родного.
АЛЕКСЕЙ. А они? Барин, то есть.
ЯКОВ. Как будто, – тоже. Красивая барышня, ничего не скажешь. Совет им да любовь! Угодья близко, поместья по соседству. Лучшего желать не надо… Для свадебки.
АЛЕКСЕЙ. Э, да у них – длинный разговор. Пойти хлебнуть пенника[170], что ли?
ЯКОВ. Что ж, погреться не грешно.
Уходят в почтовый дом. Прогуливаясь к станции, приближаются Глинка и Элиза Ушакова.
ГЛИНКА (оживлённо). Вот и минута радости прошла. Я не поверил бы в будущее блаженство, если бы на земле не было вас, Элиза… Лизанька! (Взял её за руку). Прелесть вы моя! Созвучница!
ЭЛИЗА. Какое славное имя вы мне придумали – Созвучница!
ГЛИНКА. Мы вместе наслаждались дивными звуками. Хочу чтобы так было всю жизнь!
ЭЛИЗА (б затруднении). А вы… помните; как зовётся вон… та башня?
ГЛИНКА (показывает на холм). Вот эта – стройная такая; словно девица-красавица?.. Как же, помню; Лизанька. Девичья! Я такраД; что вижу вас обеих. Мы ведь там когда-то объяснились.
ЭЛИЗА (всё больше смущаясь). Зачем вы так пристально на меня глядите? Я переменилась?.. Скажите; Мишель; я очень переменилась?
ГЛИНКА (восхищённо). Преобразилась! Словно вас озарила любовь… Я считаю чудом эту встречу… после всего. В сочельник; на закате, у Днепра; в тишине…
ЭЛИЗА. И я вам рада, Мишель. Очень рада! Поверьте; я часто думала о вас. Только вы один меня поймёте. Ведь вы мне – друг? Скажите; друг?..
ГЛИНКА (весело). И друг, и брат, и всё; что пожелаете!
ЭЛИЗА. Я это знала… И перед вами… раскрою душу. Хочу признаться вам. Я… недавно помолвлена.
ГЛИНКА (поражён). Вы?! Возможно ли? Ведь я…
ЭЛИЗА (увлечённо). Ах, он так хорош! Все без ума от него в Смоленске. Блистательный кавалер! И не такой; как все… наши. Изысканный; изящный; благородный. Настоящий… джентльмен.
ГЛИНКА. Не верю! Кто это может быть?
ЭЛИЗА. Англичанин родом. Давно уже в русской службе… Был унтер-офицером. Ныне получил эполеты; повышен в чине; награждён… Но отчего вы замолчали?
ГЛИНКА (мрачно). Начинаю догадываться…
ЭЛИЗА (тормошит его). Вы медведь; Мишель. Вы неуклюжий Мишка! Поздравляйте меня. Я счастлива!
ГЛИНКА. Как его зовут? Скажите; наконец!
ЭЛИЗА. Иван Васильевич Шервуд. Точнее; мистер Джон. Вы о нём слыхали?
ГЛИНКА. Так это с ним вы танцевали кадриль на балу у Хованских!
ЭЛИЗА. Как же! Кто его не знает в Петербурге? Принят в высшем свете.
ГЛИНКА (кусая губы). Так это он не отходил от вас ни на шаг в салоне князя?
ЭЛИЗА. Там было первое знакомство. Потом…
ГЛИНКА (гневно). А потом он выдал покойному государю тайный список друзей?!
ЭЛИЗА. Ну да! Отличился… Поначалу он был замешан… вместе с теми, бунтовщиками, был в их тайном обществе. Он от меня ничего не скрыл. А после… раскаялся. Помог короне. И потому возвышен. Ах, что за человек отважный!..
ГЛИНКА. Да ведь он – предатель, Лиза. Одумайтесь! Вы в нём ошиблись.
ЭЛИЗА. Что вы, Мишель? Шервуд – дворянин и выполнил свой долг перед государем.
ГЛИНКА. Какой он дворянин? Он проходимец. Наёмный убийца. Этот унтер сумел втереться в среду русского офицерства, узнал о тайном обществе освободителей Отчизны и решил сделать на этом карьеру. И какой ценой! Предал всех своих друзей. На нём их кровь!
ЭЛИЗА. Не предал вовсе. Помог раскрыть преступный заговор.
ГЛИНКА. «Преступный»! Что вы знаете, барышня! Там были лучшие умы России. А этот ваш Шервуд, человек без родины, без чести, посмел их выдать, погубить! Злодей щедро вознаграждён. И впредь будет осыпан монаршими милостями. Отрекитесь!
ЭЛИЗА (светски). Сэр Шервуд оказал мне честь… И вы не смеете…
ГЛИНКА. Оказал честь… Где ваше сердце, Лиза? Сердце русской девушки, дворянки…
ЭЛИЗА. Моё сердце полно любви…
ГЛИНКА. Да ведь он оскорбил и нашу музыку, выкрав из тайника в скрипке Вадковского драгоценный список… Гоните прочь изменника! Вы слышите меня? Гоните!
ЭЛИЗА. Ах, вы безумны… Опомнитесь, Мишель. Вы… низко ревнуете. Я знаю…
ГЛИНКА. О, нет! Я не ревнив и не безумен. Я оскорблён! Я почитал за честь идти на площадь вслед за теми, кого он предал.
ЭЛИЗА. Вы были с ними на площади?! Боже…
ГЛИНКА. Отвечайте, вы отдадите свою руку презренному негодяю?
ЭЛИЗА. Да как вы посмели?.. Я позову на помощь!
ГЛИНКА. Извольте! Идите и зовите вашего Шервуда. Пускай он запишет Михаила Глинку в свой донос. Пускай поставит моё имя рядом с ними. Рядом с Трубецким, Волконским, Бестужевым, Рылеевым, Одоевским, Кюхельбекером… Рядом с Муравьёвым-Апостолом и Пестелем, которые его пригрели, и кого он предал Аракчееву. Позор!
ЭЛИЗА (в слезах). Нет, он безумен… Или я схожу с ума?.. Поймите, Шервуд – мой жених, мой суженый…
ГЛИНКА (в отчаянии). Она меня не слышит! И это – ей я посвятил «О, будь благословенна». Будь всё проклято! Неужели всё решено? И бесповоротно?
ЭЛИЗА. Да, сэр Джон любит меня. Ия… выйду замуж. За него!
ГЛИНКА. И будете Елизаветой Шервуд? Я навеки сотру это чуждое имя из памяти сердца! (Хочет уходить).
ЭЛИЗА. Мишель, одно слово, и всё будет прекрасно. Отрекитесь от ваших дерзостей, и я прощу вас. Я снова буду другом…
ГЛИНКА. Нет! Я прошу невесту преступника больше не считать меня ни другом, ни роднёй. Прощайте! (Быстро пошёл и позвал слуг). Яков, Алексей! Подавайте поскорей.
Элиза замерла. Во дворе загремели бубенцы.
ГОЛОС ГЛИНКИ. Гони во всю!
ГОЛОС АЛЕКСЕЯ. Но, залётные!.. (Запел). «Не белы снеги забелелися…»
Песня и звон стихли вдалеке. Элиза рванулась.
ЭЛИЗА.Мишель, остановитесь!.. (Планет).
Занавес
Картина восьмая
Двусветный зал Новоспасского дома Глинок. В углу, как и на городской квартире Глинки, стоит ёлка, украшенная к Рождеству. В клетке тоже чирикают певчие птицы. С хор доносится девичий хор, поющий протяжную святочную песню: «Горько, горько мне, красной девице, в светлом тереме, в злате в серебре…» Глинка полулежит в кресле, обложенный подушками. Возле него хлопочут мать Евгения Андреевна, няня Авдотья и сестрица Милочка. Песня утихает.
ГЛИНКА. Спасибо девушкам за песню. Мотив трогательный, грустный…
МАТЬ. Нельзя ли что-нибудь весёлое? Расстроили мне Мишу.
ГЛИНКА. Нет, маменька, так нужно. Мне всю дорогу слышался печальный хор, как бы на смерть героя. Прошу дать мне нотную бумагу. Вон на столике лежит, где скрипка.
МАТЬ (подаёт). Напрасно утруждаешься, сынок.
ГЛИНКА. Нисколько. (Что-то записал). Ещё бы одну, последнюю! Забыл мотив: «Ах, подруженьки, вы не пойте мне песню брачную!».
Входит озабоченный отец.
ОТЕЦ. Полно, Мишенька. Недосуг возиться с хором. Съезжаются гости. Надо встретить.
Супруги идут навстречу гостям. Глинка нахмурился.
МИЛОЧКА. Скучно, братец? Может, пряничков, орешков?..
ГЛИНКА (с нежностью). Себе возьми, Людмилочка. Снеси певуньям… Ох, простыл сильно! (Потёр поясницу). Где моя грелка?
Няня подаёт грелку, берёт поднос.
АВДОТЬЯ. Я, барышня, подам. (Поднимается на хоры). Примите, девушки, от молодого барина.
ГОЛОСА ДЕВУШЕК. Спаси бог барина молодого.
ГЛИНКА. На здоровье. Отдыхайте, девушки.
Откинувшись на спинку кресла, Глинка закрыл глаза. Вернулась нянюшка.
АВДОТЬЯ. Чем же потешить тебя на радость? Сказку сказать или песню спеть?
ГЛИНКА. Спой, нянюшка, ту… сиротскую.
АВДОТЬЯ. А не заругают?..
ГЛИНКА. Потихоньку.
АВДОТЬЯ. Ладно. (Негромко затянула). «Тяжела моя великая кручинушка…»
Глинка, записывая мотиву не заметил, как у входа в зал остановились родители и гости.
ОТЕЦ. Прочь отсюда, Авдотья! Затянула похоронную!..
Нянька шарахнулась к выходу.
ГОСТЬЯ (у неё зуб со свистом). Ваш наследник поспешил из столицы к Святкам? Помню его совсем-совсем малюсеньким!
ГОСТЬ. Первенец пожаловал? Хочу поздравить. (Потирает руки). Не составим ли банчок?..
МАТЬ. Да не до карт нам! Хворает бедняжка.
ГОСТЬЯ (лорнирует Глинку). Слабенький юноша.
МАТЬ. От золотухи. С детства у него.
ОТЕЦ (снисходительно). Мимоза! Его девиз – «Не тронь меня!».
Сосед приближается к больному. Не решается с ним заговорить и обращается к отцу.
ГОСТЬ. Нельзя ли, Иван Николаевич, порасспросить больного о столичных новостях? Не терпится узнать подробней.
ОТЕЦ (сокрушённо). Не говорит! Пытался много раз. Молчит, как воды в рот набрал. Я уж и так к нему, и сяк. (Молодцевато). Попробую ещё раз обломать. В полку обламывал и не таких. Так что же там стряслося в Петербурге? Говорят, большой переворот? Не скажешь ли гостям?
ГЛИНКА (отрываясь от записей). Здравствуйте, господа. Ох, папенька! Ничего не видел и ничего не слышал. Я говорил вам.
ОТЕЦ. Как это «не видел и не слышал»? Ты что – под колпаком сидел или был пьян беспробудно?
ГЛИНКА. Музыкой увлёкся. Сочинял со страстью. Сонату было начал…
ГОСТЬ (разочарованно). А вид у него такой, как будто он не ноты сочинял, а сражался на площади.
ОТЕЦ (с испугом поглядел на соседа). Безумными речами о своей музыке он хоть кого сведёт с ума!
ГОСТЬ (обидясь). Пардон. Вы, кажется, изволили…
ОТЕЦ. Да нет, я – о себе.
МАТЬ. Дадите ли вы ему отдохнуть? Больное ведь дитя… Скорей бы лекаря!
ОТЕЦ. Давно послал в уезд и за лекарем, и за лекарством… Я бы ему другое… прописал! Сам на себя накличет поклёп. Прослывёт бунтовщиком! (Отходит вместе с гостями).
ГЛИНКА (отбрасывает листок). И тут покою нет! О, кров родительский, благословенный…
ГОСТЬЯ (в стороне). Боюся я, сосед, последствий. Мимоза резкости совсем не переносит, как в ребячестве.
ОТЕЦ. Ох, знаю, милые соседи. Маменька в нём души не чает: «Не тревожь мою Мимозу». Избаловала сына – спасения нет!..
В передней раздаются громкие голоса, покашливание с мороза, звуки музыкальных инструментов. Вбегает вприпрыжку сестра.
МИЛОЧКА. Ах, новость, братец! Музыка будет.
ГЛИНКА (оживился). Дядюшкин оркестр?! Прелесть…
Вваливается дядюшка Афанасий Андреевич. Он в венгерке, охотничьих сапогах и с арапником в руке. Весело здоровается, целуется со всеми. С ним – дирижёр Илья, Яков и Алексей с инструментами.
ДЯДЮШКА. Сестрица, дорогая, здравствуй! Зятёк любезный! Племянничек, с приездом! Всех– с Рождеством Христовым! Приехал проведать больного «а капелла», как говорят музыканты, или попросту – со всей капеллой! (Раскатисто хохочет под лай собак).
ГЛИНКА. Ах, дядюшка, спасибо за оркестр. Соскучился. Надолго ли к нам?
ДЯДЮШКА (важно). Я не люблю, когда мои музыканты долго играют у чужих. Одно баловство. Теряют нравственность, умение.
ИЛЬЯ (приблизился). Позвольте нам сказать, батюшка-барин Афанасий Андреевич?.. У барчука мы учимся нотному искусству, тонкостям игры.
ГЛИНКА. Что ты, Илья? Я сам учусь у вас песням, оркестровке. Дядюшка, милый! Мне надо с ними поработать.
ДЯДЮШКА (пошептался с сестрой). Ладно, Миша. Так и быть! Тебе – оставлю хоть на неделю. Забавляйся. (Отходит).
ГЛИНКА. Вот славно, Илья. У меня к вам столько дела! Как живётся?
ИЛЬЯ (невесело). Всё также. Намедни нашего трубача велели выпороть.
ГЛИНКА. За что же его?!
ИЛЬЯ. Простудился, кашлял. Не чисто дул. (С теплотой). Мы вам, Михаил Иванович, святочный подарок привезли. Разучили ваши вариации на русские темы.
ГЛИНКА (пожал ему руку). Ах, Илья! Вы меня утешили. Я ведь от тебя мотивы записывал.
ИЛЬЯ. Есть ещё одна. Всем песням песня! «Из-за гор, гор, высоких гор…».
ГЛИНКА. Спасибо, дорогой. Напой мне…
МАТЬ (супрёком). Сынок, амиконствуешь…
ГЛИНКА. Вот, маменька, точный перевод этого слова – «друг свиньи»! А он – Человек и Музыкант! Да какой!.. Одно желание моего сердца, чтобы они стали вольными!..
Услыхав слова о воле, подлетел дядюшка и оттолкнул музыканта.
ДЯДЮШКА. Ступай на хоры, негодяй! Расчувствовался. Я ещё дома всыплю тебе на конюшне!
Понурив головуИлья уходит.
Мишель! При мужиках?! Да знаешь ли, что бывает за такие речи?..
ГЛИНКА. Знаю, дядюшка. Молчу. (В сторону). Но я и в музыке выражу свои чувства.
ДЯДЮШКА. Остерегись, брат. Набрался там в Петербурге вольтерианских идей, так тут хоть не мути мне мужиков. (Отошёл).
ГЛИНКА. Вот он – сельский рай земной! Прежде я не понимал, умилялся…
С хор зазвучали вариации.
МАТЬ (поднимаясь). Не огорчайся, сынок. Братец мой Афанасий – старых правил человек… Да тебе как будто полегче?.. Пойду похлопочу по хозяйству.
ГЛИНКА. При звуках музыки боли утихают. А звучание своих сочинений – самый целебный бальзам! (Снежностью). И вовсе исцелить могла бы родная маменька.
МАТЬ. Что надо сделать, Мишенька?
ГЛИНКА. Всё будет сделано?..
МАТЬ. Можно ли сомневаться!
ГЛИНКА. Верю. Тут трудно говорить… Я пришлю с Авдотьей записку, когда станет невмоготу.
МАТЬ (позвала). Авдотья! Смотри за Мишей, как следует. Все его желания исполняй. (Уходит).
АВДОТЬЯ. А как же? Слушаю-с, матушка-барыня. (Подсаживается к креслу} начинает дремать).
Гости поодаль играют в карты. Глинка вдруг захлопал в ладоши.
Что надобно, соколик?
ГЛИНКА. Илью… Его соло!
Зазвучала скрипка. Гости заслушались, оставив карты. Дядюшка поднялся, самодовольно улыбаясь.
ДЯДЮШКА. Каково злодей играет? Золото – не музыкант!
ГЛИНКА. Такой скрипач стал бы в Европе знаменитым.
ДЯДЮШКА (понял дело по-своему). Представьте себе, господа: Ошков за Илью давал мне две тысячи рублей!
ГЛИНКА. За человека?!
ДЯДЮШКА (уточняет). За крепостного мужика!
Скрипка умолкла.
ГЛИНКА. А давно ли у нас называли мужиков «почтенными поселянами войны»? Когда они Наполеона гнали!
ДЯДЮШКА. Таков порядок.
ГЛИНКА. Да такие мужики – достойные мужи Отечества! Зодчий Воронихин, живописец Аргунов, композитор Хандошкин, Семёнова-«трагедия» – тоже крепостная… Да что и говорить…
ДЯДЮШКА. А ты не говори. (Тасуя карты). Как можно сравнивать холопа Илью с заграничным виртуозом?
ГЛИНКА. А вы слыхали про знаменитого в Италии скрипача Джованни Рупини?
ДЯДЮШКА (блеснул осведомлённостью). Как же! Европейское имя. Виртуоз!
ГЛИНКА (рассмеялся). Да ведь это – наш, русский мужик Ванюшка Рупин\ Крепостной человек. Большой оброк приносит помещику. А имя переменили ему для коммерции…
ОТЕЦ (подошёл к сыну). Я говорю тебе – уймись! Что могут подумать?..
ГЛИНКА. Виноват, отец, забыл. (Громко). Играйте «тутти».
ОТЕЦ. Чего-чего?
ГЛИНКА. Все \ Весь оркестр!
ОТЕЦ. О деле будешь говорить? Чем занимался в Петербурге? Служил исправно?
ГЛИНКА. Как бы вам сказать…
ОТЕЦ. Или баклуши бил?
ГЛИНКА. Нет! Я многому учился. (Быстро перечисляет). У Эамбони – композиции, у Марокетти – итальянскому языку, у Беллоли – пению. А контрапунктист Миллер был совсем плох… Ох! (Схватился за поясницу).
ОТЕЦ. Не притворяйся! Я с тобой – о деле, а ты – о пустяках! Пора бы…
ГЛИНКА. Это не пустяки, папенька. В Россию редко приезжают видные маэстро. Мне бы – в Италию, в Германию. Поучиться бы композиции у Зигфрида Дэна!..
ОТЕЦ. Дашь ли мне сказать? Да не нужны нам твои композиции! Тут не до жиру, быть бы живу. Трудно с мужиками…
ГЛИНКА. Пусть хоть в музыке найдёт отраду… обездоленный народ…
ОТЕЦ. Ты – опять?!
ДЯДЮШКА (закрывает уши картами). Играйте громче! Фортиосимо играйте!
ИЛЬЯ (с хор) Не гневайтесь, батюшка-барин. Написано в нотах «пиано».
ДЯДЮШКА (взмахнул арапником). Молчать, когда я говорю!
Оркестр умолкает вовсе.
ГЛИНКА (разгорячённый, в тишине). А вы музыку арапником глушите. Сечёте на конюшне музыкантов за фальшивый звук…
ДЯДЮШКА (топает ногами). Играйте же, мерзавцы!
Музыка безмолвствует.
Такой пассаж! Все, наверно, слышали… (Громко). Ах, так?! Молчите? Перечите?.. Сейчас же – по домам!
ГЛИНКА (взмолился). Дядюшка! Ночью?.. По морозу?.. В такую даль?..
ДЯДЮШКА. Да, ночью, пешком! В наказание!
ГЛИНКА. Они не виноваты.
ДЯДЮШКА. И ты – перечить? Тогда – коней! Моей ноги не будет в этом доме.
ОТЕЦ (растерялся). Останься, братец. Куда ты – на ночь-то глядя? Ужин на столе.
ДЯДЮШКА (музыкантам). Чего сидите? Слышите? Ступайте!
ГЛИНКА (резко поднялся). Яков! Алексей!.. Сейчас же запрягайте. И моей ноги не будет в этом доме.
АВДОТЬЯ (в слезах). Мишенька! Побойся бога. Больной, да в такую стужу? Пропадёшь, касатик!
ГЛИНКА. Я без музыкантов не останусь. Слышишь, Алексей? Закладывай кибитку. Яков, одеваться!
ОТЕЦ (встревожен). Ну, ладно, Миша, успокойся. Попроси у дядюшки прощения.
ГЛИНКА (поглядел на хоры и пересилил себя). Простите их, дядюшка. И меня простите. Невралгия! Будь она проклята!
ДЯДЮШКА. Ладно. Так и быть. Останемся до завтра. (Музыкантам). Играйте, черти!
Музыканты заиграли. Мишель устало опустился в кресло. Отец и дядя в стороне шушукаются. Няня обкладывает больного подушками.
ГОСТЬЯ (соседу). Это – из-за Лизы Ушаковой получается у Мимозы такой характер. Едва не вызвал на дуэль Шервуда.
ГОСТЬ. Тут не любовная, – другая подоплёка. Чего ради он так окрысился на Шервуда? Достойный офицер, редкий патриот. (Хихикнул). На Мишеля подуло декабрьским ветерком.
ОТЕЦ (меняет тему). Всё наше горе – в этой его страсти к музыке. Ох, что-то из него выйдет на горе нам? Неужто скоморох?!
К Михаилу подходит сестра со склянкой в руке.
МИЛОЧКА. Выпей-ка настой бабушкин. Обязательно выпей. Не забудь – маменька велела! И про записочку спрашивает…
ГЛИНКА. Сейчас, сейчас, Милочка, и настой выпью, и записочку отпишу. (Хлопает в ладоши. Громко). Илья, читай – пиано, пиано! Уйми ты контрабас!
ЯКОВ (с хор). Виноват, барин! Разыгрался на радостях. Во веки веков поиграешь со своими.
ГЛИНКА. Это мне понятно, да тут, вообще-то говоря, изъян в оркестровке. Эх, поучиться бы мне контрапункту да генерал-басу! Но у кого? Где наши знатоки? Где наши Дэны?
Милочка звонко смеётся.
Что, милая?
МИЛОЧКА. Слова-то какие смешные: КОНТРАПУП и у ГЕНЕРАЛА БАС!
ГЛИНКА. Всё ты тут перепутала. Так называют науку мелодии и науку гармонии. А гармония эта неуловима, словно Жар-птица!
МИЛОЧКА. Расскажи-ка мне лучше сказку про Жар-птицу! Когда маленькая совсем была, начало слышала, а как там дальше, не припомню…
ГЛИНКА. За высокими горами, за синими морями жила-была Жар-птица. Огненной красоты! Глаза слепнут! Владела она превеликой тайной Благозвучия! А у певца-добра молодца, не было ни серебра, ни злата на дорогу к ней…
МИЛОЧКА. Хоть это и не та Жар-птица, но ты меня сказкой заворожил!
В увлечении проливает лекарственный настой на халат больного. Брат заразительно смеётся.
ГЛИНКА. Не меня – халат мой лечишь!
Услыхав смех сына, да ещё такой раскатистый, подошёл отец, в раздражении бросив карты.
ОТЕЦ. А ты, мне думается, врать здорово научился! Болен ли ты? Может, просто-напросто на тёплые воды да на безделье отправиться захотелось?!
ГЛИНКА. Всю правду нам лекарь скажет.
ОТЕЦ. Вот он-то и выведет тебя на чистую воду! Тогда не то, что за границу – в уездный город и то не пущу! Властью своей отцовской не дам ни копейки![171] Так и знай! (В сердцах отходит к ломберному столу).
ГЛИНКА. Не даст, хоть волком вой.
МИЛОЧКА. Ну, а дальше, братец?
ГЛИНКА (сердито). И решился добрый молодец на самое… крайнее средство. (К задремавшей няне). Проснись. Нужна услуга.
АВДОТЬЯ (пробудилась). Приказывай, касатик.
ГЛИНКА. Дай, Милочка, перо.
МИЛОЧКА. А чем же кончилась сказка?..
ГЛИНКА. Сейчас узнаешь. (Пишет, бормоча). «Маменька! Ничему не удивляйтесь и ничего не пугайтесь. Мне позарез нужно уехать заграницу! Предуведомьте лекаря – для батюшки. Никакие лекарства не помогут. В рот не возьму ни капли. В Петербурге залечили. А болезней у меня – целая кадриль! Скажите, пусть назначит итальянский курорт. В этом – исцеление вашего Мишеля». (Сестре). Поняла? Вот чем кончилась сказка! (Няне). Отдай записку маменьке. Без неё не впускай лекаря. Понятно?
АВДОТЬЯ. Какие понять, соколик? Милочка, побудь с больным. (Ушла).
МИЛОЧКА (заботливо поправляет плед). Скажи, у кого же ты берёшь свою музыку?
ГЛИНКА. У неё… (Показал вслед няньке). У них… (Кивнул на хоры). И у них! (Оглянулся на клетку).
МИЛОЧКА. У птиц?!
ГЛИНКА. Бывает! Алябьевского «Соловья» помнишь? Подай-ка мне пошетту.
Милочка в недоумении озирается.
Карманную скрыпицу!
МИЛОЧКА (берёт со столика маленькую скрипку). А тебе не повредит?
ГЛИНКА. Музыка вреда не приносит. (Проигрывает трель, и уснувшие было птицы отвечают чириканьем). Слышишь? Их трели можно записать и обработать…
В сопровождении Евгении Андреевны и Авдотьи входит пожилой лекарь-немец. Медленными, шаркающими шагами приближается к больному. Гости из деликатности покидают зал. Мать, няня и сестра прикрыли собой осмотр. Аекарь громко считает пульс.
ЛЕКАРЬ. Айн, цвай, драй, фир… (Потом поворачивается вместе со стулом, смотрит пародию пациента поверх очков, нюхает табак и чихает).
МАТЬ. На здоровье! Что с больным?
ЛЕКАРЬ. Ну-с, у молодого маэстро целая кадриль болезней. Первая – «плесус солярис», воспаление солнечного сплетения…
ГЛИНКА. Я говорил вам, папенька.
ЛЕКАРЬ. Цвайте – ложный аппетит…
ГЛИНКА. Никакого!
ЛЕКАРЬ. Дритте – остатки золотухи. Печень – тоже не в порядке – фирте? И… (Сморщился). Невралгия! (О пять чихнул).
МАТЬ. Ах, батюшки! На здоровье.
ЛЕКАРЬ. Дайке. Спасибо вам. (Чихает).
ОТЕЦ. На з до… (Рассердился). А ну тебя… совсем!
ЛЕКАРЬ. Спасибо. У молодого человека – зябкая натура… (Чихает). Как и у меня. Молодому человеку нужно много солнца. По крайней мере, года три надо ему провести на юге. Как это?.. На лоне натуры.
ОТЕЦ (обеспокоен). На лоне природы? На Кавказе, что ли? Он уже там был. Никакого толку.
ЛЕКАРЬ. Настоящие курорты рекомендую: Вис-Баден, Баден-Баден…
ОТЕЦ. Да где у нас такие курорты? Вот чудак!
ЛЕКАРЬ (чихнул). Спасибо, благодарю вас… Где курорты? В Германии, в Австрии, в Швейцарии и – в Италии… (разводит руками и уходит).
ГЛИНКА (отбросил грелку). Италия?! Чудесная страна. В Италии много музыки. Я там живо поправлюсь… Позвольте, папенька уехать?
ОТЕЦ. Сам знаешь, не могу-с. Не позволяют средства.
МАТЬ. На севере он будет чахнуть…
АВДОТЬЯ (причитает). Зачахнет мой соколик…
ОТЕЦ. Цыц, старая! Без тебя тошно.
МАТЬ. Может быть, устроим как-нибудь? (Вытирает слёзы).
ОТЕЦ. «Как-нибудь»! А на какие шиши?
МАТЬ. Фи, Жан. Как грубо!
ОТЕЦ (выворачивает карманы). Каков есть, таков и есть! Весь налицо.
ГЛИНКА (после некоторого колебания). Отец! Мне худо… Мне страшно здесь…
ОТЕЦ (внимательно). Страшно? Отчегоже?
ГЛИНКА. Он обещал придти… Он непременно будет!
МАТЬ. Кто? Кто придёт, сынок?
ГЛИНКА. Жандармский офицер. Был с обыском. И снова придёт. Ая, по простоте, могу проговориться. Подведу друзей, знакомых, родню. Себе могу навредить.
ОТЕЦ (после паузы). Тут, кажется, дело не на шутку. (Присвистнул). Начинаю кой-что понимать. Так, значит, надо переждать декабрьскую грозу? Где-нибудь подальше? Так дело обстоит?
ГЛИНКА. Так, папенька, хотя… надо и подлечиться.
ОТЕЦ (со злостью). Связался от безделья чёрт знает, с кем. Теперь расхлёбывай кашу сам и отца этой кашей корми!
МАТЬ. Бережённого, Ваничка, бог бережёт. (Всхлипывает). Родное ведь дитя!
АВДОТЬЯ (плачет). Родное, ой родное!
ОТЕЦ. Ну, полноте! Полно хныкать. (Вздохнул). Делать нечего. Заложим деревеньку. Поезжай, сынок, в чужие страны. Пока…
МИЛОЧКА. Братец! Привезёшь мне Жар-птицу?
Занавес
Эпилог
Глинка и Соболевский стоят перед балконной дверью отеля. Прислушиваются к карнавальной музыке.
СОБОЛЕВСКИЙ. Весёлый нынче карнавал в Милане.
ГЛИНКА. Хорошо, тепло…
С улицы доносятся аплодисменты, возгласы.
ГОЛОСА. Маэстро русси!.. Маэстро Глинка!..
СОБОЛЕВСКИЙ. О чём это – они, Мишель?
ГЛИНКА. Просят наших песен. Я немного известен в Италии: напечатали мои сочинения.
СОБОЛЕВСКИЙ. О, европейская слава? Поздравляю!
ГЛИНКА. Не с чем, Сергей. Я шёл не своей дорогой. Искренне не мог быть итальянцем в музыке.
СОБОЛЕВСКИЙ. Что же ты делал на чужбине?
ГЛИНКА. Многому учился. У Ноццари и Фодор – капризному и трудному искусству управления голосом. У Базилли – гармонии… Поеду в Берлин к Дэну.
СОБОЛЕВСКИЙ. Я не об этом! Что сотворил для нас, русских?
ГЛИНКА. Меня давно преследует один напев. (Напевает). Песня сироты. Нянюшка подобную напевала.
СОБОЛЕВСКИЙ. Хочешь, я скажу, о чём это говорит?.. О сиротской доле всего нашего народа! Иных уж нет, а те – далече…
ГЛИНКА. Я это чувствовал, а слов не находил.
СОБОЛЕВСКИЙ. У Жуковского были строки: «Как мать убили у бедного птенца…»
ГЛИНКА. Виселица, каторга… Лучшие люди России!
СОБОЛЕВСКИЙ. Верные слова! От них родятся наши оперы. Но где они? Хотел бы я их послушать!..
ГЛИНКА. В том-то и несчастье, что наших опер на царской сцене не дают. Требуют игривых, привозных. А я хочу, чтобы мои дорогие соотечественники почувствовали себя в моей опере, как дома…
СОБОЛЕВСКИЙ. Скорее сознавайся, что ты затеял?
ГЛИНКА. Точно пока не знаю. Звуки так и рвутся из души, а сюжета для оперы нет.
СОБОЛЕВСКИЙ (наступает с мальчишеским озорством). Не таись от истинного друга. Говори!
ГЛИНКА. Хорошо, сознаюсь. Я много думаю об «Иване Сусанине» Рылеева. Трудно будет с таким сюжетом на Руси, а всё же… Попытаю счастья!
СОБОЛЕВСКИЙ. Ну, брат, удивил. Ай да Глинка! Постой. (Что-то записал). Вот тебе экспромт. Эпиграмма – не больно складная, зато быстрая! (Читает).
Представьте лица нашей знати, когда в театре, не во сне, — герой споёт в убогой хате, а примадонна – в зипуне!..ГЛИНКА. Смеёшься, греховодник!
СОБОЛЕВСКИЙ. Ещё не то услышишь!..
И позолота лож не треснет? И не обвалится плафон?.. Входи под стон мужицких песен, крестьянин, в русский Пантеон!ГЛИНКА. Спасибо за пророчество
СОБОЛЕВСКИЙ. Скоро ли увидим и услышим твою оперу?
ГЛИНКА. Дай срок. И ты увидишь, с каким торжеством войдёт в Пантеон искусств русская песня! Во всеоружии музыкальной премудрости. Во всём сиянии сказочной Жар-птицы!..
Занавес
1967–1978
«Спектакль Костромского драматического театра “Встреча в веках) созданный в содружестве с драматургом Николаем Сотниковым, – интересный и смелый эксперимент. Эксперимент потомучто здесь, пожалуй, впервые мы попадаем в творческую лабораторию композитора, проникаем в тайны создания первой, ставшей классической, оперы “Иван Сусанин”. Вместе с Глинкой мы погружаемся во все перепетии, связанные с возникновением оперы, попадаем в святая святых художника. И можно поблагодарить драматурга, режиссёров и артистов за то, что они предоставили нам эту редкую возможность. Посвящённый, как сказано в эпиграфе, “великим патриотам Земли Русской) спектакль звучит приподнято и прославляет доблесть народа».
Из отзыва «Художник находит героя» «Известия», 6 сентября 1967 годаНиколай Ударов. Во славу песни соловьиной
В тот нас, кода родился М. И. Глинка, под его окном запел соловей.
(Из семейного предания) Когда он родился, запел соловей, невидимый вечно в сплетеньи ветвей, запел под окном в тихом летнем саду два века назад в соловьином году. Собрата по песням ты благослови! Пусть вместе отныне поют соловьи! Не смолкнет их песня вовеки веков. В июне воскреснет талант соловьёв. А тот соловей из великих людей бессмертным останется с песней своей!Два вальса
«Вальс цветов»[172] и «Вальс-фантазия»[173] рок-н-роллов всех звучней. В этих вальсах – счастья праздник и отрада для очей. Их мелодии неслыханны. Повторенья не дано. Вдохновение великое в них навек растворено. И Чайковский вслед за Глинкою русским вальсом дорожил, как волшебник-невидимка он снова пары закружил. Пусть цветы в полётах кружатся (Не на клумбах – не сорвут!), и о счастьи нежность с мужеством помечтают наяву! Пусть всесилие фантазии не забудет о земном и с какой-нибудь оказией вдруг нагрянет в каждый дом!Встреча веков в Костроме
Премьера спектакля по пьесе моего отца Н. А. Сотникова о М. И. Глинке и Иване Сусанине состоялась в Костромском областном драматическом театре имени А. Н. Островского в мае 1967 года.
В Костроме весенний ливень, и над Волгою свежо. Вот и вечер светло-синий в Кострому пришёл. Я приехал только на́ день, на один спектакль. И сегодня очень надо встретиться векам! Пролетевшего столетья зримые черты я искал на белом свете, взором их настиг. Восемнадцатого века контуры одни, ну, а если дальше ехать, — вовсе не видны. Где-то там стои́т Ипатий, грозный монастырь. Неужели и взаправду след веков остыл? Что осталось от былого? Мощные дубы да отеческое слово славы и любви. Русла рек и те иные, и не та вода. Только тучи грозовые, — как всегда. У отца сегодня пьеса увидала свет. Было тексту очень тесно много дней и лет. Но послали свет на сцену. Грянул хор людской, словно грянул гром за стенами над рекой! Славьтесь, Глинка и Сусанин! Встретились века, и пришли сюда за нами будто бы в антракт, повторяя ход событий, за главой главу, каждый на своей орбите, вновь, как наяву. Занавес идёт массивный. Всё сокрыл волной. Я опять живу Россией, грежу Костромой.Наше «Славься!»
«Прочь с дороги! Наше „Славься!“ идёт!»
(Из пьесы Н. А. Сотникова о М. И. Глинке «Славься!») Чем сильнее мои невзгоды, тем роднее мне счастья годы середины века минувшего. Хоть бедны они, всё же лучшие! Никогда не жилось мне краше! Вот умчусь я туда, где наши, наши люди и наша правда. И – не где-то там, где-то рядом — рядом с сердцем моим, рядом с песней моей. Пусть хоть грянет гром, пусть хоть грянет гимн, пусть хоть грянут вместе, чтобы честь по чести нам Отчизну славить, путь-дорогу править. «Славься, славься, Великая Русь!» Славься, наш славный Советский Союз! Славьтесь, великие наши года! Вы оставайтесь в душе навсегда!Н. А. Сотников. Беспокойное племя Сусаниных. Героическая трагедия в одном действии и шести сценах
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
(в порядке появления на сцене)
Иван Сусанин, костромской мужик, староста сельский
Пр оезжий русский человек
Антонида, дочь Ивана Сусанина
Богдан Собинин, зять Ивана Сусанина
Ванюша, приёмный сын Ивана Сусанина
Сосед Ивана Сусанина
Старик, тоже сосед его
Начальник отряда польского
Помощник начальника отряда польского
Кузьма Минин (в старости)
Мужики, ляхи, гости
Действие происходит в 1612 году.
Финал – в 1616 году.
Сцена первая
Сцене предшествует музыкальное вступление. Перед занавесом появляется ВЕДУЩИЙ.
ОТ АВТОРА. О великом патриоте земли русской народное предание рассказывает так:
«Жил-был неподалеку отсюда старик-зверолов Иван Сусанин. Знал он всё кругом. И какая тропа в какие дебри ведёт. И какого зверя в капкан ловить удобнее. И звездочёт он был хороший. Мог по звёздам путь-дорогу находить…».
Одним словом, мудрый был мужик. Потому земляки выбрали Ивана сельским старостой…
Поднимается супер-занавес. Видна околица деревни Деревеньки. Так и на столбе написано: «Деревеньки». Небольшая часовенка. Вечереет. Шумит вьюга. Сюда приходит видный, статный старик с посохом в руке. Остановился, прислушался. Внезапно послышался конский топот. Заскрипели полозья саней. Кто-то закричал издалека: «Эй!» Вскоре подбежал неизвестный человек.
ПРОЕЗЖИЙ. Эй; человече! Старосту мне надобно домнинского. В селе не отыскал. Люди сказывали – живёт в Деревеньках.
ИВАН. Да; это я здешний староста.
ПРОЕЗЖИЙ. Правду говоришь? Ты и в самом деле – здешний; костромской мужик? Не беглый; не пришлый?
ИВАН. Костромские мы. Сусанины из рода в род.
ПРОЕЗЖИЙ. Как звать-величать?
ИВАН. Иван Осипов сын. А сам-то – кто будешь?
ПРОЕЗЖИЙ. Проезжий человек. (Понизил голос). К Костроме пробираюсь. По делу послан тайному. От Минина; от Кузьмы.
ИВАН. Милости просим! Ко мне на подворье. Отдохнуть; подкрепиться с дороги.
ПРОЕЗЖИЙ. Не до этого, брат. Беда пришла. По пути из Буя обогнал отряд сарматский.
ИВАН. Поляки?!
ПРОЕЗЖИЙ. Ляхи! Паны… Враги наши.
ИВАН. А чего хотят?
ПРОЕЗЖИЙ. Разбойники! Богатый монастырь разграбили под Буем. Мужицким добром хотят поживиться. Грабят в округе. Дома жгут беспощадно. Бьют и пытают русских людей.
ИВАН. Так… В нашу сторону говоришь; подались? Спасибо; добрый человек. Вовремя предупредил.
Подошёл староста к часовне и часто забил в колокол. Гость бросился к нему.
ПРОЕЗЖИЙ. Ты что; Иван Осипович? Услышат ляхи! В их сторону ветер несёт.
ИВАН. Не мешай! Знаю, что делаю. (Звонит всё сильнее.)
Первой прибежала дочь Сусанина Антонида. С нею братишка названный Ваня. Не велик росточком мальчонка, а, видать, смелый, дубинку прихватил.
ВАНЯ. Кого бить будем, отец?
АНТОНИДА. Что случилось, батюшка? Требуется помощь?
ИВАН. Скликайте соседей, дети. Живо!
АНТОНИДА (побежала к избам). Эй, люди!
ВАНЯ. Батюшка народ скликает!
Подходят бабы, мужики.
ПЕРВЫЙ. Что стряслось, староста?
СТАРИК. Зачем в набат бьёшь?
ИВАН Беда, братцы, беда! Незваный гость к нам жалует. Ворог лютый. СТАРИК. Откуда весть пришла?
ИВАН. Вон проезжий человек поведал.
ПРОЕЗЖИЙ. Сюда ляхи идут. Всё кругом пожгли, пограбили. До вас добираются.
ПЕРВЫЙ.Ляхи? Откуда?!
ЖЕНЩИНА. Батюшки, караул!
ИВАН (вышел вперёд). Братья и сёстры! Встретим врага на краю земли нашей Деревенской.
ГОЛОСА. Не допустим! Остановим!
ИВАН. Тогда – за дело! Топоры точите! Косы ладьте! Рогатины рубите! Коней выводите!
СТАРИК. А как воевать будем?
ИВАН. В лес подадимся. Ворогу навстречу. Из засад бить будем. Согласны? СТАРИК. А много ли их числом будет? Разведали?
ИВАН. Сколько? Говори, проезжий человек…
В это время послышался отдалённый выстрел.
Поздно… Не успеть…
ЖЕНЩИНА. Спасайте души, мужики! (Побежала.)
БОГДАН (поднял руку). Стойте! Что мы – не люди русские?! Не можем на врага пойти? Хаживали! Хватайте топоры, косы, какие есть. Самопалы берите, у кого есть.
ИВАН. Не горячись, Богдан. С умом надо решать дело. (К проезжему). Отряд, говоришь, большой?
ПРОЕЗЖИЙ. Говорю – порядочный. Сабель сорок будет.
ИВАН (повысил голос). А у нас? Душ с десяток мужиков!
АНТОНИДА. А мы – бабы, девки? С кочергами пойдём на ворога, с ухватами.
ВАНА (помахал дубинкой). А ребята?!
ИВАН. Одумайтесь, дети! Против сабель-то с ухватами? С дубинками? Голыми руками такого зверя не взять.
БОГДАН. Покориться? Нам Кузьма Минин в ополчении говорил: «Лучше смерть с оружием в руках, чем рабство чужеземное…». Да и ты, тестюшка, не так воевал в молодости с татарским ханом?..
ИВАН. Да не собраться нам с силой, Богдан. За подмогой посылать далёко. Беда у порога. Избы пожгут ляхи, скот порежут, детишек загубят.
СТАРИК. Говори, как нам быть, староста?
ИВАН. А вот как. Разойдитесь по домам. Притаитесь…
ПЕРВЫЙ. А ты? Всё на себя одного хочешь взять?
ПРОЕЗЖИЙ. Что задумал, староста? Говори прямо!
ИВАН. Так вот, слушайте. Моя изба с краю стоит. Ко мне враги вперёд войдут. Мне и ответ держать первому. Когда надо будет – всех покличу.
СТАРИК. Твоя воля, староста…
Соседи начали молчаливо и горестно расходиться по домам.
Музыкальная пауза.
Занавес
Сцена вторая
Горница в добротной избе Сусанина. Накрыт стол к крестьянскому ужину. Антонида, озабоченная и печальная, уносит кушанья за печку. Ваня снимает шубейку.
АНТОНИДА. Укройся, Ванюша, в светёлке.
ВАНЯ. Пойду. (Послушноуходит.)
АНТОНИДА. Что же с нами будет, горемычными?!
Подошёл отец.
ИВАН. Погоди, Антонидушка. Оставь на столе всё, как есть. И добавь кой-чего. Медовухи принеси. Зелена вина побольше… Сытый зверь всегда добреет.
АНТОНИДА (делает всё, что велит отец). Слушаю, родитель дорогой…
Вбежал СОБИНИН, сорвал со стены самопал. Пришёл с улицы ПРОЕЗЖИЙ, достал из-под шубы мушкет.
ПРОЕЗЖИЙ. Давай помогу. Почистим оружие на случай…
ИВАН. Не суетись, Богдан. И ты, гость дорогой, не мешай мне. Помалкивай.
АНТОНИДА (приносит братину с мёдом). Ох, как мне, батюшка, страшно!..
ОТЕЦ. Всё будет хорошо, дочка. И ты, Богдан, страху врагу не показывай. Любой лютости зверь остановится, когда ты смело на него идёшь, а не от него бежишь. Глядите веселей, дети!
БОГДАН. Не могу я так… Не могу! (Опять схватился за оружие.)
ИВАН. Не так встречать их надобно. Не с такой слабой силой. Отнесите мушкеты в закуток. Не шутите с огнём… Ступай, Богдан, ляхам навстречу. По-доброму попроси в избу гостей непрошенных.
БОГДАН. Так ведь измена, отец!..
Встретил строгий взгляд Сусанина, тяжко вздохнул и вышел из избы. Отец перешёл в светелку. Ванюша сидит в своём уголке, что-то вырезает из дерева и губами вроде как в рог трубит.
ИВАН. Что мастеришь, Ванюша?
ВАНЯ (сзадором). Саблю острую! На супостатов пойду.
ИВАН (с улыбкой). Эх ты, воин! У них-то, у ляхов, сабли-то звонкие, стальные, а не осиновые. Ложись-ка ты спать, сынок.
ВАНЯ (захныкал). Да не усну я, батюшка.
ИВАН. Ну, хоть прикинься спящим. Не попадайся зверью на глаза. Как бы не обидели… Я шубой тебя прикрою. Ты мне понадобишься скоро.
ВАНЯ. Ладно уж. Потерплю, коли так. (Полез под шубку вместе с деревянной саблей.)
За окном шум, топот. СУСАНИН погасил лучину и вернулся в горницу.
ИВАН. Идите к столу, дети. И ты, гостюшка, садись, угощайся. Ешьте, ешьте, как ни в чём не бывало.
БОГДАН. Не пойму! Зачем я эту нечисть позвал?
ПРОЕЗЖИЙ. Скажи, скажи, хозяин!
ИВАН. Я тебе, мил человек, отвечу пословицей. Плетью обуха не перешибёшь. Отогреются ляхи, насытятся, напьются и разговорятся. Тогда и поймём, как нам быть…
Вошел НАЧАЛЬНИК отряда. Обратился к подчинённым.
НАЧАЛЬНИК (с заметным акцентом). Отряд разместить по другим хатам. Я здесь становлюсь.
ПОМОЩНИК. Встать, холопы!
ИВАН. Мы свободные люди, не холопы.
НАЧАЛЬНИК (оглядел хозяев). Сидите… (Помощнику). Выставить караулы. Никого отсюда не выпускать.
ИВАН (с радушием). Пожалуйте, гости желанные. Просим откушать. Антонида, поднеси вина гостям почётным.
АНТОНИДА (подаёт ковш). Примите на здоровье.
НАЧАЛЬНИК (выпил). Такой приём мне по нраву. (/.\опил). Пригожая, ласковая у тебя дочка, словно наша паненка.
БОГДАН (вспылил). То не паненка, а жена моя!
НАЧАЛЬНИК (своим). Рассаживайтесь, Панове. Здесь мы как у себя дома. (Хозяину). Ты и есть здешний староста? Слыхал про тебя. А зятек твой горяч, словно конь необъезжанный!..
Подчинённые заржали, захохотали. НАЧАЛЬНИК принял от АНТОНИДЫ новую чашу и хотел поцеловать молодую хозяйку, пояснил:
– Такой у нас обычай.
ПРОЕЗЖИЙ (отстранил его). Отойдите, начальник. В хорошем дому находитесь. С вами по-людски обращаются. И вы людьми будьте.
НАЧАЛЬНИК (обозлился). Аты – кто таков?
ИВАН. Охотник из дальнего села. На ночлег напросился. Не гневайтесь на нас, пан начальник. Нам с вами делить нечего. Одного мы подданства с вами.
БОГДАН (вскочил). Чего-чего? Против своих идёшь, Иван Сусанин?
ИВАН. Сядь, Богдан. Скоро присягать будем королевичу Владиславу Сигизмундовичу.
БОГДАН. Кому-кому?!
ИВАН. Новому русскому царю. Многая ему лета!
НАЧАЛЬНИК (поперхнулся). Виват! Слава!
ПОДЧИНЁННЫЕ (подхватили). Виват!
Русские люди опустили головы.
ПРОЕЗЖИЙ (тихо Богдану). К чему он клонит, Иван Осипович?
НАЧАЛЬНИК (подсел к Ивану поближе). Чем, старина, промышляешь?
ИВАН. Звероловством перебиваюсь.
НАЧАЛЬНИК. Каких зверей больше бьёшь?
ИВАН. Всяких. Волков изничтожаем. А больше – куниц, горностаев выслеживаем.
НАЧАЛЬНИК. Королевские меха! (С жадностью). И меха дорогие в подполье есть?
ИВАН. Откуда пушнине быть? Всё до пушинки бояре за бесценок забирают. Налоги на земли велики. Скудно живём, Панове. Ждем царской милости.
БОГДАН. Какой такой милости?
ПРОЕЗЖИЙ. Мира ждём на Руси разорённой. Скажите, пан, добудем?
НАЧАЛЬНИК. Будет вам милость. Будет мир и спокойствие, коли царю Владиславу верными станете.
ИВАН. Будем служить царю нашему.
НАЧАЛЬНИК. Служи нам службу первую. Кажи путь короткий мимо Костромы, на Москву.
ИВАН. В Костроме ополчение наше сильное. Так вы наобум бредёте?..
НАЧАЛЬНИК. Хотим глухим лесом. Ты все места вокруг знаешь?
ИВАН. Покажу вам дорогу верную Проведу самым коротким путём. (Поглядывая в окошко). Кажись, пурга потише стала. Пойдёмте, паны!
НАЧАЛЬНИК (доставая кошелёк). Запомни, дед: изменишь – пуля. Хорошо послужишь – злотых дам. (Звенит монетами). Служи войску польскому, королевскому. Как это по-русски? При-вы-кай!
ИВАН. Дозвольте с домочадцами попрощаться и по хозяйству распорядиться.
НАЧАЛЬНИК. Прощевайся быстро. (Своему помощнику). Ничего в деревне не брать. Нас тут приняли как дорогих гостей. (Смеётся). Я верно говорю, дед?
ИВАН {молчит, потупя голову). НАЧАЛЬНИК выходит из избы вместе с ПОМОЩНИКОМ.
АНТОНИДА (встревоженно). Так куда ж ты собрался, батюшка? На верную погибель идёшь! (Плачет). Что с нами-то будет, родной?
ИВАН. Всё будет, как должно быть. Будь, Антони да, доброй женой Богдану. Ты, Богдан, береги жену свою. (Обнял их). Проводи, зятёк, проезжего человека до Костромы. Наведайся к воеводе. Укажи путь войску нашему к Исуповым болотам. Зверьё добивать.
БОГДАН (низко поклонился). Прости глупого Богдашку, батюшка. Сразу тебя не понял.
ПРОЕЗЖИЙ. Прости и меня, Иван Осипович. Худо подумал о тебе поначалу.
ИВАН (одеваясь). Ладно. Чего там… Слушай меня, Богдан. Москву напрочно обложило ополчение Минина и Пожарского. В капкане ляхи. В Кремле и в Тушинской лагере всех кошек и собак поели. Из Костромы пойдёшь в ополчение.
БОГДАН. Уйду, батюшка, уйду! Но за тобой приду с костромским отрядом.
АНТОНИДА. Я в дорогу мужа соберу, как ты велишь. А Ванюша, брат мой названный, не дождался прощания: уснул. Позвать? Или не будить?
ИВАН. Зови!
АНТОНИДА сразу привела заспанного мальчонку.
ВАНЯ (протирая глаза). Пойдём бить ляхов?
ИВАН. Собирайся, сынок. Только – в другую сторону. Чуть свет, седлай коня и лесной тропой скачи без передышки в посад. Дорогу знаешь?
ВАНЯ (оживился). В крепость? Найду! А что сказать страже?
ИВАН. Не сказать, а сопроводить стражу в Исуповы болота, в наши потаённые места.
ВАНЯ. К двум соснам? Знаю! Только бы… не заблудиться.
ИВАН. Я метки ставить буду на деревьях. Понял?
ВАНЯ. Найду! Вместе капканы ставили. Приведу тебе, отец, подмогу! (Взмахнул своей саблей.)
ИВАН. Деревяшку дома оставь. (Сулыбкой обнял сына). В путь, вояка!
ГОЛОС (снаружи). Эй, старик, пора!
Световая пауза
ВЕДУЩИЙ. Что было дальше? Повел Сусанин врагов лесом дремучим, к непроходимым болотам. Долго шёл он впереди отряда панского. Кружным путём вёл. Хотел утомить, измотать силы врагов. По пути метки ставил. То ветку надломит, то рукавицу подвесит. Нашим воинам верную дорогу указывал… Но подмога всё не шла и не шла. Отчего же?..
Занавес
Сцена третья
Звучит мелодия арии ВАНИ из оперы Глинки «Иван Сусанин». С седлом на плечах ВАНЯ отчаянно стучится в ворота посада.
ВАНЯ. Отворите! Отворите!.. Не слышит стража. Так сильно воет ветер. Что делать? (Снова стучит и стучит). Отворите! (Молчание). Буду карабкаться. (Бросает седло. Пытается перелезть через ограду. Срывается, падает. Снова поднимается. Цепляется замёрзшими руками за суковатые брёвна.)
Поворот круга. Наконец ВАНЯ спрыгнул на землю по ту сторону ограды. Упал, но не ушибся. И сразу попал в руки СТРАЖНИКА.
СТРАЖНИК. Стой!.. Тревога! (Выстрел.)
ВАНЯ. Я не бегу дяденька. Я к вам иду.
СТРАЖ. Откуда? Не соглядатай?
ВАНЯ. Из Деревенек. От старосты домнинского, отца моего. Веди меня к старшому.
СТРАЖ. Погоди, малец. (Переспросил). От кого?
ВАНЯ. От Ивана Сусанина.
СТРАЖ. Знаю такого. Зачем послал?
ВАНЯ. За подмогой. Там ляхи… Дяденька, зови своих. Я поведу вас.
СТРАЖ. Объясни толком. Как ты сюда попал?
ВАНЯ. Беда со мной приключилась. Конь долго-долго скакал. В темноте о пень споткнулся. Я из седла выпал в сугроб.
СТРАЖ. А конь?
ВАНЯ. Потом скажу, дяденька. Батюшка ждёт. Худо ему там.
СТРАЖ. Говори, где конь?
ВАНЯ (в слезах). Напоролся грудью на острый сук. Замертво упал. Весь в крови…
СТРАЖ. А ты?
ВАНЯ. Взял седло на плечи и пешим ходом – к вам, в посад. Долго шёл. В снегу утопал, замёрз. Поскорей, дяденька!
СТРАЖ. Ну, пойдём, бедняга. Будем будить старшого.
ВАНЯ. Скорей, скорей!
Затемнение
ВЕДУЩИЙ. Долго расспрашивал Ваню старшина отряда. Долго будили стражу. А время шло и шло… И в городе воевода не спешил. Долго отряд собирал… Остался Сусанин в лесу один на один с вражеским начальником: вояки поотстали, утомились, продрогли…
Сцена четвертая
В музыке – отголоски арии Сусанина «Чуют правду». Пригорок. Две сосны. Возвышается фигура Ивана-богатыря. Старик стоит с непокрытой головой. Рукой указывает на землю. Всё как на картине А. Баранова «Герой Земли Русской». В стороне —
ВЕДУЩИЙ. Наши поэты так прославляли подвиг Ивана Сусанина: «Кто русский по сердцу, тот бодро и смело, и радостно гибнет за правое дело…». В уста действующих лиц мы вложили слова поэта-революционера Кондратия Рылеева. (Уходит в темноту. При свете оживает картина).
НАЧАЛЬНИК. Где мы? Тут лес, лес… Нет путь! Умрёшь! Саблями порубим!
ИВАН. Нет, вражья сила! Так просто русские не сдаются! (Вздымая в воздух тяжелую дубину.)
НАЧАЛЬНИК (поднимая пистолет и прицеливаясь). Моя пуля – тебе!
Гремит выстрел. СУСАНИН падает на снег и замирает, но через мгновение из последних сил поднимает голову.
ИВАН. И вы погибнете тут, звери! И вам – конец…
Занавес
Сцена пятая
ВЕДУЩИЙ (перед занавесом). Такова истинная правда. Потом и кривда появилась. Разведал всю правду тот же Проезжий человек. Звали его Ильёй. Жил он под старость в Нижнем Новгороде, не раз встречался с престарелым уже Кузьмой Мининым.
Вид на Нижегородский кремль с откоса. На поваленном дереве сидят и разговор ведут ИЛЬЯ и КУЗЬМА МИНИН.
КУЗЬМА МИНИН. Что ты думаешь об Иване Сусанине, Илья? Ведь ты знал его…
ИЛЬЯ. Всё, можно сказать, было на моих глазах. Ну, кроме лесного похода, понятное дело. Отдал жизнь за народ наш Сусанин!
КУЗЬМА МИНИН. А ведь дело по-другому повернулось! Говорят теперь всюду и везде, что отдал Сусанин свою жизнь… за царя!
ИЛЬЯ. Пустое говорят! Царю Михаилу Романову смерть Ивана-богатыря была без надобности. Ему и невдомёк было, что его спасает простой народ. Байку эту выдумали царёвы ближние люди.
КУЗЬМА. Бояре сказывали, будто мать Михаила Романова, монахиня Марфа, жила тогда в своём родовом имении, в домнинском дому. И будто ляхи там искали нового русского царя.
ИЛЬЯ. Для чего?
КУЗЬМА. Желали погубить его, Михаила, освободить московский престол для своего королевича Владислава.
ИЛЬЯ. Но для чего тогда шляхте понадобился такой умелый проводник, как зверолов Сусанин? Ведь от Деревенек до Домнина – каких-нибудь две версты! Дорога прямая, проезжая.
МИНИН. Не знаю, что и сказать…
ИЛЬЯ. А я знаю! Выдумка всё это! Чего Романовы не видали в такой глуши? Зачем им было хорониться в деревянной избе, в такое смутное время?
МИНИН. А где же, по-твоему, был Михаил?
ИЛЬЯ. Сам знаешь, Кузьма. Дожидался посольства боярского. На царство готовился. Дожидался, пока вы с Пожарским ляхов из Москвы погоните.
МИНИН (доволен). Так, так. Верно!
ИЛЬЯ. Но дожидался царь не в хилом сельском дому. Забыл? Ты сам меня посылал к нему! Михаил жил за крепкими стенами Ипатьевского монастыря.
МИНИН. Похоже на правду. Не взять мне в толк одного. Почему ляхи оказались рядом с Домнино, в Деревеньках?
ИЛЬЯ. Заблудились, говорю! О Михаиле и не думали. Для чего его изничтожать? Романовы-то ладили с ляхами!
МИНИН (испуганно). Да ты что? Ещё услышит кто!..
ИЛЬЯ (спокойно). Вот так-то, так… Ведь отец царя Михаила, митрополит Филарет, служил патриархом у Лжедимитрия Второго, у Тушинского вора. Было такое?
МИНИН (вспоминая). Бывал, бывал боярин Романов в Тушино. Только – не по церковной службе. Вёл переговоры.
ИЛЬЯ (усмехнулся). Обманул вас боярин преподобный. Мало того. Ведомо ли тебе, где был старый Романов в тот час, когда королевские отряды по Руси рыскали?
МИНИН (сознался). Не припомню.
ИЛЬЯ (торжествуя). У короля Сигизмунда в Варшаве гостил! О своих владениях хлопотал. Было такое?..
МИНИН (смущённо). Да… Ну, да ведь была выдана почётная грамота детям Сусанина за спасение царя Михаила!
ИЛЬЯ. Была! Зятю Ивана Богдану и дочери Антониде царь пожаловал полдеревни Деревеньки.
МИНИН. Вот видишь? Не зря, стало быть.
ИЛЬЯ. Так за подвиг же ратный! За уничтожение врагов. Таков был указ. А на числа вы смотрели? Иван принял смерть в двенадцатом году, а грамота – от девятнадцатого! На что ушло шесть лет, а?..
МИНИН (засомневался). Да… Дума боярская нетороплива.
ИЛЬЯ. Больше скажу. Царь освободил от подати земли наследников Ивана.
А зачем?
КУЗЬМ. Зачем?
ИЛЬЯ. Поиграть с мужиками понадобилось. Опору искали в народе. Русь-де мужицкая!
МИНИН. Так, так… Ну и что?
ИЛЬЯ. Ли нет! Поиграли Романовы с мужиками, поиграли да и забросили это дело, когда в силу вошли.
КУЗЬМА. То есть как это бросили? Ты докажи!
ИЛЬЯ. И докажу! Потружусь ради славы Сусанина.
МИНИН. То есть как это – потружусь?..
ИЛЬЯ (решился). Снова схожу в Костромские края.
Затемнение
Сцена шестая
В музыке – мотивы народной песни «Коробейник». На просцениуме —
ВЕДУЩИЙ. Заделался Илья коробейником. Ходил по сёлам, деревням с большим коробом за плечами. Мелкой торговлей для вида промышлял. Зашёл в памятную сусанинскую избу. В тот день Богдан и Антонида справляли свадьбу Ванюши…
Идёт занавес. В доме полно гостей. Женщины хором поют обрядовую песню, к медку прикладываются. Вошли новобрачные. Жених – рослый, красивый парень. Невеста – славная, миловидная соседка. Звучит величальная. Внезапно вошёл тучный —
МОНАХ. Мир дому сему!
АНТОНИДА (почтительно). Благословите, святой отец.
МОНАХ (строго). Нет вам моего благословения!
СОБИНИН (мгновенно вспылил). Кому нет благословения?
МОНАХ. Всему сусанинскому роду!
АНТОНИДА. Помилуйте! Отчего же?
МОНАХ. Дошли до матушки-боярыни слухи о бесовских речах ваших. Против воевод и бояр бунтуете! Царской милостью недовольны!
СОБИНИН. Была речь о беззаконных поборах. Наши земли обелены от податей. Зачем же шкуры с нас сдирать?
МОНАХ (взревел). Ах, так?! Нет вам места во владениях царствующего дома! Земли ваши будут пожалованы нашему монастырю Спаса на Новое.
БОГДАН. Как же это? А нас – куда же?
МОНАХ (вроде как смягчился). Земли у вас будут. Только не здесь, а за Волгой. На пустоши.
БОГДАН. Пропадем ведь в Заволжье на сухих песках!
МОНАХ. Государыня милостиво пожалует сусанинскому роду пустошь Коробово, запустынное селение. (Уходя). Собирайтесь и немедля! Всё ваше недвижимое имущество передайте нашей обители.
Световая пауза. Звучит унылое церковное песнопение. На просцениуме – снова
ВЕДУЩИЙ. Много ли, мало ли времени прошло, вернулся Илья домой. Опять повстречался с Мининым.
Тот же вид с откоса. То же место.
КУЗЬМА. Ну, как, встретил за Волгой потомков Ивана Сусанина?
ИЛЬЯ. Ни единого не осталось!
КУЗЬМА. Куда же подевались-то? Дети-то были у Богдана с Антонидой!
ИЛЬЯ (с печалью). Побывал я в Коробово. Никого не нашёл. По велению властей разогнали всех!
КУЗЬМА. Да за что же их… так?
ИЛЬЯ. Беспокойное племя! Не покорились господам. Оттого и затерялись сусанинцы без следа…
Затемнение.
ВЕДУЩИЙ. Нет, не сгинули Сусанины! Жив Иван-богатырь в песнях, в стихотворениях, в сказаниях, на картинах. Памятник ему воздвигли в Костроме…
На фоне кинокадров памятных сусанинских мест гремит могучий гимн «Славься!»
Занавес
Кострома-Москва, 1976
Н.Н. Сотников. Вокруг Сусанина
Строго документальным повествование об Иване Сусанине и его подвиге быть не может. Не поможет и метод перекрёстной проверки данных, который вполне применим, когда речь идёт об особах знатных, достойных включения в летописи, в государственные документы, в мемуары известных и влиятельных лиц (но это уже – преимущественно сфера действия века XIX, а у нас – век XVII). К тому же речь идёт о крестьянине, охотнике, хоть и старосте, но мужике, который своим статусом, своим бытом очень мало отличался от самых обыкновенных крестьян и мог бы затеряться в этом русском крестьянском море, если бы не совершил свой дивный подвиг. Во славу Отчизны своей, народа своего – отнюдь не во славу лишь распускающего свои ветви на родословном древе Романовых, отнюдь не самых именитых, самых древних и славных делами своими бояр.
А вот в народе сей дивный подвиг жил и живёт. О Сусанине и нынешние костромичи, особенно сельские, говорят как о человеке близком, родном, не только земляке по месту рождения и жительству, а как о земляке духовном.
Возникает целый ряд вопросов, не только не потерявших своей актуальности, но эту актуальность повышающих. Вопрос первый – в принципе бывали ли подобные подвиги у народа русского прежде в годины суровых испытаний, которые почти никогда не оставляли Русь, Россию? Несомненно. Враги, завоеватели, ЧУЖЕЗЕМЦЫ, которые всегда были ненавистны народу нашему, неизменно нуждались в проводниках. Кого принуждали силой, кто по духу своему был перемётчиком (особенно в то же самое начало века XVII), кто хитрил на благо Отчизны своей. Однако в памяти народной именно подвиг Сусанина сберёгся и стал нарицательным до времён совсем недавних – огненных лет Великой Отечественной войны.
Мне довелось быть редактором и организатором сборника публицистики «Огненные годы», который вышел в свет в Лениздате 30 лет назад в канун 40-летия великой Победы массовым тиражом. Мы с составителем сборника критиком и публицистом А. Я. Гребенщиковым были счастливы обнаружить сравнительно малоизвестный очерк Вячеслава Шишкова «Сусанины советской земли». Кто это, кто они? Матвей Кузьмин и Иван Иванов. Иванов – туляк, Кузьмин погружён в обстановку родного села, его окрестностей, а область Шишков не назвал. Может, тоже – Тульская. Внучёк Кузьмина, Петя, ну, почти Ваня из оперы «Иван Сусанин». Лучших учеников, в том числе и Петю, возили в Ленинград, где им посчастливилось оперу «Иван Сусанин» слушать. И вот сейчас, повторяя подвиг сусанинского Ванюши, он мчится к знакомому командиру партизанского отряда товарищу Горбунову, сам выполняет роль дозороного, видит ход боя, в котором полегло свыше двухсот пятидесяти врагов!
Иван Иванов тридцать немецких машин в болото зимнее заслал. Нароковой вопрос, ещё с памятной нам баллады Рылеева «Куда ты завёл нас?» Иванов отвечает: «В могилу завёл…». Пал он, сражённый сразу тремя пулями.
Разумеется, Шишков как писатель, летописец подвигов, не присутствовал во время этих роковых рейдов врагам на погибель, но он долго, неторопливо и обстоятельно беседовал с Петей, который к моменту знакомства с писателем уже осиротел и был на попечении всей деревни, живя по неделе в каждой семье. Шишков побывал в семье Иванова, познакомился с его соседями, которые в тот роковой вечер собрались за одним столом в гостеприимной избе старика. А дальше – так же как у Кузьмина, как у легендарного Ивана Сусанина: вламываются враги, требуют провожатого, короткие сборы… Решение принято. Но если Кузьмин успевает внуку дать задание, то Иванов остаётся со своим подвигом один на один. Скорее всего, восстановить картину последних минут в его жизни удалось позже, когда были обнаружены в лесу застрявшие в болотистых заледенелых водах фашистские грузовики и найдено тело героя. Да, Шишков не слышал последние слова Иванова: «Прощай, родимая земля. Будь во счастье!», но он слышал десятки, если не сотни, таких заклинаний на дорогах войны и творчески был вправе даже в документальном повествовании дать слово своему герою, одному во вражеском окружении.
Для нас особый интерес представляет такой факт: именно Сергей Городецкий, переосмысливший весь текст оперы «Иван Сусанин», в 1941 году написал стихотворение во славу Сусанина времён Великой Отечественной войны и посвящённое подвигу туляка Ивана Иванова: «У нас не один он, Иванов Иван», – завершает свою героическую поэму старейший русский поэт.
Погибнуть в военные годы можно было всегда и везде, но далеко не каждая смерть наших соотечественников была героической: кто-то сорвался с места по трусости, кто-то не выполнил правила техники безопасности при вождении транспорта или обращения с оружием, кого-то убило случайно во время обстрела и авианалета, кого-то сразила шальная пуля, кто-то не выдержал испытаний и произвёл выстрел в себя… Да, далеко не каждая смерть была геройской! Но наследники духовные Ивана Сусанина, оба – более чем преклонных годов, пали смертью храбрых, оставаясь людьми штатскими.
Вопрос второй – динамика отношения историков и идеологов к Ивану Сусанину? Мне довелось беседовать с выпускниками царских учебных заведений (гимназий и реальных училищ в разных городах, военных училищ, городских училищ, церковно-приходских школ), и могу с уверенностью сказать, что Иван Сусанин не упоминался ни на одном уроке, даже в самый канун празднования 300-летия Дома Романовых. Царское правительство и двор подвиг крестьянина, мужика, предали забвению.
Моему отцу на книжном развале в Москве однажды попалась без обложки и титульного листа брошюрка какого-то декадента, который пытался доказать, что такого рода поступок – признак нервной болезни и даже сумасшествия. Сравнительно недавно, в 70-е годы XX века, один автор в нашей открытой печати назвал воздушный таран советских лётчиков-истребителей «АЗИАТЧИНОЙ».
Да, воистину в истории несомненна перекличка высших проявлений духа и национального самосознания и самых низменных проявлений предательства – что у монархистов, что у символистов, что у диссидентов.
Нам памятен скандал начала 70-х годов XX века. В одной из публикаций на страницах журнала «Звезда», который уже тогда неуклонно переставал быть журналом красной звезды, публицист-деревенщик, действительно знаток сельского хозяйства (вспомним его книги «Русский чернозём», «О картошке», «Литовский дневник») Юрий Черниченко, не будучи историком и даже историческим публицистом, обронил весьма странные для нашего уха и взора слова: «А был ли вообще Иван Сусанин? Хроники Смутного времени его не упоминают». Очень характерное высказывание для будущего пропагандиста кулацко-фермерского хозяйства, «прораба перестройки», которому надо было не только унизить всё советское, но и всё, что дорого в памяти русского народа. Какие такие ХРОНИКИ? Летописи как таковые к тому времени почти сошли на нет. Могли быть только официальные, идущие от новорождённого двора, сообщения. Что Михаилу Романову, тем более сыну его Алексею до какого-то мужика!
Возвращаемся к исторической точности. Мой любимый автор, несомненно литературно одарённый историк профессор исторического факультета нашего университета Руслан Григорьевич Скрынников во время нашей с ним работы над однотомником «Далёкий век» в беседах со мной как своим редактором не раз обращался к теме трактовок того или иного исторического лица. Профессор подтверждал, что документальных данных о Сусанине ему встретить не довелось, но при этом неизменно подчёркивал, что народная молва, народная память была и остаётся ценнейшим источником раздумий и вдохновений.
И – последнее. Совсем недавно в связи с 400-летием так называемого Дома Романовых была предпринята попытка возобновления старой прежней редакции оперы Глинки, ещё не в переложении поэта Сергея Городецкого. Более того, было представление на площади у Петропавловского собора. Один мой знакомый, побывав на сём спектакле, заявил мне решительно: «Смотреть и слушать невозможно! Это СОВСЕМ ДРУГОЕ произведение. Недаром оно и названо было по-прежнему – “Жизнь за царя”! Вот что надобно современным монархистам и их прихлебателям!»
Время спихнуло в Лету это представление, выкрики хулителей Сусанина развеял ветер истории. А подвиг его вечен, как вечен и глубоко человечен этот крестьянин земли Костромской, Земли Русской.
Н.А. Сотников. Заявка на пьесу «Свидание в Горках, или Откровения великого сорванца»
«Дискуссия становится неотъемлемой и важнейшей частью современной драмы».
Бернард ШоуВ последнее время я как театральный критик и литературный педагог всё чаще обращаюсь к проблеме, связанной с диспутом, дискуссией на сцене. Диспут, конечно, короче, локальнее, дискуссия шире, глубже, продолжительнее. Это очевидно. Но не так, к сожалению, очевидны вопросы художественной практики. Далеко не каждая научная и тем более производственная проблемы могут лечь в основу драматургического произведения. Есть темы очень специальные, есть материал на грани натурализма (а натурализм – это не только голые тела и слишком обнажённый быт, но и демонстрация разного рода опытов, разрезов в металловедении, геологических обнажений, опытов над биологическими существами, демонстрация проб грунта и т. д.). Всё это даже в самых ограниченных пределах начинает за себя мстить, в чём я не раз убеждался, читая пьесы других своих учеников на драматургических семинарах, особенно зональных. Приходят в драматургию из разных областей знаний и проносят с собой не только позитивный опыт, но и тот, с которым потом начинают бороться редакторы и режиссёры.
Вспомним тему «соосности» (вопрос тракторной техники и эксплуатации), который выдвинула Галина Николаева (я с ней не раз спорил по этому поводу). Но и такой выдающийся мастер кино, как Пудовкин, который в фильме «Возвращение Василия Бортникова» «соосность» не преодолел. Никто не против «соосности» не выступает: это может быть дельная корреспонденция в газете, проблемная статья, даже проблемный очерк, но на сцене и на экране такие «оси» ломаются!
Вот большой мастер кинодраматургии Евгений Габрилович предостерёг себя от слишком большого погружения в производственно-экономическую проблему сибирского комбината в явно придуманной Берёзовке. На первый план справедливо вышел всё-таки человеческий фактор. Да и в фильме «Монолог» и физиологический опыт, и некая юношеская, ещё дореволюционная статья, которая требует своего продолжения, лишь обозначены.
В общем, волей-неволей мы вновь обращаемся к общеэстетической проблеме «Предмет искусства». От этой проблемы никуда не деться.
И всё-таки дискуссионность как таковая, да ещё по важнейшим вопросам истории, бытия, политики содержит в себе огромной силы драматургический заряд. Такую тему, которая отвечает этим требованиям, я нашёл.
Отправляясь в 1931 году в путешествие в СССР, драматург, критик и публицист Бернард Шоу в своем парадоксальном духе пригласил в спутники людей иного мира, иных взглядов, иных воззрений, иного стиля поведения. Миллионерша-консерватор депутат парламента Ненси Астор выполняла к тому же особую миссию. Зная о давних симпатиях «великого сорванца» (это выражение о себе самого Шоу) к первой в мире стране социализма, небезызвестный Уинстон Черчилль, потомок герцогов Мальборо, поручил своей соратнице «снижать восторги» глашатая нового общества, наводнившего западную прессу и эфир той поры выступлениями, восхвалявшими СССР. Такова конфликтная основа пьесы.
Возникает реальный повод для сопоставления двух визитов в СССР двух англичан – Герберта Уэллса и Бернарда Шоу. Если первый увидел прежде всего «Россию во мгле», то второй – «при свете яркого солнца идей Ленина».
Высказывания Шоу остры и парадоксальны. М. Горький, приветствуя Шоу в день его 75-летия в Москве, говорил о нём как о писателе, «осмеявшем буржуазный мир».
В моей пьесе применен кинематографический по преимуществу приём «наплывов», то есть на сцене наряду с основными действиями возникают микрофрагменты из пьес самого Шоу. Они как бы взывают к памяти если не зрителей, то во всяком случае читателей произведений замечательного драматурга.
Вторая острейшая проблема современной драматургии – документальность её. Мне невероятно повезло: имея репутацию не только очеркиста, пишущего о современном Ленинграде, но и краеведа, ученика историка города на Неве профессора Петра Николаевича Столпянского, я был включён в состав минимального круга лиц, которые принимали Шоу в Ленинграде. Затем Шоу и его «свита» отправились в Москву. В московских днях Шоу я участия уже не принимал, но у меня была возможность собрать документальные свидетельства об этих днях и существенно дополнить свои литературные ленинградские блокноты. Посему «придумано» немного. Некоторые сценки, высказывания, диалоги по степени документальности можно сравнить со стенографическими отчётами, которые в довоенном Ленинграде играли видную роль в писательской работе, а вот ныне они отошли не только на второй, но и на третий планы. А ведь микрофон, ведущий к магнитофону, сильнее отталкивает от себя собеседников, нежели сидящая где-то вдали почти незаметная труженица-стенографистка!
Итак, морской вокзал в Ленинграде. Причаливает комфортабельный английский пароход «Коринтия». По трапу быстрыми шагами сходит почтенный старик с большой бородой и видит плакат: «Привет блестящему мастеру драматурги Бернарду Шоу на советской земле!» Ленинградская писательская делегация во главе с Алексеем Николаевичем Толстым приветливо встречает гостей и прежде всего – самого Шоу. Сияющий Шоу (он не ожидал такого сердечного приёма!) пожимает руки и даёт краткое, но выразительное интервью. Вот подлинный текст Шоу: «Я с радостью вступаю на русскую землю. В России я хочу отпраздновать день своего, увы, семидесятипятилетия. Мне хотелось хоть перед смертью повидать страну надежд\ прежде чем я возвращусь в страны отчаяния…».
Здесь я обязан сделать важнейшую оговорку. Если через четыре года в 1935 году, принимая примерно такое же участие в приёме Ромена Роллана на ленинградской земле, я СМОГУ с ним общаться без переводчика, то английского языка я не знал вовсе и пользовался услугами НЕСКОЛЬКИХ переводчиков. Да, переводчик был по ряду причин не один, но как драматург я обязан этот момент иметь в виду и придумал образ МОЛЧАЩЕГО в ленинградских эпизодах переводчика: в Горках Надежда Константиновна Крупская и Мария Ильинична Ульянова могли говорить и говорили с Шоу то по-английски, то по-французски. Были и сопровождающие, но они в главное здание в Горках не входили и ожидали окончания визита поблизости. В пьесе этот момент не представлен, но Крупская и Ульянова впоследствии весьма подробно описали свои впечатления от беседы с Шоу в разговоре с народным комиссаром иностранных дел Литвиновым. Имелись и некоторые записи беседы в Горках. С фрагментами этих записей мне удалось познакомиться.
Так что моя пьеса – это не фантазии и вариации на избранную тему, а результат большой многолетней исследовательской работы.
Ещё на пирсе в Ленинграде Шоу метко охарактеризовал своих спутников: лорда и леди Астор, их сына Дэвида, сестру Ненси – американку Ирис, лорда Лотиена: «Пёстрая компания! Я – социалист, Асторы – консерваторы, Летиен называет себя либералом… Но все они невероятно богатые собственники. Это уже вина английского пролетариата, который не смог ещё освободить их от такого неудобного положения…» (Дословный текст!)
Так, буквально с первых же минут пребывания Шоу на ленинградской земле началась та дискуссия, которая будет протекать на протяжении всей пьесы.
Лично я вместе с гостями побывал, сопровождая их как основной гид по Ленинграду (были и другие гиды – на разных объектах) в Смольном, в Эрмитаже, в пушкинских садах Лицея, в пионерском лагере на Каменном острове, принял активное участие на писательском банкете в Европейской гостинице, где уже вовсю разгорелись жаркие споры и где так ярко проявился наступательный дух Шоу.
Второй акт моей пьесы – Москва и Горки. В Колонном зале в центре столицы юбиляра чествует А. В. Луначарский. Шоу провозглашает себя последователем учения Ленина и к ужасу своих английских спутников громит буржуазию.
Западная пресса пытается нанести контрудары, но Шоу назовёт их в отместку «старыми дуралеями» и напомнит всем о том, что ещё Октябрьский переворот он воспринял как спасение человечества от гибели, что когда английские власти пытались подавить пролетарскую революцию военной силой, он смело объявил во всеуслышанье: «Мы – социалисты, и мы на стороне русских!» Шоу доказал, что он всегда был и оставался другом СССР – и, провозглашая лозунг: «Руки прочь от России!» и участвуя в создании печатного органа Британской компартии – газеты «Дейли уоркер», о чём многие зрители узнают лишь к своему удивлению впервые.
В пьесе есть ещё один герой, главный герой, о котором говорят, который незримо присутствует всюду и везде. Это – Ленин, которого Шоу превозносил: «Я не сомневаюсь, что настанет время, когда и в Лондоне будет воздвигнут памятник Ленину]»
В своих полемических диалогах и монологах Шоу ведёт речь не только о политике, но о многих других сферах жизни и творчества. Под влиянием идей Октября он создал образы людей из народа: героини-пастушки Жанны, цветочницы Элизы из «Пигмалиона», шофёра, официанта. После поездки в СССР Шоу создал дискуссионную пьесу «Миллионерша», своего рода итог бесконечных и очень острых споров с леди Астор. В пьесе «Горько, но правда» он восхвалит нашу страну, названную им «Объединение Разумного Общества».
Чрезвычайно важно подчеркнуть, что Шоу ВСЮ жизнь учился у русских и у России: у музыковеда Улыбышева – теории музыкального искусства (напоминаю, что Шоу – музыкальный и театральный критик!), историк Чебышев по-новому осветил для Шоу историю английской литературы, в искусстве театра он брал заочные уроки у Станиславского, а искусству новой драматургии учился он у Чехова. Об этом мало кто сейчас помнит и знает.
Покидая СССР, Шоу будет твердить западным своим оппонентам «о плохо понятой ими России». Вот о том, как он постигал в нашей стране нашу страну, и пойдёт речь в предлагаемой вашему вниманию моей новой пьесе. Правда, вернее было бы сказать «последней редакции новой пьесы», так как я делал уже несколько «заходов»: то всё действие сосредотачивалось только в Горках, то переносилось в Лондон, то даже – только в полпредство СССР в Лондоне, появлялись новые герои, уходили со сцены герои прежние. И всё же я принял решение строго следовать такому важному событию в жизни Шоу, как его свидание с новым миром.
Новейший вариант пьесы готов, и я его могу представить сразу после одобрения заявки.
Н. А. Сотников
10 февраля 1976 года
Н. А. Сотников. Свидание в горках, или Откровения великого сорванца. Трагикомический диспут в двух частях
«И я нашёл в нём (в Луначарском. – Н. С.) не только партийца-коммуниста, но и нечто, что русские и только русские, могут мне дать: я имею в виду умение понять и оценить мои собственные драматические произведения с такой глубиной и с такой тонкостью, которую (я должен это признать) я никогда не втречал в Западной Европе».
(«Известия»; 19 июля 1931 года)«В своей речи в честь Ленина, которую Шоу произнёс для звукового фильма в Ленинграде, он сказал, что целый ряд цивилизаций рухнул и никто их не спас, – теперь же путь Ленина обещает спасение и переход к высшим формам».
Бернард Шоу. Речь в Колонном зале Дома Союзов 26 июля 1931 годаДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Бернард Шоу; английский драматург
Ненси Астор; член парламента
Николаев; ленинградский писатель и краевед[174]
Журналист одной из ленинградских газет
В эпизодах:
Лорд Астор; муж Ненси
Мисс Ирис; сестра Ненси
Дэвид; сын Ненси
Переводчик – увы; без него не обойтись; но если дать ему волю; то первое действие станет во много раз длиннее и вообще превратится в уроки английского языка. Посему Переводчика может играть и статист, которому предстоит сидеть или стоять вполоборота к зрителям, однако, к нему все будут безмолвно обращаться за языковой помощью.
В Москве и в Горках:
Надежда Константиновна Крупская
Мария Ильинична Ульянова
(Они с гостями могут изъясняться по-английски и по-французски)
Ожившие герои пьес Бернарда Шоу
(Предстанут перед зрителями и вскоре исчезнут):
Дьявол и Дон Жуан
Эпифания
Время действий – июль 1931 года
Пролог – немного позднее
Часть первая
Пролог
Уголок кабинета ШОУ в Эйотт-Сент-Аоуренс. Столик с пишущей машинкой, почти придвинутый к углу камина. На нём установлены скульптуры самого Шоу и Шекспира. Занавес открывается при стуке машинки. БЕРНАРД ШОУ дописал письмо и перечитывает его вслух.
ШОУ «13 августа 1931 года. В Рим. Моя дорогая Молли, неужели итальянские газеты изобразили дело так, будто я разочаровался в России и недоволен поездкой? Чудовищная ложь! В жизни своей я не получал от путешествия такого удовольствия. Я был принят там, как великий Старец социализма – улыбался, приветливо махал рукой, произносил речи… Всё это едва ли в вашем вкусе. Но именно это сделало наше пребывание в России особенно приятным. Взять вас с собой я всё равно бы не смог. В жизни вас больше всего интересуют наряды, в искусстве – секс, а наша поездка была предприятием политическим. И вы бы в ней не прижились. Должен кончать письмо. Мне нужно многое написать о новой России. Ваш Джордж Бернард Шоу».
Отложил письмо. Взял кипу газет, читает заголовки статей, усмехается.
Да, надо писать о плохо понятой России! (Листает). Как только меня не называют критики: «Апостол и шутник», «Шут и пророк», «Клоун или святой», «Арлекин или мудрец»… Даже «Джордж против Бернарда». Пожалуй, последнее – самое правильное. Противоречия естественны в душе у каждого человека. Но в одном – Джорджа и Бернарда не поссорить! Здесь мы едины. Нельзя поссорить меня с Советским Союзом, никак нельзя! Глупо подвергать мои глубокие, постоянные симпатии к этой стране сомнению…
Возвращается к машинке, делает новую закладку и продолжает писать, проговаривая написанное.
Я напишу в «Таймс», в «Дейли Ньюс», в «Нейшн» и обязательно в «Манчестер гардиан», которая напечатала мои, другими газетами, отвергнутые статьи. Ничто, кроме смерти, не заставит меня умолкнуть. Я всегда буду восхвалять новую Россию, буду обрушиваться на всех и вся за несогласие с советским пониманием демократии…
Стучит пишущая машинка. Звучит музыка. На сцену врывается пароходный гудок. Идёт занавес.
Сцена первая
Над просторами Балтики гулко разносятся гудки. У пристани промелькнул английский флаг «Унион Джек». Возникает надпись на корме причалившего в Морском вокзале Ленинграда корабля: «Коринтия». Спущен трап. Быстрыми шагами сходит на набережную маститый старец с большой седой бородой. На нём дорожная куртка, брюки «гольф». Он улыбается, машет рукой при виде алого плаката: «Привет блистательному мастеру драматургии, патриарху европейского театра Бернарду Шоу, привет на русской земле!» Гостя встречают ленинградские писатели, журналисты. Аплодисменты, приветствия.
НИКОЛАЕВ. Мы от всей души приветствуем прославленного коллегу в нашем городе Ленина. Здравствуйте, мистер Шоу!
ШОУ (пожимает руки). Нет, я не мистер Шоу. Я товарищ Шоу! Товарищ Шоусский, как прозвали меня в Англии за мою приверженность к вашей стране.
НИКОЛАЕВ. Мы необыкновенно рады вас видеть…
ШОУ (с улыбкой). Аразве могло быть иначе?
НИКОЛАЕВ. С вами так интересно, весело говорить.
ШОУ А если говорить серьёзно, то СССР интересует меня больше, чем какое-либо другое государство в мире, включая и моё!
НИКОЛАЕВ. Мы очень благодарны вам за внимание и любовь к СССР. Это очень важно для нас. Об этом должны узнать многие.
ЖУРНАЛИСТ. Не согласитесь ли вы дать короткое интервью?
ШОУ Сейчас? Здесь? На пристани?.. Вы нетерпеливы, дорогой коллега. Как это у вас говорят? Хватать быков за рогов? Мне это нравится. Согласен. Пишите… Меня называют старым трамваем, который не изменяет своим рельсам…
ЖУРНАЛИСТ. Простите, что вы хотели этим сказать?
ШОУ Я не люблю путешествий. Они отрывают от работы. Всё же я собрал свой саквояж и выехал в Россию. Я должен был явиться сюда именно сейчас…
ЖУРНАЛИСТ. Позвольте уточнить: почему – сейчас? В тридцать первом году?
ШОУ Прошу вспомнить, как настойчиво и неоднократно приглашал мистер Ленин Герберта Уэллса приехать к вам через десять лет. Я хотел приехать вместе с ним, но он оказался в Америке. Правда, он предупреждал друзей, чтобы они не обращали внимания на его странности…
ЖУРНАЛИСТ. У вас есть разногласия с вашим другом Уэллсом?
ШОУ Мой друг Уэллс не способен понять ваш революционный переворот. Не поэтому ли он увидел Россию во мгле?! Не прислушался к совету Ленина. Надо посмотреть на неё при свете ясного солнца его идей! Я с радостью вступаю на русскую землю, о чём давно мечтал. Мне говорили: Ленинград – хмурый город, с туманами, подобными лондонским, а я вижу столько света, улыбок! Я рад, что хоть перед смертью увижу первую социалистическую страну в мире, страну моих надежд.
Встречающие зааплодировали. По трапу начали спускаться на берег изысканные леди и джентльмены. С вершины трапа послышался женский голос.
ЛЕДИ АСТОР (с укоризной). Дебеша-а-а… Что он говорит?!
ЖУРНАЛИСТ. Это вам говорят, мистер Шоу? Странное имя.
ШОУ Когда леди Астор недовольна мной, она называет меня по первым буквам, сокращенно, как принято у вас: «Дбша» – Джордж Бернард-Шоу, хотя наши буквы иначе называются: джи-би-эс. Слышите, как это неблагозвучно? Я всегда боролся за усовершенствование нашего произношения. Оттого свою пьесу «Пигмалион» посвятил фонетике… Это мои спутники (жест рукой), люди совсем иного толка: Уолдорф Астор, лорд, виконт, он не англичанин, а сын американского миллионера. Принял британское подданство. Ровесник своей жены, ему пятьдесят два года. Вот она – виконтесса, леди Ненси Астор… Вот идёт лорд Лотиен, ему под семьдесят, вскоре займёт министерский пост… А это – сынок Асторов – Дэвид, совсем юнец. Рядом его родная тётушка, сестра Ненси, миссис Ирис… Впрочем, они статисты в том представлении, которое разыгрывается перед вами. Лишь леди Астор будет принадлежать заметная роль…
Гости чинно поздоровались с встречающими и отошли в сторону, оглядывая гавань. ШОУ понизил тон.
Все Асторы – консерваторы. Лотиен называет себя либералом. Разумеется, я социалист. Пёстрая компания! Все они невероятно богатые собственники. Например, миссис Ирис миллиардерша. Полюбуйтесь редким зрелищем. В том, что они ещё существуют на свете, виноват наш пролетариат: не смог освободить их от обременительного положения…
НИКОЛАЕВ. Нас весьма радует встреча с вами, с величайшим из ныне живущих мастеров слова.
ШОУ Мода на мои писания сейчас в разгаре. Я поспешил к вам, пока она не угасла, чтобы высказать всё, что я думаю о вас.
НИКОЛАЕВ. Это хорошо, что у вас хватило сил, чтобы переступить порог нового мира.
ШОУ Я здесь! Я с вами. Как видите, – хватило!
НИКОЛАЕВ. Спасибо. Мы хотим, чтобы вы как можно лучше провели время в нашем городе. Вот я – ваш гид. Увлекаюсь темой «Петербург – Петроград– Ленинград».
ШОУ Отлично! (Принимает условия игры). Но я хотел бы начать с Петрограда. (Заглянул в книжечку). Таврический, Смольный, Дворец Кшесинской, дом на Широкой стрит, улице…
НИКОЛАЕВ. Понимаю. Вы хотите прежде всего видеть всё то, что связано с темой «Ленин в октябре».
ШОУ Разумеется. А в Петербурге меня интересует один дом, тот дом, где жила Софья Перовская. На русской земле у меня уже есть свои святыни. Я много думал об этой русской мужественной женщине.
НИКОЛАЕВ. Хорошо. Ну, а в Ленинграде?
ШОУ В Ленинграде я хотел бы увидеть рабочих на заводе, детей в яслях, юных пионеров…
НИКОЛАЕВ. А потом?
ШОУ Ну, а потом пойдут традиционные маршруты для туристов: дворцы, памятники, музеи… И Нева! Говорят, ваша Нева – это две Темзы! И обязательно – город Пушкина: «Волшебные сады, где я живу душой…»
НИКОЛАЕВ. Благодарим вас за внимание к нашей истории, литературе. Ваш гид будет и вашим летописцем. Постараюсь осветить в печати пребывание Бернарда Шоу в нашем городе.
ШОУ О Шоу написаны книги, сотни статей… Шоу – беллетрист, хотя моя репутация у читателей падала с каждым новым романом. Только Фридрих Энгельс поддержал меня: «Шоу парадоксальный беллерист, но слабый экономист и политик». Вот тогда я и занялся политикой. А когда сложился мой образ мыслей, начала складываться и моя биография. Писали о Шоу как о музыкальном критике. Шоу – театральный критик. Писали как о режиссёре, даже называли меня «ирландским Станиславским». Больше всего написано о Шоу-драматурге. (Смеётся). Простите старика. Я немного расхвастался. Однако никому не пришло в голову раскрыть тему – Шоу как революционер, Шоу как социалист!
ЛЕДИ АСТОР (в стороне). О, боже!.. Это ужасно!
ШОУ И если бы вы отважились это написать, я бы провозгласил в вашу честь троекратное «Ура!»
Сцена вторая
Часть салона в гостинице «Европейская» с окном, выходящим на Невский проспект. Прерывистые звонки телефона. Появляется леди АСТОР в нарядном пеньюаре, берет трубку.
ACTО Р. Хэлло – у-у!
ГОЛОС ТЕЛЕФОНИСТКИ. Товарищ Астор?
АСТОР (возмущённо). Леди Астор!
ГОЛОС. Всё равно. Заказывали Лондон? Соединяю.
ACT О Р. Хэлло – у-у!
ГОЛОС (мужской). Доброе утр о, миледи.
АСТОР. О, мистер Чер…
ГОЛОС. Обойдёмся без фамилий.
АСТОР. Понимаю. Буду называть вас… мистер Икс.
ГОЛОС. К делу к делу Ненси. Вы читали вчерашние газеты?
АСТОР. Ах, этот Шоу! Неистовый балагур. Наговорил бог знает что: «Новые люди… Небывалый переворот…».
ГОЛОС. Зачем нам это?..
АСТОР. Стараюсь сдерживать, отвлекать. Сегодня как будто спокойный день. Мы приглашены на приём к Алексею Толстому.
ГОЛОС (строго). Куда?! К кому?!
АСТОР. К графу Толстому. Говорят, он – светский человек.
ГОЛОС. Вы наивны, миссис. Надо расстроить этот план!
АСТОР. Помешать Шоу? Все мои доводы будут отвергнуты.
ГОЛОС. Это опасная встреча.
АСТОР. Как же быть? Просто не знаю.
ГОЛОС. Выполнять свою миссию.
АСТОР. Я буду стараться, мистер… Икс. Важно, чтобы и наши газетчики не дремали.
ГОЛОС. Хорошо, хорошо. Будем говорить о вас. Каким способом вы хотите отвлечь старика от наших неистовых врагов?
АСТОР. Ну, в этом мне поможет испытанный способ… (Бросила трубку\ увидев входящего ШОУ).
ШОУ Я так и знал! Миледи в неглиже, а тележка с яблоками уже у порога…
АСТОР (в тон). И в ней полно шуток и острот мастера парадокса? Я помню вашу симпатичную пьеску «Тележка с яблоками», но я не помню, что означает это выражение.
ШОУ Ну, расстроить чьи-нибудь планы, устроить неприятность, переполох. Бросить камень в стоячую воду!
АСТОР. Всё – вверх дном? Вы раздумали и не поедете на обед к вашим собратьям по перу?
ШОУ Ехать никуда не нужно. Приём будет здесь же, в отеле «Европа», в летнем ресторане на крыше. Я мог бы завтракать с ними, обедать, ужинать, пить чай… Так хочется побыть с друзьями подольше. Жалею вас, Ненси. Вы не увидите самых интересных людей из тех, кого можно увидеть в Ленинграде.
АСТОР. Э, нет! Я не оставлю вас в одиночестве, мой дорогой ненадежный мальчик с большой седой бородой. Я пойду на этот приём!
ШОУ Гм… А ваши светские прогулки, магазины?..
АСТОР. Здесь нет людей нашего круга, а лучшие магазины закрыты. А там будет граф, хотя и не настоящий.
ШОУ Вы ошибаетесь, миледи. Алексей Николаевич Толстой настоящий граф, хотя и… красный.
АСТОР. Парадокс в стиле Шоу? Красный граф. Великолепно!
ШОУ Нет, это истинная правда. В Лондоне вы могли бы увидеть и родовитого русского князя.
АСТОР. Из этих… белых эмигрантов?
ШОУ Нет, в советском полпредстве в Англии.
АСТОР. Не острите, Дебеша. Мне ясно отношение Советов к титулованным особам. Они всех их ликвидировали!
ШОУ О вашем политическом перевоспитании я ещё подумаю. А князь Кугушев богат и родовит, но с юных лет с большевиками. Все доходы с его имений шли в кассу партии. Сам он вёл пропаганду идей марксизма среди рабочих, сидел в царской тюрьме.
АСТОР. Нет, вы серьёзно? Любопытный персонаж для фарса из великосветской жизни. Но кто же этот ваш красный граф?
ШОУ Алексей Толстой хороший писатель, драматург. В Ленинграде он возглавляет Федерацию советских писателей.
АСТОР. Очевидно, я встану из-за его стола впроголодь?
ШОУ Довольно, Ненси, веселить людей. Вспомните, что было в Лондоне, когда вы рискнули отправиться в социалистическую страну. Ваши рыдающие родные цеплялись за вас и умоляли не рисковать своей жизнью. Наделили вас громадными корзинами с продовольствием, чтобы вы не умерли с голоду вместе с упитанным супругом и пухлым сыночком. (Хохочет). Собрали для вас постельные принадлежности, даже наделили вас палаткой, чтобы был кров над вашими головами в центре Москвы или Ленинграда.
АСТОР. Ну, знаете…
ШОУ Интересно, как вы поступите с вашими запасами консервов и копчёностей? Не станете же вы позорить себя, выбрасывая пакеты из окна отеля.
АСТОР (растерялась). Не знаю…
ШОУ Советую раздарить их прислуге, если они поверят вам, что провизия не протухла окончательно. Видите вон ту вывеску?
ACTOP. «Торг-сын». Что это? Это по-китайски?
ШОУ Сокращённо по-русски: «Торговля с иностранцами». Там в продаже такие деликатесы!..
ACTOP. Всё это так неожиданно: граф, деликатесы… (Уходя). Я быстро переоденусь, ждите.
ШОУ (один). Они хотят опрокинуть мою тележку с яблоками. Наивно! Англичане ведут себя подобно людям, которых душит кошмар, а они не в силах проснуться… Проснитесь и поймёте! Нелепость буржуазного строя не может просуществовать слишком долго…
АСТОР (вернулась). Что вы там бормотали, сэр?
ШОУ Утром, пока вы нежились в постели, я побывал на улицах.
АСТОР (у зеркала). Ну и что?
ШОУ Я видел лица прохожих. Это вам не хмурая лондонская толпа, озабоченная погоней за Грошевым заработком.
АСТОР. Кто же их кормит?
ШОУ Русский рабочий зарабатывает не жалкий нищенский корм, как было прежде, – он «зарабатывает своё государство»! Это слова Горького. В русском человеке пробудилось чувство собственного достоинства. С наилюбезнейшим видом он посылает нас и наши порядки ко всем чертям!
АСТОР. Неудачная шутка, Дебеша. Пора идти.
ШОУ Говорить людям правду – это и есть самая смешная шутка на свете.
АСТОР (прихорашивается). Опять ваше шутовство?
ШОУ Колпак шута дороже мне короны[175]. Всей душой я с простыми людьми.
АСТОР. Откуда это видно?
ШОУ Вспомните хотя б мою Жанну ДАрк…
АСТОР. Вашу святую… революционерку? (Рассмеялась.)
ШОУ Я рассказал в своей пьесе без прикрас, как было дело. Изложил факты. Взял документы подлинного суда и лишь научил пастушку говорить со сцены…
Гаснет на мгновение свет. Где-то в стороне, в луче – ЖАННА. Идёт, как говорят в кино, наплыв.
ЖАННА. В хлебе нет для меня скорби и в воде нет горести. Но запрятать меня в каменный мешок, чтобы я не видела солнца, полей и цветов, сковать мне ноги, чтобы никогда уже не пришлось мне проскакать по дороге верхом вместе с солдатами или взбежать на холм, заставить меня в тёмном углу дышать плесенью и гнилью, отнять у меня всё, что помогало мне сохранить в сердце любовь к богу, когда из-за вашей злобы и глупости я готова была его возненавидеть, – да это хуже, чем та печь в Библии, которую семь раз раскаляли огнём! Я согласна: пусть у меня возьмут моего боевого коня, пусть я буду путаться в юбках, пусть мимо проедут рыцари и солдаты с трубами и знамёнами, а я буду только смотреть им вслед в толпе других женщин. Лишь бы мне слышать, как ветер шумит в верхушках деревьев, как заливается жаворонок в сияющем весеннем небе, как блеют ягнята свежим морозным утром, как звенят мои милые, милые колокола… Без этого я не могу жить. И раз вы способны, святые отцы, отнять всё это у меня или у другого человеческого существа, то теперь я твёрдо знаю, что вас совет от дьявола, а мой – от бога!
Смена света.
АСТОР. Вы всё путаете, сэр. Какой же социализм с… богом?
ШОУ Вы ничего не поняли, миледи. Человек жаждет свободы!
АСТОР. Ваш социализм медлительный и для нас совсем не страшный. Я бы сказала – удобный социализм.
ШОУ Однако, как выяснилось, и такого моего социализма достаточно, чтобы повергнуть в ужас буржуазию Лондона.
АСТОР. Вы преувеличиваете, сэр. Мы вас не боимся!
ШОУ Вы плохой диалектик, Ненси. Я был последователем пассивного социализма, но прошли годы, и я стал тем, кто я есть. Поэтому Шоу здесь, в стране, которой принадлежит разумное будущее. (Подает даме руку). Пойдёмте в будущее, миледи!
Сцена третья
ШОУ и АСТОР в ресторане. В углу под пальмой их встречает НИКОЛАЕВ.
НИКОЛАЕВ. Приветствую вас, госпожа Астор… мистер Шоу. Присаживайтесь, пожалуйста. Отсюда открывается превосходный вид.
ШОУ (смотрит в бинокль). Шпили, башни, колоннады. Прекрасно!
НИКОЛАЕВ. Самая молодая из европейских столиц. Город, созданный по единому плану.
ШОУ Об этом я ни от кого не слышал.
НИКОЛАЕВ. Что вы успели у нас увидеть?
ШОУ У вас есть, что показать. Даже не выходя из отеля, мы смогли в этом убедиться. Мои спутники, ожидавшие увидеть всюду только секретных агентов, встретили немало иностранцев, ищущих контактов с вами. Не правда ли, Ненси?
АСТОР. Вы забыли сказать, что нас пытались удушить!
НИКОЛАЕВ. Удушить?!
ШОУ Э! Наш лифт застрял между этажами.
НИКОЛАЕВ. Ах, вот в чём дело! Извините.
ШОУ Лифты портятся и в Лондоне, миледи. Вы догадываетесь, что здешние впечатления Шоу и Астор разнятся между собой. Для леди, например, благосостояние страны определяется изысканно одетыми господами, проплывающими в роллс-ройсах мимо сияющих витрин.
АСТОР. А здесь витрины тёмные. Многие магазины закрыты.
ШОУ Однако это не помешало вам провести уйму времени именно в магазинах на Невском проспекте.
АСТОР (вздохнула). Трудно было подыскать что-либо подходящее. Произведения искусства никак не рекламируются. Здесь не знают цены этим сокровищам, конфискованным у богачей.
ШОУ Не конфискованным, а национализированным. Они возвращены тем, кто их создавал. (Обращаясь к Николаеву). Мне понравились продавцы. Они смотрят на ваш приход как на дружеский визит. Не проявляют ни малейшего коммерческого ажиотажа. Вещи продаются по твёрдым ценам, без спекулятивной надбавки. Что может быть заманчивей для западной миллионерши? (Обращаясь к Астор). Вам следовало бы, леди, переселиться в СССР.
АСТОР. Мне?! В СССР? Жить в стране, где нет уважения к частной собственности?!
ШОУ Россия – друг простых людей, каким и я был в молодости.
АСТОР. Мистер Шоу, вы по своему обыкновению увлеклись. Все знают, что ивы… полумиллионер.
ШОУ Все знают, что это деньги моей жены Шарлотты, вашей подруги. Я к ним не прикасаюсь. Она их тратит на увековечивание моей памяти. Вы видели в Эрмитаже бюст Вольтера работы Родена? Роден лепил и меня, совершенно незаслуженно. Я видел памятник «Пугалу», то есть Александру Третьему, работы Паоло Трубецкого. Трубецкой лепил и меня, хотя я ещё не покойник. Бюсты стоят на моём камине, и никто на них не смотрит.
АСТОР. Не понимаю, зачем вы об этом рассказываете!
ШОУ Я хочу, чтобы в СССР знали обо мне всю правду.
НИКОЛАЕВ. Вы говорили о ваших первых впечатлениях…
ШОУ Я с радостью наблюдал: лица людей не омрачены постоянным поиском заработка. Нет безработных!
АСТОР. Не преувеличивайте. Они нуждаются в самом необходимом!
ШОУ Дело наживное, как говорят русские. Меня восхищает размах, с каким они расчищают страну от вековых завалов.
АСТОР. Но вы-то здесь причём? Вы – человек Запада!
ШОУ Я ненавижу нищету! Величайшим проклятьем современного буржуазного общества я считаю бедность. Я всегда её ненавидел и страстно желал её уничтожения. Главной темой моей новой пьесы «Горько, но правда» станет проклятье богатству! Какими жалкими показались мне потуги моих «друзей» в кавычках заставить меня замолчать только потому, что я хочу изменить мир к луч-
тему, что я предвидел величие и мощь Советского Союза с самого начала. Лучше всех сказал об этом умница Луначарский: «Шоу все же пробил бегемотову кожу своих противников и заставил говорить повсюду не только о себе, но и о своих идеях…». Я готов отдать жизнь за искоренение бедности на веки вечные!
ACTOP. Не понимаю, откуда это у вас?
ШОУ Я люблю людей! Лев Толстой называл капиталистический строй рабством нашего времени.
НИКОЛАЕВ. Как это не похоже на то, что говорил и писал ваш коллега Герберт Уэллс!
ШОУ Я попытаюсь уговорить Уэллса вновь побывать в СССР…
В глубине сцены, за пальмами раздались аплодисменты, возгласы: «Браво, Шоу!»
НИКОЛАЕВ. Все собрались. Вас приглашают к столу.
ШОУ Я не охотник до банкетов. Мне трудно сидеть за одним столом с людьми, которые едят мясо убитых животных, туманят себе мозги одуряющими напитками и отправляют воздух грязным дымом сигар.
НИКОЛАЕВ. Мы об этом наслышаны. Вы – убеждённый вегетарианец.
ШОУ Таким был и ваш Лев Толстой.
НИКОЛАЕВ. Мы накрыли для вас особый стол, у вас будет особое меню, мистер Шоу.
ШОУ Благодарю! Русская еда пришлась мне по вкусу. Лучше гречневой каши я ничего не ел. Лучшей диеты, чем чёрный хлеб и… кислые щи, нельзя придумать. А изобилие свежих огурцов? Мечта!
НИКОЛАЕВ. Вы думаете, такой рацион может удержать на ногах такого высокого человека?
ШОУ Вы намекаете на то, что я тоньше своей тени? У меня есть утешение. В моей похоронной процессии не будет траурных экипажей, занятых равнодушными людьми. За гробом Шоу должны шествовать стада благодарных быков, баранов, свиней, топтаться домашняя птица, лететь дичь, а также двигаться передвижные аквариумы с рыбами, мною не съеденными. Если не считать процессии, направлявшейся в Ноев ковчег, то это будет самое жизнерадостное зрелище. (Обращается кАСТОР). Вашу руку, миссис людоедка!
Интермедия
Треск машинки на просцениуме. ШОУ пишет и говорит.
ШОУ Здесь в России я ощутил дыхание новой эпохи. Ход истории неумолим. Мир устал от крови, а большевики создают породу людей, способных ценить человеческую жизнь Никому не вернуть СССР ни к феодализму, ни к монархизму, ни к империализму. Всё это я предугадывал и писал свои пьесы с намерением привить всем мои убеждения. Я принимаю все упреки в сокрушении устоев. Ведь зачастую это были мои замаскированные триумфы…
К столику подошла леди АСТОР.
ACTOP. О чём вы толкуете, неугомонный, на этот раз?
ШОУ О моём театре идей пишу. Я согласен с Ирвингом: «Понять Бернарда Шоу – это значит понять во многом двадцатый век!»
ACTOP. Что же мы должны понять?
ШОУ А то, что Шоу первым начал борьбу за свободное обсуждение серьёзных социальных проблем на подмостках театра.
ACTOP. Но даже ваша умная жена Шарлотта видит главное достижение Шоу не в его пьесах, а в его статьях.
ШОУ Пропаганда многим по плечу, а мои пьесы никто другой написать бы не смог. Я питал жгучую ненависть к нашим порядкам, когда сочинял свои «неприятные» пьесы.
ACTOP. Сплошные разговоры!
ШОУ А вы назовите хотя бы одну пьесу, которая не была бы «сплошными разговорами»! Уж не балетов ли от меня ожидают?
ACTOP. Скажите, маэстро, зачем вы заговорили со мной об этом?
ШОУ Как зачем? Наши беседы помогают мне осмысливать статьи для лондонских газет. Вы содействуете распространению моих бунтарских идей, совсем того не желая.
ACTOP. Как это я «содействую»?!
ШОУ Истина рождается в дискуссиях!
ACTOP. Моё щетинистое божество, мой весёлый дед! Вы сохранили всю едкую весёлость своей неисчерпаемой молодости. Не хотите ли побыть хотя бы один час серьёзным? Пойдёмте в собор Николы Морского на торжественное богослужение.
ШОУ О, значит, вы убедились, что в России не притесняют религии? Напрасно! Библия есть ни что иное, как ворох самой проклятой лжи. Остерегайтесь, миледи, тех, кто на небесах!
АСТОР. Сегодня воскресенье. И мне не до шуток.
ШОУ Я серьёзен, как никогда. Если вы хотите быть истинной христианкой, то вы должны уверовать в советское общество.
АСТОР. В нём мне нечего делать!
ШОУ Вы правы, жизнь без деятельности – преступление. Я благословляю Ленина за то, что он ликвидировал в России безделье.
АСТОР. Опять политика?
ШОУ Пойдёмте лучше со мной на пресс-конференцию. Вы убедитесь, что моё искусство – всё та же политика. Только не пытайтесь опрокидывать мою тележку с яблоками, как бы ни настаивал на этом ваш кумир мистер Черчилль.
ACTOP. Он – великий человек!
ШОУ Зачем вы идеализируете посредственную личность вашего патрона? Может быть, потому что сами не хотите ворочать мозгами?
ACTOP. Это русские привили вам неуважение к этому великому человеку.
ШОУ Наоборот! У русских есть все основания испытывать к Черчиллю благодарное чувство. Он истратил более сотни миллионов фунтов стерлингов на вооружение контрреволюции, а всё это оружие досталось большевикам, когда они побили интервентов.
АСТОР. Вы перепрыгиваете через все рамки приличия. Уинстон Черчилль справедливо считал Шоу самым известным в мире клоуном.
ШОУ Знаете, что возразил на это Черчиллю мистер Ленин? «В буржуазном мире Шоу может быть и клоун для мещанства, но в революции его бы не приняли за клоуна». Верьте Ленину, миледи!
Луч на другой стороне сцены. По телефону говорит леди Астор, явно обеспокоенная.
АСТОР. Мои силы иссякают, мистер… Икс. Моя миссия мне уже в тягость. Вчера старик позволил себе замахнуться на авторитет мистера Черчилля. Эдак он поднимет руку и на трон?!
ГОЛОС (в трубке). Соберите в кулак всё ваше мужество, леди.
АСТОР. Парадокс в духе Шоу? Вот кто мужественно продолжает своё дело! Зависть берёт.
ГОЛОС. Что он намерен делать сегодня?
АСТОР. Шоу не торопится делиться со мной своими планами.
ГОЛОС. Выясняйте, сообщайте и пресекайте.
АСТОР. Я не знаю, что может остановить его мятежное перо?
ГОЛОС. Не привлечь ли к делу вашу подругу Шарлотту?
АСТОР. Нет! Она его боготворит, безликая супруга…
В дверях показался ШОУ Подхватил слова леди.
ШОУ Моя супруга Шарлотта? Она сочетается со мной так удачно, как яичница с ветчиной.
АСТОР (не услышала). Я устала. Мой мозг требует передышки. Пощадите! (Увидев Шоу, бросила трубку.)
ШОУ Передышки не будет. Сейчас мы поедем в пионерский лагерь на Острова. И пожалуйста, не расстраивайтесь из-за пустяков. Вы – разумная женщина. Вы даже энергичней многих дам вашего круга. Пожалуй, я напишу экстравагантную комедию о миллионерше. В моей героине люди легко узнают именно вас, несносная женщина, от которой кто-то требует мужества.
АСТОР. Не пора ли всем отдохнуть от ваших «неприятных» пьес?
ШОУ Что может быть хуже отдыха для старика? Вы хотите меня уморить?.. Вы готовы к поездке? (Молчание). Тогда я поеду вперёд. Догоняйте! (Ушёл.)
Затемнение. На просцениуме ШОУ и ACTOP. Она упала в кресло – разгорячённая, обмахивается веером.
ШОУ Не понимаю, Ненси, почему вы так панически бежали от детей? Не сказали мне ни слова.
ACTOP. Вы – что? Не слышали, что они закричали, когда мы вошли к ним в сад?
ШОУ Они требовали свободы для узников капитала. Молодцы!
ACTOP. Нет, это ужасно, ужасно! Они ведь дети, дети!
ШОУ Что же вас так напугало, миледи?
ACTOP. Вы не понимаете?! Педагогично ли внушать детям понятия о тюрьмах и казнях?
ШОУ А педагогично ли совершать казни? Об этом вы подумали?
ACTOP. Нет, нет! Наших детей мы будем оберегать…
ШОУ Мы лупим наших детей в школе и дома, а русские давно позабыли о телесных наказаниях.
ACTOP. Необходимая строгость…
ШОУ Нам следует воспитывать наших детей так, чтобы они выросли лучшими гражданами, чем их родители.
АСТОР (поднялась). Вы позволили себе, сударь, сделать намёк…
ШОУ Идите, отдохните и успокойтесь. Политическая система на Британских островах во всём виновата!
Сцена четвертая
У порога своего салона ШОУ встречает гостей. Сегодня он элегантен, сдержан. Всё же иногда прорываются у него и широкие жесты, и нетерпеливые движения, и озорные нотки.
ШОУ Прошу вас, господа… товарищи, усаживайтесь. Мне приятно было узнать, что вы меня выслушаете. Я прирождённый актёр и люблю аудиторию.
НИКОЛАЕВ. Мы будем рады побеседовать с вами об искусстве театра, драматургии…
АСТОР (она всё ещё не в духе). Я не знаю, сэр, какая роль предназначена мне в вашем спектакле.
ШОУ Очень важная! (Гостям). Я пригласил для встречи с прессой миллионершу и консерватора леди Астор…
АСТОР (поднялась). С какой целью?
ШОУ Мне нужен яростный оппонент для усиления конфликтного начала, когда я начну излагать свои бунтарские взгляды.
АСТОР (усаживаясь). Что поделать? Шоу есть Шоу. Просто любопытно, о чём вы будете толковать?
ШОУ Это касается всех! Я воспринял Октябрьскую революции в России как спасение человечества. Ваш новый мир, товарищи, кажется мне чем-то неожиданным, почти невероятным. Наши социалисты ничего не могут изменить в своём государстве. Нельзя заставить нашу политическую машину производить социализм, как нельзя заставить швейную машинку производить печёные яйца. (Смех).
ЖУРНАЛИСТ. В чём недостатки такого социализма?
ШОУ В одном. Ваш лозунг «Неработающий да не ест» у нас заменён правилом: «Не имеющий денег, чтобы купить пищу; да не ест!»
ЖУРНАЛИСТ. Как понимается у вас слово свобода?
ШОУ У нас много свобод. Рабочий может свободно продать себя тому, кто в нём нуждается; он волен голодать, если его никто не возьмёт на работу; он волен умереть в работном доме, если там найдётся свободное место.
АСТОР. Новое чудачество Шоу?
ШОУ Да, у нас часто говорят о чудачествах ШОУ Но глубокий кризис капитализма – это уже не шутка. Если не победит разум, то для человечества наступит ночь, и мне придётся покинуть эту землю с грустью.
НИКОЛАЕВ. Зачем же грустить? Боритесь!
ШОУ Я давно написал «Катехизис бунтовщика», а что изменилось? Я – бунтовщик-одиночка.
НИКОЛАЕВ. Сатирическая революционная работа Шоу даёт свои плоды. Она всегда была сосредоточена в его пьесах.
ШОУ Вы правы, коллега. Мои пьесы – это сценическая проповедь. Она продолжается. Простите мою минутную слабость.
ЖУРНАЛИСТ. Вы обещали сказать несколько слов о себе.
ШОУ Пожалуйста. С точки зрения биографической я не представляю никакого интереса. Я никого не убивал. Со мной не случалось никаких происшествий, кроме как падения с яблони. Не было событий…
ЖУРНАЛИСТ. Зато Бернард Шоу – сам событие!
ШОУ Примите мой дружеский совет. Лучше говорить словами вашей души, а не словами, подобранными на улице.
АСТОР. Я согласна с молодым человеком. А ведь у вас интересная родословная: в вашем роду был убийца!
ШОУ Среди моих предков называют шекспировского героя Макдуфа. Он действительно убил короля Макбета. На месте предка я бы сделал то же самое. (Смех).
АСТОР. Не удивляйтесь, господа. Шоу нравится шокировать слушателей. В нём живёт упорная… проказливость.
ШОУ Просто я не люблю говорить о прошлом. Когда встают эти призраки, мне хочется кочергой загнать их обратно в преисподнюю. Я не люблю, когда меня считают историческим персонажем. Это хитрая уловка моих противников, желающих оттолкнуть меня от современных проблем.
АСТОР. Но у вас действительно много исторических пьес.
ШОУ Не забывайте, что только человек, который пишет о себе и о своём времени, может писать правду обо всех народах и временах.
АСТОР. Всё равно – это не пьесы, а статьи! Вы могли бы писать лучше, занимательней.
ШОУ Благодарю за напоминание. Моя цель – не занимательность в вашем понимании, а переворот в сознании зрителей. Конфликт в пьесе должен привести к взрыву в мыслях. Я убежден: мои герои действуют во имя улучшения мира.
АСТОР. Убеждения Шоу? Кому они ясны?
ШОУ У меня нет своих убеждений. Я раздарил их героям и персонажам своих пьес. История моей жизни – в моих произведениях.
АСТОР. Мне показалась… скучной эта история.
ШОУ Самое большое заблуждение публики – будто любовь составляет чуть ли не главное содержание искусства. Получит ли Ганс свою Гретту! Потеря женщины – это ещё не трагедия…
АСТОР. Кто-то сказал, что Шоу не променяет выступления на митинге на любовное свидание.
ШОУ В молодые годы я был влюбчив, но так скудно одет, что стесняло меня в моих излияниях. Я не в состоянии переносить на сцену салонную жизнь и воспроизводить салонную болтовню, хотя это спокойнее для автора. Мои герои несут в себе революцию, как говорил ваш Горький. Качество пьесы – это качество её идей.
ЖУРНАЛИСТ. На какие ваши произведения можно в связи с этим сослаться?
ШОУ Вы хотите узнать, какими художественными средствами я добиваюсь политической цели? Вспомните монолог Дьявола из моей комедии с философией «Человек и сверхчеловек»…
В наплывающей сцене мы видим ДЬЯВОЛА, чем-то напоминающего оперного Мефистофеля с чертами драматического ШОУ. Рядом с ДЬЯВОЛОМ стоит постаревший ДОН ЖУАН.
ДОН ЖУАН. Нет, я задыхаюсь в аду, синьор Дьявол, в вашем царстве вечных удовольствий!..
ДЬЯВОЛ (обиженно). Синьор Дон Жуан, вы довольно бесцеремонны по отношению ко мне.
ДОН ЖУАН. А с какой стати мне церемониться с вами? В этом чертоге лжи две-три истины никому не могут повредить. Ваши земные друзья – самые скучные и несносные люди на свете. Они не красивы – они только разукрашены. Они не чисты – они только выбриты и накрахмалены. Они не почтенны – они только одеты по моде. Они не образованы – они только имеют дипломы. Они не религиозны – они только ходят в церковь. Они не нравственны – они только считаются с условностями. Они не добродетельны – они только трусливы. Они даже не порочны – а только подвержены слабостям. Они не темпераментны, а только распутны. Они не счастливы, а только богаты. Они не преданны – только льстивы, не патриоты – только шовинисты, не храбры – только сварливы, не решительны – только упрямы, не настойчивы – только нахальны… И притом – не правдивы. Все, как один, лжецы до мозга костей. Прощайте, синьор Сатана!
ДЬЯВОЛ. Прощайте, Дон Жуан. Желаю вам счастья, если вам рай по душе. Но если случится, что вы измените свои взгляды, то прошу не забывать, что в аду всегда открыты ворота для блудного сына.
ДОН ЖУАН. Я найду свой путь в рай! (Исчезает).
ДЬЯВОЛ (один). К черту ваш рай! Что такое ваша религия? Предлог ненавидеть меня. Что такое ваше правосудие? Предлог вешать людей. Что такое ваша мораль? Жеманство! Предлог потреблять, не производя. Что такое ваше искусство? Предлог упиваться изображением бойни. Что такое ваша политика? Поклоняться деспоту… И так во всём. Сила, которая правит миром, это сила Смерти, а не Жизни…
Видение исчезает. Свет в салоне.
ЖУРНАЛИСТ. Почему именно эта пьеса так прославила ваше имя?
ШОУ Потому что я ничего не сочинил. Писал только правду… Ведь война – это волк. Он может прийти к каждой двери.
АСТОР. Почему бы вам, сэр, не войти в правительство с вашими идеями всеобщего мира?
ШОУ Я мог бы войти в любое правительство. Если я поеду в Америку, то стану так популярен, что меня изберут президентом. А эдакой скучищи мне не пережить. Что я – бульдог, чтобы показывать, какие у меня крепкие челюсти? Мое оружие – театр! Я – сатирик, и этим сказано всё. Театр – это мой таран, так же как трибуна и печать. Прежде всего я человек улицы, агитатор, и всегда выступал против того, чтобы любые проблемы разрешались с помощью оружия. Я не желаю, чтобы моя исключительно ценная особа зависела от пулемёта. Если уж драться, то на кулаках!
АСТОР. Аразве любая революция – не насилие?
ШОУ Ленин называл революцию искусством.
НИКОЛАЕВ. Мы очень благодарны вам, мистер Шоу, за изложение своего политического кредо. Хотелось бы услышать несколько слов об искусстве комедиографа. Наш Луначарский провозгласил Шоу английским Мольером или Мольером двадцатого века.
ШОУ Не стану спорить с таким эрудированным критиком, как Анатолий Луначарский. Всё же не сокрушительными на своих местах остаются Аристофан и Шекспир, ваш Гоголь и особенно Чехов… С оценками же моих комедий – полная неразбериха. Как их только не обзывают: «диалогами» или «дебатами», «спорами» или «разговорами» – чем угодно, только не пьесами. Чёрт возьми! Кто же я такой? Моих героев считают рупорами автора, ходячими проблемами в платьях и пиджаках. Многие критики писали, что… Аристотель никогда бы не одобрил Шоу, который якобы упорно пренебрегает классическими образцами и издевается над традициями, и что такое легкомыслие непростительно. Но я таких критиков хорошо проучил в своей пьеске «Первая пьеса Фани». Прочтите при случае.
НИКОЛАЕВ. Я помню, в чём там дело: расчётливость.
ШОУ Критики применили хитрющий ход. Признали все мои пьесы пригодными только для чтения! Нет, господа! Без театра я не проживу. Мои пьесы играют на сценахЛондона и Вены, Нью-Йорка и Вашингтона, Варшавы и Цюриха… А разве русские зрители не знаком с моим «Шоколадным солдатиком», с моей цветочницей Элизой из «Пигмалиона», с моей Клеопатрой… Вскоре я познакомлю вас с моей помпезной «Миллионершей», которую я задумал в дни поездки в СССР… Не хмурьтесь, Ненси, я всё сделаю корректно.
АСТОР (махнула рукой). Пустые разговоры! Не верю!
ШОУ Драма, построенная на одной лишь эмоциональной ситуации, старомодна. Моё кредо в драматургии – слияние идей и характеров.
НИКОЛАЕВ. О чём вы собираетесь диспутировать в своих новых произведениях?
ШОУ Я думаю о настоящем русском, советском человеке. Мечтаю написать портрет Комиссара – энергичного, обаятельного, принципиального человека. Я изображу его джентльменскую внешность, изящную одежду, прекрасные манеры – такие, как у Луначарского. Выявлю черты собственного достоинства хозяина своей страны, лишенного и тени подобострастия, рабского угодничества перед сильными мира «того». Я изображу русского интеллигентного человека, каким его показывали Антон Чехов, Пётр Чайковский или Константин Станиславский – самый красивый человек на земле! Я опровергну распространенную на Западе легенду об «ужасных большевиках».
ЖУРНАЛИСТ. Почему бы вам не написать пьесу о самом себе? Вы куда интересней многих своих героев!
ШОУ Вы забыли. Я говорил. Все они и есть я сам! Это мои автобиографические очерки. И этому вы сами меня научили.
НИКОЛАЕВ. Каким образом?
ШОУ Своей второй жизнью в искусстве я обязан идеям вашей революции. Без неё не было бы моих лучших пьес…
После взрыва аплодисментов ШОУ приблизился к рампе и обратился к зрительному залу.
Уважаемые русские зрители и читатели! По-моему вы мало говорите и пишете о величии вашей Родины. Может быть, из-за свойственной вам природной скромности? Хорошо ли осведомлён западный мир о ваших идеалах, стремлениях, о достижениях вашего строя, о величайшей культуре вашего народа, о красоте души вашего человека?! Я с волнением буду вспоминать свой приезд в ваш город и расскажу всё и обо всём, что я здесь увидел…
Затемнение. Музыка. Паровозные гудки. Перрон вокзала в Ленинграде. Часть пассажирского вагона. На ступеньке ШОУ.
НИКОЛАЕВ. Мы прощаемся с вами, мистер Шоу, с грустью. Нам так интересно было с вами! Спасибо вам большое за визит дружбы, за добрые слова о нас.
ШОУ Спасибо и вам за всё, товарищи. Город Ленина навсегда останется в моей памяти, а его люди – в моём сердце. Как видно, на характере вашихлюдей сказались красоты городских пейзажей. Я рад, что застал белые ночи, полные поэзии, и снова испытал гипноз гения Достоевского.
ЖУРНАЛИСТ. Что произвело на вас самое сильное впечатление?
ШОУ Ваш деятельный народ! Я восхищён тем энтузиазмом, с каким он строит новый мир.
АСТОР (с площадки). Да, чуть не забыла. Ленинградские дамы просили меня объясниться вам в любви от их имени.
ШОУ Что я могу им ответить в свои семьдесят пять? Пусть купят мой портрет и положат себе под подушку.
АСТОР. Ну, не шалун?!
НИКОЛАЕВ. Пусть будет и моё короткое интервью. Скажите ещё что-нибудь на прощанье о ваших ленинградских впечатлениях.
ШОУ Многое поразило меня. Зимний дворец – поэма из камня; Смольный, где витает дух Ленина; шедевры Эрмитажа, версальские фонтаны Петергофа, Царскосельские сады Пушкина, Путиловский завод – цитадель большевизма…
АСТОР (насмешливо). В Эрмитаже отличился наш Шоу…
ШОУ Я с благоговением осматривал каждый мазок волшебной кисти Рембрандта, а молодая переводчица назойливо давала свои пояснения…
АСТОР. Тогда Шоу, игривый, как мальчик, сказал: «Живопись в переводчиках не нуждается!» (Смеётся.)
ШОУ Там отличилась и миледи. В том же Эрмитаже мы осматривали алмазный фонд, величайшие ценности народа…
АСТОР. Камни крупные, но грани… не модные!
ШОУ Драгоценная! Да это ведь старина, а не витрина модного ювелирного магазина. У нас был отличный гид во дворце Екатерины, кстати сказать, героини моей давней пьески. Он так красноречиво ввёл нас в эпоху, так образно говорил о прошлом, что мы вдруг воочию увидели живых людей XVIII века: придворных дам, кавалеров, сановников…
ACTOP. Мистификация какая-то, маскарад!..
ШОУ (смеется). Вы не наблюдательны, Ненси. Случайное совпадение! Во дворце шли в это время съёмки исторического фильма.
НИКОЛАЕВ. Что ещё заинтересовало вас?
ШОУ Было интересно на одном заводе. Там снова отличилась…
ACTOP. Не надо, мой друг…
ШОУ Нет, скажу! Миледи пыталась доказать рабочим, что в СССР будто бы существует принудительный труд…
ACTOP. Ну, а Шоу, с присущим ему озорством, позволил себе заметить с трибуны, что очень хотел бы, чтобы и в Англии поскорей ввели такой принудительный труд. Мальчишество!
ШОУ Но тогда два миллиона английских безработных получили бы работу!
НИКОЛАЕВ. Что бы вы ещё хотели сказать о нашем городе?
ШОУ Я увожу с собой огромные впечатления о Ленинграде, где творилась ваша революция. Город высшего гостеприимства, любезности, приветливости.
ACTOP. Гостеприимства? Однако в день прибытия нам долго не давали есть! Некий мистер Огиз мешал.
ШОУ Верно! Мы пускали слюнки за богато накрытым столом, а этот мистер Огиз произносил речь за речью, вдвойне длинные из-за переводов…
ACTOP. И не давал нам ни выпить, ни закусить!
ШОУ Он почему-то восклицал: «И пусть великий человек Бернард Шоу ответит нам за все злодеяния консерваторов!..»
НИКОЛАЕВ. Что же ответил невиновный мистер Шоу?
ACTOP. Как всегда, с озорством: «Сейчас я не великий человек, а обыкновенная голодная собака!»
НИКОЛАЕВ (смеясь). Огиз – это издательство, господа, а заговорил вас бестактный человек, сотрудник этого издательства… А я сейчас не могу не вспомнить ваш и забавный, и, как всегда, парадоксальный афоризм: «Самая искренняя любовь – это любовь к еде».
ШОУ А за «козни консерваторов» могла бы ответить…
ACTOP. Ну, это уже слишком, мистер Шоу!
НИКОЛАЕВ. Мы просим вас, мистер Шоу, принять наши предварительные поздравления с вашим юбилеем, который вы будете праздновать в нашей столице.
ШОУ Спасибо! Я уже получил одно предварительное поздравление. Один молодой человек прислал мне из Англии к сей дате жемчужную булавку для галстука. Если кому-нибудь из вас понадобится такая булавка, ношенная, по сходной цене, то можете рассчитывать на мою помощь… Что с него спросишь, с начинающего драматического писателя? Драматурги – самая беспомощная паства у господа бога, что касается деловых вопросов.
ACTOP. Я бы не сказала. Ваши гонорары…
ШОУ Мои гонорары облагаются такими налогами, что порой… приходится доплачивать из других средств.
ЖУРНАЛИСТ. Прошу прощения, не успел спросить. Что бы вы пожелали нашим драматическим писателям и театрам на прощание?
ШОУ Поскорей показать на сцене вашего нового человека.
ЖУРНАЛИСТ. Кому из ваших персонажей вы отдали бы предпочтение, чтобы наши драматурги могли воспользоваться образцами?
ШОУ Я с любовью писал простых людей Англии. По-моему, лучшими были роли: девушки из народа пастушки Жанны, пусть она и француженка; цветочницы Элизы, моей Галатеи из «Пигмалиона». Затем – рядовой шофёр-рабочий Генри Стрейкер из пьесы «Человек и сверхчеловек». Он так влюблён в автомобиль, в технику. Весь – движение, порыв…
НИКОЛАЕВ (добавляя). А старый официант Бун из вашей комедии «Поживём-увидим»!
ШОУ А горьковский Власов из «Матери», а Нил из его же «Мещан», который так был увлечён своим паровозом… (Вспомнил). «Режь воздух! Мчись на всех парах!»
Загудел паровоз. ШОУ вскочил на площадку. Вагон тронулся.
Конец первой части
Часть вторая
Сцена пятая
Тот же столик с пишущей машинкой. ШОУ пишет и одновременно произносит новый монолог-выступление.
ШОУ Привет вам, добрые старые дуралеи! На протяжении последних дней вы говорили друг другу, что, мол, Бернард Шоу помешался на России. Ну, что ж, если последние известия, поступающие с помощью ваших газет, соответствуют действительности, то Россия может теперь над вами посмеяться. Она оставила вас в дураках, побила, посрамила, обошла, обставила, только что не вышибла из игры. Мы-то читали ей мораль с высоты своего мнимого превосходства, а теперь напрасно вызываем «горе», чтобы скрыть своё возмущение. Мы попрекали Россию безбожием, а теперь солнце сияет над Россией, как над страной, которой доволен господь бог…
Последние слова ШОУ подхватывает леди ACTOP, которая быстро входит в рабочий кабинет драматурга с пачкой свежих газет.
ACTOP. Побойтесь бога. Дебета! Может ли господь быть доволен страной безбожников?
ШОУ (подхватывая её слова).…в то время, как над нами нависли тучи его гнева, и вы не знаете, куда обращаться за утешением…
ACTOP. Как вы смеете так говорить о боге, так говорить с дамой!
ШОУ Это я – так, по-дружески, как говорят русские, запрос-то.
ACTOP. Да, с такой манерой обращаться с людьми вы вскоре останетесь в своём полном одиночестве.
ШОУ Не могу не возразить. Одиночество опасно бездельника, людям недалеким и примитивным. Нет, нет, нет и ещё раз нет! Умение переживать одиночество и получать от него удовольствие – великий дар! Я им владею… Но меня часто лишают такого удовольствия.
ACTOP. Вы намекаете на моё общество? Нет, я лишу вас такого удовольствия. Останусь с вами.
ШОУ (покорно). Я знаю…
ACTOP. Что вы знаете?
ШОУ (вздохнул). Моя жена велела вам присматривать за мной. Бывает общество похуже…
ACTOP. То есть?
ШОУ Иногда приходится дышать одним воздухом с контрамарочниками в театрах, не дающих сборов. Лишают доходов!
ACTOP. А если говорить серьёзно, без обычного озорства?
ШОУ Просто я признаю за собой способность видеть вещи в их собственном свете.
ACTOP. То есть?
ШОУ Я говорю и пишу сейчас о свете над Россией.
АСТОР (усаживаясь). Скажите прямо, Дебета, зачем вам весь этот шум? (Показала газеты). Не угодно ли, сэр, кое-что просмотреть? (Молчание). Хотите, я процитирую?
ШОУ Не трудитесь, Ненси. Я заткнул уши ватой.
АСТОР. Протестующие голоса доносятся со всех сторон. Вот…
ШОУ Я верю в голоса благоразумия и мудрости. Максим Горький, поздравляя меня с днём рождения, написал: «Неисчислимы сокрушительные удары, нанесённые вашим острым умом консерватизму и пошлости людей…». Я хочу, чтобы его голос услышали и в Лондоне.
АСТОР. Прошу вас, угомонитесь!
ШОУ Никогда! Покуда трава растёт, покуда вода течёт, я не изменю самому себе. Унесите весь этот бумажный вздор.
АСТОР (отложила газеты). Ну, хорошо. Меня интересует практическая цель вашего фрондерства.
ШОУ Узнаю голос деловой миллионерши. Я позаботился о приезде из Англии опытных рабочих на постоянное жительство в СССР.
АСТОР. Не сходите с ума, Шоу. Никто не поедет.
ШОУ Поедут! Хотите пари? Согласны?
АСТОР. Согласна! На любую сумму.
ШОУ Вы уже проиграли, дорогая! (Хохочет). Извольте финансировать это предприятие. (Подаёт пачку писем).
АСТОР (в ужасе). Что?! (Читает). Один, другой, третий… Из различных городов Англии? Но для меня это будет накладно.
ШОУ Бьёте отбой, богачка? Готов пойти на уступки. Извольте оплатить поездку лишь одной семьи, хотя бы… этой.
АСТОР (читает). Металлург Мильтон из Ливерпуля…
ШОУ С женой и дочерью-подростком. Совсем недорого.
АСТОР (поднялась). Я проиграла пари и я плачу. (Разгневанная, удалилась, унося газеты).
ШОУ проводил спутницу весёлым смехом, приблизился к машинке и заговорил, как обычно.
ШОУ Вот так нужно дружить с Советами! Как завещал Ленин, – сосуществовать. А не нападать, совершая насилие над жизнью, природой, историей. Теперь я убедился: с Россией бессмысленно воевать. Её не победить! (Пишет). О чём я скажу московским слушателям в день моего юбилея? Я говорил бы с ними десять часов под ряд. Надо подумать, записать. Ведь самый лучший экспромт – хорошо обмозгованное выступление…
Треск машинки сменяется шквалом аплодисментов. Высвечивается левая сторона просцениума. Ораторская трибуна, освещённая хрустальной люстрой Колонного зала. У трибуны раскланивающийся ШОУ Переждал аплодисменты и снова заговорил.
– Я горячо, искренне приветствовал рождение советской республики. Непримиримо выступал против контрреволюции. Только безумцы, только тёмные, невежественные фанатики смели ввергать Россию в ту яму, из которой она только что вышла на свет! Нельзя позволять безумцам повернуть часовые стрелки назад. Сколько лет я говорю англичанам правду о России: «Вам должно быть стыдно перед этой страной. Ведь Маркс когда-то предполагал, что революция произойдёт прежде всего в Англии…» Так пусть же свет придёт из России! Это великая радость для такого старика, как я, – сойти в могилу с сознанием, что мир будет спасён! Здесь я убедился, что новая Россия, великая страна мира, может вывести человечество из его кризиса, анархии и разрушения. Ура России, ура!
Аплодисменты, возгласы одобрения. ШОУ подошёл к трибуне и взял кипу записок.
Мне остаётся ответить на некоторые вопросы слушателей. Когда меня спрашивают, как вы себя чувствуете, я отвечаю короче краткого: «Семьдесят пять!» Впрочем, бывает, что люди умирают задолго до своих похорон. (Смех). Когда меня спрашивают, какими правилами вы руководствуетесь, чтобы сохранить бодрость и веселье, я отвечаю: «Мое золотое правило – не иметь никаких золотых правил!» Просто чем больше я работаю, тем больше я живу! «Отвагу, удаль, охоту к жизни» я особенно почувствовал в Москве. Это слова вашего Тургенева, хотя в моём возрасте можно было бы сослаться на стихи Микеланджело: «Отрадно спать, отрадно камнем быть. В мой век ужасный и постыдный – не жить, не чувствовать – удел завидный. Не тронь меня, не смей будить…». Но весь мир был пробужден выстрелом «Авроры». Я воспринял Октябрьскую революцию как спасение человечества… Спасибо вам, товарищи, за внимание!
Свет переметнулся влево. Открылся уголок кафе, может быть, в Доме Союзов. За столиком английские гости пьют кофе.
ЛОРД АСТОР (отдуваясь). Однако в Московии жарко, словно в Индии… Ну, и задали же вы всем перцу, мистер Шоу!
ШОУ Прежде всего я попрошу вас, леди и джентльмены, не придавать чрезмерного значения всему тому, что говорят и пишут обо мне в Великобритании. Я всегда и всюду вёл дискуссии, но теперь они становятся судилищами!
ЛОРД АСТОР. Какая же роль предназначена нам в этом суде?
ШОУ Вы для меня – модели тех людей, которые начнут думать о будущем человечества, когда впереди у них не будет будущего.
ЛОРД АСТОР. Не скажите! Даже мы кое-что учуяли здесь. Вопреки разнузданной клевете о России, которой дышит британская пресса, и в Англии набирают силу симпатии к русским.
ШОУ О, прогресс! Отнесите это отчасти и за мой счёт.
ЛЕДИ АСТОР. Это у вас не от жары ли, лорд? Вы не о том говорите. Шоу загонял нас до одышки своим неудержимым любопытством.
ШОУ Тогда занимайтесь традиционным туризмом.
МИСС ИРИС. Но нам интересно быть возле вас, мистер Шоу.
ШОУ Тогда будьте со мной, мисс миллиардерша.
МИСС ИРИС. Как вы намерены проводить время в Москве?
ШОУ Прежде всего я побываю в мавзолее Ленина. Затем я должен повидать Горького. Вы не читали Горького, мисс Ирис? Это книги рассвета, а не видения страшного суда.
ЛЕДИ АСТОР. Дальше, дальше!
ШОУ Осмотрю Кремль. Сфотографируюсь возле царь-пушки. Эта пушка – весь царизм, как царь-колокол – вся церковь!
ЛЕДИ АСТОР. Вы снова хотите позабавить нашу прессу?
ШОУ Наши газеты не располагают разумной информацией.
ЛЕДИ ACTOP. Ваша информация весьма пристрастна, сэр.
ШОУ Значит, я правильно наметил тон и адрес моих протестов. Неужели вы думаете, миледи, что я стану помогать капитализму замазывать его безобразие? Да ни за что на свете! Я всем буду рассказывать правду о России, даже в Новой Зеландии, где, говорят, существует закон, запрещающий ступать ногой на её землю человеку, посетившему Страну Советов.
ЛЕДИ АСТОР. Вас, сэр, всё равно не переспорить. На это не хватило бы всей моей жизни. Что вы ещё хотите делать в Москве?
ЛОРД АСТОР. Не забывайте, мистер Шоу, вам – семьдесят пять!
ШОУ Выбирайте, господа: музей Революции, Электрозавод, колхоз на Тамбовщине, визит к Станиславскому, к Горькому на дачу, и важнейший – в Горки, к госпоже Крупской, вдове Ленина.
ЛЕДИ АСТОР. Говорят, Крупская лежит с простудой, она замкнутый человек, живёт в лесу и беспокоить её не разрешается.
ШОУ Если Надежда Крупская больна и не сможет со мной встретиться, то я хотел бы лишь оставить свою книгу и визитную карточку у её порога. Только пусть мне покажут этот порог, о котором Демьян Бедный так проникновенно написал: «Забуду ли народный плач у Горок, и проводы вождя, и скорбь, и жуть…». Я не покину Россию, пока не повидаю жену и сестру Ленина!
ЛОРД АСТОР (встаёт). Ваши намерения, сэр, не входят в наши туристские маршруты. Вы с нами, Ненси?
ЛЕДИ АСТОР. Я прикована к Шоу, как каторжник к тачке…
Затемнение. Леди АСТОР у телефона.
Хэлло! Мистер Чер… Простите, мистер Икс?.. Какие новости?.. Взрыв в Колонном зале!
ГОЛОС. Под Шоу подложили бомбу?!
АСТОР. Прошу не шутить. Взрыв оваций в его честь!
ГОЛОС. А меры пресечения?
АСТОР. Что я могла поделать с таким шквалом?.. Но есть вещи и пострашнее. Я должна ехать вместе с Шоу в Горки.
ГОЛОС. С какой горки? Опять клоунады?
АСТОР. Увы, дело посерьёзней, чем вы думаете, сэр! У него свидание в имении Горки с вдовой и сестрой Ленина.
ГОЛОС. Та-а-ак… Новая сенсация?
АСТОР. Кажется, я нашла способ отвлечения… Какой? Испытанный!.. Пока секрет… Да нет, не от вас – от подслушиваний.
ГОЛОС. Желаю успеха. Звоните…
Звонок отбоя. Затемнение. Новый телефонный звонок – уже на веранде флигеля в Горках.
Сцена шестая
На веранду выходит МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА УЛЬЯНОВА, снимает трубку.
УЛЬЯНОВА. Слушаю вас.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. С вами будет говорить наркоминдел товарищ Литвинов.
УЛЬЯНОВА (зовёт). Надюша, тебя – Литвинов.
КРУПСКАЯ (подошла). Доброе утро, Максим Максимович.
ГОЛОС ЛИТВИНОВА. Здравствуйте, Надежда Константиновна. Вы знаете, что в Москве гостит английский драматург Бернард Шоу?
КРУПСКАЯ. Знаю, слежу по газетам. Мне нравится его доброжелательность к нам, остроумие. Я и книжку его прихватила из библиотеки Владимира Ильича.
ГОЛОС. Тем лучше. Примите его, пожалуйста. У него важный и секретный разговор с вами и с Марией Ильиничной.
КРУПСКАЯ. Обязательно?
ГОЛОС. Необходимо! Шоу не хочет уезжать в Лондон прежде, чем повидает жену Ленина, замнаркома просвещения.
КРУПСКАЯ. Что ж, встречусь, если это нужно. Удобнее всего… сразу после выходного.
ГОЛОС. Благодарю вас. До свидания. (Отбой).
УЛЬЯНОВА. Не бережёшь ты себя, Надюша. Переутомлёна, нездорова, перегружена делами.
КРУПСКАЯ. В работе – вся моя жизнь. Кроме того… положение обязывает… Посмотри-ка, Маняша, книжку Бернарда Шоу. Он давно прислал её Ильичу с надписью, а с какой – не разберу.
УЛЬЯНОВА (читает). «Бернард Шоу. Назад в Мафусаилу». Что-то о долголетии. Интересно!
КРУПСКАЯ. Переведи дарственную надпись.
УЛЬЯНОВА (прочла). «…Ленину. Единственному европейскому правителю, который обладает талантом, характером и знаниями, соответствующими его высокому положению. Лондон, 16 мая 1921».
КРУПСКАЯ. Ровно десять лет назад… Дай-ка. (Листает). Забавное начало: Ева объявляет жизнь в раю прескучной… Что сегодня пишут в газетах?
УЛЬЯНОВА (просматривает). Послушай, что говорит Шоу о себе: «Я стал вольнодумцем, ещё не научившись думать». Или вот: «Кто чересчур говорит правдиво, тому не миновать виселицы». (Смеётся). Вот это здорово: «Меня хотели называть великим старцем, а я предпочёл быть великим… сорванцом!»
КРУПСКАЯ (смеясь). К чему это – он?
УЛЬЯНОВА. Ага! «В смешном ищите скрытую правду». А вот поздравление Горького: «Мне радостно знать, что день вашего семидесятипятилетия вы проводите в стране, которая так высоко ценит вас, и среди людей, которые начали величайшую борьбу с миром, осмеянном вами». «Осмеянным» подчёркнуто… (Телефонный звонок). Кремлевский…
КРУПСКАЯ (снимает трубку). Да… Максим Максимович?.. Что-нибудь изменилось?..
ГОЛОС ЛИТВИНОВА. У Шоу изменились планы…
КРУПСКАЯ. Сегодня не смогу. У меня работы невообразимая уйма. Сделаем, как договорились, завтра…
ЛИТВИНОВ. Как вы думаете, товарищ Крупская, принял бы товарищ Ленин знаменитого писателя Бернарда Шоу, как принимал не менее знаменитого соотечественника его Герберта Уэллса? Ох, как Владимир Ильич был тогда занят!
КРУПСКАЯ. Дипломатический ход… Всё же, лучше – завтра.
ЛИТВИНОВ. Нет, нынче! И не в Москве, а в Горках. Потому и звоню вам вторично.
КРУПСКАЯ. Что? Я не ослышалась?
ЛИТВИНОВ. Звонили из ВОКС-а. Шоу не может ждать до завтра. Уже куплены билеты в Лондон.
КРУПСКАЯ. Батюшки! За нас всё решили. Слышишь, Маняша?
ЛИТВИНОВ. Шоу выезжает к вам. И не один, а с леди Астор.
КРУПСКАЯ. Час от часу не легче. О чём я буду говорить… с леди?
ЛИТВИНОВ. Найдёте, о чём потолковать. Я за вас и за Марию Ильиничну спокоен. (Звонок отбоя).
КРУПСКАЯ. Повесил трубку… (Помолчала). Что ж, ничего не поделаешь. Сделаем осмотр нашему хозяйству.
УЛЬЯНОВА. Ты – об угощении? Ничего такого… на даче нет.
КРУПСКАЯ. Забыла? В этот час англичане пьют чай. Организуем «файф-о-клок» на веранде. В комнатах не прибрано. Но что будет с нашими туалетами, милая дама? (Рассмеялась). Хороши мы будем в ситцевых платьишках? Ведь других нарядов в Горках у нас нет!
УЛЬЯНОВА. Да, вид сверхскромный. А тут – леди, вся в шелках!
КРУПСКАЯ. Ладно, пусть полюбуется леди в шелках нашими русскими ситцами с «Трехгорки»… (Затемнение).
Звуки клаксона. Шум автомашины.
УЛЬЯНОВА. Явились! Пойдём встречать гостей нежданных…
Смена света. На веранде накрыт чайный стол с самоваром. Альбомы, цветы. Гости и хозяйки встретились у порога, раскланялись.
ШОУ (оживлённо). Надежда Константиновна… Мария Ильинична… Здравствуйте, товарищи!
КРУПСКАЯ. Добро пожаловать.
ШОУ У меня нет больше русских слов – только товарищи.
УЛЬЯНОВА. Будем говорить по-французски?
КРУПСКАЯ. Можем говорить и по-английски.
ШОУ Я так и знал. Потому и отказался от переводчика.
УЛЬЯНОВА. Просим садиться, миссис Астор… мистер Шоу.
ШОУ (огляделся). Ленин жил здесь?
КРУПСКАЯ. Нет, в том здании. Там теперь будет музей.
ШОУ (усаживаясь). Я счастлив видеть жену и сестру величайшего из людей планеты.
КРУПСКАЯ (с улыбкой). Я с трудом воспринимаю подобные масштабы…
ШОУ Опускаюсь на землю, хотя это не помешает мне остаться при своём мнении… Не успели представиться. У меня нет своего имени. По отцу я назван Джорджем… Вы слышите, какие страшные звуки: «Джордж»? По деду – Бернардом. Легче произносится. Рекомендую: мой добрый друг и злой противник леди Астор. Ненси дружит с моей женой Шарлоттой и с моими врагами… Дочь американского миллиардера Ириса, владельца очень многих… колбасных магазинов мира!..
АСТОР (поправляет). Универсальных! Шоу, как мальчик-шалун, не всегда удачно… забавляется. Веселится по любому поводу и без повода. Порхает, словно бабочка вокруг огня.
ШОУ (веселясь). Слышите, мадам? Она мне угрожает… Империалистка!
АСТОР. Теперь вы поймёте, почему многие соотечественники смотрят на Бернарда Шоу, как на престарелого джентльмена, чьи оригинальные высказывания не следует принимать слишком серьёзно. Мистер Шоу сам об этом говорил.
ШОУ Я бы назвал мои высказывания… хаосом здравых суждений. А леди Астор постепенно исправляется в Англии: титулованная особа, занимается политикой. Редкая семейка! Вдвоём с мужем заседают в парламенте. Шутка ли – первая в Англии женщина-депутат, правда, консерватор.
АСТОР. В данном случае это не имеет значения. Не правда ли, миссис Крупская? Мы ведь не за этим сюда приехали, чтобы выяснять наши политические отношения.
КРУПСКАЯ. Всё имеет значение для нашего знакомства.
ШОУ Тогда пусть наша пикировка с миледи не удивляет вас. В отношениях со мной в ней говорит классовая неприязнь. Я ведь – парий! Бедняк.
АСТОР. Ваш отец был дворянин.
ШОУ Мой отец был джентльменом без доходов джентльмена. Я получил от него в наследство крупный куш: безбожие! Ему всё равно нечего было терять ни на этом, ни на том свете.
АСТОР. По-моему, у вашей матери были средства.
ШОУ От матери у меня – только страстная любовь к музыке: Моцарт, Бетховен, Бах…
УЛЬЯНОВА (с блокнотом). Кажется, музыка была вашей профессией в молодости?
ШОУ Гораздо позже я занялся музыкальной критикой. Моя профессия в молодости – маклер по сбору квартирной платы с бедняков. Отсюда – мои ранние «неприятные», пьесы.
ACTOP. «Дома вдовца», «Волокита»… Мало весёлого: лондонские трущобы…
ШОУ А разве теперь нет трущоб в Лондоне?..
УЛЬЯНОВА. Всё это интересно, и многое неожиданно для меня. Я считала вас по преимуществу историческим писателем.
ШОУ Так считают многие. Но только человек, который пишет о себе и о своем времени, может писать об всех народах и обо всех временах.
АСТОР. К моему сожалению, во все времена Шоу обращался к неизящным предметам: к притонам, извините, к проституции…
ШОУ «Профессия миссис Уоррен»? Разве это не социальное зло? Я ненавижу нищету и борюсь с нею всеми средствами искусства.
АСТОР. И следующая пьеса Шоу груба. Клевета на военных.
ШОУ В моей комедии «Шоколадный солдатик» я восставал против наибольшего зла – вооружений, за которые ратуют консерваторы.
АСТОР. Шоу привык писать и говорить дерзко, за что не раз попадал в беду.
ШОУ Это не беда. Моя репутация возрастала с каждый очередным провалом в высшем свете. На склонности же обыкновенных людей влияние театра очевидно.
КРУПСКАЯ. Вы правы. Следует повсюду восстановить достоинство зрелищ. Об этом думал Ильич, объявляя все театры государственными.
АСТОР. Но ведь «Скупой» Мольера не исправил ни одного скупого. «Игрок» Реньяра не заставил ни одного игрока отказаться от азартных пагубных игр.
ШОУ Не надо слишком утилитарно подходить к искусству! Мои пьесы – политические учебники. Я далеко не всегда могу изменить взгляды моих зрителей, но могу увеличить их знания. Вот теперь я пишу пьесы «Горько, но правда», и докажу, что если все народы последуют примеру России, то перед нами откроется новая эра. Нам не будет грозить крушение и гибель.
АСТОР. Не понимаю, сэр, почему вы об этом сказали сейчас? Обычное озорство? «Дух противоречия?»
ШОУ Извините, товарищи, мы часто спорим с Ненси. Поспорили и при вас, чтобы вы знал, кого вы пустили за этот порог.
УЛЬЯНОВА. Благодарим за информацию.
ШОУ Теперь позвольте кое о чём спросить вас?
КРУПСКАЯ. Пожалуйста, спрашивайте.
ШОУ Я приехал к вам узнать правду о Ленине!
КРУПСКАЯ. Но ведь о Ленине много известно. Зачем повторяться?
ШОУ Я не всё знаю. А мне надо знать! В Англии перевели только начало ваших «Воспоминаний». Я хочу знать всё!
КРУПСКАЯ. До конца книги ещё далеко. (После паузы). Вот что мы сделаем. У меня накопилось много альбомов, фотографий…
УЛЬЯНОВА. О чём – ты, Надя?
КРУПСКАЯ. Художники, писатели, артисты спрашивают…
ШОУ (живо). Как изображать мистера Ленина? О, мне бы очень хотелось узнать, что вы думаете о выражении его образа в искусстве, хотя есть и более сокровенная цель моего визита.
АСТОР. Шо-о-у! Взгляните на часы. Скоро пять!
УЛЬЯНОВА. Не угодно ли, господа, чая? Просим к столу.
ШОУ (подошёл). Файф-о-клоки самовар? Экзотика!
АСТОР (присела к столу и не сняв шляпы и перчаток, отхлебнула не без удовольствия). Китай?.. Цейлон?.. Индия?..
КРУПСКАЯ (с чашкой). Грузия… Вам нравится?
ШОУ Напоминаю. У русских нет колоний, миледи.
АСТОР (в своём духе). Скажите, пожалуйста, госпожа Крупская, Горки – ваше собственное ранчо, имение?
ШОУ Поймите, у русских всё государственное, миледи.
АСТОР. Всё же, как вас обеспечил ваш муж, мистер Ленин?
КРУПСКАЯ. Как вы сказали? Обеспечил?..
АСТОР. Вам не понятен вопрос? Не повторить ли по-французски?
ШОУ На всех языках звучит одинаково: нац-ио-на-ли-зация!
КРУПСКАЯ. Здесь до революции была резиденция московского градоначальника.
АСТОР (пьёт). Вот это и есть ваша экс-про-приация.
ШОУ У меня вопрос чисто литературного порядка. Произведения Владимира Ленина издаются в миллионах экземпляров. Очевидно, гонорары завещаны вам?
КРУПСКАЯ. Произведения моего мужа принадлежат государству, а не мне лично. (Молчание). Поймите, литературные доходы Ленина остаются в казне и идут на нужды просвещения масс.
ШОУ Я вполне удовлетворен вашим разъяснением и хотел бы…
АСТОР (в духе своей миссии «отвлечения»). Но ваши наряды!
(Осмотрела хозяек). Вероятно, вы получаете слишком скромную пенсию?
УЛЬЯНОВА. Крупская не получает пенсии. Она работает!
ШОУ Нет, об этом я не смогу рассказать в Англии. Кто поверит, что жена Ленина должна зарабатывать себе на хлеб?
КРУПСКАЯ. Мы не зарабатываем – мы работаем!
УЛЬЯНОВА. Мне приходилось читать и слышать, что английские чиновники, особенно высшие, не очень-то утомляют себя делами: то у них подготовка к рауту, то файв-о-клок, то светские беседы… Я думаю, что не выдам государственной тайны, если скажу, какая ДОБРОВОЛЬНАЯ нагрузка у заместителя наркома-просвещения Надежды Константиновны Крупской. Мне как-то пожаловалась её секретарша Верочка, что отдыхать её начальница никак не хочет и даже передышку себе не даёт! Шутка ли сказать, за прошлый, тридцатый год, статей ею написано 112, выступлений проведено 172, заседаний она провела 120, к тому же ответила лично, сама, на 2500 писем! Непостижимо!
ШОУ (после длительной паузы). Воистину непостижимо! Так может работать только влюблённый в своё дело и глубоко убеждённый в правоте своего дела человек!
Вообще вы, русские, для меня люди непостижимые! Самый удивительный народ на Земле! Достаточно вспомнить, то вы превратили заполярную транспортную трагедию (я имею в виду эпопею с ледоколом «Седов») в народное празднество!
КРУПСКАЯ. Включаясь в нашу невольную шуточную игру, могу твёрдо сказать, что тоже не выдам партийной тайны, если скажу, что Мария Ильиничная в современной мировой прессе занимает исключительное место: она организовала такую корреспондентскую сеть по всей нашей стране, что история журналистики никаких аналогов не имеет. Да и Вы, мистер Шоу, газетчик с юных лет, при всём своём воображении не представите себе, как где-нибудь в «Манчестер Гардиан» создан общебританский отдел местной корреспондентской сети, а возглавляет этот отдел женщина!
ШОУ О да! Представить себе это невозможно! Итак, вопреки ходящим легендам, жёны народных комиссаров живут более, чем скромно. Об это давно написала в «Либерейтор» Луиза Броайант, но ей у нас не поверили.
КРУПСКАЯ. Жена Джона Рида правдивый человек. Она привязана к России навеки… могилой мужа у Кремля.
ШОУ Я видел, вблизи от мавзолея Ленина… Как вы объясняете то чудо, что «Десять дней, которые потрясли мир» – единственная пока книга, в которой магически схвачен дух русской революции, написана… иностранцем?..
КРУПСКАЯ. Коммунистом, борцом!
АСТОР (в своём репертуаре). Кажется, Джон Рид несколько натуралистически описывал внешность мистера Ленина?
КРУПСКАЯ (думая о своём). Бесстрашная правдивость! Вот душа истинно талантливой книги Джона Рида.
ШОУ Я видел книжку некоей Сталь «О Крупской». Вам нравится?
КРУПСКАЯ. Не так было приятно читать некролог о себе.
ШОУ(смеясь). Не хотел бы я стать объектом вашей критики.
ACTOP. Хотя вас считают одним из самых смелых людей в Европе, остерегайтесь. Здесь вам несдобровать. (Рассмеялась).
КРУПСКАЯ. Я могла бы кое-что сказать о работах мистера Шоу.
АСТОР. Просим, просим!
КРУПСКАЯ. Лично я – ваш доброжелатель, мистер Шоу! Ваши сатиры на буржуазный строй остры и метки. Но в них ещё мало силы и пафоса настоящей революционной борьбы.
ШОУ (с горечью). Увы, я долго был в плену у заблуждений. Не верил в английский пролетариат, зашел было в идейный тупик…
АСТОР (раздражённо). Не слишком ли много самоцитат из Ваших речей и статей?!
ШОУ (насмешливо). А разве они столько скучны, что автор их не вправе повторять? Да… Но потом я стал уничтожать в себе все ложные кумиры, чтобы в конце концов взорвать их и рассеять по ветру. Это разве отсутствие борьбы?.. Когда создавалась газета британских коммунистов «Дейли уоркер», я вошёл в число её пайщиков и даже организаторов. И это – тоже отсутствие борьбы? Ещё раньше я взял на поруки двенадцать коммунистов, арестованных в Англии…
КРУПСКАЯ (убеждённо). Прав был Луначарский, говоря, что по-настоящему начинаешь понимать Бернарда Шоу только после личных впечатлений от встреч с ним.
ШОУ Мои старые и новые друзья в Советском Союзе сумели открыть сердце того самого Шоу, а заглядывать в это сердце никому никогда не дозволялось.
АСТОР (с нескрываемым возмущением). Почему же – именно они? Почему – русские?..
ШОУ (резко и категорично). По очень многим причинам. Говорить об этом можно часами, но если очень коротко, то можно сказать так: в интеллектуальном да и в моральном отношениях русские люди стоят куда выше представителей вашей страны и особенно того круга, к которому вы, мой постоянный оппонент, принадлежите.
АСТОР (не сдерживаясь, то привставая, то вновь садясь на стул). Что?! Как? Почему?!
ШОУ О, ответ на этот вопрос будет слишком долог! Ещё писатель Достоевский говорил о «всемирной отзывчивости русских». Скажите, миледи, у вас лично есть «всемирная отзывчивость»?
АСТОР (густо покраснев, умолкает).
ШОУ (обращаясь к Крупской). А вас лично человечество никогда не забудет – ведь вы столько сделали для человека, дорогого всему миру!
КРУПСКАЯ. Опять – мировые масштабы? Просто я помогала, как могла, моему мужу, Владимиру Ульянову.
ШОУ Есть только одно средство победить время – верить в новые идеи и претворять их в жизнь. Лично я в этом вполне убедился.
КРУПСКАЯ. Без великих идей не будет счастья и тогда, когда люди добьются претворения в жизнь того, что сейчас кажется только мечтой, а многим – мечтой к тому же несбыточной.
ШОУ В вашей книге воспоминаний о Ленине есть такие слова: «Вся его жизнь и деятельность были подчинены одной великой цели – борьбе за торжество социализма». Я правильно цитирую?
КРУПСКАЯ (с удивлением). Правильно. Вот уж не думала, что мои слова дословно станет устно экспромтом цитировать английский драматург!
ШОУ Убедительно прошу вас – больше пишите о Ленине и о себе. Эта правда нужна сейчас, но ещё больше её роль будет в грядущем.
АСТОР. Ну вот, опять гений Шоу мыслит вслух! Кто же это сказал, что у Шоу ума больше, чем следует?
ШОУ Русский человек сказал. И зовут его Лев Толстой.
УЛВЯНОВА. У нас в стране любят и знают произведения Шоу, читают его и в подлинниках.
ШОУ Зато на Западе (и в Англии, конечно!) очень мало интересуются русским языком, русской культурой, хотя русский язык проник в Европу раньше, чем на Руси услыхали иноземную речь.
АСТОР (игриво и самодовольно). А я вот давно знаю одно русское слово – соболь!
ШОУ Ну вот, вы опять о мехах! То – об алмазах, то о нарядах! А ведь ещё в одиннадцатом веке французская королева Анна писала своё имя русскими буквами!
АСТОР (удивлённо и раздражённо). Как же они проникли во Францию, эти самые русские буквы?!
КРУПСКАЯ. Французская королева Анна была дочерью великого князя Ярослава Мудрого.
ШОУ Мудрого! Кого из наших деятелей можно назвать так – Мудрым?..
АСТОР (с раздражением). Вы же хотели говорить об искусстве!
КРУПСКАЯ. Продолжим… Меня упрекают в том, что я придирчива. Я даже обещала больше не давать советов.
ШОУ Кому же, как не вам?
КРУПСКАЯ. А тут разозлилась и не стерпела. (Взяла альбом). Видите? Пролетарских вождей изображают в дни Октябрьского переворота на фоне дворцовой роскоши.
ШОУ (посмотрел). Но ведь Смольный – это дворец?
КРУПСКАЯ. Не дворец, а учебное заведение; институт, хоть и благородных девиц. Там не было ни хрустальных люстр, ни мебели красного дерева, ни персидских ковров. Бывало, и стульев не хватало. Мы сидели на подоконниках и даже на полу. Полулежа вертели ручки телефонов. Я сама отдыхала на груде каких-то шинелей… Или вот это. (Показывает репродукции картин).
ШОУ «Ленин с красногвардейцами»? По-моему хорошо, живо.
КРУПСКАЯ. Нет, плохо!
ШОУ Но отчего?
КРУПСКАЯ. У солдат подобострастные лица. Перед кем?!
ШОУ Действительно, вы судите строго. Я не завидую вашим художникам. (С альбомом). Некоторые авторы запечатлели Ленина с прищуренными глазами. Всегда ли он щурил глаза?
КРУПСКАЯ. Только тогда, когда смотрел на солнце.
ШОУ Понимаю, художникам их трудно передать, потому и… прищуривают.
АСТОР. А вот это – очень хорошо! Ленин от души смеётся.
УЛЬЯНОВА. Верно, да не очень. Фигура скована.
ШОУ «Ленин на пути в Петроград». Недурно!
КРУПСКАЯ. Это было не так.
ШОУ Вас смущает, как написаны фигура, лицо?..
КРУПСКАЯ. Меня совершенно не устраивает ВАГОН! Это вагон из какого-то царского поезда! Художник должен был бы поискать изображения вагона третьего класса семнадцатого года.
УЛЬЯНОВА. А вот картинка «Ленин беседует с рыбаками». Она несравнимо лучше. Чувствуется приветливость брата, дружелюбие, внимание к собеседнику.
ШОУ Позвольте и нам, театралам, воспользоваться вашими точными критическими оценками. Скажем, потребуется голосЛенина. Как играть его роль, если не знаешь, какой у него был голос?
КРУПСКАЯ. Голос у Ильича был громкий, но не крикливый и не монотонный. Тембр низкий, баритон. Часто пел. Любил петь.
АСТОР. А какой у него был репертуар?..
КРУПСКАЯ. Применительно к Ильичу слово РЕПЕРТУАР не очень-то применимо: он же не певец! Любил русские народные песни, «Интернационал», пожалуй, больше всего, не раз вспоминал «Салют, семнадцатый полк!», в чём-то несравнимый образец политической песни. Напомню, что это тот самый полк, который отказался стрелять в народ. Светлая память о солдатах этого полка дорога не только французам, но и всем нам, в том числе и русским, которые никогда не забудут расстрел мирной народной демонстрации у Зимнего дворца 9 января 1905 года.
АСТОР. Всё как всегда у вас сводится к политике, даже песни! Я хотела бы спросить о вашем здоровье…
КРУПСКАЯ (с удивлением). У нас на Родине принято спрашивать о самочувствии только у самых близких людей. Что же касается нас с Ильичём, то у нас в комнате даже табличка такая забавная висела: «О болезнях никогда не говорить!».
ШОУ Кажется, мы очень отклонились от прямого курса, как говорят моряки. Мне показали стихотворение под названием «Ленин жив». Что вы думаете по этому поводу?
КРУПСКАЯ (с возмущением). Аподумалли автор этого стихотворного текста о том, что у нас ещё немало верующих, как правило, малограмотных людей? Прочтут они такое название да и сделают из Ленина святого, бессмертного в самом прямом смысле слова! Можно и нужно говорить о бессмертии его учения, его дел.
ШОУ Как драматург не могу не спросить: «Есть ли пьесы о Ленине? Как вы к ним относитесь?»
КРУПСКАЯ. Недавно я выразила свое неудовольствие одному начинающему драматургу. Он описывает, как приезжают на поселение в Шушенское Надя, то есть я, и мама, то есть, моя мама. Дома они Ильича не застают. Он на охоте. Сидим, ждём. А говорить-то нам, по мнению автора пьесы, не о чем! Вот и пересказываем друг другу старое, известное. Я, например, в этой пьесе говорю о том, как Володя писал из тюрьмы на волю химические, нечитаемые письма. Писал молоком, чернильницы делал из хлеба. Знаю, знаю, подтверждает мама. А чернильницы эти тут же съедал, если в камеру врывался надзиратель. И это знаю, подтверждает мама. Дивный диалог! Пустословие какое-то! Совсем не в духе и не в манере драматурга Шоу!
ШОУ (смеясь). Спасибо за сердечный и неожиданный комплимент! О чем же и как нужно писать, чтобы вы остались довольны?
КРУПСКАЯ. Мне по душе образы созидателей, тружеников. Их миллионы, и каждый по-своему необыкновенен! Очень я озабочена репертуаром детских спектаклей. А вам очень советую подумать о женщинах Октября: Инессе Арманд, Елене Стасовой, Александре Коллонтай… Какое широкое поле деятельности для драматурга! А какой внутренний конфликт: бесстрашный боец за народную долю и в то же время элегантная и широко образованная и самостоятельно думающая женщина!
АСТОР. А я, пожалуй, прогуляюсь немного. На веранде так душно!
КРУПСКАЯ. Рекомендую вам осмотреть любимый сад Ильича. Он так любил цветы, особенно – алые розы!
Световая пауза. ШОУ и АСТОР выходят в сад, который виден зрителям, поскольку является как бы продолжением веранды.
ШОУ «О, мой милый, мой нежный прекрасный сад! Моя жизнь> моя молодость> счастье мое, прощай!» Вы слышите, какая музыка слова, какая в них поэзия!..
АСТОР. О чём это вы? Какая музыка? Какой сад?!
ШОУ «Вишнёвый сад». Только природа России могла навеять Чехову такой диалог! Чехов для меня – звезда первой величины.
АСТОР. А я увела вас оттуда, с веранды, чтобы вы хоть немного поостыли на свежем воздухе. Умерьте ваши пылкие восторги, прошу вас, настаиваю на этом! А то они вновь появятся в печати…
ШОУ И отлично! Будет то, к чему я стремлюсь! Ваши газеты, цитируя меня, помогают мне шире пропагандировать мои взгляды. Кое-кто из ваших людей даже назвал меня, Шоу, «глашатаем новой социалистической эпохи»! Поблагодарите, пожалуйста, при случае от моего имени вашу консервативную прессу. Ведь вы вхожи во многие её кабинеты…
АСТОР. Всё иронизируете? Всё издеваетесь? А вы понимаете, что находитесь среди яростных большевиков, что ваши неустоявшиеся взгляды могут быть истолкованы не в нашу пользу?..
ШОУ Как трогательна ваша забота обо мне, как о младенце, в том числе и политическом, хотя мне стукнуло семьдесят пять лет! Я как-нибудь сам смогу разобраться в том, за что я и против чего!
АСТОР. Помните – здесь вы находитесь во вражеской среде!
ШОУ Я окрылен встречами с хорошими русскими людьми.
АСТОР. Меня не так-то легко в этом убедить…
ШОУ Они вас даже не пытаются ни в чём убеждать. Запросто опрокидывают ваши откровенно враждебные позиции.
АСТОР. Но я не вступаю в политические дискуссии.
ШОУ Ваша манера легко разоблачается. Ваши уколы прикрыты болтовнёй, вроде как невинными дамскими разговорами. Здесь вам не салон моей Шарлотты!
АСТОР. Да что они понимают в светской жизни!
ШОУ Вы говорите о Крупской и Ульяновой? (Смеётся). Я думал о вас лучше, Ненси.
АСТОР. Когда же вы думали обо мне лучше?
ШОУ Тогда, когда задумывал монолог Эпифании из комедии «Миллионерша», для которой именно вы послужили натурой.
АСТОР. Интересно, как будет выглядеть на сцене ваша экстравагантная героиня Эпифания?
ШОУ Она скажет…
Наплыв. В луче прожектора «миллионерша», артистка.
ЭПИФАНИЯ. Я капиталистка, а в России была бы трудящейся… Мой мозг сохнет в Англии, а в России нужны такие деятельные женщины, как я. В Москве я не была бы миллионершей, но я была бы в Совнаркоме через шесть месяцев. В Англии у меня нет полной свободы, нет безопасности и нет возможности до конца выявить свои силы.
Затемнение. Свет.
ACTOP. Но причём здесь я?
ШОУ Мои герои никогда не бывают заурядными личностями.
ACTOP. Благодарю за комплимент. Вы наивный мальчишка! Меня не привязать к вашей тележке.
ШОУ Тогда она раздавит вас и тех, кто с вами. Присоединяйтесь же к моему «ура» в честь красного знамени, к молодой славе серпа и молота.
ACTOP. Какая наивность! Разве я могу сойти с моего пути?
ШОУ У вас нет достойных аргументов в этом споре. Вы видели, с каким мудрым спокойствием относятся наши хозяйки ко всяческой суете сует, как они решительно отстаивают свои взгляды со всей страстью убеждённых коммунисток, хотя делают это сдержанно, как подобает истинно благовоспитанным людям.
ACTOP. Боже, что будет с миром? Что будет с человечеством?!
ШОУ (повернулся к веранде). Продолжим?
ACTOP. Я ещё подышу немного… Одна!
С веранды исчез чайный стол.
КРУПСКАЯ. Шоу оказался симпатичным, выдержанным человеком…
УЛБЯНОВА. Чего нельзя сказать о леди Астор.
КРУПСКАЯ. Убери, пожалуйста, пугающий гостью блокнот.
УЛБЯНОВА. Я хотела осветить эту встречу в «Правде». Насколько я поняла, Шоу хочет перейти к особенной, главной, части разговора и придёт сюда один…
Помолчали. Вскоре на веранду поднялся гость.
ШОУ Разрешите?.. Я хотел бы вернуться к теме «Крупская и Ленин».
КРУПСКАЯ. Зачем так говорить? Ленин – это Ленин.
ШОУ Я согласен с Луизой Рид: «Крупская – первая женщина России, идеал женщины!»
КРУПСКАЯ. Луиза показалась мне слишком увлекающимся человеком.
ШОУ Клара Цеткин привела мысль Шиллера, так классически оправданную Крупской: «Человек вырастает по мере того, как растут его цели». Мне хотелось бы выявить ваши нынешние цели.
КРУПСКАЯ. Моя жизнь всегда шла следом за жизнью Ильича.
ШОУ Клара приветствовала вас, сознавая вашу личную ценность как революционного бойца. Ведь вас тоже сослали в Сибирь.
КРУПСКАЯ. Я разделила участь Ильича.
ШОУ Вы боец в литературе.
КРУПСКАЯ. Я не поэт, не писательница.
ШОУ А ваши педагогические сочинения? Почётный академик!.. Это поважней, чем женщина-парламентарий!
УЛБЯНОВА. В России это не новость, ещё в XVIII веке женщина была президентом Академии наук. Я говорю о Екатерине Дашковой.
ШОУ Я видел ее памятник среди сподвижников Екатерины Второй в Ленинграде. Как мало мы знаем Россию! А ведь русские обогнали нас в великом соревновании цивилизаций…
УЛЬЯНОВА. Вы хотите сказать о таких благах, как открытие электрического света Яблочковым или радио – Поповым?
ШОУ Я вспомнил Бетховена. Свою «Торжественную мессу» он посвятил русским, по его словам, «просвещённой и гуманной нации». Европейскую музыку и даже историю английской литературы я изучал по книгам русских историков Улыбышева и Чебышева. Я помню и слова Горького о том, как гений русского народа щедро одарил мировую культуру…
Возвращается на веранду Астор.
АСТОР. Не понимаю, о чём он говорит?..
УЛЬЯНОВА. О гиганте Пушкине, волшебнике Глинке, прекрасном Брюллове, беспощадном Гоголе, тоскующем Лермонтове, грустном Тургеневе, о совести народной Достоевском, неподражаемых Крамском и Репине, Мусоргском и Римском-Корсакове, о великом лирике Чайковском и чародее языка Островском… О ком ещё? Напомни, пожалуйста, Надя!
КРУПСКАЯ. О Лескове, который все силы, всю жизнь потратил на то, чтобы создать положительный тип русского человека.
ШОУ Ах, да, Левша! (Смеётся). Они блоху подковал «аглицкую». Какой талантливый русский мужик! В этой речи Горького был великолепный финал. Как это?..
УЛЬЯНОВА. «Радостно, до безумной гордости волнует не только обилие талантов, рождённых Россией и поражающее разнообразие их, но и то, что это всё грандиозное создано менее, чем в сотню лет, хотя и замкнуты были уста народа, связаны крылья души, но сердце его родило десятки великих художников слова, звуков, красот…»
ШОУ Поразительно! Сюда необходимо добавить и самого Горького, и Антона Чехова. Вот это драматург! У него совершеннейшее чувство театра, чувство сцены! Вот он и заставил меня осознать себя в драматургии новичком. Я влюбился в его «Чайку». А ведь это, по сути дела, горестный рассказ о нашем писательском ремесле. Считаю свою пьесу «Дом, где разбиваются сердца» фантазией в русском духе на английские темы. Удивительно, но в чисто русских пьесах Чехова отражена жизнь европейцев вообще.
АСТОР. А мне казалось, что вы, как драматург, больше увлечены были Ибсеном!
ШОУ Я учусь быть объективным, хотя писателю это труднее, чем ученому, знатоку какой-то научной отрасли. Позвольте, миледи, мне не отвлекаться, а продолжить мои раздумия вслух о русской культуре. Что бы делала опера без Шаляпина? Балет – без Анны Павловой? Драматический театр – без Станиславского? Проза – без Льва Толстого?.. Русские умеют показывать нам всем пути в завтра.
УЛЬЯНОВА. Убеждена, что в этом ряду вполне можно говорить и о таких поэтах, как Блок, Маяковский, Есенин.
ШОУ Всё это так, но главное – то общественное переустройство, которое идёт от Владимира Ленина и которое осуществляется у нас на глазах. Это переустройство питает таланты, возвеличивает человека…
АСТОР. Но в вашей стране, в вашей жизни так много, русские господа, непорядка! Нехватки, недоделки. Это всё – из вашей же печати, за которой мы внимательно следим. Правда, есть у вас и редкие драгоценности…
КРУПСКАЯ. Лично меня драгоценности никогда не волновали. Для меня алмазный фонд нашей страны – это дети. А что касается нашей жизни, особенно нашего повсеместного быта по сравнению с богатейшими странами мира, то, во-первых, мы своих трудностей не скрываем, тем более, что многие из них возникли благодаря активным действиям этих самых богатейших стран, а во-вторых, строительные леса (а наша страна это сейчас прежде всего стройка!) не очень-то привлекательно выглядят, но они будут со временем сняты, и тогда…
АСТОР (перебивая Крупскую). У нас в наших кругах говорят, будто Ульяновы – это ест знатный русский род!..
УЛЬЯНОВА (усмехаясь). Помещик, чьими рабами были наши предки, носил далеко не аристократическую фамилию. Он звался Брехов!
ШОУ Можно ли перевести это слово?
УЛЬЯНОВА. Брехов? Врун, лжец. Собачий лай.
ШОУ Благодарю вас. Биографию мистера Ленина я изучал пристально, но этот факт ускользнул от меня.
АСТОР. Пожалуйста, миссис Крупская, больше о… личном!
КРУПСКАЯ. Мне хорошо живётся в личном отношении. Я очень люблю свою работу. Жизнь кипит все годы, бьёт через край. И если бы можно было начать жизнь снова, то я немногое хотела бы изменить в ней. Так, мелочи…
АСТОР. Что-то долго не звонят нам из Москвы!
КРУПСКАЯ. Что вы успели посмотреть в Москве?
ШОУ Мавзолей Ленина… прежде всего. Музей революции. Кремль – упоительную фантазию итальянских зодчих на русские темы.
КРУПСКАЯ. Не забудьте упомянуть Бажена Огурцова, Дионисия, инока Рублёва, Феофана Грека, Барму и Постника.
ШОУ Запомню эти имена… Затем Парк культуры, Болшевскую коммуну бывших беспризорников… Бывшие воришки сказали мне, что капитализм – это ни что иное, как воровство! Они – мои единомышленники!
КРУПСКАЯ. Что ещё вам понравилось в Москве?
ШОУ Камерный театр. Алиса Коонен – это именно та Клеопатра, о которой я думал: ребёнок, девушка, царица… Актриса тревожит душу зрителя, заставляет его страдать.
ACTOP. Зачем нам страдания в театре? Меня позабавило, когда Коонен изображала свой страх перед ужасным негром.
ШОУ У театра более высокие цели, чем забавлять знать и забавляться самому. Театр должен толковать жизнь, как это делает Камерный театр.
КРУПСКАЯ. Отрадно слышать.
УЛЬЯНОВА. В спектакле они свергли с трона вашего Цезаря и сделали его человеком.
ШОУ Если бы такое замечание я услышал раньше… Сегодня я расположен говорить о том, о чём уже писал, но более продуманно. Вы начали о литературе, о Ленине.
КРУПСКАЯ. Нашим писателям я говорю…
ШОУ… что героев революции надо изображать суровыми красками во всей жизненной правде?
КРУПСКАЯ. Я стою на этой позиции Карла Маркса, но с поправкой Эпитет «суровый» – не для Ленина. Почему так заразительно смеялся Ильич? Почему он постоянно шутил? Таклюбил он «зелёное древо жизни». Чудесные слова Фауста о вечности. Столько радости давала ему борьба!
ШОУ Вот и приподнялась завеса над тайной образа! Не в поисках ли таких черт мечта любого художника? Но Ленин стоял особняком, как личность неповторимая.
КРУПСКАЯ. «Особняком»? «Неповторимость»?! Хотела бы возразить!
ШОУ Вы могли бы помочь мне многое осмыслить. Не знаю как и подойти к волнующему меня вопросу.
КРУПСКАЯ. Как можно свободней. Что вас так тревожит?
ШОУ Современное состояние нашего общества. Оно несовместимо с моим чувством чести. Фашизм уже ощерился, яростно скалит зубы, почуяв смертельный страх и ужас перед силой ваших идей. Пройдёт не так много времени и, поверьте, он спустит с цепи псов новой бойни! Нельзя допустить, чтобы молодые бессмысленно погибали ещё в одной мировой войне.
КРУПСКАЯ. Мы разделяем ваше беспокойство. В чём же выход?
ШОУ Спасение – в учении Ленина. Войны нельзя прекратить, пока существует капитализм. Если ваши идеи не буду осуществлены во всемирном масштабе, то вселенная потерпит крах, и человечество в лучшем случае (если не погибнет вовсе!) вернётся к пещерным временам! Но если будущее явится всем нам таким, каким его видел Ленин, тогда мы все сможем смотреть в будущее без панического ужаса.
КРУПСКАЯ. Мне по душе ваши слова, но ведь ваша страна без меры вооружается против нас, а вовсе не против фашизма!
ШОУ Да, есть деятели на Британских островах, которые, простите за каламбур, перечертили самого Черчилля, которые мне видится злым волшебником, оседлавшим пушку!
УЛЬЯНОВА. Мир, проблема сохранения мира – вот один из самых главных заветов Ленина!
ШОУ Я никогда не забываю о том, что он был первым автором первого в мире Декрета о мире!
КРУПСКАЯ. Это был необходимый закон пролетариата-победителя.
ШОУ (заговорщицким тоном). А вы не могли бы мне пусть не открыть, но хотя бы приоткрыть одну тайну?..
КРУПСКАЯ и УЛЬЯНОВА (вместе). Тайну?!
ШОУ Да, именно тайну. Тайну провидения. Я хочу её осмыслить и передать свою надежду тем, кто захочет меня услышать.
КРУПСКАЯ (иронично). Смею вас заверить – никакой особой тайны, тем более мистической, у нас нет и быть не может! Вся жизнь Ильича – открытая книга.
ШОУ (помолчав). «Ильич»… Вы произносите это имя с необычной теплотой. И всё же есть некая тайна в его образе, личности, не раскрытая до конца никем. В книге Вильяма Риса «Человек и дело» я прочёл о том, что Ленин был самым цивилизованным и гуманным человеком, которого автор когда-либо встречал. Мне это особенно важно понять – ведь я ищу идеал нового человека!
АСТОР. О, как надоела эта политика! Ведь мы все – живые люди! Лучше расскажите мне не как заместитель министра, а просто как женщина, какие у вас хобби, увлечения, чем любите заниматься в свободное время?..
КРУПСКАЯ (помолчав). Да у нас с Марией Ильиничной нет никакого так называемого свободного времени! Это стало нормой наших жизней.
АСТОР (не унимается). Может быть, в молодые годы вы участвовали в каких-нибудь увлечениях Ленина?..
КРУПСКАЯ (решительно). Ленин с юных лет ненавидел пустое времяпровождение, сплетни, мещанство, семейную жизнь без общественных интересов, превращение женщины в предмет забавы, презирал жизнь, проникнутую неискренностью.
АСТОР. Но любил же он какие-то развлечения?
КРУПСКАЯ. При всей своей огромной занятости любил бывать в театрах, на концертах, с удовольствием играл в шахматы. Прогулки очень любил, на коньках катался, плавал. Не удивляйтесь, но очень любил лазать по кручам, как и в политике, между прочим. (Усмехается). Известно, что на охоту ходил, но охота не была для него, так сказать, промыслом, тем более – хищническим истреблением живого. Ценил красоту и мира животных, и мира растений. Вообще любил жизнь во всей её полноте. Очень любил верных товарищей, старых, испытанных друзей.
АСТОР. Скажите, а был ли всё-таки Ленин хоть немного религиозным?
КРУПСКАЯ и УЛЬЯНОВА переглянулись.
ШОУ Позвольте, отвечу на этот вопрос я. Религия даёт наставления, как должны вести себя рабы. А в Москве мне на днях показали новый букварь. Он начинается словами: «Мы не рабы, рабы немы!» Вот, вероятно, исчерпывающий, хотя и неожиданный ответ на вопрос, который только что прозвучал. А ведь религия освещает всё то, о чём только что говорилось: и растительную жизнь, и добровольное рабство, и покорность судьбе и сильным мира сего… Но, впрочем, кто о чём, а я – опять об искусстве! Похож ли мистер Ленин на себя вот в этой скульптуре? (Показывает фотоснимок).
КРУПСКАЯ (вглядываясь). Ни капельки! Разве можно изображать Ильича таким «сверхчеловеком»?
ШОУ Но ведь он всё-таки вождь – и не только своей страны!
КРУПСКАЯ. Но прежде всего – человек. А скульптор сделал из него какого-то небожителя!
АСТОР. Поскольку речь зашла о скульптуре, не могу не задать такой вопрос: «Говорит ли вам что-нибудь имя английского скульптора Клер Шеридан?» Я лично заинтересована в её работах.
КРУПСКАЯ. Шеридан? Она лепила бюст Ильича.
ШОУ Я читал её «Московский дневник». Курьёзная вещъ!
АСТОР. Я приобрела статуэтку работы Клер под названием «Сын». Дорогая вещь!
ШОУ Ещё бы! Произведения Клер в цене! Ведь она – кузина самого Черчилля!
УЛЬЯНОВА. Удивительно! Военный министр Англии отправлял в Советскую Россию близкую родственницу одновременно с пушками интервентов!
ШОУ Да, парадокс, буквально – в моём духе! Человек из рода величайшего врага Ленина увековечивает образ величайшего из врагов Черчилля! Скандал на всю мировую историю и всю мировую историю искусств! (Смеётся). О! Да, кажется, ещё одна родственница Черчилля слегка покраснела!..
АСТОР (почти плачущим голосом). Вы невозможны, Шоу!
ШОУ (продолжая свой меткий выпад). Обратите внимание – кузен Шеридан упорствовал: «Поезжай, упрямая, к этим разбойникам и крокодилам!» Это – прямая цитата из дневника Клер Шеридан. Очень экстравагантная особа, как и многие англичанки из её круга.
КРУПСКАЯ (смеётся). Какое дивное совпадение!
УЛЬЯНОВА. Что ты имеешь в виду, Надюша?
КРУПСКАЯ. Вспомни-ка начало речи Ильича на Десятом съезде партии!
УЛЬЯНОВА. Там шла речь о капиталистах, которые при НЭПе склонны были торговать с большевиками…
КРУПСКАЯ (ехидно). «С разбойниками и крокодилами»! Явная цитата из творения этой англичанки!
ШОУ Видите, даже такой курьёз может послужить поводом для
политического выступления! А знаете, я всё чаще вспоминаю слова Карла Маркса о том, что покончить с прошлым, лучше всего, смеясь над ним!
ACTOP. Нравятся ли вам произведения нашего Шоу?
КРУПСКАЯ. Когда произведение глубоко по мысли, по авторскому познанию жизни, оно всегда словесно просто. Сила внутри слов, а не во внешней затейливости формы.
УЛЬЯНОВА. И брат говорил: «Шоу пишет интересно, но замысловато…».
ШОУ Принимаю ваш намёк, вернее, упрёк.
АСТОР. Такие отзывы диктуются личными склонностями?
ШОУ Критика, в которой нет личных симпатий или антипатий, не заслуживает того, чтобы её читали. Критик должен быть против всех, и все должны быть против него.
КРУПСКАЯ. Почему вы решили пробыть у нас только девять дней?
ШОУ Я хотел бы пробыть в СССР девять лет, но все мы люди занятые. Я многое знал о России. Но я должен был точнее ответить моим противникам, когда они говорили: «Вы считаете Россию замечательной страной, но вы там не были и не видели всех ужасов». Теперь, когда я вернусь в Лондон, я смогу сказать: да, я увидел все эти «ужасы», и они мне ужасно понравились! На Западе я нужнее. Моё страстное, неуёмное желание – обратить всех людей в мою веру в социализм…
АСТОР. Посмотрите на часы, Дебеша. Нас ждёт ужин у Литвинова.
ШОУ Да, прощальный… А ещё так много нужно увидеть и услышать в Москве ив Горках!..
УЛЬЯНОВА. Может быть, позвонить в Наркоминдел и узнать, не будет ли отсрочки?
ШОУ Очень прошу вас, Мария Ильинична.
УЛЬЯНОВА направилась к веранде.
ШОУ Я не успел спросить… Правильно ли у вас пишут о Ленине?
КРУПСКАЯ. Есть один пример, как раз из драматургии. Прислали мне пьесу на отзыв. Автор добросовестно изучил материалы о Ленине, но образ настоящего Ленина выразить не смог.
ШОУ В чём же там нарушение правды?
КРУПСКАЯ. В характере. Будто приходит к нам в Шушенском Кржижановский и рассказывает «мне», что они с Ильичом расчистили каток, катались на коньках, и что Ильич обогнал его.
АСТОР. Такая мелочь?
КРУПСКАЯ. Нет, не мелочь, а решительное заблуждение! Будто я на это отвечаю: «Ему, Ильичу, всегда и во всём хочется быть первым!» Полноте, Ильич никогда не был рабом тщеславия, никогда не думал – будет ли он первым, вторым или каким-то там ещё…
Возвратилась МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА.
УЛЬЯНОВА. У вас ещё есть немного времени. Вам позвонят.
ШОУ Благодарю вас. (Крупской). Я весь внимание. О слове…
КРУПСКАЯ. Ильич писал просто. И всё же была у него игра такая: он читает написанное, а я изображаю «беспонятного» слушателя; стараюсь придраться, но не могу.
ШОУ (весело). Не могли бы вы, миледи, сыграть роль моего… «беспонятного» слушателя?
АСТОР (сухо). Я часто выполняю эту неблагодарную роль. Нам давно пора уезжать, а вы заговорились. Кто-то сказал, что говорливости и подвижности Шоу хватило бы на целое поколение.
ШОУ Потерпите минуточку, Ненси. (Крупской). Простите, мы вас прервали.
КРУПСКАЯ. У нас были попытки взять за образец Ленина, но показывали его в искусстве порою аскетом или филистёром, простачком…
ШОУ Кажется, близится ответ на мой вопрос…
КРУПСКАЯ. Что наложило на всю жизнь Ленина печать значительности, не оставив места никаким мелким чувствам? Когда человек переживёт большое чувство в молодости, это и кладёт отпечаток на весь его облик.
ШОУ Какое же самое большое чувство он пережил?
КРУПСКАЯ. Известно, что в ранней юности Володя был потрясён гибелью любимого брата Александра, казнённого царём Александром Третьим.
ШОУ Я не подумал об этом.
КРУПСКАЯ. Тогда он начал бороться за то же дело, за которое погиб родной человек. Правда, с иных позиций, иными средствами.
УЛЬЯНОВА. Кто-то из учёных мужей оспаривал это положение.
КРУПСКАЯ. Можно сослаться на документ. Ильич начал было писать автобиографию. Во второй же фразе было на это указано.
ШОУ Мне и в голову не приходило, как это важно.
КРУПСКАЯ. Но не только пережитое в молодости наложило свою печать. В жизни часто Ильич стоял на краю смерти. Это ведь тоже страхует от мелких чувств.
ШОУ На краю смерти?!
КРУПСКАЯ. Вспоминаю седьмой год. Спасаясь от царской охранки, Ильич принуждён был зимой пробираться на шведский берег по льду. Тонкий лёд подломился. Ленин тонул… Какое-то чудо спасло его.
УЛЬЯНОВА. Чудо простое. Брат – отличный и смелый пловец!
КРУПСКАЯ. Или в четырнадцатом в западной Польше. Австрийские военные власти схватили Ильича в Поронино, собирались казнить его, как якобы шпиона русского царя…
ШОУ Додумались…
КРУПСКАЯ. Выстоял! Были покушения на его жизнь в семнадцатом. Не один раз… Отбился! В восемнадцатом правые эсеры убивали Ильича. Выжил! Было нападение бандитов на нас в девятнадцатом, в Сокольниках. Вспоминаю его выдержку и…
ШОУ И восхищаюсь!
КРУПСКАЯ. Теперь вы сами сможете сделать вывод, каким был Ленин.
ШОУ Спасибо. Я виноват перед вами: слишком затруднил вас своими вопросами. Но мне крайне важна была именно такая беседа!
КРУПСКАЯ. Спрашивайте, пожалуйста. Может быть, у вас есть ещё какой-нибудь наболевший вопрос?..
ШОУ Да, такой вопрос у меня есть. Мы, писатели первой трети двадцатого века, по сравнению с нашими коллегами минувших времён находимся в совершенно исключительном положении: нам всё чаще приходится писать с оглядкой на новую музу, музу кинематографа. Да, я отдаю себе отчёт в том, что эра Великого немого завершается, а эра Великого звукового кино ещё не наступила (пока мы имеем лишь эксперименты, к тому же не самые удачные!). И всё-таки взгляд на жизнь через кадр, взгляд на киноэкран – это нечто совершенно новое, от чего никак не отрешиться!
КРУПСКАЯ. Владимир Ильич верил в грядущий расцвет кино, был уверен в том, что начинать надо с кинохроники. Он и в этом оказался прав: ведь кинохроника – это не только бесценный клад для будущих историков, но и прекрасная школа для тех, кто решил посвятить кино свою жизнь.
ШОУ Ленина снимали кинохроникёры и – немало, как я понимаю. Наверное, таких кинофрагментов можно набрать на большой фильм?..
КРУПСКАЯ. Я непременно хочу подчеркнуть, что это была не парадная, не церемониальная съёмка, как в годы царствования последнего Романова, а по сути дела – киногазета. И вот ведь какой неожиданный эффект возник. Театральные артисты пытаются подражать этому киноэкранному образу Ленина: движения порывисты, даже суетливы, размашисты… Да, как оратор Ленин порою позволял себе такие жесты, но сравнительно редко и не в такой, конечно же, степени! А дело оказалось в технике киносъёмок и кинопоказа: раньше было, кажется, восемнадцать кадров в секунду, а ныне – двадцать четыре кадра. Вот откуда идет неверное восприятие! Но я верю, что будущие исполнители будущих ролей Ленина на сцене и на экране найдут правильные ответы на свои многочисленные актёрские вопросы.
ШОУ Я пока у нас, в туманном Альбионе, не вижу кинодостижений. Экраны, ныне уже довольно многочисленные, заполнены американской продукцией, а это – вечный и сплошной мордобой в чередовании с поцелуями крупным планом, в лучшем случае – поцелуями… А лично мне, честно говоря, очень хотелось бы (как это по-русски?) ТРЯХАНУТЬ СТАРЙНОЙ и написать что-нибудь для новой музы!
КРУПСКАЯ и УЛЬЯНОВА (улыбаются).
КРУПСКАЯ. Позвольте вас поправить. Мы, русские, говорим так: «ТРЯХНУТЬ СТАРИНОЙ». Но, думаю, выражу общее мнение, сказав, что ваши друзья в нашей стране были бы рады видеть на киноэкранах вашу кинопремьеру.
ШОУ Есть у меня ещё один, может быть, самый волнующий меня вопрос. Верил ли Ленин в скорую и полную победу коммунистической революции?
КРУПСКАЯ. Мы все были одержимы идеей именно мировой революции, и, что самое главное, – многие предпосылки для такой революции, хотя бы в некоторых странах Европы, имелись. Сопротивление сил реакции оказалось ещё более жестоким и отчаянным, чем мы ожидали. Что же касается веры… Впрочем, это не то слово! Лучше сказать – убеждённости в избранном пути. Бесспорно, Ленин в этом был убеждён.
ШОУ А я всё-таки обращусь к слову ВЕРА. Я лично после поездки в СССР и нашего свидания в Горках, которое, увы, завершается, именно ВЕРЮ теперь, что цивилизация на планете будет спасена.
АСТОР (вставая). Вашим увлеченьям, сэр, нет предела!.. Пойду к автомобилю. (В сторону Крупской и Ульяновой). Благодарю за беседу. Поторопитесь, пожалуйста, мой спутник, или я уеду в Москву одна. Прощайте. (Ушла).
КРУПСКАЯ (берёт из вазы букет роз). Это вам на память о нашем свидании в Горках.
ШОУ (взволнованно прижимая букет к груди). Его любимые алые розы…
Занавес
1970–1978
Краткое послесловие Н.Н. Сотникова
По данным Википедии, Бернард Шоу гостил в СССР с 21 июля по 31 июня 1931 года. 29 июля его принял Сталин. В интервью, которое Шоу дал в Берлине по дороге в Лондон, он заявил: «Сталин – очень приятный человек и действительно руководитель рабочего класса… Сталин – гигант, а все западные деятели – пигмеи». Значит, в том числе – и его вечный антогонист Черчиль.
Прибыв в Лондон, в своём докладе 6 сентября 1931 года о поездке в СССР Шоу выразил своё неприятие парламентаризма, о чём нам ныне не следует забывать, и отметил: «Люди Советской России имеют не только огромное моральное превосходство над нашими, но и значительное умственное превосходство».
Н. А. Сотников. «…И взвившись, занавес шумит». Театральные оценки, которые не потеряли своего значения за минувшие полвека
«В зрительном зале – драматург»
… И взвившись, занавес шумит. А. С. Пушкин. (Из романа «Евгений Онегин»)Так хотел назвать свою брошюру отец в 70-е годы и даже вёл предварительные переговоры на сей счёт с издательством «Знание». Дело в том, что помимо чисто зрительской реакции есть особые, аспектные, взгляды на происходящее на сцене у специалистов: режиссёров, художников-постановщиков, осветителей, гримёров, костюмеров, музыкантов (реже) и, разумеется, актёров. Взгляд же драматурга – совершенно отличен, у него совсем другие задачи. И если режиссёра в принципе может вдохновлять сравнение десяти постановок чеховских «Трёх сестёр», то драматурга прежде всего интересует репертуар, а в репертуаре – не сотая интерпретация «Грозы» и двухсотая – «Ревизора», а новые пьесы, новые имена, в редчайших случаях – возобновление давно не видевшей света рампы пьесы или же (что огромная редкость!) постановка никогда не ставившейся пьесы сравнительно недавних десятилетий. Пример? Драма Дмитрия Кедрина «Рембрант» на сцене Театра имени А. С. Пушкина.
Гораздо более утилитарный взгляд у театрального критика или же тем более начинающего газетного рецензента. На сей счёт есть забавный анекдот. Идёт спектакль. Какой-то уставшего вида молодой человек спрашивает у соседа, показывая пальцем на сцену: «Извините, а что он сказал?», через несколько минут он обращается к соседке и уточняет: «А чего это они на сцену вынесли?» Изумлённые соседи в один голос заявляют «пытливому» зрителю: «Да вы и слышите плохо, и видите плохо. Вы же не получаете никакого удовольствия!» «Какое там удовольствие! – восклицает театрал. – Я – рецензент. Завотделом культуры требует, чтобы рецензия на этот спектакль была бы ему сдана завтра до обеда!»
В нашем случае драматург совмещал свои профессиональные обязанности с долгом критика, при этом не забывая, как ныне говорят, и о своём «административном ресурсе». Да, отец не был администратором, решающим, «быть или не быть» премьере, включению пьесы в репертуар следующего сезона, но к его мнению прислушивались. Во всяком случае, в областных и краевых городах он мог помочь начинающим авторам реально, а не только морально. К тому же он был активным членом сперва секции, а затем объединения драматургов Московской писательской организации (это одно и то же, только ОБЪЕДИНЕНИЕ звучало солиднее), даже слишком активным, за что, взрослея, отца всё чаще поругивал я: «Да не лезь ты в эти дела! Голос у тебя один, союзников мало. Неприятностей будет тьма!» Но отец буквально с мальчишеским азартом бросался в самую гущу событий, что вы сможете увидеть, прочитав публикации этого раздела. Катализатором текстов являлись и карикатуры, распространённые в XIX – начале XX века (был даже такой журнал «Театр в карикатурах»!), а это есть огромная редкость в мире нынешней театральной критики. Некоторые из этих карикатур вы сможете увидеть воспроизведенными в тетрадке. Острые и даже, я бы сказал, ядовитые. Как мне говорил один коллега отца, в карикатуре к разговору о делах и планах московских драматургов несколько читателей (не рядовых, конечно!) обнаружили портретные сходства… А это уже – ЧП!
Готовя данный раздел, я провёл большую сортировку отцовских театрально-критических публикаций, решительно отказавшись от слишком частных, локальных, слишком информационных, но то, что осталось, меня поразило… нынешней актуальностью! Тенденции, которые в ту пору всячески маскировались, скрывались, почти не заявляли громко о себе, ныне расцвели пышным цветом. Если в конце минувшего века оплата завлиту авторского драматургического гонорара за выполнение своих штатных служебных обязанностей было явлением исключительным, то ныне завлиты ползли в соавторы к классикам минувших веков, уподобляясь портным-перелицовщикам первых послевоенных лет. Если раньше отступление от канонического текста в классической пьесе могло стать предметом рассмотрения в разных строгих инстанциях, то теперь, как говорят уголовники, «лепят горбатого», не стесняясь! Классическим персонажем навязывается не толькой чуждый им текст, но и дикие для их эпохи и строя действия. В одном театришке Гамлет стал размалёванной куклой со следами крови на шее (???), в другом чеховские сёстры стали велосипедистками! Некоторых мужчин и особенно женщин режиссёры решили медленно, но неуклонно освобождать от излишней одежды. Правда, абсолютных «голышек» ещё очень мало, но, как писала пресса, даже на сцене прославленного Театраимени А. С. Пушкина уже была запеленгована в пьесе классического репертуара актриса безо всего в верхней части своего туловища.
Отдельные попытки к такому «клубницизму» в театре мелькали в 60-е и особенно в 70-е годы, но тут же пересекались. Между прочим, словечко М. Е. Салтыкова-Щедрина «клубницизм» применительно к этим «явлениям» ввёлмой отец. Скандал был и вертикальный, и горизонтальный.
Матерных слов, которые заполонили экраны фильмов и телепередач, в чистом виде не было, но разного рода словесные гнусности уже пачкали уши зрителей.
Так что почти все нынешние явления берут начала во времена Хрущёва и Брежнева, которые сами были большими любителями разного рода непристойностей, несмотря на иконопись их прославителей.
Отец, как вы сейчас прочтёте, особое внимание уделял формированию репертуара, обновлению его, включению в репертуар новых имён, значительно расширяя пространства театральной карты России.
Работая над книгой, я себя поймал на одном неожиданном наблюдении: да, широка география и семинаров, и совещаний, театров, и городов, в которых жили ученики отца, но именно юга России я не встречал ни разу! Ростов-на-Дону и Краснодар как-то выпадали из общих забот и разговоров. А ведь чисто территориально они куда ближе, нежели, скажем, Хабаровск! Да, этими городами занимались зональные литконсультанты по прозе и поэзии. Обращал на себя внимание совсем ещё молодой краснодарец Виктор Лихоносов, обсуждались журнал «Дон», альманах «Кубань», а вот театры…
Думаю, что отцу, как и мне, гораздо была духовно ближе Вологда, нежели разудалые казацкие «юга»! О донских казаках я даже не говорю, вспоминая строки из романа Михаила Шолохова «Тихий Дон»: «Рабочие никогда нам не простят 1905 года!» и «Вот он, Дон-батюшка, не то, что Русь вонючая!» Всё это не забывается никогда.
Полагаю, что эти позиции разделял и Леонид Соболев, который вполне мог бы сказать отцу: «Николай Афанасьевич! Что-то вы о юге забываете!..» По словам отца, не говорил так никогда.
… В текстах, которые вы сейчас прочитаете, мною сделаны некоторые сокращения после сверки с отцовскими чистовиками и черновиками из домашнего архива. Исправлены кое-какие явные ошибки редакционного характера. От всего этого тексты стали динамичнее, бодрее и наступательнее.
К середине 60-х годов по мере приближения 20-летия Победы отец всё больше внимания уделяет публицистике, который пронизаны и театрально-критические тексты, всё больше и чаще обращается к своей памяти блокадной, памяти фронтовой. Правда, в журнале «Детская литература» иногда появляются отцовские рецензии, но они занимают подчинённое положение по сравнению с публицистическими статьями, обращёнными к педагогам, родителям, детским библиотекарям, методистам, руководителям кружков детской художественной самодеятельности. Непосредственно к юным читателям журнал не адресовался: тут нужен иной подход, иной язык, иная жанровая система, о чём не раз говорил отец, выступая на редсоветах при журнале. Именно на страницах «Детской литературы» было опубликовано одно из лучших эссе отца – о творчестве таджика Джалола Икрами, размышляющего о литературной школе и литературных уроках, которые будущий писатель должен усваивать с возможно раннего детства. Итак…
Критика и юрисдикция
В притихшем затемнённом зале, в луче прожектора возникает печальное лицо героини спектакля, как бы затуманенное какой-то неотвязной горестной мыслью. За сценой звучит песня, трепетная русская песня В. Левашова о «девичьем сердце». Эта песенная строка вошла в название спектакля Московского драматического театра «Сердце девичье затуманилось…».
И уже одно это название, и эта мелодия, ставшая лейтмотивом образа молодой страдающей женщины, и её прекрасное лицо, полное тяжёлых раздумий – всё это тревожит душу непредубежденного зрителя.
Поэзия в театре… Это не всегда бывает. Здесь она овладела небольшой сценой на Спартаковской улице, передалась в зрительный зал, раскрытая и воплощенная ярким и беспокойным талантом режиссёра Бориса Равенских.
Авторский и режиссёрский замысел мною понят так: это спектакль о духовной красоте советской женщины, отстаивающей свое право на яркую содержательную жизнь, право на личное счастье и на творческий труд, отвечающий духовному призванию.
И молодой драматург В. Курочкин и Б. Равенских (являющийся одним из авторов пьесы) обнаруживают хорошее знание жизни колхозной деревни, умение проникать в сокровенные тайны человеческого сердца, способность создавать выразительные человеческие характеры.
Неверно подходить к пьесе «Сердце девичье затуманилось…» и спектаклю Московского драматического театра с меркой соответствия или несоответствия пьесе В. Курочкина «Козыриха», напечатанной два года назад в журнале «Театр». «Сердце девичье затуманилось…» – новое, самостоятельное произведение. «Козыриха» – драма. «Сердце девичье затуманилось…» – комедия. Прежние имена действующих лиц, но новые характеры, новое освещение событий и людей. Новое решение темы.
Большой удачей спектакля является поэтический образ главной героини Даши Козыревой. Обрисованный артисткой Зинаидой Кириенко[176] свежими, своеобразными красками, этот образ заслуживает пристального внимания.
Подлинная человеческая теплота, с какой отнеслись В. Курочкин и Б. Равенских к своей героине, сообщает и ей и всей пьесе особую привлекательность. Перед нами проходит отчетливо индивидуализированная, нешаблонно выраженная, по-новому увиденная судьба человека.
Нелегко сложилась жизнь юной Даши. В угоду больной матери девушка пошла жить в чужой дом Козыревых, без любви выйдя замуж за жалкого недоучку-неудачника, слабохарактерного парня, не способного построить свою судьбу и настоящую жизнь в семье.
Пусто, одиноко текли дни Даши, не приспособившейся ни к домашнему хозяйству, ни к работе в поле, ни к учению, ни к чему…
Так в пьесе «Сердце девичье затуманилось…» появилось по сравнению с «Козырихой» новое творческое задание. Это повлекло за собой и изменение жанра пьесы.
Естественно, что потребовались новые краски, иное решение сюжета. И авторы увидели Дашу иной, чем она была в «Козырихе». Как человек недюжинного характера и ума, она иронически относится к своему положению и окружению, давая ему верную оценку.
Поглощённая своими сокровенными мыслями, сознавая необычность своего положения, Даша высмеивает наскучивших ей незадачливых «партнеров» по судьбе.
Даша пропускает мимо ушей и попрёки сварливой свекрови (Е. Сперанская), и неврастенические излияния мужа (С. Яковлев), и смехотворные домогательства влюблённого стяжателя Пеки (А. Ширшов), и наскоки других «доброжелателей».
Новый сюжетный поворот. На душе у героини – праздник. Впервые в жизни она горячо полюбила, и её жизнь обрела новый смысл!..
Праздник у неё на душе, и праздник на сцене! Достаточно вспомнить все эпизоды в лесу, нарядно и со вкусом оформленные художником Т. Старженецкой. Так решается Б. Равенских эта часть спектакля, и это не может не увлечь и не порадовать зрителя. В пьесе зазвучала тема большого чувства, выраженная, можно оказать, «симфонически», как это часто бывает в постановках Бориса Равенских.
Здесь требуется небольшое отступление на тему о судьбе пьесы. На сцене – поэзия, музыка, праздник! А вот на страницы некоторых газет и журналов проникли вялая, скрипучая проза и ложное теоретизирование.
Критик Н. Громов в своей статье «Чьё же сердце затуманилось?» («Театральная жизнь», № 21) говорит о чём угодно, только не о главной теме спектакля и не о главном достижении авторов, постановщика и исполнительницы.
Авторы некоторых рецензий (В. Залесский, К. Щербаков, Б. Медведев) решили «заступиться» за молодого драматурга В. Курочкина, «защитить» его от «режиссерского произвола» Б. Равенских.
Как видно из письма в редакцию «Театральной жизни» Виктора Курочкина, никто в такой услуге не нуждается.
Что выгодно отличает новую пьесу от прежней?
Первое различие – в новом ключе сюжета, против чего необдуманно ополчаются рецензенты. Комедия приобрела новое содержание – сатирическую направленность против обывательщины. Отчасти благодаря перемене в жанре характер Даши приобрёл черты незаурядности, значительности. В этом оказывается плодотворность содружества Б. Равенских, В. Курочкина и 3. Кириенко, придавших первоначальному замыслу не только «третье измерение», но глубину мысли и остроту положений.
Итак, больше всего привлекают в спектакле по-новому увиденная судьба главной героини. Этот образ чрезвычайно интересно истолкован Зинаидой Кириенко, недавно вышедшей на театральные подмостки.
Разве о таком недружелюбном приёме со стороны театральных критиков могла думать талантливая артистка, чей дебют в этой роли случайно совпал со спорами на постороннюю тему? Впрочем, зрители по достоинству приняли её работу в спектакле…
Да, у Даши был «туман». Но он рассеялся. Героиня показала, что она может найти своё место в жизни.
Мы увидели необычное, праздничное театральное зрелище, наполненное большой мыслью и сильным чувством. Талантливый режиссёр привлёк самые разнообразные средства сцены, которыми он так искусно владеет.
Речь идёт о новой пьесе В. Курочкина и Б. Равенских, а рецензенты «бьют тревогу» и защищают старую пьесу, от которой В. Курочкин отказался.
Пусть, на строгий взгляд критики, в спектакле не всё обстоит гладко. Отдельные недочёты и промахи – дело поправимое. Они устраняются в ходе проверки пьесы на зрителе.
Зато мы получили произведение театрального искусства – поэтичное и свежее, свойственное почерку одного из ярких мастеров современной режиссуры. Пусть сами авторы решают жанр своего произведения, его художественное воплощение и… свои правовые взаимоотношения. Лучше смотреть в корень: оценивать конечный результат.
Рецензенты вправе оценивать произведение и тем самым творить над ним свой суд. Но вмешательство в авторско-правовые вопросы вне их юрисдикции.
«Театральная жизнь», 1959, № 22
Время спорит с автором Заметки писателя
У меня вышел спор с одним молодым литератором. Я прочёл его первую пьесу и нашёл, что конфликт в ней мнимый, что она наполнена устаревшими представлениями о наших людях и что автор ложно понимает природу героизма в наши дни. Он, например, доказывал, что молодежь, едущая на новостройки семилетки, будет «разочарована», если людей разместят в хороших домах, а не в палатках или землянках. Дескать, романтика так романтика, иными словами, глушь и дичь!
По его словам, «героизм» молодого строителя якобы может проявиться лишь тогда, когда юноша заблудится в тайге, отморозит ногу, будет долго ползти по болоту, «стойко» голодать из-за скверного подвоза продуктов на стройку.
И все эти злоключения должны явиться следствием «плохого» проекта стройки, разработанного в центральном институте и утверждённого высшими инстанциями. Лишь на месте найдётся единственный самобытный мудрец-руководитель, который осудит этот проект и будет бороться за своё «справедливое» решение, пренебрегая при этом техникой и ориентируясь на мускульную силу рабочих…
Так можно ли сегодня считать доблестью самоотречение людей от жизненного благоустройства? Ведь у нас сокращается рабочий день, усиленно строятся жилища, поднимается уровень жизни…
Странно, что в это самое время «ортодоксы»-литераторы идут в разрез с требованиями дня – всё ещё воспевают круглосуточный труд, прославляют тех руководителей, которые пренебрегают бытом.
Запутан в таких драмах и вопрос о героической личности. Старыми понятиями о героизме наполнен, например, С. Алёшиным образ советского учёного Дронова в драме «Всё остается людям». Дескать, если ты хочешь прослыть героем, то надрывай себя непосильной работой, пренебрегай лечением и отдыхом, как будто человек с нормальным режимом дня не может прославиться!..
В самом деле, не пора ли поберечь героев наших произведений?
Вот здесь и надо искать истинные поводы для конфликтов в драмах. Забота о человеке – незыблемый закон советского общества. Зачем же делать из нарушителей этого закона героев, подобныхЧепракову из пьесы И. Дворецкого «Трасса»?
Мы стремимся к разумному переустройству мира, а не к стихийным наскокам на этот мир. Такое «отображение» порядков на стройках противоречит сегодняшним требованиям.
Следует разоблачать хозяйственников, не способных обеспечить объект правильным проектом, наметить продуманный фронт работ, бережливо относиться к рабочим, а не подавать невежд как «героев», достойных подражания.
Конечно, трудности неизбежны там, где прокладываются первые пути. Но следует ли любоваться этими трудностями!
* * *
Я хочу поделиться некоторыми наблюдениями, которые, на мой взгляд, подсказывают верную линию в обрисовке людей нашей первой семилетки[177].
Мне тоже привелось поскитаться «вдали от Москвы». Немало я походил с блокнотом по новостройкам первых пятилеток. Побывал и на первых стройках семилетки. Так вот, характер труда сейчас совершенно иной, чем это выглядит на некоторых сценах.
Мягкий «спальный» автобус, гладкое асфальтированное шоссе приводят меня к строительной площадке, хотя её «площадкой» никак назвать нельзя. Пешеходу трудно обойти такую территорию в один-два приема; её нужно объезжать на машине, что мы и делаем.
Рядом со мной в кабине грузовика сидит директор ещё не существующего комбината – человек солидного возраста и большого опыта, создававший предприятия химической индустрии ещё в тридцатых годах. С ним легче понять, какой должна быть нынешняя стройка.
И вот что сразу бросается в глаза. Ничего случайного! Никаких авралов, бараков и времянок! Химики, сменяющие строителей, приходят сюда на постоянное и удобное место. Да и сами строители живут отнюдь не на бивуаке, как попало.
Перед нами стелется асфальт дороги, обсаженной молодыми деревьями. По обочинам видны следы недавно проложенных подземных коммуникаций – газа, водопровода. «Это, – говорит директор, – улица Мира».
«Как вы думаете, – спрашивает меня наш современник-руководитель, показывая на только что законченный дом, – что будет в первом на этой улице здании?.. Детские ясли! К нам приезжает молодежь, обзаводится семьями…».
Осматриваем следующую улицу. Интересно, а что продаётся в том торговом помещении капитального вида?.. Оказывается, одна из первых торговых «точек» в городе, намеченном пока пунктиром, – книжная!
Да, это не тот «герой», который воспитывает подчинённых с помощью… рукоприкладства и пропагандирует всем своим поведением нравственность не очень-то высокого пошиба.
Современные строители заботливо думают о химиках и энергетиках, воздвигая в будущем городе и музыкальную школу, и широкоэкранный кинотеатр, и химико-механический техникум… Свою заботу они доводят до отличной отделки фасадов – простых и приятных на вид, с фризами из синеватого битого стекла, схваченного штукатуркой. Массивные ограды сложены из бело-красного кирпича «крестиком», в духе народного орнамента.
Среди первейших объектов стройки – бульвар в городе, стадион на острове и парк в пойме реки. Аллеи в парке уже разбиты. Строители загодя позаботились о питомниках. На площадку сразу пришёл садовод-агроном.
Потянулись корпуса каких-то цехов. Это и есть комбинат? Нет, это – «завод завода и города». Здесь производят кирпич, железобетон. Почти всё свое, всё под рукой!
А вот «душа» комбината – мощная ТЭЦ. Громадные котлы электростанции будут работать без кочегаров, пыли и дыма. Появилось легчайшее и чистейшее топливо – природный газ. Необычайно возрастает культура производства!
Каков же характер этого производства? Ответ неожиданный: шёлк и шерсть из природного газа, атмосферного воздуха и речной воды. Это и есть одно из чудес «большой химии»! Её значение предопределено ещё великим Ломоносовым: «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие!»
«Дела человеческие», дела государственные: азотно-туковые удобрения, искусственный каучук, меха, кожи. Директор приехал сюда, по его выражению, на чистое место. А сейчас это – центр тяжелой индустрии в сельскохозяйственном крае. Первые агрегаты кормилицы-ТЭЦ скоро дадут промышленный ток хозяевам и соседям.
Важно и то, что из местного крестьянского населения формируется боевой рабочий класс. Эти люди чувствуют себя здесь хозяевами, ибо всё создается их руками – от первого броска лопатой в прошлом и до будущей волшебной нити анида толщиной в доли миллиметра, выдерживающей вес человека!..
* * *
Но если так хорошо обстоят дела на стройке, то где же обещанные конфликты? Есть конфликты! Весьма острые и вполне современные. Вот один из них.
Среди строителей выдвинулся молодой рабочий Иван Чекмарев, способный бригадир, уроженец соседнего села. Сейчас он знаменитость, а тогда был рядовым каменщиком.
Далеко не гладко шли дела на стройке, и это беспокоило парня. Мучили перебои с подвозом материалов, нарушался график, снижались темпы. И Чекмарев вступил в конфликт с главным инженером строительства. Начальник почему-то терпимо относился к простоям. Возможно, он считал их неизбежными на первых порах. «Ведь вам платят за простои, – удивлялся инженер. – Зачем же волноваться?»
Чекмарев не успокаивался. Пошёл в партком, обратился к друзьям-комсомольцам. Не все понимали парня, когда он твердил: не могу без работы! Мало того, каменщик опротестовал закон об оплате нерабочих часов, хотя это било по его же карману.
Конфликт обострился. Могли пострадать интересы товарищей. Кое-кто свыкся с «туфтой» – оплатой за несделанную работу. На Чекмарева посыпались упреки и с этой стороны.
Где же выход? А вот он – нужно обеспечить людей повседневной работой! Чекмарев и его товарищи решили создать первую комплексную бригаду. Скажем, образовалась заминка с раствором – «загорать» не надо. Отложи мастерок или кельму и берись за топор. Каменщик становился плотником, штукатуром или монтажником.
Бригадир занимался не только критикой недостатков, как поступают «сочинённые» герои, а творчески действовал, преодолевая большие трудности. Приходилось многому учиться самому и учить других! Так возникло и развилось движение передовиков, названное «чекмаревским». Простые подсобники, недавние деревенские парни и девчата овладевали двумя и даже тремя профессиями.
Вот где подлинный героизм сегодняшнего дня – растить мастеров на лесах новостроек, бороться с бескультурьем, беспорядком, пережитками, Чекмаревский конфликт выявил крупную личность и развил «сюжет», полный драматизма!
* * *
Теперь видно, насколько ошибочно возведение в «героические» личностей, подобныхЧепраковым. Разве можно допускать фактическое восхваление выскочек, карьеристов, обрекающих строителей на излишние невзгоды? И это является «питательной средой» для массового героизма?!
Получается курьёзная вещь. Не на руку ли иному литератору беспорядок на стройке? Ведь если не будет беспорядка, то не будет и героев, вынужденных, к примеру, замерзать в болотах!..
… Ни в коем случае нельзя делать неразбериху источником вдохновения! Сумбур на стройке первой семилетки – весьма редкая вещь, а театр – не музей редкостей.
* * *
Чепраков и Чекмарев… Это люди разных эпох. Оба они как будто идут к одной великой цели. Но пути-то у них разные. Первый действует по старинке, как частник-подрядчик или заядлый индивидуалист, по принципу «давай, давай», не думая при этом о человеке-строителе.
А второй и тот же мой спутник директор думают о благе народа, творят вместе с народом, заботятся о «делах человеческих», как и подобает коллективистам.
Чекмарев мог бы стать героем очерково-документальной пьесы, если бы таковые существовали. Выдуманному же Чепракову не следовало бы давать новую путевку а жизнь. Его существование на сцене вряд ли пойдёт нам на пользу. Зачем подавать дурные примеры?
Я представляю себе образ нынешнего руководителя стройки, героя произведения, совсем в ином свете. Предположим, он увидел весь этот беспорядок на площадке. Такие случаи бывают. Однако настоящий руководитель займется выкорчевыванием остатков дикости на трассе.
Критик же может подсказать молодому автору, увлечённому ложной романтикой, правильную линию поведения героя. Тот, кто с похвалой принимает «чепраковский» стиль в работе, сам питается отжившими понятиями.
Вот об этом мне и хотелось рассказать, привести жизненные факты, показывающие борьбу со старым и идущие вразрез с утверждениями иных «певцов» бескультурья, искателей мнимоострых и не очень-то своевременных конфликтов в «современных» драмах.
«Театральная жизнь», 1959, № 21
Меньше шума, больше дела!
Из отчёта бюро секции московских драматургов можно сделать вывод, что в минувшем году здесь было слишком много случайных, не очень-то необходимых «мероприятий», подчас затеваемых ради «галочки» в отчёте. Время иногда губит работа по репетиловскому рецепту: «Шумим, братцы, шумим!»
Избран новый состав бюро секции, но опыт «предшественников» и сегодня полезно оценить критически.
Бюро секции проводило заседания, не имеющие практического значения для творчества драматургов. Провели, скажем, за отчётный период 22 заседания, но бюро умудрилось не поставить на обсуждение писательской общественности ни одного произведения, созданного членами секций драматургов.
Творчество подавляющего большинства российских драматургов, сосредоточенных в Москве, выпало из поля зрения объединения Союза писателей. И это – в то время, когда театры испытывают затруднения с подбором репертуара!
Мы обсуждаем пьесы карельских или бурятских драматургов, когда они приезжают к нам. Мы выезжаем в области и республики для обсуждения творчества местных писателей. А где же «обсудиться» московскому литератору? Или он считается непогрешимым? Где единственно важная «форма работы» – интерес к рукописи товарища? Где помощь друзей по перу в повышении идейно-художественных достоинств пьесы?..
Правда, в отчёте секции указано: «отрецензировано свыше 50 рукописей». А какие это рукописи? По преимуществу так называемый самотёк. Рецензировались за плату пьесы не членов секции. Рукописи же профессионалов-драматур-гов ни разу – ни одного раза – не рассматривались в течение почти двух лет!
Кому же нужна была такая работа бюро? Начинающим? Хорошо! Но для них толком тоже ничего не сделано. Где же кровная забота о кадрах, резервах, смене?..
На что уходило время драматургов, за счёт которого осуществлялись многочисленные «мероприятия»?
Проводились собрания на различные общие темы с расплывчатой проблематикой: «Проблемы экранизации литературных произведений», «Проблемы переводов пьес», «Проблемы музыкального театра», «Проблемы сатирического жанра», «Вопросы создания произведений на современную тему», «Вопросы работы писателей в кино» и прочее.
Никто не сомневается в важности подобных «вопросов» и «проблем». Кто из драматургов не занимается их решением повседневно, практически?
Вот этой-то практике и следовало уделить основное внимание.
Увы! Забыли москвичи-драматурги о товарищеской творческой критике, об обмене опытом работы над рукописью, о дружбе, которая помогает повышению творческой квалификации, росту мастерства каждого литератора.
Сколько сохранилось бы драгоценного времени, если бы в секции не расточали его на длинные общие рассуждения по поводу «проблем» и «вопросов»! Сколько времени и сил было бы сэкономлено для ознакомления драматургов с творчеством товарищей!
Устранился бы досадный параллелизм: театры не ставили бы одновременно двух пьес о престарелых академиках или трёх пьес о стиляжничестве, не имея ни одной о рабочем классе.
Мы дискутировали в секции драматургов об итальянском кино, обсудили одну испанскую пьесу, но… не говорили о новых советских пьесах!
На рассуждения «по поводу» беспечно тратились не только силы писательского актива, но и крупные средства: велись стенограммы, привлекались секретари. Во все стороны летели повестки, бежали курьеры…
Но есть и ещё одна опасность «бюрократизации» общественной работы. Создаются комиссии или советы: сценарная, музыкальная, молодежная, по телевидению и так далее. А сколько писательского времени потребует функционирование этих комиссий и советов! Надо беречь силы актива – для творчества. Бюро, – ведь в его составе 21 человек (!) – без особых комиссий может позаботиться о творчестве писателей, посвящающих себя всем видам и жанрам драматургии.
Мы терпимо относимся к вредным привычкам. Совершенно недопустимо созывать любые писательские совещания и заседания в утренние рабочие часы. Надо тщательно регулировать и количество «поручений». От перегрузки мало толку. Иные товарищи, принимают новые поручения, ещё не справившись с прежними. Опять-таки получается «шум»!..
«Театральная жизнь», 1960, № 6
Звонок из студёного оврага
В кабинете Петра Львовича Монастырского, главного режиссёра Куйбышевского драматического театра имени М. Горького, раздался необычный телефонный звонок:
– Говорят из Студёного оврага. Вы хотите повоевать с нами?.. Смотрите, не просчитайтесь!
Таков был один из первых «зрительских откликов» – своеобразная реакция злопыхателя на премьеру спектакля «Дачный тупик», поставленного Монастырским.
Оказывается, кое-кому «Дачный тупик» показался своего рода литературным псевдонимом Студёного оврага\ Кое-кому из обитателей этого дачного поселка пришлось не по нутру вмешательство театра в жизнь. Стяжатель-собственник, почуяв силу воздействия искусства, сразу же стал огрызаться!
Такое начало жизни спектакля, сразу нашедшего прямой адрес обличения, точное его попадание, а главное – одобрение всего зрительного зала не могло не порадовать исполнителей «Дачного тупика» и его авторов местных драматургов Ирину Тумановскую и Ольгерда Тарасова.
Новый мещанин не просто «стремится построить себе домик с палисадником», он хочет создать «своё гнёздышко где-то в щели великого» (М. Горький). Зло – не в цветнике или ягоднике, разбитых под окнами домика, где трудящийся отдыхает где-нибудь у берегов Волги. Опасен «палисадник» площадью, скажем, в полгектара[178], когда цветики и ягодки переправляются на частный рынок ради наживы. Опасность там, где человеком овладевает бес стяжательства!
Вот об этом и говорится в пьесе.
На сцене Дачный тупик – невинное название переулка в пригородном посёлке. Палисадник Рогозиных закрыт высоким забором. На нём – выразительная надпись: «Во дворе злая собака». Здесь хозяйствует человек, запутавшийся в сетях частнособственнических пережитков, испытывающий неутолимую жажду к наживе.
Анна Семёновна Рогозина, вдова заслуженного человека удивляется и негодует, почему её второй муж Сергей Сергеевич Корчевой и дочь от первого брака Нонна не желают пользоваться благами торгашества. Страсти накаляются. Борьба достигает предела. И самые близкие для Анны Семеновны люди, преодолев родственные чувства, выходят из «дачного тупика» с честью!
И не только родные, но и все те, кто так или иначе связан с домом Рогозиных, чьё расположение и труд Анна Семеновна пыталась использовать в корыстных целях, тоже начинают протестовать. Они сначала пытаются образумить Анну Рогозину, но убедившись в бесплодности своих усилий, один за другим покидают её «тупик».
Так поступают старый друг семьи Фёдор, которому раскрыл глаза свежий в «тупике» человек – сын его Роман, дальняя родственница Рогозиных Зинаида Александровна, её дети Лена и Сашка…
Авторы нашли превосходную концовку. Зайдя проститься с хозяйкой дома, Сашка подбирает во дворе дачи обрывок цепи, с которой сорвался злой пёс Рэкс. Даже верная собака, не выдержав затхлой атмосферы «тупика», сбежала на волю!
Всем ходом событий авторы обрекают частницу-скопидомку на самое строгое возмездие в нашем обществе – одиночество! Вот в чём состоит пафос, смысл постановки.
Театр одерживает бесспорную и крупную идейную победу. В зале не обнаруживается ни одного союзника Анны. Наоборот, уход каждого человека из её «тупика» зритель провожает аплодисментами. Так сцена, пользуясь своими специфическими средствами воздействия, борется с тем общественным злом, которое получило у нас наименование стяжательства.
С большим мастерством, можно сказать, с блеском исполнена центральная роль Анны Рогозиной 3. Чекмасовой. Этот образ – явление значительное по силе сатирического изобличения алчности, стяжательства и собственнических инстинктов. В работе Чекмасовой нет и тени предвзятости, «плакатности». Артистка тактично и тонко раскрывает психологию некогда честного человека, втянувшегося теперь в вязкую тину торгашества. Созданный ею характер впечатляет силой обобщения, ибо он выражает собой сложившийся кое-где тип людей, обрекающих себя на одиночество, на утрату человеческого достоинства.
Другая главная фигура пьесы – Сергей Сергеевич Корневой. Он призван представлять позитивное начало в «тупике».
А. Демич видел своего Корчевого кристально честным, но мягким по натуре человеком, к тому же увлечённым научным трудом и несколько ослеплённым поздней любовью к Анне. На первых порах он не всё разглядел в изменившемся характере Рогозиной и в её доме. Что ж, может быть и такое решение образа – в постепенном развитии. Не каждому актёру по душе приходить в пьесу и уходить из неё в раз навсегда заданной форме. Да, Корчевой Демича не сразу прозрел в «тупике». Но ведь он вышел из него с гневом и отвращением!
Не менее удачно, хотя и по-своему трактует эту роль другой исполнитель – Н. Кузьмин. Его Сергей Сергеевич – не так мягок, менее утончён. Это – отставник-военный, подчеркнуто строгий, внимательно всматривающийся в жизнь и быстро оценивающий обстановку.
В Корчевом Кузьмина живёт высокое понятие о воинской доблести и чести. Великолепно воспринимаются его слова, обращенные к бывшему старшине Фёдору: «Вы старый солдат, у вас голова белая, а вы по базару со стаканчиком "викторию” вразнос? Не стыдно ли?..»
Противоречив и сложен образ Нонны Рогозиной. Злоключения Нонны приводят к кульминации – к полному краху дома Рогозиных. Недаром первый вариант пьесы назывался её именем – «Нонна». Избалованная матерью, но не пожелавшая идти в институт «по блату», своевольная, но незаурядная девушка, с её метаниями, лихорадочными поисками истинных путей в жизни, с провалами и ошибками, приводящими к трагическим последствиям – к попытке лишить себя жизни, изображена и в пьесе и на сцене с необходимой естественностью и убедительностью.
Думается, что Нонна станет одной из заметных ролей театрального сезона – по мере распространения пьесы. И возможно, что работа первой исполнительницы талантливой артистки Н. Засухиной станет предметом внимательного анализа.
Хотелось бы более подробно рассказать об исполнителях ролей Фёдора – Н. Кузьмине и В. Михайлове, Романа – В. Круткове, Зинаиды Александровны – А. Шабановой, милых, горячих и таких своих молодых людей, как Лена (Л. Федосеева) и Сашка – (Д. Букин)… Но где взять места на журнальных страницах?..
Приходится лишь упомянуть о заслуживающей большой похвалы работе художника Ю. Бабичева. В его декорациях живёт, светится любовь к волжским просторам, к родному краю!
Несколько слов о недостатках. Видимо, не вполне удачно подобран исполнитель роли Олега – В. Гоголев. Весь он какой-то слишком открытый, сразу распознаваемый злодей, в чем есть доля и авторской вины.
Остальные недочёты даже не стоят упоминания. Они столь незначительны, что не могут ни заслонить, ни отодвинуть на второй план жизненность драматургического конфликта и достоверность воссозданных театром человеческих образов.
«Театральная жизнь», 1961, № 11
Третьим путём
На нелёгком поприще воспитания драматургической смены у театра возникают немалые трудности. Сложное это дело!
Чего проще – ставить пьесы с грифом «Сделано в Москве». Текст готовый, риска никакого, потерь в случае неудачи никаких.
Работа над первой постановкой пьесы пока никак не стимулируется: нет подчас ассигнований для договоров с авторами, постановщики не получают творческие отпуска на время доработки текста.
Но можно ли обойтись без творческой помощи талантливым, но неопытным драматургам, ещё не овладевшим «тайнами» сцены. Режиссёр, берущий в работу пьесу молодого автора, обрекает себя добровольно на известные трудности, на уйму забот, хлопот, а иногда и… неожиданных неприятностей.
Осенью 1960 года в Жигулях собрался первый семинар драматургов Поволжья. Там мы и познакомились с режиссером Петром Львовичем Монастырским.
Его решимость стать другом и наставником драматургической молодежи продиктована, на мой взгляд, прежде всего огромным интересом к современной теме, к близкому или «местному» материалу.
С тех пор прошло немного времени. Куйбышевский драматический театр имени А. М. Горького успел поставить три пьесы молодых авторов: «Рядом – человек!» Вл. Молько, «Дачный тупик» И. Тумановской и О. Тарасова и «Звёздные ночи» И. Тумановской.
Так возник интересный опыт творческого содружества драматургов и режиссёра. Три местные пьесы за короткий срок – счёт солидный! Две из них Монастырский поставил сам. И все три попытки принесли театру успех – идейный, художественный, материальный. Особенно «Рядом – человек!» и «Дачный тупик» (постановка выдержала свыше ста аншлагов), жизнь третьей только ещё начинается.
Человек, думающий о тихой, благополучной жизни в театре, ни за что не примется за такое «каверзное» дело, как постановка первой пьесы.
…Старые фотографии, пожелтевшие от времени газеты. 1947-й год. Петр Монастырский, тогда ещё совсем молодой режиссёр, первым в стране поставил на сцене Луганского театра русской драмы героическую драму, созданную на основе романа А. Фадеева «Молодая гвардия».
В дни, когда ещё кровоточили раны, причинённые войной многострадальному Донбассу, когда в памяти людей были особенно ярки подвиги бессмертных героев Краснодона, именно сюда, в город, где жили и боролись молодогвардейцы, привезли актеры этот новый спектакль.
В зрительном зале были родные, друзья, близкие молодогвардейцев. Как волновались тогда актёры, как волновался режиссёр!… А потом, после оваций, объятий и слёз, отцы и матери юных патриотов увели к себе домой артистов, исполнявших роли их детей.
Режиссёр один вернулся в пустую гостиницу и устало опустился на койку… О чём думал он в ту памятную ночь?
Такое не забывается, оставляет след в душе, диктующий всё последующее: жить радостями и горестями народа, возбуждать чистые, возвышенные чувства.
Шли годы. Были другие города, были новые спектакли – чаще всего о современном человеке. В Красноярске в 1949 году П. Монастырский работал с писателем С. Сартаковым над постановкой инсценировки романа «Хребты Саянские». В Новосибирске ставил первую пьесу молодого автора Ю. Сальникова «Твоя семья» и «Второе рождение» Г. Савичевской. В Куйбышеве впервые осуществил постановку инсценировки романа А. М. Горького «Дело Артамоновых», первых пьес И. Тумановской.
Все это просто: перечислить пьесы, написать слова «поставлена впервые». А сколько усилий связано у режиссёра с этими словами, может знать только человек, близко соприкасающийся с его работой!
При постановке новой, ещё нигде не идущей пьесы, «неприятности» для режиссёра начинаются при первом же знакомстве коллектива с текстом. В труппе всегда найдутся скептики, которые постараются убедить постановщика в «бесполезности» затеи. И это «сопротивление» нужно преодолевать силой убеждённости в достоинствах произведения, верой в автора.
Трудности зависят и от степени профессиональной пригодности произведения, от того, насколько автор знаком со спецификой театра, с законами сцены. Это создает для постановщика добавочную нагрузку педагогического свойства.
Порой приходится с трудом убеждать авторов в несценичности отдельных эпизодов. Вот простейший случай. К героине приходит гость. Она говорит: «Сейчас включу чайник». И включает электроприбор. Но нельзя персонажам просто сидеть и ждать пока поспеет чай. Со скрупулезной точностью захронометрировав время, потребное для кипячения воды, писательница, малознакомая с законами театра, написала диалог на семь страниц, чтобы как-то занять сценическое время: диалог во имя диалога, не двигающий действие, не раскрывающий характера и взаимоотношений героев.
И долго пришлось биться режиссёру, доказывая автору, что можно обойтись без диалога, тормозящего развитие сюжета, что можно найти иные решения.
Пётр Монастырский – режиссёр нового склада, нового поколения, для которого характерно острое политическое видение, ясное понимание современности.
Режиссёра особенно волнуют ростки нового в сознании людей; может быть, поэтому и привлекла его внимание «сырая» пьеса И. Тумановской «Звёздные ночи».
Ещё в раннем варианте (тогда пьеса называлась «Звезда Сириус») в ней звучала тема доверия к человеку дружбы, братства. Автор словно говорил читателю: надо уметь увидеть всё лучшее в душе человека, проникнуть сквозь «туманности», затеняющие все ценное.
Но изложено это было невнятно.
В итоге напряжённой творческой работы автора и режиссёра с помощью коллектива театра было усилено идейное звучание произведения, расширена его масштабность, обострена тема.
Искусство режиссёра – помощника автора – состоит в том, чтобы самому не вписывать ни строчки. Я видел как-то в одном театре эпизоды, вписанные рукой постановщика. Они были, что называется, совсем «из другой оперы»!
Главное в рукописи – авторский почерк, авторский стиль. Чужие слова, как чужие мысли, которые не стали для автора своими, нарушают единство изложения, ломают манеру драматурга, вытравляют самобытность.
Беря в работу рукопись, режиссёр должен признать не только «де юре», но и «де факто» индивидуальность автора. Иначе на сцену выходят эклектичные пьесы со штампами, с обветшалыми театральными «приспособлениями».
Режиссёр Монастырский старается сделать так, чтобы автор совершенно отчётливо понял его режиссёрские намерения, устремления. И тогда автор схватывает всё «рациональное», но пишет новые эпизоды своим «почерком», используя для каждого персонажа уже намеченную характерность речи, неповторимую интонацию.
Есть разные методы работы режиссера с драматургом.
Иногда постановщик после проделанной совместной переработки текста становится соавтором драматурга. Этот «порядок», осуждённый в кино, должен быть осуждён и в театре.
Другой путь, когда функции режиссёра в работе с драматургом сводятся лишь к замечаниям и пожеланиям.
Автор выслушивает критику, берёт пьесу и через определенный срок приносит в театр новый вариант.
Такой метод, что ни говорите, означает известное равнодушие театра к автору, особенно молодому.
Куйбышевцы идут третьим путём, когда режиссёр непосредственно участвует в создании улучшенного варианта, а драматург погружается в творческую атмосферу театра, где происходит совершенствование произведения.
Жизненные наблюдения и талант автора объединяются с жизненным опытом и талантом режиссёра. Творческий почерк драматурга вступает в единение с творческими особенностями театра. Автор постигает не только методологию драматургии, но и черты художественного метода театра, с которым он работает.
Театр влияет на автора, воспитывает близкого по творческой манере, по духу и взглядам драматурга. Подобное тесное содружество, видимо, имеет и свои минусы для режиссуры. Требуется дополнительное время, затраты «крови». Путь этот нелёгкий, но плодотворный. Но именно на нём устанавливается взаимопонимание, возникает вера в творческие возможности соратников.
«Театральная жизнь», 1962, № 17
Города и пьесы
Наступил новый театральный сезон. И снова не без горечи говорят периферийные режиссёры о трудностях с репертуаром на современную тему. Иные же театры притерпелись к этим трудностям. Репертуарную проблему решают просто: ждут пьес, апробированных в Москве.
Вот красноречивое подтверждение – записка главного режиссёра Белгородского драматического театра А. Карданова к одному из нестоличных авторов:
«Как и обещал, давал Вашу пьесу для чтения зам. начальника областного управления культуры. К сожалению, пьеса не понравилась. Сейчас мне вообще не советуют пока брать пьес, не рекомендованных Москвой, в связи с тем, что театр взял пьесу молодого драматурга… и её разругали».
Курьёзный документ! Где же самостоятельность, которой долго добивались театры? Стало быть, так спокойней – сидеть у московского репертуарного моря и дожидаться погоды?
Но разве у театров нет права на риск? И разве на столичные сцены не приходили пьесы с периферии? Достаточно вспомнить «Свадьбу с приданым» из Коми АССР, осетинских «Женихов», марийскую «Ксению», свердловского «Опасного спутника» и т. д.
Нужно уметь отбирать произведения на местах, находить ценные зерна даже в замыслах.
Необходим повседневный совместный труд писателей и театров над новым репертуаром. А как бывает в жизни? Приведу несколько выдержек из сообщений о положении местных драматургов в местных театрах:
«Бывший директор Ярославского театра т. Топтыгин и зав. литчастью т. Табачникова считали, что в Ярославле не может быть своей драматургии» (?!)… «Тюменский театр за всю свою историю не поставил ни одной пьесы местных авторов!»… «Слабое состояние тувинской драматургии объясняется плохой работой театра с авторами»…
Впрочем, разные бывают города и театры. Из Башкирской АССР пишут: «Связи драматургов с театрами всё больше укрепляются». В Йошкар-Оле театры охотно работают с никому не ведомыми, но перспективными марийскими авторами (К. Коршунов, Н. Рыбаков, Н. Осеней). В городе Кирове – три профессионала-драматурга: Ю. Петухов, И. Шишкин, И. Шур. Произведения всех ставятся на сцене местного театра.
И пусть шишкинские «Уходили комсомольцы» или шуровские «Заводские ребята» вызвали ряд строгих критических замечаний, – это никого не испугало, работы продолжали. А вот куряне упорно отказываются от сотрудничества с автором интересной пьесы «Не ради славы» В. Егоровым; не сразу наладился здесь контакт даже с таким писателем, как В. Овечкин.
Туго «прививался» местный автор в Петрозаводске. Дошло до того, что Русский театр драмы не нашёл у себя в республике ни одного современного произведения и повёз в Москву на декаду карельского искусства пьесу иркутского драматурга («Трасса»).
Тот же Белгородский театр, с которого мы начали этот разговор, не заметил дарования драматического писателя и своего же артиста А. Аляутдинова. Дирекция даже воспротивилась поездке автора на Всероссийский семинар драматургов-одноактников.
Между тем аляутдиновские «малые» пьесы, рекомендованные Советом по драматургии Союза писателей РСФСР, были опубликованы в московских изданиях. Республиканское Министерство культуры приняло его «Вечер в Прелестном» на государственный заказ. Местным же театром А. Аляутдинов, так же как и способный комедиограф Т. Макарская, всё ещё «не признаётся». В городе Горьком долгое время не «замечали» талантливого литератора Т. Глебову. На одном из семинаров Союза писателей России она завершила хорошую одноактную пьесу. За короткий срок «Слава Любы Шевелевой» получила рекордное число публикаций: в газете, в журнале, по радио, на телевидении. Внимание окрылило Глебову. С большой пьесой «Западня» она была приглашена на всесоюзный семинар. Но что-то пока не слышно, чтобы новым произведением местного драматурга заинтересовались в Горьком.
Как видно, кое-где на местах бытуют предрассудки, подобные библейским: «Несть пророка в своём отечестве».
Как же быть? Тщетно взоры режиссёров устремляются в рекомендательные списки, присылаемые из Москвы.
Что же предлагалось театрам? Проникнуться заботами престарелого академика о не очень-то надежной смене в науке. Снова вникать в душевный мир молодой бездельницы – жены пожилого обеспеченного мужа, или следить за треволнениями «перековывающейся» легкомысленной девицы. Разве нет в нашей жизни тем поважнее?
Пора подумать об устранении тематического однообразия в репертуаре, изменить порядок его планирования. Ведь «Завещание» во многом повторяет «Всё остается людям», «В эту ночь никто не уснул» – «Тревожную ночь», «Возмездие» перекликается с «Дорогойчерез Сокольники»…
Так ожидание московских «рекомендаций» приводит к однообразию в репертуаре десятков периферийных театров.
Мода! Вот что нередко определяет выбор пьес и авторов. Произведения 5–6 драматургов, далеко не во всём совершенные, показываются во многих городах как местными, так и гастрольными театрами. И так, постепенно, невзначай несколько модных драматургических сюжетов могут заслонить собой на только пьесы других авторов, но и важные жизненные явления, что особенно тревожно!
Характер человека формируется в процессе труда, и показать это – почётная задача театров. В нашей действительности встречается множество людей, чьё появление на сцене давно назрело, чей трудовой путь может служить источником истинного вдохновения.
Трудно считать убедительной «рекомендацию» таких пьес, где принижен образ советского человека. Одной бойкости пера мало для «священного писания», как называл русскую литературу великий Горький.
Вызывает беспокойство и странная проповедь индивидуализма в иных пьесах. Разве мы на обязаны бороться за воспитание человека-коллективиста? А сколько развелось на сценах юношей-«бунтарей», которые самостоятельно, в обязательном отрыве от старших, ищут путей в жизни!
Разумеется, родственники бывают разные. Но нет ли в этих развязных речах, направленных против семьи, порой чрезмерных и отнюдь не полезных обобщений? Нельзя отрывать молодежь от общества, от людей, обладающих силой опыта.
В советской литературе существует высокая традиция – не ссорить между собой представителей разных поколений. Зачем это делать? Зачем вбивать клинья между отцами и детьми с помощью столь сильного ударного средства, как искусство театра? Долг литературы – способствовать единству нашего общества.
Зачем нас разъединять с нашими сыновьями? Зачем нарушать в них веру и уважение к поколению участников Гражданской войны, строителей Магнитки?
Долю вины за создавшееся положение, за такое однообразие репертуара, по-моему, следует отнести и на счёт театральной критики.
Безудержное захваливание одних произведений и пренебрежительное отношение к другим пьесам, действительно находящимся на главном направлении, вызывает серьёзные опасения.
Следует ли выдавать даже некоторые заметные пьесы за эталоны советской драматургии, объявлять авторов этих пьес монопольными носителями духа современности? Часть мест на афишах следовало бы отдать новому автору, но обогащённому актуальным, свежим, жизненным материалом. И помочь (когда надо и стоит!) такому автору.
Пусть в разных городах идут разные пьесы!
«Театральная жизнь», 1960, № 22
Н.А. Сотников. Обильна наша родина талантами. Полемические заметки о народном творчестве
Взяться бы за дело с умом!
1. Конфликтное начало
В руках шофёра черкеса обыкновенная «Волга» казалась горячим скакуном. Водитель словно торопился увезти нас из пыльной и душной степи в прохладные горные края, куда мы ехали знакомиться с местной художественной самодеятельностью.
Вот перед нами возникла величавая плотина с пенистыми каскадами, образующая живописное Черкесское море. На каменном челе головного сооружения Усть-Джегутинского канала виднелась бетонная стихотворная строка: «Пойдёт вода Кубань-реки, куда велят большевики!»
Вода и впрямь пошла, куда ей велели люди-победители. Эти люди и сейчас неустанно трудятся на полях, в шахтах, на заводах, виноградниках, пастбищах и стройках. И, конечно, они должны хорошо, культурно отдыхать. Они это заслужили.
Что же получают эти труженики в своём клубе? Как они проводят свободное время?
На оптимистический лад настраивали донесения с мест. Из них было ясно, что повсюду в крае работают сотни коллективов – вокальных, хореографических, драматических. В сводках было отражено всё, вплоть до количества «оттанцованных» и «спетых» в каждом селении «номеров». Не нашло в них отражения лишь одно – степень влияния штатных культработников на развитие самодеятельных кружков. Народ-то всё равно поёт и пляшет, не дожидаясь особых к тому указаний. И чтобы понять, как идёт воспитательная работа, надо учитывать уйму вещей.
Говоря образно, на сцену вышли такие действующие лица, как культурный Инвентарь, методическая Литература, и особенно – умелое Руководство. Потребовали к себе внимания и дополнительные персонажи: прочный Шифер, острый Гвоздь, целое Стекло, теплая Печь, уютная Штора и прочее, из чего складываются уют и бытовая культура клуба.
Так, помимо нашей воли нам вскоре пришлось с головой окунуться в будничные – творческие и не очень творческие – заботы, преодолевая к тому же противодействие сугубо отрицательных явлений: формализма, инертности, самоуспокоенности.
2. Неразбериха, служившая ширмой
Из беседы с артистами Ставропольского краевого драматического театра стало ясно, что они склонны считать заботу о сельском клубе своим, кровным делом. В театре думали о проведении семинара руководителей драматических кружков. Шли толки и об открытии драматического отделения при культпросветучилище. Но эти намерения не нашли поддержки в Управлении культуры. Там не видели специалистов-преподавателей, попросту забыв о мастерах Ставропольского театра.
Искусственное, надуманное разделение областных организаций на городские и сельские[179] серьёзно тормозило культурное шефство города над селом. Творческие союзы, как и театры, относились к промышленному управлению культуры, и к сельским делам не привлекались. Нельзя было воздействовать и на книготорг, чтобы он заказывал издательству необходимую для села репертуарную литературу. Оказалось, книготорг относили к селу, а издательство – к городу. Но не было ли в этом и желания отдельных работников оправдать свою беспечность и инертность в таком большом и важном деле, как забота о духовном росте села, желания спрятаться за организационную неразбериху, как за удобную и выгодную ширму?
Курьёзы накапливались. Не налаживался повседневный контроль за репертуаром. На краевом празднике «Слава труду» кружковцы читали сомнительную лекцию «О любви», исполняли цыганские пляски, распевали «жестокие» песни, играли всевозможные «Муки ревности». В клубе села Красное и в ряде других пробавлялись самодеятельными куплетами на мотивы популярных песен, опошляя их. Репертуар был случайным, малохудожественным – коллективы брали то, что попадалось под руку, иногда старые песни со старых пластинок.
3. В степи светятся маяки
Порадовал вечер в колхозе «Заветы Ленина». Жители села Сергиевского вступали во владение новым Дворцом культуры. Открытие Дворца откладывалось. Пожарная охрана придирчиво проверяла паровое отопление. Ещё не разбили «придворцовый» сквер. Зато перед белоколонным фасадом здания, напоминающего столичный театр, были уже установлены скульптуры.
Помещения Дворца отделаны со вкусом, обставлены современной мебелью, оформлены барельефами и фресками. Просторный вестибюль, паркетные полы, светлый актовый зал, удобные кабинеты, обширный зрительный зал…
Кто же одарил Сергиевских земледельцев таким великолепием?
– Нас осчастливил колхоз! – говорит Александр Кузьмич Костюков, рядовой колхозник и участник самодеятельности. – Мысль о таком вот Дворце подал бывший председатель Пётр Николаевич Годунов. Средства добыло правление.
В актовом зале собрались участники драматического кружка. Руководит кружком Евгения Иосифовна Перкова. Культработник по призванию и образованию, она десятый год работает в колхозе и может служить примером деятеля культуры, по-настоящему знающего и любящего своё дело.
Знакомимся с самодеятельными артистами. Вот супруги Журуновы – учительница и электрик. Всю жизнь они провели на сцене. У них и дети росли за кулисами. Преподавательница Зоя Дягилева готовит в «Без вины виноватых» роль Кручининой. Директор школы И. Авдиенко будет играть Мурова. Пожилой колхозный моторист А. Чертков сыграет в пьесе «Бедность не порок» Любима Торцова. Продавец сельпо Д. Лужников – Митю.
Есть здесь и постоянный художник-оформитель В. Зоркий. Есть хормейстер и балетмейстер, воспитанник сельской школы культпросветработников В. Труфанов.
Существование такой школы было для нас открытием, и мы сразу же отправились в районный центр – Александровское.
Оказалось, что, не дождавшись, когда из краевого центра пришлют кадры культработников, двенадцать рачительных председателей колхозов, как говорится, «в шапку» собрали деньги для подготовки руководителей кружков. Отобрали в селах одарённых парней и девчат, обеспечили учащихся стипендиями, пригласили из Ставрополя преподавателей хорового и балетного искусства и открыли эту необыкновенную школу.
4. Очаги в аулах
Столица Карачаево-Черкесской автономной области – бывшая станица Баталпашинская. Ныне это бурно строящийся город Черкесск. А вокруг – аулы, и там своя самодеятельность.
Как же организовать культурную работу среди жителей окрестных аулов? Этот вопрос возник на собрании писателей черкесов. Поэты, прозаики и драматурги отлично понимают, что сельский клуб – это их прямее дело. Кто, кроме них, понесет культуру в народ? Рождается доброе намерение – принять каждому из литераторов личное шефство над культурным очагом родного аула.
Отправляемся в селение Хабез. И сразу видим, как, словно острые клинки, скрещиваются взгляды: благодушно-служебный – местных культурников и беспокойный – общественников.
Работники культуры предъявляют документ – печатную программу районного праздника. Оказывается, минувшей весной, у подножья легендарной башни «Адиюх», коллективы соревновались в самодеятельном искусстве под девизом: «Слава труду и песне». Чего же ещё от них требуется?
Программа большая – шестьдесят три номера. Преобладают песни, пляски и почти отсутствует слово. Это закономерно – песня и танец рождаются в каждом черкесском, абазинском и ногайском доме, а вот речевые номера приготовляются в клубах. Районный же Дом культуры мало приспособлен для такого рода деятельности!
Никак не складывается драматический кружок – нет подходящего руководителя. Один местный учитель и литератор склонен был взяться за это дело. Однако он хотел вести занятия на базе собственных сочинений, никем не просмотренных и не апробированных.
Больше повезло с хореографическим кружком. В ауле живёт энтузиаст танцевального искусства Хамид Озроков. По профессии он инженер, по роду деятельности – партийный работник, по влечению души – режиссёр.
К сожалению, никто не предложил Озрокову вооружиться пособием по хореографии, не направил на семинар, чтобы научить его хотя бы «читать» запись танца. Воспроизвести народную «Кафу» или веселый «Маржанат» Озроков умеет, ибо так танцевали его предки. А можно ли правильно поставить современную сюжетную композицию без помощи профессионалов, без необходимых пособий?
Удивляла запущенность очага культуры в Хабезе, хотя опекунов у него хватает: завотделом культуры, директор клуба, худрук и другие. Заброшенность Дома объяснили предстоящим ремонтом и сезоном полевых работ…
И всё равно сельчане у нас на глазах тянулись к клубу, толковали о том, о сём у ограды, а внутрь зайти не решались. В клубе нет комнаты отдыха, негде посмотреть газету, сыграть в шахматы, прослушать лекцию или просто повеселиться. «Крутят» старые фильмы, и всё! Неуютно, скучно. Придётся людям ждать новой весны, чтобы всласть попеть и поплясать у подножья легендарной башни «Адиюх»!
5. Ни городу, ни селу
У слияния Кубани и Теберды приютился красивый городок. Карачаевск целиком вырос при Советской власти. В нём нет ни одного старого здания. А для районного клуба места не оказалось. Ему отвели верхний этаж ресторана, сильно пахнущий кухней.
Трудно понять, что в районе относится к селу, что – к городу, а что – ни к селу и ни к городу. Село ведь начинается в полутора километрах от города – за Каменным мостом.
Аул так и называется – Каменный мост. Там и находится первый сельский клуб, тоскующий по квалифицированному руководству. Не дождавшись помощи от органов культуры, жители аулов Каменный мост, Хумара, Кумыш и другие, махнув рукой на обветшавшие клубные лачуги, опять-таки «в шапку» собрали деньги для постройки новых зданий.
Встречаемся с председателем Каменномостского сельсовета Т. Кущетеровым. Радением этого деятельного и культурного товарища в ауле воздвигается большой клуб. Но не семь же пядей во лбу у Таубатыра Зурбековича! Нужна ему консультация архитектора, ибо клубное здание строится без проекта. Требуется и совет театрального специалиста по поводу габаритов сцены. А кто-то должен договориться ещё и с совхозной кузницей о двух десятках скоб для стропил, чтобы в ауле Хумара подвести дом под крышу?
В ауле Кумыш строительство вообще пущено на самотёк. Возле клубного остова топчется строительная бригада совхоза, не получая указаний прораба. Оконные проёмы – шириной с ворота. Не предусмотрены фойе и комната для кружков. Кинобудке отведено столько же площади, сколько и зрительному залу! Неглубокая сцена годна лишь для размещения президиумов различных собраний. Спектакль на ней ставить нельзя.
Не видно здесь заботы и о старых клубах – о культинвентаре, о подборе репертуара для национальной сцены, о кадрах клубных работников, получающих почему-то лишь половину положенной им ставки. Заведовать клубом назначают школьниц-выпускниц либо загруженных домашним хозяйством колхозниц. Взять хотя бы хутор Важный. В клубе запустение. Редко заходят в этот запылённый, с разбитыми стеклами, не отапливаемый «клуб».
Встречались мы с крайностями и другого рода. В центре Прикубанского района, например, высится массивное здание Дома культуры. Дом-то есть, а работы в нём нет. Пустует «забвенью брошенный дворец!» О том, что происходит Всероссийский смотр сельской художественной самодеятельности, здесь мало кто помнил из представителей местных органов культуры.
6. Суммируя впечатления
Печальная картина? В целом не очень печальная, а, скорее, беспорядочная…
Строятся клубы, работают кружки, создаются новые коллективы – человеческая энергия расходуется щедро, но не всегда разумно. Иногда тратится впустую.
А взяться бы с умом за дело! И как много хорошего может дать людям самый маленький клуб в самом маленьком ауле, если в нём есть заботливый хозяин, организатор, интеллигентный и знающий человек, помогающий развивать подлинно современную культуру и искусство – в народе и для народа.
«Театральная жизнь», 1963, № 4
Чудесные узоры
НА ФОНЕ кружевного занавеса хоровод девушек плетёт чудесные узоры. Словно сошла эти девушки с лакированных палехских шкатулок и ожили в изящном танце. Чёрные шёлковые платья их украшены традиционным орнаментом прославленных художников родного села. Танцевальная сюита коллектива Палехского Дома культуры Ивановской области (руководитель В. Осокин) так и называется – «Палехские узоры». Это один из многих номеров программы заключительного зонального концерта смотра художественной самодеятельности Российской Федерации, который проходил в Ленинграде.
Просторная сцена Академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова была отдана в этот день народным талантам сёл и деревень. Из четырнадцати русских областей приехали сюда хлебороды и животноводы, звероводы и пастухи, шофёры и швеи, доярки и телятницы, почтальоны и птичницы, рыбаки и педагоги, оленеводы и трактористы, врачи и учащиеся…
Перед нами, членами жюри смотра, прошел гигантский калейдоскоп людей труда, отдающих свой досуг художественному творчеству. За время смотра (а он длился полтора года) в нём приняли участие несколько миллионов исполнителей.
Концерт, состоявшийся в Театре имени С. М. Кирова, слушала вся страна, смотрели наши зарубежные друзья – он передавался по Интервидению. Под сводами оперного театра звучали песни большого хора совхоза «Сафроновский» (Смоленская область), в котором принимают участие почти все работники, начиная с директора и парторга и кончая их детьми; выступал хор ветеранов труда села Монастырёк Кингисеппского района Ленинградской области (руководитель 3. Сеяникова). Здесь пели рожки смоленских пастухов, исполнялись частушки калужских доярок, выступали новгородские гусляры – потомки сладкозвучного Садко…
Танцоры удивляли зрителей своей изобретательностью. Молодой рыбак Ю. Неловченко из рыболовецкого колхоза имени Матросова Калининградской области исполнил индийский ритуальный танец. Видно, пылкая фантазия у этого стройного, мускулистого парня, занятого нелегким трудом ловца-морехода. Движения Ю. Неловченко то плавны, то резки. И зритель угадывает сюжет его танца – борьба со злыми силами природы.
Среди исполнителей, щедро наделенных богатой фантазией, не может не запомниться колхозник В. Шумский из сельхозартели «Металлист» Псковской области. Художественные средства его номера – только движения и свист. Но перед нами проходит довольно сложная по сюжету сценка, проникнутая теплотой и сердечностью: немолодой уже крестьянин вышел в лесок погулять и заслушался соловьиной песней. Захотелось ему поближе поглядеть на пернатого певца, перелетающего с дерева на дерево. Долго пытался крестьянин поймать его и наконец накрыл соломенной шляпой. Хрипло вскрикнул соловей и затих в руке птицелова.
– Ну пой, – просит человек птицу.
Нет, молчит пленник. И тогда Шуйский широким жестом с доброй улыбкой выпускает соловья на волю. И тот улетает, подарив на прощание радостную глинковскую трель!
Потом появился широко улыбающийся крепыш – свинарь колхоза «Путь Ленина» Смоленской области Н. Сапегин и так жизнерадостно-звонко запел старинную русскую народную песню «Хуторок», что его можно было бы сравнить с только что улетевшим «соловьём».
Неожиданное явление – «Цирковой калейдоскоп». Выступает акробатическая группа Гатчинского районного дома культуры. Старый артист цирка Н. Соколов вышел на пенсию, поселился в районе, но не смог усидеть без дела – обучил сложному цирковому искусству любителей из города Гатчины, и на смотре выступали партерный акробат, канатоходец, гимнаст на трапеции, девушка-«каучук» и девушка-прыгун. Цирковую группу сменил на сцене танцевальный коллектив. Будто в витрине магазина кустарных изделий, выстроился ряд неподвижных «игрушек», «деревянных матрёшек» – круглых, неповоротливых. Заиграл баян, и матрёшки зашевелились в медлительном фантастическом танце белозерских колхозниц Вологодской области. Сколько выдумки, грации в движениях хоровода!
А вот три Володи – молодые румяные колхозные жениха, сватающиеся к ленинградским девчатам (колхоз вмени Свердлова Костромской области). Яшин, Степанов и Немков, словно стилизованные под «дымковские» игрушки, распевают комичные частушки своего сочинения, аккомпанируя себе на балалайках и гармошках.
Ещё одна сфера народного искусства, незаслуженно забытая и ныне возрождаемая, – домашнее музицирование. Здесь отметим «семейный» ансамбль вологодских колхозников из Бабушкинского сельского Дома культуры, исполняющий шуточные песенки под тальянку.
Обильна Русь всяческими талантами! Народную песню «Выгоню я скотинку» играл на рожке А. Дворцов – пастух колхоза «Свободный труд» Калининской области. С этим рожком старик и скот пасёт. А потом пришли сразу семь пастухов-рожечников костромичей, наигрывая залихватскую песню «Во кузнице». Колхозники играют и на тонкой берёсте, и на гуслях звончатых. Аккомпанируют им ловкие ложечники. Не забывают сельчане старинные народные инструменты. По-прежнему любят на селе балалайку. Слаженно исполнил псковские свадебные наигрыши ансамбль гармонистов из Великолукского района.
И тут же звучали номера классического репертуара. Арию Далилы из оперы
Сен-Санса «Самсон и Далила» с профессиональным блеском спела Г. Павличенко, заведующая клубом поселка Росляково Мурманской области. Гатчинский механизатор Н. Финаченко пел арию Игоря из оперы Бородина «Князь Игорь».
И снова кружатся статные русские красавицы в плавных хороводах, в игровых кадрилях и плясках. Запомнился шумный красочный «Колокольчик под дугой» (Козельский клуб Калужской области). Молодежь из совхоза-техникума села Кокино Брянской области так замысловато пела «Утушку луговую», будто рисовала прихотливые звуковые узоры…
«Праздник оленеводов» – это название танца-песни молодежи из Ненецкого национального округа Архангельской области.
Образы песен часто приобретали зримые черты. Гордую песню «Мы тундры покорителя» пел на родном языке Саамский хор. Он прибыл на смотр из далекой Ловозерской тундры Мурманской области. Таких необычных уборов, таких своеобразных ритмов мы ещё не видели и не слышали!
Что же произвело самое сильное впечатление на заключительном концерте-смотре народных талантов? Можно ответить: это несомненно русская песня «Ленок», спетая хором женщин из колхоза «Серп и молот» Псковской области. Они-то знают, как сеять, жать, трепать и прясть ленок, и воспевают его с трогательной влюблённостью. Покоряет мастерство дирижёра ансамбля 73-летней колхозницы Е. Укатовой. Знаток певческого искусства, руководитель Академической капеллы имени М. И. Глинки профессор А. И. Анисимов, заместитель председателя оргкомитета Всероссийского смотра, с большой похвалой отозвался о манере дирижирования запевалы ансамбля. Своим умением, многолетним опытом, одарённостью, энергичным профессиональным жестом Е. Укатова добивается слитности, мелодичности звучания хора и тонкой поэтичности исполнения народных песен. Она действует по правилу, которое легко отнести к любому художнику, творящему в любом жанре: не себя показывай – песню!
«Литературная Россия», 19 февраля 1965 года
Самое обыкновенное чудо (Из выступления Н. А. Сотникова на обсуждении спектаклей декады Дагестана в Москве)
Я в течение последней недели, начиная с 8 апреля, нахожусь в праздничном, приподнятом состоянии. Я словно прохожу по дорогами по культурам, по народам, прежде мне неизвестным, и каждый раз, выходя из кумыков, приходя к лакцам, возвращаясь к аврацам, снова и снова испытываю чувство гордости в связи с тем, что эти национальные сцены, родные сёстры русской сцены, находятся на очень высоком подъёме, на высоком уровне творческих достижений. Вот это и есть самое обыкновенное советское чудо.
Выступления звучали по Всесоюзному радио, были опубликованы в книге «Искусство и литература Дагестана» (Махачкала, 1963 год).
Вместе с Н. А. Сотниковым впечатлениями о декаде театральных коллективов Дагестана делились критик В. Ф. Пименов, заслуженный деятель искусств РСФСР Ф. П. Бондаренко, народный артист СССР М. И. Царев и другие деятели театрального искусства.
Гостей из Дагестана принимал Малый театр.
Раскрытые книги
Н.Н. Сотников. Не только экран, театральная сцена, но и книга
Разумеется, отец был большим книгочеем и с книгами не расставался никогда. Правда, в последние годы это были чаще всего сборники пьес, реже – киносценариев, порою – литературоведческие труды, посвящённые особенно дорогим для сердца отца писательским именам. Многие его ученики начинали как прозаики, выпускали у себя в краевых, областных и республиканских издательствах первые книги и непременно посылали отцу. Зачастую – с просьбой посоветовать, можно ли из той или иной повести сделать пьесу. Очень редко тот же вопрос адресовался романам, которых и писалось, и издавалось куда меньше, чем сборников повестей и рассказов. Ещё реже отцу присылали сборники очерков и документальных текстов. Сам очеркист, он относился к такого рода произведениям с большим интересам, но чаще всего настаивал на коренной переработке материала, ссылаясь и на свой личный творческий опыт.
К величайшему сожалению, рецензии отца на довоенные издания у нас в семейном архиве не сохранились. Исключение – фрагменты из очень острой, полемически заострённой рецензии отца на поэму Василия Каменского «Стенька Разин». Восстановить полный текст оказалось невозможным, равно как и проследить судьбу этого литературно-критического материала. Думаю, что скорее всего по ряду причин она осталась неопубликованной.
Нет возможности обнаружить и разного рода внутриредакционные материалы (редакционные заключения, переписку с авторами и т. д.), как и многочисленные так называемые «внутренние» рецензии послевоенной поры по просьбе издательств, реже – редакций журналов и Комитетов по печати СССР и РСФСР. Комитет по печати СССР, учитывая, что отец свободно читает по-украински, чаще всего давал ему на просмотр или заключение либо вёрстки, либо готовые книги украинских издательств. Республиканский Комитет чаще всего просил отрецензировать тексты пьес, которые собирались публиковать издательства России. Сдавались заказчикам готовые отзывы в трёх экземплярах, себе отец в таких случаях экземпляра не оставлял, да и наша пишущая машинка «Континенталь» четвёртый экземпляр в «закладке» не брала.
Не стану скрывать – весьма часто отец соглашался на такого рода работу во имя заработка (долгое время в Москве и пригороде Кунцево он снимал комнаты, надо было помогать мне, сперва малышу, а затем школьнику, отцу и матери, которые жили в Кисловодске и были уже весьма преклонного возраста), но чаще всего отец воистину увлекался и такой работой и писал так, как будто бы не для деловых редакционных процессов, а для широкого круга читателя предназначались его слова. Кое-что шло затем в обзоры, лекции, беседы с учениками. Авторские имена в таких случаях не раскрывались, а чаще всего говорилось так: «Сравнительно недавно я читал одну рукопись. Так вот…».
Вообще, как очень творчески насыщенный человек, он был увлекающимся: если уж что понравилось, то он неоднократно обращался к тому или иному произведению.
Отбирая для данного сборника какие-нибудь примеры рецензий и произведений других литературно-критических жанров, я остановился на отзыве отца на книгу замечательного таджикского прозаика Джалола Икрами. Познакомились они в столовой Дома творчества в Переделкино. Отец обратил внимание, что под руководством заботливой жены Икрами обычная еда (кормили в Переделкино чуть лучше, чем в Комарово, но всё равно плоховато) обретала чудесные превращения. Икрами, заметив отцовский интерес, улыбнулся и попросил свою жену угостить отца таджикским пловом со специями. Отец, большой гурман в еде, высоко оценил это кулинарное творчество. Разговорились. Постепенно перешли на литературные темы, отойдя от тем кулинарных. Отец увлечённо стал спрашивать Икрами о литературных делах в Душанбе, где он не бывал. Икрами очень увлёкся рассказами отца о литературной педагогике. В ходе беседы выяснилось, что отец читал прозу классика таджикской литературы Садриддина Айни. Икрами возрадовался и с гордостью заявил, что Айни – его УСТОД. Просто перевести это слово как учитель нельзя: оно гораздо шире. Это и наставник, и воспитатель, и мудрец, который взял на себя труд готовить себе достойную смену.
Через несколько дней опять же в столовой Икрами подошёл к отцу и заявил: «Только что приехал из Москвы (Переделкино находится от столицы на расстоянии примерно, как у нас от Ленинграда Пушкин. – Н. Н. С.) и получил сигнальные экземпляры моей книги, посвящённой Айни, “Мой учитель, моя школа и я сам”. Разрешите Вам, Николай Афанасьевич, подарить авторский экземпляр!» Отец с благодарностью взял книгу в руки и увидел на форзаце надпись: «Уважаемому тов. Сотникову на память от писателя. 5/1 – 71. Переделкино».
Для неспециалистов скажу, что новинка позволяла получить автору всего лишь 10 экземпляров. Остальное надо было или прикупать в издательстве, либо искать в магазинах, что весьма хлопотно. Таким образом, Икрами пожертвовал одним из десяти экземпляров своему новому знакомцу.
Отец книгу очень быстро прочитал, пришёл от неё в восторг (он в дальнейшем не раз использует примеры цитаты из этой книги в своих выступлениях и беседах с молодыми драматургами) и вскоре написал рецензию с элементами творческого портрета «Утро нашей жизни». Редакция журнала «Детская литература», с которой в ту пору отец крепко подружился, взяла отцовский текст, но с оговоркой^ что пойдёт материал не в текущий номер; а в специализированный; посвящённый теме «Дружба народов – дружба литератур».
Лично мне этот текст дорог интонацией; умением понять автора и его судьбу. Изо всех литературно-рецензионных текстов я для мемориального сборника решил отобрать именно этот. Перечитал и твёрдо решил, что поступил правильно.
Н.А. Сотников. Утро нашей жизни
Так названа одна из книг известного таджикского писателя Сатыма Улуг-зода. Речь о ней пойдёт ниже. Но заголовок её довольно точно выражает тему этого рассказа – литературное призвание, школа писательского мастерства, постигаемая иными из нас с самых юныхлет. Кстати пришлось и название повести другого видного писателя Таджикистана Джалола Икрами «Мой учитель, моя школа и я сам», недавно выпущенной в Москве.
Обе книги носят автобиографический характер. Написаны по впечатлениям детства и юности. Авторы показывают, что у многих юных читателей ещё в школе возникает мечта – стать писателем.
Но где научиться этому искусству – писательству? Есть ли такие учебники или особые школы, как скажем, для одарённых музыкантов, где ребята учатся с малолетства?
Таких школ нигде нет. Определить литературные способности в раннем возрасте труднее всего. Для такого дела требуется длительная проверка. Как же быть? Остается использовать жизненный опыт таких людей, как Икрами и Улуг-зода, подробно рассказывающих в своих произведениях об «утре» писательской жизни.
О какой школе говорится у Икрами? Поначалу – о старой мусульманской школе. Вспоминать о ней тягостно. Читать там можно было научиться за семь лет, писать – за все десять. Ученикам больше нравилось уходить из неё, чем в неё входить. Приходилось часами, до одури голосить: «Хвала Аллаху, владыке миров! Хвала Аллаху…». Малыши терпели и палочные удары, и оскорбления, и грубую брань невежественных и малограмотных «педагогов».
Но была и школа литературного творчества для юных мечтателей. Кто был их истинным учителем? Классик таджикской и узбекской литератур Садриддин Айни.
По его трудам молодые не только знакомились с памятниками тысячелетней литературы таджикского народа, не только с жизнью современников, но и пользовались его личными наставлениями в овладении ремеслом сочинителя.
* * *
Не впервые выступает признанный писатель, лауреат республиканской премии имени Рудаки Джалол Икрами как автор книг для детей. Большое впечатление производит повесть «У подножья солнца», написанная им в соавторстве с А. Одинцовым.
По существу, это путеводитель по родному солнечному краю, написанный увлекательно и поэтично. Это путешествие не по степям и горам Таджикистана, не по кишлакам и городам республики, а по людским судьбам. Через раскрытые души современников читатель может лучше разглядеть чудесную страну.
Не подделываясь под ребячье понимание, серьёзно и задушевно, искренне и правдиво, на равных началах ведёт автор своё повествование, удачно названное «Мой учитель, моя школа и я сам».
Определяя такой характер изложения, я вспомнил слова Бернарда Шоу, что лучшие на свете, самые любимые детские сказки братьев Гримм, Андерсена или Перро написаны для взрослых, как «Гулливер», «Робинзон» или «Мюнхаузен». Лучшие страницы книги Икрами – те самые, где он говорит о литературном труде своего учителя Айни, о своей учебе у него. Глава так и называется «Школа писательства».
* * *
«Детство… Дни беспечальные, время веселья и радости, удивительная пора в жизни человеческой! Эти рассветные часы наши столь сладостны и светлы, что даже вспоминая их, снова светлеешь душой…».
И дальше: «Богатство воображения, бьющая через край энергия, душевная ясность, сердечная открытость – вот что такое детство!» Должно быть, счастлив тот писатель, который от рассвета до заката жизни сохраняет такие черты характера.
Джалол очень любит страну своего детства – городок Каракуль, дающий мех, ценимый на вес золота. Любит он и Древнюю Бухару, «красу Востока», куда позднее переехал его отец.
Перед взором пытливого мальчишки раскрывались картины пестрого бухарского рынка, пышного дворца эмира, сказочно прекрасных храмов, благоустроенных европейских кварталов столичного города. А рядом – лачуги бедняков-ремесленников, где горшечник «пьёт воду из разбитого черепка», в то время как даже лошадь эмира «носит золотую корону».
Широкими мазками автор рисует картины народной жизни, запомнившиеся с малолетства. Икрами видит и показывает эмирскую Бухару со всем её богатством и нищетой, величием и невежеством.
В то же время он видит свой край прекрасным: «Счастлив и нищий в той стране, где дождь льёт ночью, а солнце сияет днём». Ручьи у него звучат переливчато-смешливо… «Сквозь глаза ты вошла в моё сердце, чтобы в нём воссиять, красота!»
– Не краса ли здешних мест, – рассказывает писатель, – заронила в мою душу и первые искры любви к прекрасному и любви к поэзии, к литературе? И не цветение ли розы было первым эстетическим наслаждением, а пение соловья – первым уроком поэзии?
Всё это не описания, не летопись, а живопись словом, цветистый восточный узор речи, которым не устаешь любоваться.
* * *
Много пишут авторы о главной писательской школе, о ЖИЗНИ. Характерные черты этой школы взяты учениками из жизни учителя, который хорошо её видел и запоминал.
– Всю свою жизнь, – вспоминает Икрами, – Айни был влюблён в Гиждуван и пел ему хвалу. Отчасти это можно отнести и к самому Икрами, также влюблённому в Гиждуван, где протекла часть юных лет Джалола, – в доме отца-судьи, двух мачех и друга-слуги.
Иначе жил в детстве Садриддин, сын бедного дехканина. Помогая отцу добывать скудное пропитание, парнишка с большим трудом возделывал тыквенную грядку, запрягая в борону своего друга – пса Хайбора.
Первым учителем учителя был его отец. Это он научил сына быть человеком. Он был мудрецом от природы, а мудрым бывает тот человек, который всю жизнь проводит в труде: «Единственный твой благодетель есть труд твой, не забывай».
Безделье поэт Саиб считал подобием смерти: «Доколе от безделья дряхлеть и умирать!»
– Из тебя поэт может получиться, – сказал отец Садриддину. – Только будь прилежен и побольше читай.
Айни выполнил отцовское наставление. Рано овладев грамотой, он пристрастился к чтению старинных народных сказок и преданий, научился записывать в тетрадку то, что понравится. Садриддин мог уже читать не только обязательный Коран, но и стихи Хафиза и такого трудного поэта, как Ведиль…
* * *
Так определилась ещё одна важнейшая сторона писательства – КНИГА. Таджикистан удивительная страна поэзии. Весь мир знает ее певцов: Рудаки и Фирдоуси, Джами и Лахути, бессмертного Омара Хайяма.
Напомню, что слово «тадж» переводится как «венец». Таджикский народ можно назвать венценосцем, если он дал столько увенчанных славой поэтов!
У этого народа богатейшая традиция классической литературы, образцы которой собрал в антологию Садриддин Айни. «Образцы» стали настольной книгой последователей. Как воздух, им нужны были книги для чтения на родном языке, а до Айни их не было.
Случилось так, что Икрами в 13-летнем возрасте стал студентом, не успев закончить школу. Очень нужны были молодой советской республике образованные люди.
В высшем училище оказалась богатая библиотека. И началась многолетняя школа чтения! С жадностью вчитывался будущий писатель в произведения Жюля Верна, Виктора Гюго, Дюма-отца, Бальзака, Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Горького…
– Не осел ли несёт на себе груз твоих книг, – шутливо заметил отец. Просвещённый по тому времени человек, он не препятствовал увлечению сына.
– Надо войти в безбрежный мир книг, войти и долго-долго путешествовать по нему, – понял ученик. Видимо, он понял и то, что, не совершив такого путешествия, нельзя самому браться за перо. В другом месте он снова воспевает это «путешествие»: «Передо мной раскрылся удивительный, таинственный мир – мир книги. Я припал к нему, как в пустыне путник припадает к воде…». Книги пробудили у маленького Джалола увлечение литературным творчеством. Литература была его любимым предметом в училище. Он был самым деятельным участником литературного кружка, самым плодовитым автором стенной газеты. Его мальчишеские стихи хвалили соученики.
– И в моём самонадеянном сердце, – признается Джалол, – тихо-тихо стала вить себе гнездо мечта: стать писателем!
«Быть писателем – значит печататься», – так полагал юный кандидат в литераторы, но его долго-долго не печатали. Снова и снова повторяет он в своей исповеди:
– Всё же птица мечты, уже свившая гнездо в моём сердце, самозабвенно напевала: стать писателем, стать писателем…
Наконец Икрами постигла удача. Айни, к тому времени уже непререкаемый авторитет в литературе, согласился послушать стихи Джалола. Правил стихосложения он не знал, напевал свои строки, как птица. Устод-наставник дал подростку один совет, и у мечты-птицы выросли крылья. Домой он не шёл, а летел. Совет был неожиданный, но мудрый:
– Если стихи не даются, попробуйте-ка писать рассказы. Проза – она просторней, свободней, – сказал учитель, обнаруживший у ученика искру дарования. Джалол легко расстался с поэзией – это была не его стихия.
– Если человек, – сказано в книге Айни «Бухара», – и напишет пару двустиший, это не означает, что он уже поэт. Каждый, в ком есть дарование, может сложить несколько газелл, но одного поэтического дара мало, чтобы стать большим поэтом. Поэт должен быть большим человеком, чтобы писать на все случаи жизни. Надо знать жизнь со всех сторон и, зная, – понимать её…
И вот пришла радость! Ни с чем не сравнимая, неповторимая радость первой публикации, осуществлённойустодом Айни. Но чего это стоило Икрами! Сколько раз он переписывал свой первый рассказ «Думы», прежде чем он появился в журнале «Рахбари дониш».
Зато второй рассказ Джалола «Ширин» наставник решительно и резко забраковал: «Только тот, у кого каждый его последующий рассказ лучше предыдущего, только тот автор – настоящий писатель», – с гневом говорил Айни. Учитель не прогнал ученика, учуяв в нем трудолюбие, терпеливость и способности. Шесть раз Айни заставлял Икрами переделывать «Ширин» – слово за словом, фразу за фразой, абзац за абзацем. Только на седьмой раз учитель сказал:
– Теперь ваш рассказ можно и напечатать. Вы хорошо потрудились. Молодец!
И только тогда парень постиг, как это трудно – стать писателем.
* * *
Икрами счастливец! У него был великий учитель – устод, что означает – непревзойденный мастер своего дела, большой писатель, умелый редактор, просвещённый консультант.
Прилежный ученик поделился с нами, читателями, своим счастьем – ввёл нас в творческую, педагогическую лабораторию литературного мастерства.
Радость первых публикаций не вскружила ему голову. Стать настоящим писателем! Даже себе он боялся и тогда признаться в этой затаённой мечте, принимаясь за работу над более широким литературным полотном.
Первый роман Икрами «Шоди» устод подверг такому основательному редактированию, оставил столько заметок на полях, что изучение правки уже само по себе являлось замечательной школой для литераторов. Недаром эта рукопись хранится в музее Айни.
Последующие романы Икрами, в частности дилогия «Дочь огня» и «Двенадцать ворот Бухары», словно незримо хранят на своих страницах следы «правки» Айни.
Наставник добился своего. Ярко и красочно, живо и занимательно, драматично и строго-документально повествует ученик о подготовке и развитии первой на Востоке Бухарской революции, руководимой учеником Ленина – Валерианом Куйбышевым.
Здесь же автор подробно раскрывает основы школы писательства, приобщения к великому таинству постижения искусства, пользуясь примерами из жизни учителя.
Высокое уважение к своему делу! Поэты казались юному Айни святыми, а их поэтический дар – одним из чудес, которые творят «святые». Изучение творческого опыта Айни, переданного нам Икрами и Улугзода, приводит к формуле писательства, выведенной из их практики: ВРОЖДЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР, НЕУКРОТИМАЯ СТРАСТЬ К ЗНАНИЮ, ЛЮБОВЬ К ЛИТЕРАТУРЕ, УПОРСТВО И ТРУДОЛЮБИЕ, ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К САМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ.
Особо надо сказать о ЯЗЫКЕ. Учитель указывал на образцы речи Рудаки, Фирдоуси, Саади, чьи произведения отличались ясностью, простотой, народностью. Языковые богатства такого наследия явно использованы учениками в их работах.
* * *
«Слова надо употреблять с толком, с умом, зная все оттенки их смысла. Для этого необходимо проверять себя по толковым словарям», – сказалустод.
Это было третье в книге Икрами упоминание о работе писателя со словарями. «Кровью исхожу над каждым словом», – говорил ученику учитель.
Все лучшее, что вышло из-под пера учителя и учеников, взято было из уст народа, – только тогда возникает правда и красота искусства! Так, о судьбе обездоленного бедняка говорится, что она, ещё не став абрикосовой завязью, уже становится сушёным урюком. Разве придумаешь подобный образ?
О власть имущем сказано: «Захочет – посадит на верхнюю полку, захочет – упрячет в мышиную норку». Бедняк не решался громко выразить протест против бесправия: «За стеной мыши, а у мышей уши».
В таком же духе звучат советы: «Не играй хвостом льва, не играй остриём ножа», «Помни: городские ворота можно закрыть, а рты нельзя». Так и было, когда по чьему-то доносу великого писателя, самого образованного в Бухаре человека Садриддина Айни эмир Алимхан велел наказать 75-ю ударами. На обложке одной из книг изображена изодранная палкой спина мудреца. «Даже считая себя мужем, считай врага львом», – предостерегает он от беспечности. «Иметь сто друзей мало, а одного врага – много». Велика и сила слова: «Хорошее слово даже змею из норы вызывает».
Из чего складывается словесная палитра художника? «Из каждых уст по слову, с каждой лужайки по гиацинту». Как пчела собирает лучшее из того, что есть в цветах, так и авторы отбирают нектар поэзии и мудрости народной.
* * *
С чего начинать путь в литературе? Так и слышатся советы героев моего рассказа. Для начала возьми то, что ты знаешь лучше всего! Возьми и опиши свой родной кишлак, аул, село или город. Изобрази его с любовью и вниманием и покажи нам, как прекрасна твоя родина! Книжка «Утро нашей жизни» начинается с главы «Наш кишлак». Первая часть воспоминаний Айни «Бухара» называется «Деревня».
Один русский ученый по фамилии Андреев, фольклорист и историк Таджикистана, сказал юному Улуг-зода: «Знай свой народ», и сам показывал примеры любви и уважения к его народу.
Вот чему учит опыт друзей. Расскажи о своём отце-труженике, полвоне-бога-тыре. Скажем, он был такой сильный человек, что брал своего ишака под мышку и переходил реку вброд. Расскажи о любящей тебя красавице-матери, разумной хозяйке. Расскажи о ближней речке, о роще, о саде и огороде. Найди во всём этом своеобразие и привлекательность.
Из сочинений Айни, Икрами, Улут-зода можно сделать тот вывод, что нельзя придумывать ни стран, ни городов, ни сел, ни людей, которых автор не знает досконально и потому не сможет изобразить художественно. Ещё один пример: «Само название Сырдарья, в переводе “Река тайн) звучало заманчиво и возбуждало желание ещё раз увидеть ей. Она была так широка, что если крикнуть с одного берега, то на другом не услышат». Это и есть то владение художественной деталью, которое делает твою книгу талантливой. Вспомни слова Бальзака: «Талант это подробности». Талант – это и свой колорит, оригинальность, неповторимость авторского почерка или стиля.
Но сама по себе деталь ещё не всё решает в произведении. Нужны и широкие обобщения. Вот сжатый, выразительный эпилог книги Икрами, финал борьбы за революцию в Бухаре. Героиня романа «Дочь огня» Фаруза-Бирюза, недавняя невольница гарема, повела в бой порабощенных слуг эмира и сама казалась дочерью огня, в пламени которого догорал дворец деспота…
Авторы прочитанных книг рассказывают о самом важном, о том, как люди становились свободными: «Откуда нам солнце засияло? Какой ветер вас принес?..» Так говорится о ленинских идеях, позволяющих по-новому раскрывать судьбы человеческие, судьбы народные…
«Детская литература», 1972, № 5
Слово предоставляется документам
Работа Н. А. Сотникова в театральной драматургии
1936 год – «Алло, Запад!». Театральное обозрение для театра при Ленинградском Доме печати. В соавторстве с Е. Руссатом. Премьера была в июле 1936 года.
1942–1944 годы – Репертуар для ансамблей 42-й армии, 4-й, 13-й и 109-й дивизий.
1952 год – «Свои люди». Одноактная драма. ВУОАП. Москва. Была постановка в Риге.
1961 год – «Милая девушка». Одноактная комедия. Ставилась на сценах многих народных театров.
1967 год – «Встреча в веках». Пьеса об истории создания М. И. Глинкой оперы «Иван Сусанин». Премьера в Костромском драматическом театре имени А. Н. Островского.
1974 год – «Певец из Лилля». Пьеса об истории создания мелодии гимна «Интернационал». Премьера в Астраханском областном драматическом театре имени С. М. Кирова.
Пьесы «Славься!», «Встреча в веках» и «Вдоль Фонтанки-реки», посвященные жизни и творчеству М. И. Глинки, составляют своеобразную трилогию.
Пьеса «Свидание в Горках» посвящена приезду в Горки Бернарда Шоу вместе с леди Астор к Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой.
Пьеса «Беспокойное племя Сусаниных». Героическая трагедия в одном действии и шести сценах.
Работа Н. А. Сотникова в кинодраматургии
В 1925 году Н. А. Сотников работает в кинотехникуме, предшественнике ВГИКА, заведует отделом практики, подбирает репертуар и сам пишет сценарии, организует вместе с режиссерами Чеславом Сабинским и Абрамом Роомом учебную киностудию, все они вместе работают над кинофильмом-комедией нравов нэпманской Москвы «Гонка за самогонкой».
В 1926 году на экраны выходит фильм «Ветер» по одноимённому рассказу Бориса Лавренёва. Н. А. Сотников как один из сценаристов принимает участие в работе над фильмом.
Собственно сценарная работа его начинается в 1934 году, когда он получает задание из Москвы снять в домашней непринуждённой обстановке народовольца, академика, поэта, общественного деятеля Николая Александровича Морозова.
1938 год – «Гдовская старина» («Народный учитель»). Киноочерк о фольклорном ансамбле, который создал учитель Савельев, он также занимается и хореографией, и этнографией русского народа. Ленинградская студия кинохроники. Режиссер П. И. Паллей.
1939 год – «Комсомол Красной Армии». Киностудия «Союздетфильм».
1939 год – «Пенаты». Очерк о И. Е. Репине. Студия малых форм. Режиссёр Занин. 1 часть.
1939 год – «Архитектура Ленинграда». Ленинградская студия научно-популярных фильмов. Режиссёр В. Н. Николаи. 6 частей.
1940 год – «Художественный облик Ленинграда». Режиссёр М. М. Клигман. Ленинградская студия научно-популярных фильмов. (Далее – Леннаучфильм).
1940 год – «Сталин в народном творчестве». Режиссёр Л. Я. Анци-Полов-ский. Заказ Москвы. Фильм в прокат не вышел по причине немонтажности снятых эпизодов.
1940 год – «Отец и сын». Художественный фильм о сталеварах. «Ленфильм». В соавторстве с Б. Бродянским. Режиссёры О. Сергеев и С. И. Якушев.
8 частей. Имел прокат с ноября 1941 года по май 1945 года, преимущественно для частей Ленинградского фронта. Имел 14 копий.
1941 год – «Певец из Лилля». Художественный фильм о французском рабочем композиторе Пьере Дегейтере, авторе мелодии «Интернационала» на слова Эжена Потье. «Ленфильм». Режиссёр В. М. Петров. В роли Пьера – В. Честноков. Фильм снимали в Выборге, который похож на северную Францию. Натура была снята почти вся. В. М. Петров планировал сдать фильм к 7 ноября 1941 года. Негатив погиб в годы войны.
1942 год – «Снайперы». Ленинградский фронт. Объединённая киностудия. Режиссёр С. И. Якушев.
1943 год – «Прорыв блокады Ленинграда». Объединённая киностудия. Режиссёр В. М. Соловцев.
1943 год – «Выстрел». Учебный фильм. Объединённая киностудия.
1943 год – «Сбор ленинградскими верующими денег и драгоценностей на танковую колонну имени Дмитрия Донского и эскадрилию имени Александра Невского». По заказу Москвы. Досъёмки производились в подмосковном городе Коломна после того, как танковая колонна была готова к маршу на фронт.
1943 год – «Ленинград в 1943 году». Объединённая киностудия.
1944 год – «Ленинград в 1944 году». Объединённая киностудия.
1945,1946 год – разбор кинофотоархивов фашистской Германии, Берлин.
1947 год – «Домик Петра I» {«Домик над Невой»). В соавторстве с Н. А. Эльяшевой. Исторический очерк. Ленинградская студия научно-популярных фильмов.
1947 год – «Наша Ладога». Леннаучфильм. Консультант доктор геолого-минералогических наук профессор учёный секретарь Географического общества С. В. Колесник.
1947 год – «Цитадель революции». Очерк о памятниках революции в Ленинграде. Леннаучфильм. Соавтор сценария и режиссёр А. А. Чагинский. Консультанты директор Ленинградского отделения Института истории партии Г. К.
Шариков, директор Музея революции С. А. Павлова, директор Музея В. И. Ленина Н. В. Телегин.
1948 год – «Искра». Очерк об истории создания газеты «Искра». В помощь изучающим историю ВКП(б). Консультант Г. К. Шариков. Леннаучфильм.
1948 год – «За рекой Сестрой». Очерк. Леннаучфильм.
1948 год – «Южная Балтика». Путевой, научно-познавательный очерк.
1949 год – «Русский свет». Научно-популярный очерк. К 30-летию плана ГОЭЛРО. (В центре внимания изобретение Н. П. Яблочкова.) В соавторстве с Б. Юдиным. Режиссёр В. Гранатман.
1950 год – «Город поэта». Очерк о городе Пушкине. Леннаучфильм. 1 часть. Режиссёр Р. Мирвис.
1950 год – «Рыбаки Заполярья» («У берегов студёного моря»). Очерк о механизации колхозного лова рыбы. По заказу ВДНХ. Леннаучфильм.
1950 год – «Зелёный бастион» («Лес в степи»). Мультиплакат. Киностудия «Союзмультфильм».
1949 год – «Основы стрельбы из пехотного оружия». Учебный фильм. Режиссёр М. С. Гавронский. Главный консультант генерал-майор В. И. Петухов.
1951 год – «Зодчий Росси». Очерк. Леннаучфильм. Режиссёр Майман. Консультант архитектор Н. Н. Белехов. 1 часть.
1956 год – «В городе трёх революций». В соавторстве с А. А. Чагинским. Леннаучфильм.
1956 год – «Приамурье». Путевой очерк. Дальневосточная студия кинохроники. Режиссёр Н. Данилов.
1956 год – «По нижнему Амуру». Очерк. Дальневосточная студия кинохроники. Режиссёр Н. Данилов.
1959 год – «Грядущему навстречу». Очерк. Центральная студия кинохроники. О бригаде сталевара Ивана Кайолы. Режиссёр М. А. Трояновский. 2 части.
1960 год – «Иван Емельянов, крестьянский сын». Очерк о председателе колхоза. Центральная студия кинохроники. Режиссёр В. В. Беляев. 2 части.
Кроме того, в различных документах упоминались сценарции «В каждом доме» и «Корабли выходят в море».
Всего, по неполным данным, 14 фильмов, то есть больше половины, было создано именно на киностудии «Леннаучфильм».
Как вспоминал отец, у него уже была договорённость (ещё не договор) на создание сценария документального фильма «Путешествие из Петербурга в Москву из Москвы – в Ленинград», посвящённого истории дорожного сообщения между важнейшими в истории России городами. Отец специально приезжал в Ленинград, изучал материалы железнодорожных музеев, беседовал с историками-знатоками пассажирских и грузовых перевозок в допаровозное время. Какие-то чистовые страницы сценария им уже были написаны, но в итоге выяснилось, что смета на данный фильм оказывается слишком велика для документального фильма (а просто-напросто говорить отлько о поездах автор не хотел, напротив, мечтал поведать о дорожных станциях, станционных смотрителях и вообще – дать сильный литературно-художественный акцент). Посему заявка была исключена из плана, и увлекательный многомесячный труд пропал даром.
Антонина Щеглова. Глазами киноочеркиста. (Из обзора критика, кандидата философских наук Антонины Щегловой)
Многие любители кинематографа регулярно посещают кинотеатры «Хроника» и «Новости дня»[180], однако, творцы этих кинолент не избалованы вниманием критики. Нужно только приветствовать то, что партийная организация аппарата Правления Союза писателей РСФСР избрала предметом своего открытого партийного собрания творческий отчёт кинодраматурга Н. А. Сотникова.
Семь короткометражных фильмов было показано в Центральном Доме литераторов. Это и литературоведческий фильм «Город поэта», и искусствоведческая кинолента «Зодчий Росси», и научно-популярная кинокартина «Русский свет», и путевые очерки «Приамурье» и «По Нижнему Амуру», и два публицистических актуальных очерка «Грядущемунавстречу» (о металлургах) и «Иван Емельянов, крестьянский сын».
Нельзя не сказать об образном решении фильма «Иван Емельянов, крестьянский сын» об одном из лучших председателей колхоза России. Вот одна за другой загораются в небе звёзды. О звёздах говорит в фильме лектор. Горит красная звёздочка над одной из лучших ферм. Сияют над миром звёзды Кремля. Блестит золотая звезда Героя Социалистического Труда на груди Ивана Емельянова. В этом, так сказать, движении звёзд с предельным лаконизмом и эмоциональностью выражена идея о неразрывных связях больших явлений нашей жизни и судеб людских.
Дикторский текст у Н. А. Сотникова предельно лаконичен. Мы видим изрешеченную пулями фашистов бронзовую статую Пушкина у Египетских ворот. «На эти пули, – гласит дикторский текст, – русский человек ответил выстрелами у Бранденбургских ворот». Так к вечному позору пригвождены эти «дантессы ХХ века»!
Фильм «Русский свет» посвящён свече Яблочкова. Казалось бы, сугубо историко-техническая тема, но смотрится фильм на одном дыхании, как будто бы игровая кинолента.
Сценарист и его режиссёры почти всегда щедры на выдумку. К примеру сказать, в историко-архитектурном фильме о зодчем Росси авторы используют и макеты, и мультипликации, отнюдь не сводя разговор к комментариям городских пейзажей Ленинграда.
Нельзя не отметить живую игру цвета в путевых очерках. Из двух небольших речек, рождённых в тайге, постепенно на наших глазах рождается великий Аыур. Тёмно-красный цвет похожей на лилию саранки колышется и создает вторую, огненную реку. Воистину дивные пейзажи нашли и запечатлели кинематографисты. А вот ещё пример драматургии цвета: идёт плавка на заводе «Амурсталь», и эта огненная лава как бы перетекает в огненный закат на амурских берегах. Движущийся по Амуру пароход не только ведёт фильм, но и связует отдельные его эпизоды.
…Большой сеанс, разноплановый, разножанровый. Режиссёры и киностудии разные, а вот автор сценария один – Н. А. Сотников, который с довоенных времён связал свою творческую судьбу с документальным и научно-популярным экранами.
«Литература и жизнь», 20 июля 1960 года (Текст сверен с авторским оригиналом)
Н.Н. Сотников. Периодике верен остался. Предисловие к списку публикаций Н.А. Сотникова в журнальной и газетной периодике
Начинал отец как автор с периодики, точнее – с газет. Упоминал он мне о своём участии в работе красноармейских газет времён Гражданской войны, но ничего с тех лет сохранить в своём личном архиве не смог. Да что говорить о войне Гражданской, когда публикации в дивизионных и армейских газетах времён Великой Отечественной войны сберечь не удалось!
Правда, видел я у отца в письменном столе в ящиках какие-то журнальные страницы конца 20-х годов, но, принимая архив на себя после кончины отца, этих текстов уже не застал. Возможно отец, разбирая ящики большущего письменного стола, какие-то лишние, на его взгляд, бумаги ликвидировал: ему нужно было пространство для будущих пьес, а места в однокомнатной скромной квартире не хватало, бумаги множились и роились. Помню лишь весьма остроумную журналистскую корреспонденцию, в которой оригинально была решена композиция: каждой главке соответствовала пушкинская строка или строфа о весне. А речь шла о подготовке города нашего на Неве к весенне-летнему сезону! Напомню, что тогда отец ведал тематикой городского хозяйства и коммунальных служб. Не представляю себе ныне подобного подхода к утилитарной теме, а у литераторов и журналистов той поры жажда творчества и увлечённость превалировали над практичностью.
Таким образом, благодаря помощи Рабочей комнаты писателя при Центральном Доме литераторов (образцово налажена у них была работа!) я имею список публикаций отца лишь с 1954 года. А первые девять послевоенных лет? Пока не обнаружил ничего, но допускаю и такой ответ на вопрос: в ту пору отец преимущественно занимался драматургией документального и научно-популярного кино, а она, эта работа, не позволяла отвлекаться на периодику.
Приводя сейчас перечень публикаций в газетах и журналах, я порою буду давать уточняющие комментарии. Несколько текстов включены в мемориальный сборник.
Публикации в периодике Н. А. СотниковА с 1954 по 1975 год
1954 Современность в драме. «Ленинская правда» (Петрозаводск), № 193.
1956 Куриное море. «Литературная газета», 13 октября.
1957 Длань «Брата Вани». Фельетон о «работе» сектантов в Москве. «Литературная газета», 10 декабря.
1957 В защиту драматурга. Заметки писателя. «Вечерняя Москва», 17 октября.
1958 Об одной мечте и её воплощении. Заметки писателя. «Литературная газета», 18 января.
1958 «Под чужим именем». Рецензия. «Вечерняя Москва», 21 января.
1958 Встречи в Запорожье. Заметки писателя. «Литературная газета», 20 сентября.
1958 «Туэнельскии лебедь». Реплика. «Литература и жизнь», 21 мая.
1968 Нет, человек не ушёл в отставку! Рецензия. «Литература и жизнь», 11 июня.
1958 Без вдохновения. Рецензия на туркменский детективный фильм. «Искусство кино», № 12.
1959 Тревоги одной ночи. Рецензия. «Советская культура», 2 июля.
1959 Цирк в горном селении. «Советский цирк», № 7.
1959 На семинарах драматургов. Реплика. «Литература и жизнь», 27 сентября.
1959 Где же досадная случайность? «Литература и жизнь», 28 августа.
1959 Это было в Карелии. Рецензия. «Литература и жизнь», 11 сентября.
1959 Слёт драматургов в колхозе. Заметки писателя. «Литература и жизнь», 1 ноября.
1959 Сын века. Заметки писателя. «Литература и жизнь», 4 декабря.
1959 Время спорит с автором. Заметки писателя. «Театральная жизнь», № 21.
1959 Критика и юрисдикция. «Театральная жизнь», № 22.
1959 Мои театральные увлечения. «Театральная жизнь», № 18.
1959 На берегу Городецкого моря. Заметки писателя. «Театральная жизнь», № 23.
1959 Современность в драме. Заметки писателя. «Ленинская правда»; № 193.
1960 Пьесы – театрам. Заметки писателя. «Литература и жизнь»; 6 апреля.
1960 Меньше шума; больше дела! «Театральная жизнь»; № 6.
1960 Доброе напутствие молодым. Заметки писателя. «Литературная газета»; 1 ноября.
1960 «Как хороши, как свежи были розы!» Первый подробный рассказ об утраченной и найденной уникальной сатирической киноленте В. Л. Дурова «И мы как люди»; в которой ВСЕ роли «играли» только животные. «Советский цирк»; № 7.
1960 Города и пьесы. Критический обзор. «Театральная жизнь»; № 22.
1961 Звонок из Студёного оврага. Театральный фельетон. «Театральная жизнь»; № 11.
1962 Содружество. «Советская культура»; 12 мая.
1962 «Звездные ночи». «Литература и жизнь»; 30 мая.
1962 Есть новые пьесы. «Литература и жизнь»; 27 июня.
1962 Воткино-Чайковск. Путевой очерк. «Удмуртская правда»; № 261.
1962 Третьим путем. «Театральная жизнь»; № 17.
1964 Были памятных лет. «Литературная Россия»; № 4.
1964 На перекличке – клубы. Заметки писателя. «Литературная Россия»; № 15.
1964 Своя или чужая судьба. Рецензия. «Литературная Россия»; 10 июля.
1964 За чистоту жизни нашей. Рецензия. «Литературная Россия»; 25 декабря.
1964 Весенний сад. «Литературная Россия»; 25 декабря.
1965 Чудесные узоры. Заметки писателя. «Литературная Россия»; 19 февраля.
1965 За тиграми… Очерк о тигроловах Богачёвых. «Литературная Россия»; 28 мая.
1965 Седьмой Всероссийский. Заметки писателя. «Литературная Россия»; 10 декабря.
1965 Если взяться за дело с умом. «Театральная жизнь»; № 4.
1965 В часы разъезда. Рецензия. «Театральная жизнь»; № 8.
1969 В поисках репертуара. «Детская литература»; № 8.
197 °Cлово о песенном чуде. (Об истории создания гимна «Интернационал». Первая сокращённая публикация нового перевода гимна). «Детская литература»; № 4.
1970 Кто ТЫ; Женька? Рецензия. «Литературная Россия»; 3 июля.
1970 На рассвете. Очерк. «Волга»; № 5.
1971 Певцы Парижской коммуны. «Детская литература»; № 3.
1972 Утро нашей жизни. «Детская литература»; № 5.
1973 Школьный театр, что это? Полемические заметки драматурга. «Детская литература», № 7.
1973 Кому достался дар Пугачёва. Рецензия на сборник пьес чувашского драматурга Максимова-Кошканского. «Волга», № 7.
1975 Пьесы жизни. Творческий портрет уральского драматурга А. Бархоленко. «Урал», № 4.
Газета «Литература и жизнь» была основана в 1958 году в связи с созданием Союза писателей РСФСР. В 1963 году она была реорганизована в газету-еженедельник формата АЗ «Литературная Россия» (орган Союза писателей РСФСР и Московской писательской организации), однако, говорить о преемственности не приходится: в целом (особенно в отделах критики) новая редакция занимала пролевацкую (по той шкале изменения) позицию, и публиковаться в ней патриотам было куда труднее.
Последние два с половиной года Н. А. Сотников был уже очень серьёзно болен и остаток сил сосредоточил на драматургии.
Н.Н. Сотников. Действенность публицистики, или «Не могу молчать!»
Как вы понимаете, бурная негативная реакция на путевой очерк, описывающий красоты природы, портретный очерк во славу мастера своего дела, статья в связи с памятной юбилейной датой, явление – редчайшее! Она может быть почти исключительно в связи с какими-нибудь явными фактическими ошибками.
А вот негативная реакция вплоть до разного рода угроз на фельетон, критическую корреспонденцию, реплику, разносную рецензию явление не такое уж редкое. В этом отношении своеобразными «чемпионами» по числу таких ответных мер у Н. А. Сотникова являются его писательские заметки о мухляже со школьными отметками «Куриное море» («Литературная газета», 13 октября 1956 года) и фельетон «Длань “Брата Вани”» («Литературная газета», 10 декабря 1958 года). Очень бурная реакция в писательских кругах (и не только Москвы!) была после публикаций в журнале «Театральная жизнь» текстов «Время спорит с автором» (своеобразный обзор организационной работы секции драматургов Москвы), «Критика и юрисдикция» (не только о спектакле «Сердце девичье затуманилось», но и весьма редкостном прецеденте в авторском праве) и, конечно же, – рецензия с элементами детектива «Звонок из Студёного оврага» (в Куйбышевский театр позвонил некий аноним с угрозами в связи с премьерой спектакля «Дачный тупик» – явление небывалое, ибо все герои вымышленные, место действии придуманное, значит, заела анонима сама постановка вопроса о гранях и эволюции стяжательства!).
Такие звонки из разного рода «студёных оврагов» отцу раздавались не раз, но открытая угроза убийством была единожды в связи с фельетоном о сектантах во главе с Николаем Волошиным, бывшим уголовником, и его замом, ремонтником и одновременно помощником бухгалтера, сорокапятилетним В. Сизовым. Банда свила себе гнездо на прославленном заводе ЗИЛ, и отец нашёл своего «героя»… на заводской Доске Почёта! Сфера действия банды сектантов была немалая – довольно густонаселённый пригород Москвы, слившийся со столицей Кунцево, и Мазилово. Это сейчас разного рода религиозно-психические «доброхоты» заступаются за секты, даже изуверские, а тогда, в конце 50-х годов отношение было к ним в массе своей непримеримым. «Вывела» отца на тему одна из работниц завода, одна из слушательниц его писательского выступления на предприятии. «Что уж говорить об изуверах на окраинах страны, когда у нас на столицом заводе сектанты даже на досках почётов висят!» Разумеется, после публикации фельетона сектанты перестали «висеть» на Доске Почёта, было возбуждено уголовное дело. Удивительнее всего другое – связи «божьих братьев»: отец тогда снимал комнаты, постоянного своего жилья у него не было, адреса менялись часто, а вот брат Ваня Волошин и иже с ними нашли и адрес отца, и телефон, временный, конечно!
В материале о мухляже с успеваемостью такого рода звонков не было, но были различные недовольства вплоть до руководства республиканского «школьного» министерства. А здесь тему отцу подсказала его тёща, то есть моя бабушка Елена Андреевна, которая очень внимательно следила за разного рода махинациями с оценками в нашем Петроградском районе Ленинграда.
Наконец, чуть было не стал соавтором отца-публициста его семилетний сынок-первоклассник, то есть я! Это, пожалуй, моё первое журналистское расследование, но уже не в школьной сфере, а в медицинской. Я серьёзно заболел скарлатиной, и пришлось полежать в палате детской больницы имени Филатова, где не только плохо кормили больных детей, но и обращались с ними как с малолетними преступниками. Я «собрал материал», написал текст в виде письма домой. Старшая сестра не пропустила письмо (вот она, моя первая редактрисса!), но я сделал из письма «птичку» и выбросил в форточку. «Птичка» полетала по двору и попала в руки моей приёмной матери Зинаиды Фёдоровны, которая пришла посмотреть на меня хоть в далёкое окошечко. А дальше – дело техники: письмо моё с комментариями бабушки (фельдшера), подруги моей покойной матери (детского врача) и тёти Зины было доставлено отцу. Он сделал набросок резко критической корреспонденции и «порадовал» этим текстом руководство больниц, указав и на свои предыдущие очень острые публикации. Реакция была мгновенной: меня досрочно выписали из больницы с глаз долой! Дома мы живо обсуждали с дедом (юристом) мои похождения, возмущались, смеялись, а бабушка сказала, что это моё «боевое крещение». Одобрил мои действия в очередном письме из Москвы и отец.
Разумеется, были у отца и другие разного рода критические выступления (устные, письменные, печатные), не раз ему угрожали и коллеги, «братья-писатели», которых он на собраниях и в печати (а также в рецензиях Госкомитета по печати и Министерства культуры РСФСР) разделал под орех.
Слова, взятые в заголовок, как вы помните, принадлежат Льву Толстому как публицисту. Далеко не со всеми тезисами яснополянинского мудреца ныне можно согласиться, но эта фраза стала крылатой, стала девизом для тех, для кого литературная работа не просто вид престижного и увлекательного заработка, но и прежде всего – служение Отечеству.
Эта совсем не про стая судьба… (Читая и перечитывая документы отца, Н.А. Сотникова)
1918–1921 – красноармеец, политработник, XII армия Южного фронта
1921–1922 – студент Киевского института народного хозяйства
1923–1927 – редактор московских отделений издательств «Прибой» и «Пролетарий»
1927–1931 – редактор, заведующий отделением издательства «Пролетарий» в Ленинграде
1931–1932 – редактор издательства «Моспартиздат», Ленинград
1932–1934 – консультант Дома печати, член Правления, директор и заведующий литературной части театра при Доме печати, Ленинград, одновременно – завсектором городского хозяйства, коммунального рабочего снабжения и быта «Вечерней Красной газеты»
1934–1935 – собственный корреспондент газеты «Известия» на Донбасс, одновременно – специальный корреспондент газеты «Социалистической Донбасс», г. Донецк
1935–1937 – прежние должности в Доме печати, одновременно – завсектором в «Вечерней Красной газете», Ленинград
1937–1941 – литературная работа на дому, сценарии для Ленфильма и других киностудий Ленинграда
1941–1942 – ответственный секретарь дивизионной газеты, Ленинградский фронт
1942–1943 – редактор и киносценарист Объединённой киностудии, одновременно – работа в военных газетах
1943–1944 – после тяжёлой контузии излечение в госпитале, культурно-массовая работа среди раненых, продолжение журналистской работы в условиях госпиталя, секретарь парткома госпиталя, далее – прикомандирован к Ленинградскому отделению издательства Воениздат
1944–1945 – корреспондент-организатор, спецкор газеты 61-й армии Первого Белорусского фронта «Боевой призыв»
1945–1946 – писатель в газете (это и специальность, и должность, очень редкие) газеты Первого Белорусского фронта, резерв Политуправления Группы Советских оккупационных войск в Германии, помощь в разборе и сортировке киноархивов фашистской Германии
1946–1948 – литературная работа на дому, член Групкома писателей, Ленинград (до войны это объединение писателей, ещё не ставших членами Союза советских писателей, а в дальнейшем в послевоенные годы – Профсоюзная группа Обкома профсоюза работников культуры при Ленинградском отделении Литературного фонда СССР)
1949–1950 – одновременно – начальник сценарного отдела киностудии Леннаучфильм, затем редактор
1950–1954 – ответственный секретарь Комиссии по драматургии Московского отделения Союза писателей СССР, Москва
1954–1959 – литературная работа на дому член Союза писателей с 1948 года, Ленинград с многочисленными творческими командировками в Москву и по стране
1959–1969 – ответственный секретарь Совета по драматургии театра, кино, телевидения и радио при Правлении Союза писателей РСФСР, Москва
1967–1978 – литературная работа на дому, Москва
Примечания: сложнее всего разобраться в периодах 20-х годов и послевоенных лет: дело в том, что ряд должностей как бы совмещался, одни должности носили характер штатной работы, другие, как говорится, были на договорных началах. Совмещение порою носило даже тройной характер с почти неизменной личной творческой работой в разных жанрах.
В документах Н. А. Сотникова имеются и расхождения, так как одни анкеты носили сугубо служебный характер, а другие являлись личными карточками по учёту членов Союза писателей, где и форма документов была иная, и сведения носили иной характер.
Н. А. Сотников – член Аитфонда с 1932 года.
Н.Н. Сотников. «Едем мы, друзья, в дальние края…». (Как трудно писателю обрести уют и приют)
«Станем новосёлами и ты, и я!» Вот такая бодренькая песенка времён «великого хрущёвского десятилетия». Правда, речь в песенке шла исключительно о целинниках, но ведь писатели – тоже целинники: они обрабатывают целинные и залежные земли, а заодно и перепахивают чужие литературные делянки.
Шутки – шутками, а ведь рядовому читателю даже не представить себе, сколь много трудностей было у члена Союза писателей при смене жилья и прежде всего при перемене города! Ну, внутри города вопросы улучшения жилищно-бытовых условий могли решаться, как минимум, тремя путями: через отделы учёта и распределения жилплощади (районное звено, в конфликтных случаях – звено городское); через жилищную комиссию при Правлении писательской организации (это в очень крупных городах, в мелких это всё решали бюро и прежде всего ответственный секретарь) и, наконец, если писатель являлся ответственным штатным работником, ему давали лучшее жильё «тихой сапой» в обход всяких очередей.
Работая помощником первых секретарей и заместителем оргсекретаря в Правлении Ленинградской писательской организации, я сталкивался со всеми тремя вариантами. О четвёртом (военном, милицейском, пограничном, военно-морском я не говорю – это всегда были доли процента от общего числа!). Удалось мне заполучить по большому знакомству тщательно скрываемый от «народных масс» документ за подписью И. В. Сталина (Всем занимался! Даже комнатами в коммунальных квартирах!). Была у меня датировка этого документа, но не сохранилась. Посему цитирую на память: «В городах, имеющих писательские организации, в случае кончины одинокого члена Союза писателей его жилплощадь остаётся в ведении данной писательской организации и в городской отдел учёта и распределения жилплощади не передаётся». Таки возникли так называемые «цепочки»: Иксов стал обладателем двухкомнатной квартиры, Игреков получил по «цепочке» его однокомнатную квартиру, Зотов вселился в ту комнату в коммунальной квартире, которую с радостью покину^Игреков.
Современного читателя может смутить оговорка в отношении городов. Поясним: в ТУ пору ещё были областные и краевые центры (не говоря уже об автономно-республиканских), где ещё не было писательских организаций. Создать новую организацию было невероятно трудно да и не всегда целесообразно. Признаюсь за истечением времени: я оказался прав, когда на самых верхах был против создания писательской организации в Мурманске, который оказался перевалочной базой и самостоятельного литературно-творческого значения не имел. Мой отец по заданию Л. С. Соболева в Обкоме КПСС Вологды зондировал вопрос о создании там писательской организации. С большими трудностями этот вопрос решить удалось, и мой отец вторично выезжал в эту северную литературную столицу улаживать в Обкоме и облисполкоме все последние формальности.
Нельзя забывать, что некоторые областные писательские организации были объединёнными, кустовыми. Там все жилищные вопросы решались ещё труднее.
Если ответственный секретарь местной писательской организации отличался деловыми качествами и имел личные связи, то он мог раз в пять, а то и десять лет (!) для одного-двух своих коллег по перу получить квартиру от города. И, представьте себе праведный (и справедливый по большому счёту) гнев верхов города и области, когда тихохонько член Союза писателей из малого, а то из среднего города совершал обмен этой золотой квартиры на Ленинград и на Москву (на Украине – на Киев, в Белоруссии – на Минск). Как сейчас вижу перед собой яростное письмо о «разбазаривании писательского жилищного фонда» \ Этот конфликт поручили разбирать мне, а потом за муки адовы дали мне трёхдневный отгул! Недаром, я вам скажу!
Ещё больше наш читатель удивится, если в личном деле члена Союза писателей прочитает такую выписку из решения… Секретариата Правления Союза писателей СССР (международных и общесоюзных дел мало что ли?): «Разрешить Иксову сняться с учёта в Тмутараканской писательской организации и встать на учёт в Москве». Где это, скажите, ещё прочитаешь? Недавно один средненький инженер мне на старости лет признался, что он, меняя инженерные (неруководящие) должности за свою трудовую жизнь, в разных городах ШЕСТЬ раз от государства получал жильё! У нас, на Парнасе, такого случая, хоть убей, не припомню!
Ещё сложнее ситуация складывалась, если член Союза писателей менял не просто город на город, но республику на республику! Тут уже конфликт перемещался прямо на самые верха руководства Союза писателей СССР. Был у нас в Ленинграде такой примерчик: один очень скромных возможностей и перспектив стихотворец проявил невероятный железный талант, прыгнув сперва из одного областного города Казахстана сперва в Ленинград, а затем в Москву! Всё его личное дело (а оно сразу было доставлено в мои руки) было учебником своего рода по жилищному законодательству. Я не очень удивился, когда узнал, что он прыгнул в Лету, и Лета сокрыла его с головой.
«А как же покупка квартир?» – воскликнет современный читатель. Во-первых, тогда не было никаких легальных покупок (исключение – кооператив), нелегальные варианты – это доплаты при жилобмене из рук в руки. Здесь до суда дело доходило очень редко, ибо аргументы были зачастую весомыми: этажность, близость адреса к родственникам, к работе и т. д.
Во времена так называемой «гласности» мне так и не удалось залпом прочитать самую, пожалуй, секретную книжку (что там химический состав топлива в стратегических ракетах!). Это карманного формата перечень чиновных должностей лиц, которые имели право на дополнительную площадь. Лишь однажды я, как Рихард Зорге, сумел приникнуть к тексту, но так быстро, как Рихард, я читать не умел. Помню лишь, что возмущению моему не было предела! Это номенклатура разных уровней удавьими кольцами опоясала свои интересы.
Да, бывали переезды, например, из Ленинграда в Москву на очень крупное повышение (Николай Тихонов, Всеволод Вишневский). Тогда все вопросы решались мгновенно и с почтением. Были факты резкого чисто должностного повышения в самой Москве. Один давний приятель отца, уже будучи репертуарным драматургом, не мог выбраться из полуподвала. На СЛЕДУЮЩИЙ день после одного вертикального назначения он получил целый список возможных адресов. После его согласия на данный вариант за счёт отдела капитального строительства этого ведомства ему был сделан весьма нарядный бесплатный, повторяю, ремонт, и через неделю он пригласил моего отца на новоселье. Приятели ходили по квартире, как по Эрмитажу, и ахали…
Сам мой отец таких возможностей не имел. В Москву он переезжал, как горестно шутил, «по частям», не порывая с Ленинградом и с крохотной комнаткой в коммунальной квартире в доме 82 на набережной реки Мойки. Его страшно волновал вопрос: «А вдруг?..» Закроется должность, сольются учреждения, поменяется руководство… Куда тогда деваться? В землянку под Пулковской горой, как в годы блокады?..
Посему он вынужден был комнаты снимать, отягощая свой нехитрый бюджет, имея на попечении престарелых родителей и сына-сироту в ещё меньшей по площади комнатёнке в коммуналке на Петроградской стороне.
Теперь вам понятно, почему он в Москве вставал на ВРЕМЕННЫЙ писательский учёт, что сделать было невероятно трудно! Поначалу временной была и московская прописка.
Всё это никак не способствовал творческим делам. Вот почему отец так любил длительные командировки, семинары (месячные) с проживанием в домах творчества. Автоматически решались и многие тягостные бытовые проблемы.
Подводя итог нашему короткому, но очень важному разговору, скажу, что, конечно же, оставались и возможности обратиться к услугам Гименея, что с такой радостью и проделывали иногородние выпускницы Литературного института, Высших сценарных и режиссёрских курсов. Тут уже никакие суды сделать ничего не могли, ибо доказать фиктивность брака столь же тяжело, как доказать, что «Солнце – это Луна и наоборот!» (любимая шутка моего деда-адвоката).
Мужчины значительно реже шли кланяться Гименею, зная женское коварство и другие славные чисто женские качества. Но и среди них встречались брачные аферисты.
Такие пути для отца были неприемлемыми, хотя «кандидаток» в разные годы встречалось немало.
В союзных и автономных республиках уже тогда набирали силу националистические тенденции. Если брак был со своим (своей), отношение ожидалось самое благосклонное: мог сам литературный бей или бек напроситься на свадьбу. Если же нет, то кандидат (кандидатка) оказывались на обочине дороги к вершинам Парнаса. Разумеется, и в плане улучшения жилищных условий. К тому же в республиках очень не любили, когда их посланцы (или посланницы) оставались в Москве, ибо на остров, к примеру сказать, Вайгач никто не рвался.
В писательском мире все взаимосвязано. Город проживания и место издания. Вы можете мне сказать: «Ну, взял бы да послал рукопись по почте в издательство другого города!» Послать-то можно, но ведь и тебя вскоре… пошлют подальше! При Брежневе появилось ужасное правило, требовавшее распространение зональных и областных книг только в своём регионе. Был, правда, в Москве маленький магазин книг местных издательств. Я не раз в нём бывал, приезжая в столицу. Самое удивительное, что этот запрет распространялся и на ХУДОЖЕСТВЕННУЮ литературу! Логично, что справочник «Как проехать по Саратову» и продаётся в Саратове, но сборник стихов саратовца мог заинтересовать и жителя любых городов и весей!
А тут ещё – реформа Хрущёва, который потребовал закрыть многие областные издательства и сделать их зональными. В результате выиграли только те писатели, которые постоянно жили в городе, где издательство из областного превратилось в зональное. Остальные были уже на птичьих правах. Вот ещё одна из причин жилищных перемещений!
Горек литературный хлеб, но сладки муки творчества и добрые слова читателей, слушателей и зрителей. Вот почему все дороги ведут не в какой-то легендарно-сказочный Рим, а на Парнас!
Н.Н. Сотников. Комментарий к документам
У членов Союза писателей к концу 50-х годов было, как правило, три личных дела: одно оставалось по месту жительства (для сведения: приём осуществлялся через первичную организацию по месту прописки литератора, что очень осложняло его положение, особенно, если возникали влиятельные недоброжелатели, способные НАВСЕГДА перекрыть дорогу коллеге), второе шло в отдел творческих кадров Союза писателей РСФСР, третье – в Союз писателей СССР. В случае кончины члена Союза писателей надо было срочно дать информацию в две вышестоящие организации, которые, условно говоря, можно сравнить по многим параметрам с министерствами республиканским и союзным.
Однако составы этих дел не совпадали: многие дела текущие, мелкие, а иногда и не очень-то мелкие, но которым на местах не хотели давать хода, были представлены только в первичках. Очень редко была иная картина: какие-то документы имелись только в старших инстанциях. Чаще всего это были дела скандальные или даже криминальные, которые становились известны всем и прежде всего волновали верх. Но и они не являлись предметами вечного хранения: знаю случай, когда один ответственный работник настоял на изъятии дела о драке в поезде двух всесоюзно известных поэтов.
Кроме собственно приёмного дела в папку вкладывались листки по учёту кадров, стандартные для служащих. Наиболее полными и довольно хитроумно составленными явились бланки 1937 года, 1947 года, 1949 года и 1951 года. В дальнейшем листов становилось меньше, многое упрощалось, некоторые графы заменялись и даже исчезали вовсе.
В личные дела непременно вкладывались разного рода суровые письма из милиции (у некоторых почти всё личное дело из них и состояло!), из ГАИ, районных организаций, значительно реже областных, вырезки из местной прессы (рецензии, аннотации, реплики, скандально-судебнаяхроника). Секретные документы в общих личных делах не хранились, но о них в общих словах могли поставить в известность руководителей писательских организаций. Особый фонд – дела жилищные, наградные, пенсионные, семейные. Пенсионное дело писателя – это довольно объёмная подборка документов.
Не стоит думать, будто в делах хранились лишь всякие «бяки» или же холодно-равнодушные бумаги. Вовсе нет! Немало встречалось и благодарностей, и читательских добрых отзывов, и газетных (реже – журнальных) вырезок с рецензиями, обзорами, творческими портретами, поздравительные юбилейные телеграммы, почётные грамоты, копии разного рода ходатайств в пользу данного члена Союза писателей.
Бывали материалы грустные, бывали горестные, встречались нелепые и смешные. В целом же писательское дело было читать куда интереснее, нежели дела врача, инженера, учителя и т. д.
Что касается моего отца, то я детально знаком только с тем делом, которое осталось в Ленинграде после отъезда члена Союза писателей в Москву. В Московской писательской организации было открыто новое дело. Таким образом, это тот случай, когда получается уже не три папки, а четыре.
Скажу объективно уже не как сын и коллега отца, а как опытный сотрудник системы Союза писателей СССР, отцовское дело особого интереса из себя не представляет: скупое, сугубо деловое. Нет ни поощрений, ни взысканий. Дело по учету в Московской писательской организации мне после кончины отца не дали в руки, лишь показали. Оно довольно объёмное. Полагаю, что туда вошли разного рода конфликтные бумаги в связи с резкими критическими высказываниями отца на общеписательских и партийных собраниях. Особым дипломатом отец не был и, что называется, лепил правду-матку в глаза разным лицам, в том числе и лицам начальственным. Наиболее крупный из известных мне скандалов касался его острейшей критики пьесы Игнатия Дворецкого «Человек со стороны» и образа главного персонажа инженера-металлурга Чешкова, в частности. Это выступление вышло за рамки внутрицеховой драматургической дискуссии и стало известно и в других творческих объединениях (в других городах они именовались творческими секциями). Дошло дело и до министерств культуры, и до ЦК. Вопрос был слишком принципиальным.
Думаю, что немало бумаг было и по поводу острейшего выступления отца на заседании Комиссии по военно-патриотическому репертуару в Доме актёра имени Яблочкиной при участии режиссёров, актёров, завлитов театров и приглашённых драматургов. Отец был официальным членом этой комиссии. Речь шла о том, что сейчас стало ещё острее, чем было тогда, лет 40 назад, – о трактовке образа защитника Родины, об изображении Великой Отечественной войны и Победы на сцене. Уже тогда набирала силу вся реакционщина, которая расцвела махровым цветом после 1991 года.
Подчеркну, что выступления отца были абсолютно бескорыстными, они не преследовали никаких личных целей, ни дел финансовых, ни престижных. Не содержалось в них и личных оскорблений или даже выпадов против авторов тех или иных пьес. А вот в выступлениях противников отца шли в ход и личные оскорбления. Например, отец заявил о ПРИДУМАННОМ, а не реально существующем Чешкове: «С таким человеком я бы не пошёл в разведку. Заявляю это как фронтовик!» На это Секретарь Правления Московской писательской организации (штатный секретарь, а не общественный, то есть должностное лицо) Анатолий Медников брякнул: «А ОН бы не пошёл на разведку с Вами!» Это уже прямое оскорбление в адрес участника всех боевых действий, кроме дальневосточных, орденоносца, фронтовика-добровольца. Дело вспыхнуло и дошло до парткома и парторга Московского комитета КПСС в Московской писательской организации. Поясню: многие члены Союза писателей; члены КПСС штатно работали и на партийном учёте писательском не состояли. Чтобы ими руководить; и была придумана эта штатная (по сути дела; полуфиктивная) должность на 360 рублей в месяц с более чем свободным режимом дня. К этим событиям подключилась и Наталья Юрьевна Дурова; в то время довольно активная партийная общественница. Ирония судьбы: в молодости она обращалась за помощью в партийных делах к отцу а тут она сама бросилась защищать старшего друга и учителя!
В результате Медников извинился уже передо мной вскоре после кончины отца… Вот такая история литературы.
Всё чаще задаю себе вопрос: «Как бы сложилась судьба сценического инженера Чешкова в конце 80-х – начале 90-х годов?» Убеждён; что он стал бы «гоношить» кооператив в том же мартеновском цеху а затем бы приватизировал его и вывел из состава других цехов завода, прототипом которого явился легендарный и лично мне дорогой Ижорский завод, защитник Ленинграда в годы блокады. Убеждён; что Чешков сократил бы по штату всех лучших ветеранов; которые не давали ему прежде развернуться и «надоедали ему» разговорами о «каких-то там пустых славных трудовых и боевых традициях». Если идти ещё дальше; то убеждён; что Чешков стал бы пособником оккупантов нового образца. В конце концов; отнюдь не личная материальная заинтересованность им руководила (в пьесе он требует лишь 250 рублей в месяц и премии). Драматург об этом не говорит; но острый глаз видиу что у Чешкова не всё в порядке с родословной: он явно мстиу прикрываясь разговорами об эффективности производства. Таким образом; перед нами типичный представитель вредителей нового поколения.
Было у отца очень конфликтное дело и по месту штатной работы: он разоблачил оргсекретаря (зама Председателя Правления по оргработе); который допустил вопиющий и крайне циничный плагиат на рабочем месте! Отец и взял его на крючок. Крючок оказался острым и начал приводить в движение целый ряд мстительных действий: вроде бы потерял документы отца из Дагестана на представление его к почетному званию республики за многолетнюю успешную помощь драматургам; вроде бы опоздал с документами на представление отца к ордену Трудового Красного Знамени (надо было уложиться за три месяца до юбилея); были и прямые угрозы и обещание довести ветерана войны и труда до инфаркта! Вот такие события разворачивались на набережной Мориса Тореза аккурат напротив Кремля и поблизости от здания ЦК КПСС на Старой площади. Чем не драматургия в самом прямом смысле слова!
…У журналистов; особенно у очеркистов; есть излюбленные заголовки (а иногда и рубрики) типа «Когда документы заговорили…». Вроде бы заголовок логичен; НО… Чтобы понять документ или его отсутствие; нужно очень много знать. В противном случае, изучение папок превратится в занятие скучное и монотонное. Что касается открытий и откровений, то их не будет в принципе.
Как вы видите, я своим волшебным «лучиком» кое-что осветил, но, увы, далеко не всё. Отец, несмотря на свою принципиальность, был человеком отходчивым, мог что-то и кого-то и простить. Или не пожелать связываться. У меня, в шутку говоря, несколько иной характер. Я в своих поисках и действиях иду до конца, чему доказательство и этот литературно-мемориальный сборник, который вы, уважаемый читатель, держите сейчас в своих руках.
Следы награды боевой (Из наградного листа Сотникова Николая Афанасьевича, старшего лейтенанта, сотрудника газеты 61-й армии «Боевой призыв»)
Старший лейтенант Сотников Н. А. – корреспондент-организатор армейской газеты «Боевой призыв» 61 армии. В период форсирования Одера и наступления наших войск на Берлин всё время находился в действующих подразделениях, обеспечивая газету оперативными корреспонденциями. Когда части Красной Армии ворвались в Берлин, по заданию редакции выехал в Берлин и в первый же день доставил в редакцию материал о боях в городе.
В боевой обстановке показал себя мужественным офицером.
Достоин награждения орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
АРМЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ «БОЕВОЙ ПРИЗЫВ» 61 АРМИИ
ПОДПОЛКОВНИК И. ПЕКЕРМАН
12 мая 1945 года
Николай Ударов. Слово о наградном листе
Есть такая графа — «ОПИСАНИЕ ПОДВИГА». Занимается пламенем лист наградной. Каждый подвиг навек посвящается Родине. Каждый подвиг всегда — это жертва собой. Заполняют графу эту не очеркисты, что в изящной словесности вызнали толк, а завзятые строевики, кадровики и штабисты, уточнения славшие в полк. Это потом уже́ мастера словесности каждый штрих в мазок обратят. А покуда ещё в неизвестности пребывает подвиг солдат. А иной таким и останется — летописцев не хватит на всех, и с наградою подвиг расстанется не на время, а просто навек! А солдат совершал этот подвиг и подвиги не для страниц машинописных и листов наградных, а потому что с детства о Родине думать привык. И у поэта нет монумента и самых различных знаков отличия. Просто он тоже до самой последней смерти только в Отчизне видит величие!Н. Н. Сотников. Каким он запомнился мне навсегда (Слово об отце) Элегия в прозе
«Посторонитесь, посторонитесь> господа!
Наше “Славься!" идёт!»
(Из пьесы Н. А. Сотникова о М. И. Глинке «Славься!»)«Посмотри, Микола, все ли хлопцы верные!»
Г. Котовский – Н. А. Сотникову«Вы знаете, я себя на восьмом десятке лет чувствую счастливым человеком!..»
(Из выступления Н. А. Сотникова на банкете в ЦДЛ в 1970 году)– Ты о своём отце писать собираешься? Я-то обязательно буду о своём писать! Вот закончу поэму о своём любимом школьном учителе Чубинском и примусь за поэму об отце. Ещё не знаю, как назову, но уже есть отдельные строфы, даже главки, сюжетно-композиционную канву пунктирно набросал… Знаешь, что меня больше всего поразило? Еду я как-то в поезде дальнего следования, вагон плацкартный (в купейный билетов не было), к разговору прислушиваюсь. Понемногу начинаю вникать в суть беседы. Парни эти – геологи, не какие-то розовые романтики, а настоящие специалисты. Спорят о какой-то методике. Ну, ты знаешь, как у меня с негуманитарными науками в школе было? Объяснять не надо, что в специальных технических вопросахя профан. И вдруг слышу: «Да что он понимает, твой Егоров! Здесь нужно было применить методику Хаустова Ивана Васильевича, ещё довоенную. Мы по ней и сейчас работаем. Прекрасно себя оправдала!» Я прямо от удивления со скамейки чуть не свалился, подсел к ребятам поближе. «Извините, – говорю, – я вот тут одну знакомую фамилию услышал. Как я понял, вы о Хаустове старшем говорили. А про сына его, поэта ленинградского, знаете?» Парни переглянулись, плечами пожали: «Нет», – говорят.
Мне бы огорчиться и обидеться, а я ещё больше отцом гордиться стал.«Отца давно со мною нет», как я пишу в одном известном тебе стихотворении – о родном доме, а они, геологи другого поколения, внуки отца моего, его знают и помнят, по имени и отчеству величают!
Начать думаю с детства, с его увлечения мелиорацией ещё на вятской земле, когда он учителем был. Больших талантов человек! И пел, и играл на нескольких музыкальных инструментах, и драматического актёра способности имел (и режиссёрские, должен тебе заметить!), и педагог был славный, а вот взяла его к себе на всю жизнь геология. Ради неё и в Ленинград отправился – учиться. Ну, а потом уже как геолог весь Вятский край исколесил, и я с ним заодно – как наблюдатель, конечно. Мал был ещё. Да…
Леонид Иванович замолчал, загрустил. Был он уже серьёзно болен, и хотя по-прежнему взрывным оставался его характер, усталость давала о себе знать всё чаще и всё очевиднее.
– А мы с ним на Ленинградском радио после войны познакомились – как-то легко, сразу, несмотря на разницу в возрасте. Всё же двадцать лет – не шутка. Это когда одному восемьдесят, а другому сто, разницы вроде бы уже и нет. Одно слово – старцы. А когда одному сорок шесть, а другому всего лишь двадцать шесть – это очень, очень заметно. Прекрасный был собеседник, эрудит, легко с людьми сходился. Про таких говорят «компанейский человек». Впрочем, говорили. Сейчас это слово редко произносится.
Ну, а потом он к тебе маленькому на дачу ездил во Всеволовскую. А мы, как ты знаешь, рядом жили. И вы, и мы селились тесновато, зато участок был большой. Мы любили с ним по участку походить, покурить, потолковать, а порою и дальше прогуляться по посёлку, по тропке мимо железной дороги. Там такие чудные полевые цветы росли! И он цветы, помнится, любил. Даже весь светился, когда видел ландыши, колокольчики, ромашки самые обыкновенные. Нас обоих то волновало, что по этой земле совсем рядом с Ленинградом война не прошла. Зато была тут Дорога Жизни. Мы никак не могли свыкнуться с мыслью, что на земле, где вот-вот могла начаться сокрушительная схватка с врагом, мы спокойненько отдыхаем, наслаждаемся природой, летней красотой земли…
Мечтал он обо всём этом очерки написать. Не знаю, написал ли. А про меня ты знаешь сам – стихи, поэмы, заметки в дневниках, записи путевые… Долг перед военной темой ещё не погасил.
Ты наверняка спросишь, говорили ли мы о поэзии. Да? Я так и знал! Говорили! О том, что стихи больше творческой радости автору доставляют – одним взором можешь окинуть! О прозе Николай Афанасьевич так говорил – изнуряет она очень! На долгую и довольно однообразную, монотонную дорогу похожа. А стих – словно горная круча, горный водопад, родник подземный!.. Отдавал твой отец предпочтение драматургии, киноискусству, публицистике. Вот по этому руслу наш тогдашний разговор и пошёл – поэзия на сцене и в ораторском выступлении. Интересный поворот!
– Леонид Иванович! Да он об этом и слушателям своих драматургических семинаров говорил! Я сам слышал…
– Теорией он увлекался. Да и я, как ты знаешь, стиховедением серьёзно интересуюсь. Только мало что в душу западает. Многие авторы таких книг и статей мне напоминают садовников, выращивающих бутафорские груши и яблоки. А настоящие растут себе и красуются в осенних садах…
Он опять надолго замолчал, принялся потирать правой ладонью лоб и переносицу – видимо, заболела голова. На улице шло сражение между зимой и весной, и на сей раз, кажется, победу одерживала первая. А значит – перепады давления, головные боли, сердцебиение и прочие прелести, о которых в детстве и юности как-то и думать не думаешь, и представить себе не можешь.
Потом Леонид Иванович хитровато улыбнулся и спросил меня:
– А курить-то отец бросил? Мы с ним не раз о фронтовых затяжках толковали. Первым бросил я, он всё не решался…
– И не решился, Леонид Иванович! За неделю до смерти курил сигарету за сигаретой и всё мне в лицах представлял Гражданскую войну на Украине! Часа четыре говорил, а когда я уже подустал, так свой рассказ закончил: «Ну, вот тебе для примера некоторые штрихи тех лет. Вижу, ты устал, да и я продремлю немного. Перед ужином проснусь, а там и продолжим…».
– А где это вы вместе были? У него в Москве?
– Да нет, в Доме творчества, в Малеевке. Он санаторного типа. Не бывали там? Мне он показался очень скучным, увядающим, хотя на дворе самый расцвет весны был – конец мая!
– И я конец мая обожаю! «Так люблю я эту пору мая, когда всё купается в тепле…».
– «Так люблю, что даже забываю – нет тебя со мною на земле!» – закончил читать хаустовское стихотворение я.
– Помнишь! Спасибо! Вижу, вижу, что не из вежливости, а по-настоящему к этим строкам моим привязался! К другим, которые лично мне дороги, ты никак даже привыкнуть не мог, не то, что полюбить! Мы с тобой не раз на эти темы здорово спорили! Ну что ж, в поэзии, как в любви. Сердцу не прикажешь. А вот забывать мы людей своих дорогих никак не можем. Не должны! А поскольку люди мы пишущие, то великий грех будет о них не написать. Вот, может, ты очерк сделаешь или статью… Рассказ-то явно не выйдет. Рассказ – совсем другое дело. Рассказ – это случай. О незнакомом человеке, о случайном рассказать легче. А я, например, не так уж часто со своим отцом расставался. Ну, у тебя – другое дело: вы вместе-то почти не жили, всё врозь да врозь…
Леонид Иванович был прав. Я как-то прикинул, сколько же мы месяцев (да, да, месяцев, а не лет!) были с отцом вместе. Прямо чудеса какие-то получаются: если всё-всё сосчитать, будет где-то полгода, не больше. Новый год встречали только один раз вместе – 1955-й. Лето вместе провели только одно – в 1958 году. А дальше – всё короткие встречи. Когда он в Москву переехал насовсем в 1959 году, то с тех пор до 1978 года, почти за двадцать лет, самое большее вместе мы подряд были недели две – и всё летом, в мои каникулы, сперва школьные, потом студенческие, потом летние отпуска на работе. Разве что на пятом курсе когда я учился и получил от факультета журналистики Ленинградского университета командировку в Москву для работы в библиотеках и Центральном Государственном архиве литературы и искусства, весной, в марте, помнится, у него недели три пожил.
Что же, выходит, я его совсем не знал? А ведь и так бывает у отцов и детей. И знал, и понимал, как теперь выясняется. Однако очень уж между нами всё непросто было! Теперь, приступая к этому… Очерку? Рассказу? Эссе? Творческому портрету? Ну, ясно, что не повести и не роману, хотя жизнь у отца такая была, что и на эпопею материала бы хватило! Стихи и поэмы об отце я писал и сейчас пишу одну – о последних годах его жизни. Называется она «Закатное солнце в Абрамцево». Это тот самый подмосковный посёлок в виду имеется. Он и краеведам известен, и историкам литературы. Они близко друг от друга—Абрамцево и Мураново две подмосковные литературные столицы! Там есть и музеи, и парки прекрасные, а отец жил в послевоенном посёлке, ближе к железное дороге. Как правило, – летом, сперва на правах дачника, потом – совладельца дачного дома, а потом вообще на каких-то птичьих правах. В конце концов с этими последними правами смириться не мог и остался вообще без чистого воздуха, без дачного лета один на один со своей однокомнатной городской квартирой. Абрамцево вспоминал всегда с грустной улыбкой, показывал рукой на дворик между корпусами писательских кооперативных домов на бывшей 2-й Аэропортской (ныне она вообще какой-то тупиковый проулок, домом перегороженный) и утешал себя: «А это чем не дача! Летом выйду на балкон – кругом зелень, тишина, все соседи по дачам и домам творчества разъехались, и детишек нет, и даже собак с собой жильцы забрали. Мне только тишину и оставили…».
Буду писать одновременно – эту поэму и эту… элегию в прозе\ Нашёл жанровое определение – и не только для произведения об отце, но и для всей книги, которую начал позавчера, 4 февраля 1992 года, а сегодня продолжаю. Писать буду какХаустов – строфы от руки, прозу и публицистику – на машинке.
Отцу исполнилось 115 лет. Он ведь ровесник XX века. Много, очень много! Вряд ли бы он дожил даже до девяноста – с его-то сердцем, с его ранами, с таким здоровьем в целом… Хотя как знать, в том Сотниковском роду, казацком, запорожском, многие долгожителями были. Слышал я, что родичи мои по той линии и столетние рубежи перешагивали. Случалось такое! «Казацкому роду нет переводу», как прекрасно сказал украинский прозаик и публицист Александр Елисеевич Ильченко, добрый батько современной украинской литературы! Он и роман свой чудесный так назвал – «Казацкому роду нет переводу»!.. Вот и о нём я в этой книжке напишу. Обязательно. А то начал писать, а ещё не всех своих героев выбрал. Начал, конечно, с отца. И одновременно – со своего любимого учителя поэзии и старшего друга Леонида Ивановича Хаустова, превосходного и яркого человека. О его смерти я узнал в жаркий августовский день от Бронислава Кежуна, который среди последних событий в литературной жизни города назвал мне и известие о смерти Леонида Ивановича. Мы стояли на углу Кировского проспекта и улицы Братьев Васильевых около гастронома. В детстве ещё, ожидая солнечного затмения, мы с отцом и бабушкой моей коптили на огне кусочки стекла, чтобы за светилом наблюдать. Тот августовский день я вдруг увидел через закопчёное стекло и ухватился руками за поручень витрины. Наверное, побледнел, потому что Кежун спросил меня: «Что? Голова закружилась?» Не помню, что ответил, постоял немного, простился с собеседником и поплёлся домой, благо дом мой на проспекте Максима Горького совсем рядом был – только прохладными проходными дворами пройдёшь и уже твоя парадная…
Кежун меня в какой-то степени к Хаустову ревновал: «Но книгах его пишешь, и выступать ездишь с ним с удовольствием, и свои стихи ему показываешь с готовностью, а ведь мы – соседи. Зашёл бы когда!» Один раз зашёл и с трудом высидел полчаса. Разные мы люди, хотя и по ряду вопросов мнение общее было, и советы Кежуна, особенно по поэтическому переводу с украинского и белорусского языков, дельными оказывались, и не утомлял он так, как Хаустов своей взрывчатостью, постоянной повышенной эмоциональностью, а всё равно с Хаустовым я чувствовал себя как с родным человеком, как с отцом, и даже на обиды обижался как-то по-особенному, по-свойски, что ли.
Отец, конечно, таким взрывчатым, как Хаустов, не был. Он несравнимо лучше владел собой, был безусловно дипломатом – и выдающимся, надо сказать, что я только сейчас начинаю понимать – и то не в полной ещё мере! Он умел беречь силы, разумно распределять их, чередовать отдых, сон и работу, хотя порою, когда особенно хорошо шла строка, мог позволить себе сделать из правила исключение и даже посидеть за столом за машинкой за полночь. Но это бывало редко. Чаще он выходил на нужную строку долгим, но уверенным переходом по равнинной дороге, а не карабкался в кручу! Потом один близкий, но крайне недоброжелательный человек будет в беседе со мной настаивать на том, что отец мой писал вообще очень трудно, мучительно, что он даже не любил писать и именно поэтому предпочитал службу (терпеть не могу этого слова!), штатную работу (вот это – другое дело!) вольным писательским хлебам. Я никогда не видал, как пишет сам автор этой реплики, но я на протяжении всей своей жизни не раз видел, как писал отец, и могу со всей ответственностью сказать, что писал он легко, вдохновенно, с радостью, вовсе забывая обо всём на свете. Однако при обязательных следующих условиях: приемлемое самочувствие (о каком-то космонавтским здоровье и речи быть не могло!), хороший психологический настрой (а кому он не нужен?) и овладение на каком-то этапе необходимым минимумом фактического материала. А поскольку отец предпочитал историческую тематику, то подготовительный период растягивался порою на многие годы.
Я сперва просто как сын, а потом уже и как коллега и как критик часто упрекал отца за то, что он не пишет о современности. В таких случаях отец непременно доказывал мне, что его исторические герои современны, более того – принадлежат будущему, к ним ещё не раз обратятся духовные взоры читателей и зрителей. С этим я по мере того, как рос (и в прямом смысле слова, и профессионально), всё чаще соглашался, однако, всё же полностью отцовский ответ меня не удовлетворял. Думаю, что особую роль играли три тесно взаимосвязанных обстоятельства.
Первое – слишком невероятной даже для публицистики была его биография. Дальше я расскажу о ней подробнее, и вы со мною согласитесь. Второе. Занимая ту или иную редакционную или литконсультантскую должность и ведя преподавательскую деятельность, он очень щепетильно относился к своему личному творчеству. Однажды мне даже так сказал: «Ну, провалилась на сцене пьеса одного из репертуарных драматургов, которого часто ставят да ещё во многих театрах. Не очень-то и заметно! К тому же, друзья его приободрят, а противникам быстренько рот заткнут, скажут, что если совсем не писать, то и провалов совсем не будет! А если у меня где какая неудача произойдёт, сразу же начнётся со всех сторон – вот ведь, сам учит, инструктирует, наставляет, редактирует…». С годами, когда штатная работа отошла в историю, и от полного безденежья страховала пенсия, эти аргументы потеряли остроту, но было упущено и время, и потеряны связи. А какие это были связи, мне (надо сказать честно – человеку более практичному, чем отец) не говорить, а прямо-таки петь хочется!
Один пример приведу. Однажды на торжественном вечере в ЦДЛ, посвящённом 60-летию Вооруженных Сил СССР, отца представили одному из крупнейших военачальников страны. Маршал Советского Союза с интересом выслушал краткий и скромный рассказ отца о том, что он помнит и знает, и в ответ услышал басовитое восклицание: «Да об этом же надо мемуары писать!» В ответ на эту реплику отец смущённо развёл руками и так ответил: «Не дошёл, видимо, товарищ маршал, я ещё до мемуарного возраста! Другие творческие планы душу занимают!»
Узнав о такой беседе спустя несколько месяцев от самого отца, я пришёл в негодование и в пылу полемики заявил: «Ая бы на твоём месте так бы ответил, что, мол, с радостью бы поработал, да разве попадёшь в издательские темпланы! Вот если бы Вы, товарищ маршал, помогли мне с Воениздатом связаться и заключить договор, охотно бы за дело взялся!» Отец засмеялся и сказал: «Это только сейчас ты так говоришь! Вспомни-ка свои истории – сколько раз ты мог бы где-то напечататься, где-то утвердиться, а гордость не позволяла! Конечно, я не очень тактично маршалу ответил, тем более, что он сам, оказывается, недавно мемуары выпустил – огромный томина! Но что ему ещё делать! Только о себе и писать на покое. А у меня столько замыслов о других дорогих мне людях! И те слова, которые я смогу о них сказать, никто больше сказать не сможет, потому что именно мне, а не кому-нибудь другому эти слова были адресованы!»
И это я вспомнил, когда начал писать свою книгу, свои преждевременные мемуары. А почему, собственно говоря, преждевременные? Все, о ком я пишу, уже ушли из жизни и больше ничего сделать, сказать, свершить не смогут. «И мне идти далёко ли?» – вспыхнула в памяти моей тотчас же хаустовская строка. Надо торопиться. В конце концов, если что-нибудь принципиально новое, ценное о своих героях я узнаю, то смогу в тексте сделать вставку, какие-то страницы и даже главы дописать. А главное, основное будет написано. ДОписать ведь всегда легче, чем НАписать.
И ещё хаустовские строки одна за другой из разных стихов память позвала. В последние годы Леонид Иванович о бессмертии размышлял, но не умозрительно, не абстрактно, а конкретно-образно – предчувствиями, строками, метафорами. То ему жизнь, вернее, её остаток виделись закатными бликами на дощатых стенах крымской купальни. То кинокадры прожитых дней причудливо сменяли друг друга. Глянет в осеннее окно, а там то ребятня из далёкого вятского детства на салазках с гор мчит, то фронтовые костры на снегу вспыхнут, то старый друг рукой приветливо махнёт… И всё – немые кинокадры. А встречаются и озвученные. Смех любимой, голос любимой так явственно звучат, что строка вывод итог торопит: «Это я для тебя умер. Ты для меня – нет!» О старом друге-фрон-товике, павшем на фронте, расскажет короткой строкой и опять пытается пробиться к завершающему аккорду: «Если вместе стареем, значит, вместе живём!» Это – о ровесниках. Мне тоже предстоит писать о ровеснике, о друге, который мне словно брат был. Уж как я его хорошо знал, и то не могу себе представить его в 50 лет, в 60 лет и глубоким старцем тем более. Больным видел, измождённым видел, а старым – нет! Стареть буду я один (если буду), а ему всегда останется неполный сорок один год…
А отец? Он мне так говорил: «Нельзя быть земле в тягость – и себе, и родным. Вот взять Лафаргов – приняли яд, когда поняли, что их силы иссякли!» А геронтологией, наукой о долголетии, очень интересовался. Все статьи вырезал, выписки делал, но, к сожалению, монографии о долголетии своего довоенного заочного товарища врача, учёного и литератора Николая Александровича Рубакина «Похвала старости» не дождался. А ведь каких бы ярких примеров творческой активности в преклонном возрасте найти бы смог в рубакинском труде! Но перед раком бессильны и возраст, и силы, и сила воли. Отец ушёл из жизни в возрасте 78 лет, а друг – в возрасте 41 года. Они знали друг друга. Вообще все почти герои этой моей книги были знакомы между собой. Оно и понятно – их всех объединяли не только я (сюжетно, так сказать), но и общность взглядов, единство целей в жизни, даже многие черты характера при всей неповторимости каждого.
Думаю, что самое трудное – это вычертить, выстроить, проследить биографию отца: такая она сложная, большая, разветвлённая! Общие черты, общую какую-то канву проследить сравнительно легко. Я снял копии некоторых его автобиографий и листков по учёту кадров в Ленинградском государственном архиве литератур и искусства, кое-что выписал, кое-что имею в полном своём распоряжении дома… И всё равно вопросов больше, чем ответов!
Ровесник века. Жил с 25 октября 1900 года по 6 июня 1978 года. Родился в Енакиево, умер в Москве. Мечтал отметить своё 80-летие завершением двух книг, двух повествований – о династии Дуровых и о Пьере Дегейтере, авторе музыки гимна «Интернационал». Почти закончил книгу очерков «Памятные встречи». Взялся всё-таки за мемуарные очерки по моему настоянию! Более того, попросил меня быть его советчиком и консультантом (?) в этом деле! Какой из меня консультант! Я историю весьма плоховато знаю. 50-е годы по мере моего изучения этих лет для меня всё меньше историей становятся, да и помню я многое, будучи 1946 года рождения. Военные годы как-то ещё ощущаю, чувствую – пишу много о войне, о фронтовиках, очень люблю День Победы. Всё дело в этом, вероятно. А вот прежде… Пелена какая-то. Если быть самокритичным (а в такой книге это просто необходимо!), тройку бы себе поставил с трудом.
И вообще странно у нас с отцом получалось! Маленького он меня успокаивал: «Не нравится арифметика, физкультура, музыка, рисование – не беда! Будут в старших классах другие предметы (химия, физика, астрономия…), глядишь, и найдёшь своё призвание». Призвание в перечисленных предметах я не нашёл, а двоек понахватал. Тем не менее отец продолжал «гнуть» свою линию: «Подумай об океанологии! Какая чудная специальность! Или вот электроника! У вас тут в Ленинграде на Петроградской стороне у тебя под боком прекрасный институт – Электротехнический имени Ульянова (Ленина)!»
Ни об океанском дне, ни о бездонном море электронов я и слышать не хотел. Заявлял отцу прямо и категорично: «Хочу во ВГИК!» Что тут только ни начиналось! И уговоры, и отговоры, и отговорки, и даже прямой обман: «Там, в кино, нужно прекрасно знать аппаратуру, а её ты сможешь лучше узнать, став инженером!» К тому времени, к концу школы, значит, я уже писал стихи, коротенькие рецензии и длинные пространные школьные сочинения. В 1962 году стал лауреатом Ленинградского общегородского школьного литературного конкурса (в соавторстве с другом детства) о педагогической публицистике на страницах журнала «Юность». Одновременно посещал два кружка во Дворце пионеров – молодых критиков и поэтов. Одна из моих первых наставниц в стихосложении прямо говорила, что поэтический семинар в Литинституте для меня – реальность. Я заикнулся было об этом отцу и впал в немилость. Поэзию 60-х годов, которую я боготворил, отец во многом тогда не принимал. Однако на эту тему он решил со мною не ругаться, а дипломатично напомнил мне, что в Литинституте нет военной кафедры. Так Литинститут отпал сам собою. И тут возник университетский вариант. Я было заикнулся про философский факультет, на что отец мне заявил, что надо, мол, иметь особый философский склад ума, а он при всём своём желании именно этого склада во мне не замечает. Я, конечно, обиделся и стал спорить на тему о том, как полезно писателю пройти высшую философскую школу. «Ачто если не философскую школу, а высшую театроведческую?» – загорелся отец. «Я тебе и подготовиться помогу! Давай нацелимся на ГИТИС, на театроведческий факультет и вообще изберём для тебя московскую перспективу!»
Надо сказать, что о «московской перспективе» отец заговаривал со мной и раньше: «Понимаешь, когда ты был маленьким, а я всё время в разъездах, я не мог тебя брать с собой, к себе в Москву. А теперь ты взрослый, мы с тобой будем как товарищи…». Вот с этим-то я согласиться не мог! Даже вгиковские перспективы передо мною меркли. Дело в том, что я привык быть ленинградцем, привык жить в семье бабушки по материнской линии вместе с двумя тётями, их родственниками, общаться с ленинградскими друзьями, жить в большом и малом так, как жил всё детство, отрочество и начало юности. Пусть мы жили в коммуналках, пусть в бедности, пусть в страшной тесноте (да и в обиде!), но – вместе! У отца к тому времени уже была своя однокомнатная отдельная квартира в писательском доме на 2-й Аэропортовской, потом она стала называться Красноармейской, но изменилась лишь нумерация дома, а дом как стоял, так и стоит на своём месте. Только теперь уже – без отца…
Да, вижу этот дом перед глазами ясно-ясно. И всё же он никогда не был моим! Я в нём был гостем, всегда чего-то стеснялся, боялся что-то тронуть и всеми силами рвался домой – сперва на Большой проспект Петроградской стороны, потом – на проспект Максима Горького.
Комната у отца была метров семнадцать! Это больше, чем наша двенадцатиметровая комнатёнка на Большом проспекте, но меньше чем наша «кишка» на проспекте Максима Горького. «Кишка» – «кишкой», а всё равно получалось при перегородке комнаты стеллажами книжными почти две самостоятельные комнатки с видом на проспект, на Петропавловский шпиль! Но дело не в этом. Главное, что я там был хозяином, а у отца был бы вечным гостем. Вероятно, чаще всего сидел бы на кухне, подключался к его режиму дня, который хорош в почтенном возрасте, но совсем тягостен для парня. Например, отец почти никогда не гулял по Москве просто так. Если уж и шёл, то только по делу: в гастроном, в аптеку, на почту, к метро, к остановке такси… Он мог неделями не выходить из дома! Он курил так много, что дымом пропахли даже подушки и обои! Я тоже курил, но всегда мало, только папиросы – очень редко в помещении. Отец о курении моём не знал, но однажды, увидев у меня в кармане пачку «Севера» страшно рассердился. Он, помнится, говорил о том, что одна сигарета утром делает человека идиотом, особенно, если он курит натощак, предупреждал о последствиях…
В этом он оказался прав. Я сейчас не курю уже почти сорок лет, и у меня нет уверенности в том, что мой курительный стаж с 17 лет до почти 42-х лет, почти полных четверть века (сума сойти!), не прошёл мне даром.
Я часто жаловался отцу на здоровье, на что отец отвечал по-разному, но всегда с недоумением: «Я-то понятное дело – три войны прошёл! Трижды возвратным тифом болел! Трижды контужен был, дважды ранен, голодал в блокаду, операции две перенёс, а ты?»
А что я! Я так отвечал: «Ты родился в Енакиево, но жил там недолго, почти всё детство провёл летом в благодатной Диканьке, питался не деликатесами, но отличной здоровой природной пищей. А я? Родился в первый послевоенный год в Ленинграде от матери, которая прошла всю войну как фронтовой хирург, ампутируя, как ты знаешь, конечности! Спасла многих, но сама своё здоровье подорвала. Вы с ней вместе всю блокаду в Ленинграде провели. А куда меня после родильного дома привезли? В комнатёнку на пятом этаже без парового отопления, без печки, с окнами, выходящими в стену! Стенки из фанеры, комната – бывшая проходная у дореволюционных хозяев. Это даже сейчас заметно. Я там был – друга, оставшегося в нашей квартире (им нашу комнату временно дали, до подхода очереди), навещал…».
Дальше я не продолжал. Отец видел, что аргументы более чем весомы. Однако в другой раз несколько иначе парировал мои жало бы: «Генотип-то сохраняется! А это главное!» Или: «Мне моя мама, твоя бабушка, Васса Григорьевна, так в таких случаях говорила – не прислухайся, сынок, само пройдёт!»
Но само не проходило – ни у отца, ни у меня. Думаю, что мы вдвоём в маленькой квартире друг друга бы измучили. У каждого свои постоянные вкусы, свои привычки, свои режимы… Меня он укорял в женском воспитании. А какое, интересно, могло быть ещё воспитание, если меня вырастили и воспитали бабушка и две тёти! Влияние деда и дяди Коли, мужа двоюродной тёти, а фактически приёмной матери тёти Зины, было меньшим и непостоянным. Дед умер, когда мне исполнилось всего лишь 11 лет, а дядя Коля бывалу нас нечасто и главного, решающего, влияния на меня не оказывал и оказывать не мог да и не хотел.
Вспоминаю теперь, что у отца были всегда какие-то планы в отношении меня: то отправить меня в Кисловодск к своим родителям и своей родной сестре тетё Тоне, библиотекарше местного санатория, то даже в интернат! Это – уже когда незабвенный Никита Сергеевич Хрущёв выдвинул идею массового воспитания детей за счёт и силами государства! Не принимая ни в чём этого «деятеля», я имею на него ещё и эту личную мальчишескую обиду – за интернаты! Потом, когда я уже учился в одиннадцатилетке, в вечерней школе, работал старшим пионервожатым, я узнал много жутких историй об интернатах из первых рук – от ребят и от воспитателей и во мнении своём только укрепился!
Была у отца и ещё одна идея-фикс: а вдруг найдётся женщина, которую он сможет назвать своей женой, а она меня – своим сыном! Только мне этого и не хватало! Я был с младых ногтей против подобного решения своей проблемы категорически. К тому же я не ощущал себя сиротой. Мне среди трёх моих верных женщин было очень хорошо и уютно, меня любили, баловали, нежили, холили, и я был маленьким барчонком, несмотря на все тяготы нашего общего материального положения.
У отца мне бы пришлось делать всё, в том числе много из того, чего я вообще никогда не делал и делать принципиально не умел. Ну, например, гладить, пришивать пуговицы, зашивать дырки, которые неминуемо где-нибудь да появятся. Таково уж свойство материи. А я всегда был материалистом.
Но самое главное, что у отца б мне было неуютно. Кроме нескольких моих фотокарточек да фотографий мамы моей здесь ничего моего не было\ Дома, в Ленинграде, напротив, всё было моё, и я всему был хозяином, хотя к некоторым вещам и не прикасался по ненадобности.
Наверное, поэтому я и не захотел принципиально после смерти отца брать с собою его основные вещи, прежде всего мебель, которая, по отцовским словам, была немного-немало из дворца Петра III в Ропше. Что ж, в это можно поверить, хотя некоторые отцовские приятели считали подобное утверждение гиперболой, яркой строкой во многочисленных превосходных отцовских устных рассказах. В начале 30-х годов такой диван, стулья, кресло, стол можно было купить в Ленинграде сравнительно дёшево, а зарабатывал в ту пору отец сравнительно неплохо, например, – со мной, сегодняшним. Ну, скажем, подвальная статья в областной газете сейчас это (после так называемой «либеризации» цен) шесть пирожных вместе с коробочкой для упаковки. На тортик, самый маленький, не хватит! А в ту пору неделю можно было есть – и не в столовке, а в ресторане гостиницы «Европейская» «на крыше». Это считался высший класс! И для простого журналиста класс вполне доступный. А должность у отца тогда была не ахти уж какая высокая – заместитель заведующего сектором городского хозяйства в «Вечерней Красной газете».
Мебель мною была продана в Москве, какие-то мелочи сложены в чемоданы, а самое главное – рукописи и книги – отправлялись в Ленинград в огромных картонных коробках малой скоростью.
Сейчас я оглядываюсь вокруг себя в рабочем своём кабинете. Кроме пишущей машинки «Континенталь», которой был отец награждён руководством Первого Белорусского фронта за освещение в газете 61-й армии Берлинской операции (ему ещё грамоту дали, фотоаппарат и маленький радиоприёмничек), декоративной латунной лампы начала века (очень удобной для работы за машинкой) и пузатенькой вазочки для цветов ничего из отцовского кабинета у меня нет. Книги его растворились среди моих книг – по разделам, рукописи – по тематическим и рабочим папкам, фотографии и документы – по конвертам.
Убеждён, что его мебель у меня бы не прижилась. У меня другой стиль. Я очень люблю всё удобное, лёгкое, мягкое, короче говоря, уютное. У отца вещи были тяжеловатые, несколько угрюмые, малоподвижные, какие-то официально-казённые. И комната его напоминала немного гостиничный номер, правда, хороший, может быть, даже люкс, но эдак гостиницы областного города начала 50-х годов. Это – по общей тональности, по общему настроению. Некоторые вещи были, конечно, старее на много десятков лет. Быт в целом был подчёркнуто холостяцким. Обеды не варились. Мелкий завтрак, лёгкий ужин, чай да кофе, да мелочь какая к столу. Вот и всё. Запасов в холодильнике – минимум…
После смерти матери на второй день после моего рождения, то есть 31 июля 1946 года, отец больше не женился. Хотя, как я говорил выше, попытки были – и с его стороны, и со стороны разных лиц, и личностей, лично мне несимпатичных.
Многого я, конечно, не знал по малолетству и по отдалённости и удалённости от отца, а много не узнаю никогда. Да, сказать по правде, не очень-то хочется! Лучше бы узнать подробности знакомства отца с Сергеем Есениным, Владимиром Маяковским, Бернардом Шоу, Роменом Ролланом, Пьером Дегейтером, Николаем Морозовым, Григорием Котовским, Илларионом Певцовым, Борисом Лавренёвым, представителями династии Дуровых, многим выдающимися деятелями литературы, театра, кино, музыки, архитектуры, науки… О современниках я не говорю – это не сотни, а тысячи имён!
А возвращаясь к теме семейно-бытовой, могу лишь сказать, что среди кандидаток были и женщина-терапевт, с которой мама лежала в одной палате и которая родила (тоже 30 июля 1946 года) девочку, и весьма известная писательница-романистка, и средней руки, но выдающейся красоты (и такого же выдающегося нахальства, добавлю я!) актриса одного из ленинградских театров, и дальняя родственница одного выдающегося московского актёра, и одна дама из мира академической философии… Как хорошо, что эти дамы не стали моими мамами\ Трудно себе представить все последствия и масштабы всевозможных конфликтов с моей стороны! Последней, кто намекнула на узы Гименея, которого один десятиклассник (это не анекдот, а реальный случай) в выпускном сочинении назвал «садовником Лариных», была сестра-сиделка, ухаживающая за отцом в последний год. Больше она ни часа после своего «предложения» в отцовской квартире не сидела!
Сам отец к некоторым фактам относился с юмором, к другим – с раздражением и даже негодованием: «Чтобы я за какой-то суп свободу терял! Возьму порошковый суп из пакетика, сварю сосисек, съем кусочек бисквита, запью его чашкой кофе – мне и не надо большего!»
Лично я запомнил только одну «кандидатку», актрису одного из ленинградских театров. Отец меня пригласил к ней в гости летом 1958 года. Сперва мы посмотрели вместе с ним весьма средненький спектакль «Снежная королева» по Андерсену (утренник), а потом отправились к мадам домой, благо это было близко. Жила она в коммунальной квартире, но просторно – занимала две большие комнаты. У неё был пушистый белый сибирский кот, который привёл меня в дикий восторг! Я его гладил, гладил, а он урчал, урчал… Больше меня не привлекло ничего. Обед был так себе – бабушка и старшая тётя, тётя Зина, готовили во сто крат лучше и чище. На сладкое было подано какое-то не очень аппетитное клубничное варенье из пыльной банки. Я под прицельным огнём отцовских взглядов заставил себя «выкушать» ложечку и поблагодарил. Дело в том, что преподавая мне правила хорошего тона накануне, отец подчеркнул, что если очень не хочешь чего-то из того, чем потчует хозяйка, а она всё настаивает и настаивает, скушай чуть-чуть и тем самым выполни до конца свой долг гостя! Я «долг гостя» выполнил и стал разглядывать картины на стенах. Их было немало. Чувствовалось, что актриса – женщина из культурной, в своё время зажиточной семьи, что блокада не вылединила их дом, что многое сохранилось в нетленном виде. Что ж, бывало и так, о чём пишут и говорят очевидцы, свидетели, деятели той огненно-ледяной поры.
…Были какие-то разговоры о театре, о репертуаре, но все они шли как-то очень «налегке». С другими своими знакомыми отец беседовал основательнее, увлечённее. Я, несмотря на свои 12 лет, это почувствовал довольно остро и быстро. Да и отец как-то неохотно поддерживал беседу о соперничестве в театральной труппе… Вскоре мы поблагодарили за гостеприимство и откланялись…
В поезде (а мы на дачу ехали) отец нерешительно спросил меня: «Ты хотел бы, чтобы у меня была такая жена, как…» и назвал имя и отчество, которые я сейчас уже забыл, ибо актриса эта в историю театрального искусства не вошла.
«Ты знаешь, нет, папа. И тебе не советую», – ответил я, даже не ответил, а буквально выпалил. С тех пор ни разу за все последующие годы отец мне подобных вопросов не задавал.
На сём я эту тематику по праву автора и сына закрываю. Расскажу лишь потом по праву автора и сына о своей маме, которую никогда не видел, не знал, голоса которой никогда не слышал, даже не знаю, как она смеялась. А говорят, смеялась замечательным мягким и очень заразительным смехом!..
Ну вот, я и вернулся к исходному рубежу. Теперь надо, видимо, набросать контуры отцовской биографии и проследить, где она пересекается с моей. Тут всё очень не просто!
Начнём с простого варианта, сокращённого. Родился отец в семье рабочего-железнодорожника Афанасия Сотникова. Вскоре семья переехала в Полтаву, поближе к родне по линии отцовской – многочисленные Сотниковы жили в Диканьке. А прадед мой двоюродный, Григорий, был даже личным поваром князя Кочубея! Отец в шутку говаривал: «У тебя любовь к вкусному наследственная – от прадеда твоего двоюродного Григория!» О Григории отец прекрасно, но очень уж коротко и скупо рассказал в своём очерке «Виктории Полтавской юбилей». Повторяться не буду: дал себе слово больше говорить об отце как очеркист, а не как критик. Совсем, конечно, без творчества не смогу обойтись, но главная моя цель другая – показать, каким человеком был отец и, пользуясь летописными словами, «откуда я есть пошёл» как литератор.
По линии дедовской (а для меня – отцовской) наш Сотниковский род уходит во времена Сечи Запорожской, в саму Великую Сечь. И фамилия наша недаром такая: сотники – командиры сотен, выше их были тысяцкие (полковники), а ещё выше – атаман всей кравчины, войска запорожского. На сотниках вся тактика держалась, а тысяцкие уже имели дело с оперативным искусством. Тысяча запорожских казаков – это была уже не просто сила, а силища! И дед мой, и отец, ия очень гордились (ая и сейчас горжусь!) нашим происхождением. Отец, к сожалению, о запорожцах ничего не написал, а я вот мечтал! Во всяком случае – о небольшой поэме! Такого романа в стихах, как создала Лина Костенко – «Маруся Чурай», – мне не создать! Пусть будет маленькая лиро-эпическая поэма. Я её в итоге написал и назвал «Малиновое знамя», потому как наше, запорожское знамя было малиновым, а посредине красовалась лодка-чайка.
По бабушкиной линии (для отца – материнской) идут перед Вассой Григорьевной люди русские, крестьяне да мещане, да ремесленники. Скромные, можно сказать, незаметные.
Бабушка моя не обукраинилась, а вот дедушка малость обрусел, особенно к концу жизни. В молодости он в одинаковой мере обоими языками владел, а в старости и читал уже преимущественно по-русски. Бабушка свободно по-украински никогда и не говорила, за что её родичи отцовские недолюбливали, ругали и даже обзывали «кацапкой». Однажды она торопилась мужа своего накормить и сварила для него куриные яйца в… самоваре! Чем вызвала страшный гнев свекрови! Далёкие времена, тот ещё минувший век!..
О младых летах своих отец красочно рассказал в уже упоминавшемся очерке «Виктории Полтавской юбилей». Лучше мне не сказать! А новых, дополнительных фактов у меня нет. Был я в Полтаве и в Диканьке летом 1978 года сразу после смерти отца. Написал две поэмы – «Ровесник XX века» и «Гоголь-Моголь», пронизанные украинским колоритом. Без этой поездки они бы не получились. Полтава мне полюбилась, на многие думы навела, огромный творческий заряд я там получил. А вот Диканька разочаровала! Какие там гоголевские места, какая заповедная типичная Украина! Маленькое село или посёлок городского типа. Скучновато. Однообразно, монотонно всё. От кочубеевского дворца следов почти нет: разобрали по кирпичику на стройматериалы, говорят. А остальной разор война довершила – дважды битвы пронеслись по этой линии земли! Короче говоря, с пустым блокнотом я вернулся и с грустью неимоверной! Я-то во снах мечтал о Диканьке зимней, летней, прямо чуть ли не режиссерский сценарий по раннему Гоголю писал! А тут на тебе – типовые строения, пыль, цемент, музей на ремонте, а в местном магазине даже стержней для шариковых ручек нет…
Не сумеля себе представить ту Диканьку, куда приезжал мальчишкой ещё мой отец на побывки, выходные и каникулы. Мы добирались на тряском и переполненном автобусе почти час, а тогда это было путешествие на полдня, не меньше! Зато среди красоты-то какой!..
Долго-долго искал я реальное училище, не училище, конечно, как таковое, а то здание, где оно находилось. Дали мне телефон одного краеведа (обожаю я этих людей и низко-низко им на всех просторах страны своей кланяюсь!), и тот назвал мне улицу и указал дом. Оказывается, это техникум теперь. Какая-то строгая сторожиха по коридорам походить не дала, но в вестибюле постоять разрешила: «Ремонту нас! Только ещё запачкаетесь!» Я стоял в жаркий августовский день в прохладном гулком вестибюле и представлял себе, как сюда входит чинно мой маленький отец, как он осматривается по сторонам, медленно поднимается по казённым холодным ступеням, как он, сдав экзамены, вернее, как тогда говорили, «выдержав испытание», даёт себе волю и мчится опрометью по лестнице вниз, оглядывается, переводит дух и пулей вылетает на полтавскую такую же знойную улицу.
И об этом периоде отцовской жизни мне лучше и полнее, чем отец, не сказать. Не помогли ни музеи, ни старинные фотографии, ни книги. Есть что-то неуловимое… Мне, как литератору, всё чаще кажется, что в этом смысле легче писать о каком-нибудь IX веке строго по источникам, нежели о временах вроде бы недавних, но бесконечно далёких, в какой-то степени непостижимых.
О чём не написал отец в своём очерке, но о чём он успел мне поведать в своих многочисленных, растянутых по времени на десятки лет рассказах? Пожалуй, о чтении своём в годы учёбы в реальном, о вечной занятости, о неприятии безделья, о славной дружелюбной и мирной обстановке в родительском доме, о красоте украинской природы, о цирке и циркачах приезжих… Впрочем, убеждаюсь, что он всё самое главное в очерке оставил. Не могу вспомнить какой-то детали яркой, которая бы в воздухе повисла, в устном рассказе осталась, а в текст не легла бы в нужное место.
О старших классах, правда, в очерке ни слова. Кое-что из отцовских рассказов вошло в мою поэму «РовесникXX века», в частности, – вся линия дружбы отца с учителем словесности. Это и естественно – именно с учителем словесности у него и должны были сложиться особые, доверительные, почти равноправно-дружеские отношения. Кое-что я из прощального монолога словесника присочинил, но не каюсь – так именно по духу и было! А стенограммы, конечно же, не сохранилось. Какая там стенограмма!
Какие там записи в такое-то бурное время? А вот как отец в бойцы к Котовскому попал? В очерке «Как я стал котовцем» есть кое-что, но эскизно, бегло. Надо будет непременно уточнить, перечитать письма тёти Тони, отцовской сестры. Я её в последние годы вопросами замучил, а она сестра-то младшая, много сама не помнила. Тоже на рассказы родителей опиралась, а родителей давно на свете нет. И вообще ныне уже никого нет, кто бы мог что-то дополнить из первых рук и уст.
Как бы то ни было, доброволец-красноармеец – шаг для отца закономерный и осознанный: сын участника революционных событий 1905 года, «горловских событий», как писал в автобиографии отец, воспитанный «красным запорожцем», как любил шутить отец, он не мог не встать под красное знамя. Но и правда есть правда – военная карьера его признанием не была и быть не могла: его всё сильнее и сильнее звала к себе литература. А армейское начальство от себя образованного смышлёного паренька тоже отпускать не хотело, тем более что он и бойцом себя проявлял неплохим, и агитатором был задорным, и комиссарить научился, и по организационно-хозяйственной части себя проявил, когда был назначен на санитарный поезд-летучку, и разведзадания выполнял непростые.
Достаточно сказать, что с малой группой отважных матросов, каждый из которых был сорви-головой, ворвался в Одессу, прорвался к причалам, где суда белых стояли с медикаментами, штурмом взяли всё, что унести могли и к своим прорвались! Одно это – тема фильма или повести. Сколько раз я об этом отцу говорил. А он – всё своё: «Это слишком неправдоподобно выглядит, не поверят. Скажут – хвастун. А ведь сам Якир, несклонный к похвалам, за эту операцию нас всех расцеловал! Знал я и того Мишку-Япончика, и батьку Махно, и Петлюру. У Махно в плену был, выдал себя за врача, даже лечил ему понос, вылечил, представь себе, а потом бежал, спрятав браунинг и партбилет. А не спрятал бы, погиб непременно: на пути столько раз обыски были, что со счёта сбился! Кто бы мог подумать, но тоже ведь правда: был переводчиком на секретных переговорах правительства Украины в лице Раковского с Махно и Петлюрой. Долго, помнится, Махно в лицо моё всматривался, припомнить пытался, однако, кажется, не припомнил. А почему так получилось? Махно с Петлюрой требовали, чтобы переговоры шли на украинском языке, в Раковский разговорным украинским не очень-то владел, многих слов не знал, как я понял. В итоге переговоры зашли в тупик – ведь наше главное условие было какое: сложить оружие. Махновцы и петлюровцы на это не пошли. Ты спрашиваешь меня, почему я не пишу обо всём этом? Есть и ещё одна серьёзная причина. Я видел в Красной Армии очень много замечательных людей, но узнал о них мало. С ними как боец я себя сравнить не мог. А сам я годился лишь в герои юмористических произведений вроде повести Алексея Ивановича Пантелеева “Пакет”, но там боец Трофимов Петя действительно подвиг совершил. А у меня никаких подвигов не было. Ну, что за подвиг, что я выдал себя за врача и лечил понос у батьки Махно, прежде чем сбежать от него? Или, скажем, что за подвиг сидеть и прятаться от белых разъездов в старых вагонах и ждать, ждать, чтобы выбраться отсюда, а тебя немилосердно жрут спрятавшиеся в этих старых вагонах клопы, а самому тебе жрать нечего! Люди? Вот люди, окружавшие меня, были замечательными! Но тут другой момент, учти, в свои права вступает. Суди сам, в каком жанре мне об этом поведать? В очерке, в рассказе – для начала не в повести же! А какие у меня были бы соперники? Борис Лавренёв, Дмитрий Фурманов, Аркадий Гайдар!.. А у меня на памяти одно приключение невероятнее другого. Попробовал я как-то в московской актёрской среде кое-что порассказать, так слушали с удовольствием, хохотали, горевали, умолкали, но всё же в конце концов увенчали меня… лаврами барона Мюнхгаузена! А мне эти “лавры” применительно в такой серьёзной теме, как Гражданская война, ни к чему.
Было и ещё одно обстоятельство, о котором я тебе как-то уже говорил. Мне порою в литературных ортодоксальных кругах глаза кололи тем, что я вышел из партии в связи с тем, что не принял и не мог принять НЭП: что ж ты, мол, из партии вышел, а о героике пишешь?.. Вот как вопрос ставился в ту пору! Вот посему я как автор выбрал две темы – историческую, сравнительно давнюю во времени, и тему труда, которую любил и люблю совершенно искренно. По этой же причине я не стал сочинять ничего и на темы Великой Отечественной войны. Факты были очень сильны. Они требовали очерка, документалистики, в том числе и в кино. А в прозе тоже имена отменные были. Ну, впрочем, ты сейчас как критик это и сам не хуже меня знаешь. Старики брали психологизмом, мастерством, блестящим литературным стилем, а новые, те, кто нарождался как писатели на фронте, те сильны были блестящим знанием войны с позиции рядового бойца.
Ay меня война не типичная: газеты, ансамбль 42-й армии, фронтовые бригады, кинодокументалистика, госпитали… А что касается берлинских событий, опять всё так нетипично, что я писать об этом боюсь. Ну, например, фотографии наши с мамой видел фронтовые? Да вот возьми хотя бы эту: мы в Потсдаме снялись (отличное фото, между прочим!). Я – во фраке, мама в нарядном платье. Покажи я эту фотографию фронтовикам, меня же живьём съедят! Скажут, мы в одной шинелке на ветродуях, перебиваясь с сухаря на кипяток, домой с фронта добирались, а тут баре какие! Ну, какие мы баре, ты знаешь. Я еле очухался после госпиталя, мама твоя после твоего рождения сразу же скончалась – так её организм ослаблен был, а ведь к немецким врачам ни за что обращаться не хотела! Только я и слышал: 'Домой, домой, в Ленинград!” А наряд у нас был сообразно чину и протоколу. Приходилось бывать на приёмах, раутах, встречах с так называемыми союзниками, общаться с немецкой антифашистской и сравнительно нейтральной интеллигенцией… К тому же мы с мамой не хотели продолжать службу военную как таковую. Мы же не кадровые офицеры. Я – литератор, она – врач, мечтавший о научной работе. Посему лишний раз и своим, и чужим мы гражданскими нарядами напоминали о своей независимости, о том, что мы не случайно подали документы на демобилизацию. А нас, видите ли, отпускать не хотели! Даже обещали рост званий и должностей! Как хорошо, что я остался всего лишь старшим лейтенантом, отказавшись в своё время от административного роста в военных газетах, предпочтя рост творческий. А так был бы как минимум майором, а майору демобилизоваться с творческой должности (я же не летчик-истребитель!) было бы почти невозможно!
Вот видишь, как всё взаимосвязано и как всё сложно, и как всё запутано в моей жизни!»
Тогда я, может быть, до конца слов отца и не понял, и не прочувствовал, а вот теперь вижу, что он полностью прав был и в прогнозах своих, и в выводах.
«Жизнь большой была дана», – так написал однажды Леонид Иванович Хаустов. Я его слова эти именно сейчас вспомнил. Очень большая жизнь была дана отцу – и дело даже не в возрасте (78 лет это не так-то уж много!), а в широте, многообразии, в размахе, в смене мест, времени действия, обстоятельств действия – прямо всё, как в горячо любимой отцом драматургии!
Однажды он своим ученикам, молодым драматургам, приоткрыв одну страницу из своей биографии (его расстреливали беляки, но он успел спастись), коротко сказал: «Второй раз живу, вторую жизнь!» Приуменьшил, думается! Не вторую, а может, десятую! Три возвратных тифа, тяжёлое огнестрельное ранение в Гражданскую войну, шальная пуля под Львовом в 1939 году во время освободительного похода Красной Армии в Западную Украину (сбила эту пуля, может, и не шальная, фуражку с головы), взрыв мины-ловушки в финской войне (совсем близенько!), прямое попадание авиабомбы в соседний блиндаж под Пулковым (тяжёлая контузия с последствиями на сердечнососудистую систему), на подходе к Берлину в попутку напросился, шофёр говорил, уговаривал в кабинку, а отец в кузов на сено – снарядом кабину вырвало, кузов невредимым остался…
Это всё – в войне, в войнах. А в мирной жизни? Одна болезнь другую звала, другую догоняла. Не стану об этом писать. И отец о болезнях писать и говорить подробно не любил да и мне завещал такое же к ним отношение: «Что мы с тобой врачи на консилиуме или на семинаре, или же на конференции? Давай лучше о литературе, о кино, о театре потолкуем, о прессе, вообще о жизни нашей!»
Боюсь я, что я до конца не смогу восстановить даже основные вехи биографии отца, даже самые общие, не говоря уже о подробностях! Что-то удастся высветить достаточно сильным светом, а очень многое так и останется сокрытым и непонятным. Большое время, большая биография, трудное время, трудная биография. В помине нет от того, что я однажды как начинающий журналист прочитал в трудовой книжке рабочего-токаря: пришёл на завод в 16 лет, поработал в одном и том же цеху 50 лет и отсюда и только по настоянию врачей ушёл на пенсию! Место действия, следуя драматургическим канонам, соблюдено. Но время-то бурное остаётся! Как ни крутил я вопросы свои журналистские, как ни вертел ими – ничего не получилось! Работа и работа! Вот о работе с удовольствием рабочий говорил. Я так и написал о нём – «Всегда на своём посту».
Отец тоже, начиная года примерно с 1921-го, всегда оставался на своём посту, посту литератора, – и на Дальнем Востоке, и в Потсдаме, и в Петрозаводске. Один литератор за сравнительно короткое время встречал отца в разных и географически отдалённых друг от друга местах и не мог не спросить:
– Да Вы, Николай Афанасьевич, дома-то когда-нибудь бываете?
На что отец с улыбкой, но совершённо серьёзно ответил:
– А у меня вся наша Россия – дом родной!
«Европу, – говорил он мне, – не то что бы знаю, но представляю себе: всё же видел Варшаву, был в Чехословакии, в Австрии… А вот об экзотических странах мечтаю! В Индию хочу! Даже во снах её вижу… Представь себе, однажды была реальная возможность – и путёвка, и цена, и сроки подходящие, но вот загвоздка с прививками вышла! Мне один дружок, ровесник, на ушко сказал, что сам после прививок чуть не загнулся, не успев доехать не то, что до Дели, даже до аэропорта! И я не решился! Помнишь, ты мне стихотворение Анисима Кронгауза цитировал, то, что тебе понравилось: “Врач ворвался с мороза… ”? Не помню дальше, кажется так: “Вы смертельную дозу человеку ввели” А пациент, улыбнувшись, успокаивает доктора, рассказывает ему обо всех испытаниях, выпавших на его долю: “А от эдакой капли я возьму и умру?” Да, так я и остался без Индии!»
Композиция моего повествования в элегической тональности будет причудливой и сложной. Предупреждаю. И не хочу делать ни глав, ни подглавок, ни сложных и эффектных композиционных фигур с обрамлениями, рефренами и т. д. Не тот материал. И не та жизнь. И не та судьба.
Вместе-то мы с отцом были очень редко. Я сейчас прикинул, ахнул даже – не наберётся и двадцати встреч! Это отца-то с сыном). Да, вот так история! А может, я отца своего совсем не знаю и не понимаю! Нет, с этим я согласиться не могу. Можно быть всё время вместе, все вечера после работы, а прежде – после школы встречаться, вместе ходить в бани, магазины, на рыбалки, за грибами, вместе куда-то ездить, о чём-то, конечно, говорить, чему-то, конечно, учиться вольно или невольно и всё же отца своего не знать! Тому примеров среди моих товарищей немало.
Вот насчёт интереса, интересности поспорить можно. Спор во всяком случае плодотворен. Ведь мы же говорим – «интересный человек», «тоска по интересным людям», «яркий человек», «яркая личность», «серый человек», «безличный человек»… Наверное, о каждом можно написать. Да, о каждом. Но вопрос – что\ О ком-то – роман, о ком-то рассказ или очерк, о ком-то лишь милицейский протокол, о ком-то лишь строки в истории болезни. О каждом можно что-то сказать: о ком-то это будет нескончаемая череда устных рассказов – так жил, что и не выговориться за другую жизнь, свою! Есть ли такие люди у меня на памяти? Есть! О них я и буду писать в этой книге добрые слова. Добрые слова о дорогих людях. Но поставлю ли себе пределы? Обязательно! А то что это за картина, скульптура, фильм, песня, рассказ без границ? В искусстве нужны пределы, «как красота и мера скажут». Так, кажется, древняя русская летопись о древнем русском зодчестве гласит. Это вовсе не значит, что за пределами текста моего не останется ничего – всё будет выбрано! Но для данной книги сказано будет всё. В этом-то и смысл литературной работы, в этом-то и её литературное достоинство.
А антигерои? Минус-люди, говоря словами Александра Довженко? О них тоже можно долго говорить. А можно и кратко – памфлет и приговор тоже краткость любят. Это очень строгие жанры. И очень точные.
Но бывают люди, которые ни гнева, ни восторга не вызывают. Много ли их? Думаю, что несравнимо больше первых и вторых. «Что же это получается! – воскликнет мой будущий оппонент. – Пропаганда элитаризма? Может быть, автор просто не сумел открыть душу своим героям да и просто людям, которых он повстречал, может, золотые тайны неразгаданными остались?» Бывают и золотые дивные неразгаданные тайны, но столь же редко, сколько и самородки, и месторождения дивные. А возьмите природу! Все ли деревья одинаково интересны взору и не только живописца, но и просто любителя природы? Нет, не все. И вот взоры наши ищут такую сосну, такой дуб, такой сиреневый куст, который бы и собой остался, и поведал бы собой обо всех соснах, обо всех дубах, обо всех кустах сирени.
Есть люди не просто молчаливые, а безликие. О них тоже по-своему интересно писать. Можно (я в этом убеждён!) даже блестяще написать о безликости. Но меня пока на эту тему не тянет – о замечательных людях, ярких, своеобычных, неповторимых во всём, не успел ещё рассказать. Вот о них расскажу, тогда, может, и попробую написать нечто под названием «Великая безликость».
Опять отвлёкся? Нет, вроде всё к месту. Такое отступление просто необходимо. На эту тему мы часто спорили с отцом. Были у нас какие-то вечные темы для споров: о мере художественного вымысла (я здесь был строже и тяготел к документалистике), о круге чтения (я был против тезиса о том, что, мол, знания не тянут, не висят, и сейчас убеждён, что есть для каждого данного человека знания обязательные, желательные, возможные, нежелательные и даже вредные), о соотношении классики и современности в духовном мире человека (я настаивал на приоритете современности), о роли библиотеки в жизни творческого человека (отец меня ругал за то, что я мало сижу в библиотеках, а я пропагандировал идею своей личной обширной библиотеки) и т. д., и т. п.
К некоторым предметам спора мы ещё вернемся. Но об одном именно здесь сказать надо. Мы часто спорили о роли случая в судьбе человека нашего времени. Нет-нет, ни он, ни я не были фаталистами. Просто он, вероятно, как драматург больше доверял случаю. Я предпочитаю случай запланированный, предусмотренный, смоделированный. Отец сердился на меня и упрекал меня в том, что я механизирую общественные науки, а среди общественных наук отдаю предпочтения не всегда тем, которые изучают художественное творчество. Например, он меня ругал за попытки вклиниться в моих критических произведениях в сферу социологии искусства, за пристрастие к статистике. А мне и то, и другое было всегда чертовски интересно!
Вот опять – проблема случая. Очень хотел отец после окончания Гражданской войны демобилизоваться из армии, а его не отпускали. Грамотных было мало, а тут ещё и способности у человека разносторонние, и оратор, и писать умеет. Образовывался замкнутый круг. Я очень плохо представляю себе то время! Конечно, что-то проясняют книги, фильмы, научные публикации, устные рассказы и всё-таки, опять же, решительно не вижу зримо 20-е годы. В связи с этим мне вспоминается забавный французский фильм-комедия «Замороженный», с Луи де Фюнесом в главной роли! Написал и не могу удержаться от хохота, вспоминая наиболее забавные эпизоды. Некоего француза-полярника считали славно и без вести погибшим на льдине когда-то в начале XX века, и вдруг современные полярники его нашли запаянным в огромной льдине и в этой льдине, придав ей форму, годную для транспортировки на самолете, привезли в Париж. Дедушку нынешних героев (а для кого-то он уже прадедушка) разморозили и (о чудо!) оживили. Условность, конечно! Но – забавная. А как ему, дедушке, теперь сказать, что он не в 1900 году, а спустя 70 лет? Опасно! Вдруг погибнет, и пропадёт возможность блестящих экспериментов не только чисто медицинских, но и социологических! И тогда решают ту часть улицы, где поселяется семья, обретшая молодого деда-прадеда (он во льдах своих не постарел и хорошо сохранился, о чём с восторгом сообщает одна из молоденьких француженок!), сделать заповедником времени: «Пусть тут останутся только те, кто остался неизменным с начала века, – монахи…». Телевизор от дедушки прячут, газеты – тоже, но однажды он всё-таки открывает для себя течение времени – на запретном для него, но найденном им экране телевизора появляется сверхзвуковой самолёт!
Может быть, в Париже и можно найти уголок, где «замороженному» можно будет дурачить голову какое-то время. Попробуйте найти его в Москве, у нас в Ленинграде, да почти всюду и везде в стране нашей! Не найти! Посему всё труднее и исторические фильмы ставить становится. Двадцатые же годы, ну, словно стёрты стирательной резинкой. Лучше даже начало века и какие-то следы минувшего дальнего сохранились. И речь не только о машинах, пролётках, трамваях, одеждах… Я по сути многих явлений, правил, норм, ситуаций понять не могу! Вот что обиднее всего.
Например, никак до сих пор не могу дознаться, что за нормы и правила, обычаи и нормы повседневного общения у литераторов начала 50-х годов, 40-х, 30-х, тем более 20-х! Отец всё это, конечно, знал, понимал и учитывал. Более того, некоторые ветераны литературы, общение с ними давали возможности ему довольно живо заглянуть не только в самое начало XX века, но и в век предыдущий.
Нет никакого сомнения в том, что отец охотно и обстоятельно мне о многом мог бы поведать, но… Виделись мы редко, встречи были, как правило, короткими. За промежутки между нашими встречами набирались дела текущие, обязательные, требующие решения и разрешения в широком смысле слова. К примеру сказать, в студенческую пору– производственные практики в газетах. Где лучше поработать летом, как, кем?.. Ныне, анализируя минувшее, вижу, что почти всегда соглашался с советами и заветами отца. Счастлив тем, что ни разу не подвёл его, как он шутил, «не осрамил рода казацкого, запорожского»!
Единственным своим просчётом он справедливо видел мою хабаровскую эпопею: слишком понадеялся на одного нашего общего знакомого, а тот подвёл, и мне пришлось на ходу менять место практики, что весьма хлопотно и тревожно. Не учёл он и мои чисто физические возможности, напрасно их сравнивая со своими. Дело в том, что, несмотря на все свои ранения, контузии, болезни, он всё же был человеком изначально очень крепкого здоровья, чего нельзя сказать обо мне. Мой друг и ученик прозаик Вячеслав Всеволодов, увидев, как отец (мы с другом пришли проводить его в любимое им Абрамцево, а сами оставались по редакционным делам в Москве) бодро шёл по крутой лестнице с весьма тяжёлым грузом, прямо ахнул: «Ну, друг мой, мы с тобой в семьдесят лет так не сможем!» С горечью уточняю, что Слава, литературные способности которого высоко оценил мой отец, скончался в сорок с небольшим лет. Другое поколение – поколение детей фронтовиков, мы и не могли быть такими, как наши родители! Мы – не медики, не генетики, но понимали это и видели на собственном опыте и на примерах наших ровесников, что эхо войны в нашей крови не умолкает.
Посему отец часто примеривал нагрузки, имеющие отношение ко мне, как бы на себя. Получалось, что вроде ничего страшного. А из Хабаровска после сильного переутомления я вернулся совсем больным. Отец, не отличавшийся сентиментальностью, здесь дал слабинку, всерьёз забеспокоился и принял ряд мер, но меры эти ТОГДА не помогли. Мне в университетской поликлинике даже предложили всерьёз подумать об академическом отпуске по здоровью, а ведь от врачей такая инициатива исходила крайне редко!
Бабушки моей Елены Андреевны в живых уже не было, а старшая тётя Зинаида Фёдоровна, была в отчаяньи и регулярно писала отцу о том, как идёт (или не идёт) процесс лечения.
Вот в этом как-то особенно остро проявились наши с отцом противоречия. До этого эпизода они проявлялись в другом. С одной стороны, отец меня как бы готовил к своей стезе, а с другой, ещё в мои школьные годы стал буквально навязывать мне иные стежки-дорожки. У него почему-то появилось два равнозначных варианта: океанология в Ленинградском Гидрометеоинституте и электротехника. Спорам не было конца. В итоге он «сдался» и перестал меня отговаривать от журфака: «Всё же реальная профессия со многими специальностями. Основа прочная будет, а там время покажет…».
Второе сильное противоречие стало возникать в связи с его оценкой моих первых чисто литературно-художественных опытов. Он был против моего регулярного посещения многочисленных в Ленинграде в ту пору литературных кружков и объединений, преимущественно поэтических. Более того, стал доказывать мне, что на конкурсном сочинении обзор заводской многотиражки будет предпочтительнее обзора поэтических новинок. Газетные обзоры условиями конкурса не предусматривались вообще, но были обязательны на первом курсе журфака как курсовая работа. До студенческих заданий было ещё далеко: надо было заканчивать школу. Тут опять мы «поцапались». Отец не приветствовал мой уход из дневной школы и бросок в заводскую среду и в вечернюю школу. Однако, увидев результаты (за один годя прошёл два класса), сменил гнев на милость. Особенно его порадовало то, что я стал лауреатом школьного общегородского конкурса на лучшее сочинение: десятиклассник-вечерник писал об особенностях педагогической журналистики на страницах толстых журналов! Это всех очень удивило и озадачило. Я объяснил устно этот интерес очень просто: крайним недовольством хрущёвской школьной реформой и отсутствием ранней специализации, к чему зову и теперь новые поколения. Выступал я и против предметно-урочной системы, восхваляя Пушкинский Лицей с его почти вузовским ранним курсом и методикой преподавания.
Вскоре отец вконец разочаровался в этой «реформе» тоже и в целом в хрущёвских начинаниях. Сыграли решающую роль «полководческие способности» верного «ленинца», как Никита себя именовал, и жуткий хлебный кризис. Это были буквально тропические ливни, омывшие многие добродетельные души. Такая же история примерно произойдёт при Горбачёве, про перестройку которого один украинский сатирик писал и пел (он был ещё и артист): «Ты ж мене пидманула, ты мене пидвела!»
Отец этого не знал (я не хотел его волновать), но я в 17 лет уже написал злейшую антихрущёвскую басню «Лев и свинья», которую читал (где бы вы думали?..) на Дворцовой площади сотням слушателей! Она была не без находок чисто стихотворно-сатирических, но самое удивительное в том, что парень в этом возрасте в то время писал: «АЛев не умер – ону6ит!» Фантастическое предвидение: сейчас уже почти доказано, что Сталина отравили Хрущёв и Берия тяжёлой водой, которая в аптеках не продавалась, а была только в зоне атомных реакторов, а ими в целом руководил Берия. Отсюда и совершенно неожиданный инсульт!
Резонно спросить: «Говорили ли мы о политике?» Безусловно, и – с моего довольно раннего возраста. Лично со Сталиным отец знаком не был, но как секретарь партийной организации при сперва Фадееве, а затем – при Соболеве, который к тому же был беспартийным, в верхах бывал в разные годы. Неоднократно и весьма доброжелательно общался с Кировым, более официально – со Ждановым, лично знал Орджонихидзе (между прочим, негодовал, когда в одном фильме авторы показали НЕ ТОГО Серго!), об Орджонихидзе как собкор «Известий» на Донбасс отец отзывался неизменно не только тепло, но даже, я бы сказал, сердечно. Из полководцев лично знал Жукова, Говорова, Мерецкова, Василевского. И это – при его очень скромных воинских званиях! Я уже не говорю о Котовском, с которым у отца установились почти товарищеские отношения. О командармах, начдивах, командирах полков и говорить не приходится: отец знал многих и со многими был в неформальных отношениях, выступая даже не столько как корреспондент, сколько как писатель.
Если же говорить о генералах от литературы, то и тут имён немало: Леонид Леонов, Константин Федин, аварец Расул Гамзатов, таджик Джалол Икрами, даргинец Ахмедхан Абу-Бахар, киргиз Чингиз Айтматов (отца бы хватил сердечный приступ, если бы он узнал о том, что весь советский сражающийся с фашизмом народ Айтматов посмел назвать в конце своего пути «МУСОРНЫМ ВЕТРОМ», зайдя в полный идейно-политический и художественный тупик)… Я уже не говорю о многих менее звучных именах.
Если отец к генералам от литературы и обращался, то только по общественным делам: помочь в организации семинара, в лечении и трудоустройстве способного молодого автора, в предоставлении жилья живущей в общежитии авторессе из поволжского города. Однажды Соболеву надо было срочно связаться с отцом, и он не мог его найти: «Николай Афанасьевич! У вас что, телефон поменялся?» Отец просто ответил, не вдаваясь в детали, что телефона у него нет, нет и жилья (снимает комнату в Кунцево). Соболев был разъярён! Он вызвал оргсекретаря, дал ему накачку, сам снял спецтрубку спецтелефона… И вот отец после долгих лет жилищного сиротства обрёл весьма уютную светлую комнату в новом доме на Кутузовском проспекте (самое смешное, что по соседству с Брежневым!), правда, был ещё один сосед, весьма бесцеремонный шустрый драматург. Его бойкая супруга, юрист, нашла ход для сложного комбинированного обмена с доплатой, и только тогда отец стал владельцем однокомнатной квартиры в писательском «городке» на Аэропортско-Красноармейской (там номера домов поменялись, а сами дома как стояли, так и продолжали стоять). Но, в любом случае, если бы не ТА комната на Кутузовском, которую отвоевал для отца Соболев, никакие варианты бы не привели к победе.
С литературными и партийными «полковниками» отец держался на равных, что я не раз видел, и неутомимо отстаивал интересы Союза писателей России и персональные интересы своих учеников.
Как секретарь партийной организации аппарата Правления Союза писателей РСФСР был вхож в ЦК в отдел культуры и в некоторые службы Бюро ЦК по РСФСР (была такая организация одно время). Был в курсе многих дел, да и я как взрослый сын к этим делам приобщался.
Один весьма крупный деятель, поговорив со мной, в ту пору ещё школьником, улыбаясь, сказал отцу: «Ну что, Николай Афанасьевич, вижу, что смену себе вы приготовили! Парень уже много знает и чувствует, что особенно важно!»
Вот и третье противоречие в отцовском характере. Он действительно меня исподволь вводил в круг административно-литературных дел: я присутствовал на редсовещаниях, худсоветах, на административных совещаниях, где председателем был отец, однажды был на закрытом и остроконфликтном партийном собрании Московской писательской организации в разгаре наступления Хрущёва и Ильичёва на некоторых представителей художественной интеллигенции. Пресса на это собрание не допускалась, отчётов не было, но я уже «был в курсе».
Примерно лет с шестнадцати мне отец стал давать отнюдь не курьерские поручения, давал инструкции, как себя вести, чего добиваться. Всё это было школой, которая мне очень пригодилась, когда я стал литературным консультантом, заместителем оргсекретаря и помощником руководителей Ленинградской писательской организации. Отец мне давал постоянные консультации на тему, кто есть кто. Его характеристики были меткими, точными, порою остроумными. Всегда ли верными?..
Постепенно я тут начинал с ним вести споры, убеждаясь в том, что одних он недооценивает, а других переоценивает. Это касалось не только любимых учеников, за которых отец готов был идти «на бой кровавый, святый и правый», как поётся в революционной песне, но и руководителей некоторых журналов нашего круга и руководителей ряда писательских организаций. Весьма часто отец выступал передо мною в роли их адвоката. Как это ни странно, но прав в итоге оказался я: некоторые «звёздочки», блеснув, угасли, а некоторые местные литературные тузы бесследно выпали из колоды не только должностной, но и творческой. Фамилии называть не хочу, но прошу мне поверить, что таковых – десятки…
Один из его учеников из Ленинградской области пригласил меня по грибы: места у них были воистину грибным царством, а грибы я любил. Вернулся я домой в Ленинград в тот же день на поздней электричке: местный культработник и начинающий драматург-одноактник меня разочаровал. Я написал об этом отцу. Он ответил в очередном письме: «Возможно, ты и прав. Я его переоценил! Так хочется дать дорогу людям из глубинки!..»
У нас с отцом была многолетняя частая и очень интересная переписка. Мои письма он сберегал, я его – лишь чисто литературные. В целом этот фонд мною уничтожен, и в архив я его не передаю, ибо он слишком личный. Ну, кому интересно, с какими бытовыми препятствиями он и я воюем! И всё же эта переписка меня радовала, дисциплинировала, оттачивала стиль. Отец всегда давал оценку не только содержанию моих писем, но и форме, разного рода приёмам. То есть, учёба и тут продолжалась!
Как я уже писал, мы с ним оба чисто бытовые текущие дела стремились сводить к минимуму. Возможно, в рабочей или крестьянской средах как раз этому уделяется постоянное и особое внимание. А нам бы это только мешало! Разумеется, мы не святым духом питались. Возникали проблемы с одеждой, обувью, билетами, гостиницами… В этом смысле отец был довольно избалован: транспортно-гостиничное хозяйство в аппарате Правления Союза писателей РСФСР было налажено весьма неплохо. Отец даже от каких-то обыденных забот обычных горожан отвык. Его рекомендовали в дипломатическое ателье на Кутузовском проспекте, где ему шили отличные костюмы. В литературных кругах он слыл щёголем. Однажды на каком-то большом расширенном заседании в Союзе писателей РСФСР зашёл разговор о том, что газета «Литература и жизнь» слишком стала много внимания уделять одежде, брюкам… В ту пору шли дискуссии о брюках широких и узких. Сатирики потирали руки: материал зачастую был просто анекдотическим. Отец тоже призвал с этой практикой кончать и больше внимания уделять текущей критике сугубо художественной, на что одна острословица из мира критики и литературоведения ехидно заявила: «Конечно, зачем нам говорить об одежде, когда у нас секретарь партийной организации пижон и стиляга!» Возникла новая дискуссия, и отец стал дамочке терпеливо объяснять, говоря словами Пушкина, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Вспомнил он тогда и известного на Петербург и Москву своих лет Чаадаева, щеголя и своеобразного живого образца изящной мужской одежды: «Второй Чаадаев мой Евгений!» В этой пушкинской строке – дань нарядам Евгения Онегина.
Своих учеников мужчин отец «жучил», как он выражался, если видел, что они готовы идти в театр, к редактору, режиссёру, к актёрам «в затрапезе»! В итоге они ему были благодарны, а жёны и матери не могли понять, отчего это их мужья и сыновья стали опрятными, преобразились и зачастили в парикмахерские.
Учил своих взрослых учеников отец и гигиене умственного труда, и азам психологии творчества, давал и чисто житейские советы, особенно финансовые. Дело в том, что почти все опыта профессиональной литературной работы на дому не имели, получали скромные зарплаты, изредка премии и вдруг… пошли такие суммы, что им и не снилось! И они, как говорил отец, «пустились во все тяжкие»! Сам он в таких случаях вынимал из кармана пиджака две-три сберегательных книжки и тыкал в них указательным пальцем: «Вот – друзья писателя-профессионала! А дружки-приятели – всегда тут как тут!» И почти всегда приводил трагикомический пример: один очень популярный композитор, получив Сталинскую премию, умудрился за несколько дней «просадить» её в разных компаниях, а потом побежал в Музфонд с просьбой о материальной помощи, ибо «кусать было нечего». Там на него вытаращили глаза: «Помилуйте! Вы только что получили такую крупную премию!..»
Неизменный хохот следовал за этим примером, этой маленькой сценкой, которую отец по-актёрски представил своим слушателям.
Спустя многие годы, сам став в год кончины отца вузовским преподавателем, я стал внутренне обобщать и осваивать его отличный и по-своему уникальный педагогический, лекторский опыт. Опыт этот мне очень пригодился и для учебной аудитории, и для массовых, так сказать представлений, на широкую публику.
Ныне я себя зачастую ловлю на том, что даже в чём-то спустя десятилетия, копирую отцовские приёмы и интонации. Но, будем надеяться, – не слепо, а творчески их освоив.
Меня, конечно, спросят, о том, как он мне помогал в редактуре моих первых очерков, обзоров, рецензий… Текучку газетную он ценил как труд, но всегда неизменно ставил ниже художественно-публицистических жанров. И, вы знаете, каков будет мой ответ?.. Почти никогда прямого участия в редактуре моих текстов не принимал. Разве что какой-то исторический факт уточнит, посоветует, где и что прочесть, попутно поведает о каком-то аналогичном случае из своей практики, то есть он звал меня всегда к творческой самостоятельности!
У взрослого сына с отцом порою возникают те или иные женские темы в разговорах, причём, по моим данным и сведениям, диапазон весьма широк: от вполне пристойных «рецензий» на возможную невесту для сына до откровенной порнухи! Мы женские темы почти никогда не затрагивали. Правда, с годами отец как-то намекал на то, что мне «пора вить гнездо», на что я ему с улыбкой отвечал, что я вью «литературные гнёзда»…
В Москве мы в гости ходили редко, хотя нас и приглашали часто, особенно, когда я подрос, и литературные дамы (чаще всего – чиновные и с большими связями) начали вести монологи примерно в таком ключе: «А вот бы вашего Колю познакомить с моей Надей, Верой, Таней и т. д.!.. К примеру, у меня в субботу будет блинный праздник, интересные люди будут приглашены, а моя Иксочка сыграет вам на рояле новые свои исполнительские работы…». Это, кажется, был единственный случай, когда мы с отцом дружно согласились. Питались мы исключительно в ресторанах (вы не удивляйтесь: днём по тогдашним ценам да ещё без спиртных напитков это было не роскошью, а вполне реальными тратами), но уж больно хотелось блинцов да ещё с сёмгой, икрой и какими-то приправами, на которые дама была большая мастерица. Телефонный разговор на какое-то время приобрел исключительно кулинарное направление, и мы стали готовиться к смотринам.
Икса мне решительно не понравилась своей манерностью, кукольностью и надменностью, а вот среди гостей оказались люди лично мне интересные. Я сидел рядом с одним весьма крупным чином из Госкомиздата СССР и вскоре одолел его разными вопросами и претензиями. Больше всего меня волновал вопрос о нормозаданиях для редакторов издательств и путаница с термином ЗАВЕДУЮЩИЙ РЕДАКЦИЕЙ: в журнале это была по сути дела старшая машинистка, секретарша главреда, а в издательстве – руководитель жанрового или тематического отдела. Чин начал оправдываться, что он не отвечает за те документы, которые когда-то утвердило Министерство культуры СССР, которое прежде руководило всеми издательствами творческого профиля. Потом мы перешли к вопросам планирования. Я так увлекся, что забыл обо всём на свете, а все гости с удивлением стали прислушиваться к нашим дебатам. Тут отец вежливо, но твердо рекомендовал мне не превращать БЛИНСТВО в совещание в масштабах всей страны и предложил всем весёлую игру – припомнить, в каких произведениях литературы действие происходит на масленицу и где и как блины играют важную художественную роль. Викторина началась. Победительницей оказалась хозяйка, действительно, очень начитанная критикесса.
В другой раз в другом месте завязка, говоря языком теории драматургии, была такая же, но действующие лица иными. За столом преобладали сотрудники Государственного комитета по культурным и экономическим связям при Совете министров СССР. Этот комитет по фамилии его председателя Скачкова в некоторых замкнутых кругах именовался СКАЧКОВСКИМ. Попасть туда на работу было очень трудно, почти как в Совет экономической взаимопомощи, престижно и материально выгодно. К тому же там, как говорили военные в дореволюционной России, «быстро шло производство», то есть карьерный рост. После беседы с одним крупным чином меня как-то сразу все стали уговаривать согласиться на его предложение связать свою судьбу с этим ведомством. Я не стал пускаться в длительные дебаты и в шутку заявил, что я уже дал обещание служить верой и правдой Парнасу и его лидеру Аполлону Зевсовичу. Все весело посмеялись, а хозяйка стала меня обхаживать на предмет более обстоятельной, но менее деловой беседы с её дочкой, старшекурсницей экономического факультета университета. Я с девицей поговорил об экономике, о плохом учебнике Никитина, о хорошем двухтомнике Цаголова, о том, что почти четыре года редактировал и экономическую литературу… Никаких отклонений от этого тематического курса я не допустил, и на меня в итоге хозяйка махнула рукой. Да и я подумал – пусть ищут себе кандидатов на священный пост жениха где-нибудь в соответствующих министерствах и ведомствах. И вернулся к своим музам, которые без меня уже начинали скучать.
В конце концов отец понял, что все ЭТИ ПУТИ ведут в тупик. Последнюю попытку он предпринял посредством… Натальи Юрьевный Дуровой, у которой была подруга в Ленинграде, а у подруги – взрослая дочка. Но и эта атака была отбита! Ныне я мечтаю написать цикл коротеньких юмористических рассказов обо всех подобных приключениях (особенно много их было в Киеве!).
А вот о том, что я не был и не мог бы побывать на встрече Нового года в гостях у легендарного генерала Игнатьева, автора мемуаров «50 лет в строю», я очень сожалею. И очень сердился на отца, что он мало чего выспросил у такого знатока Франции! Напомню, что именно военный атташе Игнатьев сберег царский архив и передал его высшим представителям Советской власти. Конечно же, такой знаток Парижа и Франции в целом мог бы быть весьма полезен отцу в связи с его творческими интересами, но, увы, разговор как-то свёлся к тайнам французской кухни, блестящим знатоком которой себя Игнатьев проявил. Отец стал вспоминать о традициях французской кухни в России начала века, в довоенную пору в Москве и в Ленинграде… А тут и запели свою величаво-торжественную песню куранты! Я потом пенял отцу: «Папа! Ты променял разговор о важных событиях на подливки и способы жарки мяса и рыбы!» Отец разводил руками: «Он ведь дипломат, к тому же дипломат военный и уж, конечно, блестяще парировал бы все мои заходы!..»
Остальные встречи, которые носили сугубо театрально-литературный характер, были в театрах, в Центральном Доме литераторов, реже в ресторанах, то есть, на нейтральной почве. Испытав определённое давление на себя, я стал остерегаться посещать дома и дачи. Даже в особом посёлке Красная Пахра летом мы с отцом только раз зашли в частный дом – посмотреть отцовскую телепередачу по Интервидению о династии Дуровых, но дальше холла не пошли, хотя нас и звали. У других деятелей театра и кино мы в гостях бывали, но тоже ограничивались беседами во двориках, в садочках без захода в комнаты. Именно у отца я на всю жизнь научился НИКОМУ НИ В ЧЁМ НЕ БЫТЬ ОБЯЗАННЫМ! Если уж кто-то что-то сделал полезного и нужного, учил меня отец, немедленно надо найти свою форму благодарности и не оставаться должником.
Вполне возможно, что наши читатели поинтересуются масштабами доходов члена Союза писателей СССР Н. А. Сотникова, особенно после того, как прочитают раздел настоящего сборника «Говорят документы». Что можно (в самых общих чертах, разумеется) сказать? Были периоды, когда кроме скромнейшего холостяцкого супчика и тогдашних дешёвых консервов на столе у отца ничего не было, но были и времена после середины 60-х годов, когда он платил партийные взносы с суммы, близкой к зарплате члена-корреспондента Академии Наук СССР. Разлёт, как вы видите, огромный! Транжирой он никогда не был, но мог себе позволить некоторые пищевые деликатесы, нарядную одежду, гостиничные номера выше среднего уровня и мягкие вагоны в поездах дальнего следования. Но при этом надо учесть – в этих купе и в этих номерах он продолжал работать: читать, писать, принимать посетителей (например, когда был выездной семинар, то все преподаватели в одно купе не могли поместиться). На ветер деньги никогда не швырял, но и услугами такси пользовался значительно чаще, чем другими видами внутригородского транспорта. А вот пай дачный его из колеи выбил, ибо главный пайщик явно был духовный родственник одновременно гоголевских Манилова и Ноздрёва и придумывал для весьма обширного участка при деревянном доме всякие несуразности. К примеру сказать, ему в башку запала идея углубить пруд, который более походил на воронку от большой бомбы, и завести там съедобных рыбок. Отец нехотя вынужден был согласиться, за что я его очень сильно, мягко говоря, критиковал, найдя случайно на пишущей машинке составленную смету на эту маниловщину. При этом я ему деликатно напомнил, что у него есть сынок, который хочет приодеться.
Однажды у нас с отцом на гонорарной почве возник конфликт. Дело в том, что я для «Известий» (а я там проходил практику в отделе литературы и искусства) написал сразу две рецензии, довольно острые, и, надо же такому совпадению случиться, совершенно противоположные по оценкам рецензии появились в «Правде» на те же самые произведения. Прямо скажу, редакции этих двух газет и соответствующие профильные отделы находились в непрерывном творческом «соревновании», очень даже мягко выражаясь, а попросту говоря, не любили друг друга. Мой шеф, редактор по отделу литературы и искусства Виктор Васильевич Полторацкий, у которого я многому научился, к слову сказать, был сторонником моих оценок, но идти на прямой конфликт с «Правдой» не решился. В результате обе рецензии, уже набранные и вычитанные, в печать не пошли. Я обо всём этом рассказал отцу. Он погоревал, сделал очень точный и меткий комментарий, а потом и напомнил: «Не забудь написать в бухгалтерии заявление о половинной оплате за разбор и заверь это заявление в отделе!». Я стал отнекиваться: с голоду я не умирал, а печататься очень хотелось. Ради такой марки, как «Известия», я бы и на безгонорарную публикацию согласился бы. Но отец очень строго сказал: «Если лично ты не хочешь получать эти деньги, не забудь о нашей литературной и журналистской солидарности: раз не получит автор за разбор, два, а там, глядишь, и эту практику прекратят! Ты просто обязан завтра же пойти и сделать всё то, что я тебе поручил».
Аргументы отца на меня подействовали и тоже стали школой профессионального становления. Таким образом, учёба осуществлялась буквально во всём – в большом и малом.
Бывали у отца попытки навязать мне какие-то темы, замыслы, даже сюжетные решения. Но уж тут-то я стоял твёрже скалы. Однажды он уговорил меня посмотреть гастрольный спектакль одного областного театра (автор пьесы – его ученица) с перспективой на рецензию (одну для Москвы, другую – для того города, где жила драматургесса). Я отправился с отцом в театр, с блокнотом в кармане, внимательно просмотрел спектакль и нашёл его нежизненным и даже в чём-то надуманным. Речь шла о заводской жизни, а я ведь ещё не стёр мозоли от заточки резцов на заводе «Кинап», где, как поётся в песне Алексея Фатьянова, была «заводская проходная, что в люди вывела меня». После спектакля мы долго обсуждали пьесу, и я отцу доказывал, что у него – представления о заводе середины 50-х годов. Ныне – всё иначе. Такое же несоответствие двух опытов – его, отцовского, и моего, сыновьего, но ещё острее выявилось применительно к военной и военно-морской тематике. Теперь, спустя многие годы, уже можно немного приоткрыть тайную завесу. Военно-морские пьесы были даны и мне на спецанализ. Отметив некоторые положительные моменты, я решительно пошёл в наступление на трактовку и обстановки на воде и под водой. Вы спросите: «А вы, что, на флоте служили?» Нет, но я был референтом Комиссии по связям Ленинградской писательской организации с военно-морским флотом, часто бывал в Кронштадте, где принимали меня не так, как военно-морских журналистов, а куда проще, по-товарищески, особенно меня не стеснялись, показывали мне те стороны военной флотской жизни, которые очень мало кто знал и видел. Разумеется, я не претендовал на секретные тактико-технические сведения – речь шла о моральном климате. А он становился всё хуже и хуже и на морских просторах, и на земле.
А отец всё ещё жил яркими воспоминаниями о дружбе и даже братстве в бригаде Котовского, об Армии Народного ополчения на южных рубежах обороны Ленинграда, а это всё уже была история.
Совсем недавно я перечитывал, готовя цикл радиопередач «Память сердца» (Литература о войне и Победе), фронтовые очерки Константина Симонова. Мелькнули фамилия сравнительно молодого ещё генерала Гречко, его фото. Невозможно было себе представить, что он станет министром обороны! Конечно, с Сердюковым-Табуреткиным его не сравнить, но и с Малиновским – тоже. Негатива было множество! Особенно остро мы с отцом разбирали эти вопросы после того, как я вернулся к нему на Красноармейскую улицу Москвы после двухмесячных весьма тяжёлых и горестных офицерских сборов при Военном Гуманитарном университете при Министерстве обороны. Достаточно сказать, что из Ленинграда на всесоюзные сборы по специальностям «военный перевод» и «спецпропаганда на войска и население противника» поехало 13 человек, а вернулось 12, хотя боевых действий мы не вели…
Отец слушал мои рассказы, курил сигарету за сигаретой и горестно склонял голову: он ТАКОГО не ожидал! Например, такого, что в бачке с перловой кашей, сырой и какой-то тухловатой, я как офицер, дежурящий по столовой, найду распаренную толстенную, как змея, верёвку и окислившийся кругленький слиток от бачка. «Этого у нас не было ни под Ленинградом в сорок первом году, ни под Берлином в году сорок пятом!» – хватаясь за голову, сокрушался отец.
Не стану перечислять всё остальное увиденное и услышанное, а также пережитое. Об этом я ещё думаю написать в самостоятельном, отдельном очерке. Скажу лишь, что отец стал ещё строже читать пьесы на военную тему и однажды при мне довольно резко поругался с тем полковником, который в Главном политическом управлении (а оно работало на правах ОТДЕЛА ЦК, то есть было выше министерства) отвечал за связи с творческими союзами.
Впоследствии я узнал его «директивы»: «Критиковать можно: несвоевременную доставку газет, приготовление недоброкачественной еды из доброкачественных продуктов и недисциплинированность рядового состава!» Прослушав эти «инструкции», один недавний офицер и начинающий прозаик на Всесоюзном совещании литераторов, пишущих на военную тему, встал, попрощался и сказал: «Мне тут делать нечего. Я сам недавно носил офицерскую форму и знаю, что почём!» Дружный хохот встретил подобный «инструктаж».
Лично я был одним из первых редакторов, которые готовили к печати первые повести и рассказы о событиях в Афганистане. Действовал я и как цензор, но кое-что пропускал из того, что никогда бы не пропустил полковник от культуры. Отца тогда уже не было в живых, но я неизменно вспоминал наши споры. В результате я всё же настоял на том, чтобы некоторые из предложенных пьес на совещание драматургов-маринистов не прошли. Отец со мной в итоге согласился. Я для него специально написал спецрецензии, которые ему очень пригодились при отчаянных спорах с чиновными лицами.
А ведь тексты пьес и кандидатуры были уже одобрены на весьма высоком уровне! И тут я напомнил отцу ситуацию из фильма «Твой современник»: видный строитель САМ отказывается от СВОЕГО проекта, увидев на месте стройки роковые последствия продолжения производства.
Как вы уже могли убедиться, наши отношения, прямо скажем, не очень характерны для отношений обычного отца и обычного сына. Между прочим, к своим ровесникам, писательским детям, я относился очень ревниво, вёл некоторые записи в особый блокнотик на предмет, кто на что претендовал и кто кем стал. Не вдаваясь в подробности и не называя имена и фамилии, скажу, что в творческом плане высот достиг только я. Другое дело – финансы, жилищные условия. Тут я похвастаться ничем не могу. А ведь у знакомых и даже приятелей отца из числа его коллег тоже были взрослые сыновья, кое с кем из них я был знаком, общался, у одного даже бывал дома. Могу сказать, что ревность была страшная, хотя престижа и денег у них почти всегда было куда больше. А моего друга Славу родители-пьяницы бросили в 12 лет. Шёл он по наклонной, но, к счастью, встретил меня, а дальше – огромный труд, терпение, споры, даже ругань между друзьями, но и результаты сказочные – феноменальный рост творческий, а затем и должностной! Отец мне говорил не раз: «Вот тебе тема – судьба твоего друга! Чем не пьеса!» Я с ним не мог не согласиться, но не мог ещё никак и отъединиться от слишком горячего пережитого.
Вообще, завершая это СЛОВО ОБ ОТЦЕ, я ловлю себя на том, что вспоминая о нём, я постоянно вспоминаю спектакли, фильмы, которые мы вместе видели, книги, которые мы читали, дискуссии, в которых мы участвовали.
А всё начиналось ещё с дошкольного возраста. Сперва были традиционные для малышей походы в Зоопарк, в Ботанический сад, затем пришла пора цирка, увлечения дрессировкой. Потом мы стали всё чаще и чаще вместе ходить в кино. Представьте себе, я помню, что и где и примерно когда мы смотрели!
Конечно же, в дошкольные годы и в младших школьных классах водил меня отец на детские праздники, новогодние утренники, чаще всего – в Дом писателей имени В. В. Маяковского и в Дом кино, который тогда помещался на Невском проспекте в кинотеатре «Новости дня», где шли преимущественно документальные и научно-популярные фильмы. Припоминается один такой праздник в первые дни очередного нового года в Доме кино. Видится мне большущая ёлка, море света, море музыки слышится… Среди ребят, детей кинематографистов, проводится конкурс на экспромтное исполнение танца, песни, стихотворения. Но мы-то понимаем, что родители многие о конкурсе знали заранее и своих деток «жучили» репетициями. Лично я о конкурсе не знал, но наизусть мог исполнить песенки Чиполлино, да в последний момент не решился, хотя очень внимательно просмотрел «программы» своих будущих соперников по жизни. В принципе, шутки шутками, а их уже готовили к экзаменам в театральных вузах и в вожделенном ВГИКе. Не знаю, чья как сложилась судьба. Сценаристов и режиссёров, по моим данным, из ленинградских ровесников не вышло, а собирать материал на актёров я не стал: они мне не соперники.
Отец очень сожалел о моей нерешительности: «Ну, друг мой, ты явный главный приз прошляпил! Смотри, какими слабыми были другие номера!..» Я кивнул головой и отправился смотреть программу мультфильмов, предварительно получив увесистый мешочек со всякими вкусными подарками. Поговорив со мной, сотрудницы Дома кино ещё два таких мешочка из кабинета вынесли и мне вручили: «Следующий раз будь смелее и не теряйся!»
… А я и не стал теряться! Однажды экспромтом в 70-е годы выступал перед тысячной публикой у памятника Кирову в городе Кировске 9 мая – читал свои стихи о победах на Невских берегах.
Конечно, кое-какие рядовые произведения из текущего репертуара подзабылись. Ну, скажем, в памяти лишь контуры детского спектакля на сцене Дворца культуры имени Ленсовета о пиратах, уже упоминавшаяся мной выше «Снежная королева», а вот «Бег» Булгакова в постановке Леонида Вивьена могу воспроизвести довольно точно. Смотрели мы его вместе с режиссёром, сценаристом и критиком, впоследствии преподавателем киноведческого факультета ВГИКа Николаем Николаевичем Кладо. Думал ли я тогда, что именно Кладо станет моим главным консультантом по дипломной работе на факультете журналистики «Публицистика в творчестве Александра Довженко»\ Сколько же это прошло лет между нашими первой и последующими встречами? Чуть больше шести! Вот так, с ориентацией на будущее, мы и вели с отцом наши уже общие профессиональные разговоры. Я уже не говорю о том, что почти всегда мы шли за кулисы и знакомились с авторами спектаклей. Так меня отец познакомил с Леонидом Сергеевичем Вивьеном и исполнителем роли генерала Хлудова Николаем Константиновичем Черкасовым, с которым до войны его познакомил режиссёр-постановщик фильма «Пётр Первый» Владимир Михайлович Петров. Напомню, что в фильме о Петре Черкасов блистательно играл роль Алексея-царевича.
В Москве подобных спектаклей вместе нам посмотреть не удавалось: всё было как-то куда ниже уровнем. Я это говорю не потому, что в восторге от Булгакова, напротив, я его не принимаю полностью, но Пушкинский театр тех лет – это было чудо, не то что ныне…
В возрасте 10 лет в 1956 году я вместе с отцом смотрел фильм «Убийство на улице Данте». Сравнительно недавно его повторяли по каналу НТВ в очень позднее время. Я смотрел фильм повторно спустя полвека и вспоминал почти до мелочей наш с отцом просмотр, его комментарии, его длительный экскурс в историю Франции, французского театра, Движения Сопротивления… Такова была сила его слов.
Один из моих ровесников, сын крупного чина из Министерства культуры СССР, жаловался мне в 1963 году, что его отец не даёт ему смотреть приключенческие и особенно детективные фильмы и спектакли. Мой отец смотрел на вещи шире. Мы вместе с ним видели фильм по роману его ещё довоенного ученика Владимира Беляева «Старая крепость», фильм про диверсантов «Тень у пирса», уголовно-политический детектив «Дело номер 306». И каждый раз – разбор, анализ, точные замечания, контрольные вопросы. Например: «Помнишь, убегая из чужой квартиры, диверсант вдруг останавливается и начинает старательно поправлять настенное зеркало? Именно на это зеркало вскоре обращает внимание следователь, предчувствуя сохранность отпечатков пальцев. Веришь ты в такую ситуацию?..» Я, естественно, решительно заявляю, что не верю: такой опытный враг не стал бы без перчаток или, на худой конец, носового платка трогать стекло! Отец доволен: «Молодец! Я не возражаю против твоего чтения книг из воениздатовской “Библиотеки приключений”. Это, конечно, третьесортная литература, но познавательная, увлекательная. Сюжетостроение порою можно оценить на ОТЛИЧНО. Язык, правда, бедноват. Но в целом вреда от таких книг нет: они растят патриотов. Лучшее из того, что я читал за последнее время, это роман «Над Тиссой». Правдоподобно, неожиданно и даже сердечно. А вот “Кукла госпожи Барк” куда слабее, но содержит большой познавательный момент – юный читатель многое может узнать о Персии».
В кинотеатре «Арс» мы смотрели французскую кинокомедию «Песни на улицах». Отец мне подробно рассказывал о том, что несмотря на занимательность, даже увлекательность это типичная мелкобуржуазная лента. Особого вреда она нашим зрителям не принесёт, но и пользы – тоже. Египетские фильмы «Фальшивая монета» и «Борьба в долине» я прозевал, но отец мне очень подробно о них рассказывал и хвалил некоторые сценарные и режиссёрские решения. Особенно ему по душе пришёлся динамизм «Фальшивой монеты», умение держать зрителей в напряжении все полтора часа.
«Зелёную гостиницу» и фильм о событиях в Гиблартаре «Сети шпионажа» отец также поведал мне очень подробно и тоже с разбором: «Вот видишь, вроде бы детективы, а ведь есть глубина, несомненно мастерство, очень ярко выявлено время. А средства – самые скупые!» Когда мы вместе смотрели в Москве в кинотеатре «Россия» один из первых широкоформатных фильмов, отец в итоге дал такое заключение: «Возможности экрана громадны, возможности авторов – на нуле!»
Однажды мы вместе отправились на фестиваль «Великий немой». На Невском проспекте висели афиши и транспоранты, посвященные русскому дореволюционному кино и первым немым советским кинолентам. Решили посмотреть «Красных дьяволят». Оба дали решительно отрицательные отзывы. «А Мах-но-то какой! Каким идиотом, сбежавшим из психушки, показан! Я ведь дважды с ним встречался: сперва как пленный, а затем как переводчик на его и Петлюры переговорах с Раковским о сдаче ими оружия. Коварен, нахален, но ведь и хитёр, и умён! А тут его, как куклу, мальцы вяжут! Да и сама повесть Бляхина, по которой поставлен фильм, ниже среднего уровня!» Спустя многие годы я перечитал эту повесть. Действительно, уровень ниже среднего.
Однажды отец взял меня на просмотр антиалкогольного киноальманаха «Злодейка с наклейкой». Как вы уже догадались, эта злодейка – бутылка с водкой. «Вотуж это вовсе не педагогично брать ребёнка на фильм про пьянку!» – возразит кто-нибудь из вас. Но, во-первых, у нас в семье ЭТОТ вопрос никогда не стоял, во-вторых, отец, хотя и не был стопроцентным трезвенником, как я (единогласно при Горбачёве избирался в Совет по борьбе с алкоголизмом в Университете и в Лениздате), но я лично никогда отца пьяным не видел. А мой друг, горестно качая головой, вздыхал: «А я своего – ни разу не видел с малолетства абсолютно трезвым!» Таким образом, нас интересовала ДРАМАТУРГИЯ и РЕЖИССЁРСКИЕ ТРАКТОВКИ. Некоторые короткометражки, вошедшие в киносборник, помню до сих пор. Они все были сценарно решены слабо, и мы с отцом их разнесли в беседах в пух и в прах.
Таким образом, шла непрерывная, увлекательная, ненавязчивая учёба. Вместе мы оценивали новые картины, скульптуры (очень полюбился нам в 1957 году Пушкин скульптора Аникушина!), песни-новинки, но более всего нас волновали экран и сцена.
Несомненно возникает вопрос: «А показывал ли вам отец детские киноленты?». Да, мы вместе на утренниках смотрели фильмы по произведениям Аркадия Гайдара и фильм приятеля отца режиссёра Эйсымонта «Огни на реке». Авторам этих кинокартин мы единогласно поставили по четвёрке: вроде всё верно, а подлинных художественных открытий нет. С Аркадием Петровичем отец был лично знаком, они не раз беседовали с ним о Гражданской войне, о грядущих испытаниях. Гайдар спрашивал отца о его походах на Западную Украину и в Западную Белоруссию, особенно его волновала Финская эпопея. Сам он чувствовал себя неважно. Как помнит отец, по лестнице поднимался с трудом. Ныне, когда на классика русской советской детской литературы обрушился поток грязи, в том числе – и из уст родного внука, так называемого Егора, ввергнувшего Россию в экономическую пропасть, нельзя не сказать, как минимум, о двух моментах. Врагами раздувается миф о пьянстве Гайдара-Голикова (напомню, что его последний воинский документ был выписан на ГОЛИКОВА, так что сынок и внучок никакого права брать для фамилии псевдоним не имели!). Отец в студёный зимний вечер предложил Аркадию Петровичу в ресторане по рюмке коньяку, но Гайдар на него замахал руками: «Что ты, что ты, Коля! Я ни капли в рот не беру!» Второй миф уже не бытовой, а политический: будто бы Аркадий Гайдар сдался немцам, более того, перешёл на их сторону! Абсолютно исключено! В среднем, но весьма добром и добротном фильме «Аркадий Гайдар. Страницы жизни» (роль Гайдара очень убедительно играл артист Мягков) психологически достоверен эпизод: увидев детское горе малышей-беженцев, Аркадий Петрович остался с ними, отказался выбираться на Большую советскую землю, пока хоть чем-то не поможет малышам. Гайдара отец очень любил и ценил. Они, встречаясь, часто вели разговоры о детском кино и его возможностях.
Текущий кинорепертуар тогда, в 50-е годы, богат и разнообразен не был. На память приходят две иностранные киноленты, которые мы видели с отцом в кинотеатре «Экран» на Большом проспекте: «Танцующий пират» и «Женщина без прошлого». Первую из них отец оценил на пять за занимательность и быстроту сюжетостроения (пираты похищают берегового пленника и заставляют его на палубе и в камбузе работать на себя), а второй фильм – за неожиданность вымысла: женщина-скрипачка теряет полностью память после аварии и не может вспомнить, кто она, кем была… В целом уровень этих лет был достаточно высоким. Народ валил на сеансы битком! Билеты мы достали с трудом. Отец шутливо меня спрашивал: «А как ты думаешь, почему пират танцующий?» Я, подумав, отвечал: «Это – художественный образ, папа: “Пират” – название корабля, а корабль этот танцует на волнах, как танцор!» Отец долго смеялся, но похвалил меня за «фантазирование и образность». Однако всё оказалось проще: похищенный пиратами молодой человек был танцором!
На некоторые фильмы отец меня водил преимущественно с познавательно-учебными целями. Так мы смотрели фильм о Джордано Бруно «Костёр бессмертия», после чего весьма долго обсуждали, говоря современным языком, вопросы философии астрономии и клеймили злобу и коварство католической церкви, и игровой фильм о Лейпцигском процессе над Георгием Димитровым (увы, забыл название!). После этого сеанса в кинотеатре «Свет» мы долго гуляли по Большому проспекту и говорили о возникновении фашизма в Германии, провокациях фашистов с поджогом рейхстага, о судьбе самого Димитрова. Знал бы отец, как цинично будет разрушен его мавзолей в Софии! А мне посчастливилось побывать в Болгарии и на родине Димитрова, и в его мавзолее. И опять же, спустя многие годы я вспоминал исторические уроки своего отца.
Отличался он одной особенностью: порою в двух словах он давал снайперски меткие характеристики либо спорным фильмам, либо уж тем, которые находятся за гранью даже среднего уровня. Вот примеры. «Гусев, физик-ядерщик, главный герой фильма 'Девять дней одного года” – парень в исполнении Баталова обаятельный, но ведь для него НИЧЕГО не написано! Он не говорит, а бубнит!» «Вроде бы всё верно и, казалось бы, достоверно в киноленте "Весна на Заречной улице”, но весь фильм в целом – весьма хитро замаскированная лакировка и школьной жизни, и тем более – заводской!» «Отличный замысел, редчайший пример использования исторически конкретного героя в публицистическом фильме об истории. Шульгин играет себя, ему подыгрывает актёр, играющий роль абстрактного историка, для которого тоже ничего не написано, ибо он просто сопровождающий. Чем дальше, тем скучнее смотреть фильм о ярчайших событиях в истории России начала XX века!» (Речь шла о фильме Ф. Эрмлера «Перед судом истории»). Аналогичный приём, но уже несравнимо лучше был использован итальянским кинорежиссёром Ренатто Кастелани «Жизнь Леонардо да Винчи», где тоже несколько условный историк и остроумен, и ироничен, и НЕОБХОДИМ по ходу развития действия.
«Когда я в названии фильма читаю слово "ДЕВУШКА”, я уже настораживаюсь: это уровень ниже среднего». И действительно, крайне низок уровень комедий «Королева бензоколонки», «Девушка с гитарой», «Осторожно, бабушка!» (как видите, здесь не девушка, а бабушка, но она уровень фильма опускает ещё ниже, чем те экранные девушки). А вот комедию «Неподдающиеся» я от нападок отца защищал: она так и осталась одной из лучших комедий середины 50-х годов.
С большим интересом присматривался отец к нарождающемуся индийскому кино, особенно к творчеству сценариста Абасса. Если фильм «Бродяга» у отца получил четвёрку с минусом, то «Господин 420» – твёрдую пятёрку! (Поясню, что в уголовном кодексе тогдашней Индии статья 420 – это мошенничество.) Обе роли с блеском играл Радж Капур. Этот фильм мы разбирали с отцом несколько вечеров: есть что анализировать!
Волновали отца и произведения тех, кого он знал и ценил, – будь то фильм по роману Константина Федина «Первые радости» (оказывается, об этом замысле отец беседовал и с Фединым, и с Александром Довженко), кинолента «300 лет тому», поставленная любимым режиссёром отца Владимиром Петровым. На такие сеансы мы с отцом мчались, отложив все дела (с особым удовольствием я откладывал уроки по физике, химии и математикам!). Встаёт в памяти контрольный вопрос отца: «В фильме о воссоединении Украины с Россией большую роль играет цвет. В довоенном фильме на ту же тему “Богдан Хмельницкий” цвета, конечно же, не было. Как ты думаешь, насколько в новом фильме 1954 года производства оправдан цвет? Какие цветовые решения ты запомнил?» Я через несколько минут отвечаю отцу: «Нарядна и многокрасочна одежда наших запорожских казаков, членов казацкой старшины… Словно сгусток крови – рубин на перстне подруги Богдана в тот момент, когда она собирается отравить его: ведь, как я понял, под камнем – капсула с ядом!» «Вот видишь, – восклицает отец, – цвет играет второстепенную роль. В целом цветодраматургия не проявила себя!»
… Незабываемая такая сцена. Я уже давно взрослый. Отец давно уже москвич. Я в очередной раз приезжаю к нему. После весьма насыщенного трудового дня (у писателей это не то понятие, что у чиновников или рядовых служащих!) мы оба лежим: он – на своей тахте, я – на диване, на котором кокнули Петра Третьего, и читаем. Мы сегодня – счастливые люди! У отца на стуле близ тахты громоздятся тома «Истории советского драматического многонационального театра», а у меня – первые тома «Истории советского кино». Оба читаем мы быстро, по-редакторски. Тут же обмениваемся впечатлениями, зачастую начинается спор. Я, конечно, спектакли довоенные не видел, но некоторые довоенные фильмы у меня в творческом активе. По мере приближения хронологически к нашим дням споры становятся жарче: тут уже и я лично кого-то знаю, о ком-то писал как журналист (семь лет был внештатным собкором украинского журнала «Новины кшоэкрану») или как критик. Общее число просмотренных мною кинолент уже превышает аналогичное число у отца: около ДВУХСОТ в год! Отец из дома выбирается редко и смотрит киноновинки преимущественно в Центральном Доме литераторов. А я – повсюду!
Редчайший пример творческой дружбы отца с сыном!
Настала пора и мне держать экзамен перед отцом. Прочитав мою дипломную работу, он погладил рукой папку с завязочками и изрёк: «Что ж, научился писать выше среднего. Но можешь ещё лучше. Не останавливайся. Дальше, дальше и дальше смотри!»
В 1976 году я приехал в Москву уже не в гости, не в командировку, а как делегат Шестого Всесоюзного совещания молодых писателей. Решил я участвовать в работе семинара критиков. Он был единственный, в то время как семинаров поэтов и прозаиков было много, даже я бы сказал, многовато. Оппонировал, выступал, делал доклад… Почти одновременно вырывался в редакцию журнала «Искусство кино», где был готов номер журнала с моей первой в жизни ЛИСТОВОЙ (почти 23 страницы на машинке!) статьёй. Вечером меня встречает отец, жмёт мне крепко руку и говорит: «Сегодня я, кажется, доволен тобой: тебя одновременно, не сговариваясь, похвалили мне Виктор Ксенофонтович Панков и Евгений Данилович Сурков!» Поясняю – профессор Панков был нашим руководителем семинара критиков литературы, а профессор ВГИКа главный редактор журнала «Искусство кино» Сурков – моим личным редактором.
… Августовский лес. Идут по грибы отец и сын. Отец только что приехал на снятую нами дачку в пригороде Ленинграда из города, где смотрел фильм «Адские водители». Он под сильным впечатлением. Грибы – по боку! Идёт обстоятельный рассказ о фильме с непременными вопросами в мой адрес: «Почему авторы фильма пошли на показ автокрушения после того, как водитель, роль которого играет Ив Монтан, уже получил чек на крупную сумму? Почему режиссёр показывает его мёртвую руку, судорожно сжимающую чек, крупным планом? Можно ли было решить финал иначе и показать героя с пачкой франков, в ресторане или в гостях у невесты?..» Я решительно отвечаю отцу: «Нет!» Отец кивает головой. Он ответами доволен. Сын – не студент режиссёрского или сценарного факультетов ВГИКа, не слушатель Высших режиссёрских или сценарных курсов, а перешедший в ШЕСТОЙ класс школьник!
Так и только так надо готовить творческие кадры! Ранняя специализация – основа основ. Так было в древности, так было в Средние века, и именно такое отношение к творчеству привело к триумфу эпоху Возрождения.
Н.Н. Сотников. Напоследок
…Хабаровск, конец августа 1966 года. Прощаюсь со своими друзьями-товарищами и жду автобуса в аэропорт. Вдруг мне навстречу степенно движется тогда – прозаик и очеркист, а в годы Второй мировой войны – представитель ТАСС в Харбине и первоклассный советский разведчик масштабов Рихарда Зорге Всеволод Никанорович Ива́нов, с которым мы за мои два хабаровских месяца практики на радио и в газете «Молодой дальневосточник» сумели не только познакомиться, но и подружиться. Иванов – достопримечательность всего города: его знают и ценят библиотекари, сотрудники вузов, конечно же, журналисты…
Всеволод Никанорович подходит ко мне: «А я в эту пору, как всегда, – из библиотеки! Много, очень много интересного сегодня нашёл и освоил. Кое-что прямо в текст моей новой книги о Пушкине пойдёт. А вы, я вижу, уже – домой. Кончилась практика. Ну, что ж, не забывайте нас и меня, надеюсь. Немало у нас с вами интересных бесед по вечерам было… Так вы куда: сразу в Ленинград или же сперва в Москву, к отцу?.. Батюшке кланяться велите[181]! Мы с ним во время его приездов в Хабаровск славно подружились. Вообще-то вам, Николай Николаевич, очень повезло, что у вас такой отец, а ему, я думаю, – что у него такой сын».
1978–2016
Москва – Ленинград
Николай Ударов. Через весь двадцатый век. Три поэмы об отце
Гоголь-моголь. Моя октябрьская поэма
… и революционная мелодия — ведущая мелодия моя. Евгений Евтушенко Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи. (Из песни «Там, вдали за рекой»)«Мандат
Дан сей Сотникову Николаю в том, что он действительно является Военкомом санпоезда № 2234.
Тов. Сотникову разрешается бесплатная подача телеграмм с надписью «Военно-срочная», право разговора по прямому проводу, ношение и хранение холодного и огнестрельного оружия системы «Браунинг» № 269487, проезд в штабных, воинских, делегатских и санитарных поездах.
Все революционные, военные и гражданские власти обязаны оказывать тов. Сотникову всяческое содействие при исполнении возложенных на него по службе обязанностей.
Вышеизложенное подписями и приложением печати удостоверяется»[182].
– Нет, подожди, послухай, комиссар! Нам эти яйца не проходят в глотку. Мои бы их не видели глаза. Эх, размочить бы эти яйца водкой! У нас же, комиссар, горилка есть. Я сам ходил смотреть… для интереса… – Пора бы знать тебе, Сивенко, честь! Взята была горилка для компресса! У нас пока имеется запас, но только лишь для медицинских целей. Вот плохо с разносолами у нас. Ты прав, что яйца поезд одолели! Хоть ты вовсю стараешься, начпрод, всё досыта не накормить санпоезд. А что без аппетита ест народ, я сам, сказать по правде, беспокоюсь. Ты ведь из местных. Сделаем привал, ну, где-нибудь большую остановку. Как эти яйца в прошлый раз достал, достал бы хлеб да проявил сноровку! Бойцам израненным неплохо бы сальца (хотя бы чисто в медицинских целях!), да рушников, да свежего сенца! Итак, тебе приказ – узнать о ценах! И вот санпоезд красный дальше мчит — в июль, по украинскому раздолью. Какое – «мчит», какое там «летит»!.. Пришли слова о скорости невольно. Давно уж на исходе уголёк. Дрова пошли почти сырые в дело… – Юхримыч, побыстрее б ты не мог? Волам, и тем догнать нас захотелось! – А-а, комиссар! Ты как сюда попал?.. По крышам, говоришь, прошёлся? Ты лучше бы кого-нибудь послал. Смотри-ка ты, какой циркач нашёлся! – А я и впрямь работал циркачом. Бродячий цирк к нам приезжал в Полтаву. Я в жизни не жалею ни о чём — всё, что узнал, всегда со мной по праву. Я стопудовых гирь не поднимал, не стал я и воздушным акробатом, но фокуснику часто помогал и честно получал свою зарплату. Он выходил и громко объявлял: «Почтеннейшая публика! Я знаю “Войну и мир” (я книги раздавал…). Из головы, на память прочитаю любой отрывок из любой главы. Страницу и строку мне называйте. Я буду вам роман читать, а вы меня по этим книгам проверяйте!» Ну, а потом – аплодисментов шквал! Успех такой самим борцам не снился! Я фокуснику так и помогал, и наш секрет ни разу не раскрылся. – Чего-то я, Микола, не пойму! Роман огромный – наизусть и с ходу! И как же помогать ты смог ему, когда такая в цирке тьма народу? – А тут, Юхримыч, очень прост секрет: у фокусника воротник с оглоблю. Он в шаровары толстые одет, в которых провод увидать попробуй! Обыкновенный телефонный шнур. Наушники внутри, под кружевами. Не воротник – а целый абажур! С огромными сорочка рукавами. И тут секрета нет, ответ простой. Пусть публика теряется в догадках! Роман в рукав не спрятать – он большой, зато в рукав уместятся закладки! А дальше этот провод шёл в туфлю, где на подмётке был контактик медный… – Я со́ смеху помру, не утерплю Ну, угодил своею сказкой мне ты! А то стоишь, воюешь с мелкотой: помощник с кочегаром – неумехи! Пусть отдохнут! Постой ещё со мной. …А были в этом проводе помехи? – Нет! Слышимость отличная была. Шнур под ковром катился за арену. Ответ страница каждая ждала — я так сидел, чтоб слышать зал и сцену. – От, ловкачи вы, братцы, циркачи! Платил тебе хозяин-то не густо? – Я целый год сумел себя учить и приобщался заодно к искусству. Отец послал в гимназию сестру, а мне определил он путь в реальное.. – Так вы богаты, как я посмотрю!.. Вот у меня, к примеру, лишь начальное! – Да нет, какой, Юхримыч, там доход! Отец – в депо (и слесарь он, и токарь). Всегда учёный уважал народ, но сам учился очень мало только. …Юхримыч, поршень у тебя стучит! Проверить надо. Нет ли запасного? – Ты дело паровозное учил?.. – Отец давал какие-то основы. Ну, всё! Давай, буди своих ребят. Э! Да у них тут сеновал, не тендер! Я вам пришлю десятка два гранат. Винтовки к бою вычистить отменно! Сейчас, Юхримыч, будем тормозить. Состав – на запасной, но так, чтоб сразу на основных движенье перекрыть и уходить – по моему приказу. Здесь где-то банды Муськиной гульба, и фронт наш с беляками весь изломан. …Вот и салют! Хорошая пальба! А ведь стреляют наши, из вагонов. Быть наготове. Топку не гасить. Юхримычу вы, хлопцы, помогите: там надо что-то смазать, починить… А главное – подходы берегите. Лишь паровоз наш был бы на ходу! Все остальные одолеем беды. …Смотрите, хлопцы, пленных к нам ведут. Допросим их, ну, а потом – обедать. – Яки красавцы, комиссар, побачь! Ось эти трое – злю-ю-щие бандиты! За нами по путям летели вскачь: гадали, шо у нас нема защиты. Мы наповал сразили пятерых, а этих полонили, повязали. Коней вот жалко – пристрелили их. Они, поранетые, жалобно так ржали! – Ну? Что у вас со зреньем? Отвечать! Вы обходили поезд с поворота. Допустим, не умеете читать, но в этих знаках поняли хоть что-то? Вы красный крест не видеть не могли. Вы хуже самых грязных мародёров. Вам по тифозным только лишь палить. Да вы с души не смоете позора! Советская крепка в уезде власть. Вы все в ЧК пойдёте под конвоем. Ну, а в дороге расстрелял бы вас — без ритуала и не перед строем. Вам я, как вижу, нечего сказать. Тогда вопрос последний мой: «Где банда?» – Вёрст пятьдесят к Житомиру назад. Казала маты – нам туда вертаться, до хутора, у Ясьного села. А мы – отряда нашего разведка. «Отряд»? И «мать»? Хорошие дела! Слова – не подходящие на редкость! Какая «мать»? Какой вы там «отряд»? Вы – банда, а по Муське плачет пуля! Ну, всё, Сивенко, собирай ребят. За мной, на станцию. Шесть хлопцев – в карауле. …Ребята, повезло! Здесь и ЧК! Свиенко, всё доложишь по порядку. Да не тяни рассказ издалека — у них своих забот и так в достатке! Спроси про обстановку на пути. Патронов попроси, не постесняйся. А мне на телеграф пора идти… – Не беспокойся, комиссар, всё ясно! – Приказ такой – движенье продолжать, рассчитывать на собственные силы, из тех, кто на поправку, – взвод создать, держаться ближе на восход, к России… – А у тебя?.. – Бандитов этих сдал. Нехай их всих допросют, да поярче! Я пулемёт с патронами достал. А на жратву… опять всё те же яйца! Ой, лишенько! Ну, хлопцы нам дадут! Добыл ещё с трудом три пальяницы. На деньги что купить – напрасный труд, а на обмен – ничто нам не годится. От куркули! Всё держат в погребах, А бедные голодные и сами. Упрашивал на совесть, не на страх. Ось две корзинки с ихними дарами. Кто – яблочко для раненых бойцов, кто крынку молока, а кто узвара, малинки, вишенки… В конце концов — вёрст на сто! Потрудились мы недаром! – Спасибо вам, ребята, от души! Теперь бы уголька чуток да сена!.. Пошли скорее к поезду, пошли! Чего-то кошки заскребли на сердце… О, да у нас тут митинг!.. Или нет?.. – Троих придётся хлопцев здесь оставить. Такие хлопцы! Жить бы по́ сто лет Таким бы хлопцам памятник поставить! Врача, прошу, Микола, не буди! И не давай разгона санитарам — их было, прямо скажем, не спасти: сквозные раны, точные удары. Да, я – лекпом, не бог да и не маг! Я старый фельдшер по полтавским сёлам. Ты приспускай, Микола, красный флаг, обряд свершать скорее невесёлый. А речи ты толково говоришь. Ободри всех, да и меня, пожалуй… Какая-то тревожащая тишь… Опять стреляют где-то за вокзалом… – Товарищи червоные бойцы! Мы оставляем здесь, под этой вербой, тех, кто сражался, не жалея сил, за нашу власть вставал под пули первым. Их было трое: Савченко Мусий, цыган Роман (остался бесфамильным) и Разговоров Николай Васильевич — их беляки нещадно изрубили! О них мы знаем только лишь со слов однополчан, соседей по вагону. В какую даль войной их занесло! Кому письмо послать? В какую сторону? Была когда-то у Романа степь, у Савченко – садок вишнёвый, хата, а наш старик чуть было не ослеп, работая всю жизнь в донецких шахтах. У каждого из них – своя судьба. У каждого из них – своя недоля. У каждого из них – одна борьба. У каждого из них – мечта о воле. Мы с вами – на колёсах гарнизон. У нас у всех задача боевая — вернуться в батарею, в эскадрон, скорее – в строй, болезни побеждая! Но и сейчас отряд мы боевой, хотя не бронепоезд, а санпоезд. Когда такие молодцы́ со мной то о победе я не беспокоюсь! …По ко́ням братцы То есть, по местам! Юхримыч, погуди-ка на прощанье. Дорога впереди у нас чиста — от банды лишь одни воспоминанья. Накрыли тех бандитов час назад — нам сообщили только что с вокзала. И в нашей топке не дрова горят — ребята наши уголёк достали! Его нашли в заброшенном депо, у водокачки, там, за поворотом. Как видно, склад задумали давно — соорудить успели тайный по́дпол Кто отыскал? Наш кочегар Юрко́! Кто натаскал? Да все, кто мог, старались. Десятка три отличнейших мешков об уголёк донецкий разорвались. – Да не горюй об этих ты мешках. Мы обождём… Была бы сытой топка! – А я вот, комиссар, всё о харчах. Не лезут эти яйца больше в глотку! – Не обещаю вам борщей и щей, но вот супишко сварим из конины. – У нас по сёлам не едят коней… – Не слухайте вы сукиного сына! – А вот у нас по сёлам недород, всех одолела напрочь голодуха! – Подавится кониною народ! – Замолкни, гад, а то получишь в ухо! – Вы что, братва? Объелись белены? Своих, к тому же раненых, обидеть! Ну, не могу испечь я вам блины. Я не волшебник, вы уж извините! Я вот один придумал вам сюрприз и скоро вам открою эту тайну. Сивенко, по вагонам собери стаканы, кружки… Ложек нет случайно?.. Желательно – поменьше… – Для чаёв?.. Имелось где-то дюжины четыре. – Ну, молодец, начпрод! Всё достаёт, когда не пьёт, когда бывает в силе! Не обижайся, верю, что не пьёшь. К тому же, вся горилка – у лекпомов. Теперь белок ты в кружку перельёшь, по ягодке и сахарку в стаканчик… Понял? – Глядите-ка – цветные облака! – А смачно як! – Вот это – гоголь-моголь. – Эх, пльянички бы теперь куска!.. – Для раненых тяжёлых – нынче мо́гем. – Не «мо́гем», не «могём», а «можем дать»! И в этом я с тобой, начпрод, согласен. – Какая вышла вкусная еда! – И я не кушал ничего прекрасней! – Давай, ребята, гоголи крути! Смотри-ка – хлопцы враз повеселели! А мы теперь не едем, а летим… – И як цари, валяемся на сене! – Ой, хлопцы, красотища-то вокруг! Голодные, её не замечали… – Я тоже думал – всё. Пришёл каюк. Поспал, поел – и сразу полегчало! – А воздух! Прямо хочешь жить! – Наш поезд, братцы, птицею несётся! – Ты, комиссар, о песнях расскажи. – Як гарно на Укра́ине поётся! – И небосвод сегодня синий-синий!.. Пшеница в рост выходит на поля… – А всё же, братцы, гарна Украина, Россия гарна, да и вся Земля!Конец мая 1978 года – июнь – 13 июля 1987 года
Малеевка Московской области – Ленинград
Закатное солнце в Абрамцево
В Абрамцево такая тишина, как будто бы Москва недостижима. Здесь старая не очень старина, и новизной не очень дорожим мы. Январским снегом всё заметено. Сугробы – как стога в Рязанской области. В краю Рязанском не был я давно. Там гордость все излечивает горести! Стога такой отважной высоты — не наглядеться, не налюбоваться!.. И это всё, земля родная, – ты! С тобою нам вовеки не расстаться. Абрамцево – небесный островок среди земли обычной подмосковной. Как сохранить себя он смог во времена для тишины рискованные? Словесности Земли Российской рай. Здесь жили Тютчев, Гоголь и Аксаков… Неповторимый заповедный край. А дальше, за холмами, за лесами уже совсем другие имена, иного духа древняя обитель. Быть может, подревнее времена, но для души молитвы не целительны. Вовек отрада для неё – слова словесности изящной и разящей, такие откровения таящей, что перед ней молитвенность мертва. Направо и налево есть места, желанные для отдыха простого. Есть в мире неземная красота — земной красы возвышенное слово. Я убеждался в этом сотни раз, когда пришлось постранствовать по свету, что красота, конечно, не мираж и не звезда небесная заветная. Она – как песня в скучной тишине. Она – как тишина поющая. Она – ответ на все вопросы мне и новость, что душой тотчас получена! Талант и красота всегда в родстве. Причудливы они и своенравны. От них исходит негасимый свет. Такой же свет у истины и правды. …Ну, вот! Вступленье я и завершил. Покуда сочинялись эти строки, катил я, запоздалый пассажир, по этой, не ахти какой дороге. И – никаких прелюдий к красоте! Обычные дома и перелески… Вдруг на какой-нибудь простой версте поэзия воскреснет… Сперва промчит в Мураново[183] лесок, затем пройдёт в Абрамцево дорога… Ещё одна – теперь наискосок… До красоты идти совсем недолго. Перрон как всюду… Пыльная листва… И первый шаги не впечатляют… Но первые высокие слова в блокноте неразлучном проступают. Дорога повернула у леска, и показалось мне, что я в Прибытково, и мне всего лишь десять лет пока, и открывает мой отец калитку мне. Мы жили в первый и в последний раз от первых гроз до заморозков – летом. Домишко ветхий выручил всех нас. Шестьсот рублей платили мы за это. Всего шестьсот, по тем-то временам! По старым твёрдым благодатным ценам!.. Пришлось, конечно, поработать нам, и навели уют мы постепенно. Хозяйка наша просто замерла: – Ну, впрямь дворец какой, а не времянка! — Впервые вместе вся семья жила и даже в лес ходила спозаранку. Лесок был так себе, скажу я вам, но попадались рыжики и грузди. …Вот налетит воспоминаний шквал — и столько сразу радости и грусти! Сюда я прямо как-то угодил, свернув случайно с Киевского тракта. Мотор горячий мой совсем остыл, а я во всём здесь находил отраду. Следов моей времянки не найти, но вижу ту же самую дорогу, и так же туча на меня летит, и так же комаров под вечер много. Но в окнах свет сильней и холодней. Нас грела керосиновая лампа! И сказку «Чиполлино» перед ней разыгрывал как будто пьесу папа. И каждый вечер продвигались мы вослед за этим лу́ковым парнишкой. Белела нам сирень в окно из тьмы, и нам казалось, что темно не слишком. И сон тогда скорее приходил, и нам рассвет казался очень скорым. …Прибытково своё так я любил — впервые вовсе не хотелось в школу! Воздушный змей взлетал под облака. Его мы очень прочно мастерили! Так мы напротив хвойного леска легко и очень дружелюбно жили! Топили печь, ходили по грибы, и я внимал причудливым рассказам. В рассказах этих – отблески судьбы. Я им навек пером своим обязан! В то время на киноэкранах шли воистину отличные картины. Отцовские рассказы помогли мне их во всей красе постигнуть. Меня рассказы эти увлекли. Мне этот лес казался кинозалом. Так дни неторопливые текли. Я к этим дням испытываю зависть. Непрост о содержании рассказ. В нём проявлялись чёрточки учёбы. Их повторить я не смогу сейчас, но знаю, что они – высокой пробы. Когда я те же фильмы посмотрел уже другой, во времена другие, то многое знакомым находил — ведь мы картины эти проходили! Италии народные черты… А хэппиэндов нету и в помине! Великое искусство красоты поведать смело о земле и мире! И «Адские водители»[184] неслись, и «Машинист»[185] во снах своих вёл поезд, и слово «Крыша»[186] означало «Жизнь»… Мы ждали «Неоконченную повесть»[187]. Ленфильмовский бесхитростный сюжет о том, как можно исцелить любовью. Ах, фильмы этих давних детских лет! Вы в жизни наравне с судьбою! «Фальшивая монета»[188] вяжет нить, ткёт полотно египетского фильма. «Борьба в долине»[189] может победить, но зло опять всесильно и обильно. Не так ли в жизни наших ранних лет?.. И до меня доходят гроз раскаты. Мне скоро будет целых десять лет. Я жду в июле красный день тридцатый. Отец уже нам предлагает план: сперва подъём, вручение подарков, потом грибы. В лесу в такую рань несёт мне праздник радужная арка. Дождь налетел и всё вокруг намыл. И мир сияет нежными цветами. По сторонам восторженно глядим. Вернёмся ли в такой-то день с грибами? …Вновь за рассказом следует рассказ о том, какие радуги и грозы. Мне салютует громовой раскат, и в нём союз поэзии и прозы! Ну, а потом – торжественный обед: и суп грибной, и славное жаркое, домашний торт и горсточка конфет и всё, конечно, вкусное такое! В простых стаканах красный лимонад, крем-соды вкус неповторимый. А тут, глядишь, и праздничный закат встал, посиял, угас непоправимо. И снова керосиновый уют, и сказки «Чиполлино» окончанье. Чай соберёт опять родню мою. И весело, и всё ж – чуть-чуть прощально! Наш славный быт свободен от невзгод — впервые он совсем не коммунальный! Да вот грядёт учебный новый год, а значит – и с времянкой час прощальный. Лишь горожанин до мозга костей, от тесноты оглохший и ослепший, с младых ногтей возросший в тесноте, поймёт страданья наши неутешные. Опять вернуться в эту толчею, где боком не пройти меж раскладушек! В квартиру довоенную свою отцу вернуться за вещами нужно. Грядёт его в столицу переезд. До холодов он поживёт в Прибытково. Ему, он говорит, не надоест: как летописец будет здесь в обители. Пригрохотал знакомый грузовик. Мотор горячий, пахнущий бензином. А утром я огромный боровик сумел найти – на целую корзину! Придётся так его и повезти. Разделывать его мы не успели. И вновь грузовичок затарахтит. Мы на тюки и чемоданы сели. Мы проезжали мимо «Москвича», который прикурнул у переезда. И я себя в поэме повстречал лет через тридцать и на том же месте. Какой-то парень в синеньком плаще махнул рукой – на встречи и прощанья. …А мой отец, как Нестор, при свече забудет за работой все печали. И я с годами так же научусь склоняться молча над листом бумажным и радость забывать – не только грусть, и всё опять переживать бесстрашно! С тех пор минует два десятка лет. Давно москвич и Подмосковья житель, отец вечерний повстречает свет. В Абрамцево теперь его обитель. Какая там времянка! Боже мой! Такого сруба не видал нигде я! А дух какой – сосновый, избяной! А интерьеры дубом все отделаны. Хозяин прежний славно токарил. Ушёл в работу он, уйдя в отставку. Посёлок этот генеральским был. О нём сказать я должен по порядку. Когда прошла военная гроза, героям небывалой в мире сечи Главком участки выдать приказал в награду за служение Отечеству. Абрамцево прекрасно подошло для выполненья этого приказа: не город, не посёлок, не село, ни то, ни сё и тут же вместе – сразу! Большой надел, высокие места и от столицы ехать меньше часа. Поблизости такая красота! Ну, чем, скажи, на старости не счастье! Но долго здесь героям не жилось. На скоростях таких опасен тормоз! Лишь двадцать окон по весне зажглось, когда сюда меня доставил поезд. – А дети, внуки? – удивитесь вы. Бывают редко. Тут не разгуляться! Хотя, конечно, близко от Москвы, но негде погулять, поразвлекаться. А на участках сиднем не сидеть! Они ещё в такой не впали возраст. Здесь только старикам одним стареть. Их век продлят и тишина, и воздух. Музей, музей! Ну, побываешь раз, по парку прогуляешься однажды. Вот для творцов прекрасного здесь рай и неумолчна музыка в пейзаже! А тем, кто проживает просто так, действительно бывает скучновато. Когда глаза мозолит красота, то красота совсем не виновата! Живи и слушай песни тишины, любуйся на рассветы и закаты. И развлеченья вовсе не нужны, когда мы думой пламенной объяты. Отец встаёт давно уж не с зарёй, Но вот когда идёт сеанс заката, он всё не возвращается домой в сегодняшнее завтра. Рассвет его – вчерашнее вчера. Разнообразней краски и нежнее, но и закат никак не исчерпать, наверно, потому, что он – мудрее. Кто здесь отец и на каких правах? Он – ладной дачи младший совладелец. Сумел он всё оформить на паях, Управившись всего лишь за неделю. Его сосед и старший по двору — полковник и советник от коммерции — легко несёт любых расходов груз, а вот отец хватается за сердце! Опять долги, а гонораров нет, и пенсия совсем не персональная. Но воздух здесь такой, что десять лет ему врачи авансом обещали! Он скуки не боялся никогда в быту неприхотливом, но отлаженном. И регулярно ходят поезда, и хорошо, что дом одноэтажный. Легко взойти на крытое крыльцо — широкие и низкие ступени, подставить мелкому дождю лицо и щуриться на солнце так блаженно! Все грядки обойдёт и цветники, росток запомнит каждый новый. Его ростки – его ученики! Весёлые пусть будут и толковые! Он мысленно шагает по стране. Он помнит всех, кто подавал надежды. И рампы свет дороже всех огней. Жаль – загорается всё реже! Спектакли помнит, роли, адреса, отличие спектакля от спектакля по той же пьесе, словно ставил сам или доклад готовил специально. Афиши театральные висят — вот главное веранды украшенье. Премьеры поздние и красочный закат — для сердца утешение. Веранда пахнет празднично смолой. Смола порой на солнце проступает, и в той домашней красоте лесной болезни и печали отступают. Здесь не пустует никогда стеллаж, и книги одиноко не пылятся, и на столе да и вокруг стола и очерки, и пьесы громоздятся. Прекрасно жить работою своей до самого последнего дыханья, вдвойне, – когда сиреневых ветвей перед глазами колыханье. Мы о сирени говорим с отцом, Прибыткову всегда возносим славу и видим вновь гостеприимный дом — воспоминаний вечную усладу. – А помнишь, мы искали целый день сперва дорогу верную до Кобрино, потом гроза пошла на день, как тень, и мы застряли меж селом и городом? Укрылись под какой-то там навес и средь громов, гремевших громом пушечным, мы наизусть не где-нибудь, а здесь читали Пушкина! Как жаль, что нас не слышал ветхий дом — изба само́й Арины Родионовны! К ней не пустили нас гроза и гром: пути они закрыли на все стороны. Домой вернулись позднею порой и вымокли почти до нитки каждой… – Как славно погуляли мы с тобой! — отец уже в Абрамцево мне скажет. А здесь мы с ним гуляли по лесам. Грибы в Абрамцево растут не очень. Зато раздолье птичьим голосам. И хороша собою осень. Днём в сентябре ещё совсем тепло, зато под вечер холод наступает. Дождь занавесит каждое стекло. Обогреватель не спасает. – Ну, подождём с тобой ещё денёк! Не хочется в столице запираться! На целый год надышимся мы впрок. Так в городах никак не надышаться! …Ты посмотри, какой опять закат! Какой витраж во храме нашей жизни! Не оторвать мне от заката взгляд. Я словно от него завишу. Что целый год увижу во дворе? Всё те же окна, те же клумбы… Закат сквозь дождь прекрасно догорел, и дождь пошёл на убыль. А мы с отцом не думаем заснуть. Полночи пролетает в разговорах. Мне завтра отправляться в путь. Там без меня соскучился мой город! Лишь только там пристанище моё — в обычной ленинградской коммуналке. Хоть мой закат ещё не настаёт, мне так рассвета жалко! Об этом я отцу не говорю: сам понимаю, что – не надо. Боготворю судьбы своей зарю и тайну незакатного заката. Мой эпилог лишь в восемь строк. Дом перепродан чуть ни десять раз. Я принял лишь духовное наследство. О доме том не кончился рассказ, но тот рассказ уходит в неизвестность. По-прежнему Абрамцево стои́т. Оно всегда с Мурановым в соседстве. И время над планетою летит быстрее света здесь, на белом свете!Абрамцево Московской области – Ленинград
1976-2015
Ровесник двадцатого века
«И вот – 1917 год, выросший из нашей усталости, гнева, раздумий, обид. Оружие было в наших руках».
Всеволод Вишневский (Из краткой творческой биографии 1937 года) Ищу реальное училище в полтавских каменных домах. Фасады крашены, очищены везде на совесть – не на страх. Полтава в сентябре согрета совсем июньской теплотой. А уезжал – дожди с рассвета стеной стояли над Невой. Мне холодок музейных залов страницы славные листал, и мягкий говорок базаров криничкой щедрою журчал. Меня приветила Полтава, но больно было оттого, что жизнь отца я знаю слабо и – город детских лет его. Ищу реальное училище. Сын токаря его кончал! Среди буржуйчиков начищенных он первым в классе успевал! А лето проводил в Диканьке он, откуда корень наш растёт. В своё село, как на экзамены, он появлялся каждый год. «Ну, як там, хлопчику, в Полтаве? Ты скильки книжек прочитал? Ты наш казацкий род прославил — в роду учёным первым стал. А дядько Гриц, хоть вышел в люди[190], но дальше кухни – ни ногой! У Кочубея завтра будет сам царь, послы и двор большой. Ну, вот Грицько и заправляет — такую прорву накорми!..» Полтава пред Диканькой тает. В гостях у Кочубея мы. На двухсотлетие Полтавы ликует праздник и гремит. В Диканьке бал последний правит царя блестящий фаворит, сам Кочубей. Его владенья соединили здесь века. В нём – деспот прошлых лет правленья и жёсткий норов кулака. Он и вельможа, и помещик, и новомодный буржуа, за славу прадеда ответчик, вовсю использует права, ему ниспосланные свыше — сидеть, когда сидит монарх, и выставлять в стеклянной нише остатки тех святых рубах, в которых ворогом Мазепой казнён был с Искрой Кочубей. С реликвией погибло этой всё из наследства и затей!.. Я был в Диканьке в эту пору, искал следы её эпох. Диканька – не село, не город. Понять Диканьку я не смог. От Кочубея и до Гоголя не вижу никаких следов, таких следов, чтоб душу трогали виденьем красоты седой. Райцентр, обычный на Полтавщине. Едальня[191], почта, магазин… Руины, облик потерявшие, — почти что у шоссе вблизи. У князя парк такой ухоженный! Фазаны шествуют в траве. Пасутся лани тонкокожие, а там – левей, а там – правей и винокурню с пивоварней, и ферму аглицких свиней, и сыроварню, и овчарню, и псарню держит Кочубей! …Я направляюсь к старожилам: «Порасскажите что да как — о временах старорежимных и о недавних временах». Нашлись деды́. «Музей годуют[192]. Там всё и скажут, как сдадут!» А сами в кулаки подуют, табак пахучий разомнут. Как дули в кулаки в Диканьке, про то рассказывал отец. И я порадовался – как же, вот старожилы наконец! И вдруг они: «Там всё расскажут…». А сами что же?.. Ничего! История – она поклажа. С горы и в гору тяжело. «Да вы не местные, дедуси!» «Так сколько ж местных полегло!..» И здесь войны топтали гусеницы людей, и память, и село. Кипели новые полтавы в корсунь-шевченковских котлах[193] и величали нашу славу в совсем не давних временах! И вспять бежали супостаты, паля подсолнуховый мир… Мы памятью такой богаты, какой ещё не ведал мир! Стандартный памятник цементный в любой райцентр украсит въезд. Для сердца он всегда бесценен, для взора он не надоест. Не каждый скульптор наш – Вучетич[194]. И Аникейчик[195] наш – один. Но чтоб места увековечить, пришлось цемент нам находить, чтоб в этом пламени кромешном войны, войны и вновь войны сберечь бы мы смогли безгрешно красу, которой нет цены, красу достоинства людского, красу сражений за народ. Пусть мрамором сияет слово. Стихам цемент не подойдёт. Года двадцатые видали — на хозпостройки шли дворцы. По кирпичам их разбирали не варвары, не подлецы, а те, кого нужда томила, давила ненависть к тому, что называлось старым миром. И рушились дворцы во тьму. С Диканькой так оно и вышло. Кто со смущеньем говорит, а кто – начально-безразлично: «А хай оно усе горит!» Горит он вряд ли на работе, такой философ записной! А хату вот свою набьёт он, как набивал карман деньгой. До потолка всем, что престижно. Куда там княже Кочубей!.. Крупней, дороже, выше, выше, «Шоб всё було, як у людей!» Всё это деду было чуждо: богатство книг – вот капитал, семья, в которой мир и дружба… Но в облаках он не витал! Был как металл его характер. Умел он видеть далеко и в смертный бой вступал не славы ради — он слышал звон разорванных оков! Соратников ругал за неучёность, считал, что им бы книг, а не гульбы. Он в гимнзистки вывел дочь-девчонку, а сыну дал реального плоды. Ищу, ищу училище реальное… Ах, краеведы малых городов! Всё и́щите вы в прошлом идеальное, не помните простых его следов, а в тех следах, не стёртых, не стираемых, чуть в стороне от всех туристских мест хранится, словно в сейфах несгораемых истории особенный секрет. Нам надоели схемы в монографиях, учебных книг прямолинейный ход — бывает, что простая биография уму и сердцу больше принесёт. И вот отец в фуражке реалиста ушёл по Украине огневой с мечтою стать бойцом-кавалеристом в борьбе за новый социальный строй. Он старого сполна успел изведать, ровесник века, за семнадцать лет, хотя, на первый взгляд, крутые беды ему не затмевали белый свет. Он рос в семье, добросердечьем славной, в своём жилье (хоть плохонький, но дом!). Окраина Полтавы – не застава, коптящая промышленным углём. С роднёю многочисленною сельской он дружен был, ничем не обделён. Не принял он душой своею детской недолю, возведённую в закон. Он слышал о превратностях скитаний, о молодости горестной отца. В роду, считай, все – барские крестьяне с того конца и с этого конца. По линии отцовской, украинской, все – в «милости» господской крепостной аж до времён само́й Екатерины, что гетманской играла булавой![196]* Ты, булава, в руках её – безделица! Ты, Хортица[197], – опасная игра!.. «Кто “вражьей жинкой”[198] звать меня осмелился? Казнить ту песню с берегов Днепра!» Но разве можно песню полонити! В нас запорожский дух неистребим. Кастальский ключ[199] на Хортице ищите. Звенигоры[200] я клад открою им. Учите, думы, мудрости сердечной! Сердечной, песня, мудрости учи! Казацкий род, в строю твоём извечном мне место уважением почти. Вы, прадеды, командовали сотнями, спивая писни дивчины Чурай[201]. Плечистыми вы были и высокими, и гордость ваша била через край. Вы более всего ценили вольницу, степной простор, Днепра могучий зов. Я навсегда останусь в вашей коннице. Меня почтите зброей[202] ваших слов! Целую зброю – саблю запорожскую. Сияет честью боевой клинок. В нём – отблеск славы будущей Котовского, Белова и Доватора[203] залог. Рождаются богунцы и таращанцы[204], о будущем не зная ничего. Они уже растут отцу в товарищи, двадцатый век, ровесники его. О прадедах пока довольно. Деда зовут в депо тревожные гудки. Любил иметь он с паровозом дело — как паровозы на ходу легки! Летят, пыхтят – не то, что воз крестьянский! Плетётся воз лишь от села к селу. Двадцатый век – век скорости, пространства. И паровоз летит подстать ему! Дед Афанасий токарь был отменный — один такой в деповских мастерских. Своим рукам он верную знал цену и выучить мечтал детей своих. Он бастовал всегда со слесарями во славу не прибавки грошевой, а чтобы шире развернулось знамя достойной счастья вольности святой. Книг прочитал немало, но, не скрою, как понял из рассказов долгих я, он постигал марксистскую теорию на практике лишь – в уличных боях[205]. Все эти схватки не прошли бесследно: донской нагайки навсегда рубец на теле и в душе до самой смерти запомнили и дед мой, и отец. Его, мальца, сатрап из волчьей своры, на пику взяв, в волну швырнул с моста… …Мне говорят: «Вода прибудет скоро. Здесь в сентябре такая красота! Дожди пройдут – ещё Полтава краше! Всё в городе успели посмотреть?..» Я – не турист. И не проездом даже. Меня сюда отца позвала смерть. Так где ж искать гнездо мне родовое? В Москве – чужое имя на дверях. И в Ленинграде дверь я не открою, где жил он в довоенных временах. Останется мне только лишь Полтава с её красой уютно-величавой, где всё-таки какое-никакое гнездо моё осталось родовое. Отец! Я – твой воспитанник прилежный и в суть твоих рассказов проникал, но есть пробелы в знаньях неизбежные. Двадцатый век. Истории накал. Ровесник века, ты его изведал. Ровесник века, ты его постиг. От Октября всем боевым победам ты присягал в свершениях своих. …Всего лишь две весны до юбилея не прожиты остались на беду. Не встречено восьмидесятилетие в отмеченном судьбой твоей году. Ты всё трудился, рук не покладая. Всё хуже пальцев слушалось перо. Тебя всё чаще силы покидали, но мысль твоя работала остро! Живая речь тебе не изменяла. Творил ты в устной речи чудеса! Драматургия в них торжествовала, истории звучали голоса. Тебе всегда тесна бывала сцена и даже тесен был киноэкран. Лишь устного рассказа сокровенность творила нам эпический роман. Восстановить его никто не в силах. Бумаге ты его не доверял. Страницы, главы, сцены все носил в себе, в себе двадцатый век переживал. У времени и сил своих заложник, ты слишком мало написать успел. Душою пылкой истинный художник, мгновенья без работы не сидел. Всего лишь за неделю до кончины (ты знал, что ты от рака умирал!) Гражданскую войну на Украине часов, наверно, пять живописал! В твоих рассказах – бодрость и лукавство. Наказ и верность – в голосе твоём. Ты завещал своё мне государство, двадцатый век, ведомый Октябрём. Живут ученики твои на свете, которым ты был предан до конца. Идут ко мне со всей страны конверты. Мне пишут: «Сыну своего отца…»[206]. Живут твои статьи, рассказы, очерки, и помнят рампы свет премьер твоих. За книгою твоей я помню очередь — блокадных былей правду ты постиг[207]. Не только за стеной Госфильмофонда, повсюду, где горит киноэкран, заговорят подчас твои полотна — документальный времени роман. Твоё окно всегда горело за́ полночь. Звонки не прерывались ни на час. Трудов твоих и вдохновенья заповедь — «Ты до конца гори, трудов свеча!» …Вот и нашёл реальное училище! Найти помог полтавский старожил. Оно от пыли давних лет очищено, и старины, казалось, след простыл. Я слышу эхо над парадной лестницей. А интерьер и вовсе не узнать! Осталось только мне урок словесности словами попытаться воссоздать. – Ну-с, господа… Прошу прощенья, граждане! Я всё никак привыкнуть не могу… Мне кажется порой – у слова каждого мы все остались в горестном долгу. «Слова… Слова…»[208]. Ведь я читал вам «Гамлета»! Все изменились прежние слова. И летописцам не нужны пергаменты — газетный лист сгодится им сперва. Я – не историк, мой предмет – словесность. Мечту и время не объединив, я жил. А дальше?.. Дальше – неизвестность. Безвременье. А вслед за ним – обрыв! Вы, Сотников, я вижу, не согласны. Вы знаете – я в мире не боец. Мы – разные, и мыслим все по-разному. Кто знал, что может быть такой… конец?! Дворянский род мой не стоял у трона, но никогда его не колебал. Словесности державная корона! Я только ей всем сердцем присягал. Служил и по военной, и по статской, но не снискал чинов я и наград. Мои поместья – давние, как сказки. Мои усадьбы – словно Китяж-град. Нет ничего. Осталась только шпага. Я шпагу не продам, не заложу. Пусть до погибели моей всего полшага, дворянской шпаге я своей скажу: «Ты шла ко мне из времени Петрова. Я прадедов трофей как честь храню. Словесности российской только слово я с ней в её достоинстве сравню. И даже пусть всё в мире в бездну канет (предчувствую такие времена!), словесность сдаст истории экзамен. Её не будет честь посрамлена!» Я стар уже. Чего же мне бояться? Вам, реалистам, жить ещё и жить… Что пожелать мне вам в разгар семнадцатого?.. Со словом русским навсегда дружить! Меня вы обвиняли в педантизме… Я знаю, знаю… Только не сержусь! К словесности любовь – любовь к Отчизне. …Что завтра ждёт её – Россию, Русь?.. Не забывайте и своей Полтавы, баталии преславной колыбель! Пусть величава будет эта слава и в каждой вашей будущей судьбе. Я верю в вас, ровесников столетья, и я хочу, чтоб это каждый знал, что в горечи такого лихолетья российский дворянин и либерал был с вами, с теми, кто остался со мною в классе, кто меня почёл… Вы слышите звонок? Теперь все встали! …В последний раз я свой урок провёл. — Нет! Не в последний! У холмов полтавских, где был издревле ветхий монастырь, учитель твой себя ещё покажет, когда сюда придёт «наш новый мир». Он самого́ Макаренко соратник. На башнях станут флаги пламенеть[209]. Словесности российской верный ратник научится вперёд смелей смотреть… Призрит он сердцем бывших беспризорных. Он им отдаст последние слова… Я на холмах полтавских, как дозорный, увидел всё, чем жизнь моя права. Здесь всё – моё: и корень запорожский, и со свободой кровное родство, и негасимый свет судьбы отцовской, и Родины заветной волшебство и первые раскаты громовые, которым вторит эхо над Невой… Стихи мои, вы – словно часовые на службе у народа моего!Август 1978 года – 1 сентября 1985 года – 12 марта 2015 года
Николай Ударов. Стихи и песни из книги «Отец родной – товарищ мой»
Азбука Морзе
Финская кампания кончается. Скоро затемнение снимать. Занавеска на ветру качается — о войне она не хочет знать. Человек, вернувшийся в свой город… После фронта жизнь ему нова. Лишь сейчас почувствовал он голод, только этот голод – на слова. Пустовала комната родная. Вся в пыли машинка на столе. Думалось ему: «Испил до дна я чашу фронтовую на Земле…». Для него – как будто всё впервые. Не идут ни сон и ни слова. Видятся дороги фронтовые. Налилась войною голова. Вдруг в неразберихе сна и яви, как рассвет, забрезжила строка. Некогда её гранить и править — надо зафиксировать пока. В темноте находит выключатель. Вспыхнет свет. Погаснет. И опять строчка продолжается сначала, только он посмеет засыпать. Этот свет мигающий заметит всё на свете видящий патруль. Что ему писатель мой ответит?.. Он домой вернётся поутру. Что поделать? Времена такие. В них беда твоя, а не вина. Назовёт иные позывные скоро всенародная война.Самая белая ночь (22 июня сегодня и всегда)
Какая трагедия всё же, что самая краткая ночь, любимое время итожа, сметает всё светлое прочь! С тех пор сорок первого года и в самый неведомый год число это спазмами в горле народной бедой нарастёт. Какие там белые ночи, волшебный бал – бал выпускной, когда и сейчас, как нарочно, ты словно бросаешься в бой! Мир шаток, неровен, условен… Прервётся – того и гляди! Не выйдет, чтоб малою кровью и с хода врагов победить! Не выйдет, чтоб земли чужие предстали ареной боёв — скорее всего, что родные, как наше дыханье и кровь. Куда ни взгляни – чужеземье, от дома рукою подать. Границам родным новоселье всё чаще придётся справлять. Окликнут друг друга дозоры, как будто бы в Древней Руси… Сегодня, любимый мой город, петь белую ночь не проси!У самых Пулковских высот
В землянке у нейтральной полосы был у отца дом творчества. Землянку эту не находит сын. Хотя бы место разыскать так хочется! Да что землянка, если нет следов от блиндажей и самых прочных дотов! Искать следы сороковых годов — долг и призванье, счастье и работа. Хожу-брожу под пулковской горой. Из-за неё снаряды к нам летели той самой нескончаемой порой да и сегодня достигают цели. Я не поклонник Пулковских высот, откуда смотрят жерла телескопов в наш серебристо-серый небосвод, весь в звёздах, словно в огненных осколках. Зато люблю дороги полукруг. Отсюда город мой так беззащитен! Его укрыть моих не хватает рук! Вы, облака, мой город сберегите!.. Трава такие чудеса творит, израненную землю так врачует, что поле всё ромашками блестит. Кругом одно ромашковое чудо! Где ж твой корпункт, армейский военкор?! История в твоих словах осталась. Всё чаще говорю себе в укор: «Отцу в землянке так легко писалось!»Окопные тетради
Ты их творил не славы ради, а чтоб они пришли ко мне. Твои «Окопные тетради» — народа память о войне. Под Пулковом в штабной землянке сошлись тетрадки школьных дней, впитав в себя усталость танков и ярость ближних батарей, и самокруток едких горечь, и дух солдатского жилья… Геройство множилось на гордость. Быт вырастал до бытия. Читал боец бойца и с хода свод летописный продолжал. Воистину была народной в той книге слава и печаль! Воистину была прекрасной в ней откровенность быстрых строк. Во фронтовые будни – праздник и первых выводов итог. А жанров, прямо скажем, – россыпь! Тут репортаж и фельетон, подбор куплетов самых острых и мудрый взгляд в простор времён, и о друзьях погибших слово и землякам своим привет… Всё это в целом безусловно — Народной правды документ! …Была такая вот газета и даже, может быть, журнал. Я у отца однажды в детстве тетрадки эти прочитал. Потом – разъезды, переезды… Редеет рукописный свод. Остался очерк о Победе и автор всех побед – народ. Я цену всем победам знаю. Их не предам и не отдам. И вновь иду передним краем по всем фронтам, по всем фронтам, зажав в руке окопную тетрадь.Блокадный пропуск по ночному Ленинграду. Такая же маленькая поэма, как найденный мною в архиве отца пропуск
Как же я гордилась этим своим пропуском по ночному Ленинграду!
Ольга Берггольц (Из радиовыступления) Проверь, патруль, мой документ — поэзию мою. Евгений Евтушенко История – с нами. История – в нас. Мы сами – история. Мой любимый афоризм Блокадный пропуск по ночному Ленинграду найти и сохранить мне удалось. И в прежнюю и в новую блокаду я в городе – хозяин, а не гость! Здесь всё моё в судьбе со дня рожденья. Здесь всё моё – вплоть до петровских дней. Бой каждый день и главные сраженья — вот содержанье всей судьбы моей. Гляжу, как в кинолентах новых, лживых, изменники героями глядят, с врага позиций о советской жизни они так назидательно твердят. Снуют они себе по Ленинграду туда-сюда в любые день и час… Сквозит во всём тлетворная неправда, но документы не обманут нас! Один пункт пропускной, за ним – повторный. за ними третий строгий КПП[210]… Ах, если бы вот так же нам – в истории! Ах, если бы вот так же нам – в судьбе! Был комендантский час у нас к тому же. А в час ночной – всё строже во сто крат! К народной правде тоже пропуск нужен, как пропуск тот, в блокадный Ленинград. Недавно, документы разбирая, блокадный пропуск я нашёл отца. Там, где когда-то ездил на трамвае он, ступал дорогой стали и свинца до Невского и вновь к окопам пулковским, от Пулкова – в редакции газет… Печатная машина в ход запущена — летит к бойцам народной правды свет! А вскоре кинохроника в бой двинется. От дикторского текста кровь вскипит!.. А сценарист опять в свои дивизии с тетрадкою окопной поспешит. Патруль его, быть может, остановит, но знают все в лицо на КПП… Страна моя! Пиши мне пропуск новый! Проверен я не раз в твоей судьбе!Песня об Ижорском батальоне
Грохочет враг над са́мойкрышей подходит прямо на порог… Его я слышу, рядом вижу на перекрёстке всех дорог. И вновь передний край пылает у самых стен и очагов. Нам силы гордость прибавляет, и ненависть волнует кровь. Кольцо сжимается осады, и нет страданиям конца. Когда станок с винтовкой рядом, победа выберет бойца. И он пойдёт врагу навстречу, в него направит шквал огня. И распрямятся снова плечи и у тебя, и у меня. И в новой вражеской осаде я, возвращая связь времён, России ради, правды ради вступлю в Ижорский батальон..
У Ростральных колонн 27 января 1994 года
Там, где стояли в блокаду отец мой и мать, дайте в награду полвека спустя постоять. Стрелка… Васильевский остров… Победный салют… Братья и сёстры со мною все вместе встают. Мы – ленинградцы! Другого названия нет. Вновь занимается нашей Победы рассвет.Ода блокадному календарю
Не так уж долго до блокадных дней. Они всё ярче в памяти моей. Пусть я на свет после войны рождён, я намертво к блокаде пригвождён. Переживаю дни календаря, которые святым огнём горят. В них – зной с грозой и ветер золотой, играющий с опавшею листвой, в них – вёсен голубая акварель и мартовская первая капель… И всё же, что ты там ни говори, в зиме сплошной – мои календари! Снег обжигает, жарче лёд огня… И всё же нет счастливее меня! Судьбу блокада не смогла пресечь. Блокада мне вручила щит и меч. И древо родословное на слом в блокадные печурки не пошло. Оно сумело дать такую ветвь, что эта ветвь – как будто счастья весть! Вот почему блокадный календарь меня в моей судьбе не покидал!Тот же самый салют над Невой
Опять на Ростральных колоннах сигнальные светят огни, и вновь по всему небосклону салют возглавляют они. Сияет салют и грохочет. Он – эхо утрат и побед. В блокадные чёрные ночи вставал в нашей жизни рассвет. Моё поколенье пока что блокаду не может прорвать. Судьба нам однажды прикажет, и встанет могучая рать. Сперва будет прорвано где-то несчастий стальное кольцо, а следом большая Победа своё нам покажет лицо. Блокады звучат позывные. Как сердце, стучит метроном. Мы с вами, как наши родные, однажды блокаду прорвём.В музее обороны Ленинграда
Пусть душу отогреет ленинградец, придя на переулок Соляной. В блокадном братстве – горькая отрада. А мне блокадник – человек родной. Я вижу мир блокадными глазами, хотя не грел блокадный хлеб в руках. Те поколенья, что стоя́т за нами, на эти дни глядят издалека. А я иду по са́мой острой кромке. Снарядный вой над са́мой головой! И в праздничные дни артподготовки спешу на переулок Соляной!Песня о Ленинградском Дне Победы
Весенний ветер голубой приносит день счастливый мая. Мы, ленинградцы, над Невой со всей страной его встречаем. Но вся страна в январский день увидит наш салют рассветный. Повсюду знают и везде наш Ленинградский День Победы! Январский день, январский гром пускай влетает в каждый дом. Они блокадников найдут и за собою поведут их новых внуков и детей за горизонт грядущих дней! А новый день уже встаёт на горизонте заниматься. Я званьем ленинградца горд. Нет выше званья ленинградца! И не удержат нас в тисках любые новые блокады, и не сойдёт на нет в веках великий подвиг Ленинграда!Ленинградцы мои
Опять блокады годовщину Объявят нам календари. Она – и повод, и причина друг друга нам разговорить. Да, именно вот так – друг друга! Ведь по блокаде мы – друзья! Пусть будет в том она порукой, что расставаться нам нельзя! Мы вместе – стены крепостные, которые не сокрушить. Давайте с думой о России труды вершить и просто жить. Давайте вопреки невзгодам, годам гнетущим вопреки любить, как молодость, свой город на берегах Невы-реки. Его для нас родное имя — несокрушимый бастион. Недаром судьбами своими мы приближаем даль времён!Песня о блокадных ветрах
Блокады горькие ветра нам дуют прямо в душу. Блокады горькие ветра над морем и над сушей. Блокада прорвана давно, но до конца не снята. Её не снимут всё равно. И это так понятно! Она забвенья не простит. И гордость в ней, и горесть. И снова нам в глаза глядит и жжёт огнём, и холодит блокадный город. Блокады горькие ветра не объявляются в прогнозах. В невыразимости утрат горят сухие слёзы. Ветрам подставлю я лицо, ступлю навстречу. Блокадник я в конце концов. Мой путь от дедов и отцов уходит в вечность.Прощание на Эльбе[211]
Мы помним тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал…[212] Евгений Евтушенко (Из песни «Хотят ли русские войны?)«А на той стороне Эльбы уже сердито и недовольно фырчали, разворачиваясь, американские джипы».
(Из очерка моего отца «На рассвете нашей Победы»)«… И что тут сразу началось! Американцы торговали буквально всем – от зажигалок до казённых военных грузовиков! Массовое распространение получили наркотики, порнографическая продукция, антисоветская и антирусская литература. Было принято срочное решение – контакты свести к минимуму, в непосредственные неделовые отношения не вступать даже офицерам, а солдатам – тем более!»
(Из устных рассказов моего отца, военного корреспондента) Объятий что-то не припомнится! А ведь я многих опросил… Душа негодованьем полнится — вот кто Победу тормозил! У нас была такая силища — хоть до Атлантики шагай и правду Родины, России, везде на славу утверждай! Давайте – напрямки, по совести — Европа ВСЯ шла против нас! Так что же с нею церемониться? Настал возмездья грозный час! А тут другая сила зарилась Победу нашу разделить, в досаде яростной и зависти во всём являя прыть. Все протокольные подробности и повседневный негатив — для строгой очерковой повести. Не умещаются в мой стих! Приказы шли и разъяснения… Непониманья дух царил… В те дни азартные, весенние, весь мир мир заново открыл! Нет, ни слащавой, ни плакатной была та встреча грозных сил. Я малышом на старой карте ту обстановку наносил. Глядел отец чуть иронично на немальчишечью игру. Так я пути-дороги вычертил как будто бы Генштаб и ГРУ![213]Самый главный военный трофей
«За освещение Берлинской операции» как военкор отец был награждён. Сей документ в годах не затерялся. Недавно я опять его нашёл. Подарки – из трофейного имущества. И всё – для журналистского труда. Приёмник, не затем, чтоб слушать музыку, а чтобы ведать новости всегда. В отличном состоянии фотокамера: бывает, нужен снимок позарез! …Всё это, к сожаленью, в Лету кануло. Зато один из тех подарков – вечно здесь, со мной, всегда и всюду неразлучно стрекочет неустанно на столе машинка, изо всех, что знал я, лучшая, почти что без ремонта столько лет! Бывает для порядка профилактика: немного смазать, что-то подтянуть… И вновь гоню теорию и практику! Порою так спешу – не продохнуть! Немецкий шрифт давным-давно уж выброшен. По-русски я стихами говорю. Когда мой стих совсем в созвучьях выражен, его от вас я разве утаю?.. Что в Третьем рейхе, наш трофей, печатал ты? Приказ военный или же допрос?.. Зато все годы мирные, на счастье нам, ты столько пользы Родине принёс!Песня об автографах Победы
Автографы Победы на рейхстаге — народная поэма о войне. И рождена она под красным стягом, и потому дороже нам вдвойне! Победный стяг по-прежнему пылает — его не угасить и не сорвать! Вновь День Победы в мае наступает, чтоб нас опять к победам призывать! Звучит любой автограф, словно песня, и заповедь, и клятва, и приказ… Они пришли, чтобы собраться вместе. Они пришли, чтобы дождаться нас! И здесь моя фамилия по праву и воинское звание отца, а значит, за Победу и за правду и мне сражаться в жизни до конца!Ода автографам Победы
«От Невы до Шпрее дошёл с боями
старший лейтенант военкор Н.А. Сотников»
Надпись моего отца на колонне рейхстага Отремонтирован рейхстаг в Германии объединённой, и не грустят, а вновь грозят нам на восток его колонны. А на одной из них была моя фамилия. И – званье. Вот где судьба моя взошла! Вот где моей Победы знамя! От ленинградских грозных стен до стен рейхстага прокопчённых мы шли в незримой высоте, врага преграды перечёркивая. Ушли. И знамя унесли благодаря коню троянскому… И всё ж враги родной земли нас на своей земле страшатся. Недаром стёрли всё они автографы моей Победы, но не стереть Победы дни. И снова мир зовут к ответу те на рейхстаге письмена, в которых наши имена. Как ни стирай – всё наступают с Победой наши времена!Автографы Победы
Не знаю, кто, но кто-то самый первый, у стен рейхстага выхватив мелок, размашисто, светло и вдохновенно векам на память вывел пару строк. Мир не видал ещё подобной прозы! Звучит, как песня, каждая строка, а в ней – и грозный клич «ура», и слёзы, и удаль русская наверняка! Вдоль по фасаду, по колоннам росчерк с таким нажимом, что крошился мел. …А кто, в конце концов, поставил точку? Никто узнать об этом не сумел! От самой первой огненной строки в поэзию мою шла эстафета. Ведь все мои заглавные стихи всегда во всём – автографы Победы!На берлинской улице спектакль (Подпись под фотоснимком военкоров газеты 61-й армии Первого Белорусского фронта «Боевой призыв»)
Стулья на берлинской улице — по-хозяйски, в полукруг. Даже солнце улыбнулось: пусть короткий, но досуг. И газетчики военные из армейского звена как пера солдаты верные сели, чтобы их снимать. Фотокор, в боях испытанный, но по званью ниже всех, стал командовать открыто: этот – вправо, те – чуть вверх!.. на штатив поставил «леечку»[214]; чтобы крепость обрела, военкоров в три линеечки полчаса распределял. Наконец-то покомандовал — первый раз за всю войну! Получилось всё, как надо. Этот снимок я храню. Подсчитаю возраста́ я — Никого; должно быть; нет… Это истина простая — ход веков и поступь лет. Всем за тридцать пять, за сорок — не в пехоте ребятня! Но останется в истории этот снимок у меня! Вот – отец, стоящий слева, опершись на венский стул. Сорок пятый. Скоро лето! Так бы взял и отдохнул! Скоро всем – домой, в Россию! А отцу – лишь через год!.. Славно стулья разместили. Разудалый был народ!Кинооператорам фронтовым[215]
Последняя работа. Победная работа. Весёлая работа. И боевой приказ! Ах, сколько здесь народа, счастливого народа, вокзального народа… Смотреть – не хватит глаз! Какая это радость, мой кинооператор! На редкость, ты на резкость не можешь навести: В засаде и в атаке, и с палубы, и с танка снимал ведь ты без брака. Всё это – позади! А здесь чего ты медлишь? Гремят оркестры медью. Поют они и плачут о тех, кто не придёт. Давай-ка панораму вот с этой точки прямо — и старенькую маму твой объектив найдёт. Ну, не робей, не надо! Ведь мы с тобой солдаты! И ты, такой, как эти ребята, фронтовик. Последняя работа — она такого рода… Снимал четыре года — снимай последний миг!Возвращение к Победе
Кинокадры звучат былинно — победители возвращаются. Пусть не все они из Берлина — каждый дзот в рейхстаг превращается. Лишь сменяются на экранах лица, станции, эшелоны… Как желанно и долгожданно возвращаются миллионы! Ну, а тот, кто совсем не вернулся, с этим праздником не разминулся: он остался его предтечей на полях небывалой сечи. Возвращение – это встречи. А случится, некому встретить, скажет самые лучшие речи друг-попутчик – дорожный ветер. Никого не осталось дома. Самого́ не осталось дома. Всё равно твоё возвращение — не прощание, не прощение! А приказ твой ещё не вышел, всё равно ты нигде не лишний — в голове и хвосте колонны… Эшелоны мои, эшелоны! Капля в море народной летописи, отрази нам Победы солнце! Кинохроника, эта светопись, всё несётся к нам, всё несётся. Кинохроника нас взрастила. Стала памяти украшением. Это нашей народной силы возвращенье – так возвращенье!Заря по имени Победа
Я тоже родом из войны, я тоже родом из блокады. Воспоминания должны быть вечной болью и отрадой. Их наивысшая цена ещё не названа судьбою. Была у нас с тобой война, была война у нас с тобою. И, что, мой друг, ни говори, мы ей обязаны рожденьем. Её огонь в душе горит — живой Победы продолженье. И что, мой друг, ни вспоминай, легенды все и все преданья, уходят на передний край у нас с тобой воспоминанья. Кого, мой друг, ни назови, её вовек дороже нету, надежды, веры и любви зари по имени Победа!Железный век
Не «золотой» и не «серебряный» —
мне ближе всех железный век
с его бомбёжками, сиренами,
большой бедой одной на всех,
с его Народным ополчением
и сводками Информбюро,
с его невиданным свечением
на всю страну, на весь народ.
Сады Лицея отвоёваны…
В оконных стёклах – небосвод…
И вот на все четыре сто́роны
Победа наша настаёт!
Она салютами прославлена
и в орденах отражена.
Она в поэзии представлена
и в песнях той войны слышна.
Виолончельный век серебряный…
Фанфары пушкинских времён…
Железный век, стихом заверенный
и запечатанный огнём!
Судьба истории, история судьбы
Архив семейный старых фотографий, которым есть бесценная цена. Ты здесь моя начнёшься, биография. …История ли это для меня? Отцов и матерей простая юность так простодушной прелести полна, что кажется – она и к нам вернулась. …История ли это для меня? А дальше – боевые репортажи, где всё красно́ от крови и огня где страх переплавляется в бесстрашье. …История ли это для меня? Но всё светлей на старых снимках лица! В них, как в себя, вглядеться должен я. Подходит к сердцу прошлого граница. …История ли это для меня?! Вновь День Победы в зареве ликующем. Им наша жизнь навек озарена. Он светит нам не только в прошлом – в будущем. …История ли это для меня?!!Песня о шальной пуле
Летит, летит шальная пуля из неоконченной войны. Её ещё не повернули. Мы повернуть её должны. Пускай она влетит обратно в тот ствол враждебный роковой, настигнет пусть врага – не брата, когда возникнет встречный бой. Она по-прежнему шальная. Она по-прежнему слепа. Повсюду, где передовая, меня зовёт моя судьба… И нет брони, и нет кольчуги. Иду я всюду в полный рост. Иную память не хочу я, судьбу иную не ищу я в краю берёз и алых звёзд.Песня о возвращении навсегда
Пусть возвратятся воины домой. Им нестерпимо спать в земле чужой. Их отчий дом – в далёком далеке. Как говорят, граница на замке! Пускай они вернуться в отчий край! Приходят люди к ним свои пускай! Земля родная, – словно колыбель. Она всегда одна в твоей судьбе! Пусть загудят по всей стране гудки! Пусть замолчат дежурные звонки. Мы всем народом выйдем на перрон встречать с войны последний эшелон. Ты их встречай, Поклонная гора! Вернуться им на Родину пора. Вернётся к нам Берлинский монумент залогом наших будущих побед!Во славу Берлинской стены
Берлинская стена разрушена, но в нас – Берлинская стена! Она глядит мне прямо в душу. Спасает душу мне она от конвергенции постылой и от забвенья правоты. Не слабость наша – наша сила и оборона от беды! Представь себе, как это страшно — быть беззащитным перед злом, держащий душу нараспашку перед ликующим врагом Но мы границы понастроим меж землями зла и добра. За нас – всемирная история! Вновь наша близится пора!Как Тёркин в жизнь пришёл мою, или Семейное чтение 1954 года
Воет «вьюга-завируха»[216] в Ленинграде за окном, а у нас тепло и сухо — в городской печи огонь! Для него открыта дверца, а в печи – войны пожар. Растревожил снова сердце дорогой нежданный дар. Подарил мне папа книжку «без начала, без конца», а теперь под нашей крышей мы читаем про бойца, все собравшись в этот вечер… Кто – страничку, кто – главу… Перед тем, как спать улечься, не во сне, а наяву вижу я войны картины, слышу каждый звук войны… Мне, святой Победы сыну, эти строчки так нужны! То отец прочтёт, как надо, журналист и сценарист, так прочтёт, что Тёркин рядом! Вот он! Только оглянись! Широко, чуть хрипловато, дед-юрист главу прочтёт. И опять меня отрада прямо за́ сердце берёт! Бабушка совсем актёрски (в юности – за ролью роль!) ту главу прочтёт, где Тёркин с бабкой, с дедом сел за стол! Тётя с опытом сценическим сказ про старую гармонь и трагично, и комически развернёт передо мной. Никакого телевизора — лишь вечерние слова!.. В них я вслушиваюсь издали. Поседела голова. Ни-ко-го!.. Один я в комнате. И давно уже – не в той! Лишь Твардовский тихой полночью разговор ведёт со мной, да того гляди откроется дверь в страну счастливых лет, и с тобой, Василий Тёркин, вместе встретим мы рассвет!«Когда архив отцовский разбирал я…»
Когда архив отцовский разбирал я, в шкафу три чемодана отыскал. Вот где моя Вторая мировая! Она опять невиданно близка. Блокноты и окопные тетради, военных фотографий дивный ряд, медали, ордена́ – как на параде!.. Но я предпочитаю не парад, а труд извечный над страницей текста. Какой счастливый адский этот труд! К нему сумел я приобщиться с детства, все навыки хватая на лету. …Возьму с собой домой на невский берег, а чемоданы эти не возьму. Я памяти своей дошкольной верю и этот груз душой не подниму. Посылки самому себе отправлю — пусть в Ленинград приедут из Москвы, а чемоданы эти разломаю… И вот уже в мешок летят куски. Мы на Большом проспекте их сжигали. Легко горел немецкий ширпотреб! А барахло мы на базар справляли и превращали в молоко и хлеб. Да, наши чемоданы понадёжней: бей, колоти, а им – всё хоть бы хны, а эти и малец прикончить может, рождённый после мировой войны. …Мешки во двор писательского дома[217] я с грузом запоздалым отправлял. Архив отца с войны так долго-долго с историей всемирной я сверял!Песня о военной любви
Лишь вернётся ветер мая к нам, любовь моя, с тобой, я всё чаще вспоминаю про военную любовь. Я немало знал историй и сердечных, и святых. Героини и герои, как в романах, жили в них. Их любовь была, как песня, высока и коротка — уносилась в поднебесье, оставалась на века. Были пули и снаряды, вся земля была в огне. Самой высшею наградой оставалась на войне фронтовая, боевая, небывалая любовь. Срифмовать мне с ней бывает здесь не стыдно слово КРОВЬ. Эта рифма так избита и в романах, и в стихах!.. Выше битвы, выше быта на земле – не в облаках! Ветер мая, ветер мая, возвращайся вновь и вновь! Пусть же в счастье помогает нам военная любовь!«Писал я эту книгу от руки…»
Писал я эту книгу от руки (Я только прозу – сразу на машинку!), но всё равно свои чистовики — на пишущей машинке, по-старинке. Компьютерный набор – не для меня: экран мерцает, силы нет удара… Машинку ни на что не променял — она в судьбу пришла мою недаром! Отец мой, военкор, был награждён «за освещение Берлинской операции». Храню в архиве грамоту о том. Люблю порою к тексту обращаться. Вот самый главный для меня трофей! Шрифт перелит в год моего рожденья. Как пулемётчик я сижу за ней в сраженьях за Победы продолженье!Позывные Рихарда Зорге звучат (Из цикла «Последние слова»)
Мой отец помнил Рихарда Зорге. Были юными наши зори. Всё ещё начиналось только. Время самых первых истоков. Время самых первых издательств. Время самых верных приятельств. Годов двадцатых волны поднялись и снова над Невой рванулись ввысь. Зорге был тогда публицистом и экономику изучал. И удивительно светлые мысли, словно солнце, он излучал. Вдруг он как будто бы в воду канул. Жив – не жив?.. Никак не понять! Вместе с верным своим Максом Клаузеном[218] он уходил раньше всех воевать. От Китая и до Японии он спешил покорять эфир. Позывные его заполнили на войну набегающий мир. Сын Германии разделённой и России приёмный сын, на посту своём обречённый, воевал до последних сил. …Тихий дворик тюрьмы токийской увидал он в последний миг. Он ещё до сих пор не раскрылся. Он душою к тайнам приник. Он ещё незримо проникнет в нашу сторону баррикад. Мне отец говорил, что Рихард очень слово любил «камарад»[219].В саду прифронтовом
И эту историю мне поведал отец. В тот годы весна была очень ранней и жаркой.
Горожане потянулись на природу. Поехал в своё любимое Абрамцево и отец. А там уже собралась добрая компания фронтовиков: рядовой пехотинец, сержант-артиллерист, сосед отца полковник авиации и он, «летописец фронтовых буден». Воинские звания тут роли не играли. Воцарилось подлинное фронтовое братство. Тамадой избрали отца, который тут же на ходу придумал сценарий праздника. Итог все подвели такой: «Давно я с таким удовольствием День Победы не праздновал!»…
В поселке дачном, но невзрачном (он в запустение пришёл) вы повстречались наудачу, отметив Праздник хорошо. Соорудили стол дощатый близ окон прямо во дворе и говорили так прощально о боевой своей поре! …Течёт неспешное застолье, горчит некрепкое вино. Мужское равенство святое опять в душе воскрешено. Сидят они, четыре деда, соседи, братья, земляки… И с ними речь ведёт Победа, ведёт их судьбы, как полки.Ода блокадной «Ленкинохронике»
В отцовском архиве я нашёл два документа на бланке «Ленинградская кинохроника», адрес студии: Ленинград, остров Трудящихся, 2-я Берёзовая аллея, дом 6. Но – прямое попадание бомбы – и фонтан стёкол взмыл в небо! Студия оказалась бездомной, и тогда нашёлся новый адрес на долгие годы – Крюков канал, 12…
Вторая Берёзовая аллея. Бывшая оранжерея, там, где дом номер шесть. Есть ли он нынче и что там есть?.. Очень мало кто знает. Очень мало кто помнит. А ведь это же старая наша «Ленкинохроника»! В папке отцовской блокадной я обнаружил на радость бланк с фотографией и с призывом ко всем организациям ленинградским оказывать сценаристу содействие. Городу-фронту нужен свой кинодокумент. С воздуха враг утюжит улицу, площадь, проспект и посылает снаряды на долгие километры, а вот сюда долетают лишь сверхтяжёлые «Берты». Но всё же это – исключение: здесь относительно тихо в царстве заветных растений, новых кинотрадиций. Отец мой упрячет бережно свой документ в блокнот и поспешит неизбежно прямо отсюда на фронт. Бланк, словно пропуск, покажет. Там, где посты, козырнут. Снова в городе нашем «Ленкинохронику» ждут.О чём расскажут поздние огни
Светлой памяти отца моего
Николая Афанасьевича Сотникова
В Центральном Доме литераторов горят последние огни. Какая тишина отрадная! Как хорошо, что мы – одни!.. Ни суеты, ни мельтешения, ни повседневной толчеи. Есть в отрешеньи возвышение, есть звуки в тишине свои. Не завсегдатай этих залов я. В конце концов, я здесь чужой. Но вижу всё перед глазами, что стало и моей судьбой. В дубовом зале шли собрания в пятидесятые года. Там – юбилеи, отпевания… И не осталось ни следа! Столы накрыты ресторанные. За каждым – свой, особый, пир. В дубовом зале постараюсь я душой вернуть минувший мир. Вот смело к середине века[220] прошёл Владимир Луговской… Вот лавренёвский грозный ветер[221] за ним влетел, всегда морской. Козловского волшебный тенор над сном Довженко не угас…[222] Нельзя сказать – живые тени: они живей живых сейчас!Песня об огне Прометея
…Святым огнём пылающее сердце…
Гёте[223] В незапамятно давние дали безымянных веков счастье наше и волю украли злые силы небесных богов. Воцарилась над нашей планетой непроглядная тьма. В этой тьме ни тепла нет, ни света. Вся Земля, – как тюрьма! И тогда из чарующей сказки за людей встал горой, и мученья презрев, и опасность, легендарный герой. И зажёгся огонь возвращённый и в домах, и в сердцах, и стряхнул цепи порабощённый самовластью на страх. Пусть века над Землёй пролетели, разгорается он, — этот вечный огонь Прометеев, Прометеев огонь! Он – в салютах победных рассветных, он – в октябрьских кострах, он – в космических наших ракетах, он – в веках! Самый яростный и негасимый, на ветрах он сильней. В бой за счастье России он зовёт сыновей!Примечания
1
Николай Ударов – поэтический псевдоним Н. Н. Сотникова.
(обратно)2
Леонид Сергеевич Соболев (1898–1971) – прозаик, очеркист, Лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда, организатор и руководитель Союза писателей России, депутат и член Президиума Верховного Совета СССР. Здесь и далее все постраничные примечания Н. Н. Сотникова.
(обратно)3
В сценарии они Колобовы, в фильме – Удало́вы. Этот фильм в копиях шёл в городе и на Ленинградском фронте.
(обратно)4
Имеются в виду Высшие курсы искусствознания при Институте истории искусств.
(обратно)5
Николай Афанасьевич Сотников писал эти тексты, будучи уже тяжело больным. Он скончался, приехав в Москву из Малеевки 2 июня 1978 года, и выхода в свет своей книги «Были пламенных лет» не дождался. Зато редактор сборника повёл себя слишком по-хозяйски и вовсе не уведомил автора о сокращениях, перестановках и даже значительных изменениях текстов. Во всяком случае, автору вёрстка на вычитку не давалась.
(обратно)6
Именно так я решил назвать свой цикл радиопередач о военной теме в поэзии, прозе и публицистике. Всего прошло 167 таких 40-минутных передач.
(обратно)7
См. очерк «На рассвете нашей Победы» на стр. 92.
(обратно)8
Ныне – Комарово.
(обратно)9
Как эта ситуация напоминает чернобыльскую катастрофу в Киеве и в окрестных городах и поселках, когда высшее руководство членов своих семей отправило на юг и в Болгарию, а рядовые трудящиеся шли на первомайские демонстрации прямо под радиоактивными облаками!
(обратно)10
Это стихотворение было опубликовано Е. Евтушенко в антологии «Строфы века» в 1994 году в издательстве «Полифакт».
(обратно)11
Так до 1937 года назывался город Пушкин.
(обратно)12
См. подробнее об Объединенной киностудии.
(обратно)13
И всё же на короткое время Н. А. Сотников был назначен ответственным секретарём дивизионной газеты, но вскоре вновь стал корреспондентом.
(обратно)14
Условно говоря, сотники – как бы командиры рот, входивших в полки. Чаще всего избирались рядовыми запорожскими казаками. Могли быть за провинности и неумения сняты со своих должностей. В мирное (относительно!) время выполняли не только военные обязанности, но и административные, и судебные, что отлично показано в романе в стихах Лины Костенко «Маруся Чурай».. Этот роман в стихах можно прочесть только на украинском языке.
(обратно)15
Краткий комментарий см. ниже.
(обратно)16
Затем он получил название «Снайперы Ленинградского фронта».
(обратно)17
Классическая фраза из фильма «Чапаев».
(обратно)18
Альба-регия – редчайший дивной красоты цветок большого диаметра. Его цветение – праздник не только для сотрудников Ботанического сада, но даже для всего нашего города: о цветении альбы-регии сообщали газеты, радио, телевидение, и наши горожане специально приходили в Ботанический сад полюбоваться этим чудом природы!
(обратно)19
П а лле й Павел Иванович (1901–1962) – режиссер и оператор заслуженный деятель искусств РСФСР.
(обратно)20
Соловцев Валерий Михайлович (1904–1977) – режиссер заслуженный деятель искусств РСФСР, Лауреат Государственной премии
(обратно)21
Николаи Владимир Николаевич (1897–1971) – кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
(обратно)22
Клигман Мария Марковна (1908–1994) – кинорежиссёр заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых и Ломоносовской премии.
(обратно)23
Сотников не упомянул в этом творческом отчёте фильмы «Сбор ленинградскими верующими денег и драгоценностей на танковую колонну имени Дмитрия Донского и эскадрилью имени Аександра Невского» (см. очерк Н.А. Сотникова «Три встречи с будущим патриархом, стр. 50) и сугубо научный фильм, тоже заказной, о водянке как следствии хронического голода в блокаду. Он имел длинное медицинское название, которое в памяти автора не сохранилось. Этот фильм для массового показа вообще не предназначался, а служил научным целям.
(обратно)24
Карлсбад – ныне Карловы Вары.
(обратно)25
Г. К. Холопов – прозаик, очеркист, главный редактор журнала «Звезда», в тот период – Первый Секретарь Правления Ленинградской писательской организации.
(обратно)26
А. Г. Розен – прозаик, очеркист, киносценарист, председатель Комиссии по военной литературе, в ту пору – председатель оргкомитета по празднованию 40-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Н. Н. Сотников, в ту пору литературный консультант по общим и организационным вопросам Правления Ленинградской писательской организации, был референтом Комиссии по военной литературе и вёл всю основную работу по подготовке празднования 40-летия снятия блокады. Таким образом, официально сын-ленинградец приглашал своего отца, ветерана боёв за Ленинград, на торжества, посвящённые празднику. И, добавим, получил от него немало замечаний за разного рода недоделки и упущения в работе. Так что и здесь, и так продолжалась литературная учёба.
(обратно)27
Боевое знамя Запорожской Сечи было малинового цвета, а посередине стяга красовалась боевая ладья, ЧАЙКА, запорожский десантный корабль.
(обратно)28
См.: Журнал «Звезда», 1972; № 8–9; 1973; № 7-10; а также отдельные издания издательства «Мысль»; 1979,1982; 1987; 1989 годы.
(обратно)29
… Летом 1973 года в Ленинград прибыла делегация писателей Ростова-на-Дону. Хулиганство началось уже в аэропорту Пулково: в дымину пьяный казачище-дончище заорал в знак приветствия донской гимн: «Мы, донцы-молодцы, царю верно служим!» Члены нашей писательской делегации были в шоке. Больше всех переживал я, так как являлся ответственным за всё мероприятие в целом и в частностях. Один из руководителей города, приехавший встретить посланцев «Тихого» Дона, спросил меня, что я собираюсь делать и нужна ли его помощь, на что я ответил, что «я с ними сам разберусь». И разобрался… Акак – секрет. У нас в литературе – всё в секретах. И именно в эти самые мгновения в Пулково я вспомнил рассказ отца, на которого с пикой ринулся «донец».
(обратно)30
Имеется в виду Виктор Сергеевич Кочубей, начальник Главного управления уделов, свиты царской генерал-майор. В Петербурге в 10-е годы XX века жил в особняке по адресу: Фурштатская (улица Петра Лаврова), дом 24. В последний раз его видели в ещё белом Крыму, накануне бегства беляков.
(обратно)31
Не забыли мои давние родичи и их друзья-соседи о повелении Екатерины II закрепостить крестьян Киевского, Черниговского и Новгород-Северского наместничеств в 1783 году
(обратно)32
Был и ещё один фильм, новейший, но его посмотреть мне не удалось.
(обратно)33
Это, скорее, сочувствующие оппозиции. Нынешний термин противоположен.
(обратно)34
Речь идёт о творческом отчёте Н.А. Сотникова в Ленинградское отделение Союза писателей. Этот очеркованный документ печатается в нашем томе под заголовком «Вот мой отчёт перед Победой» в разделе «От берегов Невы до берегов Шпрее».
(обратно)35
По контексту писем понять, какой (какие) доклады Н. А. Рубакина вызвали в буржуазной прессе Франции такой переполох нельзя, но изучение его жизни и творчества, знакомство с его несомненно левыми политическими взглядами позволяют сделать предположение о том, что он подверг, как врач-гигиенист и специалист по социал-гигиене (более поздний термин науки о здоровье общества), резкой критике положение неимущих и прежде всего трудящихся.
(обратно)36
Эта мечта Н. А. Рубакина не сбылась в довоенную пору Окончательно вернулся он на Родину, с которой духовно никогда не порывал, в послевоенные годы. В итоге он стал профессором Первого медицинского института в Москве и был принят в члены Союза писателей за документально-публицистические произведения.
(обратно)37
Участниками бесед были преимущественно члены съёмочной группы, но вскоре беседы стали посещать и другие, свободные в данное время от работы ленфильмовцы: столь велик был интерес к лектору и его темам.
(обратно)38
Подробнее об Андре Марти см. далее.
(обратно)39
Прокомментировать все названные здесь и далее имена и реалии из истории Франции не представляется возможным. Желающие могут обратиться к специальным научным трудам. Прошу учесть также, что общекультурный уровень работников художественных учреждений довоенного Ленинграда, в том числе и рядовых, был весьма высок, что отмечают и историки, и авторы мемуаров. Например, как вспоминал Н.А. Сотников, среди корректоров издательств «Прибой» и «Пролетарий» почти все женщины были выпускницами классических гимназий.
(обратно)40
Луиза Мишель (1830–1905) – публицист, прозаик, драматург, участвовала в барикадных боях Парижской Коммуны, была в наказание сослана в Новую Каледонию (владение Франции в юго-западной части Тихого океана). Осталась верна идеалам коммунаров до конца жизни. Приветствовала русскую революцию 1905 года. Сочинения Луизы Мишель публиковались в СССР в 20-е годы.
(обратно)41
И тем не менее преувеличивать иностранное присутствие не следует. Коммуна была чисто французским явлением.
(обратно)42
Новый перевод полностью публикуется ниже.
(обратно)43
Название этой песни варьируется, но суть всегда одна – восхищение подвигом солдат, которые единодушно перешли на сторону народа.
(обратно)44
Стоит подчеркнуть, что это – и лозунг братьев Дуровых.
(обратно)45
Здесь уместно напомнить о том, что почти через полвека знаменитая танцовщица и балетный педагог Айседора Дункан исполнит аналогичный номер: под музыку «Интернационала» она совершит танец в красном платье на фоне красных знамён.
(обратно)46
Валентин Катаев в своих парижских путевых заметках пишет о Монтегюсе как-то глухо, доверяясь собеседнику который отказался продолжать разговор. Монтегюса слушал как шансонье и беседовал с ним В. И. Ленин.
(обратно)47
Антинемецкая направленность песни-протеста не может быть поставлена в вину авторам-певцам XX века, который испытал невероятный натиск со стороны Германии.
(обратно)48
Пьер Дегейтер – художественный руководитель хора, но администратор – всё же Делори.
(обратно)49
Прошу обратить внимание – окончательного текста сценария ещё нет, работа над ним продолжается. Появляются новые персонажи, эпизоды, возникает возможность найти новое образное решение тех или иных фрагментов.
(обратно)50
Имеется в виду общенародная забастовка.
(обратно)51
Этим заказчиком на самом деле был Делори.
(обратно)52
Подлинный текст письма см. на стр. 258.
(обратно)53
Не десяти лет, а двадцати!
(обратно)54
Думается; это явная недооценка: ведь её даёт очень образованный русский революционер сын энциклопедиста Н. Рубакина!
(обратно)55
Чрезвычайно важный вопрос: «На каком языке писал поэт и журналист Дьер Дегейтер?» – на общефранцузском или же, как иногда утверждается, на диалекте ПАТУА, характерном для северной Франции, в частности – Лилля? По этому вопросу я консультировался на кафедре романской филологии нашего Университета. Оказывается, Великая французская революция совершила ещё один прорыв, о котором мало кто знает: она смела и соединила воедино диалекты! Возможно, в юности, а особенно в детстве, у Пьера Дегейтера проявлялись какие-то следы ПАТУА, но его поэтический и деловой языки несомненно следов диалектизма не несут.
(обратно)56
Переводить «Марсельезу», как и «Интернационал»; невероятно сложно: это не какая-то любовная песенка! На сегодняшний день мне представляется наиболее удачным перевод Леонида Мартынова; который с невероятной смелостью вообще брался за переводы почти непереводимых произведений. К примеру сказать; он перевёл «Пьяный корабль» Артюра Рембо.
(обратно)57
Былли в той или иной форме повторён этот уникальный опыт? Да. В 1953 году был закончен производством редчайший в истории кино США фильм «Соль земли», посвященный стачке горняков и во многом финансировавшийся шахтёрским профсоюзом. В 1959 году в Японии независимая студия «Данто эйга» совместно с профсоюзами в районе Кансай (г. Киото) продала билеты ценой в 100 иен на БУДУЩИЙ фильм «Битва без оружия».
(обратно)58
Только один пример: один генерал революции просил в подкрепление или СТО пушек, или СТО печатных листков с нотами и словами «Марсельезы». Эстетики много спорят об отчужденности произведения искусства от автора. А здесь перед нами редчайший пример того, что песня ПОЛНОСТЬЮ вышла из-под контроля автора: дворянин, сапёрный капитан Руже де Лилль и не помышлял о борьбе с монархизмом, всю энергию направив на внешнего врага, и сочинил он не гимн, а походный марш. Когда его песня стала знаменем революции, он отрёкся от неё перед мэром города (вероятнее всего, Марселя).
(обратно)59
Из слов Дегейтера и Данилина, строго документальные, цитируются по стенограмме.
(обратно)60
К сожалению, этот прогноз сбылся: Вандомская колонна, этот символ захватнических войн Наполеона I, была восстановлена в 1875 году.
(обратно)61
Многие русские поэты считали своим долгом, побывав в Париже, написать об этом трагическом месте во французской столице. Как правило; их постигали творческие неудачи; холодный огонь, плохое знание истории, отсутствие глубоких и органичных для русской поэзии обобщений.
Из прозаических произведений наиболее удачным представляется очерк Ольги Форш «Кладбище Пер Лашез» опубликованный в журнале «Красная новь» в 1928 году. Форш особое внимание обратила на то, что Стена Коммунаров находится на самой окраине кладбища, что кладбище действующее и имеется крематорий. Если бы эта земля не была местом массового расстрела оставшихся в живых защитников Парижской Коммуны, то оно не получило бы всемирной известности. А Франсуа Лашез был иезуитом, духовником короля Людовика XIV Именно здесь находился дом Лашеза. Впоследствии тут была построена часовня. Как вы видите, всё это – вопиющий контраст самых реакционных и самых прогрессивных сил в истории Франции!
(обратно)62
Француженки получили доступ к избирательным урнам лишь через год после окончания Второй мировой войны.
(обратно)63
Именно такой лозунг был и у Гитлера.
(обратно)64
Один из самых острых и запутанных вопросов в биографии Пьера Дегейтера. У Н.А. Сотникова в пьесе строга документальная основа: авторство у Пьера украли Делори, владелец типографии и примкнувший к ним младший брат Пьера Адольф. А вот как трактует ситуацию К. Дымов в статье «Поэт рабочей Франции» (к 200-летию со дня рождения автора «Интернационала»): «Сам Пьер Дегейтер опасался преследования и поэтому на титульном листе брошюрки с текстом и нотами попросил поставить лишь его фамилию без имени» («Правда», 11–12 октября 2116 г.). Пьер Дегейтер мог быть пылким, резким с врагами, но трусом он никогда не был. Попросить владельца типографии он не мог бы в любом случае, хотя бы потому, что при сём не присутствовал.
(обратно)65
Текст письма Адольфа Пьеру подлинный. Публикуется со всеми стилистическими и пунктуационными ошибками. Адольф ушёл из жизни 15 февраля 1916 года. Письмо пришло к Пьеру лишь в 1918 году Перед нами пример специального драматургического «сдвига по времени».
(обратно)66
Пьер Дегейтер в 1929 году 5000 франков (Н.А. Рубакин в его бумагах нашёл расписки от муниципалитета и от управления кладбищем в получении этой суммы) заплатил за места и склепы на кладбище в Сен-Дени для себя и покойнойжены в вечное пользование.
(обратно)67
Партийное издательство «Пролетарий» было создано в 1922 году Харьковским губкомом, затем перешло в ведение ЦК КП б)У В 1930 году влилось в Госиздат Украины.
(обратно)68
Кооперативное издательство «Прибой» было создано по постановлению Петроградского губкома. РКП (б) в 1922 году Выпускало кроме книг журналы и газеты. В 1927 году было объединено сЛенгизом (в дальнейшем – Лениздат). Находилось по адресу: улица Герцена, 15.
(обратно)69
КИМ – Коммунистический Интернационал молодежи.
(обратно)70
10 августа 1926 года Дегейтер был на вечере в музсекторе ГИЗа. Все сотрудники собрались приветствовать гостя, на которого большое впечатление произвел небывалый для него концерт: пели черкешенка, армянин и русский. Все они были в национальных костюмах, исполняли свои национальные песни. Завершило вечер исполнение «Интернационала» всеми собравшимися.
(обратно)71
Живительное дело – был человек более чем популярен у себя на родине во Франции, за рубежом, прежде всего в СССР. Например, в нашем городе на Неве был завод имени Марти. Помню рассказы моего деда адвоката о том, что ему предлагали поработать на этом заводе юрисконсультом. Более того, некоторые родители давали своим новорожденным мальчикам имя Марти. Знаю случай, когда будущий историк русской литературы и активный критик современной русской художественной литературы в юности добровольно поменял на МАРТИ свою обычную и довольно распространенную фамилию. Впоследствии он с такой же решимостью вернул исходную фамилию, в анкетах и в автобиографии подчеркнув, что он отказался от чужой ему фамилии.
Когда мне по редакционным делам надо было получить справку об Андре Марти, я этого сделать не смог, ибо НИ В ОДНОМ доступном мне справочнике он даже не упоминался! И вот сейчас появился текст в Интернете, хотя и с оговорками: текст, мол, апробацию у специалистов не прошёл! О главарях фашистских режимов есть сведения, а об одном из самых активных деятелей Коминтерна – ни слова! Есть во всем этом нечто странное и загадочное…
Почти полвека у нас в стране его имя упоминалось крайне редко. Желающие могут обратиться к Википедии. Скажем лишь, что он был обвинён в сотрудничестве с полицией (какой?) и исключён из членов ФКП в декабре 1952 года. Умер от рака лёгких 23 ноября 1956 года.
(обратно)72
Марсель Кашен (1869–1958) – выдающийся деятель французского и международного коммунистического движения, один из основателей в 1920 году Французской коммунистической партии. С 1918 года по 1958 год – дирктор газеты «Юманите». С 1940 года по 1944 год – участник Движения Сопротивления… Награждён орденом Ленина.
(обратно)73
С таким утверждением согласиться нельзя: как резчик по дереву Дегейтер был мастер первоклассный.
(обратно)74
Имеется в виду сын Пьера Жюль, тоже музыкант, погибший в Первой мировой войне.
(обратно)75
Написан этот текст в 1978 году.
(обратно)76
Этот «маленький мебельщик» имел почётные грамоты за своё мастерство.
(обратно)77
Я советовался со специалистами в психиатрии. Их общее мнение (они не знали друг друга) таково: это психическая реакция в канун гибели.
(обратно)78
С. М. Киров ориентировал редакцию на читательские круги интеллигенции и учащихся. Вообще, странно выглядят попытки сотрудников «Вечернего Ленинграда» и тем более «Вечернего Петербурга» (!) вести своё происхождение от «Вечерней Красной газеты». «Вечёрка», рождённая после войны, к той газете никакого отношения не имеет!
(обратно)79
В то время сумма в 100 долларов была куда более весомой, нежели впоследствии.
(обратно)80
Разбирая (уже в который раз!) отцовские бумаги, я случайно нашёл газетную вырезку (она была сложена вдвое и как бы затерялась среди других близких по содержанию публикаций). Читаю: «Вечерняя Красная газета», номер от 31 октября 1932 года. Рубрика «Письмо из Парижа». Заголовок: «Пьер Дежейтер». Автор: ЮНИОР, то есть, А. Н. Рубакин! Это очень ценная находка. Дело в том, что текст заметок Рубакина о Пьере Дегейтере весьма плодотворно можно сравнить с письмами Рубакина отцу. Конечно, какой-то процент погрешностей надо «бросить» на литературного сотрудника, готовящего текст для публикации в газете, но не всюду же он равномерно сумел «напортачить»!
Что нас с высоты нынешнего времени принципиально не может устроить в тексте Рубакина? Какое-то равнодушно-высокомерное отношение к Сен-Дени, рабочему пригороду Парижа. Второе – утверждение о том, что родители Дегейтера были фламандцами. Они были чистокровными французами, что не раз подчёркивал и сам Дегейтер, и те, кто о нём писали. Это – совсем иной национальный характер. Третье – мельком брошенная фраза о том, что Пьер «мало разбирался в национальностях». Он что же, дикарь из тропиков? Пьер был весьма начитанным человеком, постоянно интересовался политикой. Да и творчество его и музыкальное, и поэтическое – сугубо французские по стилю и духу. Самая страшная ошибка Рубакина – в утверждении, что присвоение авторства музыки «Интернационала» младшим братом Пьера Адольфом – это «какие-то личные интриги местных социалистов». Нет, это острейшая классовая борьба! Да и назвать Адольфа тех лет рабочим нельзя: это сперва писарь, а затем советник мэра весьма крупного города Франции.
(обратно)81
Работала Люсьена в крупной фирме в Париже и получала примерно 1500 франков в год от продажи нотных текстов двоюродного деда и грамофонных пластинок с записью «Интернационала». Первый муж её матери погиб во время Первой мировой войны, а отчим долгое время, в том числе и в 1934 году, был безработным. У Люсьены дома хранились мебель и статуэтки из дерева, сделанные Пьером Дегейтером, а также его автопортрет. Оказывается, Пьер Дегейтер неплохо рисовал и любил сам иллюстрировать свои нотные рукописи. Необычайно широких дарований был человек!
(обратно)82
Вероятно, А. Н. Рубакин был хорошо осведомлён и о внутрипартийных делах КПФ, знал актив партии. Возьмём хотя бы такой факт: гражданин СССР, служащий Полпредства СССР в Париже читает курс лекций по гигиене и организации здравоохранения в Рабочем университете при ФКП.
(обратно)83
По тем временам тираж в 5 000 экземпляров был мал.
(обратно)84
Да и мелкая, и средняя буржуазия во Франции, по свидетельству А. Н. Рубакина, была крайне многочисленна – 12 миллионов мелких и средних хозяев на 41 миллион жителей! («Над рекою времени», с. 208).
(обратно)85
Как свидетельствует А. Н. Рубакин в той же книге, в годы немецкой оккупации Дорио «любил показываться и даже сниматься в мундире фашистских эсэсовцев». Такова эволюция этого предателя.
(обратно)86
Ирония судьбы: ведь они оба немало лет были членами Московской писательской организации, хотя и числились в разных творческих объединениях (в других писательских организациях были секции): один – документалист, другой – драматург! Но друг о друге не знали!
(обратно)87
Этот тезис на примере из истории арабской поэзии подтвердил Н. В. Гончаренко в монографии «Гений в искусстве и науке» (М.: Искусство, 1991. С. 177).
(обратно)88
Ведь он не уезжал в Бельгию в самые тяжёлые времена своей судьбы, а оставался французом во Франции.
(обратно)89
Ходжа-Эйнатов Леон Александрович (1904–1954) – композитор дирижёр заведующий музыкальной частью ряда ленинградских театров в довоенные годы. Как композитор в своём творчестве уделял большое внимание историко-революционной тематике: написал оперу «Мятеж» (по Д. Фурманову); симфонический рассказ «Сорок первый» (по Б. Лавренёву); реквием «Памяти В. И. Ленина»; в годы Великой Отечественной войны создал симфоническую поэму «На Балтике» и симфоническую повесть «Отечественная война».
(обратно)90
Гладковский Арсений Павлович (1894–1945) – композитор хормейстер автор оперы «За Красный Петроград», музыкальной поэмы «Памяти двадцати шести бакинских комиссаров» и других произведений. До войны Гладковский возглавлял Горком композиторов (аналогичный Горкому писателей при Ленинградском отделении Литфонда СССР). Эти организации профсоюзного рода объединяли композиторов и писателей, не вступивших, не вступавших или не принятых в Союзы соответственно композиторов и писателей. Работа эта была хлопотная, нервная и не престижная. Вот она-то и подорвала здоровье Гладковского.
(обратно)91
Избрала – не совсем точное слово. Как утверждают знатоки и прежде всего музыковед С. Дрейден, документа о выборе «Интернационала» гимном Советского Союза не обнаружено. Партийным гимном «Интернационал» тем более стал по традиции, в какой-то степени стихийно. Утверждение, что В. И. Ленин и Я. М. Свердлов буквально навязали «Интернационал» в качестве гимна, по меньшей мере абсурдно.
(обратно)92
Уточнение: не бульвар а сквер.
(обратно)93
Внучатая племянница Пьера Дегейтера.
(обратно)94
Это полный вариант текста заявки. Был ещё краткий, найденный в архиве Н. А. Сотникова.
(обратно)95
Имеется в виду фильм Жана Ренуара «Марсельеза» 1938 года.
(обратно)96
Самое удивительное и горестное в том, что Франция того времени невероятно похожа на современную Россию.
(обратно)97
Право голоса на выборах француженки обрели лишь в 1946
(обратно)98
Главпур (сокр.) – Главное политическое управление Армии и Флота.
(обратно)99
«У автора “Интернационала”».
(обратно)100
Фридрих Зорге (1828–1906) – немецкий марксист, ученик Карла Маркса и Фридриха Энгельса. С его внуком легендарным советским разведчиком Рихардом Н. А. Сотников встречался в 20-е годы как издательский работник и принимал участие в издании политико-экономических брошюр Рихарда.
(обратно)101
Что означает «Маленькая республика».
(обратно)102
Это отнюдь не полный список. В частности, не упомянута песня Пьера Дегейтера «Электричество в Лилле».
(обратно)103
Как довженковед не могу не дополнить эти слова таким примером. В фильме «Повесть пламенных лет» (сценарий А. П. Довженко, постановка Ю. И. Солнцевой) исполнитель главной роли в ключевых сценах выглядит просто богатырём. Когда я лично познакомился с исполнителем роли сержанта Орлюка артистом, поэтом, режиссёром и драматургом Миколой Винграновским, то был потрясён – он совсем не высокого роста! Оказывается, по заветам Довженко, Солнцева его так специально снимала для широкоформатного экрана вместе со своими операторами Ф. Ф. Проворовым и С. А. Темереным. Так у нас на глазах рождалось чудо.
(обратно)104
В блистательной киноповести «Земля», написанной А. П. Довженко по своему фильму в 1952 году спустя 23 года после постановки этой немой киноленты, названной в числе лучших фильмов всех времён и народов, в сцене похорон комсомольца Василя, павшего от кулацкой пули, так говорится о творении Потье и Дегейтера: «Песни вливались в процессию со всех улиц и переулков беспрерывно, словно потоки в великую реку Староказацкие и чумацкие мотивы, и песни труда и любви и борьбы за волю, и новые комсомольские песни, и “Интернационал, и “Заповит», и “Побратался сокол с сизокрылым орлом – ге-гей, брат ты мой, товарищ мой!.. ” и снова “Все мы в бой пойдём за власть Советов – всё сочеталось в едином потрясающем звучании. Поющие охватывали песнями целые века своей жизни». Но самое удивительное то, что поют эти песни в НЕМОМ фильме, и мы, зрители, видим и даже слышим, когда начинают петь именно «Интернационал»! А до этих кадров идут легендарные титры, переведённые на десятки языков всего мира: «И БУДЕМ ПЕТЬ НОВЫЕ ПЕСНИ ПРО НОВУЮ ЖИЗНЬ». Какая неожиданная перекличка с песней Пьера Дегейтера о Красной Деве Луизе Мишель, друге Эжена Потье!
(обратно)105
Родители Пьера Дегейтера родом из Бельгии. Пьер родился в Генте. Бельгийцем себя не считал, осознавая себя сыном Франции. Вообще-то французы не очень жалуют бельгийцев и до сих пор (!) распевают песенку Беранже «Зачем, бельгийцы, вам король?..», обожая колкие и ядовитые анекдоты на бельгийские темы. Лично я общался (на русском языке, конечно) с тремя парижанами в разное время, и каждый из них (это были две молодве женщины и один сдреднихлет мужчина) почти сразу же предлагали мне послушать новый анекдот «про этих самых бельгийцев». Так же англичане буквально обожают злые анекдоты про шотландцев. Так что говорить о каком-то «мировом сообществе» (новый мыльный термин) не приходится совсем.
(обратно)106
Ювенал – древнеримский сатирик. Его имя стало нарицательным.
(обратно)107
Недаром эта строка стала заголовком послесловия к повествованию, которое вы сейчас читаете.
(обратно)108
Слова Владимира Маяковского.
(обратно)109
Также было в годы блокады и на Ижорском заводе.
(обратно)110
И отрывных, и перекладных впереди гимна СССР.
(обратно)111
Без указания имени автора и переводчика.
(обратно)112
О X. Раковском см. далее.
(обратно)113
Как справедливо утверждает С. Дрейден, не было и законодательного акта, утверждавшего «Интернационал» как гимн партии и государства.
(обратно)114
Лефрансе был также членом Первого Интернационала.
(обратно)115
Эти воспоминания отца претворились в мою поэму «Гоголь-моголь». См. стр. 747.
(обратно)116
Тем огорчительнее было узнать, что Монтан в конце жизни выступал против СССР. Однажды мне на глаза попался фотоснимок «Монтан у собственного “Роллс-Ройса”». Эту марку задаром не дают.
(обратно)117
«Дети райка» – превосходный фильм Марселя Карне, глубоко народный.
(обратно)118
Полпредства.
(обратно)119
К величайшему сожалению, никаких сведений об этой киноленте мне собрать не удалось.
(обратно)120
Здесь теперь узбекский ресторан.
(обратно)121
Гугеноты – сторонники кальвинизма (протестанты, враги Римского Папы) во Франции XVI–XVIII веков. В их песнопениях отчётливо звучал протест и против социального угнетения.
(обратно)122
Сейчас такой тираж весьма солиден.
(обратно)123
Так сказать – кощунство.
(обратно)124
Подлинные слова Эжена Потье о Беранже.
(обратно)125
Прочтение Н. Ю. Дуровой рукописи Н. А. Сотникова «Из поколения в поколение» носило не только ознакомительный характер (в полном объёме Дурова этот текст прежде не видела), но и представляло из себя выборочное научное редактирование, особенно, когда дело касалось семейных реликвий, датировок, уточнения ситуаций, а порою и мест действия. Естественно, свободнее себя Н. Ю. Дурова чувствовала, читая главы, посвящённые Великой Отечественной войне и послевоенному периоду, ибо довоенный период она могла знать только по рассказам бабушки, тёти, отца и старейших сотрудников Уголка зверей.
(обратно)126
См. текст очерка на стр. 105–117.
(обратно)127
Полных данных нет, но, скорее всего, братья Дуровы были первыми потомственными дворянами на арене.
(обратно)128
«Тable-Talk» – застольные беседы (англ.).
(обратно)129
В ту пору сотрудниками назывались не штатные работники журналов, как ныне, а представители авторского коллектива.
(обратно)130
В архиве отца сбереглась справка 1925 года, подтверждающая эти слова. См. тетрадь иллюстраций в этом томе.
(обратно)131
Может быть, и эти навыки помогли Войцех сыграть роль Марютки в немой экранизации рассказа Бориса Лавренёва «Сорок первый».
(обратно)132
Исключение из правила – Н. Ю. Дурова в конце жизни включала в программу удава.
(обратно)133
План «помощи» США послевоенной Западной Европе, выразившийся в экономическом, политическом и военном её закабалении, получил своё название по фамилии дипломата, военного и государственного деятеля США Джорджа Кэтлетта Маршалла (1880–1959), в 1947–1949 годы – госсекретаря США.
(обратно)134
Должность отца называлась ответственный секретарь, то есть заместитель председателя Совета по драматургии.
(обратно)135
См. этот уникальный снимок в тетрадке иллюстраций.
(обратно)136
Этот текст представляет из себя расшифровку магнитофонной записи после тщательной реставрации и перезаписи, произведённых звукооператором «Аентелефильма» Еленой Николаевной Порфиръевой. Пользуясь случаем, выражаем ей сердечную благодарность за её большой и кропотливый труд\ благодаря которому буквально из небытия удалось воскресить текст этой давней радиопередачи. В процессе реставрации не всю плёнку можно было расшифровать и перенести на новую, чистовую. Поэтому кое-где слова восстановлены по смыслу. В тексте устранены также некоторые повторы, явные оговорки, ибо это безусловно не чистовая запись для выхода в эфир, а черновая, подготовительная.
(обратно)137
Владимир Леонидович Дуров – родной дед Ю. В. Дурова, а Анатолий Леонидович – дед двоюродный.
(обратно)138
В. Л. Дуров и А. Л. Дуров рано потеряли отца и мать, на попечение их взял их крестный отец Н. 3. Захаров.
(обратно)139
В 1971 году Ю. В. Дурову было присвоено звание Народный артист СССР-
(обратно)140
К началу 70-х годов на аренах выступали дочь Ю. В. Дурова Н. Ю. Дурова, его сын Ю. Ю. Дуров, а также внучка А. Л. Дурова Т. В. Дурова.
(обратно)141
Предварительной цензуры письменного текста в цирке не требовалась, посему цирковая арена была, пожалуй, единственной бесцензурной зрелищной площадкой в царской России. Но уже сказанное или показанное местные власти могли тут же запретить, и запрещали со всеми негативными последствиями для циркачей.
(обратно)142
Виталий Ефремович Лазаренко (1890–1939) – выдающийся клоун-сатирик, киноактёр, акробат-прыгун, на арене с восьмилетнего возраста.
(обратно)143
Бим-Бом – клоунский дуэт, в которым неизменным был И. Радунский (Бим), а Бома в разные периоды исполняли Ф. Кортези, М. Станевский, Н. Вильтзак и наконец Н. Камский. Ю. В. Дуров, скорее всего, имеет в виду М. Станевского, так как И. Кортези утонул в 1897 году.
(обратно)144
Братья Таити (Феррони) – Константин Константинович (1888–1974) и Леон Константинович (1892–1973) – музыкальные клоуны-сатирики, в дуэте – с 1900 года.
(обратно)145
Текст стихотворного монолога В. Л. Дурова в исполнении Ю. В. Дурова отличается от текстов, цитировавшихся в книгах и периодике. Вероятно, Ю. В. Дуров читал текст экспромтом, по памяти.
(обратно)146
Это утверждение представляется слишком категоричным, особенно применительно к В. Л. Дурову, который дрессировкой как таковой и в молодые годы интересовался больше, чем его брат.
(обратно)147
Вернее сказать, дом был возвращён – ведь до реквизиции здания под склад кож в годы войны он принадлежал с 1908 года В. Л. Дурову на правах собственности. 9 сентября 1919 года Уголок был передан в ведение научного отдела Наркомпроса, а В. Л. Дуров был назначен его заведующим.
(обратно)148
Точнее сказать – научно обосновывается.
(обратно)149
Безболезненный метод дрессировки применялся и прежде, хотя и редко и не столь последовательно и целенаправленно, например, немецким дрессировщиком и зоопрмышленником Карлом Гагенбеком, о чём он поведал в соей книге «О зверях и людях». Она по крайней мере дважды издавалась в нашей стране.
(обратно)150
По всей вероятности; это имя и отчество радиожурналистки; которая готовила радиопередачу о Ю. В. Дурове для детской редакции.
(обратно)151
Ю. В. Дуров имеет в виду ряд статей и проблемных очерков, вызвавших большой общественный резонанс. Таких очерков и статей было немало в прессе конца 60-х годов. Был и публицистический фильм (Сергея Образцова) о том, как ненависть к животным делает человека преступником – «Кому он нужен этот Васька?».
(обратно)152
Автор стихотворного монолога – Юрий Благов.
(обратно)153
Своего прадеда В. Л. Дурова Н. Ю. Дурова чаще всего в интервью и авторских выступлениях именовала ДЕДОМ, а не ПРАДЕДОМ.
(обратно)154
Известный цирковой писатель Юрий Благов, в прозе и в ститах повествовавший о цирке и его людях, написал специально для Ю. В. Дурова стихотворный монолог во славу собаке, верной помощнице человека с незапамятных времён.
(обратно)155
Имеется в виду Театр зверей.
(обратно)156
Типично дуровская творческая позиция: даже несомненные личные творческие достижения приписывать тому или иному любимому животному
(обратно)157
Классически известная фотография «В. Л. Дуров и Карл Гагенбек кормят морского слона». В. Л. Дуров мечтал его приобрести и заняться его дрессировкой. К сожалению, эта мечта не осуществилась. А вот правнучке В. Л. Дурова повезло – она научила своих морских слонов быть цирковыми артистами!
(обратно)158
Эта фраза, конечно, – не признание моего соавторства с отцом, о чём и речь быть не может, а дань моим редакционно-издательским трудам и заботам как ответственного секретаря Комиссии по литературному наследию отца. Н. Ю. Дурова являлась членом этой Комиссии.
(обратно)159
Речь идёт о красочном переиздании знаменитой книги В. Л. Дурова «Мои звери» в Петербурге издательством «Олма-пресс-групп» с иллюстрациями художника Владимира Черноглазова.
(обратно)160
Манеж, или арена, всегда имеет диаметр 13 метров.
(обратно)161
Эта песня особенно понравилась Н. Ю. Дуровой, которая стала вспоминать спектакли и фильмы, повествующие о цирковых судьбах. Среди любимых своих фильмов она назвала две кинокартины Ф. Феллини: «Дорога» и «Клоуны». Некоторые мои песни Н. Ю. Дурова включала в репертуар своего Театра Зверей и читала некоторые стихи из цикла «Когда число «тринадцать» – счастливое число!..» в своих выступлениях перед читателями.
(обратно)162
Имеется в виду широкий шаг из зрительного зала на арену. Обратный шаг – это уже признак высочайшего мастерства, когда циркач включает зрительный зал в свою программу В остальных случаях барьер – словно невидимая круглая стена вокруг арены.
(обратно)163
Так неожиданно в стихотворении оказалась строка из названия повествования Н. А. Сотникова.
(обратно)164
Божедомка – прежнее название улицы Владимира Дурова.
(обратно)165
Это самое первое стихотворение цикла: я начал его писать в 1959 году и первый вариант показывал Юрию Владимировичу Дурову. В зрелом творческом возрасте я этот текст переработал.
(обратно)166
Статью «О смертной казни» В. А. Жуковский написал за три года до своей кончины. Умер он в 1852 году
(обратно)167
Вот для примера «шедевры» Розена как стихотворца и либретиста: «Нерозан в саду в огороде – цветёт Антонида в народе». «В поле чистое гляжу, в даль по реке родной очи держу». «Ты вся для земного житья, грядущая жёнка моя»… Комментарии не нужны!
(обратно)168
Если в игровом фильме «Кольцов» Жуковский показан хотя и эскизно, но в целом верно, то в научно-популярном фильме «Больше, чем поэт» (студия «Леннаучфильм») он как воспитатель Александра II просто обожествляется.
(обратно)169
Н. А. Сотников. Славься! Пьеса в четырёх действиях с эпилогом. Сборник «Литературный Смоленск», книга 13. Смоленское книжное издательство, 1954: (Датировка написания пьесы– 1952–1954).
(обратно)170
Пе́нник (здесь) – крепкое хлебное вино.
(обратно)171
Вот именно тут самое место сделать финансовый комментарий, не самый главный в искусстве, но без того, что есть доход и что есть расход, многое во времена даже сравнительно недавние не понять! Я, например, своим ученикам начинаю урок с объяснения того, какие были зарплаты в послевоенные годы и в период до 1991 года и какие товары и услуги сколько стоили. Моему, послевоенному поколению, никак не понять довоенные деньги. Разбирая архив отца, я нашел справку, которая подтверждает то, что Н. А. Сотников получает 225 рублей! Я спросил в изумлении отца: «Почему так мало! Отец ответил: «Это – пик НЭПа, 1928 год. По этим цифрам шло и тайно продолжает идти исчисление, например, пайков для высокой номенклатуры, которая за килограмм мяса или масла платит символические сущие копейки. А в ту пору квалифицированный станочник на Путиловском заводе редко «выжимал» свыше 80 рублей. Так что получал я не так-то мало!» Что уж говорить о XIX веке, о его первой половине! Отец Глинки был помещик средней руки, но сахарозаводчик, конечно, не такой, как Терещенко в конце XIX века (его дворец в Киеве – ныне Музей западноевропейского искусства!), но всё же владелец оборотистый. Это он прибедняется перед сыном. А сын в Министерстве путей сообщения как титулярный советник, чиновник X класса, получал не так-то мало: 1500 рублей в год, плюс 1000 рублей столовых! Пушкин – куда меньше! Вероятно, была какая-то протекция, да и вообще с приёмом и увольнением Глинки не всё ясно…
(обратно)172
«Вальс цветов» – сочинение П.И.Чайковского.
(обратно)173
«Вальс-фантазия» – сочинением. И. Глинки.
(обратно)174
По сути дела, Николаев – это сам автор пьесы Н.А. Сотников.
(обратно)175
Таков же был девиз и у братьев Дуровых.
(обратно)176
Зинаида Кириенко вскоре выйдет на всемирный экран, отлично сыграв роль Марии в фильме Юлии Солнцевой по сценарию Александра Довженко «Повесть пламенных лет».
(обратно)177
Второй семилетки уже не было, ибо закончилось «великое десятилетие» Хрущёва. А семилетку пришлось учредить, когда лопнули основные показатели очередной пятилетки.
(обратно)178
Ныне эта цифра не впечатляет: угодья у современных хозяев во много раз больше.
(обратно)179
Опаснейшая инициатива Н. С. Хрущёва была отменена, но дров наломано немало!
(обратно)180
«Хроника» и «Новости дня» – московские кинотеатры.
(обратно)181
Всеволод Никанорович Иванов в ту пору был увлечён работой над романом «Чёрные люди» о событиях XVII века в России и был буквально напоён речью того времени.
(обратно)182
Этот уникальный документ в числе первых я сдал в Центральный архив литературы и искусства.
(обратно)183
Мура́ново – соседний с Абрамцево посёлок, тоже славный своим историко-литературным прошлым.
(обратно)184
«Адские водители» – остросюжетный французский фильм.
(обратно)185
«Машинист» – лучшие фильмы итальянского
(обратно)186
«Крыша» неореализма
(обратно)187
«Неоконченная повесть» – большая удача Ленфильма.
(обратно)188
«Фальшивая монета» – лучшие египетские фильмы
(обратно)189
«Борьба в долине» 50-х годов
(обратно)190
Мой двоюродный прадед по отцовской линии Григорий был личным и главным поваром князя Кочубея.
(обратно)191
Еда́льня (укр.) – столовая.
(обратно)192
Годува́ть (укр.) – делать, строить…
(обратно)193
Корсунь-Шевченковская операция – одна из блестящих военных операций Великой Отечественной войны.
(обратно)194
Вучетич Евгений Викторович (1908–1974) – выдующийся скульптор-монументалист. Автор памятников Ф. Дзержинскому, Ермаку, мемориалов в Берлине и на Мамаевом кургане.
(обратно)195
Аникейчик Анатолий Александрович (1932–1989) – белорусский скульптор-монументалист, народный художник Белоруссии, лауреат Государственной премии Белоруссии, автор мемориальных комплексов «Прорыв» (у посёлка Ушачи) и «Проклятие фашизма» (на месте деревни Шунёвка), скульптурных портретов М. Фрунзе, В. Маяковского, Бетховена, принимал участие в художественном оформлении Минского метро.
(обратно)196
Булава́ – символ власти гетмана Украины.
(обратно)197
Хо́ртица – легендарный остров на Днепре, столица наша запорожская.
(обратно)198
Дивная украинская песня:
Катерина, вражья жинка! Шо ты наробыла! Край веселый, край шастлывый горем наделыла! (обратно)199
Кастальский ключ – символ неиссякаемого поэтического вдохновения.
(обратно)200
Звенигора – дивный образ из одноимённого фильма А. П. Довженко, символ клада народного счастья.
(обратно)201
Маруся Чура́й – легендарная запорожская поэтесса и певица, героиня превосходного романа в стихах Лины Костенко.
(обратно)202
Зброя – оружие.
(обратно)203
Белов и Доватор – легендарные полководцы-кавалеристы времён Великой Отечественной войны. Л. М. Доватор (1903–1941) – генерал-майор. П. А. Белов (1897–1962) – генерал-полковник, в годы войны командовал кавалерийским корпусом. Впоследствии занимал крупные военные посты.
(обратно)204
Богунцы́ и тараща́нцы – красные полки на Украине времён Гражданской войны. Названы так в честь давних запорожских героев.
(обратно)205
Бывало просят деда Афанасия молодые рабочие: «Кажи, Панас, промову!» (то есть речь), а дед им отвечает: «Яка така промова! В воскресение всем быть в балке, взять с собой еды, кваску… Буду учить вас стрелять из револьвера с двух рук!» Много они донцов, любимцев Шолохова, перестреляли тогда, в 1905 году!
(обратно)206
Я лично далеко не всех учеников и друзей отца (по всей-то России!) знал. Значит, отец им рассказывал обо мне.
(обратно)207
Сборник «Были пламенных лет» (тираж 100 000 экземпляров) был раскуплен за несколько дней.
(обратно)208
Цитата из монолога Гамлета.
(обратно)209
Роман известного прозаика, публициста и педагога А. С. Макаренко так и назывался – «Флаги на башнях».
(обратно)210
КПП – Контрольно-пропускной пункт.
(обратно)211
«Встреча на Эльбе» – так назывался советский фильм 1949 года.
(обратно)212
Песня эта исключительно мужская (женского исполнения никак не припомнить!). В последние годы певцы поют эту песню без этого куплета, тем более без слов о том, что «мы этой памяти верны»! Сейчас они звучат более чем несовременно.
(обратно)213
ГРУ – Главное разведывательное управление.
(обратно)214
«Лейка» – английский плёночный, весьма надёжный фотоаппарат военных лет. Почти все самые известные фотоснимки из летописи Великой Отечественной войны сделаны «лейкой», увековеченной Константином Симоновым в песне о военном корреспонденте: «С “лейкой” и с блокнотом, а то и с пулемётом сквозь огонь и стужу мы прошли».
(обратно)215
Эту тему мне подсказал мой отец который очень любил и ценил работу фронтовых кинооператоров.
(обратно)216
Курсивом набраны слова Александра Твардовского из поэмы «Василий Тёркин».
(обратно)217
Отец обрёл последний свой московский адрес в писательском городке вблизи Ленинградского проспекта. Так до конца москвичом он и не стал!
(обратно)218
Макс Клаузен – радист Рихарда Зорге.
(обратно)219
Камарад – товарищ.
(обратно)220
«Середина века» – итоговая поэтическая книга Владимира Луговского.
(обратно)221
«Ветер» – один из лучших рассказов Бориса Лавренёва.
(обратно)222
Выдающийся певец Иван Семёнович Козловский, друг Александра Петровича Довженко, пел над его гробом на гражданской панихиде в дубовом зале Центрального Дома литераторов.
(обратно)223
Великий Гёте, восхищённый образом Прометея, написал трагедию «Прометей».
(обратно)




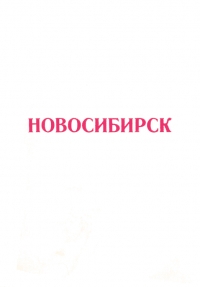




Комментарии к книге ««И дольше века длится век…». Пьесы, документальные повести, очерки, рецензии, письма, документы», Николай Афанасьевич Сотников
Всего 0 комментариев