Павел Кузнецов Русское молчание: изба и камень
Прочтя книгу, где с такой пронзительной живостью даны портреты Артура Шопенгауэра, Антонена Арто, Генри Торо, Жозефа де Местра, Шарля Бодлера, Генри Торо, Борхеса и Набокова, Леона Блуа, Юлиуса Эволы, Рене Домаля и многих русских мыслителей невольно приходишь к выводу: всё настоящее в мировой философии предельно смертно и беззащитно. Общество потребления и спектакля уже давно объявило войну мысли. Для толпы мыслящие «безумцы» опасны и непонятны. Но Божьей волей, именно они создают сакральную историю человечества. Вершины всегда одиноки. И «кратчайший путь между вершинами – прямая» (Ницше).
Татьяна ГоричеваИзба и камень (вместо предисловия)
Разверзлась Бездна, звезд полна, Звездам числа нет, Бездне – дна. Гавриил ДержавинПугачев…. на Волге встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам…
Александр Пушкин. «История Пугачева»События, произошедшие поздней осенью 1922 года в Петрограде у бывшего Николаевского моста на Васильевском острове, многократно описаны и хорошо известны. По этому поводу было пролито немало фальшивых слез.
В первых числах октября (2-го) в Германию отправился немецкий пароход «Обер-бургомистр Хакен», а 16 ноября вслед за ним последовал другой – «Пруссия». Если на первом в вынужденное изгнание отправились представители московского интеллектуального сообщества, то на втором места были отведены по преимуществу петербуржцам. Два «философских парохода» навсегда увезли из России по различным версиям от 250 до 300 человек – философов, историков, литераторов, экономистов, юристов, естествоиспытателей и т. д. Это беспрецедентное в мировой истории событие стало завершающим аккордом интеллектуальной истории петровской России.
Зимой 1990 года в кафе у Люксембургского сада я слушал двухчасовой рассказ, возможно, последнего очевидца этого исхода – французского искусствоведа, бывшего хранителя музея Фонтенбло Б.Л. Он покинул Петроград вместе со своим отцом, философом, в 85 лет обладал вполне ясным умом и живой памятью, чтобы воскресить подчас мельчайшие подробности, многие из которых не попали в его мемуарный очерк «К изгнанию людей мысли» (Впрочем, позднее, он описал это более подробно в своих мемуарах). Б. Л. рассказывал о голоде 1921 года, о праздновании Пасхи 1 мая, когда на Крестный ход у Казанского собралось почти пятьдесят тысяч человек, а навстречу им из костела Св. Екатерины вышли католики, чтобы приветствовать православных, об изъятии церковных ценностей и летних расстрелах, о суде над митрополитом Вениамином, о блестящих лекциях Льва Карсавина – последнего свободно избранного ректора Петроградского университета, о фантастических слухах и страхах – возможности высылки интеллигенции не в Германию, а в прямо противоположном направлении. Бюрократические препоны на вывоз имущества, книг, драгоценностей, валюты были чудовищны. Но москвичам, обитавшим в новой столице, удалось быстрее пройти все кафкианские процедуры и отправиться в эмиграцию на полтора месяца раньше.
Перед отправкой первого парохода в ночь на 2 октября 1922 года в квартире его отца Н. Л. ночевала семья Бердяевых, и вечером (за неким подобием ужина) между двумя мыслителями возник диалог, который Б. Л. запомнил в самых общих чертах. Бердяев со всей своей страстностью обрушился на петербургский бюрократический период российской истории, в котором он видел источник всех возможных зол, в том числе и многих кошмаров большевистской революции. Несравнимо более сдержанный Н. Л. соглашался со своим коллегой, но при этом замечал, что революция во всем ее скифско-большевистском варварстве есть не что иное, как восстание старой допетровской «бунташной Руси» против России современной, отчасти европеизированной, буржуазной, во многом соединившей себя с Западной Европой. Разговор между столь разными людьми был довольно сумбурен, они меняли позиции, как это часто бывает, противоречили сами себе. Однако общий смысл вырисовывался достаточно очевидно: если Февральская революция была (точнее, должна была стать) революцией вестернизаторской, то Октябрьская стала ее абсолютной противоположностью. Она явилась бунтом полуязыческой-полухристианской стихии, добившей как 300-летнию империю Романовых, так и либерально-западнические иллюзии Февраля.
Давняя мечта славянофилов о переносе столицы из Питера в Москву, наконец, осуществилась. О квазиславянофильском характере русской смуты, на десятилетия оторвавшей Россию от остального мира, вскоре начнут говорить наиболее проницательные писатели и на Западе – например, Томас Манн. Да и эмигранты, правда, значительно позднее, будут писать об этой парадоксальной иронии истории. Но тогда, в 1917–1918 гг., космополитическая мегаломания Ленина и Троцкого, на первый взгляд, никоим образом не спрягалась с любыми формами «славянофильства» или «почвенничества».
Первыми, кто почувствовал «раскольничий дух» революции, были крестьянские писатели (от Клюева и Есенина до Пимена Карпова и Сергея Клычкова), которые все без исключения приняли смуту как свою родную стихию.
В 1918 году великий певец исконной старообрядческой Руси Николай Клюев пишет замечательный цикл «Ленин».[1]
Есть в Ленине керженский дух Игуменский окрик в декретах, Как будто истоки разрух он ищет в поморских заветах, Мужицкая ныне земля, И церковь – не наймит казенный… ………………………. Есть в Смольном потемки трущоб, И привкус хвои с костяникой, Там нищий колодовый гроб С останками Руси великой.Существовала давняя, прежде всего, народническая традиция трактовки старообрядцев и сектантов как потенциальных революционеров в борьбе с Империей. Но в 1918 году, пожалуй, только Клюев с его звериным олонецким чутьем мог почувствовать в захваченном большевиками интернациональном Смольном не только дух Раскола, но и «нищий колодовый гроб с останками Руси великой». Впрочем, нечто схожее в облике вождя революции подметили и некоторые интеллектуалы:
«Забравшись на подмостки, он театральным жестом сбросил с себя плащ и стал говорить. Лицо этого человека содержало в себе нечто, что очень напоминало религиозный фанатизм староверов».[2]
Или: «Он был… глубочайшим выразителем русской стихии в ее основных чертах. Он был, несомненно, русским с головы до ног… А стиль его речей, статей, “словечек”? “Тут русский дух, тут Русью пахнет”. В нем, конечно, и Разин, и Болотников, и сам великий Петр…»[3]
В стихах, письмах и поздней прозе Клюева возникает достаточно целостная концепция неизбежного крушения «растленной имперской России».[4] Клюев появился в петербургских салонах в начале XX века, имел несомненный успех, но позднее в автобиографической «Гагарьей судьбине» этот период описан как самый ложный и опасный в его жизни:
«Литературные собрания, вечера, пирушки, палаты московской знати две зимы подряд мололи меня пестрыми жерновами моды, любопытства и сытой скуки. Брюсов, Бунин, Вересаев, марксисты и христиане, «Золотое Руно» и суриковский кружок мои знакомцы того нехорошего бестолкового времени… Писатели мне казались суетными маленькими людьми, облепленными, как старая лодка, моллюсками тщеславия, нетерпимости и порока.
Артисты были еще хуже, – но больше всего ужасался я женщин; они мне всегда напоминали кондоров на пустынной падали, с тошным запахом духов, с голыми шеями и руками, с бездушным, лживым голосом».[5]
К текстам Клюева можно добавить и характерный пассаж его собрата и единомышленника Сергея Есенина, еще в 1916 году выступавшего перед венценосной семьей в Царском Селе: «Россия… Царщина…/ Тоска/ И снисходительность дворянства/ Ну что ж! Так принимай Москва/ Отчаянное хулиганство./ Посмотрим кто кого возьмет! / И вот в стихах моих / Забила/ В салонный вылощенный сброд/Мочой рязанская кобыла».
Революционная смута, вспыхнувшая в столицах, быстро перешла в свою противоположность: она привела к крушению городов и разрушению городской культуры. Достаточно вспомнить улицы обезлюдевшего Петербурга, зарастающие травой, которой так опрометчиво восхитился Осип Мандельштам. Стократно описанные ужасы урбанистического выживания (ярчайший пример – «Пещера» и «Мамай» Замятина) заставляли не только «салонный сброд», но и мирных обывателей бежать либо за границу, либо в села и маленькие города, где жизнь была неизмеримо благополучней. Это время победы «Избы» и «Матери-сырой земли» над «Камнем» и «Железом» (их противопоставление – один из главных мотивов поэзии Клюева), святой крестьянской Руси – над молохом Империи.
Не вдаваясь в анализ этих начал, чье «противостояние» сыграло такую роль в русской истории, лишь замечу, что изначально смута возникла как раз вопреки тому, как это виделось почитаемому Клюевым горожанину Александру Блоку. Именно «святая Русь», «кондовая» и «избяная» пальнула в Россию городскую, каменную и европеизированную. Размашистая характеристика Шпенглера: Россия – это апокалиптический бунт против формы и культуры, – при всей своей односторонности в первом приближении достаточно точна. Именно в этом глубинный, а не эмпирический, сакральный, если угодно, герметический смысл русской революции. Это взрыв, выплеск подавляемого несколько столетий религиозного бессознательного, которое на поверхности может воплощаться подчас в совершенно фантастических, далеких от своей внутренней сущности формах. В развернутом виде эти же темы выражены и у такого вполне городского писателя как Борис Пильняк в романе «Голый год», о котором в свое время точно написал большевистский критик А. Воронский: «Мужики в освещении Пильняка за революцию потому, что она освободила их от городов, буржуев, чугунки; что вернула она Русь старую, допетровскую, настоящую, мужицкую, былинную, сказочную».
Понятно, что «святая Русь» амбивалентна; она святая, но она же и окаянная, двоящаяся, мутная, темная, страшная; как постоянно двоится облик и самого Клюева с его скоморошеством, лукавством, самоуничижением и самовозвеличиванием одновременно, с его подчас кощунственными стихами о Христе и Богородице и прямо-таки онтологической ненавистью к городской, «буржуазной», «развращенной» жизни,[6] без которой он, тем не менее, никогда бы не состоялся как поэт…
Итак, в этом невероятном алхимическом котле, породившем величайшую катастрофу в русской истории, смешались самые различные стихии: и неистребимое славянское язычество, и аввакумовский сектантский радикализм, и народно-православное чаяние «Града Небесного», и интеллигентский религиозно-философский утопизм, и городское анархическое будетлянство и «скифство». При всей своей несовместимости их объединяло одно: все они были скрыто или явно антизападническими, это был бунт против навязанных извне культурных форм. Сегодня об этом почему-то забылось, но послевоенный Советский Союз – это в своих основах крестьянская цивилизация, крестьянская страна. После изгнания и уничтожения интеллигенции антибольшевистской, «попутчиков», интеллигенции большевистской, послевоенных гонений, после того как крестьянство, начиная с коллективизации, хлынуло в города, мы получили структуру власти и культуру, которые на 9 /10 существовали благодаря выходцам из крестьян, достаточно посмотреть на корни руководителей всех рангов и вспомнить их непередаваемый говорок. Отсюда и высшее культурное достижение советской цивилизации в литературе – замечательная деревенская проза. Поэтому крушение 1991 года – это именно конец изолированной от внешнего мира, исчерпавшей себя «крестьянской цивилизации», существовавшей в квазикоммунистическом обличье.
Таким образом, высылка 1922 года не только не историческая случайность, злонамеренный произвол «красных негодяев» Ленина и Троцкого, а совершенно закономерный итог петровского периода русской истории, когда православная апофатическая культура, обернувшаяся чудовищным разгулом русского нигилизма, возвращает Европе ее бесценный дар – интеллектуалов-западников, ученых, писателей, буржуазных профессоров, русских европейцев, но, прежде всего, «вероотступников» и «еретиков». Отсюда становятся понятными и странности в отборе высылаемых: большевики отправляли на Запад не только своих явных врагов – философов, историков, экономистов, юристов, чьи взгляды по сборникам «Вехи», «Из глубины», «Освальд Шпенглер и “Закат Европы”» были хорошо известны, но и тех, без кого любая власть не сможет обойтись – профессоров-естественников, математиков, инженеров, биологов, даже почвоведов и агрономов…
Б. Л. рассказывал о проводах отъезжающих, о друзьях и родственниках, толпившихся на набережной, когда мало кто осознавал смысл происходящего – что это, спасение или катастрофа? Что будет дальше? Увидятся ли они когда-нибудь?… Он вспоминал об удивительно прекрасной погоде, стоявшей в середине ноября, – солнце, лазурное небо, штиль на заливе, – о том, как пароход медленно отполз от молчаливой растерянной толпы на набережной и поплыл мимо опустевших особняков с разбитыми окнами, ржавеющих, брошенных, умирающих кораблей, мертвых заводов, разгромленного обезлюдевшего Кронштадта, пока несчастный Петербург-Петроград окончательно не скрылся за горизонтом…
Часть I
Метафизический нарцисс и русское молчание (П. Я. Чаадаев и невозможность философии в России)
Мы не должны, не смеем замазывать противоречие тестом своих философем! Пусть противоречие остается глубоким, как есть. Если мир познаваемый надтреснут, и мы не можем на деле уничтожить трещин его, то не должны и прикрывать их.
о. Павел ФлоренскийКниги по истории русской мысли, богословию или философии часто начинаются со справедливого недоумения: «Что означает это вековое, слишком долгое и затяжное русское молчание?.. С изумлением переходит историк из возбужденной и часто многоглаголивой Византии на Русь тихую и молчаливую. И недоумевает, что это? Молчит ли она и безмолвствует в некоем раздумье, в потаенном богомыслии или в косности и лени духовной, в мечтаниях и полусне?»[7]
Из этого недоумения, перешедшего почти в отчаяние, собственно и родились «Философические письма» Чаадаева, где все вопросы впервые были поставлены резко и откровенно: «Где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто за нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь?»[8] Но сегодня речь идет уже не о «мудрецах и мыслителях» – за 150 лет их появилось предостаточно, – а о каком-то глубинном, онтологическом недоверии к метафизическому самопознанию, проявляющемуся на самых разных уровнях и в различных формах, – о тайне «русского молчания» (или «русского умолчания», как говорил Хомяков). И вопрос звучит иначе: почему при всей страстной любви к философствованию собственно философия и рефлективное мышление так и не стали плотью и кровью культуры, подлинным самосознанием?..[9]В свое время много было написано о равнодушии русских к «философской истине», «недоверии к идеям» (Н. Бердяев), о «русском ужасе перед всякой умственной независимостью» (К. Леонтьев) и даже об «одичании умственной совести» (о. Г. Флоровский) в определенные периоды русской истории, но самое главное по-прежнему остается неясным… Тем более, что после недолгого расцвета в конце XIX-начале XX века русская философия канула в небытие, как-будто ее не существовало – кажется, что она никого ничему не научила: ни общество, ни государство, ни церковь. Поэтому сегодня можно согласиться с утверждением, что в «интеллектуальной истории России мы имеем крайне редкий пример гибели философии». Эта «смертность, хрупкость, возможно, главная особенность русского мышления».[10]
Забегая вперед, нужно сразу же сказать, что все это связано с определенным преломлением на отечественной почве апофатической традиции греческой патристики, которая, будучи основой православного миросозерцания, была итогом тысячелетнего развития восточного христианства. В Древнюю Русь эта традиция пришла именно как итог, завершающее последнее слово и вошла в плоть и кровь русской жизни. В результате Россия стала страной «молчания и молитвы», где святость как отнологическая реальность являлась единственным критерием истины. Все это в целом породило неизбежное недоверие не только к богословскому и философскому мышлению, «еллинскому блядословию», как говорили на Святой Руси, – но и к культурному творчеству вообще, которое становится подозрительной роскошью в «царстве недумания», в противоположность богатству христианской мысли в Византии, «крестной матери» славян.
Чаадаев, при всем его интересе к богословию, патристики вообще не знал (слова о «жалкой Византии» остаются на его совести), как и у большинства русских мыслителей, у него не было учителей, ему приходилось «шарить в потемках», и своих наставников он мог найти только в западно-католической мысли. Чаадаев редкий пример философа par exellance, философа старого европейского типа, всецело поглощенного религиозно-философским творчеством, человека, волею судеб оказавшегося в «царстве русского молчания». На примере его драмы и несостоявшейся миссии можно проследить многократно повторявшееся столкновение между западной философией и русским «апофатическим сознанием». При этом Чаадаев совсем не является положительным героем, «рыцарем свободной мысли», каким его часто хотели представить. Он – более сложная фигура, как и сложна была та духовная реальность, с которой он вступил в неизбежный конфликт.
Метафизический нарцисс
… Находят, что я притворяюсь – как не притворяться, когда живешь с бандитами и дураками. Во мне находят тщеславие – это гримаса горя.
Я. Я. ЧаадаевИз смертных грехов Петр Яковлевич Чаадаев сполна обладал одним – невероятной, всем бросавшейся в глаза гордыней. Одинокий, холодный, независимый ум, чувство избранничества, презрение и ощущение неизбежного превосходства над окружающим миром – вот качества, присущие его загадочной личности.
В свое время Мандельштам и Розанов вывели из этих качеств все мировоззрение и философию Чаадаева. Первый – с восхищением и пиететом, второй, напротив, – с откровенной неприязнью.
«Современники изумлялись гордости Чаадаева, и сам он верил в свое избранничество. На нем почила гиератическая торжественность, и даже дети чувствовали значительность его присутствия, хотя он ни в чем не отступал от общепринятого…», – говоря о «басманном философе», Мандельштам даже впадает в довольно необычный для него величаво-патетический тон: «Все те свойства, которых лишена была русская жизнь, как нарочно соединялись в личности Чаадаева: огромная внутренняя дисциплина, высокий интеллектуализм, нравственная архитектоника и холод маски… которым окружает себя человек, сознавая, что в веках он – только форма, и заранее подготовляя слепок для своего бессмертия».[11]
Розанов же – как апологет бесформенности – просто рассматривая портрет Чаадаева, возмущался в письме к Гершензону: «Но какой отвратительный рот у Чаадаева, какое высокомерие, несносное для русского… Наконец Россия достигла состояния говорить с европейцами европейским языком: и этот первый говорящий – я, – говорят губы Чаадаева».[12] Сравнивая портреты «басманного философа» и князя Одоевского, Розанов пишет, что мраморное католическое лицо Чаадаева и открытое русское лицо Одоевского противостоят друг другу как противостоит Запад России, католицизм – православию, как холод одиночества – теплу семейственных связей…
Эта характеристика существенна, но далеко не полна: таким Чаадаев предстал русскому обществу, таким он слепил свой образ, такой была «холодная маска» на его лице. Чаадаев создал свой стиль и довел его до совершенства, стиль, состоявший из небрежно-изысканной одежды, язвительной иронии, дистанции и презрения. Стиль денди[13] и философа одновременно с «католицизмом замоскворецкого сноба» (Мандельштам) – явление в русской интеллектуальной истории единственное, совершенно исключительное, возможное только в эпоху «крепостнического рабства», столь часто Чаадаевым порицаемого, и образ мыслителя никак не вяжется с привычно-аморфным образом ученого-философа – подслеповатого человека, обсыпанного книжной пылью. Для Чаадаева – апологета формы и жесткого критика бесформенности – напротив, одежда и быт – вещи метафизические, но, конечно, не они создают личность, а наоборот: «Одевался он, можно положительно сказать, как никто… Очень много я видел людей одетых несравненно богаче, – вспоминает его племянник и биограф Жихарев, – но никогда, ни после, ни прежде, не видел никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы только достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью. В этой его особенности было что-то, что, не стесняясь, можно назвать неуловимым».[14]
Но и его духовный облик совершенно непохож на традиционный тип русского мыслителя, непризнанного миром и долгие годы в одиночестве сочиняющего русский трактат «обо всем», где все точки над i должны быть поставлены и все последние вопросы разрешены. Личность Чаадаева можно сравнить лишь с двумя столь же одинокими фигурами – Владимиром Соловьевым и Константином Леонтьевым. Розанов, Соловьева, как и Чаадаева, недолюбливавший, вспоминал о нем так: «Соловьев был странный, многоодаренный и страшный человек. Несомненно, что он себя считал и чувствовал выше всех окружающих людей, выше России и Церкви, всех тех “странников” и “мудрецов Пансофов”, которых он выводил в “Антихристе”… Он собственно не был “запамятовавший, где я живу” философ, а был человек, которому не с кем поговорить, который разговаривал только с Богом…».[15] Если убрать обычное розановское преувеличение, то это вполне можно отнести и к Чаадаеву, за исключением одного – Петр Яковлевич совсем не был «страшным человеком», да и вообще он жил в слишком наивную, уютную эпоху, когда «страшное» еще не наступило. Так или иначе, еще в большей степени, чем Соловьеву, ему «не с кем было говорить» и он разговаривал с Богом…
Оба они очень схожи в своем универсализме, беспочвенности и католических симпатиях. Но в отличие от вечного странника Соловьева, бездомного и безбытного, менявшего страны и континенты так же часто, как и многие свои взгляды, Чаадаев был «басманным домоседом» и монодеистом, десятилетия жившим в своем флигеле у Левашевых и повторявшим, в сущности, одно и то же… Но, видимо, изначально Чаадаев неизмеримо сильнее, чем Соловьев, был поглощен собой, он словно был заперт в себе и вел с самим собой бесконечную тяжбу. В этом смысле по своему типу, по степени привязанности к собственной личности его образ больше напоминает образ поэта-нарцисса, столь распространенного в Европе в то время, нежели «свободомыслящего философа».
Но есть нарциссизм и нарциссизм. Нарциссизм Чаадаева, разумеется, не имеет ничего общего с тем современным нарциссизмом, который встречается на каждом шагу и многократно описан психоанализом и социологией – тип человека-марионетки, реагирующего исключительно на воздействие внешнего мира и исчерпывающегося в нескольких словах: гедонизм, самовлюбленность, поверхностность… Метафизический нарцисс, напротив, необыкновенно серьезен, глубок, трагически замкнут на самом себе, интровертирован, иногда сомнамбуличен – такими людьми не становятся, ими рождаются. Он заперт в тюрьме своего сознания, закрыт для посторонних, как рыцарь в средневековом замке, и только наиболее проницательные собеседники догадываются об его истинной сущности.
Совершенно необъяснимая и непонятная личная жизнь Чаадаева вносит заключительный штрих к его портрету. Подобно нимфе Эхо, влюбленной в греческого юношу, многие женщины были влюблены в Чаадаева и домогались его любви. Но несмотря на светскую жизнь, балы и дружеские связи, философ всегда держал своих почитательниц на дистанции, дело никогда не заходило дальше «философических писем» и платонических отношений. Тот же Жихарев пишет об этом с полной определенностью, другие же биографы, как правило, обходят этот вопрос, видимо потому, что ответ на него выглядит слишком неправдоподобно: «Чаадаев имел огромные связи и бесчисленные дружеские знакомства с женщинами. Тем не менее никто никогда не слыхал, чтобы какой-нибудь из них он был любовником… Сам он об этом предмете говорил уклончиво». Когда Жихарев задал ему вопрос напрямик, «правда или нет, что он всю жизнь не знал женщины, если правда, то почему?», то ответ получил немедленно: «Ты это все очень хорошо узнаешь, когда я умру».[16]
«Он был вежлив со всеми и охотно беседовал с женщинами, – вспоминает одна из его собеседниц, – но, к сожалению, этот умный и чрезвычайно образованный человек был влюблен в себя самого. Раз я у него спросила, гуляет ли он зимой пешком. Он отвечал: “Я крайне удивлен, что мои привычки неизвестны кому-нибудь. Знайте же, что я гуляю ежедневно от часа до двух”». Скорее всего, это было сказано с тонкой иронией, оставшейся незамеченной, ибо далее в этих мемуарах следует характерный чаадаевский сарказм: «В моем присутствии у него спрашивал молодой человек, собиравшийся во Францию, не даст ли он ему каких поручений. Чаадаев отвечал: “Скажите французам, что я здоров”».[17]
В любом случае – и это нужно повторить, – нарциссизм Чаадаева не гедонистический или эстетический, а метафизический, он влюблен не столько в себя самого, а в свое самосознание, свою рефлексию, способную странствовать по векам и тысячелетиям. Он принадлежал к тому типу людей, для которых чисто интеллектуальное творчество несравнимо ни с чем другим, и его отношение к мышлению разительно отличается от отношения большинства его соотечественников. «Философ, заключающий себя в сферу разума и логической законченности, является самовлюбленным нарциссом, ощущающим себя полновластным хозяином в творимых им рациональных системах».[18]
Именно такой человек – аристократ, пишущий на идеальном французском языке (достаточно вдуматься в тот факт, что основной корпус его сочинений для русского читателя написан по-французски!), капризный барин, порицающий рабство, но существующий исключительно благодаря ему и безжалостно распродающий крестьян в случае необходимости, нарцисс, плененный собственным мышлением, – и мог быть «первым русским философом».
Горе от ума: рождение философии и крушение нарцисса
К глупым полон благодати/К умным бесконечно строг,/Бог всего, что есть некстати,/ Вот он, вот он, русский Бог.
П. А. Вяземский. «Русский Бог»Античный миф о Нарциссе заканчивается печально. Все версии этого мифа рассказывают нам, как прекрасный юноша, отвергнувший любовь нимфы Эхо, сознавая всю безнадежность своего положения, умирает вместе со своим отраженным двойником. Судьба же метафизического нарцисса в любые времена драматична, а Данте в «Божественной комедии» вообще помещает Нарцисса в ад. Как проницательно пишет один психоаналитик, «нарцисс всегда печален, в самом деле, разве можно найти удовлетворение в любви к самому себе?»[19] Неудивительно, что большую часть жизни Петра Яковлевича Чаадаева преследовала мучительная и необъяснимая тоска: как тогда говорили, – сплин, хандра, ипохондрия… Эта тоска преследовала философа всегда и везде – в Москве, в своем имении, во время трехлетнего путешествия по Европе (куда он отчасти и поехал, чтобы лечиться от нее), в юности, зрелости и на закате жизни. Правда, в то время тоска была в моде: волны романтической «мировой скорби», прокатившиеся по Европе, достигли и России, но философу она была как-то не совсем к лицу. Трудно представить себе Гегеля, Шеллинга или очень близкого Чаадаеву Жозефа де Местра беспрестанно хандрящими и тоскующими, а время Шопенгауэра еще не наступило. Голубоглазые нарциссы романтизма – от Новалиса до Байрона и Шелли, – словно спустившиеся с небес, чтобы преобразить убогий человеческий мир, не найдя здесь ответной любви и восхищения, наполнили Европу скорбью, меланхолией и тоской. Байронические чувства посещали и молодого Чаадаева («Дураки, они не знают, что тот, кто презирает мир, не думает о его исправлении»[20]). Но по духу Чаадаев совсем не романтик, его тоска другая, не романтическая – когда на смену отчаянию может столь же быстро придти вдохновение. Его тоска глубже, тяжелее, это, скорее, тоска гегелевского «несчастного сознания», мучительная тяжба с самим собой, из которой возможен только выход к Абсолюту. Разум философа был достаточно силен, чтобы осознавать свою ограниченность. Отсюда его крайний антиперсонализм, постоянные попытки самопреодоления: «Как я ни бьюсь, между мной и истиной становится нечто постороннее – я сам. Следовательно, есть лишь одно средство ее открыть – отстранить мое я». «Что нужно для того, чтобы ясно видеть? Не смотреть сквозь самого себя…» И, наконец, неожиданно звучащий не совсем по-христиански вывод: «Назначение человека – уничтожение личного бытия и замена его бытием вполне социальным или безличным».[21] Очевидно, что эта максима развилась под пером чрезмерно развитой индивидуальности, которой слишком тяжело от своей исключительности и непохожести на других. Эта разъединенность, дистанция, некогда воздвигнутая между собой и миром, теперь заставляет его страдать. Рождающееся самосознание тот час же обнаруживает главного противника – себя самого: нарциссическая любовь превращается в ненависть. Происходит раздвоение самосознания, и мы присутствуем при рождении метафизической рефлексии, философского вопрошания…
Гегель в своих «Лекциях по истории философии» замечательно говорит о рождении духа метафизики, когда он «выходит за пределы своего природного образа» и переходит от своей «реальной нравственности и силы жизни к рефлектированию и пониманию». Философия ставит под сомнение «субстанциональный способ существования» этноса, его нравственность, верования, и расшатывает их, из-за чего даже может наступить «период порчи нравов»: все оказывается под вопросом. Более того, метафизическая рефлексия возникает, когда «прежняя форма религии уже больше не удовлетворяет», «нравственная жизнь разлагается» и народ, в каком-то смысле, «идет навстречу своей гибели».[22]
Естественно, что народ в лице государства или власти должен защищать свою нравственность, верования и «субстанциональный способ существования» от метафизической порчи, критики и сомнения. Поэтому судьба первых философов если не трагична, то неизбежно драматична. За оскорбление народных святынь Анаксагор изгоняется из Афин, Сократ приговаривается к смерти, Галилея принуждают отречься, Ванини и Дж. Бруно заканчивают свою жизнь на костре. На этом фоне аналогичные меры в нашем отечестве не выглядят слишком жесткими, на критический вызов «любомудров» следует лишь закономерный ответ: Максим Грек десятилетия проводит в заточении, первый «западник» Курбский – в изгнании, князь Хворостинин, подвергавший сомнению веру и обычаи предков и утверждавший, что в «Москве-де все люд глупый и не с кем жить», – бит плетьми и отправлен в монастырь, Новиков и Радищев проходят через тюрьму и ссылку. В этом контексте объявление Чаадаева сумасшедшим является хотя и циничным, но «мудрым» и, главное, милосердным актом. К нему приставлен официальный лекарь, ему прописывают холодные ванны, запрещают писать и печататься, но он может совершать прогулки и принимать кого угодно…
Дело в том, что общество требовало значительно более жесткого наказания «гордыне помраченного разума», обуявшей философа. Возмущению не было предела – эти факты хорошо известны. Некоторые москвичи требовали высылки Чаадаева из «Третьего Рима», а студенты университета явились к ректору и высказали желание защищать честь отечества с оружием в руках (а ведь на декабристов так никто не гневался, если им не сочувствовали, то по крайней мере их жалели). Даже друг Чаадаева А. И. Тургенев писал: «Я и сам не на шутку напал на Чаадаева как скоро узнал, что письмо напечатано. Но с тех пор, как вся Москва, от мала до велика, от глупца до умного, от <В. Б.> до Боратынского опрокинулась на него, и он сам пришел в какую-то робость, мне уже и жаль его стало…».[23]
События осени 1836 года подействовали на Петра Яковлевича удручающим образом – он и в самом деле оказался на грани помешательства. Это был страшный и совершенно неожиданный удар, от которого он уже никогда не смог оправиться. Тем более, что он никого не хотел оскорблять или задевать (по крайней мере, сознательно), его «Письмо» было попыткой критического самопознания, рождением философии, которая, однако, привела к столь катастрофическим последствиям. Некоторые биографы (например, Гершензон) считают, что в этой ситуации он повел себя довольно малодушно.[24] Но это вполне в духе традиции: европейские философы, по крайней мере в Новое время, от Декарта до Гегеля, никогда особым мужеством не отличались. Философия – это одно, а жизнь – совсем другое. Чаадаев не был исключением и не стремился к роли «пророка-обличителя»: философа и денди всегда влекло к спокойному, созерцательному существованию. Кабинетное уединение да светские салоны, спасавшие его от тоски и одиночества, где он мог блистать своим язвительным остроумием, – вот идеальный образ жизни, который он совсем не хотел менять. Но по иронии судьбы сама реальность, всегда стремящаяся к энтропии, попыталась стереть чрезмерно выделявшуюся индивидуальность и заменить слишком личное бытие «социальным и вполне безличным». Как бы то ни было, именно власть защитила Чаадаева от «общественного гнева» – объявив безумным, она из умника и гордеца сделала его юродивым, с которого уже совсем иной спрос.
И самое главное – философ вступил в конфликт не с самодержавием или церковью, а с определенной жизненной реальностью, с тем мироощущением, которое следовало бы назвать если не «апофатическим сознанием», то «апофатическим бессознательным»; проще говоря, он столкнулся с «русским молчанием», ибо о самосознании в то время не приходится говорить…
Самозванство и «русское молчание». Восточная апофатика и западная философия
Мысль разрушила бы нашу историю, кистью одною можно ее создать.
П. Я. ЧаадаевАпофатика – это не просто метод отрицательного богословия (в противоположность положительному), сформулированный одним из учителей Восточной Церкви, скрывшемся за именем Дионисия Ареопагита, как это считалось в школьном богословии XVIII–XIX веков. В апофатике – сущность православного миропонимания.[25] Согласно апофатической традиции, Истина не может быть получена с помощью дискурсивного мышления, не может быть сообщена путем текстов и книг, ее невозможно познать индивидуальным сознанием и сформулировать в понятиях, как это принято в западно-католической, а затем и протестантской мысли.
«Истина не исчерпывается определением, представляющим собой не более, чем его границы, пределы, ее “предохранительную оболочку”. Реальность, не опровергнутая реальностью же, есть истина. Жизнь, не упраздненная смертью, есть истина в последнем смысле».[26]Иными словами, Истину вообще невозможно познать, можно только быть (или не быть) в ней, Истина онтологична: она может быть достигнута только в результате интенсивного духовного пути через восхождение человеческого знания к высшему апофатическому незнанию.[27] Истина невыразима, неизреченна, непостижима, непередаваема, она превосходит все возможные человеческие определения. Но «это апофатическое незнание есть, скорее, сверх-знание – не отсутствие знания, но совершенное знание, несоизмеримое поэтому со всяким частичным познанием». Для греческой патристики метафизика (и связанная с ней светская культура) абсолютно необходима: «Теоретические положения нужны и необходимы, поскольку они ОПРЕДЕЛЯЮТ истину, то есть устанавливают пределы, границы, за которыми начинаются искажения и подмены».[28] Необходимы, но недостаточны: метафизика может быть лишь пропедевтикой, введением в подлинную духовную реальность. В любом случае, роль философии и светской учености для византийских отцов огромна: восточная патристика и обскурантизм – вещи несовместные.
От апофатики Ареопагита и других учителей Восточной Церкви уже один шаг (длившийся, однако, несколько столетий) до итогового завершения византийской культуры – исихазма. Это последняя ступень, означающая, что земное историческое бытие, в сущности, уже завершено. И хотя движение «священнобезмолвствующих» привело к новому расцвету православной культуры в Византии, есть что-то глубоко символическое в падении Константинополя именно в этот период. Христианская культура завершена, история должна остановиться, остается лишь молчаливое ожидание… Но к этому итогу византийскую мысль приводит грандиозный и драматический путь от
Афанасия Александрийского и Василия Великого до Григория Паламы, лежавший через борьбу с ересями, тринитарные и христологические споры, Вселенские Соборы, освоение философского наследия эллинизма. Русское православие как драгоценный дар получает в наследство этот итог – но именно как завершение, как последнее слово, а сам этот путь вместе с промежуточными философскими и богословскими ступенями оказывается отброшенным. Русская культура, да и русская жизнь, изначально оказываются в драматической ситуации: если Истина дана – и обоснована Святыми Отцами, людьми «неизмеримой учености» и подлинной божественной мудрости, то как и для чего возможна христианская мысль? Как возможно историческое, культурное и богословское творчество? Как возможна История вообще?.. Что может еще добавить убогое и падшее человеческое разумение?.. «Древне-русский кризис был кризисом культуры, а не безкультурности… Мысленная нераскрытость древне-русского духа есть следствие выражения внутренних трудностей или “апорий”. Это был подлинный кризис культуры, кризис византийской культуры в русском духе».[29] В этой ситуации «исихазм» из обозначения монашеского движения священнобезмолвствующих превращается в перевернутую метафору национального мироощущения, православие становится бытовым исповедничеством, где критерием истины может быть только святость как единственно подлинная реальность. Это входит в плоть и кровь русской жизни и остается в ней даже когда она секуляризуется, становясь совершенно светской. Для «апофатического сознания» (а чаще «апофатического бессознательного») истина не является знанием как совпадением понятия и предмета, и основной вопрос звучит как вопрос онтологический: важно не то, что ты можешь помыслить и сказать, а важно то, кто ты есть.
В результате русское «апофатическое сознание» в своем пределе становится абсолютно вертикальным, оно не признает горизонтальных опосредованных ценностей истории, творчества, культуры. «Ученость – светильник Ветхого человека», – говорил современник Чаадаева святитель Игнатий Брянчанинов, относивший к числу самых греховных страстей «расположение к наукам и искусствам гибнущего сего века» и «составление своего разума». Вопрошающий ум не только опасен, но в конечном счете саморазрушителен, поэтому зрелая православная аскетика отсекает его разнообразные запросы и потребности. Об этом хорошо говорит Павел Флоренский в своей ранней работе «Православие», разительно отличающейся от его других книг: «Религиозный долг человека смириться перед Богом, отказаться от своей человеческой воли и не перечить воле Божественной… Он смиренно должен делать дело, к которому приставлен, жить как все, не высовываться, не гнаться за большими делами и как можно меньше рассуждать».[30] (Правда сам Флоренский почему-то не последовал собственным императивам.) Отсюда, например, в русской культуре, несмотря на обостренное ощущение близости Христа, переживание Его как «своего», «родного», практически отсутствуют прямые книги о нем, исторические и аналитические жизнеописания, которыми так изобилует католическая и, в особенности, протестантская литература с их часто невыносимым морализмом и стремлением рационализировать то, что не подлежит рационализации – тайну…
И тут приоткрывается самое существенное: смысл «русского молчания». В отличие от Густава Шпета и других историков русской мысли, просто обличавших интеллектуальное невежество («Народ русский охранял свое невежество за непроницаемой бронею и умел заставить молчать мечтателей»[31]), о. Г. Флоровский, столь красочно описывая в «Путях русского богословия» «беспутство» русского богословия (Бердяев), видит то, что стоит за упорным и упрямым «невежеством и недуманием»: «Часто говорят о русском обскурантизме. Но редко кто чувствует его действительную роковую и трагическую глубину. Это движение очень сложное. И именно движение, – не сонливость, не вялость мыслительной воли, – не страдательная, но очень деятельная установка… В последнем счете т. н. обскурантизм есть недоверие к культуре. Упрямое недоверие многих к богословской науке есть только частный случай того общего недоверия, которым отравлено и все русское творчество».[32]
Конечно, для «апофатического сознания» любое творчество подозрительно, ибо падший человек, создавая новые формы, вольно или невольно может оказаться соперником Творца… Но даже Флоровский, показывая трагические разрывы русской культуры – между богословием и благочестием, верой и знанием, Церковью и культурой, – не договаривает последнего:[33] апофатика как путь отрицательного богословия от низшего знания к высшему незнанию – это путь по «лезвию бритвы», одно неверное движение в сторону – и начинаются подмены и искажения, смешение различных уровней бытия. Как говорят на Востоке: «Идти к Богу то же самое, что входить в пещеру со львом». От высшего апофатического незнания Восточных Отцов, от незнания ученейшего Дионисия Ареопагита[34] (чьи трактаты и, в особенности, слова о неведении и незнании очень любили цитировать писатели Московской Руси – от Грозного до Аввакума), до незнания обычного, заурядного, как от великого до смешного – один шаг… Еще шаг – и начинается упорное сопротивление всякому «любомудрию», сознательный мистический обскурантизм. Так рождалось «какое-то темное воздержание или уклонение от знания… неожиданный адогматизм и даже агностицизм, мнимого благочестия ради, – ересь новых гносимахов».[35] Очевидно, что в таком случае не только «прогресс» в западном смысле, но и историческое творчество ничем не оправдано. Сама История оказывается почти невозможной: поэтому она словно все время стремится если не «свернуться» из линейной в циклическую, как на языческом Востоке, то остановиться и замереть, сделав несколько неосторожных шагов – и, споткнувшись, снова застыть, «замерзнуть».
Но пора вернуться к Чаадаеву. В 1837 году он пишет пространное письмо к своему другу декабристу И. Д. Якушкину, который в Сибири, на поселении, видимо, пережил религиозный кризис, став после этого характерным «русским исихастом». «Ты говоришь еще, что должно в молчании благоговеть пред премудростию Божиею, – обращается к нему “басманный философ” и тут же возражает. – Благоговеть перед премудростью, конечно, должно, но зачем в молчании? Нет, должно чтить ее не с безгласным, а с полным разумением, то есть с глубокою мыслию в душе и с живым словом на устах…». И Чаадаев читает своему другу целую лекцию с католическим уклоном о гармонии веры и знания, о необходимости осмысленной веры, о возможности познания Божества: «Откровение не для того излилось в мир, чтобы погрузить его в таинственную мглу, а для того, чтоб озарить его светом вечным. Оно само есть слово, слово же вызывает слово, а не безмолвие. Скажи, где написано, что Властитель миров требует себе слепого или немого поклонения? Нет, Он отвергает ту глупую веру, которая превращает существо разумное в бессмысленную тварь… Если же вера есть не что иное, как познание Божества, то сам посуди, не сущее ли богохулие именем веры проповедовать бессмыслие?»[36]
Поэтому религиозность Чаадаева совсем не кажется неясной, скорее, напротив. Конечно, это не обычный католицизм: «Вы… неправы, когда определили меня как истинного католика… Моя религия не совсем совпадает с религией богословов… пожалуй, что это и не религия народов».[37] Это – уравновешенное мировоззрение христианского интеллектуала (не без влияния католического масонства), умеренного консерватора, аристократа с развитым чувством собственного достоинства, в стиле Шеллинга или Жозефа де Местра, своеобразный религиозный рационализм, прекрасно сознающий ограниченность человеческого ratio и опасность, которую он в себе таит, но вместе с тем нисколько его не уничижающий. Мировоззрение, совсем не склонное к беспрестанному переживанию собственной ничтожности и греховности, но и никогда не забывающее, что человек навсегда поражен грехом. Бог Чаадаева – это не Бог «Авраама, Исаака и Иакова», а как раз Бог «философов и ученых». Это – религиозность, в которой нет драматического противоречия между верой и знанием, церковью и культурой, религией и цивилизацией, жизнью и знанием о ней (впрочем, у Чаадаева явно преобладало последнее). Представить Чаадаева, сжигающим свои рукописи после обращения, подобно Гоголю, раздираемого противоречиями, как Достоевский, или же опрощающимся и устраивающим культурный погром, как поздний Лев Толстой или русские сектанты, – совершенно невозможно. Его культурный идеал – гармоническое равновесие в духе пушкинского гения, которое сам Чаадаев на родной почве так и не смог обрести.
Диалог же Чаадаева с Якушкиным еще раз демонстрирует вековечный конфликт между «русским исихазмом» и западной метафизикой с ее положительным логико-понятийным мышлением, пытающейся не только постич и овладеть Истиной, но и, в конечном счете, заменить живую динамику жизни знанием о ней: схемами, нормативами, предписаниями – спобом мышления, постоянно проникавшим извне, время от времени отвоевывавшим себе территории, но в результате всегда терпевшим крушение. Философия на христианском
Западе сначала рождается из богословия, позднее отталкиваясь и отходя от него. В Россию же философия, культура, образование после «кризиса русского византинизма» приходят из Европы вместе с «латинством» или протестантизмом, а их здесь встречали очень недружелюбно. «Басманного философа» в гневе бранили «самозванцем» («нет больше самозванства в истории русской мысли»[38]). В каком-то смысле это очень точное определение: метафизик в апофатической культуре чаще всего интеллектуальный самозванец – «латинянин», еретик или отступник… Многие из них, впрочем, не были философами, но существует общая линия, которая объединяет имена разного уровня и калибра: Печерин, Чаадаев, М. Лунин, князь И. С. Гагарин, Владимир Соловьев, его племянник и биограф С. М. Соловьев – поэт «серебряного века», ставший католическим священником, Вячеслав Иванов, отчасти Бердяев, с его ориентацией на творчество и католическую мистику, и другие: что искали они в Риме и католичестве? Их влекла туда именно тоска по религиозному оправданию творчества и знания, и они вольно или невольно отталкивались от русского восприятия православия в «его восточной стихии, с “царем-батюшкой”, с полной пассивностью, смирением, сознанием коренной порчи человеческой природы, бессилия личности перед судьбой и надеждой на милосердие Божие».[39]
Даже Константин Леонтьев, с его «византийством» и глубинным мистическим обскурантизмом, как надломленный аристократ и философ-одиночка, хотя бы частью своей души оказывается близок этой традиции. Всего за полгода до монашеского пострига он писал: «Я не скрою от вас мои “немощи”: мне лично папская непогрешимость ужасно нравится! “Старец старцев”. Я, будучи в Риме, не задумался бы у Льва XIII туфлю поцеловать, не только что руку… Уж на что Т. е. Филиппов строгий защитник “старого” православия, но и тот говорит всегда: искренне верующий православный не может не сочувствовать католикам во многом… И вынужден даже нередко из усердия к своей вере завидовать им». И в другом месте: «В истории католичества, что ни шаг, то творчество, своеобразие, независимость, сила… Католицизм – религия такая могучая и полная, какой, быть может, не было на земле…».[40]
Как бы то ни было, время все равно течет, история все равно существует, даже двигаясь к своему неизбежному финалу, она задает вопросы, на которые необходимо отвечать – иначе образуются провалы, разрывы, крушения, и общество спотыкается на одном и том же месте, бесконечно повторяя старые ошибки… Поэтому главная историософская тема «русских католиков», и, прежде всего, Чаадаева, – религиозное оправдание исторического творчества и духовной активности. Попытка критического самопознания «в царстве недумания» была предпринята именно для того, чтобы в отеческий мир благодатной безответственности и очаровательной невменяемости, где все как бы отвечают друг за друга, но никто не отвечает за себя, внести идею религиозной и моральной ответственности, в бытовое исповедничество – осмысление и понимание, в мутную хаотическую жизнь – форму, уважение к себе и чувство собственного достоинства.
У Гоголя в «Переписке…» есть замечательная сцена идеально справедливого суда, когда власть в лице помещика или начальника наделяется автором правом суда не только человеческого, но и Божеского. Мы, говорит Гоголь, набрались «пустых рыцарски-европейских понятий о правде», истинное же правосудие означает, что все виновны, в высшем смысле нет ни правого, ни виноватого. Поэтому истинный суд – это суд комендантши из «Капитанской дочки», которая дала «судье» такой наказ: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи».
Сто лет спустя Герман Гессе из немецко-швейцарского далека в эссе «Братья Карамазовы, или Закат Европы» с романтическим восхищением описывал подобное «азиатское единство противоположностей»: «Русский человек, Карамазов, – это одновременно и убийца, и судья, варвар и человек нежнейшей души, он в такой же степени законченный эгоист, в какой способен на совершенную жертву. К нему не применима европейская, то есть твердая, моральная, догматическая точка зрения. В этом человеке внешнее и внутреннее, добро и зло, Бог и сатана неразрывно слиты».[41]
Чаадаев, набравшийся «пустых рыцарски-европейских понятий» и, видимо, предчувствуя, что смогут натворить «Карамазовы» в будущем, как раз пытался «развести» жертву и преступника, различать уровни бытия и судить их с точки зрения твердой, моральной, догматической, с помощью идей «долга, справедливости, права, порядка», но потерпел полное поражение. В сущности, никто даже не понял, что он хотел сказать… Даже Пушкин, относившийся к Чаадаеву с несомненным уважением, но вместе с тем, как поэт – к философу с той иронией, с которой Жизнь относится к чрезмерному знанию о себе, в ответ на историософские вопрошания своего друга в известном письме противопоставил им чисто внешний, событийный ряд фактов из русской истории, которых, разумеется, было более чем достаточно. Но речь ведь шла совсем о другом – о смыслах и сущностях, а не об эмпирических фактах… А на его религиозные вопрошания Пушкин отделался несколькими дежурными фразами, в частности, о невежестве русского духовенства: «Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу», – что характеризует не только отношение автора «Гавриилиады» к духовному сословию и церкви, но и к значительной части русской аристократии. Поэт и философ говорили на совершенно различных языках и, вопреки ныне широко распространенному мнению, диалога не получилось…
Но, несмотря на всеобщее непонимание и осуждение, Чаадаев не раскаялся. 1836 год напугал и раздавил его, но, почти ничего не написав, он упорствовал в собственных заблуждениях до конца своих дней. Вместо покаянной исповеди он начал сочинять неоконченную «Апологию сумасшедшего», и, подписывая некоторые свои письма «Безумный», не без иронического удовольствия любил говорить по-французски: «Mon illustre demenee» («Мое блестящее безумие»).[42]
«Плач ума»: интеллектуальное юродство как невозможность философии
Русский ли характер, исторические ли условия влияли тут – не берусь решать. Но несомненно, что философии «головной» у нас не повезло. Стародумовское: «… ум, коли он только ум, – сущая безделица» – находит отклик, кажется, во всяком русском…
Павел ФлоренскийОт святоотеческого апофатического незнания – точнее от его своеобразного преломления на русской почве, идет и многовековая традиция интеллектуального юродства, бесконечного поношения не только «еллинского блядословия», но всякого горделивого высокоумия, любомудрия как духовной роскоши, и восхваление собственного неведения, незнания, умственной немощи, невежества – традиция, часто исходящая от самых образованных людей своего времени. В православной аскетике это называется «плач ума» и восходит к посланиям апостола Павла. Но важно проследить, как эта установка меняется при переходе из религиозной культуры в светскую.
Когда Ф. И. Карпов (XVI век) в обычном для своего времени духе заканчивает свое послание – «А философом, ради Бога, не называй меня. Я инок, больше всех невежа», – то это выглядит искренним признанием. Но когда старец Филофей в послании против «риторов и астрологов» пишет свое знаменитое – «Аз селской человек, учился буквам, а еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, ни с мудрыми философы в беседе не бывал…»[43] – то ясно, что человек, именующий себя «деревенщиной», на самом деле чувствует себя на голову выше всех риторов и философов.
Для протопопа Аввакума – это уже глубинная, онтологическая установка: быть, а не знать, то есть быть во Христе, а не владеть «внешней мудростью». Для этого Аввакум совершенно замечательно переводит на русский слова Дионисия Ареопагита о неподлинности внешнего, чувственного познания сущего и цитирует его так: «Дитя, али не разумеешь яко вся сия внешняя блядь ничтож суть, но токмо прелесть, и тля, и пагуба». Безграничное самоуничижение – «не-смыслен я гораздо», «неука-человек», «какой я философ, грешный человек, простой мужик», «дурак», «червь», «грязь худая» – совершенно естественно соединяется у «огненного протопопа» с осознанием своей великой миссии пророка-обличителя, равного библейским пророкам, чьи книги не им самим, но «перстом Божиим писаны».[44]
Если Чаадаев – философ формы и идеи, то корни юродства как раз в «стыде ритма и формы», как проницательно замечает Бахтин, обнаруживая за самоуничижением «гордое одиночество и противление другому».[45] И следует добавить: юродство – именно стыд любой формы, желание выйти за границы всяческих определений, неприятие завершенности, окончательности, оформленного результата, ибо подлинен только духовный процесс, а результат в бесконечности – ничто.
В екатерининскую эпоху русский просветитель и масон И. Новиков считает нужным не без гордости заявить: «Не забывайте, что с вами говорит идиот, не знающий никаких языков, не читавший никаких школьных философов, и они никогда не лезли в мою голову; это странность, однако, истинно было так».[46]
У светских писателей XIX века эта тема трансформируется как противопоставление «живой жизни» убивающему ее сознанию, или отвлеченному уму, пытающемуся заменить жизнь знанием о ней. У Гоголя читаем: «Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше, как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Он сам не двигнется вперед, покуда не двигнутся в нас все другие способности, от которых он умнеет. Отвлеченными чтеньями, размышленьями и беспрестанными слушаниями всех курсов наук его заставишь только слишком немного уйти вперед; иногда это даже подавляет его, мешая его самобытному развитию».[47]
Достоевский более резок: «Итак, говоря вообще: сознание убивает жизнь. В людях простых, может быть грубых и неразвитых, одним словом, в таких, как мы все, – все, что мы сказали теперь о парализации жизни, выразилось одним грубым и откровенным выражением, которое вовсе не так глупо, как обыкновенно на него смотрят: “Э, да все это философия!” – говорят иногда эти люди и говорят правду, глубокую правду… Как люди свежие, не окалечившиеся мыслью, они не могут без смеху смотреть, как сознание хотят нам выдать за жизнь. Но сознание идет иногда еще дальше и еще смешнее: это когда оно хочет заменить жизнь теориями о ней, основанными на знании, прямо вытекшими из знания». И окончательный вывод: «Сознание – болезнь. Не от сознания происходят болезни (что ясно как аксиома), но само сознание – болезнь».[48]
У Достоевского жизнь как полнота бытия и знание о ней расходятся совершенно. Они никак не соединимы, как не соединим Митя Карамазов, воплощающий эту, пускай греховную, безумную полноту, и либеральный прокурор на суде, «теоретик» и «психолог», принудительно доказывающий «истину» о несовершенном Митей убийстве, представитель «внешнего знания», которое, впрочем, есть уже не знание, а пародия на это знание.
Когда жизнь лишается религиозного содержания, происходят катастрофические метаморфозы: религиозные архетипы по-прежнему действуют, но вне духовного основания начинается мутация, их превращение в жутковатый гротеск, в оборотней-мутантов, бесов, которые изничтожают все высокое, что попадается на пути, устраивая настоящие метафизические погромы. Мистический обскурантизм, защищавший религиозную целостность жизни, отступает на второй план или деградирует, становясь обскурантизмом утилитарным, бытовым, моралистическим или революционным; приходит другая эпоха – «интеллигенщины», «любви к бедности» (С. Франк) и всеобщему уравнению, неприятие всего творческого, избыточного, эпоха, описанная в «Вехах» и множестве других книг… В конце концов, начинается вырождение – и если «католицизм извращается в истерию, казуистику, формализм и инквизицию, – как пишет А. Ф. Лосев, – то Православие, развращаясь, дает хулиганство, разбойничество, анархизм и бандитизм».[49]
Всего лишь один, но выразительный пример такой мутации. Через тридцать лет после смерти Чаадаева провинциальный учитель из Ельца, одержимый философией, написал и напечатал за свой счет книгу со скромным названием «О понимании». Но объем книги (около 700 страниц) и ее подзаголовок «Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания» свидетельствовали об амбициозных намерениях автора произвести если не коперникианский переворот, то философскую революцию. Книга была написана в западном, понятийно-философском, схоластическом и очень скучном стиле, с фантастическими таблицами, но за всем этим скрывался характерный русский трактат «обо всем». Коллеги-учителя встретили книгу насмешками и предполагали, что автор стащил эти сотни страницу какого-то иностранного философа, и стали звать его «философом» и «понимающим». Учитель классической филологии, некто Десницкий, насмешливо провозглашал по его адресу: «Нашелся понимающий среди ничего не понимающих!» Далее следует «карнавальная» сцена, достойная пера Достоевского или Федора Сологуба. Во время холостяцкой учительской попойки разгорелся спор между автором книги и Десницким, который на все лады «честил философию и философов, крича с азартом: “И мы тоже кое-что понимаем!” В разгар спора этот учитель-классик схватил с полки книгу, расстегнул брюки и обмочил ее под общий хохот всех присутствующих: “А ваше понимание, Василий Васильевич, вот чего стоит!”»[50]
За два года, как позднее вспоминал сам Розанов, не было продано ни одного экземпляра, ни в Москве, ни в Петербурге.[51] С философией для Розанова было покончено навсегда, зато он превратился в непревзойденного классика интеллектуального юродства, который едва ли не на каждой странице противоречит самому себе.
* * *
Философия – это развлечение богачей.
Долой!
Владимир Набоков. «Отчаяние»Константин Леонтьев был самым глубоким апологетом мистического обскурантизма, страстным защитником органической жизни, но уже не столько от ее аналитического разложения «внешней мудростью», сколько именно от вторичных мутаций, пародий и подмен. Барин, русский денди, аристократ, космополит и почвенник одновременно, духовный нарцисс, всецело поглощенный собственной судьбой – по человеческому типу он очень похож на Чаадаева, но по идеям и безнадежной внутренней расколотости, скорее, противоположен, он человек совсем другой эпохи. В Леонтьеве уже совсем нет чаадаевской наивности и устремленности в неведомое будущее. Но как мистический эстет, он еще более редкий на русской почве выразитель избыточности, роскоши, творческого богатства, и хотя он сам не был и не считал себя «философом», до расцвета метафизики от Леонтьева уже совсем недалеко. Гегель справедливо называл философию «чем-то вроде роскоши, постольку, поскольку именно “роскошь” обозначает те удовольствия и занятия, которые не входят в область внешней необходимости как таковой».[52] Начавшийся в России расцвет философии с конца XIX столетия помимо прочих причин (прежде всего, европеизации страны) как раз связан с роскошью, избыточностью «Серебряного века», пышным, хотя и часто ядовитым, цветением культуры, за которым уже просматривался неизбежный упадок и закат. Бердяев, вслед за Ницше, постоянно говорил о ressentiment (злопамятство, озлобление) как об архетипическом неприятии всего высшего низшим. Так вот, если, скажем, литература может возникать из подобного чувства, и писатель в состоянии великолепно выражать свои переживания страха, зависти, угцемленности, ненависти (чем, собственно, и является значительная часть литературы XX века), то для метафизики это невозможно. Она всегда рождается из избыточности, а не недостаточности, и если, например, возможно возникновение особого рода философии из отчаяния (как у Паскаля, Киркегора или Шестова), то опять-таки это отчаяние высшего, а не низшего порядка.
Для Чаадаева философия была не только судьбой, но и естественной творческой роскошью, без которой такой человек просто не мог существовать. Леонтьев был вынужден уже защищать эту роскошь, предчувствуя и предвидя, что с ее исчезновением в мире останется только серость и убожество. Но тем не менее, как раз Леонтьев после столь разгневавшего его доклада Вл. Соловьева «Об упадке средневекового миросозерцания» совершенно серьезно предлагал выслать многоодаренного философа (перед чьим талантом он преклонялся долгие годы) из России за разлагающие ереси гуманизма и либерализма, вплоть до публичного покаяния, и запретить печатать его книги.[53] Если бы это произошло, то было бы в каком-то смысле закономерным событием. Но два «философских парохода», отошедших осенью 1922 года от бывшего Николаевского моста на Васильевском острове – это уже не просто символический акт, когда апофатическая культура возвращает Европе ее «бесценный дар» – метафизику и выросшую из нее науку, но и жуткая историческая подмена, которую совершают квазирелигиозные мутанты, самозванцы, сами проникшие в Россию с Запада… Если эту высылку философов и ученых можно назвать последним актом исторической драмы под именем «Русская философия», то ее трагический эпилог на родине разворачивается в лагерях, куда попали, кажется, все оставшиеся в метрополии метафизики…
У Чаадаева, как философа истории, всегда присутствовало какое-то чрезмерное преклонение перед Клио, ему казалось, что история куда-то ведет, воспитывает народы и чему-то может научить. Но на самом деле человеческая история почти ничему не учит и, в конце концов, ведет только к апостасии – окончательному отпадению твари от Творца, смешению всего и вся, разложению и распаду. Сто лет спустя отец Павел Флоренский в лагерных письмах, ссылаясь на столь почитаемого Чаадаевым Шеллинга, говорит о необходимости различения Geschichte и Historie. Если первое, пишет Флоренский, это просто бывание, последовательность событий, не направленных в определенную сторону и потому не дающих восприятия времени, тогда как второе определяется последовательностью событий, развертывающих некоторый имманентный замысел, идею. «Так вот, я живу в Geschichte, в доисторическом времени, и об Истории мне даже неприятно думать. Идиотизм (от греч. idioteia), идиот в древнем смысле слова – вовсе не слабоумный, а частный человек, не участвующий в исторической жизни, живущий в себе, вне связи с обществом. Быть идиотом – это, пожалуй, наилучший удел, особенно если бы можно было идиотствовать до конца, то есть сделаться полным идиотом».[54]
К этим итоговым словам человека, предпринявшего попытку величайшего богословско-философского синтеза в XX столетии, кажется, больше нечего добавить. А что же касается «науки наук», то в царстве бедности, энтропии и псевдоаскетики она оказывается немыслимой и опасной роскошью и вновь становится возможной лишь как юродство, крик или отчаяние, как литература или филология, но невозможной именно как философия.
1997 г.
Борьба с тяготением. Лев Шестов: несчастное сознание и счастливая судьба
Чеслав Милош в очерке «Шестов или о чистоте отчаяния» рассказывает о молодой румынской писательнице Соране Гуриан, в 50-е годы в Париже долго и мучительно умиравшей от рака. Рядом с кроватью у нее лежали книги Шестова во французском переводе – «она говорила о них с тем сдержанным пиететом, с каким мы говорим о чем-то нам очень дорогом». Видимо, книги Шестова, пропитанные отчаянием, были для нее последним утешением…
1953 год, Монтевидео. Волею судеб здесь оказался выходец из России, писатель Аарон Штейнберг, в свое время близко знавший Шестова. К нему подошел русский эмигрант и стал настойчиво расспрашивать об авторе «Афин и Иерусалима». Это был «поклонник… в самом буквальном смысле этого слова. Он не преклонялся перед покойным Шестовым, а просто поклонялся духу его так, как поклонялись древние греки своим божествам…» Выяснилось, что в столице Уругвая существует небольшое сообщество, где русские и испаноязычные почитатели Шестова занимались изучением и толкованием его текстов. Кружок носил закрытый характер, подобно тайной секте, и все писания Шестова стали для его участников «Писанием с прописной буквы». Удивленный Штейнберг спросил, в чем же именно увидел «апостол Шестова его сокровенную правду»?
«Как? – удивился он. – Неужели, соприкасаясь с Шестовым, вам не бросилось в глаза самое главное! Шестову было дано откровение, что нет малых и великих людей, что перед ликом Господним все равны. Моисей этому учил. Иисус из Назарета воскресил это учение. Но только Шестов по-настоящему показал в наше извращенное время, что это значит, назло Спинозе, Марксу, Фрейду…» [55]
Все это выглядело совершенно невероятно. Лев Шестов, частный мыслитель для немногих, всю жизнь одиноко ведший тяжбу с Богом и самим собой, в Монтевидео оказывается пророком, а его книги превращаются в сакральные тексты, которые читает и толкует тайное сообщество его фанатичных почитателей. Это было невероятно вдвойне, если вспомнить, что в дореволюционной России у Ше-стова была устойчивая репутация скептика-разрушителя, апостола современного декаданса, чьи книги крайне опасно давать читать подрастающему поколению.
Если для Чеслава Милоша он был «философом отчаяния», столь глубокого, что оно способно приносить утешение страждущим, то для Альбера Камю – «философом абсурда», а для друга Шестова Николая Бердяева он являлся глубочайшим выразителем тысячелетней иудейской скорби, которая одновременно закрывала для него истинный смысл христианского откровения. Для психоаналитиков из круга Макса Эйтингтона в Берлине 20-х годов Шестов оказывался близок Фрейду, «срывавшего с цивилизации всю ту же маску лжи и лицемерия». Родная сестра Шестова Фаня, также поклонница Фрейда, видела в своем брате (к психоанализу Шестов всегда относился скептически) великого невротика, который всю жизнь скрывался от самого себя, анализируя своих литературных пациентов – Толстого, Достоевского, Ницше, Лютера, Паскаля, Киркегора, Гуссерля… Он пользовался ими как масками, но на самом деле все время был занят самим собой, поиском собственной идентичности.
Личное воспоминание: 1979 год, Ленинград, теплый солнечный вечер середины марта. Молодой человек вышел на площадь из библиотеки Академии наук, он только что закончил чтение книги «Достоевский и Ницше. Философия трагедии», которую с большими проблемами ему выдали в читальном зале. Впечатление оказалось шоковым, и мир теперь выглядел очень странно: прохожие, группы студентов, дома, бордовая кишка Двенадцати коллегий – было непонятно, почему мир еще существует. Почему он не рушится, не гибнет, ведь после чтения Шестова стало совершенно ясно, что кроме спасительной лжи оснований для существования у этого мира никаких нет…
Я думаю, что люди в разных концах света, в разное время при чтении книг Шестова испытывали нечто подобное. Но разноголосица в их восприятии невероятна. Шестова называли антифилософом, метафизическим анархистом, «мисологом» (ненавистником разума), рыцарем веры, подобно Киркегору, Иовом, поверяющим метафизические истины истинами откровения; вместе с Бердяевым его заносили в предшественники экзистенциализма…
Кем же он был на самом деле? Ответить на это очень трудно. Будучи весьма закрытым человеком, Шестов очень часто недоговаривал, умалчивал, скрывался. Изначально его мышление совершенно апофатично, бесконечные отрицания в его текстах доминируют над утверждениями. И вместе с тем он весь – в своих книгах, его личные письма и документы очень мало добавляют к его облику. Возможно, его интеллектуальная биография поможет нам приблизиться к разрешению этих загадок.
Ангел смерти и философия трагедии
Только дошедший до отчаяния ужас пробуждает в человеке его высшее существо.
Серен КиркегорВ ранней биографии Шестова важно следующее. Его отец Исаак Шварцман, киевский коммерсант, будучи знатоком древнееврейской письменности, учил своих детей ивриту, но тем не менее впоследствии мыслитель иврит совершенно забыл (при любви к цитатам на языке оригинала он бы ему очень пригодился), хотя греческий, латынь и основные европейские языки выучил основательно. Как и многие сверстники, Шестов, студент юридического факультета, увлекался революционным движением, был связан с народовольцами, затем изучал Маркса, но, в отличие от своих коллег Бердяева и Булгакова, марксистом никогда не был.
Молодой Шестов читает французских романтиков, его поражают «Цветы зла» Бодлера, он сам пытается писать стихи и прозу и, наконец, открывает для себя Шекспира – с этого момента социальные вопросы навсегда перестают его интересовать. «Может быть, иным это покажется странным, – но моим первым учителем в философии был Шекспир, – позднее вспоминал Шестов. – От него я услышал столь загадочное и непостижимое, а вместе с тем столь грозное и тревожное: время вышло из своей колеи (Time is out of joint)» – «Шекспир меня перевернул так, что я потерял сон». Он читает Библию, Канта – и сразу чувствует себя его противником. Примерно в это же время Шестов напряженно читает Льва Толстого, открывает для себя Ницше и Достоевского, которые оказывают на него ошеломляющее воздействие. Позднее, в статье к столетию со дня рождения Достоевского (1921), он приводит сказание об Ангеле Смерти, которое неоднократно цитировалось, но я не могу отказать себе в удовольствии привести его еще раз:
«В одной мудрой книге сказано… ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь сплошь покрыт глазами… Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убеждается, что он пришел слишком рано, что не наступил еще срок покинуть землю. Он не трогает его души… но, прежде чем удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть сверх того, что видят все, и что сам он видит своими старыми глазами. И видит новое по-новому, как видят не люди, а существа “иных миров”… Прежние природные “как у всех” глаза свидетельствуют об этом “новом” прямо противоположное тому, что видят глаза, оставленные ангелом…»[56]
Ангел смерти посетил Льва Шестова, видимо, осенью 1895 года, когда ему было 29 лет: он пережил глубочайший духовный кризис, изменивший все его существо. Что произошло конкретно, мы можем лишь догадываться. Позднее, в «Дневнике мыслей» (1920), Шестов фиксирует это событие: «В этом году исполняется двадцатипятилетие, как “распалась связь времен”… Записываю, чтобы не забыть: самые крупные события жизни – о них же никто, кроме тебя, ничего не знает – легко забываются».
С этого момента начинается драматическая, отчаянная борьба мыслителя едва ли не со всей мировой философией и культурой. «Двойное зрение» открывает человеку то, что никто не видит не только в мире, но и в самом себе. Он обречен на мучительную духовную борьбу, непонимание окружающих, полное одиночество. Судя по всем признакам, и сам Шестов после «откровения смерти» оказывается на грани безумия, но, как он пишет, не того поэтического, вдохновенного безумия, о котором трактуют даже в учебниках по эстетике философии, а того, за которое сажают в «желтый дом». За блистающей поверхностью современной цивилизации, за покрывалом морали, философии, науки с их «общеобязательными истинами» Шестов прозревает трагическую изнанку бытия, о которой знают, но тщательно скрывают все величайшие моралисты современного человечества – от Канта до Толстого и Достоевского…
Ранние книги «Шекспир и его критик Брандес» (СПб, 1898), «Добро в учении гр. Толстого и Фр. Ницше (Философия и проповедь)» (СПб, 1900), «Достоевский и Ницше (философия трагедии)» (СПб, 1903), «Апофеоз беспочвенности. (Опыт адогматического мышления)» (СПб, 1905).[57] были написаны очень страстно, запальчиво, выразительным, точным языком, получили множество разноречивых откликов и принесли автору литературную известность. С тех пор за Шестовым укрепилась репутация «блестящего стилиста», что не совсем верно. Он никогда особенно не заботился о стиле – для философа он писал необыкновенно просто, естественно и ясно: в сущности, это и стало его стилем. Эти книги напоминают драматические судебно-психологические процессы, на которых Кант, Лермонтов, Белинский, Толстой, Достоевский и т. д., их верования и моральные ценности подвергаются – как сказали бы сегодня – тотальной деконструкции, уличаются в неискренности, лжи, лицемерии, кажущимися им спасительными. Лейтмотив этой борьбы Шестова очевиден: все философы, моралисты, учителя жизни в глубине прекрасно сознают всю безнадежность и трагичность человеческого существования и время от времени «проговариваются» об этом. Но в своей массе человечество не желает слышать ни о чем подобном: оно требует от своих учителей надежных, общеобязательных истин – определенной морали, положительной философии, разумно обоснованной религии – все это на поверку оказывается ложью. Лев Толстой переживает драматический кризис, затем отождествляет Бога с «добром» и начинает проповедовать добро как единственную панацею и – как показывает Шестов – лжет и миру, и самому себе. Достоевский, переживший ужас и потрясение в минуты перед смертной казнью, а потом на каторге, и с необыкновенной силой воплотивший их в своей прозе, приходит к «спасительному» почвенническому национализму, монархизму и убеждению в том, что истины христианской веры хранит только русский народ-богоносец. Даже Ницше, наиболее последовательный и трагический мыслитель, безжалостно разгромивший всю предшествующую культуру, был вынужден постулировать «вечное возвращение» и прославлять двусмысленного «сверхчеловека».
«Нужно искать того, что… выше добра – нужно искать Бога», – так заканчивалась книга Шестова о Толстом и Ницше. «Всем можно пожертвовать, чтобы найти Бога», – напишет он позднее, когда в 20-е годы будет совершать свои «странствия по душам». Но напрасно мы стали бы искать Бога у раннего Шестова, в его шеститомном собрании сочинений, изданном в 1911 году. Здесь мы обнаруживаем сплошные жертвы, метафизический погром, выворачивание наизнанку ценностей и устоев цивилизации – жертвы, приносимые «философией трагедии» во имя «апофеоза беспочвенности». У Шестова, безусловно, благая цель: защитить одинокого, потерянного, живого человека от общеобязательных норм, обезличивающих истин, общих мест и правил, навязываемых культурой, но не только не излечивающих его, а, напротив, повергающих в еще большее отчаяние. Нужно «взрыть убитое и утоптанное поле современной мысли… раз и навсегда избавиться от всякого рода начал и концов, с таким непонятным упорством навязываемых нам всевозможными основателями великих и не великих философских систем». «Нужно усомниться не затем, чтобы потом снова вернуться к твердым убеждениям, – говорит он в «Апофеозе беспочвенности». – Нужно, чтобы сомнение стало постоянной творческой силой, пропитало бы собой самое существо нашей жизни».[58] Вслед за Ницше, Шестов «философствует молотом» – его метафизическое иконоборчество не знает пределов. В конце концов, он неизбежно оказывается на пепелище. Апофатическое ничто – конечная и одновременно исходная точка мыслителя. Ничто – как конец, завершение и одновременно абсолютная возможность…
Между трагедией и жизнью
…Шестов говорил об Ибсене, выделяя заветную его тему: страшнее всего, всего гибельней для человека отказаться от любимой женщины, предать ее ради долга, идеи. От женщины, т. е. от жизни, что глубже смысла жизни.
Евгения ГерцыкВместе с тем внешняя жизнь Шестова в дальнейшем, после кризиса 1895–1896 гг., складывается достаточно удачно. Шестов уезжает в Европу для лечения, живет в Австрии, Германии, Италии. В отличие от Серена Киркегора, он не отказывается от своей «Регины Ольсен», и в Риме, встретив русскую студентку-медичку Анну Елеазаровну Березовскую, в феврале 1897 года тайно женится на ней. (Его невеста была православного вероисповедания, Шестов не мог узаконить их брак и вынужден был скрывать от своих родителей.) У него рождаются две дочери, он ведет характерную жизнь русского интеллектуала начала века, живет попеременно в Европе, Киеве, Петербурге, Москве, участвует в собраниях на Башне Вячеслава Иванова, печатается в самых известных изданиях. В 1910 году посещает в Ясной Поляне Льва Толстого, но, похоже, плодотворного диалога у них не получилось…
Однако всегда и во всем Шестов – «частный мыслитель». Он держится достаточно обособленно, вне литературно-философских распрей и общественных движений того времени, хотя его книги, особенно «Апофеоз беспочвенности», имеют подчас скандальный резонанс. Его называют абсолютным скептиком, пессимистом, идеологом декаданса. Семен Франк именует его «крайним нигилистом». Д. Философов и Д. Мережковский, как пишет сам Шестов из Фрайбурга в 1909 году, «пошли против меня походом… Они заявили публично, что я отравил молодежь в России и что я опаснейший человек, что я – волк в овечьей шкуре и т. д… Газеты разнесли эту историю по всей России. Я, разумеется, ничего не предпринял, публично не возражал и история утихла сама собой».[59]
Характерная позиция Шестова: всю жизнь он воевал с Сократом, Кантом, Спинозой, Гегелем, со всей мировой философией, но никогда не отвечал на нападки своих современников и крайне редко вступал с ними в печатную полемику. Любопытен отзыв о нем Алексея Ремизова:
«Мне с моим взбалмошным миром без конца и без начала Шестов пришелся на руку… И моим “фантазиям” Шестов верил, доверчиво принимая и самое “несообразное”… “Беспросветно умен”, так отозвался о Шестове Розанов, а я скажу “бездонно сердечен”, а это тоже дар: чувствовать без слов и решать без “расчета”».[60]
Как личности, Шестову удавалось сочетать в себе удивительные, подчас трудно совместимые вещи. Его интенсивная внутренняя жизнь, мучительная драма и даже некоторая надломленность были заметны внимательным современникам, но, с другой стороны, Шестов вполне ориентировался в практической жизни. Время от времени по необходимости он был вынужден помогать отцу и братьям в их финансово-коммерческих делах: «Я теперь занят очень и чем? Торгую, – пишет он своей жене из Киева в 1906 г. – Целый день сижу в лавке и по вечерам как-то не пишется… И странно чувствовать себя в обстановке, при которой никогда не бывает повода ни для больших радостей, ни для больших огорчений. Для здоровья это самое лучшее. Я уверен, что займись я торговлей и отучи себя от литературы, я бы скоро совсем оправился. Но я уверен и в другом: через несколько лет такой жизни, я бы снова в один прекрасный день почувствовал бы себя на волосок от сумасшествия. Как все странно и непонятно устроено в жизни! Куда, что тянет человека?»[61]
Личность Шестова начинает двоиться: радикальный иконоборец в творчестве, апологет безумия, позднее поборник веры «по ту сторону добра и зла», в жизни он обладал той внутренней силой, что позволяла быть сдержанным, спокойным, вполне уравновешенным и притом весьма ироничным, даже язвительным человеком. Он совсем не был тем «трагическим безумцем», стремившимся слить жизнь и творчество воедино, которыми полна русская, да и европейская история рубежа столетий. Да, он – экзистенциальный мыслитель, интенсивно переживавший все им написанное, но и прекрасно сознававший, что между творчеством и жизнью всегда остается зазор – их полное слияние невозможно. Мемуаристы отмечают его «умные, добрые и прекрасные глаза», «неотразимое личное очарование»… «Духовной гармонией и миром светилась его улыбка, звучал его голос, и странно было думать, что под этим покровом скрывалось сердце мятущееся, душа, не нашедшая своего последнего предела».[62]С одной стороны, одиночество и внутренняя независимость, сдержанность и дистанция, с другой – «в отношении к близким ему людям ни тени позы или литературного учительства (в те годы это в диковинку) – просто доброта и деловитая заботливость. Одного он выручал из тюрьмы и отправлял учиться к самым ортодоксальным немцам, ничуть не трагическим, другому – беспомощному писателю… добывал издателя, помогал деньгами, разбирал семейные драмы. Все это без малейшей чувствительности. И сам он такой деловой, крепкими ногами стоящий на земле… Во всем облике его простота и в то же время монументальность».[63]
«Философ крайностей» – в жизни Шестов стремился идти «царским путем», эти крайности обходя и избегая. Его любимый персонаж – герой «Записок из подполья», выворачивающий себя наизнанку. Шестов же, напротив, всегда «застегнут на все пуговицы»: никакой «достоевщины», никаких «исповедей горячего сердца», никаких саморазоблачений – видимо, отсюда и его устойчивая неприязнь к психоанализу. «Ох, уж мне эти специалисты по психоанализу! – признавался он А. Штейнбергу. – Помните, Смердяков у Достоевского говорит, что про неправду все написано… Даже сестра моя всегда требовала от меня, чтобы я разанализировался, разоблачился… Они все от меня ждут, чтобы я совершил нечто сверхчеловеческое. Сестре, например, хочется, чтобы я превзошел самого Зигмунда Фрейда, чтобы я сманил Господа Бога на нашу грешную землю. А я вот ни за что не хотел кончить, как Ницше, то есть провозгласить себя «распятым» и засесть в доме для умалишенных. Да! Я против преклонений перед общей меркой и здравым смыслом, но во имя чего-то более глубокого, широкого и высокого, во имя, как говорится, Истины с большой буквы…»[64]
Sola fide: Лютер «по ту сторону добра и зла»
С верой, представляющейся людям безумием, погасить все светочи, озаряющие привычные жизненные пути, и очертя голову броситься в вечную тьму.
Лев Шестов о ЛютереКнига с символическим названием «Великие кануны» (1911) оказалась последней для Шестова, изданной в России. В 1910 году вместе с семьей мыслитель уезжает в Швейцарию, где живет с небольшими перерывами до начала первой мировой войны. Начинается новый период в его творчестве, который условно можно обозначить как переход от «философии трагедии» и метафизического нигилизма к религиозной мысли…
В отличие от своих друзей и коллег – Бердяева, Булгакова, Шпета – Шестов не получил никакого профессионального философского образования, но не только не сожалел, а, напротив, всегда гордился этим. Это проявлялось в постоянных спорах с Николаем Бердяевым, тоже экзистенциальным мыслителем, с которым, однако, они расходились в очень многом. Для Шестова даже Бердяев, всегда презиравший «профессорскую философию», был, тем не менее, слишком «сдавлен немецкой философией» и тем самым лишен внутренней свободы. Бердяев же упрекал его в «шестовизации» авторов, утверждая, «что ни Толстой, ни Достоевский, ни Киркегор никогда не говорили того», что Шестов заставлял их говорить. На что он возражал Бердяеву не менее убедительно: «Только потому, что я не изучал философию в Университете, я сохранил свободу духа. Мне всегда ставят в упрек, что я цитирую тексты, которые никто не цитирует, и нахожу заброшенные тексты. Возможно, если бы я проходил курс философии, я цитировал бы только разрешенные тексты. Вот почему все цитаты я привожу в оригинале – латинском или греческом. Чтобы не сказали, что я их “шестовизирую”».[65]
В упреке Бердяева, несомненно, была значительная доля истины. Шестов вырос целиком из жизни и литературы: благодаря интенсивному погружению и переживанию судьбы того или иного писателя, он открывал в нем то сокрытое, глубинное, что никто не видел за покрывалом общеобязательных штампов и школьных характеристик. Формально его метод похож на психоаналитическую деконструкцию, он никогда не доверяет декларациям, тому, что лежит на поверхности – никто не знает правды о себе самом. Но на этом сходство «герменевтики подозрения» Шестова с психоанализом заканчивается, в остальном они диаметрально противоположны.
В Швейцарии Шестов занимается средневековой философией, читает немецких мистиков и схоластов, отцов Церкви, католических и протестантских теологов и через них приходит к Мартину Лютеру, в котором он увидел «не пресного реформатора, а трагический дух, близкий Ницше» и ему самому. (В России Лютера в то время плохо знали, относились предвзято, и его работы практически не переводились.)
У Леонида Андреева в рассказе «Призраки», действие которого происходит в доме для умалишенных, один из безумцев занимается тем, что все время стучит в запертые двери. Отчаяние Шестова, заставлявшее его делать то же самое, принесло свои плоды. Дверь приоткрылась, и он увидел еще едва различимый свет… Это был свет религиозной мысли, свет Откровения.
В драме молодого монаха августинского ордена, в его «отступничестве», в учении об оправдании sola fide (только верою) Шестов увидел драму, которую пережили и Ницше, и герои позднего Толстого («Записки сумасшедшего», «Отец Сергий», «Хозяин и работник»), и отчасти Достоевский. Вера, как последняя надежда погибающего, не оправдывается никакими добрыми делами, она – вне всего насущного, человеческого, мирского, она ведет в совсем другие миры. Трагическая вера человека, утратившего последние земные надежды, всегда лежит «по ту сторону добра и зла». Лютер, которого Шестов резко отделяет от лютеранства, совпадает с Достоевским («Легенда о Великом Инквизиторе»). Католичество, получив от апостола Петра potestas clavium (власть ключей), поставило себя и свой разум на место Бога, завладев неограниченной духовной властью над миром. Разочаровавшийся в авторитете Церкви Лютер переживает ужасный кризис перед лицом абсолютного Ничто, он погружается в тот божественный мрак, в котором все человеческое не имеет ни малейшего значения. Никакие дела и заслуги не оправдывают человека перед Богом: «Хуже того, дела не только злые, но и добрые обременяют того, кому предстоит последнее испытание, – говорит Шестов. – И даже дела добрые обременяют больше, чем худые. От худых легко отказаться, от добрых трудно, для иных невозможно. Они приковывают к земле, человек хочет видеть в них вечный смысл своего существования».[66]
Книга «Sola fide» не была закончена Шестовым. Перед самым началом первой мировой войны в июле 1914 г. вся семья возвращается в Россию, а рукопись остается в Швейцарии. Работа, где впервые сформулированы его главные религиозные идеи, была опубликована лишь в 1966 году к столетнему юбилею философа. Шестовский Лютер подобен другим его излюбленным героям, в первую очередь, – Аврааму. Согнав ratio с престола, отвергнув внешний авторитет и власть умозрения, Лютер «принимает вечную тьму, погибель, уничтожение… – и идет туда, где по человеческому разумению нет и не может быть спасения». Этот текст почти дословно совпадает со словами из «Послания к евреям» апостола Павла: «Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие; и пошел, не зная куда идет», которые в дальнейшем станут idee fixe Шестова и будут им повторены десятки раз. Иными словами, человек должен оставить все, отречься от своих знаний, привилегий и предрассудков и отправиться в абсолютную неизвестность – только тогда Бог, возможно, услышит его… С этого времени мыслитель по существу уже не меняется – в различных вариациях он будет повторять одно и то же в большинстве своих текстов. Возможно, поэтому «Sola fide» так и не была им опубликована: эти же мысли мы найдем в следующей книге Шестова, которая называется «Potestas Clavium» («Власть ключей»), но она выйдет уже в эмиграции, в Берлине в 1922 году…
История как катастрофа
Философ на вопрос, когда он стал философом, отвечал: «когда я стал самому себе другом». А если спросили христианина, когда он стал христианином, он ответил бы: «когда я стал самому себе врагом».
Серен КиркегорНужно ли подробно говорить о том, что Шестов «не доверял» истории, не видел в ней никакого метаисторического смысла, и все крушения и катастрофы воспринимал как трагическую и естественную неизбежность. В начале первой мировой войны на фронте гибнет внебрачный сын Шестова, которого он очень любил и о котором заботился. Это событие, очевидно, накладывает особый отпечаток на дальнейшее творчество Шестова, хотя впрямую им нигде не упоминается.
В отличие от подавляющего большинства русских интеллектуалов, восторженно воспринявших падение монархии в феврале семнадцатого года, он отнесся к этому событию скептически, предчувствуя, что вслед за бескровной революцией последует нечто более страшное, и предчувствия не обманули его. Проведя тяжелые годы революции и войны в Москве и Киеве, в январе 1920 года Шестов вместе с семьей из Севастополя навсегда отплывает из России – через Константинополь они отправляются в Геную. Бердяев в это время пишет и публикует (1922 г.) одну из своих программных работ «Смысл Истории. Опыт философии человеческой судьбы», где пытается осмыслить катастрофический характер истории в эсхатологической перспективе. Шестов косвенно отвечает ему кратким афоризмом (он войдет в книгу «Афины и Иерусалим»): «Ищут смысл истории и находят смысл истории. Но почему история должна иметь смысл? Об этом не спрашивают. А ведь если кто бы спросил, может, он сперва бы усомнился в том, что история должна иметь смысл, а потом убедился бы, что вовсе истории и не полагается иметь смысл, что история сама по себе, а смысл сам по себе. От копеечной свечи Москва сгорела, а Распутин и Ленин – тоже копеечные свечи – сожгли всю Россию».
Старая Россия была сожжена, семья Шестовых оседает в Европе, с 1921 года они живут во Франции, преимущественно в Париже. Шестов, никогда не занимавшийся профессорской деятельностью, по необходимости становится преподавателем в Институте славяноведения и более 15 лет, до самой смерти (1938 г.), читает курс философии в аудиториях Сорбонны. Несмотря на тяготы эмигрантского жития, можно сказать, что жизнь мыслителя в изгнании сложилась удачно. Он печатается в русских, французских, немецких журналах, книги «Толстой и Ницше», «Достоевский и Ницше» переводятся на европейские языки. Новая работа «Сыновья и пасынки времени. Декарт и Спиноза» в 1923 г. печатается в «Мегсиге de France». «Откровение смерти» и «Гефсиманская ночь (философия Паскаля)» по-французски отдельными книгами выходят в 1923–1924 годах. На русском языке они войдут в книгу «На весах Иова. Странствия по душам» (1929), пожалуй, наиболее полно выразившую миросозерцание Шестова. Постепенно он знакомится с интеллектуальной элитой Европы, которая с любопытством воспринимает его странные, ни на что не похожие вопрошания. Шестов общается с Андре Жидом, Шарлем дю Босом, вместе с Бердяевым участвует в знаменитых декадах в Понтиньи у Поля Дежардена, с Андре Мальро, Томасом Манном, Леви Брюлем, графом Кайзерлингом, Максом Шелером, Мартином Бубером и даже с Эйнштейном, а 23 апреля 1928 года на философских чтениях в Амстердаме происходит знаменательная встреча с Эдмундом Гуссерлем. С этого момента начинается дружба двух диаметрально противоположных мыслителей, идейных противников, протекавшая в постоянных спорах. «Никто никогда еще так резко не нападал на меня, как он, – позднее, представляя Шестова, говорил Гуссерль, – и отсюда пошла наша дружба». Гуссерль уговаривает Шестова прочесть неизвестного датского философа Серена Киркегора, и, сначала нехотя принимаясь за чтение, Шестов, наконец, с большим опозданием открывает своего «датского двойника».[67] Впечатление было ошеломляющим, но, будучи окончательно сложившимся мыслителем, Шестов в определенном смысле не открывает для себя ничего «нового». С одной стороны, Киркегор убеждает в правильности выбранного пути. С другой – он не просто читает Киркегора, он борется с ним, принимая и одновременно не принимая его как свое alter ego. Шестов пишет несколько статей об авторе «Или-или», в том числе «Киркегор – религиозный философ», а затем и целую книгу «Киркегор и экзистенциальная философия. Глас вопиющего в пустыне».
Нельзя сказать, что Шестов становится широко известен (он не был столь знаменит, как Бердяев в то время). Он по-прежнему мыслитель для немногих, его читают, переводят, он выступает с лекциями и докладами от Парижа до Кракова и Иерусалима, но вряд ли публика хорошо понимает его. Характерный пример: в 20-е годы к Шестову часто приходит молодой писатель Жорж Батай, которого он знакомит с русской литературой, в первую очередь, с Достоевским. Они много общаются, но Батай быстро отходит от Шестова, и это происходит из-за несовпадения их творческих темпераментов. «Он просто озадачил меня отсутствием чувства юмора, – вспоминал позднее Батай. – Я был весел, вызывающ и уже тогда не мог вообразить себе глубокой серьезности без беззаботности и смеха».[68] Парадокс: казавшийся в России ироничным и саркастическим мыслителем, Шестов для веселого авангардиста Батая был слишком серьезен. И это точное определение – для галльского темперамента однодум Шестов был в самом деле абсолютно серьезен. По сути дела в Европе Шестов нашел единственного последователя и ученика – им стал Бенжамин Фондан (Benjamin Fondane) (1898–1944), французский писатель румынского происхождения, человек с трагической судьбой, автор книг «Несчастное сознание» (написанной под сильным влиянием Шестова) и «Встречи с Львом Шестовым», погибший в Освенциме.
Шестов продолжает вести достаточно замкнутую жизнь, пишет работы о Вл. Соловьеве, Розанове, Бубере, Пармениде, Бердяеве, Ясперсе, Гуссерле и др., где с непреклонным упорством развивает одни и те же сюжеты. Открывая любой текст, мы знаем, что обнаружим там историю грехопадения, противопоставление древа жизни древу познания, Иова – Гегелю, Откровения – Умозрению, Иерусалим – Афинам. С начала 20-х годов дихотомия шестовской мысли прочерчена раз и навсегда. По одну сторону баррикад – «враги», «чужие»: Сократ, идея познания, власть ключей (независимо, кто ими обладает: язычники, католики или современные философы), Спиноза, Декарт, Кант, Гегель, мораль с идеей долженствования – царство необходимости, принуждения, несвободы. По другую сторону – идея спасения, древо жизни, Авраам, Иов, Тертуллиан, Лютер, Паскаль, герои Толстого и Достоевского, Ницше и Киркегор, трагическая вера «по ту сторону добра и зла», возвращающая потерянный рай, где нет выбора, знания и, следовательно, зла… В конце концов, эти многократные навязчивые повторения начинают раздражать. Причем тут Соловьев, Парменид, Гуссерль, Плотин, Спиноза, если из всего многообразия идей столь несхожих друг с другом философов всегда выводится одно и то же. Недаром Гуссерль при встрече с Шестовым говорил ему: «Вы точно превратили меня в каменную статую, поставили на высокий пьедестал, а затем ударом молота раздробили эту статую вдребезги. Но точно ли я такой каменный?..» Этот же вопрос могли задать ему все остальные «недруги», если бы были живы. Его не раз задавали и современники. Шестову приходилось оправдываться: «На меня все сердятся за то, будто, что я все об одном и том же говорю. И на Сократа за это же сердились. Словно другие не об одном и том же говорят. Очевидно, сердятся за что-то иное…»
За что же сердились современники на Шестова? В самом деле, не за то, что он твердил одно и то же: «Если бы я говорил одно и то же, но привычное, принятое, а потому понятное и приятное для всех, на меня бы не сердились». Но так как Шестов повторяет что-то совсем странное, немыслимое, абсурдное, противоречащее всему интеллектуальному опыту человечества, то это и вызывает раздражение. Люди хотят спать среди раз и навсегда усвоенных понятий, а их кто-то тормошит, расталкивает, будит: «Ему спать хочется, а кто-то пристает: проснись. И чего сердится? Все равно вечно спать нельзя. Не растолкаю (на это, правду сказать, я не рассчитываю), все равно придет час и кто-то другой уже не словом, а иначе, совсем иначе, станет будить, и кому проснуться полагается, тот проснется»…[69] Разумеется, Шестов был слишком искушен, чтобы надеятся на успех – разбудить спящее человечество: не он первый, не он последний… И все же еще раз зададим вопрос – в чем подлинный смысл его вызывающих вопрошаний? Обрел ли сам он, наконец, ту веру, о которой беспрестанно твердил в своих писаниях?
Познание и спасение
Может быть, рассказ о грехопадении – самое глубокое из написанного человечеством. Тут сказано все, что мы потом переживаем… – вся история на одной странице…Почему Адам и Ева не прикоснулись сначала к Древу жизни? Потому что искушение бессмертием слабее, чем знанием и особенно властью.
Эмиль ЧоранЧеловек против своей воли, с печатью первородного греха, в плаче и муках появляется на свет. Со временем, раньше или позже, он сталкивается с так называемой «реальностью», состоящей из общеобязательных истин: дважды два – четыре, человек смертен, законы логики обязательны для всех, Сократ был отравлен в 399 году до Р.Х., однажды бывшее является таковым навсегда, человек вынужден подчиняться природной и исторической необходимости и т. д. Для Шестова эта «реальность» – чудовищное заблуждение, тюрьма, в которую поместило себя человечество. Точнее, добровольно избрал человек, вкусивший в раю от рокового древа, предпочтя выбор между добром и злом, познание – райской свободе, и оказавшийся в заточении, которое сегодня охраняют и наш здравый смысл, и современная наука (философия).
По Сартру, изначальный импульс человека – быть Богом, быть всем и понимать все, обладать миром и не иметь ничего вне себя, не признавать никаких границ и условностей. Этому мешает Другой, мешает реальность, поэтому человек всегда терпит крушение. Он – несостоявшийся Бог, и любая история жизни, какой бы она ни была, это история неудачи. По характеру мышления Шестов далек от французского экзистенциалиста, но, отталкиваясь от Сартра, можно сформулировать кредо автора «Умозрения и откровения»: Господь, создавший человека, поместил его в Рай, где он был существом богоподобным, свободным, огражденным от зла и бессмертным… Ангел смерти наградил Шестова не только ви́дением Ада, в который люди, вкусив от Древа познания, превратили мир, но и редким по силе ви́дением Рая, некогда бывшего, но навсегда утраченного. «Несомненно одно, протянувши руку к древу познания, люди навсегда утратили свободу, – говорит он снова и снова. – Люди, по-видимому, совершенно забыли, что в определенную пору существования им предоставлена была возможность выбирать не между добром и злом, а между тем быть злу или не быть». Это значит, что истории с ее ужасами, законами, детерминизмом предшествовал другой мир, где все было «добро зело». Тут возникает главное расхождение Шестова с историей человеческой мысли, которая утверждает, что познание необходимости может привести человека к освобождению. В этом – глубочайшее заблуждение всех философов: от Сократа до Гегеля. В книге о Киркегоре для иллюстрации этой мысли Шестов подробно излагает его учение о гении, который, как было принято считать, постигая сущность необходимости, может освободить мир. Напротив, пересказывает он автора «Или-или», познание сталкивает человека с Ничто. Ничто рождает Страх, который обнаруживается не как состояние, присущее невинности и неведению, а как состояние, присущее греху и знанию. И чем глубже человек, тем явственнее он открывает Ничто… Что есть Ничто? Оно есть Рок. Рок – это единство необходимости и случайности, иначе говоря, Судьба. Это получило свое выражение в том, что Судьба всегда представляется слепой. Как раз «гений повсюду открывает судьбу, и тем глубже, чем он более глубок. Для поверхностного наблюдателя – это, конечно, вздор; но на самом деле здесь кроется величие, ибо с идеей Промысла человек не рождается… В том именно и сказывается природная мощь гения, что он открывает Рок – но в этом и его бессилие».[70]
Поэтому гениальность, несмотря на весь свой блеск и великолепие, по Киркегору, есть грех, более того, гений, проникающий в глубины сущего, есть величайший грешник именно потому, что он открывает роковую необходимость, он вновь повторяет преступление Адама. И он же за это и расплачивается: открывая в мире то, что уничтожает его самого. Происходит гносеологическая аннигиляция – познанное нами не освобождает, а подчиняет и уничтожает нас. Чтобы совершить прорыв в другое измерение, совершить «подвиг веры», человек должен быть испепелен и обращен в ничто.
И вот тут мы постепенно проникаем в ту сокровенную драму, которая мучила Шестова всю жизнь, одновременно являясь главным источником его творчества… Что же в таком случае есть вера? Что может спасти нас, вырвать из власти необходимости?.. По Шестову, оказывается, что никто из философов и богословов, в том числе и христианских, на самом деле не имел веры. Все, не исключая и христианских мыслителей средневековья, попали под роковую власть разума, знания, необходимости. Получается, что веры нет практически ни у кого. В определенном смысле ее не было ни у Паскаля, ни у Киркегора, ни у самого Шестова (он несколько раз проговаривается об этом). Она была у Авраама, Исаака, Иакова, была у Иова, возможно, у Лютера… У кого же еще?..
«Читая Л. Шестова, – говорит Бердяев, – остается впечатление, что вера невозможна и что ее ни у кого не было… Л. Шестов не верит, что есть вера у так называемых “верующих”. Ее нет даже у великих святых. Ведь никто не движет горами. Вера не зависит от человека, она посылается Богом, Бог же никому почти не дает веры… Л. Шестов составил себе максималистическое понятие о вере, при котором она делается невозможной».[71]
Это так и не так одновременно. Мы вступает здесь в область драматических антиномий, над которыми со времен Тертуллиана и Августина бьется религиозная мысль. С одной стороны, вера невыразима, необъяснима, непередаваема, немыслима, она от Бога и только от Бога, по Августину, Лютеру и Шестову, она дается как неодолимая благодать. Но что тогда человек? Он оказывается ничем: у него нет ни воли, ни свободы… Начав с апологии человека, с его свободы и своеволия, постепенно мысль Шестова уничтожила эту свободу полностью. Когда его называют экзистенциалистом, как Бердяева или Ясперса, это полное недоразумение. Поздний Шестов абсолютно теоцентричен, в неменьшей степени, чем Августин, Лютер или Кальвин, при том существенном различии, что он по-прежнему вне конфессий – между Ветхим и Новым Заветом… Но если человек – ничто, для чего тогда его искания и страдания? Для чего искания и страдания Лютера, Паскаля, Киркегора и самого Шестова? Почему вера как откровение дается одному и не дается другому?.. Для смертного это навсегда останется тайной. Любой ответ – это ответ разума, который всегда будет ложным…
С другой стороны, библейские слова о вере Шестов понимает в самом буквальном и непосредственном смысле: о горчичном зерне веры, за которое людям обетовано божественное – «не будет для вас ничего невозможного»… Вера подобна чуду, она способна двигать горами, перед ней расступается море, она может сделать бывшее небывшим: «Бог значит, что все возможно, и что все возможно, значит Бог». Вера, как невозможная возможность, уничтожает необходимость, отменяет историю и возвращает человека в Рай: в этом кредо Шестова, которое он повторяет десятки раз…
И тут нельзя не вспомнить Евангельское «иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости…» Мост между Афинами и Иерусалимом, созданный за два тысячелетия христианской мысли, вновь оборачивается пропастью. Тем не менее, у него свое собственное исповедание веры: разрывая Афины и Иерусалим, между Ветхим и Новым Заветом Шестов не видит принципиального различия. В письме к Сергею Булгакову он выразил свою веру с определенностью, которая не требует комментариев: «По-моему, сейчас нужны величайшие усилия духа, чтобы освободиться от кошмара безбожия и неверия, овладевшего человечеством. Для меня противоположности между Ветхим и Новым Заветом всегда казались мнимыми. Когда Христа спросили (Марк. 12, 29), какая первая из всех заповедей, Он ответил: “слушай, Израиль” и т. д., и в Апокалипсисе (2, 7): “Побеждающему дам вкушать от древа жизни”. “Знание” преодолевается, откровенная истина – “Господь Бог Наш есть Бог единый” – в обоих Заветах возвещается эта благая весть, которая одна только и дает силы глядеть в глаза ужасам жизни».[72]
Потерянный Рай
Я – не отсюда. Воплощенный изгнанник, я везде чужой – не принадлежу ничему на свете. Каждую минуту я одержим одним: потерянным Раем.
Эмиль ЧоранТоска по утраченному Раю пронизывает большую часть шестовских текстов. Он постоянно говорит о древе жизни, жизни другой, райской, блаженной, но напрасно мы бы стали искать эту жизнь в его сочинениях. В статье «Памяти Гершензона» – историка, своего друга – Шестов цитирует характерный фрагмент:
«В последнее время мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, все умственные достояния человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство постижений, знаний и ценностей, – пишет М. О. Гершензон Вячеславу Иванову. – Это чувство давно мутило мне душу подчас, но не надолго, а теперь оно стало во мне постоянным. Мне кажется: какое бы счастье кинутся в Лету, чтобы бесследно смылась с души память обо всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как первый человек, нагим, легким и радостным, и вольно выпрямить и поднять к небу обнаженные руки, помня из прошлого только одно – как было тяжело и душно в тех одеждах, и как легко без них».[73]
Ситуация XX столетия: если человек эпохи Просвещения бежал от «тьмы незнания» к «свету умозрения», то человек нашего времени бежит назад от «света» к «тьме», ибо свет стал тьмой, тьма – светом. Поэтому религиозная мысль в лице Льва Шестова так упорно твердит о Рае, но что можно сказать о нем, как можно его описать? Как можно поведать о том, что непередаваемо и невыразимо?.. Мы постоянно чувствуем, что мыслитель не может выразить того, что хочет. Его мысль ходит кругами, спиралями, существуя лишь в виде цепочки бесконечных отрицаний. Он «странствует по душам» путем полной, абсолютной апофатики, повторяя вновь и вновь о том, что не есть подлинное бытие, но что оно есть, мы знать не можем. Как философ, существуя всецело внутри умозрения, внутри многовековой философской традиции, он стремится сбросить с себя «душные одежды», все время говорит о другом – другом мире, другом измерении сознания, о прорыве к другому, но вырваться ему не дано, ибо другое – это конец философии, а Шестов всецело внутри нее. Как это ни странно звучит, но именно он, как никто, отравлен «ядом умозрения», причем отравлен совершенно безнадежно. Когда он беспрестанно твердит «о страшной власти чистого разума», мы чувствуем, что эти слова обращены не во вне, а внутрь – к себе самому. Он борется сам с собой и с собой ведет бесконечную тяжбу. При внимательном чтении замечаешь: непримиримый противник закона противоречия нечасто позволяет себе его нарушать. Шестов в этом смысле совсем не «иррационалист», против рационализма он сражается его же оружием. Логика Шестова, в самом деле, подобна ударам молота, которыми он разбивает одну статую за другой. В конце концов, он становится жертвой собственного апофатического мышления: беспрестанно отрицая и разрушая с помощью своего изощренного разума, углубляя и оттачивая его с каждой новой книгой, он сам оказывается в его власти.
В одной из статей Шестов вспоминает евангельскую притчу о двух сыновьях: один сказал «пойду» и не пошел, другой – «не пойду» и пошел. Всю жизнь Шестов посвятил обоснованию необходимости «идти» и… не шел, вернее, доходил до края, и останавливался… Кажется, сделай еще один шаг, он навсегда оставил бы философию и закончил бы аскезой, молчанием и молитвой. Более всего на свете он любил и цитировал Библию, но, как давно замечено, «из Библии он берет лишь то, что нужно для его темы». Шестов совсем «не библейский человек, он человек конца XIX начала XX века. Ницше ему ближе Библии и остается главным влиянием его жизни. Он делает библейскую транскрипцию ницшеанской темы, ницшеанской борьбы с Сократом, с разумом и моралью во имя жизни».[74]
По иронии судьбы Шестов застрял где-то между «Афинами и Иерусалимом», но это же оказалось и его преимуществом. С одной стороны, плод, однажды вкушенный с древа познания, стал роковым для него самого, а то универсальное сомнение, о котором он писал в своих ранних книгах, сыграло с ним злую шутку: внутренний метафизический скептицизм остался непреодолимым. Но с другой – только внеконфессиональный одиночка, как Шестов, мог обладать такой степенью внутренней свободы и без оглядки на кого-либо продолжать свои вопрошания. Любопытный парадокс: вольнодумец и еретик, с точки зрения любой христианской ортодоксии, Бердяев в отношении к Шестову выступает как вероучитель, упрекая его в неверии: «Я думаю, что статично и бездвижно неверие и скептицизм. Я вижу “выход” (против чего ты больше всего восстаешь), потому что я верующий христианин и до конца всерьез беру свою веру. “Выход” и есть движение, безвыходность же есть кружение… И ты, и Шлецер (друг и переводчик Шестова – Я. К.), и все люди вашего духа восстаете против всякого, кто признает положительный смысл жизни. Но ведь признавать положительный смысл жизни и есть признак всякой религии. И напрасно вы думаете, что состояние верующего не трагично, а трагично лишь состояние неверующего. Как раз наоборот. Верующий большим рискует. Верующий рискует проиграть вечную жизнь, неверующий рискует только проиграть несколько десятилетий, что не так уж трагично и страшно».[75]
Я не собираюсь быть арбитром в их долгом споре, но несомненно одно – значительная доля истины в этих словах Бердяева есть.[76]
Борьба с тяготением: Шестов, Малевич, Хармс и другие
Все, о чем постоянно твердил Шестов, было нелепо и абсурдно со всех точек зрения: философии, науки и здравого смысла. Грубо говоря, всю жизнь он пытался показать, что дважды два может быть равно не четырем, а пяти или шестнадцати, и брошенный предмет не обязательно упадет на землю, а бывшее однажды может стать совсем не бывшим. В этом он удивительным образом совпадает с исканиями своих современников – русского живописного и литературного авангарда – от Малевича и Хлебникова до Хармса и обэриутов, о которых он, возможно, и слышал краем уха, но никогда не обращал внимания. Параллельно Шестову в русской культуре шла та же самая «борьба с очевидностями» – «борьба с тяготением» (выражение К. Петрова-Водкина). «Заумный реализм» Малевича, абсурдистский алогизм и трагический смех Хармса – схожие попытки вырваться из-под власти необходимости, формальной логики, причинно-следственных связей и создать пространство свободы, где не действуют природные закономерности и бессильно всепожирающее время. Шестов боролся с принудительной властью идей, Хармс каждый день выходил на «борьбу со смыслами», а Малевич создавал пластическую систему, в которой должна быть уничтожена власть земного тяготения.[77] Но «своя своих не познаша»: слишком различными были традиции, стиль мышления, язык, среда. Пожалуй, единственной фигурой, хоть как-то соединявшей Шестова с русским авангардом, был полубезумный библиотекарь, автор «Философии общего дела» Николай Федоров (1828–1903), почитателями которого были Малевич, Хармс и Хлебников, и которым интересовался Шестов, написавший в конце жизни о нем специальную статью. «Антифилософ» Шестов воевал с ветряными мельницами мировой философии, а «антихудожники» русского авангарда – с тиранией предметной реальности, с принудительностью человеческого рассудка и языка. Абсурд и противоречия – их главное оружие, но если художнику постоянно противоречить себе вполне естественно, то для философа это непозволительно.
А весь Шестов – в своем роде художник среди философов – в борьбе с самим собой, в своих внутренних противоречиях. Чем Шестов занимался всю жизнь? – Познанием, которое стало для него проклятием. Кого читал, кого цитировал более всего? – Философов от Парменида до Гуссерля, которым он объявил непримиримую войну. Кого он хотел защитить? – Слабого, несчастного, погибающего человека, преобразить его и привести к Богу. Но человек оказался разрушен: меж человеческим и божественным разверзлась зияющая бездна. Меня всегда удивляло то, что Шестова вообще услышали: чаще всего такие голоса, противоречащие себе и говорящие наперекор всему и вся, исчезают бесследно во тьме где-то на задворках истории. И тем не менее, его голос стали воспринимать, с помощью бесконечных повторений ему удалось заставить себя услышать – если не философов, то просто думающих людей. XIX век не заметил Киркегора, XX век заставил мир услышать и Киркегора, и Шестова. Писавшему об одиночестве, отчаянии, боли и ужасах жизни, задававшему бессмысленные вопросы, ему удалось выразить себя вопреки всему, он каким-то чудом вошел в резонанс со столетием и в результате – как ни странно это может прозвучать – оказался писателем с вполне счастливой и осуществившейся судьбой.
Русский экзистенциализм? Николай Бердяев и Лев Шестов
Из всех русских мыслителей первой половины XX столетия Лев Шестов и Николай Бердяев получили наибольшую известность за пределами России. Их часто упоминали вместе как выразителей особого российского «религиозного экзистенциализма», сформулировавших его основные положения задолго до Мартина Хайдеггера, Карла Ясперса и Жана-Поля Сартра. Отчасти это справедливо. Но наряду с общими чертами их мировоззрения, столь же очевидны и их фундаментальные различия.
Жизненная и творческая судьба Льва Исааковича Шестова (1866–1938) во многом неотделима от судьбы его друга-оппонента Николая Александровича Бердяева (1874–1948). Они оба родились в Киеве и там же познакомились в конце 1902 года. Случайно оказались вместе на встрече Нового 1903 года, между ними возник спор, едва не закончившийся ссорой, но все завершилось благополучно, молодые философы перешли на «ты», и с тех пор началась их дружба, длившаяся более 35 лет. Позднее, уже в эмиграции в Париже, Лев Шестов в беседах, пожалуй, с единственным человеком, которого можно назвать его последователем – Бенджаменом Фонданом вспоминал об этом так: «Мы никогда не были согласны. Мы всегда сражались, кричали, Бердяев всегда упрекал меня в шестовизации авторов, о которых я говорю. Он утверждал, что ни Достоевский, ни Толстой, ни Киркегор никогда не говорили того, что я заставляю их говорить. И каждый раз я ему отвечал, что он оказывает мне слишком большую честь, и если это я действительно изобрел… то должен был бы лопнуть от тщеславия».[78]В свою очередь в философской автобиографии «Самопознание» Бердяев следующим образом описывал их встречу: «Я познакомился с человеком, который остался моим другом на всю жизнь, которого я считаю одним из самых замечательных и лучших людей, каких мне приходилось встречать в жизни. Я говорю о Льве Шестове, который также был киевлянин. В то время появились его первые книги, и меня особенно заинтересовала его книга о Ницше и Достоевском. Мы всегда спорили, и у нас были разные миросозерцания, но в шестовской проблематике было что-то близкое мне. Это было не только интересное умственное общение, но и общение экзистенциальное, искание смысла жизни».[79]
В 1905 году в Петербурге издается четвертая книга Шестова – сборник афоризмов «Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления», ставшая своего рода манифестом раннего периода его творчества. 70 лет спустя французский исследователь русской мысли Жан-Клод Маркаде назовет эту книгу пророческой для развития философии XX столетия.[80]
В самом деле, утрата универсальной традиции, исчезновение корней, ощущение потерянности, бездомности, беспочвенности становятся общим и для культуры, и для философии прошлого столетия: Лев Шестов осознает и выражает это одним из первых. Трагический скептицизм мыслителя, подвергающего «деконструкции» устои и ценности современной цивилизации, является главной доминантой книги: «Нужно усомниться не затем, чтобы потом снова вернуться к твердым убеждениям… Нужно, чтобы сомнение стало постоянной творческой силой, пропитало бы самое существо нашей жизни».[81]Вслед за Ницше Шестов «философствует молотом» – его метафизическое иконоборчество не знает пределов. Апофатическое ничто – конечная и одновременно исходная точка мыслителя. Ничто – как конец, завершение и одновременно абсолютная возможность…
С одной стороны, «Апофеоз беспочвенности» вызвал почти скандальный резонанс – появилось множество откликов, включая тексты Василия Розанова и Алексея Ремизова, с другой – Шестову казалось, что его книгу неправильно воспринимают и ее проблематику неверно истолковывают (кстати, и впоследствии такое впечатление будет возникать у него от большинства рецензий на его сочинения).
В этот момент в марте 1905 года в журнале «Вопросы жизни» появляется пространная статья Бердяева «Трагедия и обыденность», рассматривающая «Апофеоз беспочвенности» в связи с предшествующими работами Шестова. Этот текст один из лучших среди написанных о Шестове до его эмиграции из России в 1920 году. Бердяев, несомненно, высоко оценивает новую работу Шестова, но при этом оговаривается, что лучшей его книгой он считает предшествующую – «Достоевский и Ницше. Философия трагедии». «Апофеоз беспочвенности» кажется ему опасным в том смысле, что, провозглашая адогматическое мышление в качестве абсолюта, книга становится догматической… «Потерявшая всякую надежду беспочвенность превращается в своеобразную систему успокоения, ведь абсолютный скептицизм также может убить тревожные искания, как и абсолютный догматизм… Трагическая беспочвенность не может иметь другого “апофеоза”, кроме религиозного и тогда уже положительного».[82]Именно в этом первом тексте Бердяева о Шестове (всего он напишет четыре больших статьи о своем друге, не считая мелких рецензий) проступает вся сложность отношений мыслителей друг к другу. Как и для Шестова, основная метафизическая интуиция Бердяева – острое ощущение царящего в мире зла, которое не может быть оправдано никакими философскими системами, никакой теодицеей. Он такой же страстный спорщик, полемист, неоднократно говоривший, что для выражения собственных идей ему надо от чего-то оттолкнуться, вступить в полемику, – он должен мысленно представить себе оппонента и спроецировать его вовне. Бердяев с изначальным антиномизмом своей мысли и романтической бунтарской установкой оставался человеком, не приемлющим догматизм любого рода, все принудительное, навязанное извне – общественным мнением, коллективом или даже церковью. Как и Шестов, Бердяев в определенном смысле был метафизическим анархистом, религиозным индивидуалистом, космополитом, для которого «беспочвенность» являлась фундаментом творчества. Но при этом талант аналитика сочетался у него с синтетическим даром, огненная страстность – с духовной трезвостью, анархическая устремленность – с соборностью, рыцарский максимализм – с широтой и веротерпимостью, одиночество – с социальностью, апофатическое философствование – с катафатическим. Сложный, запутанный творческий путь молодого Бердяева (он был либеральным марксистом, кантианцем, испытал сильное влияние Ницше и т. д.) завершился принятием им христианства – и христианским мыслителем он оставался всю свою жизнь.
Что же касается Шестова, то для него антиномизм, беспочвенность, адогматизм, апофатичность остались определяющими характеристиками его мышления. Он был и остался «вечным богоискателем», так и не выразившим до конца свой «символ веры». По иронии судьбы, он застрял где-то между Афинами и Иерусалимом, умозрением и откровением, Ветхим и Новым Заветом, осознанно отказавшись от окончательного выбора. В России в начале XX века Шестова считали, скорее, писателем и литературным критиком, нежели философом: «Я никогда в университете не изучал философии, никогда не посещал лекций по философии и не считал себя философом… Меня принимали за литературного критика, так как мои первые книги были посвящены Шекспиру, Толстому, Чехову. Да я и сам себя считал, скорее, критиком…»[83] И лишь позднее, в эмиграции, после появления таких книг, как «Власть ключей» (1922) и «На весах Иова» (1929), после того, как он начал читать лекции по философии в Сорбонне (исключительно из материальных соображений), Шестов получил статус «философа», хотя и совершенно особого рода. Это различное понимание предмета философии постоянно проявлялось в спорах с Бердяевым. Для Шестова даже Бердяев, презиравший «профессорскую философию», был, тем не менее, «слишком сдавлен немецкой философией» и тем самым лишен внутренней свободы. Бердяев же, как уже говорилось, упрекал своего друга в «шестовизации» авторов, утверждая, что Шестов заставляет их говорить то, что они никогда не высказывали.
Иными словами, можно сказать, что это был спор «философа» (Бердяев при всех оговорках относился к философии уважительно) и «антифилософа» – Шестова, который в своем творчестве следовал афоризму Паскаля: «Пренебрежение философией и есть истинное философствование». Оба мыслителя основывали свои идеи, в первую очередь, на личном опыте. Но следует отметить, что для Шестова собственный экзистенциальный опыт был более существенным, чем мнение величайших философских авторитетов. Его излюбленные герои – Авраам, Иов, Тертуллиан, Лютер, Паскаль, персонажи Толстого и Достоевского, Ницше и Киркегор – имеют к «профессиональной философии» весьма отдаленное отношение.
Из этих разногласий вытекает главный спор о вере и разуме, который они вели на протяжении всей 35-летней дружбы. В 1923 году в Париже на французском языке выходит книга Шестова «Гефсиманская ночь», посвященная философии Блеза Паскаля. Бердяев в личном письме Шестову сразу же высказывает свои впечатления. Он говорит, что книжка очень хорошо написана, но ее концепция вызывает у него «живой протест»: «Ты упорно не желаешь знать, что безумие Паскаля, как и апостола Павла, было безумием во Христе. Благодать ты превратил в тьму и ужас. Опыт ап. Павла, бл. Августина, Паскаля, Лютера не имел ни малейшего смысла вне христианства».[84] (Т. 1. С. 286) Главный упрек Бердяева Шестову заключается в том, что в полной мере проникать в христианскую драму Паскаля и других мыслителей могут лишь люди, находящиеся внутри христианства и сами обладающие подобным опытом, тогда как Лев Шестов стоит у его порога, так и не решаясь сделать последний шаг: «Я думаю, что статично и бездвижно неверие и скептицизм. Я вижу “выход” (против чего ты больше всего восстаешь), потому что я верующий христианин и до конца всерьез беру свою веру. “Выход” и есть движение, безвыходность же есть кружение… И ты, и Шлецер, и все люди вашего духа восстаете против всякого, кто признает положительный смысл жизни. Но ведь признавать положительный смысл жизни и есть признак всякой религии. П напрасно вы думаете, что состояние верующего не трагично, а трагично лишь состояние неверующего. Как раз наоборот. Верующий большим рискует. Верующий рискует проиграть вечную жизнь, неверующий рискует только проиграть несколько десятилетий, что не так уж трагично и страшно».[85] Ответ Шестова также чрезвычайно интересен, он не отрицает важность христианского опыта, но при этом вносит существенные оговорки: «Опыта твоего я не отрицаю и отрицать не хочу. Я спорю с тобой, когда ты опыт, при посредстве готовых предпосылок разума, превращаешь в “истину”. Ты заявляешь, что о христианском опыте не могут судить стоящие вне христианства… Это очень характерно для тебя. В этом я вижу тот “этический идеализм”, от которого ты на словах открещиваешься. Так, как ты говоришь, говорят и католики… Это желание свой опыт признавать превыше всего унаследовано от древней этики и воспринято христианством всех исповеданий и воинствующей философией всех оттенков».[86]
Но, согласно Шестову, это право на обладание истиной является совершенно мнимым, и борьбе со всеми, «обладающими истиной», он, собственно, и посвятил все свое творчество. Он убежден, что только опыт переживания смерти или какой-либо аналогичный опыт трагического переживания «открывает человеку глаза на суетность всяких земных привилегий, не исключая и моральных. Тебе это кажется “тьмой”, но мне кажется наоборот ужасом та “правота”, которой люди поклоняются, как поклонялись идолам. Ведь идола можно сделать не только из дерева, но и из идеи. “Единство” истины – один из таких идолов».[87]Именно в личной переписке противоположность позиций друзей-оппонентов проявляется в полной мере. Если Бердяев абсолютный персоналист, близкий к религиозному экзистенциализму, его философия предельно антропоцентрична, то поздний Шестов все более и более теоцентричен (впервые это подметил известный историк русской философии отец В. Зеньковский). Бердяев стремится сблизить Бога и человека, тогда как для Шестова в духе ветхозаветных пророков между человеком и Богом все больше и больше разверзается бездна.
Таким образом, говорить о принадлежности Бердяева и Шестова к экзистенциальной философии невозможно. К концу жизни их мировоззрения все больше расходятся, хотя при этом они сохраняют теплые личные отношения. Различной оказывается и судьба их наследия во Франции, ставшей для обоих второй родиной, как, впрочем, и на Западе в целом.[88] При жизни Бердяев имел значительно большую известность в мире, чем Шестов, и после Второй мировой войны был даже номинирован на Нобелевскую премию. Однако это была известность, скорее, не столько философа, метафизика, сколько специалиста и исследователя «русской души», «русского коммунизма», православия и марксизма. Как свободный христианский мыслитель он плохо воспринимался и постепенно на Западе оказался практически забыт. Тогда как известность Шестова именно благодаря его «беспочвенности», его критике рационализма, непринадлежности ни к одной из конфессий постепенно росла и достигла своего пика в 1966 году в столетие со дня его рождения, когда многие его работы были переизданы и переведены на европейские языки.
Русский Феникс, или что такое философия в России
Странным образом, все кафедры в наших университетах – мертвы.
В. Розанов. 1916 г.В свое время Лев Карсавин, с его склонностью к парадоксам, в одном из своих текстов («Философия и ВКП(б)») утверждал, что высылка философов из России и полное удушение свободы мысли, безусловно, вещь ужасная, но в далеком будущем может привести и к положительным результатам. Любая традиция амбивалентна: давая ориентацию стимулировать творчество, она, одновременно, сковывает его, лишает внутренней свободы и заставляет двигаться в заданном направлении, повторять ошибки и заблуждения предшествующих эпох. Уничтожение всех интеллектуальных традиций в советской России можно рассматривать как очищение метафизического тела нации, которое после падения большевизма может привести не только к возрождению мысли, но и к подлинному расцвету оригинального философского творчества…
Много лет как на дворе свобода, все пишут, что хотят, поток философской литературы возрастает, но пока по всем признакам следует сказать, что предположения Карсавина не оправдываются. Разумеется, для философии это совсем небольшой срок, но существенно, что общее отношение к философии в обществе не меняется.
При всей очевидной философичности русской души, в стране, где каждый третий более или менее образованный человек сам себе мыслитель, именно к метафизике как автономной сфере интеллектуальной деятельности существует по-прежнему устойчивое недоверие и достаточно ироническое отношение. Разумеется, следует отличать философию как свободное искание истины, которая, подобно духу, дышит, где хочет и как хочет, и философию как профессию – именно ее, по большому счету, у нас мало кто воспринимает всерьез. «В России сегодня много философов, но философии нет», – это странное суждение часто можно услышать и от самих адептов любви к мудрости. Что это значит? Почему?… Если в восточной Европе после «бархатных революций» все идеологические кафедры были разогнаны, то в посткоммунистической России бойцы идеологического фронта, по преимуществу, остались на своих местах. «Истматчики» и «диаматчики», критики вредоносного антикоммунизма, борцы с идеологическими диверсиями продолжают учить общество философии, устраивают свои конференции и философские конгрессы, образуя затхлое пространство, в котором быстро гибнет все стоящее и пропадают немногие живые голоса. Все это, впрочем, – на поверхности. Драма же русской мысли намного серьезней, и ее корни уходят в глубокое прошлое.
Истина и бытие в истине: русская мысль и западная философия
Русский ли характер, исторические ли условия влияли тут – не берусь решать. Но несомненно, что философии «головной» у нас не повезло. Стародумовское: «Ум, коли он только ум, – сущая безделица» – находит отклик, кажется, во всяком русском.
Павел ФлоренскийДревняя Русь, получив христианство из Византии, по различным причинам была лишена богатейшего греческого философско-богословского наследия. Существует, по крайней мере, два основных объяснения этой драматической ситуации: отсутствие основания, подобному античности, на котором возникла христианская культура как в Греции, так и в Риме, и отрыв от греческого и латинского языков как источников христианского просвещения. Густав Шпет видел в этом стержневую драму русской культуры: «Нас крестили по-гречески, но язык нам дали болгарский. Что мог принести с собой язык народа, лишенного культурных традиций, литературы, истории? Солунские братья (Кирилл и Мефодий) сыграли для России фатальную роль… И что могло бы быть, если бы, как Запад на латинском, мы усвоили христианство на греческом языке?»
Человек совсем иного типа о. Сергий Булгаков, потрясенный крушением Империи и Церкви, в своей исповедальной книге «У стен Херсониса» (1922), опубликованной лишь через 50 лет после его смерти, как это ни странно, совпадает в своей концепции со скептиком и агностиком Густавом Шпетом, и лишь несколько иначе расставляет акценты. В принятии христианства от Византии, говорит он, «исторические судьбы России определились как трагедия, трагедия культурного одиночества и обособления, как крестный путь». Различие исторического возраста между Византией и Русью «было так велико, что исключало всякую мысль о дружеском сотрудничестве»… В результате славянские племена были способны воспринять только внешность византийского обряда, но не византийскую культуру во всем ее многообразии: «Поэтому русское христианство на долгое, долгое время обречено было на обрядоверие… И тогда уже было положено начало тому внешнему христианству, которое за обрядом оставляет нетронутой всю звериную языческую стихию, которая через 1000 лет крещения Руси ныне предстала пред нами, как будто не бывало ни Киева, ни Херсониса…»
Конечно, бессмысленно обсуждать историю в сослагательном наклонении, но так или иначе драматическая ситуация обозначена предельно ясно: получив греческое христианство на славянском языке Древняя Русь была обречена на одиночество и оторвана от источников богословского и философского просвещения. Русь была крещена, но не просвещена, поэтому на протяжении столетий мы обнаруживаем здесь если не полное отсутствие, то, по крайней мере, явную недостаточность как богословской, так и философской мысли. Более того, подозрительное отношение ко всякому отвлеченному теоретическому гнозису стало органической составляющей русской культуры. Как в средневековой Руси мы встречаем постоянные выпады в адрес «еллинского блядословия», так и в светской литературе XIX–XX вв. – от Гоголя до Пастернака – звучат резкие инвективы в адрес любого умозрительного аналитического знания, убивающего и разрушающего «живую жизнь». Это также связано и с другим важным аспектом влияния Византии на Киевскую и Московскую Русь.
Как отмечают историки христианства, в развитии Византии наступил естественный момент, когда в основных чертах ее культура была завершена, был подведен определенный негласный итог. Этим итогом стала сакрализация прошлого, что, впрочем, совершенно неизбежно для любой средневековой культуры. «Всякое новое касание богословских тем, всякую постановку новых вопросов нужно теперь уже свести к этому прошлому, – так характеризует Александр Шмеман эту эпоху. – Святоотеческое предание, подтвержденность, хотя бы внешним, авторитетом Святых Отцов в виде ссылок и цитат, иногда даже вырванных из общей связи, становится как бы гарантией благонадежности». Именно в это время Русь была крещена в православную веру, и вместе с ней пришло убеждение, «что все разрешено и заключено в прошлом и что ссылка на это прошлое одна дает гарантию православия».
С этим религиозным пассеизмом связано и своеобразное преломление в русской культуре апофатической традиции, явившейся из глубин византийского православия. Она пришла на Русь именно как итог, как завершающее слово византийских Отцов, входит в плоть и кровь русской жизни и продолжает существовать в ней даже тогда, когда в XIX веке культура секуляризуется, становясь по преимуществу светской. Согласно апофатической богословской традиции, Истина не постигается метафизическим знанием, не может быть сообщена путем текстов и книг; ее, вообще говоря, невозможно познать, можно только быть или не быть в ней. Истина невыразима, непостижима, непередаваема, она превосходит все возможные философские, формально-логические определения. Важна не истина, а бытие-в-истине, в конце концов, важно не то, что ты можешь помыслить и сказать, а – кто ты есть. Эта абсолютно антиметафизическая, в западном понимании, установка, вошедшая на бессознательном уровне в плоть и кровь русской культуры, означает, что процесс познания является способом жизни, а не способом мышления. В индуистской традиции единство бытия и истины именуется термином «сатья», и как бы бесконечно далеко не отстояло православие от индуизма, именно здесь оно совпадает с языческим Востоком, а не с христианским Западом с его изначальным субъект-объектным дуализмом. Драма русской мысли как раз и заключается отчасти в том, что вопреки и Киплингу («Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут…»), и славянофилам, и западникам, Восток и Запад не просто сошлись в России, они срослись, соединились в единое нерасчленимое целое на пространстве гигантского материка. В этом – глубинная сущность этноса, некое онтологическое ядро, которое в своих эмпирических проявлениях постоянно обнаруживает за «западной оболочкой» «восточное содержание» и на поверхности определяет очень многое: и евразийский хаос, и темную русскую тоску, и русский ужас, и русскую свободу.
Поэтому столь поздно – в середине XIX века – на этих пересечениях и возникает русская философия, рожденная в постоянном притяжении-отталкивании, любви-ненависти к Западу. Она появляется на свет не столько благодаря сугубо теоретической работе мысли, как справедливо утверждают ее критики, сколько непосредственно – «из темных недр внутренних переживаний». Несмотря на все свои минусы и провалы, ныне часто критикуемые (нестрогость понятийного аппарата, синкретизм, лирико-философский стиль, стремление схватить «Бога за бороду» и т. д.), русская мысль второй половины XIX-начала XX века – от славянофилов и Владимира Соловьева до Бердяева и Степуна – создала грандиозную религиозно-философскую утопию, не менее значительную, чем ту, которую породил русский литературный и живописный авангард. Это была попытка универсального синтеза культуры, христианства, метафизики, проект религиозного преображения падшего бытия, создание другого человека и другого человечества, неизбежно закончившаяся грандиозной исторической катастрофой… Выброшенная в эмиграцию, русская философия пережила там свое запоздалое цветение и закат, тихо скончавшись в 60-е годы. Но истоки современной метафизической ситуации можно обнаружить в эмиграции в той же степени, что и в Москве, и в Петербурге. Философские тексты печатались в известных эмигрантских журналах «Вестник РХД», «Континент», «Синтаксис», но, по сути, единственным изданием, посвященным исключительно современной мысли, стал религиозно-философский журнал «Беседа», выходивший в Париже с 1982 года под редакцией Татьяны Боричевой, Павла Рака и Бориса Гройса. Хотя журнал не мог иметь большого влияния, он стал предтечей и прообразом для многочисленных философских журналов, возникших в метрополии уже в перестроечное время («Начала», «Логос», «Путь», «Ступени», «Волшебная гора» и т. д.). Дело не только в том, что в «Беседе» печатались философские тексты и эссеистика авторов, которые вскоре стали хорошо известны: А. Волохонский, Т. Боричева, Б. Бройс, И. Кабаков, В. Кривулин, Ю. Мамлеев, А. Пятигорский, И. Смирнов и др. – журнал непосредственно заговорил о современности, стремясь в этом разговоре соединить философию и богословие, культуру и религию, национальную традицию и современную западную мысль. Сюжеты и понятия, позднее ставшие достоянием философии в метрополии, впервые зазвучали на страницах «Беседы»: метафизика тела, постмодерн, конец истории, утопия и апокалипсис, техника как магия, симулякр, деконструкция; точно так же как и имена, о которых тогда в России мало кто слышал: Батай, Делез, Фуко, Лакан, Левинас, Жирар, Слотердайк, с одной стороны, и представители европейской религиозной мысли (Бальтазар, Яннарас, Клеман) – с другой. Все они в первый и едва ли не в последний раз соединились под одной обложкой. В дальнейшем пути авторов «Беседы» расходятся (Б. Гройс занимается в основном философией искусства, Т. Боричева продолжает работать в жанре религиозно-философской эссеистики), как расходятся пути современной культуры и христианства. Русская же философия «серебряного века», переизданная громадными тиражами в конце 80-х – нач. 90-х гг., переживает второе рождение, но в постперестроечной мясорубке оказывается невостребованной ни обществом, ни церковью, ни государством и повисает в пустоте. Встречи философии и православия, культуры и богословия, которую стремились осуществить С. Аверинцев, С. Хоружий, Н. Гаврюшин и многие другие достойные авторы, не произошло: напротив, все наведенные мосты рухнули в пропасть рыночного неоязычества, постмодернистского скепсиса и охранительного церковного обскурантизма. Пределом этого расхождения, эмпирически, возможно, чисто случайного, но, несомненно, символического, стало аутодафе еретических сочинений – своего рода сакральный перфоманс, – учиненный с книгами либеральных богословов А. Меня, И. Мейндорфа, А. Шмемана местными фундаменталистами в екатеринбургской епархии. Собственные же богословско-философские достижения отечественных фундаменталистов невелики, за исключением, пожалуй, А. Дугина, издателя евразийского обозрения «Элементы» (ныне лидера «Евразийской партии»), необыкновенно плодовитого автора, в своей критике Запада ориентирующегося исключительно на западные образцы – Рене Генона, немецких «консервативных революционеров» и французских «новых правых», и откровенно именующего наших «старых правых» унылыми графоманами.
Возможно, одним из немногих сочинений 90-х гг., в котором соединилась оборванная традиция и драматическая современность, философия и литература, религиозные искания и нигилизм постмодерна, стал «Бесконечный тупик» Д. Галковского.
Когда-то Кант иронизировал над египетскими монахами, назвавших «философией» свое монашеское житие. Но по сей день мы постоянно сталкиваемся с такими сюжетами: чистый интеллектуализм и автономное сознание по-прежнему подвергаются на Руси ожесточенным атакам со всех сторон, и жизнь сокрушает изощренную метафизику. Вслед за русским эмигрантом-гегельянцем Александром Кожевым, составившим эпоху во французской мысли 30-х годов, провозгласившим «конец философии» и «конец истории» и навсегда оставившим философию, радикальные российские умы (не только гегельянцы) хоронят и даже проклинают метафизику, становясь священниками, фермерами, предпринимателями, подтверждая старую богословскую истину, что проблемы метафизики разрешимы не в мышлении, а в практике подлинного, т. е. праведного жития.
И здесь возможная разгадка той уникальной роли, которую играла и играет философия в России. Апофатическая культура, не признающая жестких формальных определений, не столько порождает собственные смыслы (хотя самородки в духе Г. Сковороды, Н. Федорова или Д. Андреева у нас никогда не переведутся), сколько драматически переживает и проживает чужие идеи, символы и парадигмы. Она превращает их в свои, погружает в плоть, боль и кровь тварного мира, доводя до завершения, предела, абсурда. На протяжении ста пятидесяти лет так были пережиты гегельянство, позитивизм, кантианство, антропософия, ницшеанство и, наконец, марксизм. Так сегодня проживается психоанализ, постструктурализм, мутации восточного мистицизма, катастрофически проживается и «невинный» либерализм, оставляющий кровавые раны на теле континента. Евразийское пространство остается гигантским полигоном, где, очевидно, будут разыгрываться интеллектуальные мистерии наступившего века.
Смерть философии. Метафизика как история философии
В интеллектуальной истории России мы имеем крайне редкий пример гибели философии. Эта «смертность», хрупкость, возможно, главная особенность русского мышления.
Д. ГалковскийЗа истекшие полтора столетия нам пришлось быть свидетелями последовательных и пышных похорон, устроенных, в первую очередь, адептами любви к мудрости. Сначала у Нерваля и Ницше умирает Бог, позднее нам с прискорбием сообщают о кончине Автора, в неравной борьбе гибнут Поэзия, Искусство, Роман, провозглашается исчезновение Человека, наступает очередной конец Истории и, наконец, этот мартиролог венчает метафизическое самоубийство – философия сообщает о смерти Философии. Этот тезис (впервые, впрочем, мелькнувший еще у Гегеля) активно эксплуатируется в последнее время и означает, что философия превращается в историю философии и герменевтику. Сюжет выглядит довольно правдоподобно: философия и на Западе, и на Востоке давно не является ни любовью к мудрости, ни способом постижения истины, ни собственно мудростью как таковой. Без преувеличения можно утверждать, что с недавних пор философия всецело погружена в себя, ее главный смысл – это любовь к самой себе, сама с собой она ведет бесконечную тяжбу. Когда-то Бердяев различал философию, говорящую что-то, и философию, говорящую о чем-то, презрительно трактуя последнюю как неподлинную. Ныне едва ли не вся философия говорит исключительно о чем-то, т. е. не о бытии как таковом, а о его культурных и интеллектуальных отражениях. В России же получилось так, что философия умирает дважды: естественная смерть была усилена насильственной смертью при советской власти. Дважды похороненная, метафизика возрождается из пепла в качестве истории философии и культурологии, ставшими в советско-российских условиях наиболее плодотворным способом внутренней эмиграции и давшими значительные результаты. Работы, переводы и комментарии С. Аверинцева, В. Бибихина о Хайдеггере и языке философии; П. Гайденко о Киркегоре, Ясперсе, Хайдеггере; Н. Мотрошиловой о Гуссерле и феноменологии; К. Свасьяна о Ницше и т. д. были событиями в интеллектуальной жизни недавнего времени. Наиболее известный и достаточно снобистский московский философско-литературный журнал «Логос» является, по сути дела, исключительно историко-философским феноменологическим изданием: переводы и публикации Гуссерля, Гадамера, Рорти и т. д. здесь явно превалируют над оригинальными авторскими текстами. Культурология же тем хороша, что к ней можно легко отнести кого угодно: позднего А. Лосева и М. Бахтина, Ю. Лотмана и всю тартусскую школу, медиевиста А. Гуревича и синолога В. Малявина, философа-диссидента Г. Померанца, литературоведа М. Эпштейна, эссеиста Б. Парамонова… Каждый может продолжить этот список по своему усмотрению.
Язык мысли: философия как литература и философия как устное творчество
Испанский философ Хосе Гаос писал, как и все философы, на невероятном жаргоне. Однажды он ответил человеку, который упрекнул его за это: «Тем хуже для вас! Философия предназначена для философов!» На что приведу фразу Андре Бретона: «Философ, который мне не понятен, – негодяй».
Луис БунюэльКак правило, философы пишут плохо: литературная аморфность метафизических сочинений, помноженная на специфический жаргон, делает чтение текстов, особенно современных, попросту невыносимым занятием. Философов, обладавших литературным даром, в истории можно пересчитать по пальцам: Платон, Монтень, Паскаль, Руссо, Шопенгауэр, Ницше, Бергсон, Сартр, Рассел, Витгенштейн… Благодаря своему дарованию, они сразу же выходят за рамки собственно философии, а их идеи имеют несравнимо более широкое влияние. Однако чудовищная манера изложения – это не столько отсутствие таланта у того или иного мыслителя, сколько проблема самой метафизики: «всеобщее» как предмет ее размышлений изначально вступает в драматическое противостояние с конкретной образностью и пластикой литературного языка. Поэтому все литературно одаренные мыслители – «антифилософы» по отношению к предшествующей традиции. В конце XX столетия эта тема сыграла с философией злую шутку. Открыв бездну проблем, таящихся в языке (ими занимались Витгенштейн и Хайдеггер, Барт и Деррида), она увязла в них настолько глубоко, что попала в безнадежный плен синтаксиса и семантики: сегодня его справедливо называют очередным «вавилонским пленением» философии.
Русской философии в этом смысле повезло: за сотню лет своего существования она дала немало настоящих писателей – от Чаадаева и К. Леонтьева до Розанова, Шестова и Степуна. Но в советское время, по понятным причинам, где, кроме всего прочего, тотально господствовал гегельянско-марксистский диалект, традиция философского письма была оборвана. Скажем, интеллектуальные гуру 60-х-70-х гг. – Э. Ильенков, Г. Щедровицкий, Г. Батищев, – о которых благодарные ученики до сих пор вспоминают с пиететом, были философами устной речи, ибо их сочинения, опубликованные совсем недавно, читать сегодня крайне затруднительно. Парадоксальным образом философия в литературоцентричной России оказывается устным творчеством, происходящим то в форме застольной беседы, то философского семинара, и достигающим своего пика у грузинско-московского Сократа – Мераба Мамардашвили.
Философ как чужой
Кому пришлось быть философом, тот – чужой по определению. Город, далеко не всякий, может иметь своего философа, но философ не может быть этому городу своим.
Александр ПятигорскийПодобно тому, как Хайдеггер стал главным философом XX века, «русский грузин» Мераб Мамардашвили (кстати говоря, не любивший ни Хайдеггера, ни немецкую философию) посмертно стал центральной фигурой на постсоветском интеллектуальном пространстве. Об этом свидетельствуют и многочисленные посмертные публикации, и конференции, и симпозиумы.
М. Мамардашвили (1930–1990) был принципиально внесистематическим мыслителем. Он не любил философские системы, он любил мышление и развивал особый тип философствования – мышление вслух, происходящее в форме свободной интеллектуальной импровизации. Что такое Просвещение? – Это совершеннолетие человека, умение самостоятельно пользоваться собственным разумом – мысль Канта, которую часто повторял философ. В России так и не было Просвещения в западном смысле, поэтому мы по-прежнему «страна несовершеннолетних». Мы существуем в «царстве недуманья», в пространстве богатого, но рыхлого, ничем не скрепленного и расползающегося содержания. «Кто не мыслит, тот умирает», – этот императив определял стиль философствования автора «Лекций о Прусте» и «Картезианских размышлений», чьи книги, впрочем, значительно уступают его устным импровизациям. Здесь главное – внесение ratio в хаос русского сознания и русской жизни, перманентно повторяющих одни и те же ошибки. Существуя, казалось бы, в национальной традиции устного философствования и понимая философию не как теоретическое конструирование, а способ существования, Мамардашвили, однако, был в принципиальной оппозиции к нашему домашнему менталитету, ставящему жизнь выше всякого сознания, гнозиса, метафизики. Философ в этом смысле в самом деле всегда – чужой: он производит радикальную критику сознания, идеологических клише, ментальных стереотипов и национального самоупоения.
Существует любопытное высказывание о том, что люди делятся на четыре основных типа: «Засланных, сосланных, награжденных и аборигенов. Аборигены – это те, кто родился на Земле. Они здесь наиболее адаптированы. Сосланных выслали сюда в наказание из лучших миров: они все время мучаются и плачут. Награжденных перевели за хорошее поведение из худших миров: им все кажется прекрасным. А засланные – это наблюдатели, шпионы». В одном из интервью Мамардашвили назвал свою жизнь «жизнью шпиона», а философа – существом, наблюдающим наш мир из иной реальности.
Личность этого странного грузина-космополита на российской почве, никогда не бывшего диссидентом, пришедшего через марксизм к Декарту и Канту (из русских мыслителей признававшего лишь Чаадаева и Вл. Соловьева), пластически наглядно демонстрировала значимость автономного самосознания, сплавленного с экзистенциальным опытом, что давало возможность свободы и свободного мышления в условиях жесточайшего идеологического прессинга. Ему удавалось перемещаться в пространстве, курсируя между Москвой, Тбилиси и Ригой, читая лкции там, где это было возможно – то в МГУ, то во ВГИКе, то в Тбилисском университете. Попутно он взял на себя почти непосильную задачу – проговаривания, промысливания, постижения иррациональных величин, черных дыр, бездн и провалов евразийского континента, в пространстве которого мы все должны существовать. Здесь – продолжение многолетней утопии русского западничества: внести в русские стихии идеи формы и ответственности и научить людей мыслить так, как мыслят в Европе, причем не в реальной, а, скорее, в идеальной, в принципе уже не существующей.
Пик его прижизненной известности приходится на конец 1980-х, и в это же время происходит его вынужденное грехопадение в политику, которое и стало для него роковым. Распад империи привел к всплеску национализма, которого не избежала и Грузия. Но как и для Чаадаева, для Мамардашвили истина выше отечества: «Если мой народ выберет Гамсахурдия, то мне придется пойти против собственного народа». Естественно, что для звиадистов он стал «врагом». Иррациональные политические стихии всегда сильнее самого мощного ума. И в этом смысле судьба Мамардашвили не стала исключением.
Рядом с Мамардашвили следует поставить и его друга Александра Пятигорского (соавтора по широко известной в узких кругах книге «Символ и сознание»), семиолога, буддолога, автора философических романов, скрывшегося в Лондоне от советской власти еще в 1974 году и редко появляющегося в метрополии. Если Мамардашвили – это строгий витязь несколько старомодного рационализма, облеченный в доспехи картезианского самосознания, то Пятигорский – великолепный импровизатор, пожалуй еще больший отрицатель «систем», интеллектуальный провокатор и даже разбойник, мыслящий постоянно наперекор себе, сопоставляющий несопоставимое, чувствующий себя в буддизме столь же свободно, как в семиотике, европейской мысли или русской литературе. Именно здесь следует воздать должное метафизике – одному из немногих занятий, толкающих человека к вечному – и понять ее главное преимущество по сравнению со всеми гуманитарными науками, занимающимися бесконечным и бессмысленным накоплением и хранением фактов – способность видеть сущности, основания и смыслы, благодаря чему мир полностью преображается и становится иным.
«Искалеченные мыслью»: интеллектуал как антропологический тип
«Э, да все это философия!» – говорят иногда люди и говорят правду, глубокую правду… Как люди свежие, не окалечившиеся мыслью, они не могут без смеху смотреть, как сознание хотят нам выдать за жизнь. Но сознание идет иногда еще дальше и еще смешнее: это когда оно хочет заменить жизнь теориями о ней, основанными на знании, прямо вытекшими из знания… Сознание – болезнь. Не от сознания происходят болезни (что ясно как аксиома), но само сознание – болезнь.
Ф. М. ДостоевскийНо воздав хвалу метафизике, следует сказать и о ее драматических проблемах. Философ (шире – интеллектуал) – это существо, погруженное в нескончаемый и неостановимый поток рефлексии «по поводу» и «без повода», без начала и конца. В итоге ему все равно, что является предметом его мысли (скажем, хорошая или плохая литература – «плохая» может давать даже больший импульс, чем «хорошая»), ибо в пределе бытия все равнозначно и все едино. «Не в писаниях Монтеня, а во мне самом содержится все, что я в них вычитываю», – знаменитое высказывание Паскаля является подлинно метафизическим. Иными словами, философ предстает своего рода магом, демиургом: из сырого материала жизни он способен конструировать собственную реальность и существовать в ней. Постоянно созерцая ужасы и кошмары окружающего, философ, в отличие от обычного человека, должен уметь переварить их и видеть за ними смысл. Главный орган конструирования другой реальности – жесткие челюсти интеллектуальной рефлексии – порой способны творить чудеса: дробить и перемалывать любой абсурд и таким образом принимать его. Сущностью подлинного философствования является принятие и оправдание мира, сколь бы чудовищен он ни был. Философ так или иначе всегда конформист в самом истинном и глубоком значении этого слова, подстраивающий не столько свое сознание под мир, сколько мир под себя. Он никогда не «борец за правду», так как понимает относительность всякой правды. В пределе у «идеального философа» нет и не должно быть ни собственной позиции, ни даже предпочтения тех или иных идей, ибо любым – самым «истинным» – идеям можно всегда противопоставить другие, не менее истинные. Философ в принципе органически не способен к выбору, и позиция «буриданова осла», умирающего от голода между двумя одинаковыми охапками сена, является глубоко метафизической. Все же формы неприятия, восстания, бунта или выбора в истории мысли в духе Киркегора, Ницше, Шестова или Камю становятся характерной «ересью» внутри самой философии. Примечательно, что за все время своего существования метафизика так и не смогла дать никакого внерелигиозного обоснования морали – трагикомический кантовский императив тому пример. Именно с философской точки зрения невозможно доказать, чем «добро» лучше «зла», если и то, и другое абсолютно необходимы, суть две стороны одного и того же. Отсюда очевидно, что философ, в конечном счете, оказывается органически непричастен к жизни, сущность которой всегда выбор, драма, конфликт: из бесконечного лабиринта рефлексии и сомнения нет выхода. Философ и вся метафизика не присутствуют в бытии, как сказал бы Хайдеггер, они сами себе закрывают доступ к его источникам. «Что такое сознание? – читаем мы у Пастернака. – Рассмотрим. Сознательно желать уснуть – верная бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения – верное расстройство… Сознание – яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание – свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтобы не споткнуться. Сознание – это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь и случится катастрофа». Самосознание способно не только преображать мир, но и разрушать своего носителя. Человеку нужны смыслы, открывающие иную реальность, и не нужны одновременно: понимание дает перспективу, но может калечить и парализовывать. В определенном ракурсе история метафизики как самосознания культуры – это история борьбы с жизнью (природой), стремление овладеть, покорить и подчинить ее себе. Начиная с античной Греции, где культура и философия существовали благодаря рабству, вплоть до XX столетия борьба шла с переменным успехом. Но все попытки заковать реальность в интеллектуальный саркофаг, которые, казалось бы, должны вот-вот успешно осуществиться, завершились полной катастрофой. «Интеллект характеризуется естественным непониманием жизни», – мысль Бергсона, повторенная вслед за Ницше, означает, что западная метафизика лишь на третьем тысячелетии своего существования увидела столь элементарную истину и призналась в своем бессилии. После «восстания масс» положение философа и философии принципиально меняются: принятие и оправдание бытия в стиле Спинозы, Гегеля или даже Вл. Соловьева более невозможно. Сознание, направленное внутрь, работает на холостом ходу и калечит душу и тело его обладателя: он превращается в перекошенное существо, разговаривающее на фантастическом наречии, в котором с трудом просматриваются половые признаки. В российской действительности, где жизнь была всегда сильнее всякого самосознания, это порождает либо изощренный эскапизм, попытки выстроить защитные стены из непроницаемого языка, интеллектуального снобизма, и подражать жизни западных интеллектуалов, либо же заставляет пить горькую, что является хотя и не специфически философским, но по-прежнему самым надежным способом присутствия в бытии и примирения с действительностью.
Если Плотин – последний великий философ античности, живший в не менее катастрофическую эпоху, – мог позволить себе роскошь стыдиться собственного тела, то в современной культуре ситуация противоположна. И вместо кантовских вопросов: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?» и «На что я могу надеяться?» – основной вопрос «постсовременной» мысли можно сформулировать примерно так: как жить в этой кошмарной жизни интеллектуалу, обладающему не только самосознанием, но и точно таким же телом, как и у других?
«Телоцентризм» и постклассическая философия
Дано мне тело – что мне делать с ним, Таким единым и таким моим? О. МандельштамТиражирование культурных ценностей приводит к их инфляции. Слово, как письменное, так и устное, бесконечно размноженное в пространствах коммуникаций, теряет всякий смысл и полностью обесценивается. Десакрализация текстов, которые еще десяток лет назад обладали огромной взрывчатой силой, с ужасающей скоростью произошла на наших глазах. Живые слова, полные внутреннего содержания, обветшали, умерли, распались и не значат ничего, но продолжают плодить фантомы и призраки, раскручивая цепную реакцию самопорождения мнимых величин. Тело, конечно, тоже может обмануть, но оно не может солгать, тем более лгать постоянно и вдохновенно, как лгут сознание и язык, нагромождая горы мусора и океаны лжи. Все переворачивается: хрупкое и бренное тело, презрительно третируемое в истории мысли, оказывается единственно подлинной реальностью в призрачном мире мнимостей и симулякров, последним субстратом, способным не лгать. Телесность превращается в центральный сюжет постклассического философствования. Традиционная философия вопрошала о Боге, свободе, бессмертии, смысле жизни и смысле истории, в постмодерне происходит осознанное смешение главного и второстепенного – отказ от метаповествований и метапроблем как в принципе неразрешимых. Вектор мышления смещается на края, границы, маргиналии культуры, где обнаруживаются ее болевые точки. Московское издательство «Ad Marginem», вокруг которого группируются адепты «философии по краям», в середине 90-х выбрасывает на книжный рынок интеллектуальные бестселлеры – антологию «Маркиз де Сад и XX век», где были собраны тексты французских интеллектуалов (от Батая до Бланшо) о своем любимом персонаже, и «Венеру в мехах» Захер Мазоха с комментариями Делеза и Фрейда; вслед за текстами Барта и Деррида следуют и книги собственно московских «телоцентристов» – В. Подороги, М. Рыклина и Кº. От Ницше, Гуссерля и Хайдеггера ментальное поле современности переориентируется исключительно на французскую мысль, диктующую моду остальному миру. Написав на своем знамени имена французских модельеров интеллекта – от Фуко и Лакана до Лиотара и Нанси, – заручившись поддержкой психоанализа и соответствующих финансовых фондов, постклассическая философия отправилась на штурм догматических твердынь рационализма (логоцентризма), деконструируя и сокрушая все, что попадается на пути. Философы теперь говорят о «садомазохизме» и «либидозных инвестициях», «осязании мысли» и «теле культуры», «дисциплинарном теле», «карающем теле», исследуют «кровообращение в культуре», пишут о «метафизике раны», «боли и насилии», «судьбе пощечины» (петербургский философ В. Савчук) и даже «семантике плевка». Постклассическое философствование становится все более влиятельным среди молодых философов, постепенно теряющих интерес к отечественной философской традиции, в 1990-е годы в основном оккупированной недавними казенными марксистами. И хотя русские мыслители «серебряного века» продолжают интенсивно издаваться, в качестве ориентиров и маяков они явно отходят на второй план. Но, откровенно говоря, результаты метафизики и феноменологии тела оказываются довольно скудны (см., например, «Феноменологию тела» В. Подороги или выпущенный с его же комментариями совершенно нечитабельный «Corpus» Ж.-Л. Нанси). Философские исследования не дают больше того, что дают традиционные практики: психоанализ, этнография, история религии, медицина, искусство и т. д., тело лукаво ускользает из метафизических объятий, оставаясь все той же «вещью в себе». По многим причинам собственный жанр интеллектуального бестселлера, столь распространенный на Западе, не удается в России (за редкими исключениями вроде «Эроса невозможного» А. Эткинда). Некоторые философы, как, например, А. Секацкий, пытаются вписать философию в актуальную современность и развивают идеи «новой софистики», означающей, что философ в принципе может доказать или обосновать все что угодно в зависимости от требований заказчика. В своей книге «Соблазн и воля» А. Секацкий в духе старой философской традиции размахивает картонным мечом и, философствуя от противного, прославляет то, чем сами философы никогда не обладали – Дух воинственности, Войну, Могущество и его таинственных обладателей – Могов, людей «высшего типа», в духе Ницше, обитающих почему-то в основном в Петербурге на Васильевском острове…
Русская мысль на протяжении своего развития, в силу очевидной «юношеской неуверенности» в себе, постоянно нуждалась в авторитетных санкциях извне: абсолютное господство германской философии сменилось в 1990-е гг. галльскими влияниями. Когда-то Гегель справедливо писал, что философия является в своем роде роскошью, не входящей в сферу жизненной необходимости. Замкнутая исключительно на себе самой, французская мысль порождает изощренные образцы интеллектуальной мастурбации, и будучи пряной, изысканной приправой к богатой, уставшей, пресыщенной культуре, дает нужную остроту и терпкость гурманам французской интеллектуальной кухни. Но поданная к другому столу, она плохо переваривается вместе с картошкой на постном масле, водкой и солеными грибами. Такое сочетание несочетаемого рождает новые смыслы, но может вызывать тяжелые запоры или, напротив, метафизический понос.
Возможно поэтому, в противовес французскому постмодерну, провозгласившему еще в 1960-е годы «смерть человека», философ и литературовед Игорь Смирнов в работе «Человек человеку – философ» делает попытку воскресения человека в философии, которого, по его мнению, можно мыслить апофатически, «только в негативных высказываниях о нем», ибо позитивные суждения себя исчерпали.
Сегодня новые приливы интеллектуальной моды выносят на российский берег другие имена – американца Ричарда Рорти, словенца Славоя Жижека, немца Петера Слотердайка, итальянцев Джорджо Агамбена и Джанни Ваттимо, француза Алена Бадью, которые могут быстро исчезнуть с очередным отливом…
Девяностые годы были временем воскрешения из небытия и драматического ученичества, открытия как собственных традиций, так и всего многообразия мировых интеллектуальных практик, временем блужданий, сомнений и ошибок. Быть открытым и самостоятельным, безболезненно впитывать влияния, не теряя собственной идентичности, сочетать традицию и новизну – для этого нужен крепкий, сильный организм, который у русской мысли, увы, пока отсутствует[89].
1999 г.
Предсмертные книги Розанова
Путается ум. Гадаешь и не умеешь разгадать: да отчего пошлое, отчего именно убогое и бессильное лезет к власти, силе и положению? И никто не может его одолеть, удержать, противиться? «Тут что-то подспудное, темное, всемирное…», – бормочешь, хватаясь за голову…
В. Розанов. «Черный огонь». 1917 г.Как известно, с начала 1900-х гг. за Розановым закрепилась репутация необыкновенно талантливого, но «ужасного» писателя – еще более усилившаяся после дела Бейлиса и выхода «Уединенного» и «Опавших листьев». Я напомню хрестоматийные отзывы: «Гениальная физиология розановских писаний поражает своей безыдейностью, беспринципностью, равнодушием к добру и злу, неверностью, полным отсутствием нравственного характера и духовного упора» (Николай Бердяев). «Розанов не то что безнравственный писатель, он органически безнравственная и безбожная натура» (Петр Струве). Сравнения Розанова с Федором Павловичем Карамазовым, Передоновым, Иудушкой Головлевым были далеко не самыми уничижительными. В «Опавших листьях» это отмечено и самим Розановым: «Со времени “Уединенного” окончательно утвердилась мысль, что я – Передонов или – Смердяков. Мерси».
В сущности, реабилитация Розанова произошла лишь после его смерти. Но в первую очередь это коснулось вовсе не содержания его книг – в 1920-е годы его оценили как гениального стилиста. Казалось бы, русская эмиграция стараниями Д. Святополка-Мир-ского, В. Зеньковского, Н. Бердяева, Ю. Иваска и многих других окончательно канонизировала Розанова и «отпустила» все его прегрешения. Хотя эмигранты немало о нем писали, его книги практически не переиздавались. Только в 1970 году в Мюнхене у Нейманиса был выпущен достаточно представительный однотомник, куда вошли «Уединенное», «Опавшие листья» и «Апокалипсис нашего времени». Это можно объяснить только тем, что тексты Розанова по-прежнему могли шокировать весьма консервативно настроенного эмигрантского читателя. Лишь в 1991 году парижская ИМКА-ПРЕСС предприняла запоздалую попытку издания «Rozanovian»’ы, выпустив первый том политических статей «Черный огонь». Но продолжения не последовало. В связи с крушением СССР деятельность одного из старейших эмигрантских издательств фактически прекратилась.
Настоящий «розановский бум» начался в последние годы существования Советского Союза: странным образом этот «кошмарный» и «безыдейный» писатель весьма пришелся ко двору. О Розанове стали говорить и писать с восторгом и пиететом, его цитировали как либералы-западники, так и патриоты-почвенники, особо пекущиеся о нравственности и национальных традициях. Сочинения «циника» и «порнографа» появляются в самых различных издательствах. 70 лет спустя литературный изгнанник становится баловнем судьбы и едва ли не всеобщим любимцем. Возникает вопрос: либо наше время столь же аморально и цинично, как и сочинения этого автора, либо современники Розанова большей частью заблуждались. Первое, бесспорно, трудно поставить под сомнение, но, вместе с тем, читая Розанова в наше время, при всем желании невозможно обнаружить в его книгах (кроме самых последних) что-то особенно «циничное» и «аморальное».
В 1994 году возникает беспрецедентная ситуация: сразу же в двух московских издательствах выходят два конкурирующих друг с другом собрания сочинений (первое – под редакцией В. Г. Сукача, второе – А. Н. Николюкина). Государственное издательство «Республика» оказалось сильнее частного («Танаис»), где проект (несомненно, по замыслу и исполнению более качественный) заглох на втором томе. Перестроившийся «Политиздат» при поддержке федеральной программы книгоиздания России выпустил к 2003 году 15 томов Василия Васильевича Розанова. Впервые в России издан «Черный огонь», полностью вышли «Сахарна» и «Последние листья», но главным событием стала первая публикация полного текста последней книги Розанова «Апокалипсис нашего времени», более 80-ти лет пролежавшей в архиве. Представьте себе, что какая-нибудь программная повесть Толстого или Достоевского была бы извлечена из архива и опубликована сегодня!
Черный огонь
В «Опавших листьях» Розанов не без кокетства заметил: «Глубокое недоумение, как же “меня” издавать? Если “все сочинения”, то выйдет “Россиада” Хераскова, и кто же будет читать?…Автор “в 30-ти томах” всегда = 0. А если избранное и лучшее, тома на 3: то неудобное в том, что некоторые острые стрелы (завершения, пики) всего моего созерцания выражались просто в примечании к чужой статье… Как же издавать? Полное недоумение. Вот странный писатель non ad typ non an edit. Во всяком случае, тот будет враг мне, кто будет “в 30 т.”: это значит все похоронить». Но тем не менее, в приложении к «Черному огню» мы находим план собрания сочинений В. Розанова (он был составлен им самим незадолго до смерти), и не в тридцати, а уже в пятидесяти томах! Этот проспект будущего собрания производит удивительное впечатление – немного найдется значительных мыслителей начала XX века с подобной плодовитостью. По розановскому замыслу, «Черный огонь» вместе с вышедшим в 1909 году сборником статей «Когда начальство ушло» должен был составить тридцать пятый том, включающий статьи о политике и революции.
О политике Розанов писал всю жизнь. Но какие могут быть политические взгляды у человека, сказавшего, например, следующее: «Нужно разрушить политику… Нужно создать а-политичность. “Бог больше не хочет политики, залившей землю кровью… обманом, жестокостью”… “Как это сделать?..” Перепутать все политические идеи… Сделать “красное – желтым”, “белое – зеленым”, – “разбить все яйца и сделать яичницу”» (Опавшие листья). Собственно говоря, политический журналист Розанов всегда этим и занимался – перепутывал политические идеи. Это больше всего и смущало критиков розановского творчества – «Ведь должны же быть у человека хоть какие-то убеждения?» В конце концов, до какой степени можно противоречить самому себе? На одной странице говорит «да», на следующей – «нет» одному и тому же!.. У Розанова есть однозначный ответ и на это обвинение: «Но господа, можно ли иметь все убеждения, принадлежать всем партиям… При том совершенно искренне! чистосердечно!! до истерики!!! В то же время не принадлежать ни к одной, и тоже до истерики».
Давно замечено, что в этом Розанов подобен Протею – его способность к превращениям поразительна. «Чужому» он может отдаваться столь же безоглядно и полно, как и «своему». Он не желает выбирать, не признает никакого долга, стремится вобрать в себя всю полноту мира, и потому расползается, растекается до бесконечности, оставаясь самим собой лишь где-то на последних пределах, за которыми начинаются хаос и распад. Он утрачивает свою личность, растворяясь в потоке жизни, чтобы внезапно возродиться на следующих страницах. Именно это и имел в виду Бердяев, говоря, что Розанов «гениальный выразитель какой-то стороны русской природы, русской стихии… И если отрадно иметь писателя столь до конца русского и поучительно видеть в нем обнаружение русской стихии, то страшно становится за Россию, жутко становится за судьбы России…» Весьма существенно, что в обвинительной речи Д. Философова при исключении Розанова из религиозно-философского общества подчеркивается, что изгоняют не Розанова как такового, а те проявления русской жизни, которые он выражает: «Не мы выдумали Розанова и “самое дело” о нем. Его выдумала русская жизнь в условиях русской общественной деятельности… Мы тогда будем бороться с тем обществом, которое открыто признало Розанова своей “душой”». Сущность подобной «души» заключается в беспрестанном чередовании «да» и «нет», в неприятии любого выбора и отсутствии воли. В «Черном огне» это проявляется точно так же, как и в других поздних книгах Розанова. Тексты, собранные в одну книгу, представляют хронику распада Российской империи. Розанов, как никто другой, чувствовал глубинные процессы разрушения, он то сопротивлялся им, то внезапно сливался с ними, становясь их катализатором. Свое кредо Розанов выразил, впрочем, вполне недвусмысленно в одной из статей «Черного огня». Любой радикал или либерал, говорит он, может не молиться, но должен понимать существо молитвы, он может быть атеистом, но он «должен понимать всю глубину и интимность религиозных веяний…» «Я за талант вникания, который решительно обязателен для каждого, кто выходит из сферы частного, домашнего существования и вступает с пером в руке или с делом в намерении – на арену публичности, всеслышания и всевидения».
У самого Розанова «талант вникания» поразителен: он всегда вживается, проникает внутрь того, о чем пишет, даже если предмет размышлений совершенно чужд ему по духу. Однако именно в последних книгах этот талант сыграет с автором «Уединенного» злую шутку – проникая в чужое слишком глубоко, он сливается с ним, теряет дистанцию и полностью растворяется. Розанова несет с общим потоком, и никакое отстранение становится невозможным. Как иначе можно объяснить, что монархист и консерватор назовет свержение самодержавия «бескровной» и «христианской» революцией?! И далее все новые «да» тому, чему еще недавно говорилось «нет» («В наши тревожные дни», «Монархия – старость, республика – юность»). Опомнился Розанов, судя по всему, лишь к июлю 1917 года – слишком явно стали проступать трупные пятна на теле революции…
Книга отречения
И вот перед нами полный текст «Апокалипсиса нашего времени», в шесть раз превышающий первоначально опубликованные фрагменты. На первых порах кажется, что это продолжение и развитие все той же темы – крушение России, Европы, христианства, всей цивилизации. Несчастный, обнищавший, голодающий Розанов, поселившийся с семьей в Сергиевом Посаде, обращающийся с просьбами к прохожим докурить папиросу, ведет с миром всю ту же тяжбу. Полюса его мышления хорошо известны по прежним работам: Ветхий Завет – рождение, жизнь, радость, солнце, тепло, дом, сияние; Новый Завет – сумрак, холод, голод, страдание, боль, крест.
В 1899 году, слушая апокалиптическую лекцию Владимира Соловьева об антихристе, Розанов демонстративно рухнул со стула, позднее объяснив, потому что заснул: лекция была необыкновенно скучна. Эта история в очередной раз зло подшутила над писателем. Теперь в распадающейся России единственно принимаемая им книга Нового Завета – Откровение Иоанна Богослова, которую он цитирует беспрестанно, по обыкновению теряя чувство меры. Впрочем, ни о какой мере здесь говорить и не приходится. Нарастание революционного хаоса и безумия повергает в полное смятение и самого писателя. Еще при появлении первых выпусков «Апокалипсиса…» критика отмечала их сходство с последними сочинениями Фридриха Ницше, в первую очередь, с «Антихристианином». Здесь тот же самый взвинченный стиль, призывы и анафемы, пророчества и проклятия – подсознание, непосредственно выплескивающееся в текст. Собственно это уже не книга, а крик ужаса, предсмертный стон. Поэтому здесь все более однозначно, нет обычного розановского чередования «да» и «нет». Это книга боли и отречения. От хуления христианства и прославления язычества и иудаизма (который выглядит у него очень языческим) он доходит до откровенного богохульства и осуждения Христа… Крушение Европы, католичества, протестантизма, гуманизма – это вселенский Апокалипсис, как и крушение православия и России, которая больше других, по Розанову, виновна в собственной гибели. Хуже страны нет и быть не может. Брань в адрес России и русских уже не имеет границ: «Плевое царство, плевая история… Явно Чаадаев прав с его отрицанием России…». «Эй, берите землю немцы, – и гоните русскую сволочь», – восклицает Розанов, еще совсем недавно, в начале Первой мировой войны, обличавший немцев как «варваров» и «тевтонов». Но вот что удивительно: браня либералов и нигилистов, ругая Герцена, Тургенева, Щедрина, Толстого и всю русскую литературу вообще как главную виновницу распада, он как будто совершенно не замечает, что весь его собственный путь, в особенности его последние книги, являются квинтэссенцией этого процесса, и сам он величайший нигилист в русской литературе. Все переворачивается: проникая в «чужое», он полностью отождествляется с ним, тем самым уничтожая «свое» – все самое священное и дорогое. Кажется, мыслитель запутался полностью, в чем он признается неоднократно: «В полном и глубоком отчаянии, в полном и глубоком незнании что делать, в полном непонимании сущего и происходящего, я обращаюсь к России, к цивилизации и к читателям моих книг: спасите, помогите или научите».
Любопытно, что автор послесловия к «Апокалипсису…» С. Федякин пытается сгладить очевидный богоборческий пафос Розанова, приводя известный отзыв о нем о. Павла Флоренского, что если бы Розанова пригрел какой-либо монастырь и позволил бы вести нормальное существование, то Василий Васильевич «с детской наивностью стал бы восхвалять не этот монастырь, а, по свойственной ему необузданности обобщений… – все монастыри вообще, их доброту, их человечность, христианский аскетизм и т. д. И воистину, он воспел бы христианству гимн, какого неслыхивали по проникновенности лирики».
Возможно, это и так. Но мне кажется, что такое объяснение унижает мыслителя. Конечно, в этом случае его пафос наверняка бы смягчился, а проживи он чуть больше и стань свидетелем полного уничтожения большевиками православной Церкви, он во многом бы поменял свои взгляды. Но об этом можно только гадать. В любом случае, «Апокалипсис…» никак нельзя рассматривать как случайность: здесь сошлись в один пучок все глубинные розановские темы и бомбой разорвались в его предсмертных текстах.
Когда-то в советские времена Алексей Лосев в послесловии к книге А. Хюбшера «Мыслители нашего времени» написал о Розанове так: «Василий Розанов был черносотенный политикан, верующий во все религии и, собственно говоря, ни в одну из них, мистик и атеист одновременно, неимоверный циник и часто порнограф: этот человек превратил все великие культуры прошлого в ряд своих изысканнейших и острейших ощущений… Это – и декадент, считавшийся христианином, но выставивший против христианства… глубокие и серьезные аргументы… А главное, мировая литература… не исключая даже Ницше, не исключая даже Достоевского, еще никогда не рисовала и личного, и общественного бытия в таком анархическом самоотрицании… Читая ужасные страницы этого писателя, нельзя было не чувствовать того, как рассыпается в прах европейская культура, созданная усилиями стольких времен и народов…».
Эти замечания выглядят слишком жесткими и не проникают в глубину розановской драмы. Но в одном Лосев прав: книги такого метафизического отчаяния и апофеоза нигилизма еще не было в русской литературе, по сравнению с ней многие современные «кощунства» и «богохульства» кажутся «цветочками».
Евразийская мистерия. Восток как феномен русской культуры XIX – начало XX вв.
Раздумывая над пленением русской мысли, вечной данницы той или другой орды, он увлекался диковинными сопоставлениями.
Владимир Набоков, «Дар»Как существуют «роковые события», так существуют и «роковые темы». Европа – роковой континент для России, Европа – роковая тема отечественной историософии: трудно отыскать русского мыслителя, у которого отсутствовало бы сочинение на эту сакраментальную тему. «Россия и Европа» – словосочетание из двенадцати букв, скрепленное союзом «и», за более чем двести лет своего литературно-философского существования превратилось в нечто особое, самостоятельное, в метафизическую дихотомию, подобную «свободе и необходимости», «причине и следствию», заняв почетное место в пантеоне парных философских категорий.[90] Но сегодня, похоже, «роковая тема» во многом исчерпала себя – открывая очередной текст, уже заранее знаешь, что там прочтешь. Все аргументы «славянофилов» против «западников», «космополитов» против «почвенников», «правых» против «левых», «центристов» против тех или иных «радикалов» известны наперед. Завершение, исчерпанность, тупик. Нечто подобное Бодрийар назвал «смертью идей». Скажем, «идея прогресса» умерла, но сам «прогресс» продолжается, умерла «идея политики», но политический балаган по-прежнему шумит; Россия и Европа живы, их нескончаемая «тяжба» продолжается и будет продолжаться, но теоретически здесь больше нечего сказать, сама идея, исчерпав себя, медленно угасает. По крайней мере, сегодня складывается странная ситуация – Европу и Запад в целом по многолетней инерции по-прежнему принимают за точку отсчета, с которой принято соотносить остальной мир. Более того, когда сотни тысяч и даже миллионы реальных и потенциальных переселенцев с Юга, Севера, Востока, влекомые предзакатным блеском европейской цивилизации, штурмуют консульства и границы западно-европейского континента, интеллектуальная элита этих стран ищет духовные источники за пределами своего отечества, как раз в тех краях, которые от ужаса или бедности покидают местные аборигены. Следует сказать даже более определенно: чем значительнее европеец попадается нам на пути, тем вероятней его разочарование в ценностях «открытого общества» и «колыбели демократии», тем вероятнее, что энергетические импульсы для жизни и творчества он ищет в тысячах километрах от матери-Европы – в Китае, Индонезии, Тибете, Индии или России, в индуизме, даосизме, суфизме, буддизме или в православии. И при всех спорах и разночтениях одно становится все очевидней: на рубеже третьего тысячелетия христианской истории «осевое время» вновь смещается – его вектор медленно но верно меняет направление, поворачиваясь с Запада на Восток.
Парадокс русской интеллектуальной истории состоит в том, что, хотя Азия была рядом и являлась частью Империи, тема «Россия и Восток» русскую мысль мало интересовала и трактаты об этом не писались. Более того, образованная Россия всегда скрыто или откровенно стыдилась Азии, как стесняются перед авторитетными и просвещенными гостями бедного, некультурного и непредсказуемого родственника, когда он некстати появляется в гостиной и может нарушить правила хорошего тона и учинить скандал. В обыденной речи слово «азиатчина» было и до сих пор остается бранным, тогда как аналогичное – «европейничанье» – при всех стараниях почвенников и славянофилов в таком качестве не привилось. Отсюда постоянное самополагание и самоопределение исключительно по отношению к западной Европе (что характерно не только для западников, но и для славянофилов). Евразийцы в 1920-30-е годы много писали об этом странном ослеплении отечественной мысли, о ее фатальной привязанности к западному полюсу мировой истории. Но делая попытку совершить «коперникианский переворот», изменить оси и векторы российской и всемирной истории, участники евразийского движения были слишком пристрастны в своем полемическом запале, часто «перегибая палку», а их сознание – чрезмерно идеологизировано: стремясь освободиться из плена либерального европоцентризма, они оказывались в плену собственных идеократических конструкций.
Развитие любой культуры начинается с подражания и усвоения чужого, что нередко оборачивается духовным пленением. Тема пленения и противостояния ему очень существенна для отечественной культуры; во многом история русского самосознания – это история периодического пленения и редких моментов освобождения – обретения внутренней свободы… Порабощение Иным, будучи изначально разрушительным, в конечном счете может стать плодотворным, хотя часто случалось и наоборот. П,ель данной работы – проследить этот и некоторые другие сюжеты на материале «евразийских метаморфоз» русской мысли на протяжении более чем столетия.[91]
Наказ «быть европейцами» и «враг с Востока»
Россия есть страна европейская…
Из «Наказа…» Екатерины IIЕсли для народного сознания Азия – это всегда угроза, насилие, кочевники, то для интеллигентского – это пассивность, непросвещенность, покорность, рабство и, наконец, в метафизическом смысле – небытие, нирвана, смерть… В пушкинскую эпоху для русской аристократии, полностью ориентированной на Западную Евpony, Азия была еще неким единым целым, противостоящим как России, так и Западу – естественно, прилагательное «азиатский» имело однозначно негативный оттенок. В работе «Пушкин об отношениях между Россией и Европой» С. Л. Франк так характеризует восприятие поэтом Востока: «Уже в самых ранних его письмах у него есть излюбленное противопоставление (в отношении явлений русской жизни) «азиатского» начала – «европейскому», как низшего высшему. Переселившись из Кишинева в Одессу, он пишет Александру Тургеневу: “Надобно, подобно мне, провести три года в душном азиатском заточении, чтобы почувствовать цену и невольного европейского воздуха” (1823). Шутя он называет Россию “родной Турцией” и Петербург “северным Стамбулом”. Когда находится щедрый издатель для его “Евгения Онегина”, он пишет: “Какова Русь, да она в самом деле в Европе – а я думал, что это ошибка географов”. Восхваляя статьи князя Вяземского, он называет их “европейскими”; находя пестроту внешнего украшения книги “безобразной”, он прибавляет, что она “напоминает Азию”».[92]
В дальнейшем это восприятие становится более дифференцированным: для описания «азиатских настроений» широкое распространение получает выражение «буддизм» («буддийский») в качестве своеобразной отрицательной метафоры. У молодого Герцена есть работа «Буддизм в науке», где соответствующая метафора, возможно впервые, применяется на практике и вводится в интеллектуальный оборот. Под «буддизмом» здесь понимается основанное на гегелевской метафизике всеобщего знаменитое «примирение с действительностью». «Русский буддист», по Герцену, – это человек, поднявшийся по ступенькам гегелевской логики на вершину «абсолютного духа», своеобразный «метафизический Обломов», утративший волевое, пассионарное начало, способность к выбору, и принимающий мир таким, какой он есть: «Буддисты науки, так или сяк поднявшись в сферу всеобщего, из нее не выходят. Их калачом не заманишь в мир действительности и жизни…» Но русского интеллигента, всегда находящегося в оппозиции к существующему status quo, именно это и возмущает более всего – ему «мало примирения; ему мало блаженства спокойного созерцания и видения, ему хочется полноты упоения и страданий жизни, ему хочется действования, ибо одно действование может вполне удовлетворить человека».[93]
Начиная с Герцена, обличение «буддийско-азиатских» опасностей становится важной темой радикальной общественной мысли и публицистики. Убежденный западник Иван Тургенев создает стихотворение в прозе «Брамин» – характерное свидетельство восприятия Азии русской интеллигенцией той эпохи. Оно состоит всего из нескольких строк: «Брамин твердит слово «ом», глядя на свой пупок, и тем самым близится к божеству. Но есть ли во всем человеческом теле что-либо менее божественное, что-либо более напоминающее связь с человеческой бренностью, чем именно этот пупок?» – задает риторический вопрос Тургенев, подразумевая, конечно, «азиатское варварство» вообще. Уже в двадцатом столетии «пассионарий» Максим Горький, исповедовавший философию «динамического активизма», благоговевший перед европейским просвещением, цитирует в очерке о Блоке не понравившееся ему высказывание и заключает: «Совершенно непонятная и какая-то буддийская мысль». При чтении многочисленных текстов подобного рода создается впечатление, что полупросвещенной русской интеллигенции Азия по преимуществу представлялась неподвижным, застывшим континентом, где царит унылый «буддизм» и живут брамины, занимающиеся созерцанием собственных «пупков». И даже люди иного типа, как Владимир Соловьев, вопреки своему интуитивному универсализму, в конце концов тоже оказывались в плену подобных представлений. Мистический страх Соловьева перед «панмонголизмом», «буддизмом» и «туранством» постепенно нарастал, и в конце жизни вылился в апокалиптические предчувствия. В пространной статье «Буддийское настроение в поэзии» – речь идет о поэзии А. Голенищева-Кутузова – он использует «буддизм» в сходном смысле и обнаруживает в русской поэзии «отрицательный буддийский взгляд на мир». Он заключается в том, что все существующее действует на поэта «своей отрицательной стороной. Жизнь (согласно этому взгляду – П. К.) есть бессмысленная тоска, от которой чужая нам Европа находит развлечение в ненужном шуме так называемых вопросов, а более близкая Азия – в гашише; в самой России царит ничем не одолимая, лишь мгновенно прерываемая ужасами войны скука…»[94] Однако в заметке «Враг с Востока» Азия превращается уже в настоящее чудовище, вызывающее у Соловьева почти мистический страх: «Есть основания думать, что дальняя Азия, столько раз высылавшая опустошительные полчища своих кочевников на христианский мир, готовится в последний раз против него выступить с совершенно другой стороны: она собирается одолеть нас своими культурными и духовными силами, сосредоточенными в китайском государстве и буддийской религии».[95] Но эта работа посвящена еще одной совершенно неожиданной «азиатской угрозе», которая чудится философу, – иссушению русской почвы и превращение России в «азиатскую пустыню». Соловьев специально рассматривает здесь состояние российских почв и пути их спасения от еще одного «врага с Востока» – засухи и обезвоживания. Вывод данной работы удивителен: «На нас надвигается Средняя Азия стихийною силою своей пустыни, дышит на нас иссушающими восточными ветрами, которые, не встречая никакого препятствия в вырубленных лесах, доносят вихри песку до самого Киева».[96] «Пустыня» в контексте всего творчества Владимира Соловьева может быть истолкована как метафора все той же угрожающей «азиатской энтропии».
«Угроза с Востока» не давала Соловьеву покоя во всех отношениях – и он посвящает этой теме специальное исследование, основываясь на книге русского синолога С. Георгиевского «Принципы жизни Китая». В 1890 году журнал «Русское обозрение» в трех номерах публикует пространный трактат философа под названием «Китай и Европа», где религия, культура и государственное устройство «срединного царства» подвергается тщательному и пристрастному анализу. Действительно ли культура и цивилизация Китая таит в себе угрозу христианской Европе, а, следовательно, и России? Текст создателя «метафизики всеединства» говорит сам за себя: «Наши антипатии и опасения может возбуждать не сам китайский народ с его своеобразным характером, а только то, что разобщает этот народ с прочим человечеством, что делает его жизненный строй исключительным и в этой исключительности ложным. Внешняя победа европейской культуры над Китаем может быть прочною и желательною лишь под условием внутреннего преодоления китайщины, т. е. того исторического начала, на котором основан органический и исключительный строй китайской жизни».[97] Согласно «метафизике всеединства», любое «отвлеченное начало», имеющее собственный онтологический статус и самодостаточное бытие, отторгнутое от целого, является не только неполным, но и по существу ложным. В этом смысле, согласно Соловьеву, любой замкнутый этнос с особенным, совершенно исключительным «жизненным строем» имеет – как сказали бы экзистенциалисты – «неподлинное бытие» и представляет собой угрозу всеединству и вселенской теократии.
Китай, по Соловьеву, – это страна, где господствует культ предков «как общий принцип китайской жизни», где прошлое имеет абсолютное значение, доходящее до «обоготворения мертвых», где историческое время течет вспять, где древнее, архаическое весомее, нежели настоящее и будущее. В этом отношении Китай не просто противоположен, он враждебен христианской Европе, враждебен «истинному христианскому прогрессу» (его принципы изложены в наделавшем в свое время много шуму докладе Соловьева «Об упадке средневекового миросозерцания»), и столкновение между Китаем, с одной стороны, и Россией и Европой – с другой, практически неизбежно: «Абсолютная пустота или безразличие, как умозрительный принцип, и отрицание жизни, знания и прогресса, как необходимый практический вывод, – вот сущность китаизма, возведенного в исключительную и последовательную систему».[98]
И, наконец, предсмертная эсхатология Владимира Соловьева, выраженная в краткой повести об антихристе, завершается заметкой «По поводу последних событий». В этих последних строках, вышедших из-под пера русского мыслителя, предсказывается конец всемирной истории, надвигающийся опять-таки с Востока: «китайское государство» и «буддизм» подавляют динамику исторического процесса, история умирает, завершаясь нирваной, энтропией, всесмешением. Однако поводом для эсхатологических пророчеств Владимира Соловьева, – почти дословно напоминающие нынешние разговоры о «конце истории» – оказывается забытое, с точки зрения «всемирной истории», событие – «боксерское восстание» в Китае. Именно в нем почудился философу глухой рокот «последних событий»: «Что современное человечество есть больной старик, и всемирная история внутренне кончилась – это была любимая мысль моего отца, и когда я, по молодости лет, ее оспаривал, говоря о новых исторических силах, которые могут еще выступить на всемирную сцену, то отец обыкновенно с жаром подхватывал: “Да в том-то и дело, говорят тебе: когда умирал древний мир, было кому его сменить, было кому продолжать делать историю: германцы, славяне. А теперь где ты новые народы сыщешь?..” А когда я, с увлечением читавший тогда Лассаля, стал говорить, что человечество может обновиться лучшим экономическим строем, что вместо новых народов могут выступить новые общественные классы, четвертое сословие и т. д., мой отец возражал с особым движением носа, как бы ощутив какое-то крайнее зловоние… Какое яркое подтверждение своему продуманному и проверенному взгляду нашел бы покойный историк теперь, когда вместо воображаемых новых, молодых народов нежданно занял историческую сцену сам дедушка Кронос в лице ветхого китайца, и конец истории сошелся с ее началом!»[99]
Интуиция и здесь не покидает Соловьева – понимая, что любые пророчества «о последнем» всегда вызывают естественное недоверие, он скрывается за авторитетом своего отца – Сергея Соловьева – и выносит смертный приговор Клио устами знаменитого историка. И речь здесь идет не о христианском апокалипсисе, а именно о медленном умирании, энтропийном затухании многотысячелетнего процесса: «Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их в существе дела заранее известно».[100]
Эта эсхатология с отчетливым «азиатским привкусом» оказала сильное воздействие на русскую культуру начала XX века. Она звучит у Александра Блока, отдал ей дань и Андрей Белый – достаточно вспомнить угрожающее «туранство» в романе «Петербург». Неожиданное продолжение «азиатская эсхатология» получает у Мережковского, правда, в несколько ином ракурсе. Главная метафора Мережковского не «буддизм», а «Китай». «Срединное царство» находит у автора «Грядущего Хама» абсолютно буквальное толкование – как «царство вечной середины, вечной посредственности, абсолютного мещанства…»(?!) Это мир, где «все просто, все плоско. Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая положительность». В соответствии с ходячими представлениями своего времени, даосизм и конфуцианство почему-то отождествляются с западноевропейским позитивизмом: «Духовная основа Китая, учение Лао-Цзы и Конфуция – совершенный позитивизм, религия без Бога, “религия земная, безнебесная”…» Никаких тайн, никаких углублений и прорываний к «мирам иным». Поэтому Китай – главная угроза Европе, России, мировой истории, но не внешняя, а внутренняя – духовная. «Вот где главная “желтая опасность”, – не из вне, а внутри, – намекает Мережковский на эсхатологию Соловьева, – не в том, что
Китай идет в Европу, а в том, что Европа идет в Китай». «Лица у нас еще белые; но под белою кожей уже течет не прежняя густая, алая арийская, а все более жидкая, “желтая” кровь, похожая на монгольскую сукровицу, – пугает русских и европейцев Мережковский, – разрез наших глаз прямой, но взор начинает косить, суживаться». Иными словами, Китай, как «царство усредненности» – это победа энтропии, завершающаяся скучным «вселенским муравейником»[101]Как это разительно противоположно тому, что будут говорить евразийцы всего лишь пятнадцать лет спустя!
Так десятилетие за десятилетием в сознании отечественной интеллигенции складывалась своеобразная «мифология Востока», в которой все богатство восточных религий и культур сливалось в некое единое недифференцированное «азиатское чудовище», порождавшее на российских просторах определенную востокофобию. В этой «мифологии» можно выделить по крайней мере четыре грани. Во-первых, традиционный образ Азии как грозного хаоса, «панмонголизма», татарской орды, несущей смерть и разрушение. Во-вторых, образ Востока, умещающийся в формулу «китайская государственность и буддийская религия», которая включает в себя восточный деспотизм, этатизм, созерцательность, пассивность, неподвижность, мироотрицание, квиетизм и т. д. Третий образ, часто сливающийся со вторым, – Восток как тотальная энтропия, как вечная угроза динамике мировой истории, «срединный мир», «царство абсолютного мещанства» в противоположность динамичной и хотя бы в прошлом одухотворенной Европе (сюда же можно отнести и образ «азиатской пустыни» Владимира Соловьева как метафоры энтропии). Последняя, четвертая грань – Восток как «царство архаики», «седой древности», традиции, что для просвещенческого сознания, в плену которого долгое время находилась образованная Россия, тождественно царству «варварства», «дикости», «косности» и т. п.
Европейский плен
Мы живем на востоке Европы – это верно, и тем не менее мы никогда не принадлежали к Востоку. У Востока – своя история, не имеющая ничего общего с нашей.
Петр Чаадаев, «Апология сумасшедшего»Вопреки широко распространенному мнению, у евразийцев, в строгом смысле, практически не было серьезных предшественников в России. «Исход к Востоку» в национальном сознании восемнадцатого или девятнадцатого столетия также трудно представим, как, скажем, «исход в Африку». Славянофилы и почвенники (исключая, пожалуй, лишь Н. Я. Данилевского и К. Леонтьева), критикуя Запад, говорили лишь о «самобытности»; ни китайский, ни буддийский, ни мусульманский Восток не были ни образцом, ни хотя бы союзником, каким для большинства была Западная Европа. Отношение славянофилов к Азии было совершенно европейским: как только «критики европейской культуры» обращали свой взгляд на Восток, они оказывались в плену традиционного европоцентризма. Восток в представлении славянофилов не простирался дальше Урала – вот как его определял Юрий Самарин: «Это значит: не Китай, не Исламизм, не Татары, а мир славяно-православный, нам единоплеменный и единоверный… В отличие от него Запад значит мир Романо-Германский или Католическо-Протестантский».[102]
Были ли исключения, был ли другой взгляд на Восток? Да, разумеется, но, как правило, они наталкивались на стену непонимания.[103] Некоторый интерес к индийской философии обнаруживается у Чаадаева: в седьмом «Философическом письме» говорится о положительном влиянии «идей Индии» на развитие философии, позднее этот интерес усиливается. Правда, не приходится удивляться, что Индия являет свои идеи «басманному философу» непосредственно из Парижа. От своего знакомого, барона д’Экштейна, Чаадаев получает его статью о Катха-упанишаде и в ответ посылает ему письмо, где выражает свои взгляды на философию индусов. Чаадаев был буквально одержим «всемогущим принципом единства», которого он не находил в своем отечестве, поэтому в индийской мысли его, естественно, привлекал ее ярко выраженный монизм. В письме к барону д’Экштейну Чаадаев говорит о «великом синтезе, рожденном мыслью (нашего) времени», который «нас учит, что источник всех человеческих знаний – один, что отправная точка для всех человеческих семей едина; что развитие их пошло разными путями по их собственному усмотрению, но между ними всеми обязательно существует точка соприкосновения». И далее: «Две вещи, больше всего поразившие меня в философии индусов, я нашел в Вашей поэме (Катха-упанишаде). Во-первых… что все заветы, все обряды, вся суровая гигиена души, за которую так ратуют их книги, – все это направлено только на обретение знания… Во-вторых, стремление этой философии упразднить идею времени». Но в дальнейшем интерес Чаадаева к индийской мысли развития не получил.[104]
Неожиданный «исход к Востоку» открывается в последнем выпуске «Дневника писателя» Достоевского (январь 1881 года), вышедшем уже после его смерти. Заметка посвящена взятию крепости Геок-Тепе в Туркмении 12 января 1881 года – она так и называется «Что для нас Азия?» В Достоевском внезапно обнаруживается скрытый евразиец, дословно формулирующий то, что Савицкий, И. Трубецкой и Сувчинский «открыли» сорок лет спустя: «Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход!» Достоевский вдохновенно призывает покончить с духовной зависимостью от Европы и обратить свой взор на Восток: «И чего-чего мы не делали, чтоб Европа признала нас за своих, за европейцев… а не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напрашивались во все ее дела и делишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши армии «спасать царей», то склонялись опять перед нею… и уверяли ее, что мы созданы лишь, чтоб служить Европе и сделать ее счастливою». Теперь же, говорит Достоевский, «надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более, чем европейцы… Этот ошибочный стыд наш, этот ошибочный наш взгляд на себя единственно как только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не переставали пребывать)… очень дорого стоили нам в эти два века, и мы поплатились за него и утратою духовной самостоятельности нашей, и неудачной европейской политикой… и, наконец, деньгами…» Однако что же все-таки означает этот «исход к Востоку», что такое для русского писателя Азия? И тут выясняется, что борец с идолопоклонством перед Европой смотрит тем не менее на Азию все теми же глазами европейца – «колонизатора» и «империалиста». В двух главах «Дневника писателя», посвященных «азиатскому вопросу», нет даже намека на то, что Россия у Азии может чему-то научиться или хотя бы взаимодействовать с ней как с равной. В Азии возможен лишь выход той невостребованной энергии, накопившейся в глубинах России, которой русские люди не могут тут найти применения. Миссия России в Азии исключительно цивилизаторская, просветительская и колонизаторская, а никакая иная. Достоевский здесь проговаривается с удивительной непосредственностью: «В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы – европейцы… Миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось движение».[105]
Таким образом, было бы все же неверно утверждать, что отечественная философия и публицистика совсем игнорировали Восток, но в подавляющем большинстве случаев она оказывалась в плену своих традиционных предрассудков. Так что слова Лермонтова, сказанные им А. А. Краевскому – речь здесь идет, очевидно, о мусульманском Востоке, – повисают в воздухе и не находят отклика у большинства «мыслящих соотечественников»: «Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны. Но поверь мне, там, на Востоке, – тайник богатых откровений».[106] Однако учиться у Азии было некому: два идола – просвещение и цивилизация, которым поклонялось русское образованное общество, неизбежно поворачивали вектор русской истории на Запад; увидеть и почувствовать Азию могли лишь те, кто, подобно Лермонтову, был свободен от этого идолопоклонства. В свое время Восток в Европе открыли романтики, люди, разочарованные в просвещении и цивилизации. Неудивительно, что и в России увидеть Азию непредвзято могли по преимуществу люди романтического склада, как Лермонтов или – в XX веке – Александр Блок. В целом же ситуация была такой, какой ее представил Н. Я. Данилевский в своей работе «Россия и Европа»; именно он был едва ли не единственным русским философом, у кого «Китай» не получил уничижительной оценки. Напротив, государственное устройство, религия, культура, экономика, жизненный строй Китая оценивается им необыкновенно высоко, как и восточные культуры в целом. В главе IV он не без иронии писал: «Запад, Европа составляют полюс прогресса, неустанного усовершенствования, непрерывного движения вперед; Восток, Азия – полюс застоя и коснения, столь ненавистных современному человеку… Ибо если не Запад, так Восток; не Европа, так Азия – средины тут нет; нет Европо-Азии, Западо-Востока, и если б они были, то среднее межеумочное положение также невыносимо. Всякая примесь застоя и коснения уже вред и гибель. Итак, как можно громче заявим, что наш край европейский, европейский, европейский – что прогресс нам пуще жизни мил, застой пуще смерти противен, что нет спасения вне прогрессивной, европейской, всечеловеческой цивилизации… Утверждать противное – зловредная ересь, обрекающая еретика если не на сожжение, то, во всяком случае, на отлучение от общества мыслящих…»[107]Ирония Данилевского вполне оправдана, но, естественно, она ничего не меняла по существу.
«Русская нирвана» и азиатское подполье
Год от года, день ото дня, час от часу все яснее, что цивилизация обрушится на головы ее творцов, раздавит их собою; но она не давит; и безумие длится: все задумано, все предопределено, гибель неизбежна; но гибель медлит, все должно быть и ничего нет; все готово произойти и ничего не происходит.
А. Блок, «Молнии искусства»Итак, постепенно проясняется, что так отпугивало русскую мысль от Востока, что заставляло с удручающим однообразием устремлять свой взор на Запад и все глубже увязать в двусмысленной диалектике европейского просвещения. Это – страх не успеть за историей, навсегда остаться аутсайдером; страх перед засасывающей неподвижностью, внеисторическим существованием среди вязкого, душного быта, где можно веками «сидеть на стуле и смотреть вдаль» (Розанов) и где не изменяется ничего; это – страх перед властью бесконечных пространств, в которых растворяется человек, перед «русской нирваной», перед господством чистой протяженности, где время замедляется, исчезает и теряет свою силу. Когда-то свободолюбивые философы и публицисты сломали немало перьев в обличении «вечного сна» и «пуховых перин», на которых Илья Ильич Обломов проспал всемирную историю, но в наши дни все это кажется странным помутнением сознания, провинциальной болезнью роста…
Помимо страха перед «русской нирваной», в отечественной мысли звучит и смежная тема – страха перед азиатским Востоком как подпольем, скрывающим опасные и разрушительные инстинкты. Если Россию называют «подсознанием Европы», то, в свою очередь, можно утверждать, что Азия – это «подсознание России», то самое «Оно», блуждающее под «Сверх-Я», темный чулан подавленных инстинктов, источник непредсказуемости, агрессии, которая может нарушить правила поведения в любую минуту и учинить «мировой скандал».
На языке юнгианской школы Восток мог быть сочтен «коллективным бессознательным», темным, архаическим подпольем, пахнущим дымом пожарищ и кочевых костров.
Примерно то же самое пытался сформулировать один из наиболее неистовых обличителей «азиатских напластований» в русской психике Максим Горький: «У нас, русских, две души: одна – от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя, убежденного в том, что “судьба всем делам судья”, “ты на земле, судьба на тебе”, а рядом с этой бессильной душой живет душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая, и мало способна к самозащите от ядов, привитых ей, отравляющих ее силы. Это слабосилие, эта способность легко разочаровываться, быстро уставать объясняется, вероятно, нашим близким соседством с Азией, игом монголов, организацией Московского государства по типу азиатских деспотий и целым рядом подобных влияний, которые не могли не привить нам основных начал восточной психики. Чисто восточное презрение к силе разума, исследования, науки прививалось нам… намеренно, искусственно, домашними средствами».[108]
В каком-то смысле этот текст архетипичен: он выражает взгляды значительной части русской интеллигенции. Азия, если не сама по себе, то по крайней мере «Азия в России», – это тьма безнадежная, непроницаемая. Любопытно, что даже Бердяев, еще недавно (в 1914 году) издевавшийся над борьбой Горького с «азиатским сознанием», после октябрьской катастрофы, явно теряя самообладание, начинает мыслить в аналогичных категориях и неожиданным образом проговаривается: «Ненависть к “буржуазии” есть исконная ненависть темного Востока к культуре… – повторяет он своего оппонента в ноябре 1917 года. – Такое… перерождение марксизма поистине изумительно, оно возможно лишь на темном Востоке, в совершенно некультурной стране. В этом есть что-то турецкое. Есть основание думать, что западные люди и смотрят на “русскую революцию”, как на китайскую или турецкую».[109] Эта оговорка очень характерна: она свидетельствует о том, что Азия в России – не только темное подполье, «Оно», бессознательное, но также и своеобразный козел отпущения, некая сточная канава, куда «просвещенное сознание» спускает всю отрицательную энергию. Можно сказать еще сильнее: как только «самосознание России» в лице русского интеллектуала теряет самообладание и разочаровывается в «этой стране», то тут же можно ожидать, что «эта страна» будет обвинена в «извечном рабстве» и «неизжитой азиатчине». Символично, что бегство (эмиграция, уход) из Европы на Восток существовало и существует уже несколько столетий, начиная, по крайней мере, с эпохи Романтизма. Эмиграция же из России, пожалуй, еще более интенсивная, всегда была возможна только на Запад, в «страну святых чудес» (Хомяков), – представить себе образованного русского, эмигрирующего в Индию, Китай или исламские страны, было практически невозможно.
Так или иначе, Восток не знал гуманизма в европейском смысле, не было его и в России: именно на этом срединном уровне – культуры, права, автономии личности – всегда и звучала жесткая критика русской ментальности и русской истории, в наиболее глубокой форме исходившая из самой России. В ней выразилось сознание тотального одиночества тонкого слоя «гуманистической интеллигенции», зажатой между молотом сильного, но вполне терпимого государства и наковальней простого народа, между западной Европой и безграничным азиатским континентом… Почему здесь «все проваливается», не получает непрерывного продолжения, а ярко вспыхивает, горит и гибнет? Почему, несмотря на устойчивую консервативную традицию, здесь так и не удается создать «почвы», «фундамента», и под ногами тут всегда топь, трясина, зыбь, но никак не прочное основание? Почему каждый раз мы оказываемся на пепелище и вновь приходится начинать с самого начала, почти с нуля?
На эти вопросы существует множество разнообразных ответов, но в нашем ракурсе то, что так пугало Чаадаева, Соловьева, Мандельштама – «азиатчина», – как раз и есть эта «вязкость», «топкость» бытия, отсутствие исторической динамики, завершенной формы, пресловутый быт («среда заела»), «синкретизм», отсутствие дистанции, различения (европейское differance), образ жизни, от которого невозможно оторваться и увидеть его извне; где на другом полюсе – катастрофичность истории, русское странничество, блуждание в мире крайностей, беспочвенность интеллигенции, эсхатология и апокалиптика.[110] Евразия – как срединный континент – со всех сторон открыта «ветрам истории». Как и Китай – это «привилегированное место пространства» (М. Фуко), но пространства открытого, разомкнутого, неустойчивого. Вертикальная пропасть между тварью и творцом пересекается на просторах континента с горизонтальной пропастью между Востоком и Западом. Евразия, таким образом, оказывается пространством «двойного провала», «Марианской впадиной», грозящей поглотить весь «цивилизованный мир»… В нормальном состоянии, в идеале, – это мост между Востоком и Западом, «континент-океан», о котором мечтали евразийцы, но в критическом, переходном он превращается в разрыв, в мировую трещину, вселенскую прорву, куда может провалиться все. Тогда – это пространство абсолютной непредсказуемости, черная дыра, мировая яма – «русское ничто», куда могут кануть все нашествия, полчища кочевников, отборные европейские армии, собственные гении и таланты, миллиардные субсидии, пограничные страны и народы; «евразийская утроба» способна порождать все самое неожиданное, удивительное, чудесное, но одновременно и поглощать это с ужасающим постоянством. Именно это пытался выразить Розанов, когда в известном предисловии к своему предсмертному «Апокалипсису…» писал: «…Глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском (всем, – ив том числе русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства; и в эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатства. Все потрясено, все потрясены. Все гибнут, всё гибнет. Но всё это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания».[111]
Путь на Восток или «разочарованный европеец»
Добром является все, что побуждает нас плыть против общего течения нашей цивилизации, компрометировать и саботировать ее прогресс.
Эмиль ЧоранПродукт Просвещения – общественное мнение, первоначально возникшее в противостоянии авторитаризму, со временем превратилось в несравнимо более жесткий авторитарный дискурс, в инструмент публичного подавления всякого инакомыслия. Для открытия
Востока во второй половине XIX века было необходимо глубинное разочарование в ценностях Просвещения, и вслед за Данилевским таким «разочарованным европейцем» стал Константин Леонтьев. Некоторые его тексты звучат вполне по-евразийски, и недаром участники евразийского движения называли Леонтьева своим предшественником. «Конец петровской Руси близок, – предсказывал он еще в 1880-е годы. – И слава Богу. Ей надо воздвигнуть рукотворный памятник и еще скорее отойти от него, отрясая романо-германский прах с наших азиатских подошв!» Однако его вопрошания и рецепты спасения звучали в то время не только для либерального, но и для консервативного уха совершенно шокирующе: «Спасемся ли мы государственно и культурно? Заразимся ли мы столь несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим, мистическим настроением Индии? Соединим ли мы эту китайскую государственность с индийской религиозностью и, подчиняя им европейский социализм, сумеем ли мы постепенно образовать новые прочные группы и расслоить общество на новые горизонтальные слои – или нет?..» Тогда, говорит Леонтьев, наша судьба – «окончить историю, погубив человечество; разлитием всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать жизнь человеческую на земном шаре уже совсем невозможной».[112]
От большинства своих современников, помимо прочего, он отличался одним качеством, встречающимся у нас крайне редко, – необыкновенной внутренней независимостью. В одном из его писем есть мимоходом брошенная фраза: он говорит о «русском ужасе перед всякой умственной независимостью»[113] – этот «общинный» русский ужас он чувствовал как никто другой (удачно заметил по этому же поводу Андрей Белый: «Если на Западе один против всех, то у нас – все против одного»). И потому в русском XIX веке автор «Византизма и славянства» выглядел столь одинокой, странной и трагической фигурой (отсюда частые обвинения его в «нерусскости»). Однако в исторической перспективе очевидно, что Леонтьев не был так одинок, как кажется на первый взгляд. Юрий Иваск, автор едва ли не лучшей книги о Леонтьеве, говорит о нем как о «выдающемся представителе той великой контрреволюции XIX века, которая защищала качество от количества; даровитое меньшинство от бездарного большинства; яркую мысль от серой массы; дух от материи; природу от техники; истину от рекламы и пропаганды; творческую свободу от плутократии и бюрократии; искусство от прессы».[114] Иными словами, защищала традицию от антитрадиции, сакральное от профанного, вечное от временного.
Среди предшественников Леонтьева многие известные имена – от Жозефа де Местра и Шатобриана до Карлейля и Гобино; среди близких по духу мыслителей – Ницше и Леон Блуа, Шпенглер и Ортега, а в XX веке – Рене Геной и его окружение. «Консервативные революционеры», часто казавшиеся одинокими, непонятыми и отторгнутыми либеральным истэблишментом фигурами, мрачноватыми чудаками, интеллектуальными маргиналами, упорно шедшими наперекор историческому процессу, после Генона выглядят иначе – они образуют «непрерывную линию», Традицию, которую французский мыслитель осознал и выразил наиболее завершенно. Иначе выглядит и Леонтьев, с его непонятыми откровениями и пророчествами, которые в большинстве своем полностью сбылись. Между Теноном и Леонтьевым много общего, в их текстах встречаются поразительные совпадения. Однако для нас здесь существенна одна тема: их открытие Традиции через открытие Востока, и, прежде всего, Ислама. Безусловно, «жизнь К. Леонтьева на Востоке дала огромные импульсы для его творчества. Можно сказать, что самые значительные произведения его написаны под влиянием переживаний и мыслей, рожденных на Востоке. Восток окончательно сформировал его духовную личность, страшно обострил его политическую, философскую и религиозную мысль, возбудил его художественное творчество…»[115] «Восточные составляющие» в мировоззрении Леонтьева очевидны: это и глубинный фатализм, проступающий сквозь его эволюционно-натуралистическую философию истории; и «восточный пессимизм» по отношению к «устроению земной жизни» и европейскому эвдемонизму; и апология восточного деспотизма; и религиозное мироощущение – «трансцендентный эгоизм», часто доходивший до монофизитства. Бердяев совершенно прав, утверждая, что «не случайно Константин Николаевич любил ислам. Все его христианство пропитано элементами ислама. Он сильнее чувствовал Бога-Отца, чем Бога-Сына. Бога страшного, далекого и карающего, Бога трансцендентного, чем Бога искупающего, любящего и милосердного, близкого и имманентного. Отношение к Богу для него было прежде всего отношением страха и покорности… У него было сильно чувство Церкви, но слабо непосредственное чувство Христа… У него почти нет слов о Христе. Из Евангелия… он цитирует только те места, в которых говорится, что на земле не победит любовь и правда, ему близки лишь пессимистические ноты Апокалипсиса».[116] Наконец, «византизм» и «Византия» в интерпретации Леонтьева весьма напоминает то, что Генон позднее назовет «традиционной цивилизацией» – иерархическим обществом, построенном на определенных духовных принципах. Роднит их с Геноном и критика «антрополатрии» – гуманистического идолопоклонства перед «падшим человеком», – в том числе и всех форм христианского гуманизма. Человек есть то, что должно быть преодолено, – максима этики «любви к дальнему» звучит у них, пожалуй, даже более радикально, чем у Ницше. Человек не занимает привилегированного положения в космосе, он не есть «мера всех вещей», он глубоко вторичен – отсюда, видимо, отсутствие, как у Генона, так и у Леонтьева, развернутой антропологии, интереса к «человеческому, слишком человеческому». Историософия Леонтьева и Генона представляет собой последовательное отрицание любых форм исторического прогресса в его «наивной» просветительской интерпретации.
И надо признать, что предвидения Леонтьева и других «разочарованных европейцев» о грядущем «царстве энтропии» сбываются; знамения времени говорят сегодня за себя сами…
Злоключения теософии: эзотерическое и профанное
Теософ – вояжер по всем религиям, наукам и «ведениям», он катается во всяком экипаже – религиозном, мистическом, естественнонаучном, философском, магическом, оккультном, телепатическом. Существенной связи у него с ними также мало, как у любого седока с нанятым им экипажем.
Густав ШпетОчередная попытка духовного синтеза Запада и Востока – теософская доктрина – родилась и распространилась благодаря энергии необыкновенной русской женщины, натуры невероятно противоречивой, хаотичной, но, несомненно, харизматической, сотворившей эффектный миф из своей жизни, в котором сегодня трудно отличить реальное от фантастического. Теософия возникла из романтического желания воскресить Тайну, похороненную сциентизмом и позитивизмом. Этому соответствовал и невероятно романтический характер «современной жрицы Изиды» – Е. П. Блаватской, чья жизнь напоминает приключенческий роман («Ей нужен вечный ребус, перманентная тайна», – писал Н. К. Михайловский). Именно благодаря Е. И. Б., а не академическим работам, восточные культы и учения стали достоянием широких кругов на Западе. Как раз ее судьба, созданный ею миф, а не содержание ее сумбурных книг, собственно и есть «ключ к теософии». «Синтез науки, философии и религии», провозглашенный Блаватской и полковником Олкоттом, возник на благоприятной почве: «смерть Бога», утрата религиозных корней, разочарование в официальной церкви, все возрастающее одиночество человека и породили теософское движение, призванное воссоединить личность с утраченной «древней мудростью» и определить ее место в космической эволюции.
Но, выступая в роли теософа и учителя, Блаватская в России не могла иметь никакого влияния не только потому, что ее книги, за редкими исключениями, в то время практически не издавались по-русски. В полупатриархальном и консервативном русском обществе девятнадцатого века женщина в качестве проповедника и теософа могла рассчитывать на признание с таким же успехом, как в роли военного или промышленника. Будучи по своему характеру натурой слишком своенравной и независимой, как тогда говорили – эмансипированной, она тяготела к Западу естественным образом: ее миссия могла быть реализована только там. Символичен в этом отношении факт, приводимый ее биографами: встреча Блаватской с древней мудростью Востока, встреча с Учителем произошла не в Тибетских монастырях или в долине Ганга, а в Лондоне, в Гайд-парке в августе 1851 года, а лишь затем последовали путешествия в Азию, где и были получены т. н. «письма Махатм». Она принадлежала к тому редкому типу харизматических русских женщин, для которых «реальность» не имеет существенного значения. Благодаря своей «пассионарности», она беспрестанно творила мифы и, страстно веруя в них, расправлялась с реальностью самым безжалостным образом. В этом отношении Блаватская была вполне экзистенциальна: если видимая реальность всего лишь Майя, иллюзорность мира позволяет творить с ним все, что угодно. И потому задавать вопрос о том, как соотносились с действительностью ее взгляды, уличать в мошенничестве, как это было в связи с «письмами Махатм», то же самое, что уличать в подменах наши сны. «Никогда я не встречал такой сильной натуры, сильной в своих желаниях и стремлениях, – вспоминал один ее американский собеседник, – окружающее не имело для нее значения, даже если небеса рухнут, она будет продолжать свой путь».[117] Видимо поэтому теософские упражнения Блаватской, будучи во многом «дамским рукоделием», оказывают столь сильное воздействие на западную аудиторию: скорее энергия автора «Тайной доктрины», нежели ее эклектичные спекуляции, ломает рационалистические суеверия и позитивистские предрассудки. Реанимация древних мистерий и гностических образов подготавливает мистическую ауру грядущего века: из этих темных гностических недр будут черпать идеи самые разные люди – от Андрея Белого и барона Унгерна до Юнга, Тенона и Борхеса…
Теософия воспроизводит древнюю как мир гностическую парадигму о тождественности микрокосма и макрокосма; отсюда же вытекает и другая столь же вечная идея – о наличии в человеке скрытых, неведомых сил и возможностей, высвобождение которых позволит совершить грандиозную трансмутацию и вывести сознание на новую ступень космической эволюции; ключ к этим силам – тайное знание, хранимое посвященными. Когда в XX столетии начнется реанимация гностицизма и оккультизма, попытки высвобождения скрытых энергий будут проводиться в различных формах и дискурсах – от рискованных опытов Гюрджиева до инфернальных экспериментов национал-социализма. При всей несхожести результатов смысл этих проектов, в сущности, один: путем оккультных мутаций произвести на свет «нового человека», который будет свободен от всех грехов и пороков исторического человечества.
В Россию же в начале века эти идеи проникнут в несколько иной, антропософской, упаковке, скрепленные немецким методологизмом, наукообразием и несомненной харизмой доктора Рудольфа Штейнера. В отличие от Блаватской, всегда яростно нападавшей на «папское христианство» и «протестантское фарисейство», Штейнер попытался соединить несоединимое: христоцентризм европейской традиции и пантеистический монизм индуизма – с помощью эзотерического истолкования. Антропософский «синтез» имел большой успех у русской интеллигенции. Это было очередное вторжение мужественного германского логоса в женственную и хаотичную русскую стихию, вторжение во многом победоносное, породившее множество самых причудливых плодов.
Как давно замечено, трагический хаос русской жизни приводил к успеху те западные учения, которые претендовали на открытие «универсальных законов истории», «саморазвития мирового духа», «космической эволюции», позволявших упорядочить магму внутренней жизни и внести смысл во «внеисторическое» существование человека среди беспредельных географических пространств (в этом же, видимо, и причины невероятного успеха астрологии на русской почве). Шеллинг, Гегель, Маркс, Кант, Спенсер, неокантианство – Штейнер занимает существенное место в этом ряду. «Пленение антропософией» испытала значительная часть русской интеллигенции начала века: Вяч. Иванов, М. Волошин, М. Сабашникова-Волошина, Эллис, Михаил Чехов, Скрябин, Кандинский, но самая показательная фигура, безусловно, Андрей Белый. «Стихия Белого – чисто русская, национальная, народная, восточная, стихия женственная, пассивная, охваченная кошмарами и предчувствиями, близкая к безумию».[118]Этот семантический ряд, выстроенный Бердяевым, очень показателен; для такой стихии главная проблема – это проблема формы и внутренней дисциплины, проблема в самом деле очень русская, мучительная и трагическая. Глубоко прав о. Г. Флоровский, когда говорит о том, что книги Когена и Риккерта, творения Фихте и Гегеля (и следует добавить – Безант и Штейнера) читались в начале века «именно в качестве практических руководств для личных упражнений, точно аскетические трактаты… как книги мистического опыта и действия». «И здесь повторяется проблематика христианской аскетики: борьба с хаосом страстей и впечатлений, верность правилам и законам, выход к высшим созерцаниям, стяжание бесстрастия…»[119] Тут необходимо уточнение – повторяется, но не реализуется: антропософия, безусловно, стимулируя творчество и раскрывая нераскрытое, в результате оборачивается подменой, и все завершается драматическим русским разочарованием в Учителе и Отце. И как свидетельствуют мемуаристы, финальные сцены протекают в 1921 году в берлинских кафе, где одинокий и отчаявшийся Андрей Белый (именующий теперь Штейнера «дьяволом») протанцовывает свои безумные танцы… «Тайноведение» доктора Штейнера не дало формы и дисциплины, а само «тайное знание» постепенно становится все более общедоступным.
Теософия ввела в широкий обиход вполне панибратское отношение с трансцендентным. В результате «тайное знание» становится чудовищным кичем, профанацией подлинной традиции и, выплескиваясь из салонов на улицы, превращается в бульварный оккультизм. Осип Мандельштам был в этом смысле недалек от истины, назвав теософию «буржуазной религией прогресса», «религией господина Оме».[120] С этим в 1920-е годы был связан отход от теософии наиболее глубоких мыслителей, совершенно несхожих между собой, – Дж. Кришнамурти (объявленного теософами мессией еще в 1911 году) и Рене Тенона…
Если же вернуться к Елене Петровне Блаватской, то не исключено, что она также искала в гностических идеях и древних мистериях форму и дисциплину для своей предельно антиномичной натуры, которая разрывалась между русскими корнями, воспитанием, верованиями и теософией. Будучи одновременно страстной русской патриоткой по своим чувствам и привязанностям, американской гражданкой, космополитом по убеждениям и популяризатором восточных учений на Западе, ей было, видимо, очень трудно свести воедино все эти сферы своей души – об этом свидетельствуют ее письма к сестре: «Люди называют меня, и я должна признать, что сама называю себя язычницей. Я просто отказываюсь слушать, как люди говорят о несчастных индусах или буддистах, обращенных в англиканское фарисейство или папское христианство, это приводит меня в содрогание. Но когда я прочла о появлении русского Священника в Японии, мое сердце ликовало… Меня тошнит от одного только вида иностранного священника, но знакомая фигура русского попа воспринимается мной без всякого усилия… Я не верю никаким догмам, я не люблю всякие ритуалы, но мои чувства к нашим церковным службам совершенно другие…
Я, конечно, всегда скажу: в тысячу раз предпочтительнее буддизм, который является чистым моральным учением, абсолютно гармонирующим с проповедями Христа, чем современный католицизм или протестантизм. Но с верой в Православную русскую церковь не сравню я даже буддизм. Это сильнее меня. Такова моя глупая противоречивая натура».[121] Но за «необъяснимой противоречивостью» натуры Е. Блаватской скрыты противоречия принципиальные. Христианство утверждает уникальность личности, человеческой души, лица; индуизм и буддизм, на которых строится теософская доктрина, по сути дела, не знают личности, душа – текуча и взаимозаменяема, личность иллюзорна, она – лишь песчинка в мировом океане. Православие – личностно и соборно, но совсем не индивидуалистично, как западное христианство, его космизм и тяготение к пантеизму сближают его с религиями Востока… Роль же теософии оказывается предельно двусмысленной: с одной стороны, русские интеллектуалы ищут в ней форму, канон, логос, с другой, – как и все гностические учения с восточной окраской – теософия растворяет личность в абсолюте. И меж этими полюсами нет примирения: здесь – пространство, в котором и разворачивается мистерия странствий русской души между Западом и Востоком, земным и небесным, между утверждением уникальности человеческой личности и стихиями распыления и развоплощения…
И непонимание этих существенных различий делает возможным тот странный факт, что некоторые теософы наивно воображают себя вместе с тем церковными людьми, православными или католиками, не сознавая сомнительность «теософского смешения всех алтарей, жертвенников, догм, верований и философий».[122]
Русский авангард. Панмонголизм и скифство
Восточный образ «мысли» означает, что мыслитель теряется в мышлении. Это уже не мышление в обычном смысле слова. Вот почему я говорю, что восточному уму несвойственно «мышление».
Дайсэцу СудзукиГибель «Титаника», вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан). Бесконечно пусто и тяжело.
Александр Блок, «Дневник» 5 апреля 1912 г.Вопреки широко распространенному мнению, «евразийский поворот» в русской культуре первыми попытались сделать не собственно евразийцы и не Блок, Белый, Иванов-Разумник и авторы сборников «Скифы», а русский живописный и поэтический авангард накануне Первой мировой войны. Русские футуристы – от Велемира Хлебникова до Бенедикта Лившица – откровенно провозглашали себя азиатами. В 1914 году, в связи с приездом лидера европейского футуризма Маринетти, Бенедикт Лившиц читает доклад о самоопределении русского искусства по отношению к Европе – своеобразный манифест «эстетического евразийства». Он отождествляет мировосприятие русского художника с Востоком и видит эту близость «не во внешних обнаружениях… не в связях, соединяющих русскую иконопись с персидской миниатюрой, русский лубок – с китайским, русский витраж – с восточной мозаикой или русскую частушку – с японской танкой». «Гораздо существеннее иное: наша сокровенная близость к материалу, наше исключительное чувствование его, наша прирожденная способность перевоплощения, устраняющая все посредствующие звенья между материалом и творцом… Да, мы чувствуем материал даже в том его состоянии, где его еще нарекают мировым веществом, и потому мы – единственные – можем строить и строим наше искусство на космических началах. Сквозь беглые формы нашего “сегодня”, сквозь временные воплощения нашего “я”, мы идем к истокам всякого искусства – к космосу».[123]
Иными словами, художник растворяется в материале, субъект не противостоит объекту, а сливается с ним; и если перевести эту горделивую футуристическую манифестацию на метафизический язык, легко увидеть: русский авангард по-своему проговаривает здесь то, что в отечественной традиции получило название «онтологизм». Это означает, что творчество или познание есть не столько состояние сознания, образ мыслей и чувств, сколько образ существования, погруженности в бытие, в котором снимаются все опосредствования между материалом и творцом, субъектом и объектом, мыслью и сущим, внешним и внутренним. Футуристы неизбежно оказываются здесь в русле общей традиции, чьи основные положения были уже сформулированы, в частности, их злейшим врагом – русским символизмом, которому будетляне неустанно себя противопоставляли, – и тем не менее на каком-то глубинном уровне с ним смыкались. Отечественный же символизм, возникнув на первых порах как подражание европейскому, затем приобретает совершенно иное значение. В основе метафизики символизма лежал именно эстетический онтологизм, вслед за романтиками провозглашавший, что жизнь и творчество неразделимы. «Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в этом была его глубочайшая, быть может невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история, – пишет в «Некрополе» Владислав Ходасевич. – Это был ряд попыток, порой поистине героических, – найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино».[124]
Обличение «рационализма», «механистичности», «гносеологизма» и т. п. западного дискурса давно стало общим местом в русской традиции. Но «роковой теоретизм» (М. Бахтин) при всех своих минусах имеет очевидные достоинства: разведение субъекта и объекта всегда предполагает дистанцию между «мной» и «миром», отстранение, различение ценностей, способность к оформлению хаоса и концентрации в определенном направлении при забвении всего остального. «Восточный онтологизм» не менее двойственен, хотя и в другом отношении. «Погруженность в бытие» часто приводит к неразличимости, к потере ориентиров, подменам, к растворению в безличных стихиях; созвучие космическому «духу музыки» (А. Блок) оборачивается «музыкой гибели». Сплав жизни и творчества «в миру» осуществляется крайне редко: утопия целостного бытия рассыпается, распадается и онтологический субъект, замысел оборачивается великой неудачей, творчество угасает на пепелище. Символизм искал человека, способного осуществить эту миссию, но, как утверждает Ходасевич – да и не только он, – «такой гений не явился. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось».[125] Не избежали этой участи и его главные фигуры – Андрей Белый и Александр Блок.
Футуристический «исход к Востоку» имел скорее оттенок хлесткой метафоры, будетлянского самоутверждения, вызывающей игры, нацеленной на традиционный авангардистский скандал: «Если космическое мирочувствование Востока еще не богато конечными воплощениями, то виною этому, прежде всего, – гипноз Европы, за которой мы приучены тянуться в хвосте. У нас раскрываются глаза только в трагический момент, когда Европа, взыскующая Востока, приводит нас к нам же самим… Проснемся ли мы когда-нибудь? Признаем ли себя когда-нибудь – не стыдливо, а исполненные гордости – азиатами?»[126] Между этим футуристическим манифестом и эсхатологическим панмонголизмом Вл. Соловьева – пропасть. Пан-монголизм предельно двойственен: пробуждение крайнего Востока, «желтая опасность» страшит и одновременно притягивает автора «Трех разговоров». Панмонголизм апокалиптичен – в нем русский мыслитель предчувствует грядущую Божественную кару как Европе, так и России за измену христианским заветам:
Панмонголизм! Хоть имя дико, Но мне ласкает слух оно, Как бы предвестием великой Судьбины Божией полно.Но если универсализм Соловьева заставляет его колебаться, не делать окончательного выбора, то «скифство» – прежде всего в лице Александра Блока, Андрея Белого и Иванова-Разумника – этот выбор недвусмысленно совершает, здесь все проговаривается до конца. Если у авангарда – вызов, игра, самоутверждение, скандал, то, например, у Блока – разочарование, надрыв, отчаяние, ненависть, даже месть. Тут звучит старая русская тема самообмана и романтического разочарования. Европа, «страна святых чудес», континент великой культуры, в очередной раз обманывает возвышенные ожидания. Великое прошлое арийской культуры заканчивается парламентами, банками, демагогией, плутократией, торжеством «буржуазной сволочи» (выражение Блока).
Буржуа – последнее слово Европы, его образ достигает космических размеров, застилая все остальное, словно в Европе больше ничего не осталось: она заслужила только Возмездия. «Вы уже не арийцы больше, – записывает Блок в «Дневнике» 11 января 1918 года. – И мы широко откроем ворота на Восток. Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянули нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется Восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так изолгавшийся – уже не ариец. Мы – варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ – будет единственно достойным человека».[127] В это же время создается «Двенадцать», а через три недели «музыка революции» сольется со стихиями Востока и зазвучат тяжелые ямбы «Скифов». И за всем этим, конечно, не предчувствие «грядущего братства», а глухое, гибельное, бесконечное отчаяние – жажда гибели и упоение этой гибелью в том мире, который большего не стоит. «Скифство» можно было бы назвать евразийством отчаяния.[128]И здесь возникает сюжет, который во многом станет архетипическим для нашего времени, когда духовный аристократ, воспитанный на утонченной европейской культуре, влюбленный в готику средневековья, великое прошлое Европы, предает эту культуру анафеме, пытается сбросить опостылевший сюртук и провозглашает «крушение гуманизма». Гуманизм – это побочное дитя западного христианства – довел личность до высшей степени сложности и утончения; но личность – это боль, личность сама в себе неполна, личность в этом смысле всегда – неудача, она не выдерживает собственного напряжения и пытается развоплотиться, раствориться в духе музыки, в древних безличных стихиях, все еще доносимых до цивилизованной Европы ветрами Востока. Другая грань этой же темы звучит у Михаила Гершензона в его «Переписке из двух углов» с Вячеславом Ивановым: «Я не сужу культуры, я только свидетельствую: мне душно в ней. Мне мерещится, как Руссо, какое-то блаженное состояние – полной свободы и ненагруженности духа, райской беспечности. Я знаю слишком много, и этот груз меня тяготит. Это знание не я добыл в живом опыте; оно общее и чужое, от пращуров и предков; оно соблазном доказательности проникло в мой ум и наполнило его. И потому, что оно общее, сверхлично-доказанное, его бесспорность леденит мою душу. Несметные знания, как миллионы неразрываемых нитей, опутали меня кругом, все безликие, все непреложные, неизбежные до ужаса. И на что они мне? Огромное большинство их мне вовсе не нужно. В любви и страдании мне их не надо, не ими я в роковых ошибках и нечаянных достижениях медленно постигаю мое назначение, и в смертный час я, конечно, не вспомню о них. Но, как мусор, они засоряют мой ум, они тут во всякий миг моей жизни и пыльной завесой стоят между мною и моей радостью, моей болью, каждым моим помыслом».[129] Но если в словах Гершензона слышится печаль, мягкая усталость человека перезревшей цивилизации, сознающего всю безнадежность собственных желаний, то Блок серьезен, трагичен, зол, он ставит на карту все, и никакие компромиссы невозможны. Однако когда Александр Блок писал о времени, «когда свирепый гунн в карманах трупов будет шарить, жечь города, и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить», он вряд ли подозревал, что его предчувствия и тайные желания уже получают на Дальнем Востоке, в пустынных степях Монголии, самое буквальное воплощение – там разыграется следующий кровавый акт евразийской драмы…
Боги войны: священное безумие
Только музыка способна остановить кровопролитие, которое становится тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием.
Александр БлокЯ ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой войны.
Константин Леонтьев«Восток непременно должен столкнуться с Западом. Белая культура, приведшая европейские народы к революции, сопровождавшаяся веками всеобщей нивелировки, упадком аристократии и прочее, подлежит распаду и замене желтой восточной культурой, образовавшейся три тысячи лет назад и до сих пор сохранившейся в неприкосновенности»,[130] – эти слова принадлежат уже не петербургскому поэту, а человеку совсем иного типа – «безумному барону» и самодержцу монгольской пустыни Роману Унгерн-Штернбергу (1886–1921), который первым попытался осуществить некоторые евразийские идеи на практике.
Он происходил из древнего обрусевшего рода балтийских баронов, его внушительное родовое древо насчитывает восемнадцать родовых колен, – среди них рыцари, сражавшиеся вместе с Ричардом Львиное Сердце под стенами Иерусалима и в битве при Грюнвальде, члены Ордена меченосцев, морские разбойники и средневековые алхимики. Род, по его собственным словам, отличался склонностью к мистике и аскетизму. Для самого Унгерна, верившего в метемпсихоз, это было подтверждением, что в нем воплотился дух одного из грозных предков. И в самом деле, появление барона Унгерна в Забайкалье и монгольских степях можно сравнить лишь с появлением ливонского рыцаря или конкистадора вроде Лопе де Агирре («Агирре Гнев Божий»). Так примерно и воспринимали его современники. С одной стороны, «барон стоял на грани почти гениальности и безумия. Он принадлежал к величайшим идеалистам и мечтателям всех времен». Но «если бы море внезапно отхлынуло, на месте его черных глубин люди увидели бы страшных, фантастических чудовищ; так из-под волн Гражданской войны вынырнули какие-то палеонтологические типы, до того скрытые в недрах жизни…»[131]
Роман Унгерн – это словно материализовавшееся видение Вл. Соловьева и Блока, герой Карлейля, Леонтьева, Ницше – «человекобог» по ту сторону добра и зла, витальный герой с безумной энергией, превосходящей человеческие возможности, усердный читатель Библии, в особенности Апокалипсиса, поклонник Данте, Достоевского, Леонардо да Винчи, прочитавший множество философских и теософских книг, однако, глубоко презиравший всякую «литературу» и «интеллигенцию», аскет, совершенно равнодушный к внешним условиям, мистик, окружавший себя прорицателями и гадалками, фаталист с его amor fati, человек, чья сомнамбулическая храбрость сочеталась со столь же невероятной жестокостью, фанатичный монархист, женоненавистник и юдофоб, «Бич Божий», огнем и мечом искоренявший пороки «падшего человечества».
В его мировоззрении перемешались идеи, на первый взгляд кажущиеся несоединимыми. Но таковой была эпоха и география – Дальний Восток времен Гражданской войны, где расцвело своего рода «мистическое евразийство», в котором смешалось многое: панмонголизм Соловьева и ненависть к «срединному европейцу» Леонтьева, «грядущие гунны» Брюсова и «скифство» Блока и Иванова-Разумника, Заратустра Ницше и евангельское «Свет с Востока», мифы об Агартхе и Шамбале, пророчества Нострадамуса и предсказания Шпенглера, идеи Блаватской, Рериха и Гурджиева, «протоколы сионских мудрецов» и монгольская легенда о грядущем спасителе монголов «бароне Иване». Все это скрыто или явно пересеклось в харизме барона Унгерна, если и не в реальном человеке, то в том, кем он желал бы сам себя видеть.
Как описать барона Унгерна? В нем все запутано: «самодержцу пустыни» не было никакого дела до дефиниций разгоряченной революцией московско-петербургской богемы. Унгерн – несомненный «скиф» (абсолютный максималист), но одновременно и «монголист» – поклонник традиционного и неизменного Востока. Он один из инициаторов «мирового пожара», только с противоположным знаком, пожара, в котором должны сгореть европейские революции вместе с породившей их Европой и быть восстановлено традиционное общество, сохранившееся лишь на Востоке.
Вторая половина девятнадцатого века, начиная с Ницше, породила позднее широко распространившийся тип интеллектуального маргинала, совершающего не социальное, а метафизическое «восстание против современного мира», против гуманизма, демократии, плутократии, прогресса, «сентиментального добра», восхваляющего витальность, мужество, волю, риск, архаику, войну, зло, смерть… Этот тип был представлен многими выдающимися людьми – рыцарями грядущего «нового средневековья», которое, однако, в двадцатом веке так и не наступило. В большинстве своем они были не столь страшны, как им хотелось бы себя представить, тем более, что реальность предоставляла мало шансов для реализации инфернальных и героических качеств, так что чаще всего их позиция сводилась к интеллектуальной мастурбации, к маске, размахивающей картонным мечом, театрализованному эпатажу, который никого не пугал. Меч же Унгерна был настоящим, более того, барон был абсолютно серьезен, сомнамбулически серьезен, и как свидетельствуют очевидцы, в нем не было ни малейшего привкуса театральности, игры, маскарада, он совершенно не заботился о производимом им впечатлении. Об этом говорит и Ф. Оссендовский – польский путешественник, литератор и журналист, автор в свое время нашумевшей на Западе книги «Звери, люди, боги», где, в частности, дан яркий, хотя и романтизированный портрет Романа Унгерн-Штернберга. В беседах с Оссендовским, происходивших в Урге и ее окрестностях, в монгольской пустыне, барон поразил собеседника своими познаниями – он цитировал «Св. Писание, буддийские книги, научные теории, художественные произведения… сопоставляя научные теории Европы и религиозные воззрения ламаистов. Речь его перескакивала то с русского на французский, то с немецкого на английский язык».[132] Катастрофические события того времени барон воспринимал как предвестие Армаггедона – последней битвы сил света с силами тьмы: «В буддийских и древних христианских книгах говорится о времени, когда вспыхнет война между добрыми и злыми духами… Мир будет побежден «проклятием», которое уничтожит культуру, мораль и сделает невозможным человеческое существование… Оружие этого проклятия – революция!.. Но вот пришло это «проклятие», предсказанное Христом, апостолом Иоанном, Буддой, первыми христианскими мучениками и предвиденное Данте, Леонардо да Винчи, Гете и Достоевским… Великий дух мира поставил у порога нашей жизни Карму, которая не знает ни злобы, ни милости…
Расчет будет произведен сполна и результатом будет голод, разрушение и гибель культуры, славы, чести и духа… среди бесчисленных страданий… Я вижу эти ужасные кошмары и развалы человеческого общества…»[133]
От апокалиптических монологов Унгерна веет характерным для начала века теософским смешением всего и вся: в лютеранине по воспитанию (он не был перекрещен в православие) и буддисте по убеждению («всю свою жизнь я посвятил войне и изучению буддизма» – еще одно сочетание несочетаемого, о котором он заявил Оссендовскому) переплетается эсхатология Апокалипсиса с «неумолимым духом Кармы», кальвинистское предопределение с чисто восточным фатализмом. Как пишет биограф барона, вопрос о его конфессиональной принадлежности лишен смысла: «От других религий буддизм отличается исключительной веротерпимостью, и, как замечает один из его исследователей, “истинный буддист легко может быть одновременно лютеранином, методистом, пресветерианцем, кальвинистом, синтоистом, может исповедовать католицизм или даосизм, являться последователем Магомета или Моисея…”» «В жизни он придерживался старого принципа: Бог один, веры разные. В Азиатской дивизии заведен был ежевечерний ритуал: на заходе солнца выстраивались все сотни, сформированные по национальному признаку, и каждая хором читала свои молитвы. По словам очевидца, это было “прекрасное и величественное зрелище”».[134]
Собственное мировоззрение Унгерна несложно – его можно назвать «панмонархизмом» и «паназиатизмом». Интернационалу Ленина и Троцкого и «интернационалу» либеральной демократии, он хотел противопоставить своеобразный «монархический интернационал» – идею реставрации монархий от Владивостока до Атлантики, в которой главенствующая роль принадлежала бы «неиспорченной» желтой расе. Об этом свидетельствует и эмблема китайского дивизиона его Азиатской дивизии – «фантастическое соединение дракона с двуглавым орлом, символизирующим единство судеб двух рухнувших великих империй». При этом падение монархии и революция в России вызвали у барона разочарование в жизнеспособности своего отечества, его нельзя назвать убежденным русским патриотом, как большинство вождей белого движения. «В России… крестьянство неграмотно, дико, грубо и потому ненавидит всех и все, не умея дать себе отчета, за что именно, – говорил он Оссендовскому. – Русская интеллигенция отдала всю свою душу мнимым идеалам, не имеющим никаких шансов на осуществление. Русские интеллигенты обладают способностью к критике, но не к творчеству… У них нет никакой воли и они только говорят, говорят, говорят… Их любовь, их чувства – одно воображение…»[135] Но желая видеть себя реставратором традиции, Унгерн был не в меньшей степени разрушителем, возмездием, идущим по стопам Аттилы и Чингисхана и оставлявшим после себя сплошное пепелище. Огнем и мечом «безумный барон» пытался искоренить все пороки современного мира: падение нравов, проституцию, спекуляцию, пьянство, – прелюбодеяние в его дивизии жестоко каралось, проститутки и их клиенты нещадно преследовались. Современники, отмечая оккультные наклонности Унгерна, его аскетизм, полное равнодушие к условиям быта и своему внешнему облику, единодушно говорят не только об отсутствии у него всякого интереса к женщинам, но и об откровенном женоненавистничестве. Его отрицательные высказывания о прекрасном поле многочисленны: «барон почти не знал женщин… Как аристократ, в женском обществе он бывал любезен, держал себя по-светски, но “при внешних рыцарственных манерах” к представительницам слабого пола относился с несомненной и глубокой неприязнью».[136] Как и юдофобия, это существенный элемент его взглядов, как, впрочем, и всех мировоззрений подобного типа. Это напоминает не столько воззрения Ницше или Вейнингера, за женоненавистничеством которых скрывался тайный страх перед женщиной как бесконечно меняющемся и непостоянным существом (хотя, видимо, у Унгерна это тоже присутствовало), сколько идеи Николая Федорова, видевшем в женщине новый языческий идол капиталистической цивилизации. (Ненависть Унгерна к буржуа, торговле, спекуляции и роскоши привела к тому, что после взятия Урги на некоторое время была ликвидирована любая «спекуляция» и «торговля», и тем самым на время осуществлена предсмертная мечта Константина Леонтьева – феодально-монархический социализм). Федоров же не без некоторого основания считал, что капиталистическая индустрия порождена отнюдь не протестантской этикой, а извращенным эросом, жаждой обладания, «машиной желания».[137] Обычное представление о западной цивилизации как цивилизации фаллократической, когда роль женщины предельно амбивалентна – она то языческий идол, символ славы и успеха, объект поклонения, то кукла, рабыня, гетера, объект манипуляций, – здесь переворачивается. «Неприятие современной европейской цивилизации Унгерн мог перенести на свое отношение к женщине, – пишет биограф барона. – Она казалась ему олицетворением продажности и лицемерия, позлащенным кумиром, который Запад в гибельном ослеплении вознес на пьедестал, свергнув оттуда воина и героя. В традиционной антиномии Восток – Запад не первый, как обычно, а последний ассоциировался у него с женским началом, породившим химеру революции как апокалиптический вариант плотского соблазна. Победитель дракона, рыцарь и подвижник должен был, следовательно, явиться на противоположном конце Евразии». Поэтому неудивительно, что время от времени по приказу барона «начинались гонения на проституток, когда жен солдат и офицеров Азиатской дивизии секли за разврат, за супружескую неверность или даже, как рассказывали, за сплетни».[138]
Он был жесток, как может быть жесток только аскет, – это мнение одного из современников барона характерно. Рыцарски-аскетическая жестокость Унгерна вписывалась в атмосферу чисто «восточной жестокости», где, в отличие от европейского гуманизма, личность не является безусловной ценностью. Личность – нереальна, иллюзорна, это цепь бесконечных инкарнаций, и ценность ее очередного земного воплощения весьма относительна. Поэтому незначительный, на первый взгляд, проступок, нарушающий божественное установление, может караться чудовищно, совершенно шокирующим европейца образом…
Монгольская эпопея барона Унгерна длилась не многим более года. В мае 1920 года вместе со своей Азиатской дивизией, насчитывавшей менее тысячи всадников, он уходит от атамана Семенова и в октябре пересекает монгольскую границу. Многим уже тогда этот поход барона представлялся полнейшим безумием. Белое дело было безнадежно проиграно, но для генерал-лейтенанта в монгольском халате с погонами это не имело значения. Слова Апокалипсиса – «Будь верен до смерти» – имели для него абсолютный, сакральный смысл: человек не является целью сам по себе, он должен принести себя в жертву тому, что выше его… Через несколько недель Азиатская дивизия внезапно появляется под стенами Урги, с 1919 года занятой китайско-республиканской армией, которая отрешила от власти Бог-до-гэгэна – духовного и светского владыку Монголии. Осада Урги поначалу не имела успеха, так как китайский гарнизон почти в десять раз (!) превышал численность дивизии Унгерна. Но в конце января 1921 года с помощью отборной тибетской сотни (как говорили, присланной Унгерну самим Далай-ламой XIII) было осуществлено дерзкое похищение ламаистского первосвященника, которого сторожила в его дворце едва ли не тысяча солдат; моральный перевес перешел на сторону осаждавших, монголы видели в Унгерне мессию, освобождающего их от китайского владычества. В первых числах февраля Урга была взята после кровопролитного штурма, многотысячный китайский гарнизон был разбит и выброшен из монгольской столицы. Как у Чингис-хана, город был отдан на разграбление, а в конце февраля был восстановлен на троне Богдо-гэгэн. Монголия ликовала… Затем последовал разгром еще двух крупных армий китайских республиканцев (барон не уставал подчеркивать, что воюет не против древнего народа, а против «гаминов» – китайских революционеров), и Монголия почти полностью оказалась под контролем Азиатской дивизии. Причем барон, постоянно возглавлявший атаки, выходил из всех сражений целым и невредимым, словно его мистическая харизма предохраняла его от, казалось бы, неминуемой гибели. Как на монголов, так и на китайцев, это производило ошеломляющее впечатление.[139]
Итак, теократия в Монголии была восстановлена, теперь на очереди было восстановление династии Романовых и Циней в России и «Срединном Царстве». «За последние годы оставалось во всем мире условно два царя, в Англии и Японии, – говорит Унгерн в письмах этого времени. – Теперь небо как будто смилостивилось над грешными людьми, и опять возродились цари в Греции, Болгарии и Венгрии, и третьего февраля 1921 года восстановлен Его Святейшество Богдо-хан… Я знаю, что лишь восстановление царей спасет испорченное Западом человечество. Как земля не может быть без Неба, так и государства не могут жить без царей». И далее, в другом письме: «Лично мне ничего не надо. Я рад умереть за восстановление монархии хотя бы и не своего государства, а другого».[140]
В этот момент Унгерн находился на вершине славы, однако его конец был предрешен, как и неудача похода в Россию, начавшегося в мае 1921 года с отрядом всего в три тысячи всадников…[141] Абсолютный фаталист, он и сам предчувствовал это. Оссендовский передает еще один полубезумный монолог Унгерна перед началом похода, после предсказания гадалки о его смерти через 122 дня: «Умру… Я умру… Но это ничего!.. Ничего!.. Дело уже начато и не умрет. Я знаю пути, по которым пойдет оно. Племена потомков Чингис-хана проснулись. Ничто не потушит огня, вспыхнувшего в сердцах монголов. В Азии образуется громадное государство от Тихого океана и Индийского до Волги!» [142]
За фантастической геополитикой с демоническим привкусом и, несомненно, «фашистским дискурсом» в личности Унгерна чувствуется что-то другое – болезненно-нездешнее, сомнамбулическое, трансцендентное. Его фанатическая устремленность к Иному порождала неизбежное сверхчеловеческое презрение к земному, обыденному, человеческому, его безумную и бессмысленную жестокость. Безусловно, он чувствовал наличие окон, «трещин в мировой стене» (Р. Тенон) и мучительно искал их. Человек рождается, получает образование, достигает зрелости, но все больше и больше ощущает, что нечто существенное, глубинное в нем нераскрыто: его дух дремлет, и сам он полумертвец, марионетка, похожий на тысячи окружающих его мертвецов. («Человек во сне рождается, во сне живет и во сне умирает,» – неустанно повторял Гюрджиев, чья мрачная тень незримо витает вокруг одиссеи Унгерна.) «Труднее всего попасть в свое собственное инобытие», – неизвестно, действительно ли эти слова принадлежат «самодержцу пустыни», но, так или иначе, они сливаются с мифом его жизни… Когда летом 1921 года измотанная в боях с многократно превышающими ее силами красных Азиатская дивизия отступает назад, в Монголию, у барона возникает еще один невероятный и, видимо, давно вынашиваемый план: двинуться в тысячеверстный переход через абсолютно непроходимую летом пустыню Гоби в «сердце Азии» – Тибет, в Агартху и Шамбалу – прародину великой арийской цивилизации, существовавшей несколько тысячелетий назад… Этот неосуществленный замысел имел и вполне конкретное объяснение: барон, уже сознавая безнадежность собственных устремлений, хотел попасть в Тибет и поступить на службу к Далай-ламе XIII… Он был одержим идеей жертвенного служения высшему, и с жестокостью одержимого принуждал служить ей всех встречавшихся ему на пути (о «жертвенном служении» как основном принципе организации евразийского идеократического государства будут много писать евразийцы в эмиграции[143]). В этом смысле Унгерн в чистом виде «онтологический герой», осуществивший мечту «скифствующих символистов» и сплавивший «жизнь и творчество воедино»… Но, в отличие от многих поэтов и философов, путь барона Романа Унгерн-Штернберга был не путем брахмана, а путем кшатрия, воина, а этот путь неизбежно омывается реками крови…
Евразийский эпилог: мировое сиротство и «заблудившаяся соборность»
Начало монгольской эпопеи Унгерна осенью 1920 года совпало с появлением в далекой Софии книги никому не известного тогда языковеда Н. С. Трубецкого «Европа и человечество»; когда звезда барона уже клонилась к закату, там же появился сборник статей П. Н. Савицкого, П. П. Сувчинского, Н. С. Трубецкого и Г. В. Флоровского с тройным названием: «Исход к Востоку: предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев», положивший начало евразийскому движению в эмиграции… Это был уже новый этап: под сложными, мучительными отношениями России со своим «европейским двойником», со своим Другим в лице Европы, катастрофа 1917 года подвела итоговую черту. Если в начале века попытки самопознания через свое восточное Другое, через азиатского двойника, попытки найти иной эстетический и философский дискурс были все же вполне маргинальны, то евразийцы стремились полностью изменить ориентации культуры и превратить стихийные интуиции поэтов и художников в основную доминанту…
Сверхзадача евразийства необыкновенно заманчива и амбициозна: это желание совершить «коперниканский переворот» в геополитике, историософии, географии, перекроить привычные границы континентов, соединить казавшееся несоединимым, сместить положение «мировых центров» и создать модель нового континента, которому суждено будет играть главную роль в грядущей истории. Иными словами, это был замысел некой «космической трансмутации», призванной изменить облик земного шара, так что в этом отношении евразийцы вполне могут быть записаны по ведомству «русского космизма». Одновременно в евразийстве изначально звучит идея великой империи, идея универсальной синтетической культуры, столь дорогая сердцу Достоевского и Вл. Соловьева…
Но культура прочна на Западе, в России – катастрофична. В эмиграции русская тоска по мировой (а точнее, опять-таки, по европейской) культуре сменяется глубоким разочарованием в ней. Роман с Западом заканчивается чувством обмана, горечи, обиды. Но отношение к Западу за прошедшие два столетия было не столько отношением к Другому, Двойнику, сколько – к Отцу-просветителю, Наставнику, чьи поучения оказались ложными. Ощущение «мирового сиротства» фундаментально для русской традиции – из него возникало многое; из этого состояния возникает и евразийство, тем более, что эмиграция – это сиротство вдвойне. Евразийское движение неизбежно рождается в эмиграции как отталкивание, протест, бунт против обманувшего Отца…
Вместе с тем это поиск новой, иной родословной, попытка освобождения от чувства сиротства, возвращение к «праматери Азии», поиск укрытия, материнского чрева… Именно это более всего и возмутило в «самобытном» евразийстве Ивана Ильина, язвительно писавшего: «Весь вопрос о самобытной духовной культуре сводится к тому, куда именно всем шарахнуться: вот двести лет (якобы) шарахались на запад, ясно, что вышел провал, значит, надо шарахнуться на восток… В человеческой жизни так обстоит всегда и во всем: спасение всегда состоит в том, чтобы удариться в другую противоположность. Переголодал – значит, теперь объедайся; кутался – значит, теперь ходи голым; страдал манией преследования – спеши развить в себе манию грандиозу…» Вопрос о духовной самобытности евразийства, говорит он, по существу, есть вопрос «географического и этнографического припадания». «Но почему же нельзя без припадания? Разве самобытность не в том, чтобы быть перед лицом Божиим самим собою, а не чужим отображением и искажением? Ни восток, ни запад, ни север, ни юг… Вглубь надо; в себя надо; к Богу надо… Почему же именно в Азию, почему на восток?»[144]
Здесь Иван Ильин, философ императивно-волевого начала, склонный к нормативному морализаторству, чьи тексты часто напоминают приказы и постановления, как это ни странно, попадает в «десятку». Диагноз поставлен точно – и не только для евразийства. Здесь приоткрывается тайна если не «русской традиции», то, по крайней мере, ее «самосознания» – интеллигенции; загадка ее непонятного сиротства, какой-то онтологической недостаточности, тайна ее постоянного «припадания» и пленения (при столь же постоянных разговорах о «самобытности»). Тут вновь вспоминается леонтьевское – «русский ужас перед всякой умственной независимостью»… Что это? Где корни этого пленения, навязчиво повторяющегося в различных формах из века в век?.. Существует множество объяснений и ответов…
Тема сиротства принципиальна для русской культуры – из этого состояния возникает и евразийское движение.[145]
Русское сиротство, звучащее у Гоголя, Достоевского, Федорова, Андрея Белого, Платонова, – это отчаяние извергнутого, потерянного человека. Слово «изверг» этимологически обозначает человека, взявшего индивидуальный земельный надел, то есть одиночку, «извергнутого общиной». Тема извергнутости, отщепенства интеллигенции со времен «Вех» стала общим местом. Интеллектуал – это всегда «изверг» именно в первоначальном значении этого слова.
В этом и смысл евразийского обозначения интеллектуала как «подданного идеи». «Подданство идеи» (П. Н. Савицкий) означает для беспочвенного и извергнутого сознания некую сублимацию сиротства, преодоление одиночества. Это понятие, пожалуй, лучше всего выражает архетип интеллигенции вообще – архетип, каждый раз наполняющийся новым содержанием.
Отвергая прежние идолы интеллигенции – свободу, прогресс, народ, класс, человечество, – евразийцы ставят на их место понятие «особого мира» – Евразии, точнее, идею Евразии (включающую в себя сильную государственность, церковность, иерархичность, автаркическое месторазвитие, этику жертвенного служения). Но далее и следует самое интересное: во имя поклонения идее Евразии утонченные и европейски образованные приват-доценты и профессора – философы, языковеды, историки – начинают «соскребать с себя европейцев», чтобы под слоем многовековых напластований обнаружить «туранцев». Отталкиваясь от западного индивидуализма, либерализма, плутократии, эти разочарованные европейцы с академической тщательностью преобразовывают все прежние «пороки» русской ментальности в «добродетели», меняют минусы на плюсы. Получается любопытная картина: все то, что обличалось критиками «азиатчины» и «восточного уклона» – от Чаадаева до Вл. Соловьева и Горького, – под пером Савицкого, Сувчинского, Трубецкого, Карсавина приобретает черты неоспоримых достоинств. Так, сакраментальная «азиатчина» превращается в солидное евразийство, «восточный фатализм» и сопутствующие «рабство» и «покорность» – в мудрое смирение; лень и пассивность – в бескорыстную созерцательность; за отсутствием аналитической рефлексии обнаруживается способность к целостному видению; за бытовой и культурной неустроенностью – презрение к относительному и религиозная устремленность к абсолютному; за внеисторичностью и неподвижностью – здоровую устойчивость и консерватизм, победу пространства над дурной бесконечностью исторического процесса; за тоталитаризмом и деспотизмом – сакральное отношение к власти, отвергающее рыночно-демократические идолы лжесвободы, и т. д.
В этом переворачивании, в культурологической деконструкции односторонних и предвзятых либерально-европоцентристских оценок и клише в самых различных областях знания, пожалуй, главная заслуга евразийского движения… Однако, претендуя на новый сиитез, евразийство было, как нетрудно заметить, лишь антитезисом[146]предшествующей традиции, столь же неполным и односторонним метанием от одного полюса к другому. И в результате вместо «синтетического учения» – все те же грандиозные руины и развалины… Российская катастрофа и прозаическая реальность послевоенной Европы настолько оттолкнули евразийцев от всякого индивидуализма и либерализма, что человек как таковой полностью растворяется и исчезает в их геополитических и историософских конструкциях. Поразительно, что у провозвестников «исхода к Востоку», писавших, кажется, на любые темы, совершенно нет антропологии (за исключением, пожалуй, Льва Карсавина),[147] и вместо провозглашенного «евразийства» в итоге получается чисто восточный монизм и антиперсонализм. Сюжет повторяется: человек не выдерживает катастрофического напряжения истории и, сбрасывая с себя непосильное бремя ответственности, стремится раствориться в евразийском «континент-океане», в планетарном потоке геоисторической эволюции.
Безусловно, православие впитало в себя язычество в несравнимо большей степени, чем западная церковь, поэтому природные стихии, энергии земли, воды, огня всегда были столь властны над русскими равнинами. Отчасти где-то здесь лежат причины постоянного пантеистического уклона в русской мысли, тенденции к растворению и развоплощению личности – уклона, бесспорно, восточного, азиатского. И здесь нетрудно обнаружить то, что о. Г. Флоровский точно назвал «заблудившейся жаждой соборности»…
Существует высокий идеал, но его воплощение в хаосе мирской жизни слишком мучительно и трудно, ибо в предельно поляризованной культуре нет промежуточных ступеней, нет уровней и связей, соединяющих «верх» и «низ», головокружительную высоту и кошмар неустроенной повседневности. И презрение к относительному, промежуточному, гуманистическому жестоко мстит как в истории, так и в обыденности. Возникает порочный круг: тот же человек здесь не выносит лжи, грязи, унижения, бесчеловечности самим же собой созданной жизни и бежит, уходит от мира «во зле лежащего» в инобытие абсолютных ценностей, отрицая историю и культуру. Но все, что «вверху», то и «внизу»… Русское пьянство, бандитизм, жестокость столь же космичны, как и русская философия, как космичны государственность, бюрократия, неуважение к Другому…
Евразийцы были убеждены, что «духи революции» овладели Россией из-за двухвековой ложной ориентации государственности и культуры. Крушение Империи и эмиграция помогли им освободиться от плена европейского просвещения и взглянуть на мир другими глазами. Но цена была слишком высока… Почему-то русский человек всегда живет иным, другим, дальним: в России боготворит Европу, в Европе открывает Азию или, наконец, оценивает собственное отечество.
Любовь к дальнему и неизбывная «всечеловечность» вновь сыграли с русской интеллигенцией злую шутку: освобождение от одной формы пленения в конце концов привело к другой – к пленению собственными идеократическими конструкциями; вечная болезнь интеллектуалов – идеомания – привела к невероятной идеологизации многих точных идей и интуиций, к грехопадению в политику, к сомнительным играм с ГПУ-НКВД, к разложению и крушению евразийского движения…
Сироты-отцеубийцы, или «Рожденные от идеи». Постскриптум к «Трагедии интеллигенции»
Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уже не от живых отцов, и это нам все более и более нравится. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи…
Ф. М. Достоевский, «Записки из подполья»Если в XIX веке русская интеллигенция стремилась к свободе, то в XX столетии она стремится не только к свободе, но и к власти. Но, как и тогда, так и теперь, каждый раз терпит поражение. На расчищенное ею пространство для торжества «справедливости», «законности», «благоденствия» или «творчества» каждый раз почему-то приходят бесы, варвары или бандиты и одним пинком отправляют интеллигенцию на свалку. Не история, а какое-то сплошное недоразумение…
После катастрофы, на пепелище, всегда подводят итоги. Вслед за крушением 17 года русской интеллигенции пришлось подводить итоги в изгнании. В то время начало века выглядело совсем не грандиозным ренессансным собором, каким оно кажется теперь из исторического далека, – тогда это были дымящиеся руины…
Георгий Федотов, изображая «трагедию интеллигенции», в 1926 году писал, что «столетие самосознания русской интеллигенции является ее непрерывным саморазрушением. Никогда злоба врагов не могла нанести интеллигенции таких глубоких ран, какие она наносила сама себе в вечной жажде самосожжения».[148] Но самый суровый диагноз был поставлен в «Путях русского богословия» «разочарованным евразийцем» о. Георгием Флоровским – он назвал эту болезнь «мистическим непостоянством» или «исторической безответственностью»: «Слишком привыкли русские люди праздно томиться на роковых перекрестках, у перепутных крестов. “Ни Зверя скипетр нести не смея, ни иго легкое Христа…” И есть в русской душе даже какая-то особенная страсть и притяжение к таким перепутьям и перекресткам. Нет решимости сделать выбор. Нет воли принять ответственность. Есть что-то артистическое в русской душе, слишком много игры… В истории русской мысли с особенной резкостью сказывается эта безответственность народного духа. И в ней завязка русской трагедии культуры… Это христианская трагедия, не эллинская античная. Трагедия вольного греха, трагедия ослепшей свободы… Это трагедия двоящейся любви, трагедия мистической неверности и непостоянства. Это трагедия духовного рабства и одержимости… Потому разряжается она в страшном и неистовом приступе красного безумства, богоборчества, богоотступничества и отпадения…»[149]
Сегодня, несколько десятков лет спустя, можно утверждать еще с большим основанием, что история русского самосознания par exellence – это история пленения (и вместе с тем, история сопротивления этому пленению).
В нашем столетии (не только в России, конечно) настойчиво повторяется один и тот же сюжет, демонстрирующий глубоко иррациональную тайну истории: идеомания интеллектуалов, «власть идей», навязчивая и неизбывная вера (на другом полюсе порождающая идеофобию и обскурантизм), что с помощью внедрения в реальность метафизических и социальных схем, доктрин, учений можно разрушить старую (ложную) историю, и создать новую (истинную), «оседлать тигра» и наконец-таки овладеть и покорить Клио. Первая, разрушительная часть удается: не выдерживая агрессивного напора «ноосферы», жизнь рушится, и кажется, что впереди – победа, а Клио вновь ускользает, растоптав и похоронив идеологов, идеософов и идеократов. Гегель называл это иронией истории, но, к сожалению, не объяснил, почему так происходит…
В свое время Виктор Шкловский не без некоторого цинизма в стиле двадцатых годов сразу же после революции провел злую аналогию – он назвал русскую интеллигенцию пробниками: «У русской литературы плохая традиция. Русская литература посвящена описанию любовных неудач. Во французском романе герой – он же обладатель. Наша литература, с точки зрения мужчины, – сплошная жалобная книга…» Во время случки лошадей, перед тем как отдать кобылу жеребцу-производителю к ней сначала подпускают малорослого жеребца «для легкого флирта», но в последний момент оттаскивают… Этого жеребца зовут пробником. «Ремесло пробника тяжелое, – и говорят, что иногда оно кончается сумасшествием и самоубийством. Оно – судьба русской интеллигенции. Герой русского романа – пробник. Я хотел назвать какого-нибудь определенного героя. Но не могу, это кажется оскорблением. В революции мы сыграли роль пробников. Русская эмиграция – это организация политических пробников, лишенных классового самосознания»,[150] – так завершает свой пассаж Шкловский и из эмиграции возвращается в Россию, от «пробников» к «победителям». Но, как известно, и это была пиррова победа. Интеллектуалы-победители – от Маяковского и Мейерхольда до Троцкого и Бухарина – либо погибли, либо снова оказались в подполье, на обочине истории.
Странным образом этот же сюжет повторился во время революции (или контрреволюции) 1986–1993 гг., когда диссиденты и либеральная интеллигенция, подготовившие и совершившие ее, оказались оттесненными на периферию воцарившейся плутократией и бандократией. Иррациональные стихии распыления и развоплощения, «подсознания истории» каждый раз роковым образом оказываются сильнее ее «самосознания» и, как семьдесят лет назад, разбивают в пух и прах все претензии интеллектуалов на власть и обладание. Но самое удивительное в том, что интеллигенция по-прежнему не чувствует своей ответственности, вины и неизбежной расплаты за происходящее. Как тогда, так и сегодня, «самосознанию» ничего не остается как жаловаться и давать советы, которые остаются гласом вопиющего в пустыне: «Бедная Россия! Весною, как и зимою, ей всегда суждено быть жертвой бессмысленной стихии и терять свой путь. Зимою беспутица, а весною – распутица! Ей нет спасения, пока не будет прорван этот заколдованный круг! – восклицал князь Е. Н. Трубецкой в 1908 году. – Власть стихийного начала в нашей общественной жизни обусловливается слабостью развития у нас личности. Безумие нашей революции, как и безумие нашей реакции, обусловливается, главным образом, одной обшей причиной – тем, что у нас личность еще недостаточно выделилась из бесформенной народной массы… От этого зла есть только одно спасение – развитие сознательной личности».[151] Иногда кажется, что с тех пор почти ничего не изменилось – нет ни «сознательной личности», ни гражданского общества, ни партий, ни крепких структур, все те же «стихии», зимою – беспутица, а весною – распутица…
Евразийцы попытались выйти из заколдованного круга и соединить несоединимое. Россия – это не Европа и не Азия, в своем идеальном проекте евразийский континент – это мост (и одновременно синтез) между Востоком и Западом… Но, увы, в действительности это бесконечное пространство было и остается полем столкновения энергий Европы и Азии, образующее гигантские завихрения, воронки, впадины, куда время от времени проваливаются история, культура, цивилизация, и все нужно начинать сначала. Синтез не удается, и благозвучная «Евразия» все время грозит превратиться в неприличную «Азиопу».
И все имперские тенденции российской государственности проистекают не только из «похоти власти» (Г. Федотов), но оказываются вынужденными попытками скрепить распадающееся пространство, в котором центробежные силы раздирают ткань империи, и на пепелище – вновь обломки и руины «трагического империализма». Поэтому почти каждое последующее поколение отрицает предыдущее, совершая реальное или символическое «отцеубийство», ибо «отцам история не удалась». Отсюда и «детскость» – пресловутый русский инфантилизм с его беспамятством, нежеланием взрослеть и неуютным чувством сиротства, изобличаемый, начиная с Чаадаева, уже полтораста лет. Но точнее было бы сказать – не нежелание, а роковая невозможность взрослеть, хотя этнос по возрасту уже более чем зрел, но как возможно реальное достижение зрелости в рамках одного поколения?.. «Сирота-отцеубийца», начинающий историю с нуля, неизбежно юн и незрел, а потому открыт и всеотзывчив; все-человечность Достоевского – изнанка, вернее, прямое следствие трагического инфантилизма, вечно пытающегося освободиться от агрессивного патернализма «промотавшихся отцов». Стремление освободиться от своего приводит к поискам чужого. Так начинается странствие, странничество, скитальчество, так или иначе оборачивающееся пленением. И от него будет освобождаться уже следующее поколение «сирот-отцеубийц», в лучшем случае отправляющее отцов на пенсию, в худшем – сбрасывающее памятники и устраивающее пляску на гробах…
В наши дни, во времена очередного катастрофического разрыва национальной традиции, свержения старых идолов и водворения новых, жизнь опять начинается сначала – какой раз за столетие! – «ложная история» уничтожается и начинается «истинная». Но вопреки «смерти идей» и размягчающей ситуации постмодерна, которую после многочисленных идейных опьянений двадцатого века можно назвать «похмельем истории», все повторяется в самых гротескных формах.
Казалось бы, постмодерн с его «герменевтикой подозрения» больше не верит в идеи, не воспринимает их всерьез, но у нас это почти ничего не меняет. Как прежде читались Байрон, Гегель или Ницше (даже какой-нибудь Томас Бокль), как недавно читались Хемингуэй, Ремарк, Камю и Сартр, так и сегодня прочитываются – можно взять наугад десяток самых разных имен – Хайдеггер, Деррида, Кастанеда, Гуссерль, Юнг, Гроф, Фуко, даже Хайек или Поппер, Ален де Бенуа, французские «новые правые» и германские геополитики, не говоря уже о Геноне и восточных учениях (по-прежнему, в основном поступающих в западной обработке), тем более о сектантстве и бульварном оккультизме – все эти тексты воспринимаются как сакральные. Их адепты и истолкователи выступают как «посвященные», а неофиты проходят через инициацию, приобщаясь к «тайному знанию». На другом же полюсе это неизбежно порождает яростное отстаивание самобытности, истерическую идеофобию и ксенофобию, невротическое увязание в нашем историческом «идеальном» прошлом…
Определение о. Г. Флоровского об особом пристрастии русских к перекресткам и перепутьям трудно оспорить. Что поделаешь, если Россия-Евразия – маргинальный континент, всемирный перекресток, где столкновение планетарных стихий доводит историю до апокалиптического напряжения. И евразийский «всечеловек», призванный разрешить мировые противоречия, раздирающие его в клочья, остается трагическим странником, вынужденным блуждать и скитаться всегда «между», «вне», посреди и отрицать самого себя. Ибо синтез не удается, а преждевременный выбор обедняет…
На закате первой эмиграции, в 1967 году, Георгий Адамович, поэт и критик, казалось бы, далекий от историософских спекуляций, начал свою итоговую книгу следующими словами: «После всех бесед, споров, недоумений, надежд, гаданий, обещаний, после евразийства, после русского шпенглерианства, вспыхнувшего и погасшего в берлинских и парижских кофейнях, после всех наших крушений, когда, как ни разу еще в памяти нации оставался человек один, наедине с собой, вне общества, и лишь с насмешливо-ядовитым сознанием, что вот и вне общества можно еще существовать, любить, думать, жить, – … после всего этого… главный для нас, общерусский вопрос, над личными темами, есть вопрос о Востоке и Западе, о том, с кем нам по пути и с кем придется разлучиться: Россия – страна промежуточная. И конечно, это вопрос, будучи главным везде и всегда, остается главным и в литературе».[152]
Тридцать лет спустя текст Георгия Адамовича можно продолжить и сказать, что после коммунизма с его «оттепелями» и «заморозками», после либерализма и диссидентства, после структурализма, концептуализма и постмодернизма, после реформ, монетаризма и «дикого капитализма», после очередных путчей и переворотов, неизбежных крушений и очередного «конца истории» – этот вопрос по-прежнему остается открытым.
Как давно замечено, история никого никогда ничему не учит: все приходится начинать сначала, и ситуация все также напоминает русскую сказку с витязем на перепутье, томящимся у рокового камня…
1996 г.
Многоликий Янус: (нео)евразийство в России
Более двадцати лет назад впервые в Москве большим тиражом была издана книга Льва Гумилева «Древняя Русь и Великая Степь». За ней последовали многочисленные издания и переиздания работ и статей еще недавно полузапретного историка и географа.[153] На рубеже 90-х в толстых и тонких журналах появляются тексты классиков евразийства, сборники и антологии, с 1992 года начинает выходить журнал «Элементы. Евразийское обозрение». Именно с этого времени можно вести отсчет возрождения евразийских идей сначала на советском, а затем и постсоветском пространстве, которые вызвали большой резонанс и достаточно бурную полемику. Это была не только научная, но и философско-публицистическая и политическая дискуссия. Идеи создания евразийского союза в 1990-е годы постоянно обсуждались в журнальной и газетной периодике. Значительный резонанс они имели в среднеазиатских республиках бывшего Советского Союза, в первую очередь, в Казахстане, где был создан Евразийский университет имени Л. Н. Гумилева. Евразийство и неоевразийство в различных модификациях стало заметным интеллектуальным явлением на постсоветском пространстве, интерес к которому на протяжении последних пятнадцати лет то уменьшался, то возрождался вновь. В связи с резким возрастанием экономического и политического влияния стран Востока (в первую очередь, Индии и Китая), изменением геополитической ситуации, а также из-за мирового экономического кризиса, пришедшего не просто с Запада, а с Запада англосаксонского – «атлантистского»! – сегодня можно наблюдать очередной виток общественного внимания к евразийским и неоевразийским идеям, к новым проектам создания всевозможных Евразийских союзов.
Континент «Евразия»
Но прежде чем перейти к сути дела, необходимо уточнить некоторые базовые понятия: Евразия, евразийство, евразийская культура, евразийское пространство, неоевразийство.
Не подлежит никакому сомнению и является совершенно очевидным тот факт, что Российское государство, Российская империя, Советский Союз и современная Российская Федерация является евразийской державой, как в географическом, так и в геополитическом смысле, ибо лишь одна треть ее территории принадлежит Европе, а две трети – Азии. Пространство, населенное более сотней наций и народностей, где испокон веков сосуществовали вместе православие, католичество, протестантизм, ислам, буддизм, шаманизм и другие языческие культы, может называться евразийским пространством (сам термин «Евразия» был впервые введен в России в XIX веке географом В. Ламанским). В этом смысле не только государи допетровской Руси, но и русские императоры при всей их европейской ориентации являлись правителями евразийской империи, и в той или иной степени должны были учитывать восточные составляющие в своей политике.
Вопрос в том, какое философское и идеологическое содержание вкладывается в это понятие, как интерпретируются европейская и азиатская составляющие евразийского пространства. Как известно, евразийское движение возникло в русской эмиграции в 1920-е гг., его представителями были: Николай Трубецкой, Петр Савицкий, Петр Сувчинский, Георгий Флоровский, Лев Карсавин и др. Их выдающаяся роль в истории русской общественной мысли не подлежит сомнению, именно они «открыли Восток» в философском и геополитическом смысле как фундаментальную составляющую русской культуры. Их интеллектуальные заслуги очевидны:
– критика европоцентризма и односторонней, западноевропейской ориентации как правящей верхушки российской империи, так и русской культуры Петровской эпохи;
– отрицание западно-европейской цивилизации как единственно возможной базовой модели для всего человечества;
– создание концепции многополярного мира, в которой ни одной из великих цивилизаций Запада и Востока не отводится доминирующего положения.[154]
Исход к Востоку или Евразийский невроз?
Однако очень многие идеи и черты классического евразийства вызывают вопросы и недоумения. В первую очередь, сам факт возникновения евразийского движения не в метрополии, а в 1920-е годы в эмиграции. Утонченные интеллектуалы, русские по крови, получившие фундаментальное европейское образование, в результате «дикой», «азиатской» революции были выброшены в Европу, которая встретила их, как известно, без особого радушия. В результате авторы «Исхода к Востоку» испытывают двойное разочарование в ценностях Запада, которые, во-первых, будучи импортированы Петром I, раскололи страну на европеизированную элиту и оставшийся неизменным полуазиатский народ, что в результате и привело к крушению Российской империи. Во-вторых – в современной западной Европе, утратившей свои религиозные и гуманистические ценности.
Как уже говорилось, во имя поклонения идее Евразии утонченные и европейски образованные приват-доценты и профессора – философы, языковеды, историки, публицисты – начинают «соскребать с себя европейцев», чтобы под слоем многовековых напластований обнаружить «туранцев». Отталкиваясь от западного индивидуализма, либерализма, плутократии, эти разочарованные европейцы с академической тщательностью и публицистической страстностью преобразовывают все прежние «пороки» русской ментальности и истории в «добродетели», меняют все минусы на плюсы.
Получается, что сами евразийцы (а на самом деле типичные русские европейцы, воспитанные, повторяю, на европейской культуре) являются злейшими врагами сами себе. В каждом из них «ложная» европейская форма находится в неразрешимом конфликте с истинной, то есть «туранской» сущностью. Но невозможно быть самому себе врагом постоянно – он должен быть объективирован и обнаружен во вне. Враг найден. Это – Запад.
Как заметили еще первые критики евразийского учения, сам термин «евразийство» неточен. Непрятие европейской культуры настолько радикально, что приставка «евр» кажется искусственной, и учение должно было бы называться «азийством», русским «восточничеством» или как-нибудь еще.
Придется повторить, в эмиграции русская тоска по мировой (точнее, опять-таки, по европейской) культуре сменяется глубоким разочарованием в ней. «Роман с Западом» заканчивается чувством катастрофы, горечи, обиды. Отношение к Западу за прошедшие два столетия было не столько отношением к Другому, Двойнику, сколько – к Отцу-просветителю, Наставнику, чьи поучения оказались ложными. Ощущение «мирового сиротства» фундаментально для русской традиции – из него возникали многие идеи и концепции; из этого же состояния возникает и евразийство, тем более что эмиграция – это сиротство вдвойне. Евразийское движение неизбежно рождается в эмиграции как отталкивание, протест, бунт против обманувшего Отца. Вместе с тем это поиск новой, иной родословной, попытка освобождения от чувства сиротства, возвращение к «праматери Азии», как сказал бы психоаналитик, – поиск укрытия, материнского чрева…
Русская интеллигенция жестоко обманута. Победив в феврале семнадцатого, в силу известных договоренностей с Антантой, она должна была стоять за «войну до победного конца», что и привело к большевистской катастрофе. Белое движение предано Антантой, которая к тому же совершенно по-хамски обошлась с эвакуированной армией, да и эмиграцией в целом. Россия стала жертвой, принесенной на заклание ради благополучия романского и англосаксонского Запада.
И евразийство выглядело бы вполне естественно, если бы оно возникло перед или во время революции где-нибудь в Москве, Казани или Киеве. «Скифство» Иванова-Разумника, Белого и Блока было тоже порождением катастрофы, но Москва или даже Петроград стали органичной почвой для его обитания. Но евразийство в эмигрантском Париже, Софии, Праге? Издательства, книги, журналы, по каким-то непонятным причинам финансируемые щедрым английским меценатом… Это уже не что иное, как реакция на катастрофу, крушение, травму, – перед нами, если угодно, евразийский невроз. За антиперсонализмом и этатизмом скрывается экзистенциальная драма, мучительная проблема самоидентификации, которая на поверхности сублимируется в форме своеобразного евразийского мессианизма. Это и шок, и травма, и игра в экзотику, и эпатаж: мы все в своих европейских костюмах, сюртуках и смокингах, пасынки Петербургской империи, – на самом деле: азиаты, полумонголы, скифы, туранцы, наследники Золотой Орды и великой империи Чингисхана! В этом было и своеобразное эстетство (особенно у Сувчинского, Карсавина и Святополка-Мирского) – аристократическое отвращение к стадной демократии, восстанию масс, власти золотого тельца в духе Леонтьева, Ницше и консервативных революционеров. Все вместе выглядело как интеллектуальная провокация, откровенный вызов как Европе, так и антибольшевистскому эмигрантскому истеблишменту.
Поэтому даже многие разумные идеи евразийцев изначально воспринимались не без недоумения или иронии, тем более что в личном плане большинство из них, вопреки обнаруженной в себе «азиатской» сущности, продолжали заниматься не столько «туранскими» изысканиями, сколько своим профессиональным делом – а все они были исключительно талантливы! Н. Трубецкой – лингвистикой и языкознанием, Л. Карсавин – богословием и философией, П. Сувчинский – теорией и историей музыки, Г. Флоровский – патристикой и богословием, а некоторое время близкий к евразийцам Д. Святополк-Мирский, соредактор журнала «Версты», – литературной критикой и своей замечательной «Историей русской литературы», вышедшей в 1926-27 гг. на английском языке. Пожалуй, лишь Петр Савицкий целиком и полностью отдавал себя евразийству.
Бурная издательская и лекционная деятельность евразийцев на фоне предсказанного Шпенглером «Заката Европы» имела несомненный резонанс в самых разных странах – от Балкан и Чехословакии до Англии и США, чем сами евразийцы немало гордились
Главная проблема, которая встает при попытках обосновать подлинное, а не мнимое единство Евразии как особого континента, это проблема исторических корней, проблема единого фундамента, общего для всех наций и народностей, населяющих евразийское пространство. И камнем преткновения становится религиозный вопрос. Несмотря на разделение Церквей, единство Европы определяется пятнадцатью столетиями христианства. При всех противоречиях и конфликтах между православными и католиками они – ветви единой Церкви. Евразийцы клянутся в своей верности православию, которое есть альфа и омега для грядущей России, однако их отношение к католичеству (см., например, сборник «Россия и латинство») настолько отрицательно, что они хотели бы видеть союзниками православия не столько западное христианство, сколько религии Востока: ислам, индуизм, буддизм. Как возможно в таком случае обоснование единства Евразии как особого целостного континента? Здесь евразийцы вынуждены идти на очевидные натяжки и выдвигать невероятные гипотезы. Так возникает совершенно фантастическое учение о потенциальном православии, которое в скрытом виде, по их мнению, присутствует и в исламе, и в других религиях Востока. В этом – один из главный изъянов евразийского учения, эти же вопросы с еще большей остротой встают и перед неоевразийцами.
Неоевразийство: импорт идей или мифологий?
Реанимация во второй половине 1980-х годов евразийского учения на первых порах опять-таки имела очевидный экзотический привкус и, несмотря на обилие публикаций и дискуссий, немногими воспринималась всерьез. Авторитет и значимость евразийским идеям в этот период придавала фигура «последнего евразийца» Льва Гумилева, чьи труды и публичные лекции, замалчиваемые в советскую эпоху, имели оглушительный успех. Однако наиболее активным пропагандистом неоевразийской идеологии стал откровенно провокативный журнал «Элементы» (главный редактор Александр Дугин), который одновременно занял пустующую нишу «новых правых» на постсоветском пространстве.
В отличие от «старых правых» – неославянофилов, монархистов или национал-коммунистов (журналы «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия» – «графоманы» в терминологии Дугина), как правило, исповедующих реставраторские идеи, «новые правые» обращены в будущее и имеют существенно иную философско-политическую ориентацию. Их сверхзадача – «третий путь», точнее – «четвертый», лежащий между коммунизмом, фашизмом и либеральным капитализмом, а интеллектуальная родословная – консервативные революционеры XIX–XX вв., начиная с Жозефа де Местра и Фридриха Ницше и заканчивая еще совершенно неизвестными тогда в России Карлом Шмиттом, Карлом Хаусхофером, Эрнстом Юнгером, Юлиусом Эволой и др.
Особое место «Элементы» уделяют пропаганде идей французского традиционалиста Рене Генона, издав его классическую работу «Кризис современного мира», а также русских евразийцев 1920-30 гг. Николая Трубецкого, Петра Савицкого и Петра Сувчинского. В редколлегию журнала входят Александр Проханов и Виктор Алкснис, в нем печатаются тексты и интервью Льва Гумилева, Евгения Головина, Эдуарда Лимонова, лидера французских «новых правых» Алена де Бенуа, Жана Парвулеско и в последних номерах примкнувшего к консервативным революционерам музыканта Сергея Курехина (характерно название его предсмертного интервью «Если вы романтик, вы – фашист»).[155]
Но основное пространство занимают сочинения главного редактора, необыкновенно плодовитого писателя, сотворившего невероятный винегрет из самых различных, подчас несовместимых идей: аристократического романтизма, антилиберализма, антиамериканизма, национал-большевизма, традиционализма, неоевразийства, неоязычества, православия (с добавлением старообрядчества), западной эзотерики и оккультизма, который, будучи подан к весьма скудному либеральному пайку постсоветской эпохи с ее нескончаемой рыночной риторикой, выглядел весьма экстравагантно и привлек некоторую часть правой интеллигенции.
В конце 1990-х гг. журнал перестанет существовать, а его издатели займутся непосредственно политической деятельностью. Этому немало способствовал идеологический вакуум, образовавшийся во второй половине 1990-х гг. в российском обществе: крушение марксизма, разочарование в либерально-рыночных ценностях и, наконец, падение интереса к русской религиозной философии создали пустоту, которую, как известно, природа не терпит. Эту нишу – доселе неведомых в России рафинированных реакционеров – и попытались занять неоевразийцы. На общем фоне патриотических движений, с их уныло-однообразной риторикой и тривиальными или же, напротив, совершенно безумными идеями, неоевразийство выгодно отличалось более или менее высоким интеллектуальным уровнем. По крайней мере, его авторы читали и пересказывали книжки на иностранных языках, которые для большинства профессиональных «патриотов» были недоступны и потому не заслуживали внимания.
Но каковы подлинные корни и истоки неоевразийства? Картина получается совершенно удивительная. Странным образом оказывается, что все, чем обогатили классическое евразийство его современные последователи, является откровенным заимствованием у Запада. Источниками их идей являются различные философские, идеологические доктрины западной мысли XX столетия – от идей немецких консервативных революционеров до франко-итальянского традиционализма и англосаксонской геополитики. Для иллюстрации придется привести длинную цитату из работы «Краткий курс. Обзор евразийской идеологии»:
«Каждое из основных положений евразийской классики получило концептуальное развитие.
Тезис кн. Н. С. Трубецкого “Запад (Европа) против человечества” дополняется германской политической философией (О. Шпенглер, В. Зомбарт, К. Шмитт, А. Мюллер ван ден Брук, Л. Фробениус, Э. Юнгер, Ф. Юнгер, Ф. Хилыпер, Э. Никит и т. д.), европейским традиционализмом (Р. Тенон, Ю. Эвола, Т. Буркхардт, Ф. Шуон, и т. д.), “новой левой” критикой западного капитализма (Ж. Батай, Ж.-П. Сартр, Г. Дебор, М. Фуко, Ж. Делез), марксистской критикой “буржуазного строя” (А. Грамши, Д. Лукач и т. д.), европейскими “новыми правыми” (А. де Бенуа, Р. Стойкерс и т. д.). Критика западного буржуазного общества с “левых” (социальных) позиций накладывается на критику того же общества с “правых” (цивилизационных) позиций. Евразийская идея “отвержения Запада” подкрепляется широким арсеналом “критики Запада” представителями самого Запада, не согласными с логикой его исторического пути (по меньшей мере в последние несколько столетий). К этой идее слияния самых разных (подчас политически противоположных) концепций отрицания западной цивилизации в качестве “нормативной” неоевразийцы приходят не сразу, но постепенно с конца 80-х до середины 90-х. В “критику романо-германской цивилизации” вносится важный акцент, поставленный на критике приоритетно англосаксонского мира, США. В духе немецкой Консервативной Революции и европейских “новых правых” “западный мир” дифференцируется на атлантические США + Англию и континентальную (собственно романо-германскую) Европу, где континентальная Европа рассматривается как явление нейтральное и способное к позитивному сотрудничеству».
Смешать в одном котле, скажем, эзотерика Рене Тенона с анархо-революционером Ги Дебором и с марксистом Лукачем – то же самое, что попытаться смешать масло с водой. Тенон нужен неоевразийцам для обоснования религиозного единства Евразии (о потенциальном православии речь уже не идет): согласно эзотерике Тенона, в любой традиционной религии содержится изначальное скрытое ядро, общее для всех мировых религий, но доступное лишь посвященным. Из этого ядра, как лепестки лотоса, и возникают религии, культы, Церкви, различные во многом, но единые в главном. Ну а Лукач или Дебор сгодятся для критики мондиализма и капиталистического «общества спектакля».
Таким образом, все, чем обогатило неоевразийство своих классиков, является продуктом мыслителей Запада, подчас совершенно чуждых друг другу. Это типичная эклектика постмодернистской эпохи. Незыблемыми остаются лишь противопоставление праведных евразийцев злокозненным «атлантистам» и предельная демонизация уже не романо-германского, а англосаксонского мира.
Начитавшись вечером сочинений Дугина и его соратников, утром человек испытывает глубокое умственное похмелье из-за того, что перемешал слишком много интеллектуальных коктейлей. В этом весь стиль и сущность неоевразийства – сталкивать и сваливать противоположные и несовместимые идеи в общую корзину, чтобы вызвать шок у неподготовленного читателя. Но здесь нужно напомнить простые вещи: неоевразийство Дугина и Кº вышло из недр московских андеграундных, эзотерических тусовок, кружков Ю. Мамлеева, Е. Головина, Г. Джемаля и примкнувшего к ним И. Дудинского, для которых было типично превращать все более или менее серьезное в интеллектуальную игру, «веселую науку», но не столько в духе Рабле или Ницше, сколько в постмодернистском. Здесь годится все – и самопиар, и патриотическая риторика, и фантастическая конспирология, и метафизика, и оккультизм, и логические натяжки, и скандальные выступления, и откровенная попса. Разумеется, это не философия или метафизика, а мифотворчество, манипуляция сознанием, для которой различие между истиной и ложью несущественно: она озабочена лишь влиянием на общество, власть и, конечно же, откровенным стремлением к власти. С конца 1980-х неоевразийцы проделали витиеватую эволюцию, пытаясь быть тамадами на многочисленных интеллектуально-политических свадьбах: играли то в романтизированных фашистов (в духе Франко или Муссолини), то в идеализированных национал-социалистов, вступили в долгий брак по расчету с Лимоновым и лимоновцами, флиртовали с ампиловцами и баркашовцами, социал-демократами «России» Г. Селезнева и бог знает с кем еще. Их лидера можно было увидеть то под свастикой, то под серпом и молотом, то рядом с исламским полумесяцем, то со старообрядческими иконами… Лучше всего дать слово дугинскому соратнику по партии и национал-болыневистской борьбе:
«Дугин принес правые импульсы, правые сказки, мифы и легенды. Правую энергию. Правый неотразимый романтизм, которому невозможно было противостоять. Он как бы расшифровывал и переводил тот яркий шок, который советский ребенок испытывал при произношении какой-нибудь аббревиатуры SS. Дугин говорил о доселе запрещенном, потому был невозможно романтичен. Не думаю, что у Дугина вообще была когда-либо какая-либо устойчивая идеология или будет. Он как хамелеон <…> животное, мимикрирующее под цвет среды, в которой оказалось… Можно было бы с полным основанием назвать Дугина Кириллом и Мефодием фашизма – ибо он принес с Запада новую для нашей земли Веру и знания о ней. Можно было бы. Но тогда возможно называть его Кириллом и Мефодием новых левых, ведь он наравне с правыми и новыми правыми <…> пропагандировал новых левых, в частности Ги Дебора. Думаю, на самом деле Дугину по-детски нравилось все яркое и крайнее. Диапазон его увлечений был необыкновенно широк… Он принес к нам знания, вдохновение, свою яркую манию величия. Определенное безразличие к разделению правые/левые…»[156]
Но детство заканчивается, дальше для Лимонова начинаются разочарования – в 1990-е Дугин «прошел через фашизм, пересек поспешно кусок левой земли, на несколько лет забрался в староверие. В 1998-м заговорил вдруг одним языком с Джорджем Соросом и Селезневым, теперь дожил до воспевания путинского режима Реставрации. Что он будет делать дальше?» И предрекает своему бывшему соратнику скорую интеллектуальную и политическую смерть, но все происходит с точностью до наоборот…
Эпоха постполитики и ее герои
Грехопадение в текущую политику приводит к удивительным метаморфозам. При продолжающейся патриотической риторике и националистических реверансах славянофильские тенденции у неоевразийцев постепенно сходят на нет. После нескольких поражений на выборах в работе Дугина «Русская вещь» (2002) появляются, на первый взгляд, неожиданные, но закономерные антирусские мотивы. Русский народ описывается здесь скорее по схемам либерального лагеря. Он не обладает ни энергией, ни творческим потенциалом, ни силой воли, «дремлет, ходит в гости, мастерит и лечит, приплясывает и плачет, отправляет обряды, ест яблоки и пельмени… Голосует при этом не умом и не сердцем, но частью, обратной сознанию». Естественно, что никакая действенная национальная элита при этом невозможна, ибо отражает черты своего народа. Для того, чтобы русские стали пассионарными, «смогли выполнять серьезные функции в социальной элите… чтобы стать эффективными носителями воли, русские должны перестать быть русскими».[157] Кстати говоря, это сильно отдает столь чтимым неоевразийцами Геноном, говорившем о русских как о нации, способной лишь копировать и воспроизводить чужие архетипы.
Отсюда возникает и концепция элит, которая в классическом евразийстве звучит несколько в иной форме (евразийский отбор). У классиков очень важное место занимает славянофильское учение о соборности. Неоевразийцы отдают дань соборности (какая же Евразия без соборности в противовес западноевропейскому индивидуализму!), но это выглядит скорее формальным жестом. Неоевразийцы неизмеримо более прагматичны, откровенно циничны: от наивного и прекраснодушного идеализма, которым грешили отцы-основатели (как их легко обыграло ГПУ!), не остается и следа. Историю движут не народы, а элиты (концепция заимствована опять-таки из западной социологии, прежде всего, у Вильфредо Парето). Поэтому вместо идеи соборности неоевразийцы разрабатывают концепцию наднациональных элит, приходящих на смену «гнилой» либеральной интеллигенции и противостоящих мондиалистским элитам Европы и США.
В 2000-е гг. все радикально меняется. Из абсолютной оппозиции неоевразийцы переходят к столь же абсолютной апологии Путина, который неожиданно оказывается «главным евразийцем» и проводником евразийских реформ. А корпорация «Газпром» – фундаментом для будущего неоевразийского движения, которому неоевразийцы поют сплошные дифирамбы. Постепенно расставшись с непопулярным отныне «экстремизмом» и сгладив острые углы, недавний маргинал Дугин – конспиролог, геополитик и мифотворец – делает бурную карьеру, что вполне естественно.
Политика в традиционном смысле исчезает, и не только на постсоветском пространстве. Главным признаком новой эпохи является абсолютное стирание граней между истиной и ложью, не только в политическом, но и в философском, психологическом и, если угодно, в научном и историческом смысле. Чем больше тот или иной политик произносит глупостей, тем больше, по необъяснимым причинам, растет его рейтинг (Берлускони, Жириновский и т. д). Времена идеологов, аргументированных политических идей и, пожалуй, харизматических лидеров заканчиваются.
В свое время в архиве Черчилля был найден текст некоего выступления. Одна из фраз была подчеркнута, на полях приписка: «Аргумент слаб, возвысить голос!» Постполитика переходит в сферу перманентного «возвышения голоса», чистой виртуальности, в сферу призраков и фантомов, когда ложь мгновенно оборачивается истиной, а истина – ложью. Если можно бомбить страны и города и уверять, что это – гуманитарная акция, тогда во всех смыслах все позволено. Тогда возможно быть кем угодно: антиглобалистом и использовать весь арсенал глобализма, западником и антизападником, фашистом и антифашистом, крайне левым и крайне правым, русофобом и русофилом одновременно – прежние критерии не имеют никакого значения. Трикстер, Протей, политтехнолог, мифотворец, манипулятор, способный мгновенно доказать, что черное это белое, а белое это черное, зеленое или оранжевое, – главный герой наступившей эпохи. Кроме того, совершенно очевидно, что в XXI столетии геополитический центр планеты будет в той или иной степени плавно смещаться с Запада на Восток. Исламский мир, миллиардная Индия и полуторамиллиардный Китай будут играть все большую роль, но, в первую очередь, не по эзотерическим, а по экономическим причинам, и неоевразийство, в самых различных инкарнациях, будет процветать и далее. Римский двуликий Янус, бог «входов» и «выходов», всегда изображался со связкой ключей и 365 пальцами, отныне многолик: его всегда можно повернуть в нужную сторону – на Юг, Восток, Запад или Север. Так что неоевразийство с его арсеналом геополитических ключей и отмычек, несомненно, в самых различных инкарнациях будет существовать и далее.
2010 г.
Часть II
Петербург – незавершенная утопия?
Петербург именно город философский: каждую минуту припоминает вам непрочность и неверность всего земного…
Ф. Б. Булгарин «Северная пчела», 1845, № 249Сегодня считается хорошим тоном начинать текст о Петербурге с утверждения, что об этом городе уже сказано все. Его история изучена досконально, архетипы выявлены и описаны многократно. Как и нескончаемые драмы и несчастья его обитателей, уже три столетия сгибающихся под игом «трагического империализма», невских стихий, отвратительной погоды и сплина; попеременно попадающих под пресс то одной Империи, то другой – неизмеримо более страшной. Сумрачная метафизика и инфернальная мистика Петрополя воспеты и прокляты – как лучшими умами отечественной словесности, так и записными ее пошляками. Слова «призрачность», «умышленность», «фантастичность» и т. д. навязли на зубах, а генетически присущие городу с момента рождения апокалиптика и эсхатология – надоели, как декабрьский мрак с дождем и мокрым снегом. Кажется, что в петербургском тексте русской культуры нет пустот; он завершен и заполнен «общепринятыми» интерпретациями. Ведь все многообразие мифологем града Петрова отражалось литературой и публицистикой на протяжении двух столетий – от Одоевского и Герцена, до Степуна и Шульгина; от редко встречающегося образа «города надежд», до многочисленных вариаций на тему «проклятого города», «града обреченного» или очередного описания знаменитых «петербургских пророчеств», принадлежащих перу эмигранта Владимира Вейдле…
Имперская декорация
И все же некоторые вопросы приходится задать вновь, ибо внятного ответа на них пока не существует.
Почему так часто говорят о «метафизике» и «мистике» именно Петербурга, а не Киева, Новгорода или Москвы с их тысячелетней историей? Почему метафизика как-то не сочетается с Лондоном или Парижем, хотя и «мистических», и «метафизических» событий там было никак не меньше? И, наконец, где искать истоки мифологемы «черно-белого Петербурга», столь блистательно закрепленного в гравюрах, офортах и фотографиях, когда на самом деле уже с XVIII века город был ярко раскрашен, почти как в детских книжках-раскрасках, а Зимний дворец был до революции красно-кирпичного цвета (все казенные здания в этот период красили наиболее дешевыми красками, в том числе и резиденцию императора). Черно-белая аура очевидна, скажем, в Берлине, ибо он действительно весь серо-бело-черный, но почему таковым же стал и Петербург, если большинство европейских столиц несут на своих фасадах куда меньше ярких красок?..
Пожалуй, из европейских городов более всего с метафизикой спрягается Рим, как «вечный город»: вечность и метафизика – близнецы-братья, но Петербург – юнец по сравнению с Римом, хотя по прошествии всего лишь трех сотен лет сегодня он кажется сумрачным и трагическим стариком. Один француз-католик, живущий сегодня в Питере, как-то сказал, что при всех красотах города ему здесь не хватает очень простой вещи – истории. Самому старому зданию каких-то 300 лет, тогда как в захудалой французской деревушке (об Италии и говорить не приходится) натыкаешься на готический собор или даже на романскую базилику. Там камни пахнут вечностью, а здесь они лишь отдают сыроватой плесенью новой и новейшей истории. Тут не было Средневековья и Ренессанса, и при всей трагической красоте этой несчастной столицы в ней не чувствуется ничего собственно мистического и метафизического.
В самом деле, «Санктъ-Питербурхъ» – это чистый продукт просвещения и рационализма XVII столетия с его механицизмом и геометрическим методом, – дитя по-своему философской, но и одновременно мистической эпохи. Ordine geometrico (геометрический порядок) с легкой руки Декарта и Спинозы овладел умами XVII столетия до такой степени, что ученые и философы пытались применить его и в гуманитарных науках, в морали и юриспруденции, рассуждая о «моральных пространствах и телах» и рисуя «кривые человеческих поступков». Импортированный из Европы, помноженный на безумную энергию русского царя, азиата, варвара, восхищенного геометрическим порядком Европы, этот механистический рационализм и породил воздвигнутую на костях регулярную, предельно функциональную и, в сущности, невыносимо скучную имперскую столицу. Точнее, первоначально был создан лишь макет, подобие театральной декорации, обрамляющей невские воды, где, в противоположность буйной, неуправляемой и стихийной Руси, которую так ненавидел молодой царь, все должно быть регламентировано, по-европейски прагматично и функционально. Петербург XVIII века – это кукольная, игрушечная, потешная Европа, скроенная на русский лад, с его дворцовыми переворотами, ледяными домами и легкомысленными развлечениями. В сущности, живого города еще не было – его душа и genius loci (дух места) еще не родились, – это был лишь театральный фасад империи, первая «потемкинская деревня» (какая же это европейская столица с населением 40 тыс. человек!), совокупность плоскостей и линий, нарисованных на бумаге, но лишенных содержания и глубины. Видимо, именно за это XVIII век так любили эстеты-мирискусники, с их принципиальной поверхностной декоративностью, – прелесть кукольного города, населенного марионетками. И то же самое так раздражало автора книги «Россия в 1839 году» Астольфа де Кюстина (да и добрую половину русских писателей XIX века), увидевшего в российской имперской столице лишь видимость города, бесконечные пугающие пространства, не заполненные настоящей жизнью. Здесь живут «люди-автоматы», «шахматные фигуры, двигающиеся по воле одного-единственного игрока, невидимым соперником которого является все человечество. Здесь действуют и дышат лишь с разрешения императора или по его приказу… Молчание правит жизнью и парализует ее». М. Ю. Лермонтов:
Увы, как скучен этот город Своим туманом и водой. Куда ни взглянешь – красный ворот Как шиш торчит перед тобой.И даже Пушкин – «последний певец светлой стороны Петербурга» (Н. Анциферов) обмолвился не случайно:
Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид, Свод небес зелено-бледный, Скука, холод и гранит.Творение из ничего
Петр, наделенный божественной царской властью, в сущности, человекобог, отрицающий всю предшествующую старую Русь, творит новую реальность – Российскую Империю, и ее идеальную модель – град святого Петра, который создается почти мгновенно, в ничтожные по историческим меркам сроки. Вспомним родоначальника метафизики Платона – идея всегда предшествует ее предметному воплощению, которое есть не более чем тень своего идеального первообраза. Бог творит мир по собственному подобию, согласно идее совершенного бытия. В этом отношении очевидно, – метафизика заложена в основании Петербурга, в самом факте его творения. Столица, долженствующая стать четвертым Римом, возникает не естественно-историческим путем, а создается ex nihilo, подобно платоновской идее, родившейся в сознании полубога, и воплощается в самом неподходящем, с точки зрения природных условий, месте. И хотя власть Петра «от Бога», император – «божественен», идея сразу же не может стать плотью. Она воплощается лишь как грандиозный театральный макет, который почти насильственно заселяется человекоподобными существами, играющими подчиненную, вторичную роль. Петровская «метафизика», как и метафизика вообще, существует по ту сторону всего человеческого. Как давно замечено историками, маятник петровских реформ раскачивается между двумя полюсами – просвещением и рабством, неразрывно связанных друг с другом: «Петр I не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более чем Наполеон… История представляет около его всеобщее рабство…» (Пушкин). Идея столицы абсолютна; ее обитатели не более чем отражения, тени, марионетки по отношению к сверхидее, возникшей в сознании Демиурга. Она начертана на бумаге: разработан план, проложены улицы и «прешпективы», очерчены контуры дворцов и площадей – черно-белая имперская геометрия, помноженная на невыносимый климат, призрачные ночи и северный туман, становится доминирующей в городском пространстве. И даже расцвеченный всевозможными красками город кажется монохромным. К тому же для старой Руси новый царь и его творение есть абсолютное зло: «Поведение Петра I представляло собой, с точки зрения современников, ни что иное, как антиповедение, Петр I воспринимался, в сущности, как самозванец: народная молва еще при жизни Петра объявила его неподлинным, а подменным царем». Естественно, что «подменный» царь создает «подменный» город, выступая неким аналогом гностического Демиурга – дурного божества, творящего неподлинную реальность. Петербург по-своему рождается как преступление – как нарушение традиционного порядка вещей, существовавшего на святой Руси. Поэтому, если еще раз воспользоваться гностической метафорой, город оказывается докетичен, т. е. его конкретное пластическое воплощение есть только видимость, кажимость – пустое мертвое образование, навсегда обреченное на пустоту. Он существует только как идея столицы: «Если же Петербург не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он существует» (А. Белый).
Проект «вольных каменщиков»?
Так как никаких документальных свидетельств принадлежности царя Петра к «вольным каменщикам» не сохранилось, разговоры об этом ведутся с момента легализации масонских лож в России (1731 г.).
Версий и гипотез существует несколько. Согласно первой, молодой Петр был посвящен в масоны еще в Москве Лефортом и Гордоном. Согласно другой, он был посвящен во франк-масоны во время его путешествия в Европу в 1697–1698 гг. либо на континенте, в Голландии, либо в Англии самим сэром Кристофером Реном, создателем собора Святого Павла. По еще одной, устной, версии, «инициация Петра произошла лишь в 1717 году во время его второй поездки за границу. После приезда он приказал открыть ложу в Кронштадте.[158]
Относительно недавно возникла еще одна версия, которую можно было бы назвать «геометрической» (Леонид Мацих). Согласно ей, Петербург планировался как масонский город, где три главные магистрали – Невский, Гороховая и Вознесенский проспекты – образуют усеченную пирамиду, которую венчает здание Адмиралтейства с его всевидящим глазом – классическим символом вольных каменщиков («лучезарная дельта»), которому зримо все, что творится в мире. Если добавить сюда рукотворный остров Новая Голландия, созданный в форме усеченной пирамиды, то получается вполне целостный образ. [159]
Если хотя бы одна из этих версий верна, то возникает удивительная картина. Санктъ-Питербурх – это не просто новая столица, это грандиозная утопия, создание новой земли и нового неба. Это новый «парадиз», о котором неоднократно говорили современники. Все составляющие масонской утопии – Просвещение, культ науки и техники – призваны создать не только Новый град, но и нового человека. На смену католическому граду Святого Петра (Риму), павшему под турками Константинополю, неудавшемуся третьему Риму – Москве идет четвертый град Святого Петра, прообраз грядущей цивилизации и новой Империи. Четвертый Рим должен быть каменным, противостоящим традиционной деревянной Руси, – об этом известный указ Петра 1714 года, когда он запретил строить каменные здания где бы то ни было в России: «Всякое каменное строение, какого бы имени ни было, под разорением всего имения и ссылкою». Феофан Прокопович писал: «Древяный, рече, Рим я обрел, а мраморный оставляю. Нашему же Пресветлейшему Монарху тщета была бы, а не похвала сие провозгласити, ибо воистину древяную он обрел Россию, а сотвори златую».[160]
Но проект грандиозной утопии, по сути дела, оборвался сначала со смертью Петра, а потом и Екатерины I. При малолетнем Петре II столицей сначала формально (1727 г.), а потом и фактически (1728 г.) вновь стала Москва. Там и был коронован Петр II в Успенском соборе Московского Кремля, где по традиции венчались на царство русские правители. Далее наступила эпоха дворцовых переворотов, и по существу возрождение новой столицы началось при Елизавете и Екатерине Великой. На вторую половину XVIII века приходится и расцвет русского масонства – от Новикова и московских мартинистов до Елагина, Строганова и Безбородко.
При этом масонство оказывается в оппозиции к императорской власти: никто из монархов, за исключением Павла I, не испытывало особых симпатий к «вольным каменщикам» и, в конце концов, в 1821 году, указом Александра I в России было запрещено. И хотя оно оставило много памятников, включая петербургские дворцы, Казанский собор Воронихина, загадочных сфинксов с закрытыми глазами на набережной перед зданием Академии художеств, его влияние постепенно сходит на нет.
Fin de siècle: сумерки истории
Это настроение чрезвычайно смутное: в нем есть лихорадочная неутомимость и внутреннее уныние, безотчетный страх и юмор приговоренного к смерти. Преобладающая его черта – чувство гибели, вымирания. Fin de siècle – исповедь и в то же время жалоба. В скандинавской мифологии сохранилось сказание о «гибели богов». В наше время даже развитые умы испытывают то же неопределенное опасение надвигающихся сумерек… «гибели народов» и всей цивилизации.
Макс Нордау. «Конец века», 1893 г.Одна из драматических странностей истории заключается в том, что современники и потомки совершенно по-разному оценивают одну и ту же эпоху. Чаще всего мы не понимаем времени, в котором живем. Люди Франции или Нидерландов XIII–XV веков – «осени средневековья»: жутких войн, междоусобиц, нищеты и голода – вряд ли представляли себе, что им выпала честь жить в эпоху Ренессанса. Русские литераторы времен Николая I, когда Пушкин писал «о ничтожестве литературы русской», были бы очень удивлены, если бы узнали, что, оказывается, они живут в пору «золотого века» отечественной культуры.
Образ Петербурга на рубеже XIX–XX вв. отнюдь не исключение: естественно, тогда, изнутри, он был иным, чем кажется теперь, по прошествии столетия. Но и внутренние ощущения его тогдашних обитателей столь различны, что любые обобщения выглядят сомнительно. Основные источники – фотодокументы (и газетная периодика), с одной стороны, и изящная словесность, с другой, – дают два столь несхожих образа, что кажется меж ними почти нет ничего общего. Перелистывая газеты и разглядывая старые фотографии, начинаешь понимать, что, вопреки культурной мифологии, имперская столица при всей своей исключительности в конце века была вполне «нормальным городом». И несмотря на уже созданный «миф о Петербурге», город еще как будто не ведал о своей призрачной, инфернальной сущности и предсказанной трагической судьбе и жил обычной повседневной жизнью – чиновничьей, промышленной, культурной или мещанской, – и как «новый город в старой стране» встречал XX век с естественными надеждами. Хотя миф был уже создан и почти все, что можно сказать об этом городе, русской культурой было сказано. Как говорит Н. П. Анциферов в «Душе Петербурга», Пушкин вслед за Ломоносовым и Державиным был «последним певцом светлой стороны» города на невских берегах. Дальше, менее чем через полтора столетия со дня основания, наступают «сумерки Петербурга» – ив первую очередь высокая литература обнаруживает на его еще отроческом челе признаки нереальности, обмана и умирания. Отныне он именуется «городом мечты и обмана» (Гоголь), «гнездом и памятником насилья» (К. Аксаков), от которого «необходимо отречься как от Сатаны» (Ив. Аксаков). В лучшем случае, это город «миражной оригинальности» (Ап. Григорьев), но так или иначе – подводит итог Достоевский в «Записках из подполья» (и в этом он, как ни странно, совпадает с маркизом де Кюстином), – «несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и самом умышленном городе в мире». Основная тема, которая вскоре станет общим местом и будет до бесонечности повторяться в разных тональностях, была проста: имперский град на чухонских болотах создан не для жизни, а для чего-то иного – в нем жить нельзя.
К счастью, в это время жизнь не подражала искусству (как, скажем, во времена романтизма или романа «Что делать?») и сакральное почтение к тексту если и существовало, то было свойственно крайне узкому кругу интеллигенции. Поэтому конец века в Петербурге – это не столько видения поэтов и философов, сны Гоголя и Достоевского, не эсхатологические пророчества Конст. Леонтьева и Вл. Соловьева и даже не начинавшая уже звучать, не без влияния Ницше, «мистическая истерия» Мережковского и первых символистов, а, скорее, обычная, приглушенная, полупровинциальная жизнь, как о ней в «Шуме времени» позднее вспоминал Мандельштам: «Я хорошо помню глухие годы России – 90-е годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм – тихую заводь: последнее убежище умирающего века… Все чаще слышал я выражение fin de siècle, «конец века», повторявшееся с легкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией… За утренним столом разговоры о Дрейфусе… туманные споры о какой-то «Крейцеровой сонате»… Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи и обтянутые локти, перетянутые осиные талии, усы, эспаньолки, холеные бороды… В двух словах – в чем 90-е годы. – Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске».
К этому можно добавить наблюдение из мемуаров Владимира Пяста: на рубеже столетий «читающая публика» была убеждена, что в России поэтов не было. И нам понятно, о чем идет речь – в каком-то смысле ничего не было: ни живописи, ни прозы, ни философии, декадентов и символистов никто не воспринимал всерьез, Чехов был второстепенным беллетристом, и только изредка будоражил сознание Толстой… Это значит, прежде всего, что жизнь, какая бы она ни была, господствовала над искусством, о подражании ему не могло быть и речи. «Быть может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов» (Брюсов) – эта эпидемия возникнет позднее.
Петербургская мистерия
Это был ряд попыток, порой истинно героических, – найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь, что гений такой не явился, формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символизма превратилась в историю разбитых жизней…
Владислав ХодасевичКогда же прекрасные, но мертвые петербургские декорации начинают наполняться жизнью? Дома обживают годами, проходят десятилетия, прежде чем отстроенная церковь будет намолена и мертвые камни оживут. Сколько же времени требуется городу? Петербург в этом смысле уникален – столица в общих чертах давно основана, но живого реального города еще нет. Когда же родилась его душа и петровская имперская сценография стала плотью? Все отвечают на это по-разному. Разброс мнений составляет почти столетие – от середины XVIII века до пушкинской эпохи. Здесь не место вступать в споры, но очевидно одно – объемное, многомерное существование невозможно без минимальной степени свободы. Был ли, скажем, Петербург уже «живым» при романтическом императоре Павле I, когда по высочайшему повелению гвардейский офицер мог стать тенью, а четыре случайно соединившиеся буквы алфавита сделать головокружительную карьеру, как это изображено в знаменитом гротеске Юрия Тынянова, вполне, впрочем, соответствующем действительности?
Но теперь мы знаем, что все уже было. Была и поэзия, и живопись, и литература. Энергии, накопившиеся в глубине столетий, в молчании сонной тишины пробивались наружу и выплескивались на поверхность. Петербург становился культурной столицей Европы, и общеевропейский кризис рубежа веков – «гибель богов» и «сумерки кумиров» – здесь переживался столь остро, как нигде. Это был конец еще одного «райского» периода истории, когда, как писал модный в то время, а ныне забытый Макс Нордау, «все традиции были подорваны… существующие порядки поколеблены и рушатся; все смотрят на это безучастно, потому что они надоели, и никто не верит, чтоб их стоило поддерживать. Господствующие воззрения исчезли или изгнаны… их наследства добиваются законные и незаконные наследники. Тем временем наступило междуцарствие со всеми его ужасами… Все ждут не дождутся новой эры, не имея ни малейшего понятия, откуда она придет и какова будет».
Новая эра пришла очень быстро, время распалось и безумие вступило в свои права, а жизнь и здравый смысл остались уделом «презренных обывателей». Кризис, безумие, разрыв, распад – любимые слова начала века. «Бывают эпохи, – говорит Сьюзен Зонтаг, – слишком сложные, слишком оглушенные разноречивостью исторического и интеллектуального опыта, чтобы прислушиваться к голосу здравомыслия… Изуверы, кликуши, самоубийцы – вот кто берет на себя бремя свидетельствовать об этих временах…». Тогда «правду измеряют ценой окупивших ее страданий автора, а не стандартами объективности, которым он следует на словах. Каждая истина требует своего мученика».
Сказано как будто про Петербург времени модерна и символизма, когда «изуверы, кликуши и самоубийцы» мало-помалу создадут энергетическое поле такой плотности, что сама жизнь закружится в его сумрачных вихрях и станет подражать искусству, как это и предсказывал Оскар Уайльд. В частности, это время нещадной эксплуатации пророчества безвестного дьячка (по другим источникам, Авдотьи Лопухиной) «Санктъ-Питербурх пустеет будет», для просты употребления превращенного в «Петербургу быть пусту»; время апокалиптических заклинаний и магических проклятий, литературной ворожбы и живописного шаманизма – гибельного упоения мраком, черной поэзией северных стихий и хрестоматийным образом из «Подростка», что имперская столица с Медным всадником во главе – всего лишь чей-то сон, исчезающий вместе с пробуждением. «Нет, ты утонешь в тине черной, проклятый город, Божий враг» (3. Гиппиус). «Смерть России – жизнь Петербурга; может быть и наоборот, смерть Петербурга – жизнь России?» – риторически вопрошал Мережковский; и цитировать эти заклинания можно без конца.
Что означает желание символистов слить жизнь и искусство в единое целое? Это значит, что искусство становится магией, поэт или художник – шаманом, писатель-философ – колдуном, властвующим над жизнью и вызывающим духов из преисподней, а город – тотемом, отданным на священное заклание. И именно тогда, а не в середине XIX века, как считал Бродский, художественный миф, прежде существовавший в чьем-то воспаленном воображении, проникает в плоть и кровь Петербурга и, «как это нередко случается с человеком перед зеркалом, город начинает впадать в зависимость от своего объемного отражения в литературе», когда «невозможно отличить выдуманное от доподлинно существовавшего».
Театральность и артистизм – эти истинные стихии «серебряного века» – начинают до такой степени властвовать над жизнью, что она выглядит бесконечной пьесой, а история – заранее продуманной инсценировкой. Это еще сильнее звучит у «новых варваров» – футуристов, для которых петербургский модерн и символизм, Бенуа, Мережковский и компания – главные враги, подлежащие безжалостному изничтожению, ибо именно эти властвующие над жизнью «колдуны» и препятствуют осуществлению желанной «победы над солнцем». Разглядывая старые фотографии и листая газеты, невозможно отделаться от этого привкуса патетической театральности, в которую вовлечены буквально все: от страстных монархистов до богемы и крайних радикалов. И не перестает изумлять то безумное упорство, с которым все они по-своему вызывали «духов мщения», чьими жертвами вскоре сами же и падут.
Сценарий крушения и разлома – «малого апокалипсиса» – нетрудно обнаружить и собрать по частям из книжек и собраний сочинений, выходивших в «Шиповнике» и «Мусагете», у Сытина или Пирожкова, из футуристических манифестов и каталогов выставок. Гибель «проклятого города» – площадное действо, мистерия с отречением государя под всеобщие аплодисменты, с холостым выстрелом из пушки на Неве и штурмом Зимнего в ретроспективной постановке Эйзенштейна. Фарс, переходящий в драму, а потом в трагедию.
Театр, ставший революцией, собственно, не что иное как победа – разумеется, временная – искусства над жизнью, воображаемого над реальным, утопии над историей. «Культура всегда была великой неудачей в жизни», – проницательно напишет чуть позднее как всегда крепкий задним умом Бердяев.
Революция – и февральская, и октябрьская – это тотальное крушение петровской утопии. Как давно написано, вместо Третьего Рима мы получили Третий Интернационал. И Четвертый, петровский, Рим, некогда задуманный как «новый парадиз», под властью новых якобинцев превращается в великий город с областной судьбой.
«Представление закончилось. Железный занавес опустился над русской историей. Пора одевать шубы и отправляться домой.
Оглянулись – ни шуб, ни домов не оказалось» (В. Розанов).
Прекрасная смерть
Прозрачная звезда, блуждающий огонь, — Твой брат, Петрополь, умирает!Черно-белый или цветной, умирающий город 1920-21 гг., как он запомнился очевидцам, был удивительно прекрасен. «На моих глазах город умирал смертью необычайной красоты – и я постарался посильно запечатлеть его страшный, безлюдный и израненный лик», – вспоминал Добужинский. «Именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть, и никогда… Петербургу оказалось к лицу несчастье… Есть люди, которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было и с Петербургом. Это – красота временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании есть невыносимое, щемящее наслаждение» (Ходасевич).
Смерть наступила как-то очень быстро. Судьба Петербурга напоминает квазиисторический триллер с несколько затянутой экспозицией, внезапно переходящей в сумбурное нагромождение событий, в которых спрессовалось как минимум шесть европейских столетий. История почему-то смешала и перепутала здесь века, последовательность культурно-исторических эпох – средневековье, барокко, романтизм, ренессанс, просвещение, за которым, к изумлению многих, сразу же последовал утонченный декаданс (еще Н. Михайловский в конце прошлого века удивлялся: со старой Европой все понятно, но мы так молоды, только начинаем жить, у нас-то откуда появились декаденты?). Клио кружила по материкам и континентам, долго петляла по европейским столицам и, будучи впущенной через косо прорубленное окно, пережила здесь свой триумф и крушение, опьянение безграничной свободой, метафизическую оргию, перешедшую во «всемирный запой», и, учинив мировой скандал, словно бы уснула на десятилетия в тупике Глухого переулка, утыкающегося в Юсуповский дворец, где был убит юродивый-старец, прдсказавший то, что произойдет потом…
Метафизическая пустота покинутых улиц и площадей, повальное бегство из города мертвых, гибель всего изысканного, утонченного и травка, пробивающаяся сквозь булыжник обезлюдевших проспектов, позволили Мандельштаму довольно рискованно назвать Петербург тех лет «самым передовым городом мира». Ибо «не метрополитеном, не небоскребами измеряется бег современности… А веселой травкой, которая пробивается из-под городских камней». Ясно, на что поэт надеялся и что имел в виду. Жизнь возвращается через природу и варварство, которые несут не только кровь и разрушение, но и обновление самой жизни. Воцарение варваров, начинающих творить свою брутальную, грубую красоту, совсем не утонченную, но несомненно более витальную, живую, может вселять надежды. И возможно было бы согласиться с Мандельштамом, если б мы не знали слишком хорошо последствий.
Сверхзадача победившего социализма – энтропия: существующее вне определенных норм и рамок подлежит уничтожению или приведению к общему знаменателю. Нормам, ГОСТам, стандартам прямо или косвенно должно быть подчинено все: быт, досуг, одежда, поведение индивидуума, частная жизнь и т. д. Поэтому, несмотря на обилие красного (плакаты, лозунги, знамена), еще недавно многоцветная имперская столица постепенно утрачивает вместе с разнообразием жизни и разнообразие красок: преобладающий цвет социализма – серый.
Жизнь на кладбище, или Что делать после оргии?
Что же осталось сегодня? Время, в котором мы существуем, еще более неясно, чем когда бы то ни было, и люди по-прежнему покидают этот город – какой-то не мертвый, но и не совсем живой. «Веселая травка» весной все так же пробивается из разбитых мостовых, прорастает на крышах и карнизах умирающих зданий с чернотой зияющих глазниц, с недоумением и ужасом взирающих, как совсем рядом, иногда напротив, уже другие «варвары» отстраивают свои казино и ночные клубы, рестораны и нелепые особняки. Но вряд ли кто-либо осмелится сказать о Питере то, что когда-то обронил Мандельштам.
Чаще кажется, что сегодня города просто нет. Общее ощущение – жизнь на красивом, но обветшавшем кладбище, она была бы грустна и поэтична, если бы не привкус вторичности, чувство того, что все это уже было – и ярче, и сильней. Культура, блуждающая по замкнутому кругу повторов и ошибок, в конце концов от бессилия и усталости теряет всякий смысл.
Недавно посетивший гранитные берега парижский философ Жан Бодрийяр, столь же модный диагност эпохи, как некогда Макс Нордау, в публичной лекции определил новый fin de siècle, а вместе с ним и конец тысячелетия, как состояние человека, проснувшегося утром после оргии. Метафизическая оргия, по Бодрийяру, это полное высвобождение во всех формах – «тотальный оргазм»: выход художественных, политических, сексуальных, утопических и прочих энергий. «Сегодня все освобождено, – сообщил философ, – все утопии реализованы, все ставки сделаны, все возможности проиграны, и мы все вместе оказываемся перед роковым вопросом: что делать после оргии?».
После оргии остается только похмелье. Это – черный перегар истории, который пропитывает обветшавшие дворцы, рассыпающиеся здания, улицы, площади и набережные неудавшегося Четвертого Рима. После утопических запоев на дворе «логика бодуна» и «метафизика похмелья», предрассветное пробуждение, гортань горит инфернальным огнем, мрак, томление, хандра, тоска, отчаяние – неужели это состояние не закончится и в нем всегда придется быть? Состояние неразличимости, когда мир целостен и разорван одновременно, нет ни «верха», ни «низа», ни «добра», ни «зла», ни «грязи», ни «красоты», когда хаос неотличим от порядка, а разум от безумия…
Если модерн – это изысканно-изломанный стиль с легким привкусом увядания и смерти, авангард – это безумие, освежающее варварство, запой, разрушение и саморазрушение на грани самоубийства, то постмодерн в самом деле похож на унылое похмелье, это капитуляция сознания и симуляция самоубийства…
Как жить после жизни, после конца, завершения, после того, как все уже сделано, испробовано и прожито? Что остается? Смирение не без самоиронии и мудрость незнания. Зато сегодня почти никто не будет пытаться слить жизнь и искусство воедино. По крайне мере жизнь искусству больше не будет подражать. Все очевидней, что искусство почти не имеет никакого отношения к жизни, а жизнь – к искусству. В средневековье богословы утверждали, что Бог может сделать все бывшее небывшим; сегодня настоящее кажется уже бывшим и многократно повторенным. «Новизна» и «оригинальность» вызывают либо подозрение, либо скуку, другой выход – пассеизм и стилизация обрекают на блуждание в дурной бесконечности прошлого. Как повторял Ницше еще сто лет назад, чтобы творить жизнь, надо забывать то, что было. Мы же распадаемся в ложных антиномиях: одни все знают и понимают, но ничего не могут, другие многое могут, но ничего не знают, не чувствуют и не понимают. Если мы видим, то не сознаем, если же понимаем, то не видим. Или еще хуже: все живое кажется немыслящим, а все мыслящее – неживым. Варварство больше не оживляет, а ведет просто к одичанию, но культура и знание приводят к омертвлению и параличу. Поэтому главный вопрос, который еще трогает, – как не умереть заживо среди витальных зомби и марионеток, впрочем, еще больше похожих на живых мертвецов.
Однако, глядя на шемякинский памятник Петру, кажется, что это вечные дилеммы. Человек с головкой со страусиное яйцо, но с нечеловеческой волей, силой и пассионарностью, перевернувший и перепахавший всю Россию, уже нес в себе нынешние противоречия. Этот памятник безумен и уродлив, но, по крайней мере, он внутренне точен, а не стилизованно фальшив, как голландский царь-плотник на Дворцовой набережной…
Значит, так было всегда и выхода из замкнутого круга быть не может? Или же это лишь проекция нынешнего дня на прошлое, которое было совсем иным – непонятным и недоступным?.. Прошлое совсем не так невинно, жизнь и живое искусство можно легко похоронить под памятниками и монументами – под недавно созданными каменными идолами, почему-то названными именами Гоголя и Достоевского; за ними следует ожидать и памятник последнему царю, который непременно должен будет вскоре появиться на невских берегах.
В любом случае нет ничего глупее, чем давать советы и делать окончательные заключения. Вопросы нужно задавать, помня, что не будет никаких ответов. Да, мы живем в некрополе, все прожито и жизнь на кладбище грустна, но только это и остается – жить.
* * *
Как-то проходя с приезжими иноземцами в полночь по Мойке, мы пересекали площадь святого Исаакия в самом конце ноября. Город, как и полагается, был серо-черен, пустынен, метафизичен и жутковат. Образованные гости были в полном восторге: они чувствовали и мистику, и историю, и мифологию Петербурга, вместе с копотью и грязью впитавшиеся в городские стены. Да-да, – говорили они по-английски, – это настоящая метафизика, воплощенная метафизическая живопись, которой нет ни у Эрнста, ни у де Кирико… Шел желтый мокрый снег, словно взятый напрокат из «Записок из подполья», я разделял их восхищение, испытывая редкий прилив патриотических чувств, но втайне думал, что, возможно, для жизни его обитателей было бы лучше, чтобы город был не столь холодным, сумрачным, метафизическим и пустым.
Утопия одиночества: Борхес и Набоков
Я знал без узнавания, я знал без удивления, я знал, как знаешь себя, я знал то, что знать невозможно…
Нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или еще короче: ни одного человека…
В.Набоков, «Приглашение на казнь»Он был одиноким и ясновидящим зрителем многообразного, преходящего и почти невыносимо отчетливого мира.
X. Л. Борхес, «Фунес, чудо памяти»Когда-то Мережковский писал, что главный вопрос русской литературы – это вопрос о бытии Бога. Владимир Владимирович Набоков был первым гениальным русским писателем, которому вопрос о бытии Бога – по крайней мере он все сделал, чтобы создать такое впечатление, – заменили язык, бабочки и шахматные задачи. И не только этот вопрос, но и вообще практически все «вопросы», которыми болела отечественная литература, кажется, отсутствуют в его книгах. Не только социальность, моральная проповедь и проекты мирового переустройства, но и все религиозные, мистические, символистские темы конца XIX – начала XX века, идеологические и историософские споры и, наконец, то, что всегда более всего ценилось в мировой литературе – способность к универсальным обобщениям, – почти все выносится им за скобки. Совершенно осознанно он бросил вызов духу времени, предпочитая единичное, неповторимое, случайное всеобщему и универсальному; узор на крыльях бабочки – «мировым проблемам». Все, чем занималась и занимается во всем мире интеллигенция – объяснение бытия, создание метафизических или социальных учений, – для него словно не существует, их содержание ему подчас безразлично: он готов поставить на одну доску и своих братьев-эмигрантов, и их противников по ту сторону железного занавеса. Мир для него бесконечно таинственен, изначально необъясним, он может быть только увиден… Когда эмиграция мучительно переживала гибель России, спорила, пытаясь понять и объяснить, как и почему это произошло, один из его персонажей-двойников, гуляющий по Берлину (рассказ «Письмо в Россию»), мог ошеломить своего безымянного адресата таким признанием: «Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое – вызов… Прокатят века – школьники будут скучать над историей наших потрясений, все пройдет, все пройдет, но счастье мое… останется – в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество».
Если у молодого берлинского писателя Сирина Бог еще присутствует в стихах и рассказах, то со временем Набоков, подобно выдуманному им мыслителю Делаланду, отказавшемуся обнажить голову перед смертью, откажется сделать это и перед Богом. И напишет, например, так: «К писанию прозы и стихов не имеют никакого отношения добрые человеческие чувства, или турбины, или религии, или духовные запросы, или «отзывы на современность»…» (из письма Зинаиде Шаховской). То есть «турбины» соцреализма, «добрые чувства», «духовные запросы» и «религии» – все это вщи одного порядка, не имеющие ничего общего с подлинной литературой. Можно, конечно, сказать, что это очередная набоковская маска, крайность, провокация, и этому нельзя доверять. Отчасти оно и так, но настойчивость, с которой он повторяет это в разных вариантах снова и снова, все же не оставляет сомнений: все «постороннее» должно исчезнуть в вихре набоковских метафор, чтобы осталось лишь самое существенное для него – вещи и слова.
Ролан Барт в одном из эссе говорит о двух типах отношения к слову – о «писателях» и «пишущих». Пишущие – «это люди транзитивного типа». «Они ставят себе некоторую цель (свидетельствовать, объяснять, учить)… для них слово несет в себе дело, но само таковым не является». Для писателя, напротив, слово самоценно; если «определяющей чертой пишущего является наивность», он стремится «прояснить в мире нечто неопределенное», используя большей частью первичные, стандартные значения слов, то писатель, говорит Барт, отказывается от двух главных для пишущего типов слов – «во-первых, от учительства… во-вторых, от свидетельства, ибо, отдавшись слову, писатель утрачивает наивность. Крик нельзя подвергать обработке – иначе кончится тем, что главным в сообщении станет не сам этот крик, а его обработка».
В этом смысле Набоков, отказавшийся учительствовать, объяснять и свидетельствовать, является по преимуществу писателем, тогда как нелюбимый им Достоевский максимально приближается к типу пишущего. Все, что связано с транзитивным использованием слова, Набоковым изначально отвергается; напрасно искать в его книгах «правду-истину» и «правду-справедливость», учительства о том, как можно «жить не по лжи», или свидетельств «о духе времени». Автор «Защиты Лужина» существует вне, или, лучше сказать, по ту сторону этих категорий. Ролан Барт проницательно замечает, что. «отождествляя себя со словом, писатель утрачивает всякие права на истину, ибо язык – если он не сугубо транзитивен – это структура, цель которой (по крайней мере со времен греческой софистики) – нейтрализовать различие между истиной и ложью».
В вулканической стихии языка вопрос о «правде или лжи», о соответствии или несоответствии реальности неуместен. «Реальность, – говорит Набоков, – бесконечная вереница шагов, уровней понимания и, следовательно, она недостижима. Поэтому мы и живем, окруженные более или менее таинственными предметами». Язык же творит с предметами все что хочет: он может оживлять мертвые вещи или, наоборот, превращать живых людей в кукол-марионеток; потому для Набокова реальности, равной себе, не существует, и он прямо говорит о том, что не может использовать это слово, кроме как взяв его в кавычки. Какая может быть единая «реальность», когда, скажем, большинство людей видят, как по вечерам хозяин выводит выгуливать свою собаку, но для Набокова все иначе – это пес выводит на прогулку своего хозяина. С точки зрения «реальности», грузчики из фургона выгружают зеркальный шкаф, тогда как Набоков глазами Годунова-Чердынцева видит, как «из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба… по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей». Примеры столь свободного обращения с «реальностью» можно продолжать едва ли не до бесконечности…
У X. Л. Борхеса в рассказе «Фунес, чудо памяти» изображен персонаж, обладавший потрясающей способностью созерцания и воспроизведения единичного. Он мог, например, увидеть и затем в любой момент восстановить в памяти стену соседнего дома с сотнями мельчайших подробностей, стирающихся в обычном сознании, он мог увидеть и запечатлеть все единичное, уникальное.
Дар Набокова во многом схож с даром Фунеса: он видел, прежде всего, бесконечное многообразие единичного, десятки и сотни деталей, восхитительных именно своей неповторимостью. В этом сначала скрытый, а затем и явный конфликт Набокова с эпохой и, если угодно, с историей, где «всеобщее», «соборное», «коллективное» всегда доминировало над единичным, где философия, идеология, религия, общественное мнение, как правило, терроризируют все уникальное, навязывая несчастному индивидууму свои универсальные и безличные законы.[161] Терроризм общих идей и идеологий в конце концов и привел к кошмарному изобретению XX столетия – идеократиям, в которых индивидуальное подлежит безжалостной нивелировке. И если за философией с ее общими понятиями Набоков еще готов признать право на существование в силу ее «бесполезности», то идеологию как прикладную философию, стремящуюся извлечь из «общих идей» практическую выгоду, идеологию, некогда изгнавшую его из рая, он не переносит уже ни в каком виде…
Кстати, что такое знаменитая «пошлость» в набоковской характеристике? Это как раз и есть обобщение: переведение единичного во всеобщее. Рассказывая в «Даре» трагическую историю Яши, Рудольфа и Оли («треугольник, вписанный в круг»), Набоков как бы вскользь замечает: «Иной мыслящий пошляк, беллетрист в роговых очках, – домашний врач Европы и сейсмограф социальных потрясений, нашел бы в этой истории… нечто в высшей степени характерное для “настроений молодежи в послевоенные годы”». Этот воображаемый писатель, талантлив он или бездарен, образован или нет, почему именно «пошляк», и притом «мыслящий»? Да потому, что трагическую, единственную в своем роде историю он хочет сделать предметом исследования и обобщить, переведя ее в литературный или социологический этюд.
В «Подвиге» умирает старый эмигрант Иоголевич: некролог о нем пошл именно потому, что состоит из общих мест: «пламенел любовью к России», «всегда держал высоко перо», – и подходит для очень многих. Мартыну же «больше всего было жаль своеобразия покойного, действительно незаменимого, – его жестов, бороды, лепных морщин, неожиданной застенчивой улыбки, и пиджачной пуговицы, висевшей на нитке… Это было в каком-то смысле ценнее его общественных заслуг, для которых был такой удобный шаблончик».
В этом мире люди ценятся опять-таки за «всеобщие заслуги», но их подлинный, неповторимый лик никого не интересует. Идеологии, став идеократиями, породили тоталитарные режимы, но, придется повторить, содержание идеологии Набокова мало волнует, поэтому люди, между которыми, казалось бы, нет ничего общего, – Оруэлл или Чернышевский, Достоевский или Фрейд, Платон или Ленин, – для него неприемлемы по одной причине: все они идеологи или идеократы. Что же касается власти, то «индивидуальные причуды властителя говорят более глубокую истину о его времени, чем вульгарные обобщения вроде классововй борьбы и пр.» (из письма Э. Уилсону). Отсюда в «Истреблении тиранов» мало намеков на идеологический характер режима, он вполне может быть не только коммунистическим, но и нацистским или каким-либо еще, но зато «индивидуальные причуды властителя» выписаны особенно подробно. «Художник видит именно разницу. Сходство видит профан» – этот далеко не бесспорный афоризм из романа «Отчаяние», выражающий набоковское кредо, многократно варьируется в других его книгах.
Где-то здесь скрыты и причины набоковского отношения к «венской делегации». Психоанализ, некогда возникнув как локальное психофизическое учение, к середине века превратился в мощную и довольно агрессивную форму идеологии, претендующую подобрать ключи ко всем тайникам психики и исцелить больное человечество. Естественно, это не может вызвать у Набокова симпатий. Ведь «венская делегация» с изрядной долей самоуверенности стремится перевести уникальную тайну души на язык универсальных психоаналитических схем, роется в самом священном – воспоминаниях детства, пытаясь вытащить наружу беспредельность душевной жизни, объективировать ее и сделать открытой для доступа. Поэтому ответ маэстро не должен вызывать удивления: «Пусть верят легковерные и пошляки, что все скорби лечатся ежедневным прикладыванием к детородным органам древнегреческих мифов. Мне все равно» (из интервью Альфреду Аппелю).
Зинаида Шаховская считает Набокова агностиком, причем его агностицизм усиливался с годами, распространяясь все дальше и глубже, в конце концов дойдя «до какого-то потустороннего страха или отвращения от всего, что связано с христианством». Она приводит немало убедительных примеров, и похоже, что это на самом деле так: по крайней мере отсутствие креста на могиле писателя– немыслимое для русской эмиграции – свидетельствует именно об этом.[162] Бог, чей образ еще мерцает в юношеских стихах и рассказах Сирина, со временем исчезает полностью, так как отпечаток нивелирующей «всеобщности» лежит и на нем. «Я не могу, не хочу в Бога верить, – читаем мы в романе «Отчаяние», – еще и потому, что сказка о нем – не моя, чужая, всеобщая сказка, – она пропитана неблаговонными испарениями миллионов других людских душ (?! – Я. К.), повертевшихся в мире и лопнувших». Никакая «соборность» в набоковском мире невозможна, и если, скажем, А. С. Хомяков посвятил свою жизнь доказательству того, что истина недоступна отдельному человеку, она может открыться лишь соборно, в Церкви, то Набоков был убежден в совершенно обратном. Если у него и был Бог – тот, кто «окружает так щедро человеческое одиночество», Бог, изредка приоткрывающий избранным «восхитительную подкладку» бытия, – то это Бог абсолютно личный: мой Бог и никогда ничей другой, не имеющий ничего общего с богами всех мировых и национальных религий…
Борхес, рассказывая о своем Фунесе, замечает, что этот человек, обладавший невероятной памятью, «был почти совершенно не способен к общим Платоновым идеям. Ему не только было трудно понять, что родовое имя «собака» охватывает множество различных особей разных размеров и разных форм; ему не нравилось, что собака в три часа четырнадцать минут (видимая в профиль) имеет то же имя, что собака в три часа пятнадцать минут (видимая анфас)». И далее: «Он (Фунес – Я. К.) без труда изучил английский, французский, португальский, латинский. Однако я подозревал, что он был не очень способен мыслить. Мыслить – значит забывать о различиях, обобщать, абстрагировать. В загроможденном предметами мире Фунеса были только подробности, к тому же лишь непосредственно данные».
Конечно, Фунес – это предел, гипербола, с такой памятью и таким видением жить невозможно: недаром у Борхеса он умирает совсем молодым. Набоков же, существуя долгие годы в мире «слепцов» и «прозрачных людей», волей-неволей пользуется абстракциями и обобщениями, ему приходится надевать маски, скрываться, играть, поэтому «общие идеи», «духовные запросы» и даже «отзывы на современность» проникают в его книги, причем иногда в изобилии, но всегда с заднего хода, контрабандным путем. По необходимости ему приходится быть не только «писателем», но и «пишущим». В одном месте он прямо говорит о том, что мог бы назвать себя сторонником «искусства для искусства», если бы эта теория опять-таки давно не стала общим местом.
Итак, идеологии подобны шорам на глазах людей XX столетия: человек стремится постигнуть и объяснить «реальность» с помощью социальных или религиозно-философских обобщений, но это стремление, по Набокову, оборачивается поразительной слепотой к единичному – к вещам, природе, к той же человеческой личности. Проходной персонаж в «Даре», литератор Ширин («…он был слеп, как Мильтон, и глух, как Бетховен»), написавший роман о «мировых проблемах», стоя час в зоопарке у клетки с гиеной, занятый литературно-партийными распрями, не заметил ни клетки, ни гиены, тогда как Сирин – Набоков увидел бы в них десятки деталей и оттенков. Этот его дар не имеет себе равных; им же он наделяет и своих избранных персонажей. «Не только глаза мои другие, и слух, и вкус, – пишет в тюрьме Цинциннат, – не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, но главное: дар сочетать все это в одной точке…»
Однако все оказывается не так просто. Образы «слепца» и «ясновидящего» проходят через все набоковские тексты – но как видеть и что?.. Автор «Дара», говоря все о том же Ширине, отваживается на обобщения – все же без них не обойтись! – и мимоходом рисует образ русского литератора-середняка с присущей ему «святой ненаблюдательностью», «полной неосведомленностью об окружающем мире» и «полной неспособностью что-либо именовать», литератора, которому «неким благотворным роком» отказано в благодати чувственного познания. Но, словно чувствуя недостаточность своего обобщения, автор тут же оговаривается, вспоминая о том, что «бывает… в таком темном человеке играет какой-то собственный фонарик» и «известны случаи, когда по прихоти находчивой природы… такой внутренний свет поразительно ярок – на зависть любому краснощекому таланту». И далее следует внезапный выпад в адрес Достоевского – он «всегда как-то напоминает комнату, в которой днем горит лампа». Этот «снижающий» образ на самом деле поразительно точен – здесь сокрыто самое существенное. Какое видение мира истинно – внешнее или внутреннее?.. Набоков, вроде бы полностью чурающийся метафизических тем, выводит нас на вечные, хотя, впрочем, довольно архаичные темы философского гнозиса, возвращающие нас к мистическим спорам средневековья, полемике номиналистов и реалистов, или эмпириков и метафизиков – в Новое время…
Тут уместно будет провести еще одну параллель. У Сэлинджера в одной из повестей о семействе Глассов приводится даосская притча (помимо всего прочего, она выражает и эстетику американского писателя). Некий князь Му, повелитель дзинь, сказал Бо Лэ: «Ты обременен годами. Может ли кто-нибудь из твоей семьи служить мне и выбирать лошадей вместо тебя?» Бо Лэ отвечал: «Хорошую лошадь можно узнать по ее виду и движениям. Но несравненный скакун – тот, что не касается праха и не оставляет следа, – это нечто таинственное и неуловимое, неосязаемое, как утренний туман… Однако есть у меня друг, по имени Цзю Фангао… он не хуже меня знает толк в лошадях…» Князь послал Цзю Фангао на поиски лошади. Тот через три месяца привел ему ее, сказав, что это гнедая кобыла. Но оказалось, что это на самом деле черный жеребец… Рассерженный князь вызвал к себе Бо Лэ: «Что твой друг понимает в лошадях, если даже масть назвать не сумел?» Бо Лэ вздохнул с глубоким облегчением: «Неужели он и вправду достиг этого?… Тогда он стоит десяти тысяч таких, как я… Ибо он проникает в строение духа, постигая сущность, он забывает несущественные черты; прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечать ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, на что смотреть не стоит…» И когда привели коня, оказалось, что он поистине не имеет себе равных…
В нашем контексте эта притча имеет очевидный «антинабоковский» смысл. Эстетика создателя «Лолиты» прямо противоположна: его как-будто совершенно не волнует то, к чему испокон веков стремились не только все метафизики и мистики, но и многие художники, поэты, – проникнуть за покрывало Майи, увидеть за обманчивой красотой чувственного мира иное, скрытое, как говорили платоники, истинно-сущее бытие. Иногда даже кажется, что как-то незаметно из демиурга, свободно и полновластно творящего из «реальности» все, что он захочет, Набоков превращается в пленника собственного дара, своего поразительного видения, своей памяти, пленника, что намертво прикован к беспредельности и многообразию «вещного мира», не отпускающего его ни на минуту и не дающего ему уснуть…
Но все опять-таки намного сложнее, и всевозможные авторские маски еще больше запутывают и читателя, и исследователя. Разумеется, ни молодой русский писатель Сирин, ни респектабельный американский литератор Набоков никогда не был тем «абсолютным эмпириком» и «номиналистом», каким он хотел бы порой казаться. Некое тайное знание, привкус потустороннего постоянно проступает сквозь ткань набоковских текстов: за пределами дольнего мира существует другой – призрачный и непостижимый.[163] Его избранные персонажи сполна обладают этим тайным знанием, как Адам Фальтер из «Ultima Thule», но, увы, невыразимым и непередаваемым человеческой речью; ведь чтобы передать знание, надо единичное обобщить в форме мысли, сделать достоянием хотя бы двух-трех человек, т. е. объективировать, как сказал бы Бердяев. «Я знаю, я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо!» – твердит в своей тюрьме Цинциннат. А весь сложный и многообразный язык, тысячелетиями создававшийся для этого пророками, поэтами, богословами и мистиками в разных частях земного шара, его не удовлетворяет, ибо это не им созданный, а чужой, отвлеченный язык, и в результате Набоков – если воспользоваться ненавистным ему общим понятием – приходит к полному солипсизму и оказывается наедине со своей тайной перед молчащей вселенной. С годами его внутреннее отчуждение от человеческого мира становится все сильней. Автор «Ады» и «Бледного огня» видит то, чего не видят другие, но не видит того, что видят они. Встреча «Я» и «Ты» все менее возможна в его мире, и в результате всевидящий Набоков в отношении к Другому оказывается все чаще слепым. Как художник он хотел бы оставаться только им, все сполна находя в том «восхитительном обмане», что именуется искусством, но, как любой гений, он выходит за рамки относительного и претендует на абсолютное – на всевидение, прорывается к метафизике и религии, вместе с тем не принимая ни того, ни другого, ибо чувствует, что их обобщенный язык и универсализм таят в себе угрозу для его искусства. Религиозно-философское творчество часто разрушает художественное – пример ценимых Набоковым Гоголя и Толстого у всех на виду; и здесь еще раз обнажается глубокая драма между метафизикой и религией, с одной стороны, и искусством – с другой: видение единичного ведет к забвению всеобщего, метиафизика грозит уничтожить искусство, искусство страшится метафизики, ибо понимание и объяснение бытия может быть несовместимо с его созерцанием и именованием. Когда читаешь набоковскую лекцию о Достоевском – авторе «сентиментальных» и «детективных» романов, поражает то, что Набоков искренне не понимает, о чем идет речь, ибо для него как заслоняет всю глубину проблематики Достоевского: религиозно-метафизические темы автора «Бесов» для него не существуют.[164] В результате от всех «Братьев Карамазовых» – как в воображаемом диалоге с Кончеевым в «Даре» (кстати, и это очень важно, любой диалог для Набокова может быть только воображаемым) – остается лишь деталь: крохотный след от мокрой рюмки на садовом столе…[165] Но в конце концов кто был подлинным «ясновидящим»: Набоков или Достоевский, в самом деле порой неспособный отличить «гнедую кобылу» от «черного жеребца», но обладавший таким внутренним видением, которое проникало в глубинную тайнопись мироздания?..
Молодой Набоков после вторичного прочтения «Преступления и наказания», которое ему категорически не понравилось, пишет замечательное по точности стихотворение «Достоевский»:
Тоскуя в мире, как в аду, уродлив, судорожно-светел, в своем пророческом бреду он век наш бедственный наметил. Услыша вопль его ночной, подумал Бог: ужель возможно, что все дарованное Мной так страшно было бы и сложно?Если же говорить о Набокове и Борхесе, то, вопреки широко распространенному мнению, их сходство сильно преувеличено. Да, их творчество насквозь «литературно», оба они воспринимали искусство как «божественную игру», у того и у другого легко обнаружить черты, сближающие их с постмодернизмом, но писателей с такими характеристиками немало в XX столетии. Различия же меж ними фундаментальны: Борхес, которому провидение отказало в «благодати чувственного познания», проведший во тьме большую часть своей жизни, всегда шел от общего к частному, он был в равной степени как «писателем», так и «пишущим», это как раз тот заостренный до предела случай, когда физически слепой человек благодаря своему «внутреннему свету» создал то, что в самом деле и не снилось никакому «краснощекому таланту». И подобно тому, как Альбер Камю напоминает одного из героев Достоевского, Набоков иногда выглядит одним из персонажей, блуждающих в борхесовских лабиринтах, что, конечно, нисколько не умаляет его значения… Вообще говоря, ответ на все эти вопросы, казалось бы, предельно прост – его можно обнаружить в любом учебнике по эстетике: чувственное познание должно сочетаться с внутренней интуицией, художественное творчество – с метафизическим и мистическим, одиночество – со способностью к коммуникации; но в нашем не терпящем совершенства мире такое встречается крайне редко – чаще всего дар всевидения соседствует со слепотой, а гениальность – с поразительной ограниченностью.
Впрочем, «объясняя Набокова» и используя язык в транзитивном смысле, я тут же отдаю себе отчет, что нелепо объяснять того, кто считал этот мир принципиально необъяснимым: всякое объяснение убивает тайну – то, что автор «Приглашения на казнь» ценил превыше всего; когда исчезает тайна, мир становится прозрачным. Его же тайна, сколько бы ее не объясняли, видимо, останется тайной навсегда. К тому же, беспрестанно меняя обличья, ракурсы, точки отсчета[166] и заметая следы, он, более чем кто-либо другой, не желал, чтобы тайна его внутренней жизни посмертно стала всеобщим достоянием. Для ее выражения ему был необходим другой, нечеловеческий язык, подобно «зембляндскому» языку в «Бледном огне» (или тому, который у Борхеса создает Фунес), – его гордость воистину беспредельна.
«Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», – сказал Набокову когда-то Бунин. Мне трудно судить, как это произошло, но похоже, что пророчество Бунина не оправдалось. Однако в романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» биограф главного героя, писателя, создает после его смерти книгу «Трагедия Себастьяна Найта», и там мы читаем следующее: «Не перенося грубости мира, раненный этой грубостью, Найт скрывал за маской свою боль, но маска эта превратилась в чудовищную реальность». Надпись, начертанная когда-то на груди Себастьяна Найта: «Я одинокий художник», – была изменена чьими-то «невидимыми перстами» на «Я слеп»…
Возможно, это и не имеет к трагедии создателя «Себастьяна Найта» непосредственного отношения, но так или иначе, для того чтобы рассказать о своей трагедии, Набоков, подобно своему другому любимцу – Цинциннату, должен был покинуть этот мир и отправиться «в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».
Чувство абсолютной уникальности собственного мира, сопутствующее детству и отрочеству всякого человека, но с годами, как правило, постепенно стирающееся, похоже, изначально определило все творчество Владимира Набокова. Он смог сохранить его до конца, непреклонно сопротивляясь бесчисленным способам «обобщения», благодаря которым существует любое общество. Если его современник, православный христианин и экзистенциальный философ Николай Бердяев писал в «Самопознании»: «Иногда кажется, что мой человеческий мир не похож на другие человеческие миры, и что мой Бог не похож на Бога других людей. Общим же, скажем, наиболее понятным является наиболее банальное, лишенное индивидуальности, отвлеченно-общее», – то Набокову так «не казалось», он был в этом, без сомнения, убежден. И хотя с этим высказыванием Бердяева он бы согласился, трудно сказать, принял ли бы он вторую его часть: «Великая задача, к которой нужно стремиться, это достигнуть общности, общения, понимания в наиболее индивидуальном, оригинальном, единственном…» Своеобразный гностический эзотеризм[167] – да позволительно будет так обозначить то, что исповедовал Набоков, – при любом общении, при соприкосновении «Я» и «Ты», рано или поздно обрывается молчанием: общение хотя бы без частичного отказа от собственной уникальности немыслимо…
Противники и критики набоковского творчества обычно видят в нем неглубокого сноба, капризного эстета, «стилиста», «талантливого пустопляса», или же «чудовище», «безбожника», порвавшего с традициями отечественной литературы, лишенного какой-либо метафизической и религиозной глубины. Его почитатели в этих же чертах усматривают неоспоримые достоинства, и ни с чем не сравнимую словесную стихию его книг предпочитают всем «безднам» и «глубинам», столь присущим русской литературе. Но и тут, и там как-то исчезает таинственный айсберг, тщательно сокрытый писателем и от своих читателей, и от критиков, и от поклонников. Еще в самом начале, в 1924 году, им было написано стихотворение «Шекспир», столь существенное по своему смыслу, что его хотелось бы частично напомнить:
…и скрыл навек чудовищный свой гений под маскою, но гул твоих видений остался нам: веницианский мавр и скорбь его; лицо Фальстафа – вымя с наклеенными усиками; Лир бушующий… Ты здесь, ты жив – но имя, но облик свой, обманывая мир, ты потопил в тебе любезной Лете…Набоков восхищается Шекспиром прежде всего потому, что тайна его личности скрыта от потомков. В стихотворении авторский голос вопрошает:
…Отвечай, кого любил? Откройся, в чьих записках ты упомянут мельком? Мало ль низких, ничтожных душ оставили свой след — каких имен не сыщешь у Брантома! Откройся, бог ямбического грома, стоустый и немыслимый поэт!..Века по-прежнему молчат, но автор стихотворения здесь невольно выдает и собственное желание: сокрыть свою личность от современников и потомков, подобно тому, как скрыта от нас личность великого англичанина:
Нет! В должный час, когда почуял — гонит тебя Господь из жизни, – вспоминал ты рукописи тайные и знал, что твоего величия не тронет молвы мирской бесстыдное клеймо, что навсегда в пыли столетий зыбкой пребудешь ты безликим, как само бессмертие… И вдаль ушел с улыбкой.У позднего Набокова это желание, по всем признакам, стало еще сильнее – вслед за своим Цинциннатом он словно хочет уже реально совершить ту «гносеологическую гнусность», за которую судили его персонажа: посмертно остаться столь же «непрозрачным» и непроницаемым, как и его герой. Это стремление более чем понятно, однако в условиях современной цивилизации подобное непозволительно – эпоха «смесительного упрощения», или «восстания масс», как называли ее Константин Леонтьев и Ортега, во второй половине XX столетия переходит в сверхинформационное общество, где господствует «экстаз коммуникации» (Ж. Бодрийар), когда все хотят иметь информацию обо всем, но не знать ничего по существу. Цивилизация становится «непристойной» именно потому, что таинственного, святого для нее более не существует. Для «экстаза коммуникации» нет ничего интимного или недоступного: частная жизнь писателя, операции наркомафии, самоубийство кинозвезды, голод в Африке – все это вещи одного порядка, все будет выброшено на информационный рынок. Так что стремление автора «Приглашения на казнь» становится в самом деле похожим на преступную по отношению к духу времени «гносеологическую гнусность» – скрыться можно было в XVII столетии, но не сегодня: в цивилизации, где люди все более одиноки, вместе с тем подлинное одиночество оказывается все менее осуществимым. И настойчивые попытки Набокова сохранить в себе и вокруг себя живое пространство, где еще реальны созерцание, тишина, тайна, свобода, можно назвать утопией одиночества. Во все более прозрачной действительности для сохранения этого пространства требуются нечеловеческие усилия, и то, что еще недавно было уделом и бременем всех, ныне становится кастовой привилегией, в самом деле утопией, тем состоянием, которому в этом мире больше места нет.
1992 г.
Крах «литературоцентризма»: истина или изящная словесность?
На самом деле, я всю жизнь относился к себе – и это главное! – прежде всего как к некой метафизической единице… И главным образом меня интересовало, что с человеком… происходит в метафизическом плане. Стихи, на самом-то деле, продукт побочный, хотя всегда считается наоборот.
Иосиф БродскийКто первым пустил в оборот легенду о «литературоцентризме» (слово неблагозвучное, но для краткости придется им пользоваться) русской культуры? И что это означает, в конце концов?…
Как правило, под этим подразумевается, что слово и словесность в русской культуре, по крайней мере с середины XIX в., играли совершенно исключительную роль, невозможную ни в какой другой национальной культуре. Слово получило в России сакральное значение, и светская литература, соответственно, превратилась в особую, можно сказать магическую реальность, диктующую жизни свои нормативы и предписания и сыгравшую роковую роль в отечественной истории. Соответственно, создатели литературных текстов любого рода – от поэтических до критических – выполняли функцию не просто писателей, а служителей литературного культа, своего рода жрецов и магов, в силу этого обладавших существенной властью над жизненной реальностью. Такое положение литературы не только не изменилось, но по известным причинам еще больше усилилось в коммунистической России. Поэтому крушение советской империи, не малую роль в котором сыграла опять-таки литература, в свою очередь привело к краху «литературного культа» и крушению «литературоцентризма». Литература утратила свою сакральную, магическую функцию и превратилась в ни к чему не обязывающую «словесность», что поставило под угрозу дальнейшее существование великой литературной традиции и самого класса «властителей дум» – литературных магов.
Естественно, ситуация вызвала «великую депрессию» среди творцов и создателей текстов: если магическая функция литературы исчезла (точнее – перешла во владение медиакратии), то, соответственно, писатель более не жрец этого уникального культа, пользующийся почти мистическим поклонением, а неизвестно кто – то ли литературный пролетарий, то ли интеллектуальный бомж. Зачем, спрашивается, в таком случае продолжать бесконечное продуцирование текстов, если они не только не оказывают на реальность прежнего воздействия, но вообще не вызывают никакого резонанса, проваливаясь в пустоту…
90-е годы прошли под знаком поминок по «литературному культу», существовавшего в уникальной литературной цивилизации. Пишущая братия на разные голоса оплакивала (не обошлось, впрочем, и без злорадства) ее скоропостижную преждевременную кончину – конец литературы, исчезновение поэзии, гибель культуры, конверсия искусства и т. д.
«Ежегодно над русской словесностью разносится стон, что этой словесности нет и в помине… Никогда еще русская литературы не была так обильна, и еще никогда с такой силой не ощущалась ее израсходованное^», – констатирует Александр Гольдштейн в «Расставании с нарциссом» – блестящей и, бесспорно, лучшей книге на эту тему. Но мне кажется, что он слишком сгущает краски, говоря о нарциссической влюбленности литературы в саму себя – отсюда и название книги: «Это была нарциссически собой упоенная абсолютно самодостаточная литературная цивилизация, духовно исключительно интенсивная, которая в какой-то момент не смогла выдержать собственной красоты». Сказано эффектно, ярко, но… Мне представляется, здесь происходит путаница понятий – как сказали бы современные парижские умники, означаемое перепутано с означающим, а причина со следствием. Конечно, я не могу утверждать, что ничего подобного не происходило. Да, произошло крушение определенной литературной модели (соотношения жизни и литературы), которое на Западе протекало в течение долгого времени, а у нас случилось за считанные годы и потому оказалось драмой, даже трагедией… Но здесь изначально возникло смешение двух различных функций литературы:
а) литературы как социальной магии, являющейся орудием, средством (что так возмущало Владимира Набокова), но не целью, и в секуляризированном обществе выполняющей «магическую роль»;
б) литературы как собственно belles– lettres, «изящной словесности», как самоцели, как ценности в себе и для себя.
Конечно, это разделение условно, но в русской культуре XIX–XX веков легко увидеть (за некоторыми исключениями) преобладание магической функции литературы, поэтому в строгом смысле говорить ни о каком литературоцентризме невозможно. Литература в России не являлась самоцелью, а выступала в качестве служительницы культа, орудием, влияющим, меняющим или, наоборот, поддерживающим определенную жизненную реальность. И только во втором случае, когда литература по преимуществу выступает в качестве изящной словесности, может возникать подлинный «литературоцентризм» и нарциссическое самоупоение, которое без труда мы обнаруживаем, скажем, в одной из самых старых и утонченных европейских литератур – французской…
Гибель империи: литература как социальная магия
Итак, кто был первым создателем этой легенды и этого смешения? Я думаю, полноправным обладателем копирайта является Василий Васильевич Розанов. Именно с его легкой руки уже почти столетие эта легенда бродит по страницам книг и журналов. Идея об исключительной – и одновременно роковой и трагической – роли литературы на Руси звучит и в «Опавших листьях», и в «Апокалипсисе…». Но ее квинтэссенция – текст под названием «С вершины тысячелетней пирамиды (размышления о ходе развития русской литературы)», написанный перед смертью в 1918 году, но опубликованный впервые лишь в 1991. Собственно, это не столько текст, сколько предсмертный крик Розанова, поминальный плач, стон, хула, где восхищение перемешано с разочарованием и горечью. История русской литературы, по Розанову, «явление великое, настолько исключительное, что может называться “всемирным явлением” – независимо нисколько от своих талантов…» Почему? Именно потому, что в силу своей сакральной, магической роли она подчинила себе и в конце концов заменила собой жизненную реальность: «“Литература” в каждой истории “есть явление”, а не суть. У нас же она стала сутью. Войны совершались, чтобы беллетристы их описывали (“Война и мир”, “Севастополь”, “Рубка леса”, “Красный смех” Леонида Андреева) и преобразования тоже совершались, но – зачем? Чтобы журналисты были несколько тоже удовлетворены. Если “освободили крестьян” – то это Тургенев и его “Записки охотника”, а если купечество оставили в презрении – то потому… что там было “Темное царство” Островского… Цари как-то пошли на выставку к Пушкину, Лермонтову и Жуковскому или попали под презрение Максима Горького и Леонида Андреева с его “Семью повешенными”. Наконец, даже святые праведники церкви рассортировали^ в старцев Зосим и Ферапонтов Достоевского или пошли в анекдот “Мелочей архиерейской жизни” Лескова».
Отсюда следует сокрушительный вывод: подчинив и заменив собой реальность, литература стала причиной гибели «тысячелетнего царства», величайшей империи нового времени: «“Литература”, которая была “смертью своего отечества”… Этого ни единому историку никогда не могло вообразиться… Еще никогда не бывало случая, “судьбы”, “рока”, чтобы “литература” сломила, наконец, царство, разнесла жизнь народа по косточкам, по лепесткам… – завертела, закружила все и переделала всю жизнь… в сюжет одной из повестей гениального своего писателя – “Записки сумасшедшего”».
Иначе говоря, русская литература создала виртуальную реальность, образы и архетипы более мощные, чем сама жизнь, которая вольно или невольно стала их имитировать. Означающее стало важнее означаемого… Розанов пишет страстно, запальчиво, приводя разнообразные примеры и аргументы, и необыкновенно убедительно – обвиняя литературу, он втайне гордится ею – великая, удивительная, ни с чем не сравнимая! Как можно ему не поверить?! Кстати, вслед за Розановым эту мысль на все лады повторяют и современные критики: «Русскую жизнь изуродовали хорошие книги, для меня это даже не аксиома, а тысячекратно доказанная теорема, не априори, но апостериори» (Б. Парамонов).
Но… дело в том, что в подобной ситуации не было ничего уникального. Если внимательно вглядеться в европейскую историю нового и новейшего времени, то можно увидеть невооруженным глазом – едва ли не все знаменитые революции произошли во многом благодаря литературе, начиная с реформации или, по крайней мере, французской революции 1789 года. Без литературы французского просвещения, без прав человека, ядовитой сатиры, рационализма, антиклерикализма революция во Франции вряд ли бы вообще произошла, по крайней мере в том виде, в каком мы ее знаем. Литература здесь точно так же выступила в качестве социальной магии, меняющей жизнь сначала одиночек, а затем сословий и классов. Историки неоднократно отмечали тот роковой факт, что XVIII век во Франции поражает полным отсутствием литературно-философских талантов среди сторонников монархии и церкви. «В отличие от века XVII – века Паскаля, Боссюэ и Фенелона, – пишет католический историк Патрик де Лобье, – перед лицом Вольтера, Руссо, Дидро, д’Аламбера не нашлось умов, способных оказывать такое же влияние» («Три града. Социальное учение христианства»). «Все это сделали книги», – сказал Вольтер незадолго до смерти, предчувствуя грядущие катастрофы.[168]В конечном счете, 14 июля 1789 года порождено еще Декартом, хотя «эмансипация разума» на площадях Парижа происходила совсем не по-картезиански. Аналогичным образом «бунтующий человек» или «суверенный субъект» образца мая 1968 года легко обнаруживается в текстах Батая, Сартра, Камю.
Нам из XXI столетия XIX век, особенно российский, кажется утраченным и не замеченным современниками раем… Но русский XX век удивительно напоминает XIX век во Франции, начавшийся 14 июля 1789 года. Четыре революции, наполеоновские войны, разрушения и саморазрушения, «штурм небес», богоборчество, закрытие церквей и монастырей, разрушение и восстановление Вандомских колонн, введение новых календарей, неоднократное переименование улиц и площадей. Мы, к счастью или к несчастью, отстали на столетие – многое очень похоже, с той лишь существенной разницей, что галльский дух органически не способен на ту степень саморазрушения, на которую способен славянский, да и техника разрушений была еще просто смешна. И надо ли повторять, что литература в этих процессах сыграла далеко не последнюю роль: «Революционная эпоха была высшей точкой диктатуры литераторов. Когда мы пытаемся охватить одним словом три революционных законодательных собрания, когда мы ищем общий знаменатель для этого сборища деклассированных дворян, бывших военных и бывших капуцинов, то им оказывается всякий раз слово “литератор”. В этой литературе можно найти все признаки упадка, но временно она торжествовала, правила и управляла. Ни одно правление в истории не было столь литературным». (Курсив мой – П. К.)
И далее: «…Абсурдная победа Письменности была полной. Когда исчезла королевская власть, она уступила свое место не “народному суверинитету” (как это обычно говорится): наследником
Бурбонов был литератор». – писал в своей провидческой книге «Об интеллигенции» основатель «Аксьон франсез» Шарль Моррас.[169]
Есть, конечно, страны, не ведающие катастроф, реформаций и революций – о том, что «литература там изуродовала жизнь» говорить не приходится. В этом смысле им можно позавидовать или посочувствовать – кому что нравится.
Идеи и слова взрываются
Когда-то Генрих Гейне предсказывал, что метафизические идеи, выношенные в тиши кабинетов, в далеком будущем могут разрушить цивилизацию. Он говорил о «Критике чистого разума» как о мече, отрубившем голову европейскому деизму, и описывал сочинение, как залитое кровью оружие, которым Робеспьер разрушил французскую монархию. Более того, Гейне предвидел, что националистическая философия Фихте и романтическая метафизика Шеллинга окажется некогда в руках их фанатических немецких сторонников мощным орудием, которое может взорвать изнутри либерально-буржуазную культуру. Идеи, блуждающие в лабиринтах эзотерических философских трактатов, со временем перетекают в литературу, критику, журналистику, в конце концов накопленная энергия достигает критической точки и от, казалось, прочной социальной реальности не остается ничего… Так что Розанов, возложивший исключительную вину на литературу за крушение Российской империи, не увидел, что примерно таким же образом происходило на большей части европейского континента – и только способы выражения и жанры социальной магии в разных странах были, естественно, различны.
Пишущие и писатели: литература и право на истину
К обрисованной ситуации можно подойти и с другой стороны, но для этого придется повторить уже известное читателю высказывание Ролана Барта: «Писатель исполняет функцию, а пишущий занимается определенного рода деятельностью… Писатель – тот, кто обрабатывает (даже вдохновенно) свое слово и его функции полностью поглощаются этой работой…» Слово писателя «подвергаясь (бесконечно) обработке становится как бы сверх-словом, действительно служит ему лишь предлогом… слово, следовательно, не способно объяснять мир, а если оно как будто и объясняет его, то лишь затем, чтобы позднее мир вновь предстал неоднозначным…».
Поэтому писатель, утверждает Барт, в силу своего экзистенциального выбора отказывается от двух типов слова:
во-первых, от учительства, ибо по самой сути своего проекта он невольно превращает всякое объяснение мира в театральное представление, неизбежно вводит в него неоднозначность;
во-вторых, от свидетельства, ибо, отдавшись слову, писатель утрачивает наивность. «Крик нельзя подвергать обработке – иначе кончится тем, что главным в сообщении станет не сам этот крик, а его обработка; отождествляя себя со словом, писатель утрачивает всякие права на истину, ибо язык – если он не сугубо транзитивен – это структура, цель которой (по крайней мере со времен греческой софистики) – нейтрализовать различия между истиной и ложью».
Пишущие же – «это люди “транзитивного” типа: они ставят себе некоторую цель (свидетельствовать, объяснять, учить), и слово служит лишь средством к ее достижению… Пусть даже пишущий и уделяет некоторое внимание своему письму, но онтологически он этим не озабочен – главный его интерес в другом…» И самое существенное в том, что «определяющей чертой пишущего является наивность его коммуникативного проекта: пишущий и мысли не допускает, чтобы написанное им сосредоточилось и замкнулось в себе, чтобы там можно было вычитать между строк нечто иное, нежели он сам имел в виду».
Если спроецировать этот фрагмент из Барта на русскую литературу, то получится необыкновенно любопытная картина. Она требует подробного анализа и описания, но мне придется ограничиться лишь краткими замечаниями. Возьмем сначала XIX век. Если на время, наконец, оставить в покое Пушкина, то окажется, что все великие «мастера слова» были по преимуществу пишущими, а если они и были писателями, то, скорее, на бессознательном уровне. Русский идеал – «правда-истина и правда-справедливость» (Н. Михайловский), общий для всей литературы XIX века, заставлял их, в первую очередь, свидетельствовать, объяснять, учить, проповедовать, и слово было орудием для достижения именно этих целей. Главной чертой их литературного проекта изначально была наивность, по крайней мере, до того момента, пока они не осознавали, что их слово отозвалось совсем не так, как им хотелось бы. Что бы там не писал Набоков о Гоголе (как всегда блестяще), невозможно отрицать тот элементарный факт, что этот гениальный, погруженный в слово писатель, тем не менее, и в «Ревизоре», и в «Мертвых душах» был одновременно и пишущим и преследовал проповеднические цели. Он хотел, чтобы люди увидели себя, как в зеркале, устыдились, и тем самым изменился бы мир. «Неудача» этого проекта (многозначность созданных им образов приводит к тому, что самые отталкивающие картины и персонажи вдруг вызывают не стыд и отвращение, а эстетический восторг) приводит писателя Гоголя к краху. Он сознательно отказывается от этой роли и в «Переписке с друзьями» полностью становится пишущим – проповедующим, свидетельствующим, пророчествующим. Толстой в этом отношении во многом повторяет путь Гоголя. Для молодого Толстого литература – это форма самосовершенствования и одновременно способ служения добру и борьбы со злом. «Война и мир» посвящена сокрушению главного морального зла – мифа о Наполеоне, который своими подвигами и злодействами околдовал весь просвещенный мир. Являясь писателем (ибо только погружение и отождествление себя со словом рождает эффект доподлинности и вызывает сопереживание), Толстой сознательно выступает в роли пишущего, опять-таки свидетельствуя и проповедуя, а тотальное проповедничество позднего Толстого и отрицание им искусства во имя морали является лишь завершающим аккордом на этом пути. Еще в большей степени, я думаю, пишущими были Гончаров, Достоевский, Гаршин, не говоря уже о либералах и демократах, включая Салтыкова-Щедрина (особенно интересно сочетание писателя и пишущего в Лескове, но это отдельная тема). Можно было бы сказать, что писателем в наибольшей степени был Тургенев, но, я думаю, что свидетельствование, объяснение и служение при его главном желании идти в ногу со временем и отражать «общественные веяния» были для него важнее, чем собственно письмо. Чехов? Да, видимо в XIX веке он первый безусловный писатель, за что собственно его и не замечали современники и за что ему так доставалось от современной критики. Вслед за ним по преимуществу писателем становится Бунин (как только он освобождается от толстовско-народнического влияния), но в XX столетии конечно же главным и безусловным писателем является Набоков. Отсюда, кстати, и его полное неприятие Достоевского, который был для него квинтэссенцией пишущего, использующего слово в транзитивном смысле для выражения и столкновения идей, вер, идеологий.
Символисты, сознательно противопоставив себя традициям XIX века, в отношении к слову изменили лишь его направленность и нагрузку, но, в сущности, в большинстве своем также остались пишущими. Им мало было быть только художниками, только писателями, они, как известно, претендовали на неизмеримо большее – быть пророками, мистагогами, оракулами, через которых говорит не только красота, но истина и тайна. Слово в эстетике символизма по-прежнему транзитивно – оно орудие теургии, средство для выражения религиозных откровений и религиозных интуиций. Как писал Мандельштам, это «утилитаризм более высокого порядка», но все равно он приносит «язык в жертву мистической интуиции, антропософии и какому бы то ни было всепожирающему и голодному до слов мышлению». Архетип символистского отношения к слову, для Мандельштама, – Андрей Белый – «болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка только потому, что он нещадно и бесцеремонно гоняет слово, сообразуясь исключительно с темпераментом своего мышления».
Отсюда ясно, что теми, кто принципиально отказывается от любых попыток транзитивного использования языка и, отождествляя себя со словом, осознанно становятся писателями, были акмеисты. Символисты, я думаю, были бы обескуражены и даже оскорблены фразой Барта – «отождествляя себя со словом, писатель утрачивает всякие права на истину» – эта фраза подрывает всю эстетику символизма; для акмеистов же это почти что аксиома. Цель языка – не познание, метафизика, свидетельство или проповедь, а сам язык, погружение в который и делает человека писателем. Для контраста можно привести и свежий пример: Солженицын в своем жизнеустроительном трактате «Как нам обустроить Россию?» назвал Среднюю Азию «азиатским подбрюшьем» России. С точки зрения литературы, метафора удачна, но вся Средняя Азия обиделась на Солженицына. Естественно, что миллионы людей, десятки народов никак не должны быть чьим-либо «подбрюшьем», ни в историческом, ни в геополитическом смысле, тем более в устах писателя-моралиста.
Акмеисты как будто «скромнее» символистов, но за этой скромностью и отсутствием метафизических претензий скрывается, можно сказать, «флоберовская» революция – пресыщение жизнью, скепсис, разочарование, агностицизм, усталость, все то, что заставляет человека замкнуться в языке, и справедливо именуется «декадансом».
Два и два – четыре Два да три – пять Вот и все, что мы можем, Все что мы можем знать. М. КузминВ строгом смысле именно акмеисты, а не символисты, стали первыми настоящими русскими «декадентами». И слова Чехова о первых русских символистах – купеческих сынках, игравших в декаданс, абсолютно справедливы: «Да какие они, батенька, декаденты, на них пахать надо».
Язык как замкнутая структура – последнее прибежище «декадента», он уже во всем разочарован, не верит ни в какую религию, ни в возможность нахождения истины. «Мир существует для того, чтобы войти в книгу» (Малларме). Получается любопытный вывод: всякий подлинный писатель, в бартовском смысле, всегда в той или иной степени – «декадент».
Писатель как «декадент»: литература и изящная словесность
В акмеистах очень важно то, что они в большинстве своем были галломанами. Германские пристрастия символистов, немецкий романтизм, Ницше и Вагнер для Кузьмина – дурной тон: хаос, пафос, трагизм, «немецкое варварство». Весь «Цех поэтов» во главе с Гумилевым, во-первых, отворачивается от отечественной традиции – не принимает всю русскую прозу (за исключением Достоевского, и то лишь в небольшой степени) и поэзию (кроме Баратынского, Пушкина, Тютчева). И во-вторых, германское влияние на русскую, прежде всего символистскую, литературу считают порочным. Культ французской словесности для акмеистов абсолютен: имена Теофиля Готье, Бодлера, Леконт де Лиля, Эредиа, Рембо, Аполлинера и т. д. произносились с особым шиком, звучали как утонченная музыка в «варварской» России. В холодном и голодном 1919 году Гумилев на глазах у молодых поэтов с наслаждением сжигает в камине роскошное тридцатитомное собрание сочинений Шиллера на немецком языке: «Германскую культуру он ненавидит, а признает только романскую. Все, что в русской культуре идет от германской – отвратительно. Он счастлив, что может истребить хоть один экземпляр Шиллера» (Н. Чуковский. «Литературные воспоминания»). Интуиция не обманывала акмеистов, все они, как правило, владевшие французским языком, делали свой выбор вполне сознательно – ни в одной культуре мира не существует такого культа belles-lettres, как в романской.
Когда Бердяев в 20-е годы в эмиграции во Франции непосредственно столкнулся с пресыщенной, предельно утонченной, по-настоящему нарциссической романской культурой, чувствовавшей себя «единственной законной наследницей универсальных начал греко-римской цивилизации», даже его, казалось бы, столь органичного «русского европейца» удивлял и поражал рафинированный, искусственный галльский дух, тот культ литературы среди французских интеллектуалов, что в большинстве своем был совершенно неведом его соотечественникам. В «Самопознании» он с раздражением вспоминает о том, что французские интеллектуалы помешаны на культуре, «раздавлены ею», что все проблемы рассматриваются ими лишь в культурно-исторических отражениях, т. е. во вторичном, а не в первичном. Это связано с глубоким разочарованием, с культурным скепсисом, с неверием в возможность решения проблем по существу, с полным отторжением от всего природного и поглощенностью культурным: «Французы, замкнутые в своей культуре, сказали бы, что они находятся в стадии высокой культуры (цивилизации), русские же еще не вышли из стадии “природы”, т. е. варварства». В качестве примера, как одного из наиболее свободных людей, Бердяев приводит своего друга, Шарля дю Боса, «духовного аристократа», сочетавшего искренность и благородство со «своеобразным эстетическим фанатизмом… Он жил культом великих творцов культуры… был фанатик великой культуры и ее творцов. Но меня больше всего поражало, – вспоминает Бердяев, – до чего он целиком живет в литературе и искусстве. Все проблемы ставились для него в литературном преломлении. Чудовищное преувеличение литературы во Франции есть черта декаданса. Когда молодой француз говорил о пережитом им кризисе, то обыкновенно это означало, что он перешел от одних писателей к другим, например, от Пруста и Жида к Барресу и Клоделю. Россия страна великой литературы, но ничего подобного у нас не было». Это очень точная характеристика: я думаю, именно такую модель и следует называть «литературоцентризмом».
В свое время молодой Толстой, с его культом правды и природы, прочитав Руссо, был настолько поражен созвучием взглядов, что некоторое время носил на шее медальон с портретом философа: он получил авторитетное подтверждение от знаменитого европейца, что все природное – подлинно, а искусственное и цивилизованное – лживо. Современник Толстого Бодлер, учитель русских акмеистов, в «Поэте современной жизни» пишет программный текст «Похвала косметике» против природы (т. е. Руссо), противопоставляя всему природному и естественному – искусственное и «истинно цивилизованное». «Природное отжило свое» – у Бодлера этот тезис подробно сформулирован в качестве своеобразной онтологии декаданса, все «прекрасное и благородное» – продукт цивилизации, все подлинное, вопреки Руссо и Толстому, искусственно и внеприродно. Насилие, варварство, убийства, каннибализм как раз продукт природы, даже добродетель, по Бодлеру, – результат развития цивилизации. Мы прочитываем здесь гимн всему созданному, искусственному, сложно-изысканному, утонченному, поэзия и искусство венчают цивилизацию и становятся ее высшей ценностью.
«Мы, цивилизации, – мы знаем теперь, что мы смертны… Мы чувствуем, что цивилизация наделена такой же хрупкостью, как жизнь, – так начинается знаменитый «Кризис духа» Поля Валери. – Обстоятельства, которые могут заставить творение Китса и Бодлера разделить участь творений Менандра, менее всего непостижимы: смотри любую газету».
Скажите, ну кто из русских писателей первого ряда, не исключая и Константина Леонтьева, мог бы написать нечто подобное? Причем тут Ките и Бодлер, если все погибнет?! Мир и его история оправданы только запечатленным словом. Для Борхеса это уже традиция, существующая в западной культуре с незапамятных времен, он возводит ее даже к Гомеру (в восьмой песне «Одиссеи» говорится, что боги создают злоключения, дабы будущим поколениям было о чем петь) и бл. Августину, который первым в эпоху раннего средневековья начал читать не вслух, а про себя. Через столетие, согласно Борхесу, это приводит «к идее книги как самоцели, а не орудия к достижению некой цели. Эта мистическая концепция, перейдя в светскую литературу, определит необычные судьбы Флобера и Малларме, Генри Джеймса и Джеймса Джойса» («О культе книг»).
Итак, из пишущего создатель текстов становится, наконец, подлинным писателем, в своем роде мистиком, алхимиком слова, и одновременно мучеником и аскетом, терзающим себя дни и ночи, чтобы добыть драгоценные крупицы. Мученик слова Флобер, которому за день упорнейшего труда удается сочинить несколько предложений, по Борхесу, и есть образец настоящего писательского удела. Нужно ли говорить о том, что ничего подобного в такой степени в русской литературе мы не находим – слово «мученик» в применении к писательству означает, как известно, совсем другое. А если в XX веке мы и обнаруживаем «последователей» Флобера и Малларме, то, я думаю, ни у кого язык не повернется назвать Набокова или, скажем, Сашу Соколова, – «мучениками».
Когда же Брюсов в подражание Малларме написал:
Быть может, все в жизни лишь средство Для ярких певучих стихов, И ты с беспечального детства Ищи сочетания слов,то эти стократно цитированные строчки стали образцом «имморализма», декаданса, идейной основой для обвинения Брюсова во всяческих «злодействах». Цветаева в очерке «Герой труда», учинив Брюсову настоящий разгром, специально посвятила этим строкам гневный фрагмент. Брюсов для нее «застегнутый наглухо поэт», «забронированный без возможности прорыва». «Какой же это росс? – восклицает Цветаева. – И какой же это поэт?» Разве может быть поэтом человек, ищущий «слов, вместо смыслов, рифм, вместо чувств… Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются!..». В ответ на прохладную рецензию Брюсова на «Волшебный фонарь» Цветаева пишет ему исполненные презрения стихи:
Я забыла, что сердце в Вас – только ночник, Не звезда! Я забыла об этом! Что поэзия Ваша из книг И из зависти – критика. Ранний старик, Вы опять мне на миг Показались великим поэтом.Ясно, что хуже литературы, возникающей из литературы, и стихов из стихов, ничего быть не может (интересно, что бы она написала о Борхесе или Малларме?). Почему? Видимо потому, что это не свое, рожденное муками, потом и кровью, а чужое, заимствованное, можно сказать, краденое. Но при этом совершенно не понятно, почему личный опыт переживания книг и созерцания произведений искусства, опыт воображения является менее значительным, чем переживание жизни. Самое забавное в том, что юная Цветаева – чего она, естественно, не замечает – поэт книжный и литературный насквозь, воспитанный на Ростане и романтической литературе, причем не самой значительной. Откуда же вообще возникает такой романтизм?
Не из «жизни», естественно, а конечно же из литературы: несколько книжек, прочитанных вовремя, могут изменить судьбу человека на всю жизнь. Где тогда кончается «свое» и начинается «чужое»?
Где кончается воображение и начинается «реальность»?
Апофатическая культура: «культ жизни» и «культ словесности»
Для апофатической культуры, каковой, очевидно, является русская, единственной и главной онтологической реальностью является «жизнь» – как истина и одновременно критерий истины в последней инстанции. Важно не то, что ты можешь помыслить и написать, а кто ты есть.[170] Лев Толстой, прочитав «Легенду о святом Юлиане Милостливом» Флобера, где монах-отшельник ложится в постель с прокаженным, чтобы согреть его, записывает в своем дневнике следующее: это вещь совершенно не трогает нас, потому что видно, что сам автор не только не в состоянии лечь в постель с прокаженным, но даже и никогда не помышлял об этом.
Можно сказать, что для русской культуры характерен абсолютный «культ жизни» (не в гедонистическом смысле, конечно) как высшей истины и высшей справедливости, а не «культ словесности»; культ первичного, главного, а не вторичного, отраженного и опосредованного. Все же остальное – философия, искусство, литература и даже христианство – вторично по отношению к «жизни», которая подлежит бесконечному улучшению, исправлению и в итоге должна явить собой образец некого совершенства. Отсюда и в литературе этот культ довлеет надо всем и вся. От Гоголя и Белинского до Твардовского и Солженицына и до наших дней господствует универсальная установка: литература непременно должна рождаться из жизни, говорить правду об этой жизни, свидетельствовать истину о ней. Она должна рождаться из личного жизненного опыта, из опыта человека, обязательно прошедшего через жизненную мясорубку. «Литературность» и «книжность», по крайней мере, до недавнего времени, почитались смертными грехами. Идея о том, что истина и словесность могут не только совпадать друг с другом, но и быть противоположны, непонятна даже крупным писателям, по-прежнему считающим, что «одно слово правды весь мир перетянет».
Горький в 1916 году, прочитав первые рассказы Бабеля, увидел в молодом писателе недостаток «жизненного опыта» и по собственному примеру послал его «в люди». Бабель, похоже, этот урок усвоил, повоевав у Буденного, и позднее, будучи в Европе и прочитав первые романы молодого эмигрантского писателя Сирина, сделал ошеломляющее заявление: «Конечно, он талантлив, но не о чем ему писать», т. е., опять-таки, «жизни не знает».
Отсюда попутно возникает и другой сюжет, о котором я уже говорил: едва ли не полное отсутствие в русской литературе того, что на Западе называется «интеллектуальной прозой», т. е. прозы вторичной, книжной, литературы, рождающейся из литературы. Автономный интеллектуализм, целиком проистекающий из книжной культуры, всегда был и, я бы сказал, по-прежнему остается чем-то глубоко подозрительным, опять-таки в силу своей вторичности. Можно закончить, вернувшись к Розанову, человеку, «чувствовавшему литературу как штаны», восхищавшегося ею и, вместе с тем, ни во что ее не ставившего. «Вся литература – празднословие, – читаем мы в «Уединенном», – исключений убийственно мало». Из этой общей тенденции, я думаю, и произошла трансформация благозвучной французской belles-lettres в пренебрежительное русское – беллетристика.
Похвала варварству
Конечно, за последние полтора десятка лет многое изменилось. Налицо обнадеживающие тенденции – и у нас, наконец-таки, в изобилии появились настоящие писатели-паразиты, работающие не с жизнью, а с классическими текстами, типа В. Сорокина и московских концептуалистов, кормящихся на еще не остывшем трупе советской (а затем и русской) литературы. Неизвестно откуда появились настоящие эстеты – вторичность и цитатность перестали быть грехами; верлибр стал почти признанным жанром. Профессора-интеллектуалы, как А. Пятигорский и А. Жолковский, начали писать романы и рассказы (правда, за границей, что немаловажно). После Битова и Пелевина можно ожидать появление по-настоящему книжных интеллектуальных писателей… Но когда я в очередной раз слышу и читаю о былом «литературоцентризме», о культе «литературы» и его нынешнем крахе в постсоветской России, мне становится просто смешно. Не может рухнуть то, чего не было. На евразийском континенте мы жили и живем в «природном», «неокультуренном» состоянии, с тончайшей культурной прослойкой, поэтому никакого «культа вторичного», культа искусства и литературы у нас нет и пока по-настоящему быть не может. Мы еще слишком погружены в жизнь и еще надеемся исправить и улучшить ее. Так что по-прежнему, слава Богу, наивны в своем литературном проекте и по-прежнему варвары и еще в состоянии говорить о первичном. Но в истории торопиться некуда: с исторической арены, как из морга, выносят вперед ногами и помещают в душный музей. К счастью, пока нам это не грозит – русской светской литературе всего лишь две сотни лет.
Да, за короткое время, вслед за крушением определенной жизненной модели, произошло крушение и модели литературной. В Европе она менялась в течение долгих лет, и ничего похожего на рухнувшую российскую там давно не существует. Российская модель должна была рухнуть хотя бы потому, что тиражи литературных журналов не могут достигать миллиона экземпляров. Драматичен не сам факт, а та скорость, с которой это произошло. Но и это понятно – долго запрягаем, но быстро едем.
Безусловно, всем нам хотелось бы быть не только пишущими и писателями, но и жрецами, служителями сакрального культа и пользоваться мистическим поклонением. Но подобного более нет нигде – магические функции словесности, похоже окончательно, перешли во владение медиакратии, обладающей исключительной монополией на словесную и виртуальную магию. Что тут поделаешь?.. Литература, в конце концов, это всего лишь литература.
Горе от ума: Сигизмунд Кржижановский и русская литература
Я не могу, затравленный и полуиздохший нищий, опрокинуть все вещи, врывшиеся в землю дома, все домертва обжитые жизни, но я могу одно: опрокинуть смыслы. Остальное пусть остается. Пусть.
Сигизмунд КржижановскийХотя с 1989 года вышло пять книг Кржижановского, публикация первых двух томов полного собрания сочинений, в сущности, открывает читателю совершенно неизвестного писателя. В первую очередь, хочется процитировать Вадима Перельмутера – человека, которому мы обязаны воскрешением автора «Воспоминаний о будущем»: «Творческое наследие Кржижановского, на наших глазах целиком возникающее из небытия – уже после столетия со дня рождения Писателя без Книги – случай уникальный даже в истории нашей культуры, мягко говоря, не поскупившейся на отлучения художников, которые могли бы стать ее гордостью, но только посмертно встретились с читателем…»[171]
В самом деле, сказать, что Кржижановский писатель с исключительной судьбой, значит не сказать ничего. Произошедшее с ним не имеет аналогов даже в русской литературе XX века, перенасыщенной драматическими и изломанными судьбами. Всех писателей так или иначе хотя бы некоторое время печатали – их ругали, поносили, но их книги выходили либо в метрополии, либо за границей… Автора «Возвращения Мюнхгаузена» за ничтожными исключениями не печатали совсем – должно было пройти 40 лет после его смерти, чтобы появилась первая книга. При этом «антисоветского» в его текстах присутствовало не больше, если не меньше, чем, скажем, у Замятина, Булгакова, Платонова или Пильняка. Это была проза другого измерения, он был чересчур «внесоветский» писатель. Поляк по происхождению, эрудит, европейский интеллектуал, эстет, блестящий, изысканный, несколько холодный стилист, оригинальный мыслитель, он создал прозу, которую попросту не с чем сравнить в русской литературе последних двух столетий, хотя ее генеалогическое древо очевидно – Свифт, Гофман, Гоголь, По, Майринк… Очевидно и некоторое сходство с Кафкой, впрочем, прочитанным Кржижановским лишь в последнее десятилетие свой жизни.
В 1920-е годы «Серапионовы братья», в противоположность «скучной» русской прозе, попытались создать новый тип литературы, ориентирующейся на европейские образцы, привить «сюжетность» и своего рода «фантастический реализм» «советскому дичку». Кржижановский не входил и не организовывал никаких сообществ. К концу 1920-х годов он просто напросто создал такую прозу, и по сравнению с ней, надо заметить, опыты «Серапионов» сегодня выглядят школярскими упражнениями. Однако «Русскому Борхесу», как многие именуют писателя сегодня, при жизни удалось напечатать несколько рассказов и очерков, чуть больше дюжины статей и зарабатывать себе на хлеб лекциями, переводами, литературной поденщиной, писанием сценариев и либретто. Его имя было хорошо известно в литературных и окололитературных кругах, он читал свои тексты, параболы и притчи и в Коктебеле у Волошина, и в Камерном театре, Льву Каменеву и Андрею Белому, а свою пьесу – Всеволоду Мейерхольду. Конечно, автору «Сказок для вундеркиндов» фатально не везло – в 20-е годы издательство, где должна была выйти его книга, обанкротилось, затем ужесточилась цензура; по его сценарию Яков Протазанов поставил «Праздник святого Йоргена», а Александр Птушко – первый советский мультфильм «Новый Гулливер», но в обоих случаях имя сценариста таинственным образом выпало из титров; последняя надежда возникла в 1941 году, но и ее оборвала война. Дело, разумеется, не только в невезении, Кржижановский «чувствовал себя Гулливером, очнувшимся после кораблекрушения в стране лилипутов: не пошевелиться, не повернуть головы: каждый волос тщательно намотан на вбитый в землю колышек».[172] Это похоже на истину, но слишком общую, – то же самое можно отнести и к Андрею Белому, и к Михаилу Булгакову, и к Юрию Тынянову и т. д. Но отчего им хоть как-то повезло, а Кржижановскому нет?.. Сказать, что создатель парадоксальной эзотерической прозы был слишком умен, отстранен и не-актуален, чтобы вписаться в эпоху «восстания масс», в предельно политизированное суетное время, тоже недостаточно. Мне кажется, что здесь нужно говорить о принципиальном, глубинном расхождении Кржижановского с традициями не только пореволюционной, но и всей русской литературы.
В «стране нетов»
Первый сборник рассказов Кржижановского «Сказки для вундеркиндов» завершается программной новеллой: alter ego автора попадает в «страну нетов» – антимир, представляющий собой опрокинутый образ земной жизни и человеческой истории. Герой принадлежит к противоположному народу «естей», это свифтовский Гулливер или ницшевский Заратустра, добровольно отправляющийся в страну лилипутов, в царство «человеческого, слишком человеческого», и с надменным изумлением взирающий на населяющих его особей.
«Неты живут кучно. Им всегда казалось и кажется, что из многих “нет” можно сделать одно “да”, что множество призраков дадут себя сгустить в плотное тело». Неты нереальны, они не существуют, но из таких «попыток быть и состоит их так называемая жизнь. Отсюда – их любовь, их общество, их религия. Любовь – это когда нет влечется к нети, не зная, что неты нету».
Нетовские мудрецы «годами доказывают – при помощи букв – себе и другим, что они суть; это излюбленная тема их трактатов и диссертаций; буквы им послушны, но истина всегда говорит нету: нет».
В стране нетов существует удивительное понятие – смерть, непостижимое для бессмертных «естей»; там процветают литература и театр, где реально не-живущие «неты» играют в настоящую жизнь и обретают смысл существования. В стране нетов не тени отбрасываются вещами, а вещи отброшены тенями…
Заратустра-Гулливер Кржижановского, пройдя через эту злосчастную страну, возвращается в подлинный мир бессмертных «естей», где вещи без теней и «все залито не покидающим зенита светом». Антиутопия вполне прозрачна – это не замятинская сатира на тоталитарно-индустриальное общество будущего, а печальный свифтовский сарказм по поводу человеческого удела. Финал заставляет вспомнить последнюю строчку из «Приглашения на казнь»: Цинциннат, оставляя человеческий мир, отправился «в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему». Отдаленное сходство между Кржижановским и Набоковым очевидно, но их судьбы разительно несхожи.
Человек из шва
В русском зарубежье появление прозы Набокова вызвало к нему многочисленные претензии и нарекания как к слишком «головному», «искусственному», «нерусскому» писателю, порвавшему с «гуманистическими традициями» отечественной литературы и т. д. и т. п. Так вот, по сравнению с Кржижановским, Набоков (точнее, Сирин) – вполне «сердечный», «теплый», укорененный в толстовско-чеховско-бунинской традиции, исконно русский писатель с некоторыми плодотворными иноземными вкраплениями. Мир Кржижановского – обжигающе холодный, сумрачный, искривленно-парадоксальный, урбанистически безнадежный – и на первый взгляд совсем «нерусский», слишком умозрительный, абстрактный, головной. Как у Беккета или Майринка здесь не только не пахнет «гуманизмом», но само слово это произнести невозможно. Короткие, отрывистые, колючие фразы, изощренно, штопором – не пишутся – а ввинчиваются в мозг читателя (что, впрочем, характерно для всей советской прозы 20-х годов, но у Кржижановского все всегда особенно, по-своему). Остается ощущение мучительной «мозговой игры», привкус обнаженной и горькой физиологии мысли. Каждое предложение продумано, отшлифовано, самодостаточно и нарциссично, – кажется, что оно не без некоторой иронии любуется собой. Постоянно употребляемые редкие слова и неологизмы придают его прозе продуманную шероховатость, иногда – претенциозность, поэтому язык не поворачивается назвать его «блестящим стилистом», хотя, несомненно, таковым он и являлся. Его хочется не столько читать (занятие весьма непростое), сколько цитировать. Едва ли не каждая фраза – общее место, вывернутое наизнанку, парадокс, оксюморон или, как сказали бы сегодня, «кислотный афоризм»: «Человек человеку волк. Нет, неправда: сентиментально, жизнерадостно. Нет: человек человеку – призрак только. Так точнее. Вгрызться зубами в горло – значит поверить, хотя бы – это-то и важно – в чужую кровь. Но в том-то и дело: человек в человека давно перестал верить; еще до того, как усомнился в Боге. Мы боимся чужого бытия, как боимся привидений, и только редко-редко, когда люди померещатся друг другу, о них говорят: любят. И недаром любящие ищут ночного часа, чтобы лучше привидиться друг другу: часа, когда приходят призраки». Кажется, так пишет полубезумный Гулливер, волею судеб попавший в шов времени: «Да, все оттого, что я меж “здесь” и “там”, в каком-то меж – в шве. И может быть, старое пальтецо, стягивающее мне плечи, если уже не умеет греть, то умеет напоминать: швы. И писать-то не могу иначе, как кусок за куском, в отрыве, по шву. И у мысли – будто короткое дыхание: вдох-выдох, выдох-вдох» (Новелла «Швы»).
Метафора «шва», разветвляющаяся на множество побочных образов и смыслов, является ключевой в другом сборнике писателя «Чужая тема». В отличие от «Сказок для вундеркиндов» здесь фантастика заканчивается. Это почти реалистическая проза написана от первого лица. Гулливер изо дня в день живет в реальном мире «нетов» – Москвы 20-х годов, интеллектуал, блуждающий по редакциям и издательствам – это никто, человек из небытия, маргинал, парвеню, литературный пролетарий, обладатель «бутерброда с метафизикой» – с бюджетом гривенник в день. Больше «неты» ему не платят.
Человек, пишущий в никуда и не для кого.
В «Швах» есть главка под названием «Не и.». Эмпирически это подпись на возвращаемых рукописях – «не подходит». Все, что пишет человек из страны «естей», никуда не годится, не вписывается, не попадает. Это метафизический приговор – Гулливер здесь никто. Но, в конце концов, и сам он понимает, что в этом мире он и не хочет никуда попасть…
Абсолютный солипсист, последователь Беркли и Шопенгауэра, почитатель Веданты и Санкхьи, он осознает свое бытие как мнимость, невозможность, как отрицательную величину. Теперь его alter ego человек-миф из древнеиндийских текстов – Нурвапакшин, чье имя означает – тот, кто говорит «нет». Отныне говорить «нет» – «это единственное мое, пусть припадочное, пусть больное, но счастье: опрокинуть все вертикали; потушить мнимое солнце, спутать орбиты и мир в безмирье». Здесь речь идет уже об экзистенциальной невозможности существования. Это возвращение билета, но не Богу, который давным давно умер (новелла «Бог умер» из «Сказок для вундеркиндов»), а самой жизни, которая зачем-то вызвала человека из небытия и поместила в мир, с которым у него нет ничего общего: «Мы не хотим дней, вернувшихся на циферблаты; мы не хотим жизней, застрахованных в Госстрахе; мы не принимаем идей, заутюженных в аккуратный, четверосложенный газетный лист; как и тогда, во дни царя Асоки, так и сейчас, на безцарье, он говорит, я повторяю – он твердит, я подтверждаю: нет».
Странное сочетание: тяжелый, сложный, глубокий (прочитаешь одну страницу, и можно думать над ней целый день), мрачный и вместе с тем блестящий, невероятно увлекательный писатель. На первый взгляд, черный юмор некоторых его текстов напоминает вечный русский сюжет, еще одну вариацию «записок из подполья»; и все же это, скорее, образец стиля, отражение временного состояния, нежели мировоззрения Кржижановского. Его проза открывает разнообразные варианты – и иронической «игры в классики», и глубокомысленно-серьезной «игры в бисер», и подлинной человеческой драмы. Если Борхес назвал свои тексты постскриптумом ко всему корпусу мировой литературы, то же самое справедливо и для прозы Кржижановского, при том существенном различии, что последний писал свой постскриптум в советской России 20-30-х годов, а Борхес – в Аргентине 30-60-х.
В любом случае тексты Кржижановского – это тот тип выстраданной интеллектуальной прозы, полное отсутствие каковой, если судить по «гамбургскому счету», мы обнаруживаем в русской литературе. В самом деле, кого у нас можно было бы отнести к создателям подобных текстов за последние лет 150? Конечно, не Розанова – создателя совершенно особой, но очень русской прозы подобного толка, мыслившего чем угодно, но только не «чистым интеллектом». Не подойдет сюда и Достоевский, у которого самодостаточный интеллект был всегда на подозрении как едва ли не главный источник разрушений и зла и, видимо, поэтому доводивший своих самых интеллектуальных персонажей до крушения, логического или реального самоубийства. Можно было бы назвать Андрея Белого, если б не его чисто славянское безумие, постоянно разрушавшее весь его интеллектуализм. С некоторой натяжкой сюда можно было бы отнести Набокова, при всей его неприязни к «идеям и идеологиям», но ровно в той степени, в какой он был не только русским, но и западным писателем.
В апофатической культуре автономный интеллектуализм всегда был, есть и остается чем-то глубоко подозрительным, ибо представляет собой всего лишь срединный уровень бытия, занимающий весьма ограниченное пространство между человеком и Богом. «Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не более, чем полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас есть. Он сам не двинется вперед, покуда не двинутся в нас все другие способности, от которых он умнеет», – читаем мы у Гоголя, и подобные высказывания можно обнаружить у большинства русских писателей. Достаточно вспомнить, что у умнейшего Владимира Соловьева в «Трех разговорах» Антихрист необыкновенно умен, в первую очередь, он – великий мыслитель… Творчество Кржижановского опровергает расхожую идею, разделяемую большинством российских писателей – от Гоголя и Толстого до Солженицына, – что сочинитель работает «наитием» или «нутром», а ум необязателен и даже опасен. «Я выбрал: лучше сознательно не быть, чем быть, но не сознавать», – напишет Кржижановский в 30-е годы и останется в русской культуре «человеком из небытия» (даже либеральный «Новый мир» в 60-е годы откажется печатать его рассказы с мотивировкой: «похоже на Кафку»). В результате он остался «прозеванным гением» (Георгий Шенгели) с судьбой, где «горе от ума» является не метафорой, а материализованной реальностью.
Последний князь и русская словесность
Существуют книги, о которых многие знают, но мало кто читал. «История русской литературы с древнейших времен по 1925 год» Дмитрия Святополка-Мирского (1890–1939) принадлежит к их числу. Обычно, говоря о ней, вспоминают Владимира Набокова, назвавшего ее «лучшей историей русской литературы на любом языке, включая русский». Но интрига заключается в том, что Набоков, как всегда, слукавил: долгие годы книга не существовала ни на каком языке, кроме английского, – «А history of Russian literature» была написана по заказу и вышла в Лондоне в 1927 году вслед за ее продолжением – работой под названием «Contemporary Russian literature (1881–1925)», – вместе оба тома составили почти 900 страниц…
История же ее издания в России похожа если не на триллер, то на повествование с напряженным сюжетом. Превосходный русский перевод сделала в Израиле Руфь Зернова для эмигрантского издательства «Overseas Publications Interchange» в Лондоне, успевшего выпустить книгу мизерным тиражом перед своим закрытием в 1992 году. Книгу почти никто не заметил, за исключением магаданского писателя и журналиста А. М. Бирюкова, занимавшегося судьбами репрессированных, который со своим предисловием переиздал 600 экземпляров в 2001 году в Магадане, – в тех краях, где потомок Рюриковичей князь Святополк-Мирский в 1939 году закончил свой жизненный путь. Переводчица Руфь Зернова тоже прошла через Колыму. Лондон – Магадан: судьба книги удивительным образом повторила судьбу автора.
Затем «История русской литературы» была перепечатана в 2005 году в Новосибирске (издательство «Свиньин и сыновья»), а сейчас передо мной 4-е новосибирское издание 2009 года.
Сегодня придется признать, что скупой на похвалы Набоков был абсолютно прав. Князю Дмитрию Святополку-Мирскому – поэту, критику, офицеру армий Деникина и Врангеля, затем белоэмигранту, преподавателю лондонского университета удалось написать работу, которую попросту не с чем сравнить ни в те времена, ни сегодня. Рядом с ней, скажем, «Силуэты русских писателей» Юрия Айхенвальда или расхваленная «Родная речь» Вайля и Гениса выглядят лепетом провинциальных учительниц, не говоря уже о советских и постсоветских учебниках и учебных пособиях. Отчасти ее можно сравнить с классической «Русской литературой в изгнании» Глеба Струве (кстати, Струве дословно повторяет характеристику Набокова, не ссылаясь на источник, – Paris, 1984. С. 73), которую в известном смысле можно читать как продолжение и дополнение к «Истории…» Святополка-Мирского.
Обычно книги, написанные для иноязычного читателя, не очень интересны для соотечественников: иноземцам приходится объяснять то, что нам и так понятно. Интонация Мирского особая: он рассказывает англосаксам о писателях и их творениях, которых он словно бы хорошо знал лично. Потому ему удалось представить русскую литературу и культуру как захватывающий интеллектуальный роман, в котором слово дано не только великим писателям, поэтам, философам, но и журналистам, критикам, литературоведам, авторам второстепенным и даже третьестепенным. Это многоголосие – дух различных эпох, словесность, философия, эссеистика, критика, политические споры – слито в напряженном повествовании. Возможно, благодаря дистанции лондонского эмигранта, автор прекрасно увидел целое, не забывая при том о деталях и мельчайших подробностях. В его блестящих очерках помимо Аввакума, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова право голоса предоставлено не только Владимиру Соловьеву, Мережковскому, Розанову, Шесто-ву, Бердяеву, С. Булгакову, Петру Струве, Кузмину, Александру Бенуа, Пришвину, Замятину, Пильняку и т. д., но и Потапенко, Эртелю, Арцыбашеву, Сергееву-Ценскому и даже «адвокатам-литераторам» А. И. Урусову, В. Д. Спасовичу, С. А. Андреевскому (кто их читал?) – всего лишь две странички, но как все точно и емко! Эрудиция «красного князя» поразительна. Он в равной степени убедителен в своем проникновении как в мир «реакционеров» Леонтьева или Розанова, так и «радикалов» вроде Герцена или Горького (правда, достоинства прозы последнего он несколько преувеличивает). Книга одинаково далека и от академического занудства, и от чрезмерной размашистости философской критики. Святополк-Мирский в равной степени уверенно говорит как о языке и стиле писателей (что, видимо, и понравилось
Набокову), так и об идеях и социальных тенденциях. Текст настолько свободен от школярско-профессорских штампов, соединяет точность формулировок с внутренней свободой, что иногда просто диву даешься. Мирский по-хорошему пристрастен, иногда субъективен, изредка – чрезмерно (он, например, восхищается поэзией Цветаевой, но изничтожает ее прозу, несколько недооценивает Мережковского и т. д.), но все эти «субъективные огрехи» не портят его труд. Есть и вполне простительные неточности и ошибки – как автора, так и переводчика, которые легко будет отразить в комментариях (пока они, к сожалению, отсутствуют).
К тому же мне, например, вообще неизвестны «Истории литературы…», где бы столь уместно и адекватно была бы представлена русская философская мысль. Вот, например, фрагмент из характеристики о. Павла Флоренского: «Мысль Флоренского необычайно сложна и утонченна: он с наслаждением принимает самые несовременные толкования и громит ересь с пылом средневекового схоласта. Но как только он дает свободу своей собственной философской мысли, становится ясно, что по сути мысль его вовсе не ортодоксальна… Под богатством и роскошью стиля, эрудиции и диалектики Флоренского таится душа, полная раздоров, гордыни и безграничной духовной жажды. Самые запоминающиеся места в его книге посвящены описанию мучительной пытки сомнением, равносильной для него мукам ада. Флоренский прежде всего эстет, для которого православие – прекрасный мир идей, полный приключений и опасности. Он принимает догму, чтобы побороть муки сомнения, но обращается с ней, как художник с роскошным и пышным материалом».
Пли же парадоксальная характеристика символизма Андрея Белого: «Этот невещественный мир символов и абстракций кажется зрелищем, полным цвета и огня; несмотря на вполне серьезную, интенсивную духовную жизнь, он поражает как некое метафизическое “шоу”, блестящее, остроумное, но не вполне серьезное. У Белого до странного отсутствует чувство трагедии, и в этом он опять-таки совершенно противоположен Блоку. Его мир – это мир эльфов, вне добра и зла, как та страна фей, которую знал Томас Рифмач; в нем Белый носится как Пэк или Ариэль, но Ариэль недисциплинированный и сумасбродный. Из-за этого одни видят в Белом провидца и пророка, другие – мистика-шарлатана. Кем бы он ни был, он разительно отличается от всех символистов полным отсутствием сакраментальной торжественности. Иногда он невольно бывает смешон, но вообще он с необычайной дерзостью слил свою наружную комичность с мистицизмом и с необыкновенной оригинальностью использует это в своем творчестве».
Ответ же на простой вопрос – почему Мирскому удался столь неподъемный труд, понятен: русская литература, критика и философия для него были не только предметом научных штудий, сколько личной историей и личной судьбой; создается впечатление, что ему удалось пережить драму едва ли не каждого автора, о котором он говорит.
В 1920-е годы в Англии Мирский (он много печатался в английской прессе) был хорошо известен как среди русских эмигрантов, так и среди англосаксов, относившихся к нему с необычайным почтением. В начале 1920-х через Петра Сувчинского он сближается с евразийцами, регулярно публикуется в евразийских изданиях, хотя, оставаясь «русским европейцем», не разделяет целиком евразийскую догматику. В Париже (1926–1928) он издает известный журнал «Версты» (совместно с П. Сувчинским и С. Эфроном; вышло три номера), где помимо молодых советских писателей и самого Святополка-Мирского регулярно печатались Ремизов и Цветаева, а также Бердяев, Шестов, Карсавин и Георгий Федотов. Журнал был весьма раздраженно принят эмиграцией за «просоветские» тенденции: «В “Современных записках” им посвятил большую статью В. Ф. Ходасевич, главные свои стрелы направивший против Святополк-Мирского и его литературно-критических статей» (Глеб Струве. Русская литература в изгнании… С. 45). Но тем не менее в этой же книге Глеб Струве посвятил «Верстам» отдельную главу, оценив их номера в целом достаточно высоко.
Далее происходит нечто необъяснимое, хотя, возможно, и закономерное – некоторые эмигранты проделали аналогичный путь. Князь, подобно многим своим соотечественникам, изнемогая в атмосфере сытости и снобизма, стремительно левеет, встает на сторону побеждающего пролетариата (от «болыневизанства» «История русской литературы» вполне свободна), вступает в компартию Великобритании, пишет по-английски апологетический очерк о Ленине (1931 год) и по рекомендации Горького, сыгравшего роль провокатора-искусителя, возвращается в СССР 30 сентября 1932 г. «Для знавших его этот поступок представлялся продиктованным каким-то духовным озорством, желанием идти против эмигрантского течения, и ничего хорошего для Мирского не сулившем» (Глеб Струве. Русская литература в изгнании… С. 75). По собственным словам Мирского, важными событиями в этом интеллектуальном перевороте стали всеобщая стачка в Британии (1926 год), мировой экономический кризис 1929 года и работа над книгой о Ленине. В метафизическом смысле симпатии аристократа не к сытым буржуа, а к обездоленным, привычны для русской культуры, но в реальности это сыграло с князем злую шутку и не просто искалечило судьбу, а напрямую толкнуло к гибели.
Книга его обрывается на полуслове – 1925 годом, но ее нельзя рассматривать вне контекста тех материалов, которые Мирский продолжает публиковать в эмигрантской периодике – в первую очередь, во все более пробольшевистской газете «Евразия». Как и многие евразийцы, он явно преувеличивает достоинства молодой советской литературы и настаивает на совершенно ложном тезисе о бесплодии литературы эмигрантской, обреченной на «воспевание березок». Отсюда и очевидный перекос в оценках, особенно на последних страницах «Истории русской литературы». Явно перехвален Сергеев-Ценский, совершенно недооценены Борис Зайцев, Иван Шмелев, Марк Алданов. Живя в Лондоне до 1932 года, он мог бы заметить не только Марину Цветаеву и Бориса Поплавского, но и первые книги Гайто Газданова, Владимира Набокова и многих других. Конечно, откуда ему было знать в 1924-1925-х годах, что русская эмиграция создаст необозримый культурный материк, аналог которому трудно обнаружить в истории литературы. Но, с другой стороны, лучший русский литературный журнал XX столетия «Современные записки» к 1930 году уже достиг своего расцвета, и любой чуткий литературный критик не мог этого не заметить. Так что причины этих очевидных заблуждений лежат вне плоскости литературы и объяснимы лишь чисто политическими пристрастиями.
В СССР до 1937 года Святополк-Мирский является активным участником литературного процесса, много печатается в периодике, разумеется, резко выделяется на общем фоне, пишет, в первую очередь, о поэзии, порой не без налета вульгарного марксистского социологизма, но всегда блестяще. Увы, князь сразу же вовлекается в самые позорные пропагандистские акции режима (и делает это он, похоже, во многом искренне): Мирский – один из авторов опуса про «Канал имени Сталина»… В конце концов и его неизбежно ждет Колыма, где он и сгинет зимой 1939 года… Здесь возникает главный вопрос, касающийся всех «возвращенцев» – не только Мирского. Когда они начали понимать, что попали в чудовищный капкан, из которого нет выхода? Когда это понял князь – в 1933, 1934, 36-м? Все не так просто – люди истово верят в то, во что хотят верить. А то, что эту веру опровергает – все от лукавого. Это можно было бы узнать из личных писем или записок Мирского. Что-то наверняка осталось в архивах, на английском есть его биография (мне не удалось ее получить), но где-то, несомненно, еще что-то сохранилось…
В предисловии магаданский издатель книги А. М. Бирюков пишет, что выжившие зэки рассказывали, что потомок Рюриковичей писал на Колыме какой-то «подлинно энциклопедический труд»… Что это было? Перевод на русский своей «Истории…» Или нечто другое? Что он пытался делать в лагере? Ответ знает только ветер…
В России вышло уже по крайней мере три сборника статей «последнего князя» (См., например, Д. И. Святополк-Мирский. Поэты и Россия, СПб, 2002, с подробной биографией и библиографией, составитель В. В. Перхин), но с главной книгой почему-то получилась некоторая задержка… Правда, в 2008-м книга была перепечатана московским «ЭКСМО» пятитысячным тиражом, но опрошенные мной аспиранты-русисты филфаков имеют о лучшей «Истории русской литературы» по-прежнему весьма смутное представление. Будем надеяться, что когда-нибудь книгу оценят по достоинству.
Эмиграция, изгнание, Кундера и Достоевский
Что нас толкает в путь? Тех – ненависть к отчизне, Тех – скука очага, еще иных – в тени Цирцеиных ресниц оставивших полжизни – Надежда отстоять оставшиеся дни.
Шарль Бодлер (перевод Марины Цветаевой)Эмиграция и изгнание
Наверное, с тех пор, как последние кочевые племена осели на поверхности земного шара и принялись возделывать землю, человеку осталось в удел два состояния – оседлости и скитальчества. Скитальчество (как, впрочем, и оседлость) бывает вынужденным и добровольным; вынужденный скиталец становится изгнанником и лишь добровольного следует именовать эмигрантом.
Анаксагор был изгнан из Афин, ему запрещено возвращаться под страхом смертной казни, Данте, приговоренный к изгнанию из Флоренции навсегда (в случае возвращения его должны были сжечь на костре), последние двадцать лет своей жизни скитался по Италии, и это изгнание стало для него мучительной драмой. Если и существуют красота и поэзия изгнанничества, то только для стороннего наблюдателя. Беседуя или же читая бесчисленные свидетельства русских изгнанников 1920-1940-х гг., я никогда не слышал, чтобы кто-то из них был счастлив именно в своем изгнании. Не только Бунин, безнадежно прикованный к старой России, но и типичные «русские европейцы», западники, эстеты с их «тоской по мировой культуре», как Георгий Адамович, Юрий Иваск или Владимир Вейдле, вполне сносно прожившие на Западе большую часть жизни, на склоне лет постоянно оговаривались, что даже в Париже, который намного «уютнее» большинства русских городов и уж, конечно, Петербурга, все равно чувствуют себя «неуютно и жутко» как раз потому, что «после России всякий человеческий голос кажется здесь “гласом вопиющего в пустыне”» (Г. Адамович).
Пожалуй, первым архетип эмиграции выразил знаменитый скиталец Владимир Печерин, бежавший на Запад еще в 1836 году, и в конце концов сотворивший свою судьбу из своего скитальчества. Едва ли не главной причиной его бегства был «непомерный страх России»: «Важнейшие поступки моей жизни были внушены естественным инстинктом самосохранения. Я бежал из России, как бегут из зачумленного города. Тут нечего рассуждать – чума никого не щадит – особенно людей слабого сложения. А я предчувствовал, предвидел… что если б я остался в России, то с моим слабым и мягким характером, я бы непременно сделался подлейшим верноподданным чиновником или – попал бы в Сибирь ни за что, ни про что. Я бежал не оглядываясь для того, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство».
Смысл этого текста прозрачен: Печерин, как и тысячи его «последователей», – подлинный эмигрант, ибо бежит он не только из вполне терпимой, патриархальной России 1836 года (где Грановский, Хомяков или Пушкин почему-то не помышляли о бегстве и могли сохранить свое достоинство), но и от себя самого, надеясь где-то там осуществить свою судьбу, справиться со своими страхами, слабостями и внутренними противоречиями.
Изгнанник всегда тоскует и всегда мечтает о возвращении, эмигрант тоскует значительно реже, а сама идея возвращения вызывает у него знак вопроса… Я слышал множество рассказов престарелых изгнанников, как в двадцатые-тридцатые годы в Париже, Берлине или Марокко они вместе с родителями сознательно жили «на чемоданах», не желая оседать на чужой земле, презирая «туземцев» – как презирает их Годунов-Чердынцев в «Даре» – не принимая ни чужого гражданства, ни обычаев, ни нравов. Они жили верой, что сила, обрекшая их на скитальчество, вот-вот сгинет, и они скоро вернутся. О том же вспоминал и Набоков: в дни своей берлинской юности он «был совершенно уверен, что не пройдет и десяти лет, как все мы вернемся, в гостеприимную, раскаявшуюся, тонущую в черемухе Россию».
Но они не вернулись – теперь мы знаем: почти никто не вернулся ни из первой, ни из второй волны. Сроки изгнания оказались слишком велики, а железный занавес непроницаем: именно поэтому русская эмиграция не имеет аналогов. Их дети, внуки и правнуки превратились в полурусских, полуевропейцев, полуамериканцев, для которых Европа или Америка неизбежно стали родной почвой.
Эмигрант же, сколько бы его ни преследовали ностальгические сны, по сути дела не имеет права мечтать о возвращении. Он сам избрал свой удел, он решил умереть и родиться заново, все прочувствовать, продумать, прожить и проиграть вновь. Для эмигранта, который может быть счастлив или несчастен, возвращение будет так или иначе поражением, за которым, скорее всего, последуют еще и еще одно. Как раз ему и открывается манящая бесконечность мира, поэзия беспочвенности и безбытности, лихорадка вокзалов и поездов, саквояжей, чемоданов, переездов, дешевых гостиниц, меблированных комнат – все, что ненавидели изгнанные навсегда.
Здесь есть и еще одно различие: изгнанники на чужбине создают свою культуру; эмигранты привозят с собой свой язык, быт, нравы и предрассудки, они могут воссоздавать свои традиции и жизненный уклад, как, скажем, это делают вездесущие китайцы, заполняющие огромные кварталы в мегаполисах Старого и Нового Света, но собственной культуры на чужбине они не создают. Если у эмигранта возникает желание творить, то со своим багажом он должен влиться в чужую культуру – ассимилировать ее и оплодотворить.
Сегодня философы и философствующие политики – от Жиля Делеза до Жака Аттали – утверждают, что в грядущем веке различие между оседлостью и номадизмом исчезнет. Все станут либо беженцами, либо новыми номадами, блуждающими по континентам совсем крохотной планеты, со своими note-Ьоок’ами, кредитными карточками и сотовыми телефонами.
В отношении России очевидно одно: культура русского изгнания окончательно завершена, а нынешняя и будущая эмиграция не сможет добавить ничего существенного. Хочет того она, или нет, – она неизбежно должна будет ассимилироваться если не в первом, то во втором или третьем поколениях.
Голод
Провинциал из Буэнос-Айроса Хулио Кортасар, поселившийся в Европе, как-то высказал характерную мысль: он выбрал Париж потому, что быть ничем в этом городе, «который есть все», в тысячу раз лучше, чем наоборот – и во все времена у него были и будут тысячи единомышленников…
Мне вспоминается одна история. Однажды в Париже около центра Помпиду я встретил К., которую не видел года три, и спросил про ее мужа, поэта и филолога: что с ним? Он как-то совсем исчез с горизонта… Она чуть вздрогнула, словно я задал бестактный вопрос, но затем вполне уверенно ответила, что Д., после долгих мытарств, освоил новую профессию и недавно нашел весьма приличную работу. Так что дела обстоят неплохо, можно сказать, почти прекрасно. Через пару дней жена сказала мне:
– Я видела К., знаешь, ты очень тронул ее.
– Чем?!
– Ты спросил про Д., как у него дела…
– Ну и что?!
– Про него уже два года никто не спрашивал.
Характерное состояние эмигранта: даже в таком городе, который «есть все», присутствует чувство ненасыщаемого эмоционального голода. Энергетическая недостаточность, иногда приводящая к приступам почти физического удушья: начинаешь судорожно глотать воздух, как при кислородном голодании. Наш соотечественник может превосходно устроиться, вырваться из проклятого эмигрантского круговорота и ассимилироваться среди аборигенов, но эмоциональной подпитки будет не хватать. Как правило, ее он может получить только от своих соплеменников, как бы его от них ни тошнило. Жизнь в Париже, Лондоне или Стокгольме различна, но эмоциональный градус существования у европейских туземцев совсем иной, как и вся экосистема. Можно привыкнуть и адаптироваться ко всему, но для насыщения этого голода нужна антропологическая перестройка организма. В редких случаях она удается.
Позднее я встретил Д., внешне он почти не изменился, но при этом стал в чем-то неуловимо другим, в нем появилось нечто непроницаемое, замкнутое, герметичное. Видимо, он столько пережил, что открываться миру не было уже никакой возможности. Д. напомнил мне другого знакомого, философа, который, проучившись лет шесть в Академии философии в горах княжества Лихтенштейн и занимаясь трансцендентальной метафизикой, защитил диссертацию, странным образом утратил способность вступать в непосредственный контакт с внешним миром: все эмоционально-чувственное, эмпирическое, живое – совсем по Гуссерлю – «было вынесено за скобки». Он производил впечатление «черной дыры», где произошло сжатие и падение материи на центр – вовне более не поступает никаких сигналов.
P. S. Я вспоминаю одного индуса, приехавшего учиться в Питер в 1980-е гг. из какой-то Пенджабской глуши. Как и многие восточные люди, он был взращен, что называется, с чувством непосредственного отношения к душе своего ближнего, и долго не мог привыкнуть к той неизбежной дистанции между людьми, что существует в любом, хотя бы частично европеизированном сообществе. Формальность и поверхностность отношений задевали и ранили его: «Привет, как дела? Нормально, ну пока…». По его растерянному лицу было заметно, что он тоже голодает, как и русские в Париже, и, видимо, время от времени испытывает такое же состояние удушья, находясь в этом холодном и жестком славянском предместье Европы.
Чувство как онтология: Кундера против Достоевского
В «Книжном обозрении» (17 февраля 1985 г.) газеты «New Jork Times» чешский эмигрант Милан Кундера, поселившийся в Париже, опубликовал сердитую статью «Предисловие к вариации», где выразил довольно-таки любопытное отношение к «восточной» (в данном случае русской) эмоциональности и одновременно западному рационализму, взяв в качестве примера Достоевского и Дидро. Глубоко травмированный советской оккупацией Чехословакии, Кундера видит в ней закономерное продолжение давней русской экспансии в Европу и стремление навязать европейцам свои «восточные ценности».
Исходной точкой размышлений Кундеры стал эпизод, когда во время оккупации 1968 года он ехал на автомобиле из Праги мимо танков и лагерей советской пехоты. Его машина была остановлена, обыскана, после чего офицер, отдавший приказ ее обыскать, справился о самочувствии писателя: «Его вопрос не был ни злобным, ни ироничным, – вспоминает Кундера, – напротив, “все это большое недоразумение, – говорил офицер, – но все исправится. Вы должны понять, мы вас, чехов, любим. Мы вас любим”». Ситуация вызывает у Кундеры взрыв негодования – страна оккупирована, разорена, уничтожена, и при этом офицер оккупационной армии изъявляет вам свою любовь… «Поймите меня, – говорит Кундера, – он не испытывал желание осудить вторжение, ничего похожего. Они все более или менее говорили одно и то же, их отношение к происходящему базировалось не на садистском удовольствии насильника, но на совершенно другом архетипе: неоплатной любви. Отчего эти чехи (которых мы так любим!) отказываются жить с нами по нашим законам? Как жаль, что нам приходится пользоваться танками». В конечном счете, ответственным за происходящее оказывается и сам российско-восточный менталитет и его ярчайший выразитель – Достоевский. Когда во время оккупации книги Кундеры уже были запрещены, один театральный режиссер предложил писателю сделать под псевдонимом инсценировку «Идиота». «Я перечитал “Идиота” и понял, что, даже если бы мне пришлось голодать, я бы не смог выполнить эту работу. Мир Достоевского с его выходящими из берегов жестами, мутными глубинами и агрессивной сентиментальностью отталкивал меня. Внезапно я почувствовал необъяснимый приступ ностальгии по “Жаку-фаталисту”». «Откуда эта неожиданная неприязнь к Достоевскому, – спрашивает себя Кундера. – Что это, антирусский рефлекс чеха, травмированного оккупацией родины?.. Сомнения в эстетической ценности его произведений? Нет, ибо неприязнь овладела мной внезапно и не претендовала на объективность. Раздражал меня в Достоевском непосредственно климат его произведений: мир, где все обращается в чувства; иными словами, где чувства возводятся в ранг ценностей и истин» (цитирую по журналу «Континент», 1986, № 50).
Здесь – квинтэссенция кундеровского текста: его раздражает не столько Достоевский сам по себе, сколько странный, чуждый, враждебный, не-европейский мир, где чувствам придается объективный онтологический статус…
Иосиф Бродский, будучи возмущен текстом Кундеры, через полтора месяца напечатал в том же издании свой ответ «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому», где в довольно резком тоне ответил на все пассажи чешского писателя, в частности, взяв Достоевского под защиту. Отделив русское от советского, и Достоевского от танков 1968 года, он говорит, что коммунистическая система «в той же мере является продуктом западного рационализма, как и восточного эмоционального радикализма». Европеец из восточной Европы Кундера, по Бродскому, «стремится быть европейцем более, чем сами европейцы», поэтому его представления о ценностях европейской культуры являются односторонними, и вся Россия, в том числе и Достоевский, не вмещается в нее (кстати, совсем недавно нечто подобное утверждал драматург и президент Вацлав Гавел).
Бродский в своей полемике прав во всем, кроме одного: Кундера, в конечном счете, совершенно справедливо проводит водораздел между западной Европой и Востоком, к которому, в его представлении, относится и Россия. Да, она – не Восток, и не Запад, поэтому отношение между чувством, эмоциональностью и аналитическим, рациональным мышлением здесь иное. Мне запомнился навсегда отзыв Сомерсета Моэма о «Братьях Карамазовых». Английский писатель, воздавая хвалу этому «величайшему роману в мировой литературе», вместе с тем оговаривается, что существенным недостатком произведения является то, что, в конечном счете, его главным героем становится Дмитрий Карамазов – иррациональный персонаж, одержимый безумными и в общем-то жалкими страстями. «Достоевский – но в меру» – так назвал свою статью Томас Манн после Второй мировой войны. В сущности, об этом же речь идет и у Кундеры, но при этом он делает радикальные обобщения: «В русском мышлении наблюдается иное равновесие между рациональностью и чувством; в этом ином равновесии (или неуравновешенности) мы и находим знаменитую загадку русской души (как ее глубину, так и ее жестокость)».
Повторяю, Бродский возражает Кундере вполне убедительно – там, где чешский писатель «видит торжество чувств или разума», Достоевский увидел нечто несравнимо более глубокое – «человеческую предрасположенность ко злу». Более того, суждение Кундеры, что «тип человека, описанный Достоевским, только на родине Достоевского и обитает, свидетельствует лишь о том, что Запад и по сей день не произвел на свет писателя, равного – по докапыванию до глубин – Достоевскому». К тому же автор «Невыносимой легкости бытия» почему-то совершенно забывает, что предшествующая оккупация Чехословакии пришла с Запада и была осуществлена самой что ни на есть «рационалистической» страной.
Но я хочу сказать о другом. Эмигрант Кундера, ощущающий себя в Париже совершенно естественно и органично в «родной» картезианской культуре с ее гармонией чувства, рассудка и разума, совершенно искренне выразил очень важное состояние: тот страх, боязнь, притяжение-отталкивание, которые испытывал и продолжает испытывать европеец перед Другим – бескрайним иррациональным евразийским континентом, где все так похоже и все – иное.
Философ Федор Степун, эмигрант с сорокалетним стажем, чувствовавший себя свободно как в русской, так и в европейской культуре, в своих мемуарах («Бывшее и несбывшееся») на склоне лет писал о той «черствости» и «сдержанности» европейцев, что так ранили его в юности, но позднее перестали удивлять: «Шаблонные русские рассуждения о том, что все мы гораздо искреннее, душевнее и глубже европейцев… естественны и понятны у эмигрантов, но явно не верны. Верно лишь то, что русская интеллигентская культура сознательно строилась на принципе внесения идеи и души во все сферы жизни, в то время как более старая и опытная европейская цивилизация давно уже привыкла довольствоваться в своем житейском обиходе простою деловитостью». Степун пересказывает известного немецкого социолога Зиммеля, который считал, что вся уравновешенность и уверенность человеческого общежития и цивилизации в целом зиждется на том, что люди сознательно не слишком заглядывают друг другу в душу. «Знай мы всегда точно, что происходит в душе нашего шофера, пользующего нас доктора или проповедующего священнослужителя, мы иной раз, быть может, и не решились бы сесть в автомобиль, пригласить доктора или пойти в церковь». Очевидно, что если участники любого сообщества узнают о том, что происходит сейчас в душах каждого из них, взрыв неминуем, и это сообщество может перестать существовать.
Степун в своих мемуарах описывает процесс национального обустройства, происходивший в России почти сотню лет назад и закончившийся полной катастрофой: в эмиграции он пытается понять, почему все произошло именно так, хотя могло быть и совсем иначе. История повторяется: сегодня Россия, оказавшаяся на перепутье, пытается соединить все те же старые и трудно совместимые ценности – драматический вызов свободы, испытанные ценности Запада и драгоценный опыт национальной идентичности. Все вопросы по-прежнему открыты.
Поколение Ди-Пи
Шестьдесят лет назад 6 мая 1947 года в замечательном итальянском городе Римини – воспетом Феллини в «Амаркорде» – была завершена одна из наиболее позорных операций союзнических войск после Второй мировой войны. Англичанами из лагеря «Ди-Пи» (перемещенных лиц) было насильственно отправлено в сталинскую Россию около 200 российских беженцев.
Казалось бы, Черчилль уже произнес Фултоновскую речь, вовсю бушевала «холодная война», но законопослушные союзники по-прежнему выполняли свои «ялтинские соглашения», по которым все граждане СССР, оказавшиеся на Западе, должны быть выданы Советам. Согласно классической книге Николая Толстого (родственника Льва Николаевича) «Жертвы Ялты», страны западной демократии в 1944-47 гг. вернули сталинскому режиму более двух миллионов человек, большинство судеб которых не трудно себе представить. В их числе были не только солдаты армии Власова, «предатели» и «враги народа», но и военнопленные, гастарбайтеры, беженцы, белые эмигранты, включая генералов Краснова и Шкуро, никоим образом не подлежавшие выдаче. Необъяснимым образом более всего усердствовали именно англичане, американцы были несколько терпимее к тем, кто по различным причинам не желал возвращаться на свою прекрасную родину. Но, к счастью, примерно около полумиллиону беглецов из страны «победившего социализма» удалось спастись. Они остались в Европе, либо эмигрировали в Северную или Южную Америку.
Этот эпизод представлен в беллетризованных мемуарах Бориса Ширяева (1889–1959) «Ди-Пи в Италии. Записки продавца кукол». Ширяев – литератор, поэт, филолог – участвовал в Гражданской войне на стороне белых, в 1922 году попал на Соловки, позднее об этом написал книгу «Неугасимая лампада», переведенную на многие языки и неоднократно переизданную у нас в 1990-е годы В 1920-30-е Ширяев либо сидел, либо был ссыльным, либо скрывался на окраинах Совдепии – от Ташкента до Ставрополья. В 1945 г. через Берлин и Белград он добирается до Италии.
В Европе Ди-Пи по преимуществу осели в Германии, частично во Франции, о чем существует множество мемуаров, но об их пребывании в Италии практически ничего не известно. Именно об этом и пишет Ширяев в своем грустно-ироническом повествовании. Как правило, проза второй эмиграции беспросветно мрачна: война, то одни лагеря, то другие, с одной стороны СМЕРШ, с другой – Гестапо, и всеобщее бегство русских, украинцев, татар и горцев всех племен от советских «воинов-освободителей». Что их ожидало в Италии? С одной стороны, коммунисты и партизаны с их «Eviva Stalin!», с другой – что-то понимающие, но повязанные соглашениями союзники. В яркой, остроумной книге Ширяева тотальное непонимание между Востоком и Западом приобретает абсурдный, сюрреалистический характер. В 1946 году, когда Ширяев еще на грани выдачи, по заказу он пишет книгу о современной русской литературе, которая тут же выходит по-итальянски. Но вполне либеральный издатель недоволен. Ну что вы пишете – Гумилев расстрелян, Клюев погиб, Есенин и Маяковский покончили с собой! Нас не поймут – вся пресса говорит о расцвете культуры в вашей стране! И Ширяева не поняли – коммунистические власти Венеции за эту книгу выслали его – но, к счастью, не на Восток, а на юг, в Рим. «Врагам народа» удалось спастись: так и возникла еще одна зарубежная Россия, просуществовавшая многие десятилетия, до которой кремлевским «друзьям народа» было уже не добраться.
Часть III
Метаморфозы революций: 1789,1917,1991 Послесловие к Жозефу де Местру и Александру Солженицыну
2011 год стал очередным годом революций: 20-летие крушения СССР совпало с катастрофическими событиями в арабском мире, продолжающимися и по сей день – в Египте, Тунисе, Ливии, чьи последствия по-прежнему трудно предсказуемы. Перечень стран, где революции потенциально возможны – от Кубы, Белоруссии, Северной Кореи, Грузии вплоть до России – растянется на полстраницы…
Несомненным эталоном на все времена остается Великая Французская революция 1789 года, которой до сих пор гордится большинство французов, помпезно отмечающих каждый год 14 июля как главный национальный праздник (правда, в Вандее, наоборот, отмечают юбилей контрреволюции). Российской революцией 1917 г., напротив, мало кто гордится – причины очевидны, о них не следует долго говорить. 1991 – год очередной российской революции и крушения, казалось бы, незыблемой советской империи. На первый взгляд, у этих трех событий не так уж много общего. Если у французской монархии 1789 года и российской Империи 1917 г. все же можно обнаружить немало сходных черт (именно поэтому обе революции сравнивались неоднократно – от Питирима Сорокина до Александра Солженицына), то что общего между монархией Бурбонов и марксистским режимом в СССР середины 80-х? Что схожего в их крушении? Эмпирические различия огромны: скажем, в мононациональной Франции революция разворачивается под национальными знаменами – патриот, демократ, революционер – синонимы. Для большевиков же – «патриоты», «спасители России» – враги революции, у пролетариата нет отечества; 1991 год вновь разводит «демократов» и «патриотов» по разные стороны баррикад. Но внутренние, глубинные закономерности катастрофических событий 1789–1815 гг., 1917–1953 гг. и 1986–2001 гг., их религиозные и метафизические основания на удивление обнаруживают много общего. Питирим Сорокин в своей пространной «Социологии революции» делит все мировые революции – от античных до современных – на два основных этапа: собственно революционный период и период спада и реакции – схема слишком элементарна и совершенно неудовлетворительна. На самом деле новейшие революции проходят более сложный и многоступенчатый путь.
I. Диктатура литераторов
«Литература», которая была «смертью своего отечества»… Этого ни единому историку никогда не могло вообразиться… Еще никогда не бывало случая, «судьбы», «рока», чтобы «литература» сломила, наконец, царство, разнесла жизнь народа по косточкам, по лепесткам… – завертела, закружила все и переделала всю жизнь… в сюжет одной из повестей гениального своего писателя – «Записки сумасшедшего».
В. В. РозановРозанов написал эти, уже цитировавшиеся, слова в роковые годы русской революции, в 1918-м, и был убежден, что именно русская литература, – и соответственно интеллигенция – с ее особым, исключительным характером, в первую очередь, виновна в национальной катастрофе. Именно с его легкой руки уже почти столетие эта легенда бродит по страницам книг и журналов. Идея об исключительной – и одновременно роковой и трагической – роли литературы на Руси звучит и в «Опавших листьях», и в «Апокалипсисе…». Но, увы, Розанов и его последователи заблуждались. Точно так же, если не более радикальным образом, происходило и 200 с лишним лет назад, во времена, предшествующие Великой французской революции.
«Все это сделали книги», – говорят, эти слова обронил Вольтер незадолго до своей смерти в 1778 году, уже предчувствуя надвигающуюся грозу.
О влиянии идей французских просветителей-энциклопедистов на события 1789 года написаны целые тома и нет смысла говорить об этом снова. Интеллектуальная артподготовка в XVIII столетии длилась более полувека и была точной и целенаправленной. Это констатируют и правые, и левые, но, разумеется, по-своему. Более того, согласно уже классическому исследованию Франсуа Фюре «Постижение Французской революции» (1978), вся историография революции была левой – якобинской или близкой к марксизму. Именно поэтому хотелось бы напомнить о размышлениях консерваторов и «реакционеров», чьи идеи оказались весьма злободневными.
Солженицин: «Революция произошла в духе раньше, чем в реальности, власть была обессилена философами, публицистами, литераторами. Идеология задолго, и беспрепятственно, опережала революцию и распространялась в образованных умах. Эта идеология (в России по отношению к Франции наследственная) исходила из принципиальной добродетельности человеческой природы, помехами которой только и являются неудачные социальные устройства».[173]
Даже историки-марксисты, вечно напирающие на базис и классовую борьбу, подчеркивают, что идейную основу для революции создали философы-энциклопедисты, публицисты, а затем журналисты и политические писатели. А после открытия 5 мая 1789 года в Версале заседания Генеральных Штатов (17 июня провозгласившими себя Национальным Собранием, а позднее Учредительным) еще до взятия Бастилии во Франции возникло совершенно новое явление: «Рождение великого множества газет. Новым было и множество листовок, брошюр, воззваний, обращений к народу. Невиданный ранее поток политической литературы затопил страну; вернее сказать, города, так как в деревне крестьянство в подавляющем большинстве было неграмотно».[174]
Это аксиома: вопреки марксистским тезисам, революции, в отличие от бунтов и мятежей, начинаются с «надстройки», а не с «базиса»: «В обеих революциях ясно видно рождение сверху, никак не сравнишь, например, с пугачевским мятежом».[175]
Консервативный мыслитель и создатель «Аксьон франсэз» Шарль Моррас в своей замечательной книге «Об интеллигенции» (1905 г.) в этом смысле еще более радикален:
«Революционная эпоха была высшей точкой диктатуры литераторов. Когда мы пытаемся охватить одним словом три революционных законодательных собраний, когда мы ищем общий знаменатель для этого сборища деклассированных дворян, бывших военных и бывших капуцинов, то им оказывается всякий раз слово “литератор”. В этой литературе можно найти все признаки упадка, но временно она торжествовала, правила и управляла. Ни одно правление в истории не было столь литературным» (курсив мой – Я. К.).
И далее:
«…Абсурдная победа письменности была полной. Когда исчезла королевская власть, а она уступила свое место не “народному суверенитету” (как это обычно говорится): наследником Бурбонов был литератор».[176]
Преувеличение? Возможно. Точнее было бы сказать «адвокатов и литераторов», и слово литераторы можно было бы взять в кавычки, но в большинстве своем и адвокаты – народ пишущий. Посмотрим, кто задавал тон в Национальном собрании? Аббат Сийес, автор «Эссе о привилегиях» и сделавшей его знаменитым брошюры «Что такое третье сословие?»; Бриссо – будущий лидер жирондистов, публицист, журналист. И, наконец, самая громкая фигура первого этапа революции, блестящий оратор граф Мирабо, автор «Опыта о деспотизме», историк и публицист. Даже провинциальный адвокат, на которого долгое время никто не обращал внимание, депутат от Арраса Максимилиан Робеспьер был начинающим публицистом, автором брошюры «К народу Артуа» и восторженного «Посвящения Жан-Жаку Руссо», которые принесли ему известность в своем департаменте, благодаря чему он и стал депутатом. И все будущие вожди революции, как жирондисты, так и якобинцы – «друг народа» Марат, Камилл Демулен (адвокат и публицист одновременно), Дантон, Сен-Жюст, – получают известность либо как журналисты, либо как издатели газет. Где-то чуть дальше – епископ, будущий князь, министр и дипломат Талейран. Маркиз Лафайет, генерал, герой Американской революции на этом фоне выглядит некоторым исключением… но это не меняет сути дела, главное, все они – медийные персонажи, как сказали бы сегодня, а получить известность тогда можно было двумя путями: публицистикой или адвокатскими речами.
Если вспомнить 1917-й, то кто задавал тон во Временном правительстве и в Совете депутатов? Профессиональный историк и публицист Милюков, адвокат и журналист Керенский, военный комиссар, террорист, романист (талантливый!), публицист Борис Савинков, журналист-эсер Чернов и т. д. Большинство меньшевиков – от Мартова до Либера и Дана – принадлежали к пишущей братии, как, впрочем, и значительная часть как левых, так и правых эсеров. Что же касается пришедших им на смену большевиков, то в их верхушке трудно обнаружить человека, который не оставил бы объемистое литературно-публицистическое наследие – Бухарин, Троцкий, Сталин, Каменев, Луначарский, Стеклов… и так вплоть до Ларисы Рейснер.
Следует лишь добавить, что в известной анкете начала 1920-х Предсовнаркома Ульянов-Ленин в графе «профессия» с присущей ему скромностью написал: литератор.
Исторические параллели всегда рискованны – они могут вести к излишней модернизации событий давнего прошлого. Но категорическое высказывание Шарля Морраса нам что-то мучительно напоминает… Не только 1917-й, но и, скорее, 1985-1988-е, когда в реальности почти ничего не происходило, но революция уже бушевала на страницах толстых и тонких журналов, газет, которые зачитывались, что называется, до дыр. Одна небольшая статья, даже «письмо в редакцию» делали человека знаменитым на всю страну, и через год-другой он становился депутатом, человеком власти, полноправным творцом новых законов.
Все большие революции начинаются именно с власти по-своему ярких персонажей: литераторов, адвокатов, публицистов, политиков, чьи тексты и речи направлены, в первую очередь, против сословного неравенства и на «борьбу с привилегиями», на защиту свобод, прав человека и всеобщее благоденствие. Именно с этого начал свою политическую карьеру и «крот революции» аббат Сийес и, например, будущий первый президент Российской Федерации.
«Человек рожден свободным, а между тем он везде в оковах» – звонкая фраза из трактата мечтателя Руссо, направленная против любого неравенства, – ключ ко всем революциям.
II. Стихии (пассионарность)
Пойдем на весенние улицы, Пойдем в золотую метель, Там солнце со снегом целуется И льет огнерадостный хмель. Зинаида Гиппиус «Юный март», 1917.«Взятие Бастилии» можно обозначить как условный символ, который станет реальностью либо в начале, либо, напротив, в самом конце революционных потрясений.
Начало любой революции – эйфория: ликующая толпа, всеобщий восторг, просветленные лица, радостные шествия – «здесь танцуют»; поэты славят свободу, жандармов бьют в 1917-м, памятник Дзержинскому свергают в 1991-м. Конечно же, Бастилия (по разным данным от шести до двадцати «преступников») и Лубянка с ее 70-летней традицией – вещи качественно схожие, но количественно несовместные в исторической перспективе. Ликование же людей, опьяненных внезапно свалившейся на них свободой, всегда похоже.
Основная тенденция революции, подчеркиваемая и Солженицыным, – ее неумолимая радикализация, смещение влево (впрочем, почему всегда происходит именно так, Солженицын не анализирует). Начавшись сверху, поддержанная снизу, она неминуемо превращается в стихию, увлекающую за собой всех и вся, чему никто и ничто не в состоянии противостоять. Здесь лишь одна закономерность – «дальше, дальше, дальше!» Так происходило и в 1789–1792, и в 1917–1918, и в 1986–1991. Это прекрасно иллюстрирует и литературная составляющая: еще вчера самые громкие, вызывающие, скандальные тексты, статьи, воззвания, даже повести и романы, написанные на злобу дня, стареют через месяц, неделю или даже через несколько дней после их опубликования. (Однако это движение влево имеет свой обязательный предел, завершением которого будет та или иная форма Термидора – но об этом ниже.)
В своих пророческих «Размышлениях о Франции» Жозеф де Местр набрасывает своеобразную теологию революции, которая окажет значительное влияние на последующую консервативную мысль. Все революции – это неудавшиеся попытки человека подчинить себе и сознательно управлять Клио. Разумные и часто добродетельные люди искренне стремятся к прекрасным целям – к свободе и процветанию рода человеческого. Но по иронии судьбы Клио рано или поздно ускользает из-под контроля, ведет к прямо противоположным результатам, превращая кукловодов революции в марионеток и часто в диктаторов и палачей, выбрасывая на вершины власти случайных людей…
Стихия, громоздящая друг на друга события, превращается в самостоятельную силу, которая поднимается над самыми прозорливыми и авторитетными вождями и ведет за собой идеологов, лидеров, народ, в конце концов превращаясь в никем и ничем неостановимое движение из ниоткуда в никуда. Де Местр, в отличие от других роялистов и контрреволюционеров, как никто другой понимает грандиозность происходящего и видит в нем глубокий провиденциальный смысл, проявление Божественной воли, карающей за грехи как нового, так и старого режима. (На языке Гегеля, не без влияния де Местра, это именуется «хитростью мирового разума», который всегда спутывает карты и человеческие планы.)
«Самое поразительное во французской революции – увлекающая за собой ее мощь, которая устраняет все препятствия. Этот вихрь уносит как легкие соломинки все, чем человек мог от него заслонится: никто еще безнаказанно не смог преградить ему дорогу…»[177]
Революция всегда уничтожает господствующую религию – в 1789-93 и в 1918-22-х католичество и православие соответственно. И творит свой новый, языческий культ, со своими божествами, святыми, житиями, мощами, идолами, расставленными по всем городам и весям. Наконец, вводит новый календарь, как это сделали французы и чему без особого успеха пытались подражать большевики. Французская революция задает матрицу – первая в новой истории осуществляет невиданный разгром церквей, разграбление алтарей, унижение и уничтожение духовенства. Большевики не только с утроенной силой копируют французов, но и «привносят» много нового. Без собственной квазирелигии революция лишается пассионарности и быстро затухает. Как и без своей эстетики и театральности: и тут и там площадные действа, шествия ряженых, своя символика, костюмы, декорации – театрализацию отмечает и Ф. Фюре, и другие исследователи.
В 1991 по понятным причинам этого не произошло. Было естественное умирание коммунистического культа, а возрождаемое православие уж никак не могло стать «религией революции», поэтому и «пассионарность» оказалась крайне слаба. Кроме «прав человека», либерализма и поклонения золотому тельцу предложить было в сущности нечего.
Забегая вперед, следует заметить, что именно благодаря этой пассионарной стихии революционные армии способны творить чудеса (Солженицын это полностью отрицает). Но сколько бы ни твердили о военном гении Бонапарта (бесспорном!), тем не менее, совершенно необъяснимо, каким образом французы, за последние два столетия никак не отличавшиеся особой воинственностью и военными успехами, смогли не только многократно разгромить все европейские армии, но и за несколько лет перевернуть и подчинить себе всю Европу. Иначе как объяснить, что необученные и плохо вооруженные красные орды, гонимые безумными комиссарами (среди которых Бонапартов не наблюдалось), с их идеей всемирной революции и тотального освобождения человечества от власти Мамоны, смогли разгромить и профессиональные белые армии, и интервентов, и захватить и ском-мунизировать гигантскую Империю, включая Дальний Восток, Закавказье, исламский Кавказ и мусульманскую Среднюю Азию, – и, если бы не провал под Варшавой, дойти до сердца Европы!
III. Террор
В июне 1917 мало кому было ясно, насколько легче революции входят в логику своего безумия, чем в разум своей истины.
Федор СтепунОчевидно, что террор является закономерным фактором любой большой революции: более того – если нет террора, то нет и революции. Все революции ведут к террору, который в определенном смысле показывает ее значимость и величие. Теперь всем известно: Клио кровожадна, она требует жертвоприношений. Но когда-то это еще не было аксиомой и нельзя утверждать, что будущие вожди изначально были нацелены на террор. Напротив, в большинстве своем они искренне помышляли лишь о правах человека, всеобщем счастье и благоденствии. Что общего у Руссо, автора не только «Общественного договора», но и сентиментальных «Прогулок одинокого мечтателя», с террором? Да, его с юности почитали как учителя едва ли не все главные действующие лица революции – от Робеспьера до Бонапарта. Все были «руссоистами» – накануне революции в Париже его читали на каждом углу. Каким образом риторический зачин «Общественного договора» – «человек рожден свободным, но он везде в оковах», – заставлявший трепетать сердца сотен одиноких мечтателей, по воле рока превратит их в палачей и диктаторов? То, что трудно найти высказывание более далекое от истины? Но разве мириады ложных истин, выраженных литераторами и философами, всегда вели к конвейерным расстрелам, концлагерям и гильотине?
Еще раз обратимся к Жозефу де Местру:
«С полным основанием было отмечено, что французская Революция управляет людьми более, чем люди управляют ею. Это наблюдение очень справедливо, и хотя его можно было бы отнести ко всем великим революциям, однако, оно никогда не было более разительным, чем теперь…
Никогда Робеспьер, Коло или Баррэр не помышляли об установлении революционного правительства и режима Террора. Их к этому незаметно привели обстоятельства, – говорит Де Местр, и с надеждой добавляет, – да никогда больше не случится подобное…»
«Эти невероятно посредственные люди подчинили виновную нацию (курсив мой – Я. К.) наиужасающему деспотизму из известных в истории, и обретенное ими могущество наверняка поразило их самих больше всех остальных…»[178]
Опять-таки, преувеличение реакционера? Вспомним факты.
30 мая 1791 года в Учредительном Собрании произносит речь тогда еще не столь знаменитый адвокат Робеспьер. Он вновь вносит предложение отменить смертную казнь. (В 1789 г. генерал Лафайет уже выдвигал подобное предложение, но большинство его отвергло.) Более того, в мае уже 1792-го «Неподкупный» (тогда его мнение разделял и Марат, и большинство якобинцев) считал, что вопрос о монархии или республике не имеет принципиального значения, и в конечном счете высказывался против республики (за это его обычно попрекали марксистские историки).[179]
А всего лишь два с половиной года спустя (5 февраля 1794), тот же Робеспьер даст, в своем роде, гениальную формулу для обоснования террора, которая станет вдохновляющим примером для будущих поколений. Он начинает с того, что любые новые победы революции неизбежно ведут к усилению происков ее врагов (можно вспомнить сталинский плагиат 1930-х), и создание «республики добродетели» без террора невозможно:
«Движущей силой народного правительства должны быть одновременно добродетель и террор – добродетель, без которой террор пагубен, террор, без которого добродетель бессильна. Террор – это ни что иное как быстрая, строгая, непреклонная справедливость, и она, следовательно, является эманацией добродетели».[180]
Позднее эту же формулу отчеканит с афористической точностью благородный марксист-фабрикант Фридрих Энгельс: «Общественный договор Руссо нашел свое осуществление во времена террора».
Это кажется чем-то фантастическим, но 22 прериаля (10 июня 1794 года, за полтора месяца до своей гибели) якобинцы в Конвенте, прокладывая самим себе дорогу на эшафот, предельно упрощают судопроизводство в Революционном трибунале. Предварительный допрос обвиняемых и институт защитников отменяется, присяжным достаточно только «моральных доводов» – внутреннего убеждения в виновности обвиняемого (через 125 лет эти «упрощения» с некоторыми поправками у них позаимствуют большевики), и для всех дел, рассматриваемых Трибуналом, предусматривалась лишь одна мера наказания – казнь!
«Наконец, чем больше наблюдаешь за кажущимися самыми деятельными персонажами Революции, тем более находишь в них что-то пассивное и механическое. Никогда нелишне повторить, что отнюдь не люди ведут революцию, а что сама революция использует людей в собственных целях. Очень верно, когда говорят, что она свершается сама собой. Эти слова означают, что никогда доселе Провидение не являло себя столь зримо в человеческих событиях».[181]
Что это означает? Вожди становятся марионетками, идеологи – конформистами, тщетно пытающимися успеть за скоростью потрясений, люди, которые всеми силами искренне хотят творить добро, оказываются во власти всеохватывающих стихий зла. Философ Федор Степун, в 1917 г. не за страх, а за совесть проработавший и на фронте, и во Временном правительстве, вспоминает, как, несмотря на счастливые «минуты роковые», он все больше и больше оказывался во власти этих пассионарных стихий. Эти месяцы, говорит он, «остались у меня в памяти временем предельного ущемления моего “я”, т. к. вместо меня во мне все время жил некий, не во всем сливающийся со мной “субъект действия”. Вынужденный ежедневно и даже ежечасно добиваться каких-то необходимых для дела конкретных результатов, этот субъект неустанно требовал от меня, чтобы я подавлял свои сомнения и пристрастия».[182]
Это тонкое замечание как раз и говорит о том, что даже вполне разумные люди, стремящиеся служить добру, оказываются во власти сил, которые всецело подавляют и подчиняют их себе.
Изначально террор направлен против Врагов – роялистов, монархистов, контрреволюционеров, но очень быстро, внезапно, неожиданно и необъяснимо он обращается против своих – умеренных революционеров, жирондистов, или, напротив, слишком «левых», «бешеных» и, конечно же, против бесчисленных «изменников» и «предателей». Ф. Фюре в противовес «якобинским» трактовкам полагает, что борьба происходила не между «классовыми врагами», а идейными противниками, чаще всего близкими по статусу, но это ничего не объясняет. Языческие боги революции жаждут крови все большей и большей: стремительность перехода террора от врагов к своим, происходящая с головокружительной быстротой, рационально непостижима – гильотина работает с ужасающей скоростью. Как было замечено не так уж давно, революция начинается с Руссо, но свершается по маркизу де Саду – тогда еще писателю никому не известному.
В России же эта охота на ведьм растянется на долгие годы: большевики тоже первым делом изгоняют или уничтожают чужих – либералов, кадетов, правых, затем левых эсеров, анархистов, меньшевиков; интеллигентов и любых инакомыслящих добивают или изгоняют в 1920-е. Но для своих Клио сделает паузу, которая продлится почти 15 лет, до 1936-39 гг.
IV. Жертвоприношение: казнь короля
Убивать жертву преступно, поскольку она священна… но жертва не будет священной, если ее не убить.
Анри Юбер и Марсель МоссЯзыческие стихии, развязывающие эскалацию насилия, в любой большой революции раньше или позднее доходят до своей кульминации – сакрального жертвоприношения: казни (или же низвержения и изгнания) монарха.
Король Англии Карл I Стюарт взошел на эшафот в Лондоне на площади перед Уайтхоллом 30 января 1649 года. Король, стремившийся к абсолютной власти над Парламентом и Церковью, жестко противившийся ее любому ограничению, после кровопролитной гражданской войны был предан суду, признан тираном, изменником и врагом отечества. По свидетельству современников, толпа на площади находилась в шоковом состоянии – публично казнили наместника Бога на земле! После казни палач поднял голову короля, но не осмелился произнести сакраментальные слова: «Вот голова изменника».
Король Франции Людовик XVI Капет, в противоположность Карлу, во многом шедший на уступки революции и даже поддерживавший ее (как, например, 4 февраля 1790 года), человек мягкий и совсем не жестокий по характеру, тем не менее был предан суду Конвента, приговорен к смертной казни, и 21 января 1793 года гильотинирован в Париже. Сравнивая эти два беспрецедентных для новой европейской истории события, де Местр особо подчеркивает либо полное равнодушие, либо восторг французов, в противоположность привязанности и состраданию англичан своему королю:
«Одной женщине достало мужества не склониться перед судьями, и, рискуя жизнью, возразить, говоря, что вторая часть нации не обвиняет короля; беременные женщины наносили себе раны в день казни; а Палач… не осмелился показать свое лицо народу, он был в маске…»[183]
Граф де Местр мечет громы и молнии: в этой казни безвинной жертвы, «козла отпущения», виновна вся французская нация. Казнь наместника Бога на земле – это не просто преступление (он ссылается на шекспировского «Гамлета»), это вызов Богу, открытие бездны, куда рухнет не только государство и его структуры, но и тысячи, десятки тысяч как виновных, так и безвинных людей.
Он предсказывает, что «каждая капля крови Людовика XVI обойдется Франции потоками крови. Четыре миллиона Французов, быть может, заплатят своей головой за великое народное преступление – за противорелигиозный и противообщественный мятеж, увенчавшийся цареубийством».[184]
Это страшноватое пророчество как для французского, так особенно российского исторического опыта (после расстрела в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге), увы, выглядит весьма похожим на правду. Как, на самом деле, можно постичь едва ли не мистическую пирамиду грядущего террора: недавние жертвы становятся палачами, их уничтожает следующее поколение; на их место приходят другие, но еще и еще раз палачи становятся жертвами… Можно лишь повторить: террор не различает ни виновных, ни безвинных, ибо виновными оказываются все.
Если в древних обществах сакральное жертвоприношение, являясь онтологической необходимостью, защищает сразу весь коллектив от его собственного насилия и в определенном смысле укрепляет единство нации,[185] то в новейшей истории, будучи изначально направлено на эту же цель, жертвоприношение, напротив, скрепляет кровью лишь часть общества и развязывает руки для насилия над другой, несогласной, над «противниками» и «врагами». После Казни все табу, запреты, границы рушатся, ящик Пандоры открыт, и языческие стихии окончательно выходят из-под
человеческого контроля. Боги жаждут крови V. Боги жаждут: Сатурн пожирает своих детей
Самые видные люди революции получали какую-то власть и известность… только в революционной струе. Как только они пытались плыть против течения или хотя бы отклониться от него, стать в стороне, как они тотчас же исчезали со сцены.
Жозеф де МестрКак и почему начинается самоистребление революционеров? Непостижимая для человеческого разумения стихия, все более свирепая и непреклонная, запускает свою адскую машину буквально с первых месяцев исторической смуты. И горе тем, кто пытается не только ее остановить, но и просто не поспевает за скоростью катастрофических изменений.
«Все те, кто тщился избавить народ от его религиозных верований… все те, кто говорил: карайте, лишь бы мы от этого выигрывали… все те, кто предлагал и одобрял жестокие меры, направленные против короля… именно все те, кто призывал Революцию, все, кто этого хотел, совершенно заслуженно стали жертвами…
И здесь снова мы можем восхититься порядком, господствующим в беспорядке (курсив мой – Я. К.) Ибо совершенно очевидно, если хоть немного поразмыслить, что главные виновники революции могли пасть только под ударами своих сообщников…»
«Где первые национальные гвардейцы, первые солдаты, первые генералы (Лафайет – Я. К.), присягнувшие Нации? Где первые вожаки этого столь преступного собрания, определение которого – учредительное – останется вечной насмешкой? Где Мирабо? Где Байи со своим прекрасным днем? Где Турэ, который выдумал слово экспроприировать^.. Можно было бы назвать тысячи и тысячи орудий революции, которые погибли насильственной смертью».[186]
Автор «Санкт-Петербургских вечеров» писал этот текст по горячим следам в самой середине 1790-х. Продолжая его, можно было бы воскликнуть: где еще недавно самые близкие, свои, где левые якобинцы-эбертисты (Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо и др.). Где Шометт, глава Коммуны Парижа? Где умеренные якобинцы – Дантон, Демулен и дантонисты? И, наконец, где Сен-Жюст, братья Робеспьеры, Кутон и еще сотни других, погибших от той силы, которую они сами же и породили?
В XX веке гильотина будет сдана в музей (впрочем, не так уж и давно, в 1981-м, последнее гильотинирование в Европе происходит в 1977-м, в России последняя казнь – в 1996-м). После Второй мировой застенки и массовые расстрелы становятся редкостью. Общество и государство худо-бедно гуманизируются. Однако на смену террору приходят кровавые этнические конфликты и войны, которых не было в мононациональной Франции…
Если же вспомнить 1986–2001 годы, то речь уже не идет о физической гибели «революционеров». Клио частично утрачивает свою кровожадность, но она точно так же правит стихией, и по своим непостижимым прихотям – то выбрасывает случайных людей на вершину, то тут же низвергает на самое дно – кого-то пристреливают из-за угла, в подъезде или с чердака. Кто-то вовремя умирает или пропадает в безвестности, другие – спасаются за границей. Бегство демократа Собчака из Петербурга странным образом напоминает бегство демократа Керенского из Петрограда. Многие исчезают с поверхности политической жизни, но взамен получают синекуру, которой им хватит до конца их дней.
И лишь уникальные по выживаемости персонажи, как когда-то аббат Сийес, Талейран или совершенно фантастический Жозеф Фуше[187], умудряются дотянуть от одних «Бурбонов» до других.
Какова же конечная судьба наших славных революционеров? Если вспомнить хотя бы начало 2000-х, то где к этому времени наши отважные диссиденты, мученики сталинских, хрущевских и брежневских лагерей? Где творцы «диктатуры литераторов», пламенные публицисты и критики конца 1980-х? Где «прорабы перестройки», где радикальные и межрегиональные депутаты первых созывов? Где все лидеры и участники демократических, христианско-демократических, республиканских и прочих народолюбивых партий? Где вундеркинды от экономики, гиганты мысли и отцы новой русской демократии? (Конечно, во все времена существует изрядное количество больших и маленьких фуше и талейранов, которые всегда удерживаются на плаву, пересаживаясь из одного кресла в другое, но уже не они «делают погоду»).
И где, наконец, «король-реформатор» (сделавший ставку как раз на интеллигентов и «литераторов»), по чьей инициативе и началась революция сверху?.. Но что бы ни писали нынешние конспирологи, первый и последний президент СССР, начиная робкие преобразования в 1986-м, и в страшном сне не мог представить, что через пять лет вместо чаемого социализма с человеческим лицом распавшаяся страна получит капитализм с лицом совсем нечеловеческим. А он сам, согласно безумно-разумной логике Клио, благодаря порядку, господствующему в беспорядке, закономерно должен будет стать «козлом отпущения», претерпеть публичные унижения, но, по сравнению со своими предшественниками, отделаться лишь легким испугом…
VI. Термидор
Дитя, ты вырастешь свободным и счастливым человеком и этим будешь обязан презренному Гамлену. Я свиреп, так как хочу, чтобы ты был счастлив. Я жесток, так как хочу, чтобы ты был добр. Я беспощаден, так как хочу, чтобы завтра все французы… упали друг другу в объятия.
Анатоль Франс. «Боги жаждут»5 апреля 1794 года приговоренного к смерти Дантона вместе с товарищами на телеге везли к месту казни на Гревскую площадь как раз по улице Сент-Оноре, где в скромном доме столяра Дюпле жил неподкупный аскет Максимилиан Робеспьер. Рассказывают, что Дантон успел бросить свою пророческую фразу: «Максимилиан, ты скоро последуешь за мной!»
Через три месяца 9 термидора (27 июля 1794 г.) правый переворот положил конец власти якобинцев. На следующее утро 10 термидора по революционному календарю Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и еще 19 сподвижников были гильотинированы на все той же Гревской площади. 11 термидора еще 71 якобинец последовал в том же направлении…
И очень важно, что якобинцы не были «безумными радикалами», в своем пространстве они были в определенной мере «центристами», более того – «государственниками», убежденными патриотами (в отличие от большевиков), уничтожавшими сначала роялистов, потом революционеров, тех, кто «чуть правее» – жирондистов, потом «дантонистов», и слишком левых – эбертистов (близких к коммунистическим идеям) и «бешеных». Они пытались пройти по лезвию бритвы, но острое лезвие революции разрезало их самих.
Эти пляски смерти в полуфеодальной Франции к тому же невероятно театральны: публичные казни – жуткий Гран гиньоль наяву. Казнь эбертистов была встречена всеобщим ликованием в среде «правых» и роялистов, «которыми Париж был переполнен. На улицы высыпали толпы “мюскадэнов”, одевавшихся в самые невероятные наряды, и они преследовали приговоренных своими насмешками и оскорблениями, пока тех везли на казнь, совершавшуюся на Площади революции. Богатые господа платили шальные цены возле гильотины, чтобы вполне насладиться казнью Эбера… Площадь обратилась в театр, – писал
Мишле, – и вокруг нее был род ярмарки; массы веселой публики гуляли на Елисейских полях между палаток и лавочек».[188]
Гильотинирование Робеспьера и его команды было не менее театрализовано: «Раньше, чем их привезти на Площадь революции, их долго возили по улицам под оскорбления контрреволюционной толпы. Высший свет, собравшийся в полном составе на это зрелище, ликовал еще более, чем в день казни эбертистов. Окна на пути процессии телег, везших революционеров на казнь, нанимались за баснословные цены. Дамы восседали в этих окнах в праздничных нарядах».[189]
Якобинский террор закончился. Власть переходит в руки условно именуемого «термидорианского конвента», состоявшего из самых разнородных политических сил. С тех пор слово «Термидор» стало нарицательным: как неизбежная ступень в развитии любой большой революции.
Был ли Термидор в Советской России? Споры об этом до сих пор не закончены. Первыми о Термидоре заговорили противники НЭПа, самые непреклонные большевики. Наибольшую известность термин получил благодаря Троцкому, назвавшему перевороты в Советском Союзе во второй половине 20-х годов (разгром левой, а затем правой оппозиции) «сталинским термидором». Эту идею подхватили меньшевики-эмигранты, западные социал-демократы и многие другие. Солженицын же в своем радикальном неприятии любых революций как таковых (пример консерватора, неспособного проникнуть в сущность революционной катастрофы) категорически отрицает саму возможность Термидора, высмеивая «истерику Троцкого» и полагая, что все основания тоталитарного режима в СССР были заложены уже к двадцать второму году, и дальше шло лишь «однолинейное развитие». Сталину в своем эссе он вообще не уделяет никакого внимания.
И, тем не менее, Термидор, несомненно, был по той простой причине, что никакая значительная революция в принципе не может обойтись без него. Тогда это означало бы, что революция длится и продолжается перманентно годы и десятилетия – как раз по Троцкому!
Борхес как-то очень точно заметил, что трудно, например, быть настоящим национал-социалистом, оставаться им всю жизнь и в глубокой старости спокойно умереть в своей постели. Он даже предположил, что Гитлер, с его культом смерти, бессознательно стремился к поражению, ибо чем иначе можно объяснить его безумное поведение в годы войны. Можно вспомнить и знаменитый лозунг франкистов: «Да здравствует Смерть!» (Разумеется, здесь речь идет не об убийстве врага, а прежде всего о личной жертве). То же самое можно отнести и к подлинным большевикам: «Свобода или смерть!». Революционеры редко умирают в окружении домочадцев… Термидор же означает остановку, ослабление революционных стихий, предел, далее которого они уже в прежней форме не могут развиваться. Он означает, что общество устало от потрясений и хаоса, энергия иссякла, и люди, попросту говоря, в большинстве своем хотят нормально жить. (Попутно заметим: из новейших революций Термидор пока не произошел лишь в одной стране – на Кубе. Но ясно, что и он не за горами.)
Историки с изумлением отмечают, что как только ядро якобинцев было уничтожено, и умеренная буржуазная власть покончила с массовым террором, еще недавно проникнутый духом революционной аскезы Париж изменился до неузнаваемости. Откуда ни возьмись, появились огромные деньги, шикарные экипажи с породистыми лошадьми, прекрасные женщины в дорогих нарядах, щеголи, нувориши, беспечная золотая молодежь. Вновь воскресла роскошь, открылись парфюмерные, ювелирные магазины и, что самое интересное, пятьсот, шестьсот, тысяча танцевальных залов и кафе (см. например, С. Цвейг. Жозеф Фуше). Париж приобрел свой прежний и будущий облик, все танцуют и развлекаются буквально на тех местах, где еще недавно шли казни. Нельзя не привести еще одно свидетельство с привкусом чисто парижского макабра:
«Это увлечение танцами в богатых кварталах Парижа пришло как-то сразу и всех захватило. То были новые, странные танцы, не похожие ни на народные пляски революционных лет, ни на медлительные котильоны старого времени. Устраивались «балы жертв», куда допускались только члены семейств, в которых кто-то был казнен. Полуголые женщины высшего света, похожие на проституток, и проститутки, неотличимые от знатных дам, вместе с нарядными кавалерами при неярком свете свечей, под жалобную и пронзительную музыку танцевали странный танец, имитирующий судорожные движения головы и тела, падающих под ударом ножа гильотины. Танцевали и в темноте или при свете луны на кладбищах, на могильных плитах».[190]
Культ «Верховного Существа», который незадолго до своей гибели безуспешно пытался установить Робеспьер, вытесняется утонченным декадансом и древним, как мир, культом Мамоны.
Нечто подобное, конечно же в неизмеримо меньших масштабах, возникает и в первые годы НЭПа – жизнь везде и всюду неуклонно берет свое. Революции и катастрофы очень быстро утомляют. Другое дело, что точные границы Термидора часто определить невозможно, и в каждой стране он имеет свои особенности. Он может произойти за одну ночь, а может быть медленным, «ползучим», как это происходило в Советском Союзе в 20-30-е годы. Можно называть различные даты (этапы) – 1929, 1933, 1938, 1953 или 1956 гг. Важно другое: раньше или позже не может не произойти «бюрократическая революция». Бюрократия, без которой невозможно существование любого общества, медленно, но верно вытесняет собственно «революционеров» и окончательно подчиняет себе все сферы жизни. Так возникает «новый класс» (по Миловану Джиласу), который хотя формально и не обладает собственностью, но благодаря монополии на власть создает новую элиту, которая и правит страной.
VII. Генерал, генералиссимус, полковник
А офицер, незнаемый никем, Глядит с презреньем – холоден и нем — На буйных толп бессмысленную толочь, И, слушая их иступленный вой, Досадует, что нету под рукой Двух батарей «рассеять эту сволочь». Максимилиан Волошин. «Тюильри, 1792»Когда на смену «религии революции», пассионарной аскетике и равенству в нищете возвращается культ Мамоны, нетрудно представить, что происходит в любой стране. Мы все это в полной мере прошли в 1990-е, но удивительным образом схожие процессы, вплоть до совпадения в мелочах, сотрясали французскую республику двести лет назад. Термидорианский конвент крайне разнороден (его весьма напоминает постсоветский парламент 1992-93 гг.). Во-первых, это умеренно правые, буржуазия, депутаты-жирондисты, вернувшиеся в Конвент уже в декабре 1794. Где-то рядом – коррупционеры, нувориши, уже сколотившие на революции свои капиталы. Во-вторых – «охвостье Робеспьера» – своеобразная «банда четырех» (Бийо-Варенн, Коло д’Эрбуа, Барер, Вадье – вскоре они будут арестованы, но не казнены, а сосланы на каторгу). В-третьих, крайне левые, остатки недобитых Робеспьером «бешеных» и эбертистов, приветствовавших падение Неподкупного Робеспьера как диктатора и «душителя демократии», которых уж никак не заподозришь в поклонении золотому тельцу. Наконец, знаменитое «болото» (прототип «агрессивно-послушного большинства» еще в первом советском парламенте), склоняющееся то в одну, то в другую сторону.[191] Но жрецы и служители Мамоны, как всегда, берут свое по той простой причине, что никакое общество не может нормально существовать без свободы торговли и частного предпринимательства, хотя, как известно, благополучия народу это не приносит.
Термидорианцы отменяют национализацию внешней торговли, государственную военную промышленность и якобинское законодательство о распродаже национальных имуществ. 24 декабря 1794 года Конвент отменяет твердые цены на хлеб и восстанавливает свободу хлебной торговли.[192] Рост цен, хаос, включение печатного станка, обесценивание бумажных денег, скачки на бирже, инфляция, финансовые спекуляции, чудовищная коррупция, чехарда во власти, демонстрации, бунты, восстания, заговоры роялистов, с одной стороны, санкюлотов – с другой. Все это не может не вызвать ностальгии по порядку, «сильной руке» и Генералу…
Самым опасным для Конвента внезапно оказывается восстание роялистов 13-го Вандемьера (5 октября 1795 года), которым удалось собрать под свои знамена более 20000 человек, в том числе и Национальную гвардию, очищенную после 9-го Термидора от левых радикалов.
Ситуация была предельно критической. Конвент обладал вчетверо меньшими силами, явно недостаточными для защиты дворца Тюильри, где происходили заседания. Командующий войсками Конвента Поль Баррас, казнокрад и бонвиван, каким-то чудом вспомнил обо всеми забытом и опальном генерале-корсиканце Буонапарте (после 9-го Термидора за тесные связи с якобинцами и, в частности, с Огюстом Робеспьером, он даже две недели провел в тюрьме). Баррас сделал его своим помощником, и Наполеон нашел единственно правильное решение – использовать артиллерию. Сорок пушек под покровом ночи были почти тайно доставлены в Париж. Дальше все было делом военной техники. Мятежники, превосходящие числом, но не имеющие орудий, сконцентрировали у церкви Святого Роха значительные силы, направленные на штурм Тюильри…
Бонапарт (по некоторым версиям, в тот день испытывавший серьезные сомнения) приказал открыть огонь, и после нескольких залпов все было кончено: «Паперть церкви Святого Роха была покрыта какой-то кровавой кашей».[193] Эта бойня из пушек в центре Парижа опять-таки нам что-то мучительно напоминает… Не столько 14 декабря 1825-го, сколько октябрь 1993-го…
В отличие от 1792 года, когда безвестный офицер в бездействии наблюдал штурм республиканцами королевского дворца Тюильри, теперь у него было вполне достаточно батарей, чтобы «рассеять эту сволочь».
То, что в 1792 году у Тюильри «этой сволочью» были санкюлоты, а в 1795-м, по преимуществу, роялисты – не имеет значения. Настоящий генерал всегда исполняет и отдает приказы. Некоторые современники и будущие историки были отчасти в шоке: пушечная бойня в центре столицы являлась событием неординарным. Но в момент победы Клио почему-то прощает своим любимцам все. Именно 13-го Вандемьера генерал Бонапарт, давний поклонник Руссо, превращается из опального генерала в национального героя и уже больше не упустит фортуну из своих рук, вплоть до бесславного похода на Москву.
После 18-го Брюмера (1799 год) и множества военных побед Бонапарт достигает своего абсолютного триумфа и становится как объектом ненависти, так и образцом для подражания для всей Европы двух последующих столетий. «Мы все глядим в Наполеоны» – не только малые и большие полководцы и диктаторы пытаются ему подражать, но его славят самые различные писатели и философы, совершенно несхожие друг с другом, от Стендаля и Байрона до Ницше, Леона Блуа и Мережковского.
Наполеон – это рок столетия. Им либо безмерно восхищаются, либо ниспровергают… Так или иначе, Генерал завершает большую революцию. Он возвращает эмигрантов, наинает процесс реставрации, воссоздает императорский двор, который превосходит своей пышностью даже прежний, монархический, – на этом же революция и заканчивается.
В XX веке наполеоновскую треуголку пыталось примерить на себя множество исторических персонажей – от Бенито Муссолини до Иосифа Джугашвили. Историки до сих пор спорят, были ли у маршала Тухачевского бонапартистские амбиции. Доподлинно известно, что Сталин весьма интересовался судьбой корсиканца, проявлял интерес к апологетической наполеоновской биографии академика Тарле, читал ее в рукописи и благословил к публикации. Но очевидно, что император-марксист – это недоразумение и посмешище для всего мира. Поэтому был найден другой образец для подражания, и вслед за Оливером Кромвелем (и Суворовым) отец народов присвоил себе скромное звание генералиссимуса.
Но вернемся в 1990-е. Когда же в обществе родилась идея-мечта о сильной руке и жестком, но справедливом Генерале, который придет на смену казнокрадам-временщикам и, наконец, наведет Порядок? Нетрудно вспомнить – одновременно с гайдаровскими реформами, началом криминально-номенклатурного капитализма, нового культа Мамоны, который получит свое окончательное оформление уже в 2000-е. И почти в то же самое время, когда в либеральных кругах стали опасаться «номенклатурного реванша» – читай Термидора. С одной стороны, надеялись на «продолжение и развитие реформ», с другой – то ли с ужасом, то ли с надеждой ожидали пришествия Генерала, причем как патриоты, так и либералы. И те, и другие по-своему, – уже не столько Бонапарта, сколько «русского Пиночета». Кандидатов в Пиночеты было немало. Их нетрудно вспомнить. Полуразрушенная страна как несчастная невеста томилась по грядущему жениху. Известная либеральная экономистка в либеральном журнале «Знамя» в середине 90-х восклицала в эротическом экстазе: «Я жду Вас, мой генерал!» Но, увы, с русским Пиночетом как-то не вышло. Генералы не выдержали напряжения и канули в небытие. Почему?..
VIII. Реставрация
Один из немногих физических законов, аналогию которому можно обнаружить в исторических событиях, очень прост – третий закон Ньютона: сила действия равна силе противодействия. Чем сильнее изначальный толчок, тем сильнее взрывная волна, тем мощнее катастрофа, но одновременно – тем резче будет откат. По сравнению с 1789 или 1917 годом пассионарный толчок 1991 был – наверное, к нашему счастью – предельно слаб. А была ли вообще революция? Или же всем надоевший режим сам по себе развалился изнутри? Конечно, некоторое подобие революции имело место, но взрывная волна угасла очень быстро. Отчего? Идеалы были слишком элементарны и трудно совместимы друг с другом. Свобода, справедливость, «правовое государство», с одной стороны, и «спасительный капитализм» – с другой. И возвращение к «нормальному обществу» – то есть реставрация. История это проходила много раз. В результате пришел закономерный хаос, опасный для любой страны, а для такой гигантской, как Россия, – тем более. Поэтому «откат» в октябре 1993 – бойня в центре Москвы – был недолгим, но трагическим, потрясшим весь мир, на чем собственно революционная эпоха и завершилась. Трагический хаос переходит в вялотекущий – трагедии продолжаются на окраинах империи, в столицах же царит унылая религия Мамоны и ее извечная спутница – нищета.
Все ждут по-прежнему спасителя нации, но в такие мутные вялые эпохи Клио обязательно понижает его в чине. Вместо чаемого Генерала, Генералиссимуса, «Пиночета» по своей неисповедимой прихоти она выносит на вершину всего лишь отставного полковника с Лубянки (успевшего подать в отставку вовремя – 20 августа 1991 года, когда с путчем уже все было ясно), который обязан соответствовать духу времени, а не творить его, и окончательно закрепить в 2000-е рожденный в 90-е культ Золотого тельца, убрав и изгнав лишь несколько его рьяных жрецов (которые – не следует забывать – и привели его к власти!) и отправив в лагеря своих самых опасных оппонентов. Но его возвышение вызывает гневное и справедливое возмущение: как такое возможно?! Лубянка, которая 70 лет изничтожала страну, вновь правит балом!
Надо вспомнить 1988-92-е, когда никто не был так унижен как некогда всемогущественные спецслужбы (вместе с коммунистами, разумеется). Ликование при свержении памятника Дзержинскому в 1991 – глубоко символический акт, это наше «взятие Бастилии», которое не могло пройти бесследно. Сила действия равна силе противодействия. Круг замыкается. «Ползучий» Термидор получает достаточно четкую границу – рубеж тысячелетий. Начинается эпоха реставрации с ее фантастической смесью старого и нового: культом Мамоны, олигархами, возвращением советской номенклатуры и символики, «красных директоров», трудно отличимых от олигархов, всевластием спецслужб, полицейским контролем при относительной свободе, всеобщей продажностью и т. д.
Но опять-таки, нельзя не провести последнюю аналогию и не вспомнить, наряду с монахом Фуше и аббатом Сийесом, еще одного героя французской революционной эпохи, блистательного Шарля-Мориса Талейрана, епископа Отенского, затем князя Беневетского, несомненно, самого гениального дипломата в новейшей истории. Талейран, благодаря протекции своей бывшей любовницы мадам де Сталь, стал министром иностранных дел в 1797 году, еще при Директории, и оставался им вплоть до 1808 г., когда он предал Наполеона, уже предчувствуя – своим особенным чутьем! – что звезда Бонапарта клонится к закату.
Мздоимством в те времена было трудно кого-либо удивить: «Но Талейран все-таки удивил даже своих современников… Он брал взятки с Пруссии, брал с Испании, брал с Португалии, брал с Соединенных Штатов, брал с колоний и метрополий, с материков и островов, с Европы и Америки, с Персии и с Турции; брал со всех, кто так или иначе зависел от Франции… или боялся Франции… Взятки он брал огромные, как бы не желая обидеть, например, великую державу, запрашивая с нее маленькую взятку».[194] «Он продал Директорию, он продал Консульство, Империю, императора, он продал Реставрацию, он все продал и не перестанет продавать все до последнего дня», – горько сокрушалась впоследствии мадам де Сталь по поводу своего протеже.[195]
В 1814 году прозвучит финальный аккорд, знаменующий окончательное завершение революционных бурь и возвращение на трон династии Бурбонов. Но слабый Людовик XVIII для восстановления полноты власти не может не воспользоваться услугами своих злейших врагов – убийцы своего брата герцога Отрантского Жозефа Фуше и князя Талейрана. Он вынужден их принять в своем дворце, чтобы возвести Фуше в сан теперь уже министра королевской полиции…
Писатели часто изображают роковые события сильнее профессиональных историков. Стефан Цвейг не жалеет ярких красок для живописания этой сцены: «Чтобы лучше ступать, хромой Талейран кладет руку на плечо Фуше, – “порок, опирающийся на предательство”, по язвительному замечанию Шатобриана… Затем Талейран принимает на себя неприятную обязанность представить королю в качестве министра убийцу его брата. Преклонив колени перед “тираном”… для принесения присяги худощавый человек, став бледнее обычно, целует руку, в которой течет та же кровь, что он однажды помог пролить, и присягает во имя Бога, чьи церкви он некогда разграбил и разгромил со своей шайкой в Лионе. Это чрезмерно даже для Фуше».[196]
В замечании Шатобриана о «пороке» и «предательстве» первое от второго отличить очень сложно: их можно многократно менять местами. Но именно с этого «союза» и началась новая эпоха…
Беспристрастная, «внепартийная» история Французской революции до сих пор не написана даже во Франции, замечает в конце XX века объективный историк Франсуа Фюре. Это неудивительно: мы смотрим на французскую революцию как в зеркало, и если не до конца узнаем себя, то только потому, что историческая копия никогда не совпадает с оригиналом.
Но вопреки всему миф о революции вечен, пока существует история. И неважно идет ли речь о грандиозных событиях 1789, 1871, 1917, 1991 – го или же о парижском студенческом шоу 1968-го, где, к счастью, не погибло ни одного человека. Несмотря на миллионы трупов, и сегодня революционный миф по-прежнему обещает тотальное Освобождение всех живущих от политических, социальных, расовых, монетаристских, сексуальных оков, техногенного, глобалистического, медийного насилия… Об этом снова твердят сотни литераторов-интеллектуалов на всех континентах, как, например, это делает в своих политических работах философ Ален Бадью, по совместительству – маоист, или Жижек в книжке о Ленине. Даже классик политико-философской мысли XX века Ханна Арендт в книге «On-revolution» (1963), после рек пролитой крови, со святой простотой левых интеллектуалов создает настоящую Апологию революции.[197]
Что это? Безумие, слепота, беспамятство, ущербность? Нет. Все революционные фантазмы – вариации извечного религиозного хилиазма, жажды праведной и справедливой жизни. Разве можно лишать надежды страждущее человечество? Что мы все будем делать, если нас впереди ничего не ждет, даже в эпоху Кали-юги, которая может продлиться еще тысячи лет? Без исторических катастроф жизнь скучна, осуждать их – то же самое, что хулить грозы, ливни, цунами, и, наконец, мечты и чаяния всего рода человеческого..
P.S. Этот текст родился из личного наблюдения и участия в событиях последнего двадцатипятилетия, а также длительного чувства удивления и недоумения: почему всем интеллектуалам (да не только им, а ныне очень и очень многим!) так не нравится наш неповторимый полковник и его режим? Да, мягко говоря, режим еще тот, но могло быть и хуже. Все без исключения революции, даже бархатные, оранжевые и шелковые, завершаются разочарованием. Мы не только не получаем того, к чему стремились, но, напротив, то, чего совсем не ожидали. После пассионарного взрыва и опьянения неизбежно наступает глубокое похмелье.
Из всего сказанного может возникнуть впечатление, что история ничему не учит и абсолютно бессмысленна… Да, люди повторяют одни и те же ошибки, но иначе, и на другом уровне.
Всем известно, что просто так катастрофические события не заканчиваются, тем более в огромной великой стране: все читали книжки по истории. После смутного времени всегда кто-то должен придти – если не фюрер или генералиссимус, то, по крайней мере, генерал, дуче, каудильо, или батька, на худой конец.
Выбирайте, что лучше.
Краткая история доктора Фауста
– Что это вы, партийный, а все время Бога упоминаете? Веруете?
…………………………..
– А в Бога Господа верую, – вдруг сказал Поротый, – верую с сего 10 июня и во диавола.
Михаил Булгаков. «Черный маг»I. Мелкий бес
Чтение исторических и легендарных сведений о докторе Фаусте, проживавшем в Германии в первой половине XVI века, откровенно говоря, обескураживает… Перед нами не просто чернокнижник, маг, астролог, продавший душу нечистой силе, но и откровенный плут, пустослов, бродяга, трикстер, мошенник, весьма напоминающий современных «астрологов», «магов» и «экстрасенсов», обещающих лекарство от всех болезней и такую власть над миром, о которой простой смертный может только мечтать. XVI век удивительным образом входит в резонанс с современностью.[198]
Итак: «Восемь дней тому назад в Эрфурт прибыл некий хиромант, гейдельбергский полубог, истинный хвастун и глупец… Он столь же нелепо чванился своим искусством, называя себя величайшим из всех доныне живших алхимиков, и уверял, что может и готов выполнить все, что угодно…» С помощью врага рода человеческого ему доступны невероятные вещи. В Венеции он взлетает в небо, но тут же, едва живым, падает на землю; верхом катается на винной бочке, выкатывая ее из знаменитого Лейпцигского погреба Ауэрбаха; своей магической силой сотрясает дома простолюдинов и замки высокопоставленных господ; в прямом смысле награждает императора Фридриха оленьими рогами и совершает множество прочих проделок, подобных тем, что два века спустя, в эпоху просвещения, будет совершать неподражаемый барон Мюнхгаузен. Но при одном существенном отличии: у современников доктор Фауст не вызывал ничего, кроме страха и отвращения, как и все прочие колдуны, маги, ведьмы и некроманты, которые в те времена водились в неизбывном количестве:
«Маг этот Фауст, гнусное чудовище и зловонное вместилище многих бесов, в хвастовстве своем дошел до такой нелепости, будто только ему и его чарам императорские войска обязаны всеми своими победами в Италии», – передает слова соратника Лютера Филиппа Меланхтона Иоганн Манлиус.
Иными словами, в образе чернокнижника Фауста очень мало общего с великими герметистами и алхимиками средневековья и Ренессанса: Альбертом Великим, Роджером Бэконом, Раймондом Луллием, Николя Фламелем, Джоном Ди, о которых хоть и ходили всевозможные слухи об их алхимических занятиях, о связях с инфернальными силами, но, тем не менее, некоторые были даже канонизированы Церковью (Альберт Великий). В памяти потомства они оставили самые лучшие воспоминания, прежде всего потому, что свою мудрость они использовали во благо (Фламель строил больницы, церкви, приюты для бедных), чего никак нельзя сказать об историческом Фаусте, по отзывам современников – подлинном «исчадии ада».
II. Народный герой
В «Народной книге» о Фаусте, изданной в 1587 году, ситуация существенно меняется. И хотя по долгу службы и следуя веяниям времени анонимные создатель(и) – протестанты этого «жития» вынуждены осуждать ужасные проделки доктора, сам Фауст со своей свитой – сонмом бесов, демонов и духов, окружающих его, неизмеримо более привлекателен, нежели добропорядочные (или не очень) обыватели: доктор со своим окружением – это как раз те, кто по преимуществу «творят добро, всему желая зла».
Жизнь доктора Фауста – это фантасмагорический роман, по сравнению с которым во многом меркнут и подвиги Дон-Кихота, и деяния многих шекспировских героев (художественные достоинства сейчас не обсуждаем). «Народная книга», осуждая Фауста, на самом деле прославляет его. В первую очередь, Фауст необыкновенно умен, мудр, талантлив, привержен наукам, при сдаче экзамена на степень магистра он победил всех и стал доктором богословия еще до совершения сделки. Но при всем том, изучив все предметы, он обладал «дурной, вздорной и высокомерной головой», за что все его звали «мудрствующим». Как сказали бы современные философы, Фауст – трансгрессивен, его не удовлетворяет сущее, ему нужно преступать всяческие границы, он вне добра и зла, по ту сторону этого мира, кстати говоря, во зле и лежащего.
Помимо успехов в богословии, Фауст, как полиглот, овладел «халдейскими, персидскими, арабскими и греческими словами, письменами, заклинаниями, волшебством», но из-за «вздорной и высокомерной головы» попал к Князю мира сего в расставленные им сети.
Жизнь Фауста в отпущенные ему Мефистофелем 24 года ошеломляюща. Он то спускается в преисподнюю, то путешествует по звездам, то, оказавшись на Кавказе, видит очертания Рая; оседлав Мефисто, превратившегося в крылатого коня, облетает весь подлунный мир – от Азии до Португалии; составляет самые точные гороскопы и предсказания, чем, надо подчеркнуть, приносит немалую пользу народам и правителям. Но попутно совершает как благие, так и зловредные проделки, и что ужаснее всего, пускается во все тяжкие… Разумеется, Мефисто поставляет ему самых красивых женщин, с каждой из которых доктор вступает в преступную связь, не исключая и прекраснейшей Елены греческой, которая от него даже имела ребенка…
Он расплачивается в трактирах деньгами, которые тут же превращаются в труху, злонамеренным путем опустошает погреба епископов и князей, перемещает благородных графов по воздуху на свадьбу, наказывает грубого мужика, съедая его лошадь вместе с сеном, насылает порчу на перепившихся в кабачке крестьян, которые слишком громко орали свои песни, и т. д. Иными словами, наш удивительный доктор, чернокнижник и нигромант, переворачивает устоявшийся и благопристойный мир обывателей наизнанку, – четыре века спустя в советской Москве то же самое будет проделывать мессир Воланд и его свита.
Он крайне непристойно ведет себя в Ватикане, в папском дворе, где он увидел «высокомерие и чванство, гордыню и дерзость, пьянство, обжорство, прелюбодеяние и все безбожное распутство Папы и его прихлебателей». (Папа, с точки зрения протестантов, – исчадие ада.) Но и здесь наш герой, до смерти напугав первосвященника, вышел сухим из воды, основательно «подчистив папскую снедь и питье».
И уж совсем неполиткорректно Фауст проявил себя в Константинополе, не только учинив над султаном всяческие «проказы и обезьянства», но, приняв образ самого пророка и проявив недюжинную мужскую силу, за одну ночь многократно оприходовал весь сераль, о чем жены и наложницы с восторгом сообщили своему повелителю.
Иначе говоря, народный Фауст – это не только маг, злодей и чернокнижник, но и Дон Жуан, барон Мюнхгаузен и сверхчеловек одновременно, чьей фантастической жизни современники могли только позавидовать. Недаром книжка была невероятно популярна, как и кукольные комедии о Фаусте (хотя они намного беднее по содержанию), где в конце черти всегда тащат его в ад, но, очевидно, что его бурная жизнь не могла не вызывать у зрителей скрытого восхищения.
III. Демонический интеллектуал или дух бесконечности
Порок живописен, а добродетель так тускла. Что же все это за ужасы?!
Василий Розанов. «Опавшие листья»Фауст Гете разительно отличается от Фауста исторического и «народного»: перед нами разочарованный герой эпохи Просвещения и одновременно романтик, переживающий глубокий кризис – alter ego самого Гете, как, впрочем, и Мефистофель. Если Фауст XVI века, подобно своим великим предшественникам, обладал целостным магическим знанием, которое еще до сделки открыло ему бесконечность мироздания и власть над миром, то Фауст Гете – раздробленное и разочарованное существо, которое только и делает, что проклинает «книжную мудрость», бессмысленность знания, тщету человеческого ума: «Я на познанье ставлю крест, Чуть вспомню книги – злоба ест». «Я богословьем овладел,/ Над философией корпел,/ Юриспруденцию долбил / И медицину изучил./ Однако я при этом всем/ Был и остался дураком»….
Это не только личная драма Фауста, но и традиция, которая была хорошо известна Гете: в Средневековье и Возрождение выходили трактаты, чей смысл очевиден из названий – «Об ученом незнании», «О бесплодии наук», «О недостоверности знания» – христианский нарратив, напоминающий о тщете и суетности познания, восходящий к Екклесиасту и Новому Завету.
«Пролог на небесах», где всемогущий Господь обсуждает с Мефисто судьбу своего несчастного героя, который, как и все человечество, запутался и находится на грани гибели – откровенно ироничен. Но за иронией – гетевское решение проблемы зла, мучившее богословов со времен Августина. Если Господь всемогущ, а сатана бессилен, тогда откуда Зло? Если же дьявол способен свободно творить свои темные дела, значит, Господь не всемогущ, – мы впадаем в страшную ересь и не миновать нам костра… Но по Гете (или, скажем, по Гурджиеву) ленивый род людской пребывает в поднебесной в летаргическом сне. Чтобы разбудить его, и нужен такой симпатяга, «плут и весельчак». Поэтому Господь и благословляет черта на славные дела: «Тогда ко мне являйся без стесненья. /Таким, как ты, я никогда не враг./ Из духов отрицанья ты всех мене/ Бывал мне в тягость, плут и весельчак. / Из лени человек впадает в спячку. / Ступай, расшевели его застой,/ Вертись пред ним, томи, и беспокой,/ И раздражай его своей горячкой».
Гетевский Бог и Мефисто почти друзья-товарищи, просто они отвечают за разные стороны бытия, за светлую и темную соответственно. Более того, именно Мефисто автор доверяет свои сокровенные мысли – про «сухую теорию» и «зеленеющее древо жизни». А ирония естественна, ибо в эпоху Просвещения, после Канта, верить в реальность сил ада, духов, демонов просто неприлично, тем более для олимпийца и пантеиста Гете. Поэтому Фауст и Мефисто неразлучны как Дон Кихот и Санчо, они близнецы-братья, выражающие разные стороны души их создателя. И вполне закономерно, что при переводе первой части Фауста на русский (Э. Губер) в 1838 году цензура выкинула 300 строк – и, прежде всего, богохульный «Пролог на небесах».
Страстный моралист Честертон в известном эссе причислил гетевского Фауста к «хорошим сюжетам, испорченным великими писателями» (попутно досталось Мильтону, Вагнеру и Оскару Уайльду). Честертон откровенно предпочитает народные кукольные комедии, где черти тащат Фауста в ад, ибо тот «предал душу вечному злу, чтобы обладать первой красавицей в мире». «Тот, кто получил удовольствие, еще и очистился, – говорит Честертон, – ибо жертва отстрадала за него. Значит, все равно, жесток ты или добр».
В этом ригористическом осуждении католика – своеобразный ключ не только к гетевскому Фаусту, но и во многом ко всему последующему искусству романа, да и жизни многих исторических персонажей XIX–XX вв., выбравших «путь левой руки» и отправившихся в странствие «по ту сторону добра и зла».
Вопреки Честертону, напротив, я думаю – в этом удача Гете: в Фаусте вместе с Мефистофелем (Фаустофелем) он, используя исторический образ, создает нового героя, который не только во всей последующей литературе, но и в новейшей истории, станет во многом определяющим. Отчаявшийся умник – инфернальный, демонический, тоскующий – какой угодно! – утративший живое дыхание жизни, с горних высот в поисках спасения отправляется в мир, где вольно или невольно губит все, что попадается на его пути. В своем отчаянии он готов вступить в союз с любыми силами ада или рая (чаще всего, с первыми), ибо другого выхода у него нет. Показательны высказывания самого Гете о «демоническом» в диалоге с Эккерманом:
«Демоническое – это то, что не может постигнуть ни рассудок, ни разум. Моей натуре оно чуждо, но я ему подвластен.
– В Наполеоне, – сказал я, – надо думать, было заложено демоническое начало.
– Несомненно, – подтвердил Гете, – ив большей мере, чем в ком либо другом…
– Мне думается, – сказал я, – что и Мефистофелю присущи демонические черты.
– Нет, – сказал Гете, – Мефистофель слишком негативен. Демоническое же только проявляется в позитивной деятельной силе… В артистической среде оно, скорее, свойственно музыкантам, чем живописцам. Наиболее ярко оно выражено в Паганини, отчего он и производит столь огромное впечатление. И, разумеется, оно присутствует в Байроне, отчего он и был неотразимо привлекателен, и никто, и прежде всего женщины, не мог пред ним устоять».[199]
В 1816 году Байрон пишет своеобразное подражание «Фаусту» – поэму «Манфред», понравившуюся Гете, где в уста страшно демонического героя вкладывает строки о познании, еще более усиливающие важный фаустовский мотив, идущий еще от Екклесиаста: «Скорбь есть знание:/ Кто глубже всех познал, Тот горько плачет над роковою истиной/ Древо познания – не есть древо жизни».
У Гете удивительным образом переворачивается система ценностей: демоничен не черт, а, скорее, сам Фауст (Мефисто – это лишь его тень); демоничны стихийные герои новейшей истории – Наполеон, Паганини, Байрон и т. д., одержимые культом утверждения собственного Я, своей сверхчеловечности и богоподобности. Логика Гете понятна, но возникает вопрос, зачем тогда собственно сделка, если новейшие герои, титаны вполне самодостаточны в своем «демонизме», и потусторонняя поддержка им не особенно нужна, разве что иногда, в самые критические моменты?..
Тут уместно заметить, что многие «сатанисты» XX века, вроде какого-нибудь Ла Вея, несмотря на все свои «черные мессы» (это всего лишь театр), откровенно заявляли, что всерьез ни в какого дьявола не верят, разве что для эпатажа, их «демонизм» – это именно самообожествление, абсолютный культ «Я». (Кстати, относительно недавно подобный путь «человекобожества» подробно и со знанием дела на материале индусской философии описан в трактате писателя и философа Юрия Мамлеева «Судьба Бытия».)
Фридрих Ницше, в жизни человек совсем не «демонический», а, скорее, «кроткий», из романтизма, Байрона, культа Наполеона и метафизического пессимизма Шопенгауэра сотворит весьма демоническую «философию жизни», где стихийная, варварская «живая жизнь» будет противопоставлена аналитическому уму, спонтанный порыв – рассудку и разуму, а грядущий идеал сверхчеловека будет существовать по ту сторону знания, по ту сторону добра и зла. По Бертрану Расселу – это уже следующий этап «большого пути»: «Байрон, хотя и чувствовал себя равным сатане, никогда не отваживался ставить себя на место Бога. Этот следующий шаг в самовозвеличивании был сделан Ницше, который писал: “Если бы существовали боги, как бы я мог вынести, что я не Бог! Следовательно, боги не существуют”. Ницше, подобно Байрону, получил благочестивое воспитание, но, будучи более интеллектуальным, он нашел лучший выход, чем сатанизм».[200]
Ницше нашел идею, которая потрясет не только всю Европу, но и всю интеллектуальную ойкумену рубежа XIX–XX столетий. И хотя, как справедливо заметил Петр Успенский, идея сверхчеловека стара, как мир, и только благодаря тупой стерилизованной европейской мысли последнего времени, поставившей своей целью всего лишь человека, «идея Ницше оказалась новой, оригинальной и неожиданной».[201]Так или иначе, уходящая корнями в глубины «Фауста» ницшеанская философия жизни, созданная человеком «высшего типа», через четверть столетия взорвет не только сонное благополучие Германии, но и всей Европы, наводнит ее бесчисленными «демоническими» персонажами и ввергнет ее в хаос катастроф XX столетия.
IV. Слово и дело
Я не люблю Гете. Но ради одной фразы я готов простить ему многое. «В начале было Дело». Только действуя, человек проникает в сущность мира. Люди злоупотребляют своим разумом.
Герман Раушнинг. «Разговоры с Гитлером»Русский философ Александр Мейер в 1920-е годы описал этот отказ от «слова» в пользу «дела» как смысл не только «Фауста», но и всей новоевропейской фаустовской цивилизации:
«Проблема, которую я имею в виду, – проблема Слова, – поставлена сценой перевода Фаустом первых слов Евангелия от Иоанна. В поисках пути к жизни он готов обратиться к откровению. Но как раз то в откровении, что могло бы служить ключом к жизни, представляется ему недостаточным… После нескольких попыток заменить чем либо “Слово”, он, наконец, находит выход:
Но свет блеснул – и выход вижу я: В начале было Дело».[202]Таким образом, речь идет об отказе от Сакрального Слова христианской средневековой культуры, и поэтому у «Гете развертывается драма сознания, потерявшего связь со Словом и ищущего жизни вне этой связи. Мир перестал быть космосом, а сделался только “природой”. Образы вещей не говорят уже ни о чем, они только “факты”, и никакой связи между ними не оказывается. И Мефистофелю остается лишь подчеркнуть мудрость такого совета и несколько точнее обозначить содержание нового мира.
Слышишь, какой мудрый совет они дают, Они призывают к наслаждению и делу.Вся история Фаустовских исканий есть следование этому совету духов. Он хочет приобщиться к дыханию жизни через наслаждения и дела».[203]
Прав ли Мейер, приписывая именно Гете отказ от сакрального «слова» во имя «дела», которое станет сущностью Новейшей истории? И да, и нет. В реальности, не говоря уже о фаустовской «магической реальности», противопоставление «слова» и «дела» весьма условно. Можно вспомнить хрестоматийное:
В оный день, когда над миром новым Бог склонял свое лицо, тогда Солнце останавливали словом, Словом разрушали города. ……………………… Но забыли мы, что осиянно Только слово средь земных тревог, И в Евангелии от Иоанна Сказано, что слово – это Бог. Мы Ему поставили пределом Скудные пределы естества, И, как пчелы в улье запустелом, Дурно пахнут мертвые слова.Но, увы, мы знаем – казалось бы мертвые слова и мертвые идеи могут «оживать», причем внезапно, катастрофически, меняя свой изначальный смысл на противоположный, по-мефистофельски превращаясь в оборотней. «Идеи, долго спящие в пыли библиотек, рано или поздно взрываются», – когда-то написал Генрих Гейне. И эти взрывы в XX столетии подорвут новую вавилонскую башню, строившуюся так долго и так тщательно.
Что же касается литературы, то классический сюжет об искушении человека дьяволом переворачивается: в своей изощренности во зле жители земли все чаще превосходят посланников Ада. В предсмертном романе Леонида Андреева «Дневник Сатаны» (1919) Люцифер от тоски и одиночества вочеловечивается на Земле; но, в конце концов, в силу своей старомодной наивности, влюбляется в подставленную ему «Маргариту» и оказывается жестоко обманут неизмеримо более инфернальными земными обитателями:
«Ну, так ты опоздал. Надо было приходить раньше, а теперь земля выросла и больше не нуждается в твоих талантах… – подводит итог в романе его человеческий антагонист Фома Магнус. – Посмотри на этих скромных и маленьких друзей моих и устыдись: где в своем аду ты найдешь таких очаровательных, бесстрашных, на все готовых чертей? А они даже в историю не попадут, такие они маленькие».
Можно лишь добавить, что у Сокурова в «Фаусте» Мефисто – просто ростовщик, но не совсем обычный: он берет в залог все, что пригодится – и серебро, и злато, и…. человеческие души и душонки: в бережливом хозяйстве всему найдется место…
V. Новое Средневековье: магия и наука
От неосторожного и смелого обращения с химией и физикой люди, увлеченные оргией изобретений, сделают, наконец, такую исполинскую физическую ошибку, что и «воздух как свиток совьется», и «сами они начнут гибнуть тысячами».
Константин Леонтьев. 1889 г.В XX столетии в традиционно «демоническое», желающее обладать властью над миром, включается, на первый взгляд, нечто принципиально новое, возникшее из духа Просвещения – позитивистская наука и техника, с помощью которой можно неизмеримо эффективнее покорять и подчинять себе мир.
Но техника и наука вырастают не только из рационализма и Просвещения, но и в равной степени из средневекового и возрожденческого герметизма и магии, где алхимия превращается в химию и физику, магия – в технику, а герметизм – в формулы и функции, столь же понятные для непосвященных, как каббалистические знаки. О параллелях новейшей техники с «белой» и «черной» магиями написано немало.
В 1924 году выходит самая известная (на Западе) книжка Бердяева «Новое Средневековье». Естественно, что для христианского мистика Бердяева Средневековье – ни в коем случае не «мракобесие», а констатация положения, когда на новом витке происходит частичное повторение определенной исторической ситуации. За достижениями новейшего прогресса Бердяев обнаруживает старые, как мир, архетипы:
«Сама наука возвращается к своим магическим истокам, и скоро окончательно выявится магический характер техники…»
«В машине есть и начало темной магии. За современной техникой скрыта та же психология, которая была у черных магов, та же корыстная жажда власти над природными силами с помощью внешних средств… Позитивная наука и техника имеют большую связь с магическими корнями мира, чем это сегодня представляется…» Люди забывают «свое происхождение и свое родство. Техника и есть современная магия», – говорит об этом еще раньше Бердяев в своей книге «Философия неравенства» (1923).
Что на это может сказать большинство нормальных, позитивно настроенных ученых? Писал об этом не только Бердяев, об этом говорят и сегодня (из наших современников – недавно умерший Евгений Головин).
Но, в сущности, на подобные аналогии никто всерьез не обращал и не обращает внимания: мы получаем власть над пространством и временем, над народами и государствами, все остальное – от лукавого. Каковы же корни и последствия этого процесса в эпоху безграничной веры в науку, интересовало лишь очень немногих. Конечно, Первая мировая война несколько охладила слишком горячие головы, но, так или иначе, Европа полностью, с помощью «новейшей магии», подчиняет себе почти всю ойкумену – весь «дремлющий» Восток – от Индии до Африки, от Китая до Океании.
Не за горами создание ядерного оружия и знаменитый первый взрыв в пустыне штата Нью-Мексико, о последствиях которого не мог с точностью ничего сказать никто (существовали реальные опасения, что цепная реакция может не ограничиться исключительно ядерным зарядом, а породить взрывную волну, которая способна уничтожить все живое).
«Причем тут совесть?! В конце концов, это и есть настоящая физика!» – как рассказывают, воскликнул один из создателей атомной бомбы Энрико Ферми после первого взрыва (по другой версии – после бомбардировки Хиросимы), когда у некоторых создателей ядерного оружия возникли сомнения в «позитивном» характере их деятельности. Собственно, именно так, как и Ферми, наука отвечала на все сомнительные вопросы на протяжении нескольких столетий: мы получаем власть над пространством и временем, а значит, и над миром, а все остальное – лишь эмоции.
Со второй половины XX века из деятельности самоотверженных одиночек, открывающих новые горизонты, научное знание превращается в коллективное творчество, а наука как таковая становится похожей на не слишком разборчивую куртизанку, обслуживающую тех, кто больше заплатит. А самое прибыльное дело в этом мире – как все знают, вооружения и война…
Имеет ли это нечто общее с фаустовской (в высшем смысле) традицией?
Поверхностные параллели между физиками и фаустами 1960-х связаны исключительно с наивной верой во всесилие научного знания, которая к концу XX века полностью исчезнет. Если нет сопряжения «научного» с «метафизическим», если нет проблемы познания не в позитивистском, а в более глубоком смысле, если нет осознания проблемы Зла, которое может порождать «новейшая магия», а Зло будет творить еще большее Зло, о каком «фаустовском» духе может идти речь? И одновременно, согласно диалектике Мефистофеля, невольно творить добро в падшем мире… И здесь «зло» может обернуться «добром». Ядерное оружие – несомненное «зло» – становится сдерживающей силой, спасающей человеческий род от новых войн и самоуничтожения…
Конечно, в XX веке, кроме физиков, вроде Ферми, существовали совсем другие люди, занимавшиеся созданием новой картины мира – Вольфган Паули, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Дэвид Бом и др., которых очень беспокоила происходящая в мире научная и антропологическая революция… Можно вспомнить и о Николя Тесле, не столько теоретике, сколько изобретателе, ныне необыкновенно популярной и загадочной личности, которую именовали не иначе как «черным магом», и чья смерть по сей день овеяна легендами.
Но речь идет не только об этом. Природа – всегда языческая стихия, и проникая в ее тайны, ученые мужи вольно или невольно вызывают на свет божий ее духов и демонов. Ее неведомые разрушительные силы, как Франкенштейн или Голем, на наших глазах выходят из-под контроля своих создателей и становятся уже не управляемы, стихийны, «демоничны». Невинные эксперименты могут породить то, что не может присниться и в страшном сне.
VI. Последний Фауст
– Я понял, этого быть не должно.
– Чего, Адриан, не должно быть?
– Благого и благородного, – отвечал он, – того, что зовется человеческим… и о чем, ликуя, возвещали лучшие умы, этого быть не должно. Оно будет отнято. Я его отниму.
Томас Манн. Доктор Фаустус.В каком облике предстает доктор Фауст в XX веке?
У нас есть замечательный литературный ориентир: роман Томаса Манна. Здесь история Ницше с использованием всех подробностей его внешней биографии, и отсылкой к «слезинке ребенка» Достоевского, становится историей гениального композитора и христианского мыслителя Адриана Леверкюна. Очень важно, что филолог и философ Ницше превращен автором именно в композитора, ибо музыка со времен греческих мистерий, по крайней мере потенциально, считалась наиболее опаснейшим и «демоническим» из искусств, способным сильнейшим образом действовать на человека и полностью овладевать им. Недаром Л. Толстой в «Крейцеровой сонате» писал, что музыка, как в древние времена, должна находится под контролем, ибо ее воздействие непредсказуемо. Ныне мы наблюдаем полное подтверждение этому: в современных «рок-мистериях» соединение техники с музыкой опьяняет, подчиняет и зомбирует тысячи людей, являясь своеобразной пародией на экстатические мистерии древности… Поэтому у Манна композитор Фаустус с первых же страниц изначально «демоничен». Он шаг за шагом отрешается от всего «человеческого, слишком человеческого» и возносится на подлинно «инфернальную» высоту. Это и есть в своем роде идеальный Фауст – романтик, аскет, провидец, существующий вне добра и зла. Он вполне сознательно, никак не ради удовольствий или власти, и даже не ради бесконечности познания (как у Гете во второй части), вступает в сделку и возвращает Творцу билет по той простой причине, что этот мир не удался. Мир никуда не годится, не говоря уже о всех видах гуманизма, «Девятой симфонии» Бетховена, которую он хочет отнять у прогрессивного человечества, и прочих старорежимных глупостях. Новейший Фауст завершает свою жизнь – в противоположность, скажем, все-спасительной «Мистерии» Скрябина – гипертрагическим «Плачем доктора Фаустуса» и полным безумием, подводящим последний итог гностической неудаче Творения и его ужасающей судьбе.
Но, разумеется, это совсем не единственный, а лишь один из возможных образов Фауста, созданный писателем с изрядной долей вымысла. Реальные же «Фаусты» в XX столетии совсем другие, к тому же они мало похожи и друг на друга… Это писатели, мистики, философы, психологи, метафизики, алхимики, маги и, наконец, ученые, – представители точного знания… Кто хотя бы отчасти напоминает доктора, когда-то вступившего в сделку?.. Густав Майринк с его «Големом», «Ангелом Западного окна» и темной алхимией? Рудольф Штайнер, когда-то издававший теософский журнал «Люцифер», а затем в своей антропософии пытавшийся соединить духовность Запада и Востока? Карл Густав Юнг, от психоанализа пришедший к оккультизму и в конце жизни веривший, что является реальной реинкарнацией Гете, а до этого Парацельса? Мартин Хайдеггер с его фундаментальной онтологией и совсем не случайной связью со зловещей романтикой национал-социализма?
Или, скорее, Рене Генон с его абсолютным метафизическим пессимизмом по поводу фатальной деградации человечества и верой в Кали-югу?…
А может быть, последний алхимик, таинственный Фулканелли, который, как утверждают адепты, не только пишет удивительные книги («Тайна соборов», «Философские обители»), но и продолжает скитаться по планете уже больше сотни лет?
Перечень можно продолжать долго – от Георгия Гурджиева, человека Востока, воспитанного в православной вере, но глубоко презиравшего западного человека, подчинившего себе мир, но утратившего самого себя, до какого-нибудь «черного мага» Алистера Кроули, стремившегося быть «самым отвратительным человеком на земле» и ставшим через несколько десятилетий после смерти символом молодежной контркультуры, heavy metall и психоделической революции…
VII. New Age и духовный материализм
С одной стороны, мы уже давно вступили в эпоху, когда фаустианство, магия, чернокнижие стали ходячей разменной монетой. Тысячи людей пытаются призвать на помощь инфернальные силы, но они уже не удостаивают их своим вниманием, поэтому люди вынуждены имитировать магию, астрологию, оккультизм, которые на самом деле не имеют к ним никакого отношения. Байроновскому Люциферу (как и Сатане Леонида Андреева) тут явно делать нечего, ибо все богоборческие проекты цивилизацией уже осуществлены. Запад предложил миру силу, власть, скорость, комфорт, благополучие, удобства. Противостоять этому не в состоянии никто: ни арабские шейхи, индусские махараджи, христианские епископы или китайские партработники. Человек подчиняет себе все мироздание, кроме одного – он по-прежнему не является хозяином в своем собственном доме. С другой – homo faber все равно хочет знать, кто он такой, в чем его предназначение и как ему справиться с самим собой. Прежние философские, научные и религиозные ответы уже не устраивают.
Как у ангелов существует своя иерархия, аналогичная есть и у сил тьмы. Наука и магия, несмотря на принципиальные различия, придется повторить, во многом схожи. И здесь, на первый взгляд, возникают фантастические, но на самом деле вполне закономерные сочетания:
«Среди ужаса и хаоса Зла в мегаполисе зарождается новая порода людей. Они вскормлены смесью старого и нового – высоких технологий и древних верований. Они создают компьютерные программы днем и занимаются магией ночью, – пишут в книге «Вуду в мегаполисе» С. Д. Блэк и К. С. Хайатт. – Есть среди них и вудуисты… Днем они изучают физику, а ночью практикуют вудуизм, или, как некоторые это называют, занимаются «черной магией». Мы называем этих людей вуду-техами».
Их можно называть будда-техами или техно-каббалистами, неважно. На самом деле ничего нового в этом нет – это совсем недавнее, но уже забытое прошлое. Их количество во всем мире множиться с начала 1960-х годов: «научное мировоззрение» устраивает, пожалуй, только динозавров от науки, а магическое и мистическое брожение захватывает большую часть человеческого пространства. В дневное время люди по долгу службы занимаются «научной магией», а в ночное – обращаются к магии архаической, ибо чисто научная их уже не удовлетворяет.
Но, увы, древняя магия вроде вуду, сантерии, бразильской макумбы или славянских языческих практик – сегодня, попав в сердцевину техногенной цивилизации, превращаются во все те же разновидности духовного материализма, причем – в отличие от фаустовского духа – крайне элементарного уровня. Книги вроде «Вуду в мегаполисе» и им подобные ужасно разочаровывают: магические ритуалы направлены на насылание порчи на врага, соперника, начальника, получения небольшой суммы денег (в случае миллионов ритуалы уже не срабатывают), мести любовнику и т. д. Этот духовный материализм повсеместно встречается и в мировых религиях, когда молитва направлена на достижение столь же элементарных целей. Мы живем во времена мутной мистической эклектики, – New Age – эпохи «новых религий», где восточные и западные учения, языческие культы и традиционные религии, черная магия и утонченный мистицизм смешиваются в некое сумбурное целое. Широкому распространению термина «Нью Эйдж» не более пятидесяти лет, но его корни уходят в теософию Блаватской, Анни Безант и Алисы А. Бейли, провозгласившей после Второй мировой войны наступление новой мировой религии, объединяющей все существующие. В астрологическом плане она соответствует переходу от эпохи Рыб (длившейся 2000 лет) к эпохе Водолея, в которой, согласно предсказаниям адептов, будут разрешены основные фундаментальные проблемы и должно наступить процветание человечества.
Что означает переходный период и влияет ли он на интеллектуальный климат сегодня?
VIII. Наука и New Age: физики, мистики, анархисты
Можем ли мы исключить возможность того, что известная ныне наука не превратит человека в монстра? Можно ли исключить возможность, что это будет ущербный человек, превращенный в убогий, угрюмый, самонадеянный механизм, лишенный обаяния и чувства юмора?
Пол Фейрабенд. Против метода.В 1975 году в Лондоне вышла книга «Дао физики», сразу же переведенная на основные европейские и восточные языки. Ее автор – Фритьофе Капра, австрийский физик-теоретик, в 1960-е годы человек, близкий к хиппи и молодежной культуре. Пройдя довольно витиеватый путь от занятий физикой элементарных частиц до увлечения восточным мистицизмом, различными формами медитации и психоделической революции 1960-х, он обнаружил непосредственные параллели между современной квантово-релятивистской картиной мира и идеями, высказанными индуистскими, буддистскими мыслителями, дзен-буддистами и даосами. В этой и последующих книгах («Поворотный пункт», «Неведомая мудрость») Капра представил возможность синтеза западного знания и восточных учений, религии и науки, связывающих человека, природу и технологии в некое единое не-саморазрушительное целое. (В России аналогичный подход к мирозданию как к целостной самоорганизующейся системе в схожем стиле развивал в 1970-80-е гг. замечательный математик и философ Василий Налимов.)
Удивительны не только эти параллели, которые Капра пытался провести, но и его встречи и беседы с самыми различными людьми – физиками, философами, психологами, мистиками, экологами, экономистами – Вернером Гейзенбергом, Джеффри Чу, Дэвидом Бомом, Грегори Бейтсоном, Аланом Уотсом, Джидду Кришнамурти, Станиславом Грофом, Робертом Лейнгом и др., пытавшимися найти новые парадигмы и для homo sapiens, и для пожирающей саму себя цивилизации.
Показателен в этом смысле диалог между физиком и мистиком – Капрой и Кришнамурти, состоявшийся на рубеже 1970-х. Идеал восточного мудреца – молчание ума и созерцание Целого; парадигма науки – анализ, мысль и действие. Как преодолеть это противоречие? «Я был очень взволнован, – говорит Капра, – когда, наконец, лицом к лицу оказался с Учителем, но я знал зачем я пришел. “Как я могу быть ученым, – спросил я, – и вместе с тем следовать вашему совету остановить мысль и достичь свободы от известного?” Кришнамурти не задумался ни на мгновение. Он ответил на мой вопрос за десять секунд так, что это совершенно разрешило мою проблему. “Прежде всего, вы – человек, – сказал он, – а затем уже вы – ученый. Сначала вам нужно освободиться, и эта свобода не может быть достигнута посредством мысли. Она достигается лишь медитацией – осознанием целостности жизни, в которой любая форма разделения прекращается”. Достигнув этого понимания жизни как целого, сказал он, я смогу специализироваться и работать как ученый без всяких проблем…. Переходя на французский, Кришнамурти добавил: “Я обожаю науку. Это чудесно”».[204]
Следует добавить, что до Капры еще более интенсивные беседы с Кришнамурти вел классик квантовой физики XX века, высоко ценимый Эйнштейном, Дэвид Бом. И эти диалоги, позднее собранные в книгу, по собственному признанию Бома, оказали сильнейшее воздействие на его творчество.
«Дао физики» стало интеллектуальным бестселлером, но «нормальные ученые» восприняли идеи Капры весьма сдержанно. Почему бы не полистать Лао-Цзы, Бхагаватгиту или Гераклита – это, несомненно, может способствовать возникновению новых идей, но, увы, материалистическая наука, где главное все подсчитать и измерить, остается наукой, а любой мистицизм – мистицизмом. Он не поддается измерению и формализации.
Но знаменательно, что в этом же году появился скандальный трактат (сегодня, можно сказать, почти классический) философа и теоретика науки Пола Фейрабенда «Против метода. Очерк анархической теории познания». Фейрабенд продемонстрировал, что жесткие правила принуждения губят интеллектуальную свободу, и многие научные революции начинались с отказа от подобных правил; он призывал безжалостно разрушать устоявшиеся научные догмы и ориентироваться на фантазию, игру, искусство, мифотворчество. Фейрабенд обладал интеллектуальным авторитетом, и его книга стала плодотворным скандалом «в благородном семействе».
Что же касается интеллектуальной утопии Капры, являющегося физиком, католиком и буддистом одновременно, и его сторонников (их иногда именуют «учеными эпохи Нью Эйдж», а Фейрабенда – «постмодернистом от науки»), провозгласивших другой стиль мышления, другую экологию, другой взгляд на человека и мироздание, то она вполне соответствовала методологическому анархизму Фейрабенда. Она вдохновила очень многих и породила немало новых идей на стыке различных областей знания. Вместе с тем, «путь с сердцем» (название первой главы «Дао физики») для современной науки, что называется, «чересчур»: подобные люди стали персонами non grata для подавляющего большинства ученых, по-прежнему остающихся материалистами.
Но очевидный сдвиг произошел: окончательное крушение идеи прогресса и веры в раз и навсегда установленные научные догмы за последние сорок лет серьезно изменили интеллектуальный климат в мире. Когда-то невозможно было себе и представить, скажем, Клода Бернара, плодотворно беседующим о природе нервной системы со Штейнером, или Резерфорда, обсуждающего с Успенским и Гурджиевым метафизические и психологические проблемы. Сегодня речь идет не просто об академическом, но и экзистенциальном интересе ко всем формам вне-научного знания. Серьезные мыслители говорят об идее альтернативной науки – не только в физике, но и в экономике, биологии, истории, психологии, психиатрии, экологии, антропологии и т. д. О том, что еще недавно считалось если не «мракобесием», то заблуждением наших недалеких предков – шаманизме, алхимии, архаической магии, герметизме, древней (а не современной) астрологии, – каждый год выходят десятки фундаментальных исследований: люди вчитываются в древние письмена, прекрасно осознавая, что истоки кризиса уходят в забытое прошлое…
Мы все так же пребываем в кошмаре абсолютно раздробленного мира, где каждое возможное решение рождает сотни вопросов, а они, в свою очередь, порождают неубедительные ответы.
Вопреки Шпенглеру, «фаустовская цивилизация» с ее идеей бесконечности не только не завершена, а, напротив, распространилась на большую часть земного шара. Поэтому Фауст – по-прежнему герой нашего времени. Он пытался соединить несоединимое и выйти за пределы раз и навсегда данного нам мира. Мы хотим преодолеть его границы и бьемся головой о непроницаемые стены. Мы разбиваем головы, но ничего не меняется. Мы воздеваем руки к небу и молим о чуде. Но Бог молчит, молчим и мы.
Убежище, или метафизика безумия
«Идиоты»
Кто же такой настоящий сумасшедший? Это человек, который предпочел сойти с ума, в том смысле, в котором общество понимает этот термин, чем изменить некой высшей идее человеческого предназначения. Поэтому общество приговаривает всех тех, от кого оно стремится избавиться, от кого оно защищает себя, ибо они отказываются стать его соучастниками во всевозможных актах предельной мерзости, в том числе и к удушению в своих психиатрических клиниках. Ибо сумасшедший – это также и человек, кого общество не желает слушать и хочет лишить возможности высказывать невыносимые истины.
Антонен АртоНесмотря на славословие безумию в истории культуры – от Платона до Шекспира – первая попытка философского оправдания одержимости или высокого безумия как неизбежного спутника гениальности происходит только в романтизме, на рубеже XVIII–XIX столетий.
Именно начиная с эпохи романтизм можно говорить, что любая «контркультура» создает свою собственную философию и эстетику безумия, в своем роде «культ безумия», который противопоставляется господствующему status quo.
Но в XIX веке статус безумия остается по-прежнему негативным, заслуживающим не большего сочувствия, чем любая другая болезнь. Оправдание безумия романтиками осуществляется по преимуществу внутри романтизма и не затрагивает общества как такового.
Судьба П. Я. Чаадаева – по своему духу антиромантика, религиозного рационалиста, человека, хоть и склонного к ипохондрии и депрессиям, но в формальном смысле достаточно «здорового», – весьма показательна. Его объявление по высочайшему повелению сумасшедшим (текст указа имел откровенно саркастический и даже издевательский характер), с государственной точки зрения, несомненно, «мудрое», попадало в самое уязвимое место и выводило мыслителя из сферы собственно человеческого. Философ, будучи вполне светским человеком, более того, явно и страстно желавшим публичности и влияния на современников, переводится в разряд идиота, в том самом древнегреческом смысле, когда этим словом именовался человек, не участвовавший в общественной жизни.[205]
События осени 1836 года, как свидетельствуют современники, подействовали на Петра Яковлевича самым удручающим образом – его, обладающего сильным умом и редкой для русского внутренней дисциплиной, объявляют человеком, которого постигло «расстройство ума»: Чаадаеву запрещено писать и печататься, его регулярно посещает официальный лекарь, прописывающий ему холодные ванны. Статус психически не вполне здорового человека, который заставит Чаадаева написать «Апологию сумасшедшего», был для него предельно унизителен.
У общества был яркий пример: к осени 1822 года поэт Константин Батюшков окончательно лишается рассудка, – у него развивается мания преследования, ему кажется, что он навеки заточен в тюрьме, несколько раз покушается на самоубийство, сжигает библиотеку и все свои рукописи – ив таком состоянии «русский Гельдерлин» просуществует до 1855 года…
Как принято считать, Пушкин, вопреки своим прежним романтическим настроениям, именно после встречи с Батюшковым в начале 1830-х гг. напишет хрестоматийные строки:
Не дай мне Бог сойти с ума, Нет, легче посох и сума…А чуть раньше Тютчев создаст свое «Безумие», полемичное по отношению к пушкинскому «Пророку» и, возможно, также навеянное судьбой Батюшкова:
Там, где с землею обгорелой Слился, как дым, небесный свод, — Там в беззаботности веселой Безумье жалкое живет. ……………………. То вспрянет вдруг и, чутким ухом Припав к растреснутой земле, Чему-то внемлет жадным слухом С довольством тайным на челе. И мнит, что слышит струй кипенье, Что слышит ток подземных вод, И колыбельное их пенье, И шумный из земли исход!..В этом – дух эпохи: в какие бы «бездны» не заглядывал художник, сам он должен воплощать высшую степень духовного здоровья, подобно «олимпийцу» Гете, оттолкнувшего будущего самоубийцу Генриха фон Клейста, не заметившего Гельдерлина и не принявшего «пессимизм» молодого Шопенгауэра. Гегель, друг юности Гельдерлина – когда-то они вместе сажали в Тюбингене «дерево свободы» в честь французской революции, – после катастрофы, случившейся с поэтом, «искренне» забывает его навсегда: потеря рассудка – страшнейшее из несчастий, которым может быть наказан смертный.
Но именно XIX век изобилует выдающимися идиотами. В отличие от Чаадаева, его немецкий современник Шопенгауэр – теоретик мировой скорби и апостол метафизического пессимизма – по собственной воле радикально разошелся со своими более или менее благодушно настроенными современниками. Первое издание 1819 года одного из самых читаемых за последние 150 лет трактата «Мир как воля и представление», напечатанное за свой счет, не было распродано и пошло на макулатуру. Лекции, опрометчиво назначенные Шопенгауэром в одни часы с Гегелем, которого он позднее именовал не иначе как «тупоумным шарлатаном», бесславно провалились. После нескольких путешествий по Италии и любовных романов, философ поселяется во Франкфурте-на-Майне, где до конца своих дней ведет уединенную жизнь вынужденного идиота, одновременно являя собой законченный образ мизантропа и «аутиста». Все окружающее вызывало у него нескрываемое презрение: и соотечественники («я презираю немцев за их чрезмерную глупость и стыжусь своей принадлежности к ним»), и профессора философии, и прекрасный пол, и политика, да и весь род человеческий. Исключение составляли лишь любимые собаки (своего пуделя по кличке Атма, он иногда бранил: «Эх ты, человек!), которым он оставил часть своего состояния.
Судьба Киркегора во многом напоминает шопенгауэровскую. Как пишет его биограф, в 1834-38 гг. Киркегор стремился к публичной деятельности, участвовал в общественных дискуссиях, печатал статьи и рецензии и даже приобрел известность «в качестве интеллектуального, остроумного собеседника».
Однако все это лишь на поверхности: его состояние в то время можно передать одной фразой из его дневника: «Я только что пришел из общества, душою которого я был. Остроты сыпались из моих уст, все смеялись, восторженно смотрели на меня. – А я, и тут мое тире должно быть длинным, как радиус земной орбиты, – я погибал и хотел застрелиться».
После довольно бурной юности, учебы в различных университетах, защиты диссертации, он столь же резко расходится со своими соотечественниками, разрывает помолвку с невестой Региной Ольсен и до конца своих дней ведет жизнь частного писателя, предельно ограничив контакты с внешним миром. Выход в 1843 году книги «Или – или» (свои работы он тоже издавал за свой счет) вызвала в Копенгагене значительный резонанс, но автора это мало тронуло. И связано это не только с работой над последующими сочинениями, но и со все большим религиозным углублением. На понимание читателей и коллег автор «Страха и трепета» рассчитывал все меньше – и к датчанам, и к Гегелю и гегельянству он относился почти так же, как франкфуртский отшельник к своим соотечественникам. Еще в дневнике 1836 года он запишет: «Люди так мало меня понимают, что не понимают даже моей жалобы на то, что они меня не понимают».
Шопенгауэр чуть иначе вторил ему: «Порой я говорю с людьми так, как ребенок со своей куклой: он знает, что кукла не понимает его; но он получает радость от общения».
Убежище
Согласно Хайдеггеру, из «непостижимой пошлости» современного мира нет иного выхода, кроме ухода в то уединение, которое философы, начиная с Парменида и Платона, противопоставляли политической сфере… где все реальное или подлинное падает жертвой всепроникающей власти «болтовни»…
Ханна Аренд. «Люди в темные времена»Если творение несовершенно, мир – юдоль скорби и абсурда, населенный сумасшедшими, филистерами, шарлатанами и профессорами философии, – в чем страстно стремится убедить нас Шопенгауэр во втором томе своего трактата, – то это совсем не означает, что самоубийство – единственно достойный выход. Напротив, древний, как мир, «метафизический пессимизм» открывает свою изнанку, являя собой своеобразную «философию надежды». Безбожник Шопенгауэр и «рыцарь веры» Киркегор в этом удивительным образом совпадают, хотя их конечные идеалы во многом противоположны; если жизнь – нескончаемый источник травм и фрустраций, то ее необходимой целью является создание персонального «бомбоубежища»; если мир есть мое представление о нем, то можно не испытывать никаких иллюзий по поводу неисправимой реальности и творить свою собственную.
Здесь мы с метафизических высот спускаемся на землю. Этой практической философии и посвящены «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра (1851), адресованные самому широкому читателю. К конкретным вопросам устроения земной жизни франкфуртский философ подходит с немецкой обстоятельностью. Мы должны быть независимы как от кошмаров жизни, так и от сильных мира сего, для чего необходимы вполне прозаические вещи (наследство или пожизненная рента, достаточно просторное жилище, библиотека и т. д.).
Киркегор в этом отношении немногим отличался от немецкого коллеги: «В собственном смысле слова он жил лишь тогда, когда оказывался у себя дома, окруженный своими книгами, стоя возле пульта для письма или перипатетически разгуливая по комнате, формируя фразы и произнося их громко вслух, дабы убедиться, что они приобрели единственно верную форму… То была монашеская жизнь…» Он держал слугу и секретаря и крайне редко виделся со своим единственным другом: «Когда к нему приходил кто-нибудь незнакомый и просил обсудить с ним свои идеи, то он почти всегда отказывал».
Конечно, в их жизни было немало событий. Шопенгауэр в 1839 году неожиданно получил премию Норвежского Королевского научного общества, но это ровном счетом ничего не изменило, как и издание второго тома «Мира как воли и представления» в 1844 году. Некоторая известность начала приходить к нему лишь в 1850-е годы – он отнесся к ней вполне скептически, – но она не идет ни в какое сравнение с посмертной славой.
Неизмеримо более страстный и болезненно ранимый Киркегор время от времени подумывал о том, чтобы стать пастором, но конфликт сначала с обществом (в лице газеты «Корсар»), а потом и официальным протестантизмом навсегда похоронили эти мечты.
К знаковым политическим событиям, как, например, революция 1848 года, мыслители отнеслись совершенно одинаково: тирания одного или нескольких над многими неизмеримо лучше, чем тирания толпы над любым и каждым. (Чаадаев был с ними в этом совершенно согласен.)
Эпоха не замечала их, а они, в свою очередь, платили ей взаимностью.
В некогда знаменитой книге итальянского психиатра-позитивиста Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство», несомненно повлиявшей на последующее изменение статуса безумия, Шопенгауэр является одним из наиболее заметных персонажей: «Он жил всегда на нижнем этаже, чтобы удобнее было спастись в случае пожара, боялся получать письма, брать в руки бритву, никогда не пил из чужого стакана, опасаясь заразиться какой-нибудь болезнью, и считал себя жертвой обширного заговора, составленного против него философами…» Странности Киркегора не столь впечатляющи, а для характеристики его состояния достаточно одной цитаты из дневника: «Если б я не был христианином, я бы покончил с собой».
Итак, перед нами некая модель со-существования с миром, которую в XIX веке с различной степенью успеха пытались осуществить очень многие интеллектуалы – от Флобера до Ницше, Бодлера и «проклятых поэтов».
Естественно, «убежище» не обязательно имеет географическую привязку. Можно быть отшельником в толпе или спасаться от удушающей депрессии, беспрестанно меняя пейзажи, страны, города, превращая свою жизнь в постоянное бегство, странничество, скитальчество, подобно в чем-то близком Киркегору Гоголю, для которого именно дорога была «лучшим лекарством». Что было кошмаром для одних, для других оборачивалось спасением. Это мог быть и дом в лесу, и городская квартира, и дилижанс, и отель в горах в местечке Сильс-Мария, где Ницше провел свои лучшие часы.
В любом случае, все они никоим образом не соответствовали критериям «здоровья», являя собой ярчайший пример enfant terrible на фоне положительного и очень довольного собой столетия. Например, Куно Фишер, создатель фундаментальной истории новой философии, на вопрос, почему он не включил в нее Ницше, раздраженно отвечал: «Он просто сумасшедший!» (Кстати, это мнение разделял и Толстой.) Тут следует лишь добавить, что именно эти трое «сумасшедших» – Киркегор, Шопенгауэр и Ницше – предсказали и определили интеллектуальную атмосферу грядущего столетия. Для полноты картины к ним следует присовокупить вполне «здоровых» Гегеля и Маркса, но их психологический портрет – уже другая тема.
«Аутисты»
Я живу в углублении свинцовой стены, в которую примешано немного колокольного металла. Часто в минуты полдневного отдыха до меня доносится извне смутный перезвон. Это шумят мои современники… Мне нравится точно знать, где я нахожусь, – и не шагать в торжественной процессии на видном месте… не жить в беспокойном, нервном и пошлом, суетном XIX веке, а спокойно… идти единственным путем, который никакая сила не может мне преградить.
Генри Дэвид Торо «Уолден или Жизнь в лесу»В июле 1845 года Генри Дэвид Торо, американский маргинал, поэт и мыслитель, строит бревенчатый дом на берегу Уолденского пруда в лесной глуши штата Массачусетс, чтобы осуществить свой опыт подлинной жизни. Начинается затворничество, которое продлится более двух лет: его результатом станет главная книга Торо «Уолден или Жизнь в лесу».
«Большинство людей ведет безнадежное существование. То, что зовется смирением, на самом деле есть скрытое отчаяние. Из города, полного отчаяния, вы попадаете в полную отчаяния деревню, и в утешение можете созерцать лишь храбрость норок и мускусных крыс. Даже то, что зовется играми и развлечениями, скрывает в себе устойчивое, хотя и неосознанное отчаяние».
Эти слова напоминают тексты Киркегора, но на самом деле у Торо не много общего с депрессивным аутизмом отшельника из Копенгагена, ведущим свою нескончаемую тяжбу с миром и Богом. Торо и Киркегор совпадают лишь в одном: жизнь мыслителя должна быть в согласии с его убеждениями. Еще меньше общего у Торо с желчным мизантропом Шопенгауэром, как и с истеричным Руссо, оказавшим огромное влияние на уолденскую утопию. Мотивы ухода и способы уединения бывают столь же несхожи, как и мотивы сосуществования в человеческом сообществе. Мудрецы из Копенгагена и Франкфурта изначально не испытывали никаких иллюзий в отношении возможного исправления социума, и тем более населяющих его особей. Тогда как уолденский отшельник время от времени был вполне социальной личностью – убежденным аболиционистом, занимавшим, что называется, активную гражданскую позицию, – его статью «О гражданском неповиновении» высоко ценил Толстой. Вместе с Эмерсоном он входил в известный кружок трансценденталистов – так их прозвали практичные недруги, полагавшие, что бостонские умники занимаются трансцендентальными глупостями и наивно верят в благое начало в мироздании. Торо, человек не склонный к депрессиям (хотя глаза на дагерротипе 1856 года выдают скрытого меланхолика), по своему складу – интеллектуальный пролетарий, получавший удовольствие от физического труда, своими руками построил собственное убежище и детально описал как процесс строительства, так и стоимость материалов, чтобы продемонстрировать своим прагматически настроенным соотечественникам, что для свободной жизни свободному человеку требуется совсем немного.
Автор «Уолдена» также не питал иллюзий в отношении общества как такового, но был всецело убежден, что его современники – как бедные, так и богатые – ведут абсолютно ложное, бессмысленное и, в сущности, жалкое существование, поглощенные выдуманными заботами и блудом тяжкого, безблагодатного труда. Его уолденская робинзонада была экспериментом для выявления возможности подлинной жизни:
«Я ушел в лес, потому что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни… Я не хотел жить подделками, не хотел я и самоотречения, если в нем не будет крайней необходимости. Я хотел погрузиться в самую суть жизни и добраться до ее сердцевины… свести ее к простейшим формам, и если она окажется ничтожной – ну что ж, тогда постичь все ее ничтожество; а если она окажется исполненной высокого смысла, то познать это на собственном опыте…»
Этот странный «аутист» с необыкновенно грустными глазами, отнюдь не отрицавший ни благ цивилизации, ни роскоши человеческого общения, «смотритель ливней и снежных бурь», «инспектор лесных троп» с его поразительной и твердой убежденностью, что безумен именно мир, а он, Генри Дэвид Торо, как раз нормален и здоров, явил собой, пожалуй, исключительный образ счастливого человека, в согласии с собственными убеждениями осуществившего свое предназначение:
«Я не намерен сочинять Оды к унынию, напротив, я буду горланить, как утренний петух на насесте, хотя бы для того, чтобы разбудить соседей».
Когда Торо скончался от туберкулеза в 1862 году, Эмили Элизабет Дикинсон, жившей совсем недалеко, в том же Массачусетсе, в Амхерсте, шел 32-й год. Тогда и начался завершающий период ее жизни – более чем 20 лет почти полного затворничества.
Что о ней известно? Очень мало, если говорить о ее биографии, и сегодня достаточно много, если говорить о ее стихах и письмах. Сохранился единственный дагерротип в 17-летнем возрасте, где ей можно дать и 25, и 30.
Провинциальное детство, религиозное воспитание в семье пуритан, учеба в средней школе, знакомство с англо-саксонской литературой и затем год в женской семинарии, которую по неизвестным причинам она оставила в 18 лет. Болезнь, загадочная любовь и ее крушение; серьезным ударом было и непонимание ее поэзии одним из близких людей. Единственная поездка за пределы штата – в Вашингтон и Филадельфию, и, наконец, затворничество, когда она не выходила за пределы своего участка, общаясь только со своей сестрой Лавинией и ее мужем. Последние 10–15 лет она почти не покидала свой дом и все реже – свою комнату. Она носила только белые платья – естественно, ее называли «затворница в белом», – она боялась людей и никого и никогда не пускала в свою комнату, даже врача. Дикинсон пекла имбирные хлебцы и спускала их на ниточке детям из окна. Малейшее соприкосновение с миром травмировало ее. У нее были немногочисленные друзья, но многих из них она никогда не видела, это была эпистолярная дружба. Была еще одна странная платоническая любовь, но тоже только в письмах. Несколько опубликованных стихотворений при жизни («Мысль о публикации мне так же чужда, как рыбе небосвод») и около 1800 стихов, написанных совсем не так, как тогда было принято, которые после смерти обнаружила ее сестра:
Наш Мир – не завершенье — Там – дальше – новый Круг — Невидимый – как Музыка — Вещественный – как звук.Поэтому первое посмертное издание было сильно отредактировано, а аутентичные публикации появились лишь в середине XX века.
Теперь она почитается не только крупнейшей, но и самой читаемой американской поэтессой, неким подобием Ахматовой и
Цветаевой в одном лице, с большей примесью последней. Все, что написано Дикинсон, насквозь просвечено микроскопами литературоведов – от стихов до писем и черновиков. Существует десятки биографий и интерпретаций, опровергающих друг друга, множащихся до бесконечности. Подобная судьба – едва ли не единственный и исключительный случай в литературе последних двух столетий. Из ангела-затворницы, сентиментальной провинциальной девушки она превращается то в глубоко метафизического поэта, то, в трактовке Камиллы Пальи, в «маркиза де Сада в юбке». Пока мне не попадалось ни одной психобиографии Дикинсон. Интересно бы знать, какие диагнозы ей поставлены, сколько фобий, неврозов, психозов, шизоидных или аутических синдромов обнаружили у нее психиатры?
Между шизофренией и параноей: Андрей Белый и Антонен Арто
– Как не видит? Ты думаешь, он слепой?
– Не слепой, а сумасшедший. Очень тихий, очень вежливый, но настоящий сума' сшедший. Разве вы не видите, что он все время глядит на невидимого врага?
Марина Цветаева. «Пленный дух»Изменение статуса безумия, признание его эстетической и познавательной значимости происходит очень поздно, на рубеже XIX–XX веков. Судьба великих «умалишенных» – от Блейка, Гельдерлина до Ницше, Стриндберга, Ван Гога и Врубеля – заставляет, наконец, философов, психиатров и психоаналитиков признать важность психопатологического опыта. И не только как материала для клинических исследований, но и как самодостаточной ценности, как трещины, окна, через которые могут открываться и глубинные корни бытия, и изнанка мироздания. Карл Ясперс, респектабельный немецкий философ и психиатр, в работе «Стриндберг и Ван Гог» с удивлением напишет, что главные тексты Стриндберга «были созданы после второй фазы болезни». А известность Ван Гогу принесли картины его шизофренического (или эпилептического) периода. Более того, стихотворения на сотню лет забытого Гельдерлина, созданные в начале заболевания, на которые вообще не обращали внимания, ныне, «взятые в совокупности, признаются вершиной его творчества».
Контркультура, в частности в лице русского символизма, превращает метафизику безумия в свое эстетическое кредо, делает ее своей почвой, судьбой, оружием и игрой одновременно. Новая эпоха приходит очень быстро, время распадается и безумие вступает в свои законные права.
Рациональность, здравый смысл, духовное равновесие, устойчивый быт, именуемый мещанством или буржуазностью, отныне подлежат безжалостному разрушению.
«Иные из нас, задыхаясь во все заливающем мещанстве, – напишет в “Начале века” Андрей Белый, задыхающийся уже в советском кошмаре, – аплодировали всему “ненормальному”, “необщему”, “болезненному”… “чудак” был неизбежен в нашей среде; чудачливость была контузией, полученной в детстве… “чудаку” было позволено то, что с нормального взыскивалось».
Белый говорит голосом «несчастья», но это не только несчастье, но и одновременно стратегия, модель поведения, реализуемая и в символизме, и в футуризме, дадаизме, сюрреализме, у обериутов, да и едва ли не во всем авангарде без исключения.
«Изуверы, кликуши, самоубийцы – вот кто берет на себя бремя свидетельствовать об удушающих церемонных временах, в которые мы живем. Все решает тон: трудно верить в идеи, изложенные безличной интонацией здравого смысла… Такие писатели, как Киркегор, Ницше, Достоевский, Кафка, Бодлер, Рембо, Жене и Симона Вайль, не были бы для нас авторитетами, не будь они больны. Болезнь обосновывает каждое их слово, придает ему убедительность», – напишет Сьюзен Зонтаг много позднее, в 1963 году.
Это похоже на правду, но «изуверы», «кликуши» и «самоубийцы» в то же время могут быть мучениками, «ангелами», едва ли не «святыми». Окончательно утрачивается не только невинность XIX столетия, но и собственная идентичность: жизнь героев нового века всегда на грани нормы и патологии.
Катастрофы XX столетия приведут к крушению «убежища» – домов, замков, усадеб, – и, как напишет Мартин Хайдеггер, бездомность станет уделом всего человечества. Андрей Белый абсолютно бездомен, беспочвенен, безбытен – не только в житейском, но и в метафизическом смысле. В мемуарной трилогии он сравнивает современного человека с многоэтажным домом, где до недавнего времени им была обжита одна квартира – «известная и уютная». Но внезапно ему открываются все остальные – с их загадочными и страшными жизнями. И это не чьи-то чужие жизни – это моя жизнь, это мои ипостаси и инкарнации, мои разбежавшиеся сущности некогда целого и неделимого «Я», отныне безнадежно расколотого и развоплогценного.
Чаще всего пишут о параноидальных чертах личности Белого (разумеется, отрицать их невозможно), но столь очевидны и противоположные проявления; его «Я» дробится и распыляется до бесконечности. То же самое происходит и с героями его повестей и романов – человек исчезает, остаются лишь «следы на прибрежном песке».
В «Дневнике писателя» Белый откровенно признается: «Наше “Я” – эпопея; этою эпопеею полон, и знаю наверное: роман “Я” есть роман всех романов моих (ненаписанных, как написанных)». «Я» эпопея заявлена и начата Белым, но, разумеется, осуществление оказалось невозможным. Большое «Я» расщепляется на множество мелких, каждое из которых говорит от своего имени.
Отсюда и маниакальная страсть Бориса Николаевича Бугаева (он же Андрей Белый) к переделыванию своих книг (три редакции «Петербурга», десятки вариантов одного стихотворения и т. д.). Он приводит в ужас издателей и наборщиков, мучительно переписывая свои корректуры, меняя их смыслы (как, например, это произошло с воспоминаниями о Блоке), ибо каждый раз он – уже другой, чужой самому себе, жилец иной квартиры, видящий мир с другого этажа.
Друзья внезапно становятся врагами, а враги – друзьями. Владимир Соловьев сменяется Кантом и кантианцами, которых, в свою очередь, полностью перечеркивает антропософия Рудольфа Штайнера, где Белый обнаруживает не только потерянного Отца, но и собирателя своих бесчисленных распыленных «я»; но и Штайнер, увы, не спасает Белого: он становится очередным обманом и разочарованием.
«Полная и страшная свобода маски: личины: не-своего лица. Полная безответственность и полная беззащитность.
Не этого ли искал Андрей Белый у доктора Штайнера, не отца ли, соединяя в нем и защитника земного, и заступника небесного, от которых, обоих, на заре своих дней столь вдохновенно и дерзновенно отрекся?» (Марина Цветаева).
Цветаева говорит о «расколотости» Белого, взявшего псевдоним и тем самым отрекшегося от «своего отца, отечества и собственного я».
Но Белый не знал о Киркегоре, пользовавшемся по крайней мере тремя основными псевдонимами – Виктор Эремита, Иоганнес де Силенцио, Николай Нотабене – и таким образом выражавшем различные грани своего «Я». И ему уж совсем не могло быть известно, что на противоположном конце Европы, в неведомой Португалии живет его современник и «двойник», – человек еще в большей степени «чужой себе самому» – великий (посмертно) поэт Фердинандо Пессоа, использовавший уже не псевдонимы, а множество гетеронимов, под которыми он печатал свои произведения.
В этом смысле они похожи, но и различия меж ними существенны: для Белого деперсонализация была, скорее, трагедией, для Пессоа – драмой, но одновременно и спасением. Распыляя через тексты своих «двойников», поэт тем самым, видимо, избавлялся от мучительной и абсолютно неразрешимой проблемы собственной идентичности.
Фердинандо Пессоа пережил Андрея Белого меньше чем на год. В июле 1933 г. Андрей Белый получил солнечный удар в Коктебеле на даче покойного Волошина, и в январе 1934 г. скончался.
Часто цитируются знаменитые стихи Белого:
Золотому блеску верил, А умер от солнечных стрел. Думой века измерил, А жизнь прожить не сумел.Но в этих стихах есть некая скрытая неправда. Напротив, он оказался способным вынести все свои фобии и ужасы до конца, смог пройти по лезвию бритвы, – в советской Москве! – успев создать тысячестраничную мемуарную трилогию, в конечном счете – итоговый текст своей жизни.
По сравнению с Белым Антонен Арто кажется совсем больным, безумным человеком, удивительным образом оказавшимся в нужное время в нужном месте. Если Белый был убежден, что потерпел крушение в жизни, а его творчество оказалось незаконченным и недовоплощенным, то еще более это справедливо в отношении Антонена Арто. Это был крах полный и безоговорочный. Вместо «шедевров» (сам термин был ему ненавистен) от него остались лишь горы по преимуществу незавершенных текстов, ролей, спектаклей, киносценариев, критических статей, пьес, романов и, главное, сотни писем-исповедей, в которых его признания о невозможности собрать себя и выразить себя законченно и целостно носят душераздирающий характер.
В чем смысл его миссии?
По одной из версий, Театр когда-то возник как способ терапии больного греческого полиса. Город-государство заболевал, гнойные нарывы проступали на его мраморном теле, социальные человеческие связи распадались, люди теряли смысл существования, утрачивая причастность к целому… Тогда и наступало время Мистерий, в которых участвовали все свободные горожане. Это становилось актом исцеления, сакральное действо превращало «толпу одиноких» в единый соборный организм, очищенный катарсисом.
Мне представляется, что при всех путаных и противоречивых манифестах Арто о миссии Театра он стремился именно к этому. Он страстно желал возродить утраченный смысл мистерий, причем не в рамках одного только театра или мегаполиса, но и всей ойкумены.
Болезнь преследовала его с детства. В четырехлетием возрасте он переносит менингит, всю жизнь его мучают страшные головные боли, в двадцать с небольшим он начинает принимать опиаты, что дает ему возможность работать, но, в сущности, является паллиативом. Безумие не просто приходит или уходит от него, но по существу является стержнем его жизни, его даром, спасением и проклятием.
В своих итоговых выводах, после многих лет, проведенных в психушках, он всецело убежден, что психиатры не исцеляют болезнь, а, напротив, ее порождают:
«Почти невозможно быть врачом и честным человеком одновременно, и совершенно невозможно быть психиатром и не измазаться дегтем самого бесспорного сумасшествия: отсутствие способности бороться с древним атавистическим рефлексом толпы, который делает каждого психиатра в тисках толпы прирожденным врагом всего гениального».
Более того, Арто убежден, что существует «всемирный заговор» общества медицины и полиции (в эту компанию попадают то Папа, то Далай-лама), который является не только причиной его собственного страдания, но и прямой или косвенной причиной уничтожения близких ему по духу людей:
«Вот почему так единодушно было наложено заклятие на Бодлера, Эдгара По, Жерара де Нерваля, Ницше, Киркегора, Кольриджа, а также Ван Гога».
Но очень существенным в судьбе Арто, как проницательно замечает его биограф, является то, что «с самого начала своей литературной и театральной деятельности Арто не только знал, но и гордился тем, что страдает от психического недуга, и его случай представляет исключительный интерес». На самом деле ему не только повезло с психиатрами, но – придется повторить – он попал в нужные время и место, когда безумие признается важнейшей эстетической категорией. Окажись он в 1920-е годы в Монтевидео, Москве или Софии, он остался бы городским сумасшедшим местного масштаба, о котором бы впоследствии немногочисленные почитатели вспоминали как об очередном курьезе. На самом деле Арто, при всех его мучениях, невероятно повезло: если эпоха (авангарда) априори оправдывает тебя, то каждый твой жест получает значимость. Впрочем, это оправдание не спасло Арто – скорее, напротив, подтолкнуло к погружению во тьму и девяти годам психиатрической клиники.
Контркультура и культ безумия
От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрестанное горение, движение – безразлично во имя чего… Можно было прославлять и Бога и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости.
Владислав Ходасевич. «Конец Ренаты»Итак, динамика столетия вносит существенные поправки в сам статус контркультуры. Как только общественное признание получено (хотя бы частично) и выдан сертификат достоверности, то всевозможные патологии, болезни, одержимости, перверсии все чаще оборачиваются имитацией, игрой, маскарадом – впрочем, иногда заканчивающиеся трагически: отличить подлинное от карнавального все сложнее.
Симптомы зарождающейся имитации заметил уже Ясперс, созерцая кёльнскую выставку экспрессионистов 1912 года, когда у него возникло «такое чувство, что “сумасшедший” Ван Гог оказался в вынужденном гордом одиночестве среди толпы тех, кто желали бы быть сумасшедшими, но были для этого чересчур здоровы».
В конце концов возникает простой вопрос: кто настоящий сумасшедший? Кто внутренне балансирует на грани безумия, но сохраняет волю и не переходит последней черты? Или, наконец, кто его откровенно имитирует, скоморошествует, играет?..
«Тихая» парафрения и аутизм Велимира Хлебникова не вызывают сомнений, как и «вялотекущий» аутизм Бориса Поплавского. Но в реальной жизни Поплавский был вполне адекватен, тогда как Хлебников – нет. И в этом – различие главное, гигантское, недоступное ни психиатрии, ни психоанализу.
Даниил Хармс играл в абсурд, в безумие, как и большинство обериутов, но, судя по его дневникам, прекрасно осознавал, что он делает, и, несмотря на свои знаменитые странности, был абсолютно адекватным человеком. Маяковский по-ницшеански играл в «силу» и «здоровье», будучи, по всей видимости, внутренне несомненно больным.
Кого считать настоящим аутистом? Афонского отшельника, обладающего точным ощущением реальности и понимающим человека неизмеримо глубже иных дипломированных психоаналитиков? Или публичного политика, прекрасно чувствующего себя в социуме, но абсолютно аутичного ко всему, что не касается его непосредственных интересов?
Паранойя – тяжелое заболевание, ее носители, как правило, всю жизнь проводят в «желтом доме», но всем известных параноидальных политиков, у которых сегодня обнаруживают некрофилию, парафрению, садомазохизм и т. д., никто туда не поместил, и они вершили судьбами XX века.
Вопросы бесконечны и бессмысленны: каковы критерии, где точка отсчета? Кто судьи? Что такое «норма»?.. Получается печальная и смешная ситуация, как в клинике Сербского в 1960-е годы, когда знаменитый профессор Лунц ставил советским диссидентам издевательский диагноз: «вялотекущая шизофрения с реформаторскими наклонностями» (ныне даже психиатрами признано: никакой вялотекущей шизофрении не существует).
Сегодня очевидно: психиатрические и «характерологические» типологии – от шизоидов-аутистов до психастеников и эпилептоидов – не более чем условные гипотезы, имеющие весьма отдаленное отношение к реальности.[206] Современная диагностика совершила некоторый прогресс, но вместе с тем недалеко ушла от XIX века. Она может прописать снотворное, помочь от депрессии, кого-то вылечить от неврозов, психозов, истерии, путем инъекций превратить «буйнопомешанного» в «вялотекущего», но элементарные духовные процессы для нее по-прежнему труднодоступны.
Но так или иначе, шизофрения, паранойя, психастения, неврозы, психозы и аутизм становятся товаром, который хорошо продается на художественном рынке. В своем роде это уже традиция – шизоидный скандал есть непременная форма функционирования художника в обществе: заданные в середине XX века архетипы в основных чертах не меняются. Вполне здоровые люди – от Маринетти, Северянина, Ремизова до Андре Бретона или Сальвадора Дали – брали на вооружение весь карнавальный арсенал рыночного лицедейства, чтобы – с разной степенью успеха – достичь желаемых результатов. А сегодня это просчитанная стратегия: персонажи у всех на виду – просто включите телевизор, чтобы созерцать «фриков» на любой вкус. Имитация разнообразных психопатологий – блестящая артистическая карьера. Другое дело, что роли все более банальны, игра – фальшива, а «художественные акции» или эпатажные перфомансы наводят смертную тоску…
Бегство
Вы знаете, в Америке так трудно предаваться медитациям и жить духовной жизнью. Стоит только попробовать, как люди начинают считать тебя ненормальным.
Дж. Д. Сэлинджер. «Тедди»Через 100 лет после того, как Торо уединился на берегу Уолденского пруда, Джером Дэвид Сэлинджер вслед за успехом «Над пропастью во ржи» осуществил свою давнюю мечту – купил дом на холме в забытом Богом местечке Корниш (Нью-Гемпшир), чтобы в дальнейшем уединиться там навсегда. С 1965 года вплоть до своей смерти он почти не выезжает оттуда и не публикует своих произведений. О подробностях мы можем узнать из мемуаров одной из его жен Джойс Мейнард и его дочери Маргарет Сэлинджер. Это не очень приятное чтение, особенно для тех, кто зачитывался Сэлинджером в юности.
Затворничество – неизбежная судьба любого «аутиста», но отшельничество Сэлинджера скорее походит на паническое бегство. Его любимый «великий Киркегор» все же испытывал некоторые иллюзии по поводу контакта с читателями и современниками. Для Сэлинджера главная проблема в том, как исключить малейшую возможность любых столкновений с безумной реальностью. В мемуарах жены и дочери более чем успешный писатель предстает травмированным человеком, предельно ранимым нарциссом с некоторыми психопатологическими странностями.
Очевидно, чтобы сохранить собственную идентичность, у писателя не было другого выхода. Но парадокс заключается в том, что в своем одиночестве он по-настоящему не в состоянии быть один. Он все время ищет Другого – еще одну жену, возлюбленную, «ученицу», которая была бы способна разделить его утопию одиночества и вместе с ним воспитывать не этих, а других детей, и создавать другое жизненное пространство.
Конечно же, он аутист (если этот термин вообще имеет смысл), настоящий «герой нашего времени», способный выносить людей лишь в «гомеопатических дозах», но не способный полностью от них отказаться. Он уже человек эпохи нью-эйджа, прошедший через все ее искушения – от дзен-буддизма и йоги, до фитотерапии и сайентологии.
Ныне все, что осталось нам от XIX столетия – реформаторские амбиции, мировая скорбь, романтический сплин, мизантропия, стоический пессимизм, – выглядят слишком напряженными состояниями, требующими сильной энергетики, а ее остается все меньше. Сэлинджера можно понять – все более комфортабельный мир становится и все более угрожающим. Быть мизантропом или пессимистом выглядит романтической роскошью, тогда как аутизм с его «нейтральностью» значительно ближе духу времени. Это и диагноз, и спасение одновременно. Это наше бедствие и наше убежище. Мы его творцы, и мы же его жертвы.
Часть IV
Жак Деррида или Предательство Декарта
– Срезал ты его, – скажут мужики Глебу.
– Ничего, – великодушно заметит Глеб. – Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя…
Василий Шукшин «Срезал»В 1990-е все вокруг менялось с головокружительной скоростью. Время взбесилось и сокрушало любые препятствия на своем пути. «Империя зла» (ныне превратившаяся в «империю добра») рассыпалась в одночасье – почти так же как в 1917-м. Как тогда написал Розанов в своем трагическом и путаном «Апокалипсисе нашего времени» – «Русь слиняла в два дня, самое большое в три. Даже “Новое время” нельзя было закрыть так быстро, как закрыли Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей».
Теперь все случилось не так страшно: по крайней мере, не было резни. Но не только политика, но интеллектуальная атмосфера менялась с каждым месяцем до неузнаваемости. Религиозную философию стал агрессивно вытеснять западный постмодерн – прежде всего, французский. Иноземные звезды новейшей философской мысли прилетали один за другим – Лиотар, Деррида, Бодрийяр, Поль Рикер, не говоря уже о фигурах второго и третьего порядка. И собирали переполненные залы.
Заморские гости изумлялись переменам. Жак Деррида в одном из московских интервью с недоумением заметил – очень странно, что я не встретил тут ни одного марксиста. Тем более, что его ближайшей книгой станут программные «Призраки Маркса». В его словах даже прозвучала легкая нотка сожаления: как это? Я искал своих героев! Еще вчера тотально марксистская страна, а сегодня ни одного адепта «единственно верного учения»? Получается, что все были марксистами поневоле, исключительно по долгу службы.
Мой старший приятель, либеральный профессор, всю жизнь преподававший исторический материализм, как-то с нескрываемой радостью сказал мне при встрече: «Вы знаете, у меня сегодня праздник! – Почему? – Пришел очередной номер “Вопросов философии” и, представьте себе, ни одной ссылки на Маркса или Ленина!»
Но на самом деле, адепты еще оставались, им пришлось затаиться в глухих углах, где они весьма болезненно переживали свое поражение. Время от времени они пытались призвать к возвращению к истинному, «неискаженному Марксу», но почему-то их никто не слушал.
В результате, скажем, Ю. С., декан философского факультета большого университета в Питере, запил горькую. Это был высокий, седовласый харизматичный и весьма неглупый мужчина в расцвете лет, который глушил горячительные напитки в неимоверных количествах прямо в кабинете вместе со своими заместителями и коллегами. Прежде существовало «партбюро», которое могло бы одернуть и воздействовать на «моральный облик». Но и оно бесследно испарилось: кругом – полная, гибельная свобода. Что может быть страшнее?
Временами, как медведь-шатун, декан бродил, с трудом сохраняя равновесие, от стенки к стенке по широкому коридору с портретами великих философов, путал женский туалет с мужским и, не находя себе места, забредал на какую-нибудь конференцию или семинар. Выступала вполне себе степенная и дородная дама. Профессор слушал ее минут пять и в полголоса произносил: «Какая х-ня!», затем тихо засыпал за партой. Всем оставалось делать вид, что ничего не произошло.
Время – тяжелое. Одна весьма обаятельная женщина средних лет с кафедры «воинствующего безбожия», отдавшая жизнь борьбе с «поповщиной» и «религиозным мракобесием», как-то тихо и незаметно помешалась рассудком. Возможно, проект каких-то малограмотных московских чиновников – открыть в университетах отделения теологии (к счастью, не осуществившийся) и стал последней каплей.
Впрочем, и в стане побежденных произошла смена парадигм. Отчаявшись воскресить «истинного Маркса», Ю. С. и сотоварищи выдвинули нехитрый тезис, что философия – это ни что иное как рационализм, идущий от Декарта и Гегеля к Марксу и противостоящий всем формам «мистики» и «иррационализма», наступавшим тогда со всех сторон, как варвары на Римскую империю во времена переселения народов. Причем к «мистике» относилось все «иррациональное»: не только оккультизм, эзотерика, религиозная мысль, но и многозначительная невнятица входивших в моду постмодернистских текстов. На обсуждении статей для нового сборника или журнала декан гневно возмущался: что это такое?! Это опять ваша мистика! Где рационализм, я спрашиваю?! Философия – это рационализм!
Очевидно, в состоянии хронического похмельного синдрома и «спиритуозной мистики» рационализм стал для него единственным спасением, позволявшим различать лево и право, верх и низ.
Справедливости ради, профессору надо отдать должное. Он не «сменил вехи» в одночасье, как тысячи бойцов идеологического фронта, и его драма вызывала даже некоторое уважение (после него на факультете стало еще хуже). В советские времена он имел репутацию свободомыслящего марксиста, школяры охотно посещали его лекции, но теперь, увы, они были мало кому интересны.
Идейный враг – «иррационалист» Жак Деррида, необыкновенно импозантный седовласый алжирский сефард, разумеется, собрал переполненную аудиторию. Мест не хватало, сидели в проходах, благоговейно внимая рассуждениям о «деконструкции» и «следе» в философии (тогда это была его главная тема). Он говорил неспешно, серьезно, продумывая каждую фразу…
Где-то ближе к концу выступления внезапно дверь в аудиторию с грохотом отворилась и перед почтенной публикой предстала высоченная фигура пепельно-седого декана, едва сохранявшая равновесие.
Парижский властитель дум умолк и с изумлением взглянул на необыкновенного коллегу. Это и был тот самый «призрак Маркса», которого он безуспешно искал в столице… «Но своя своих не познаша».
Воцарилась, что называется, гробовая тишина. Сделав несколько нетвердых шагов, Ю. С. поднял руку и пронзил перстом указующим интеллектуального врага:
– Вы-ы, – громыхнул он зычным голосом, – предали Декарта! Это вам никогда не простится! – Грохнул дверью так, что зазвенели стекла, и бесследно испарился.
Французский интеллектуал был в полной растерянности. Переводчица с большим трудом пыталась объяснить, что, собственно, произошло, и почему он «предал Декарта». Но так как с подобной критикой Деррида встретился впервые, ее истинный смысл так и оказался ему, похоже, неясен.
Русский богатырь, как в рассказе Шукшина, одной фразой «срезал» его. П по-своему, с метафизической точки зрения, он был прав.
Деконструкция, постмодерн и Декарт – вещи несовместные.
Бог и Бодрийяр
Метафизический и культурный голод – одно из фундаментальных ощущений именно позднесоветского времени. Насытить его невозможно, но даже перехватить несколько случайных крошек – уже событие.
Тексты, книги, альбомы, самиздат, все это, конечно, присутствовало, но явно в недостаточном количестве. Кто-то даже умудрялся под хитроумным предлогом получить доступ в спецхран, но и это не утоляло ни голода, ни жажды.
Не существовало главного – современности и живой жизни. Не было авторитетов, учителей, полноценной среды (она таилась в глубоком подполье или отвалила за бугор, особенно в Питере). Что-то творилось в Москве, но, скажем, диссидентская культура была слишком политизирована и откровенно невротична. И при приближении – разочаровывала.
Мутный «Сайгон», еще пара-тройка кафешек, или унылые, запуганные профессора и даже академики – небогатый выбор.
Да, в подполье, где, вопреки названию мемуаров генерала Григоренко, можно было встретить «не только крыс», были и встречи, и собрания, и споры, и скандалы, но, как правило, на утро они оставляли чувство не столько метафизического, сколько реального похмелья.
Все окна, форточки, щели были заперты наглухо, законопачены, зашпаклеваны, все источники духовной энергии – обесточены, и это герметичное пространство было наполнено спертым воздухом окаменевшей, забальзамированной истории, который время от времени вызывал приступы чудовищного удушья. «Свирепейшая имманенция», как когда-то выражался Герцен, порождала экзистенциальный вакуум. Город был вычищен, выскоблен, как выскабливают после аборта. Оставалось ощущение серой, темной, засасывающей дыры, провала на 60-й параллели, которая могла ввергать и в состояние сладостного одиночества, и в давящей убийственной тоски.
С завязанными глазами мы шарили руками в пустоте: она была нашей почвой, отчаяньем, воздухом и свободой. Жизнь как ожидание невозможного чуда… Что мы искали? Смешной вопрос: того, что в этом мире не существовало.
Хотя мы вращались в кругах, где к Западу относились отчасти скептически, нашествие заморских гуру, начавшееся в конце 80-х – начале 90-х, у голодных и страждущих вызывало вполне объяснимые надежды.
В отличие от изысканного, весьма утонченного Деррида, Жан Бодрийяр, в прошлом либеральный марксист, был крепким, плотно сбитым и весьма витальным оратором. Он выступал в нескольких местах, в частности, в большом зале филологического факультета с окнами на Неву, вместе с очаровательной французской переводчицей.
Бодрийяр сыпал хлесткими, провокативными парадоксами и во всех аудиториях говорил примерно одно и то же.
Мы живем в эпоху искусственно созданных тотальных симуляций – в мире копий, не имеющих оригиналов, либо постепенно их утративших. Симулякр – это совсем не то, что скрывает истину. Это – сама истина, скрывающая то, что ее нет. Иными словами, мы проживаем жизнь, скорее, в нарисованной карте китайской империи (отсылка к рассказу Борхеса «О строгой науке»), которая более реальна, чем сама Империя. У нас нет способов для различения виртуального и онтологически существующего. Поэтому «Войны в заливе не было» (в Персидском заливе, 1991 г. – П.К.) – эссе, которое принесло Бодрийяру скандальную известность. Это не настоящая, а медиавойна, да и вообще ничего нет и не было, идеологии рассыпались, философия умерла, – в том числе и сам постмодерн (Бодрийяр отрицал свою принадлежность к нему), все, кроме сообщений на телеэкранах. Медиа – единственный свидетель, искаженным образом транслирующий нам происходящее, остальное – от лукавого. Мы живем в эпоху полной утраты реальности.
Кстати, насколько можно вспомнить, в 70-е мало кто сомневался в действительности высадки астронавтов на Луну, а в 2000-е все наперебой заговорили, что, возможно, это лишь шоу, срежиссированное Спилбергом или Кубриком.
Впрочем, последняя реальность все же существует – это смерть (эссе «Символический обмен и смерть»). Но если смерть реальна – значит, реальны и тысячи мертвых тел, оставшихся на полях «виртуальных сражений». Следовательно, «Войны в заливе не было» – не более чем хлесткий журналистский фейк, подлинный симулякр, в своем цинизме превосходящий многократно ложь обычных медиа, которую философ так презирал.
Конец тысячелетия Бодрийяр определил как состояние человека, проснувшегося утром после оргии. Метафизическая оргия – это высвобождение политических, художественных, утопических, сексуальных и прочих энергий. Сегодня все освобождено, – сообщил философ, – все утопии реализованы, все ставки сделаны, все возможности проиграны, и мы все оказываемся перед роковым вопросом: «Что делать после оргии?» Надо сказать, что некоторые советские профессора не поняли и обиделись на Бодрийяра. Как сказал один из них: «Может быть, оргия где-то и была, но для нас это, как на чужом пиру похмелье: по усам текло, да в рот не попало».
Посыпались вопросы. Ответы были столь же неожиданны и парадоксальны. Но, говоря о полной нереальности окружающего, сам оратор был более чем реален. Он отдаленно напоминал крепко сложенного крестьянина с полотен Курбе или Ван Гога, поэтому напрашивавшийся вопрос, насколько реален он сам, как-то отпал сам собой. Наконец, одна очень юная слушательница спросила его о двух вещах:
– Скажите, пожалуйста, в чем отличие постмодернистской иронии от романтической, на Ваш взгляд? И какое место занимает Бог в Ваших представлениях?
От второго вопроса Бодрийяра аж слегка передернуло:
– Бог – это не моя проблема! – Не по-галльски резко ответил он, – А вот про иронию я расскажу…
В самом деле, вопрос прозвучал «неприлично». Уже больше ста лет мир живет и мыслит «после смерти Бога», реальность рассыпалась и исчезла, о чем тут можно говорить?!
Я не помню, что он рассказывал об иронии, мне вспомнилось одно эссе Чеслава Милоша, где поэт пишет, что на стене Университета в Беркли некто начертал большими буквами:
«Бог умер»
Ницше.
«Ницше умер»
Бог.
Жан Бодрийяр прожил еще добрых полтора десятка лет, написал немало книжек и покинул этот мир симулякров 6 марта 2007 года, соединившись с последней реальностью.
Слотердайк как апостол прогресса
Другой гуру западной мысли – немецкий философ и публицист Петер Слотердайк – посетил Санкт-Петербург через много лет – весной 2013. Автор уже почти классической «Критики цинического разума» (1983 г.), трехтомных «Сфер» (1998–2004), растянувшихся на полторы тысячи страниц; книг «Ярость и время» (2006 г.), «Стресс и свобода» (2011 г.).
Метафизический голод прошел, страждущих осталось совсем мало. Одну «свирепейшую имманенцию» сменила другая – прямо противоположная. На смену идеологии пришла власть Мамоны. Но аудитория, – впрочем, давно не ожидающая никаких откровений, – по-прежнему полна.
Основное в Слотердайке – как и в Бодрийяре – это острота ощущения времени, стремление почувствовать его нерв, и если не отвечать, то задавать вопросы, соответствующие сегодняшнему дню, но разговор получился уже совсем иным. Замечательный ариец, с пшеничной копной волос и столь же выразительными усами, больше похожий на швабского фермера, чем на философа, вещал с кафедры весьма убедительно.
Начало «Критики цинического разума» ставит столь точный диагноз, что нельзя его еще раз не процитировать:
«На протяжении века философия лежит на смертном одре и не может умереть, ибо задача ее не исполнена. Поэтому конец вынужденно и мучительно затягивается. Она или похоронила себя, предавшись пустой игре в мысли, или пребывает в агонии, во время которой ее посещают откровения, и она высказывает то, что забывала сказать на протяжении всей жизни. Перед лицом смерти ей хочется быть честной и открыть свою последнюю тайну. Она признает: все великие темы были сплошь уловками и полуправдой. Прекрасные, но тщетные взлеты мысли: Бог, Универсум, Теория, Практика, Субъект, Объект, Тело, Дух, Смысл, Ничто – всего этого более не существует… В нашем мышлении не осталось больше ни проблеска от былого взлета понятий и от экстаза пониманий. Мы просвещены, мы пребываем в апатии. О любви к мудрости больше нет и речи. Больше нет знания, любителем которого можно быть. То, что мы знаем, мы не можем любить, но, напротив, задаемся вопросом: как нам удается жить, переносить это знание и не окаменеть».
Что же такое цинизм и почему мы существуем в эпоху тотального цинизма (не путать с античным кинизмом). «Цинизм – это просвещенное несчастное сознание», которое больше не верит в парадигму Просвещения «знание – сила». Напротив, сегодня знание ведет к бессилию и параличу, защитой от которого выступает именно цинизм. Тот самый, который точно определил еще Оскар Уайльд – «циник знает всему цену, но не ведает никаких ценностей». Цинизм – это форма самозащиты современного невротика, скептика и агностика, который, вопреки отсутствию смысла, должен продолжать работать. Зачем?
В «Критике…» Слотердайк превосходно показывает банальность современного цинизма на разных уровнях бытия: «Если раньше циниками становились только самые смелые политические умы, то сегодня любой заурядный функционер может сравниться в своем цинизме с Талейраном, Меттернихом или Бисмарком».
Но перед многочисленной аудиторией в здании Двенадцати коллегий предстал совершенно новый и неожиданный Слотердайк с докладом «Непрерывный Ренессанс» и попыткой создать уже не критическую, а «позитивную философию». Почему произошел столь радикальный перелом? Философ сразу же ответил на этот вопрос: мы все существуем в пространстве медиа, т. е. в пространстве абсолютно Негативного, которое поставляет нам исключительно отрицательные сведения о катастрофах, убийствах, террористических актах, войнах, эпидемиях… При этом медиа идут на поводу у своих читателей или слушателей, которые, в свою очередь, сами желают информационного «перца» для остроты ощущений и уже не реагируют на любые новости, кроме негативных, поэтому «новая философия» призвана перейти к позитивному осмыслению бытия. Слотердайк вместе с коллегами основал в Германии премию «Имени князя Мышкина» (восхитительно!), и всем своим видом стремился подчеркнуть, что ныне философы способны дать «позитивные ответы» если не на все, то на многие драмы и трагедии современности.
Подзаголовок его доклада можно обозначить так: «О возможности счастливого существования в эпоху несчастья». Для этого он обратился к «Декамерону» Боккаччо, написанному в середине XIV столетия, когда чума скосила во Флоренции более двух третей населения. Фривольный «Декамерон» начинается с описания ужасающей эпидемии (о чем как-то забылось), а далее мы видим, как семь прекрасных женщин и трое юношей удаляются из чумного города и пытаются воссоздать новое, не подверженное чуме, сообщество. Они рассказывают друг другу множество самых причудливых и невероятных историй, и это рассказывание и становится, по Слотердайку, созданием новой реальности, с которой берет свое начало Ренессанс. Иными словами, рассказ, нарратив становится формой регенерации или восстановления человеческого сообщества, оказавшегося в предапокалиптической ситуации. Мы рассказываем друг другу что-то, и тем самым мы воскресаем для новой жизни посреди ужасающей реальности…
Это совсем не пушкинский «Пир во время чумы», а попытка воссоздания именно человеческой жизни в нечеловеческих обстоятельствах. Собственно, это единственно интересная идея, прозвучавшая в докладе знаменитого философа, который в дальнейшем, на протяжении почти часа, безуспешно пытался убедить аудиторию, что Ренессанс западной и, следовательно, мировой цивилизации как начался с тех пор, так и продолжается по сей день, пройдя через Барокко, Просвещение, Романтизм, Капитализм и все катастрофы XX столетия. Забавно сравнить его с Бодийяром, который утвеждал:
«Идея прогресса умерла, но прогресс продолжается. Идея богатства, предполагающая производство, исчезла, но производство осуществляется наилучшим образом… Идея исчезла и в политике, но политические деятели продолжают свои игры, оставаясь втайне совершенно равнодушными к собственным ставкам. О телевидении можно сказать, что оно абсолютно безразлично к тем образам, которые появляются на экране, и, вероятно, преспокойно продолжало бы существовать, если бы человечество вообще исчезло» («Прозрачность зла»)
В речи Слотердайка то же самое прозвучало с точностью до наоборот, что вызвало чувство недоумения. В конце концов стало понятно: теперь и сам интеллектуал – пленник медиа. Он вынужден отвечать на их запрос, дабы разбавить сплошную негативную ауру информационного поля хоть какой-то «позитивной» философией, пускай это даже будет набор банальностей. Это напомнило возвращение к идее прогресса XIX столетия или теодицее Лейбница, согласно которой мы «существуем в наилучшем из возможных миров». Но на самом деле, это имеет отношение не столько к Лейбницу, или Прогрессу, сколько, в первую очередь, к современному информационному полю, требующему от интеллектуалов хотя бы ложку меда в бочку дегтя, где люди цивилизации вынуждены существовать.
Что же такое «позитивное» (тема гламурных журналов) и возможность «счастливой жизни»? Если, скажем, за лето не произошло ничего «негативного», никто не умер, не обанкротился, не покончил с собой, не сломал руку или ногу, не заболел – все прекрасно! Любые травмы в бессобытийном мире становятся событием. В псевдо-позитивной Утопии общества массового потребления нарушение счастья, это нарушение порядка вещей, если угодно – структуры мироздания.
Но человек не создан для счастья – об этом писали сотни людей, заканчивая, скажем, Андреем Тарковским. Есть нечто выше. Это очевидно.
«Счастье», конечно, может быть очень скучным, но думая о том, что чума во Флоренции в 1348 году скосила десятки тысяч людей, об этом нечеловеческом ужасе, который миру пока не грозит – мы, глядя на еще сохранившиеся девственные поля, леса, луга, понимаем, как нам повезло.
Может быть, Слотердайк, по своему, в чем-то прав.
Часть V
Реквием по авангарду
Когда-то Ницше писал («О пользе и вреде истории для жизни»), что историческая и культурная память парализует человечество. Человек, помнящий и знающий слишком много, утрачивает способность творить жизнь: мы должны забывать, чтобы жить, иначе любое движение оказывается невозможным. Искусство и философия новейшего времени попытались решить эту проблему, создав утопию радикального разрыва, порвав с традицией в такой степени, по сравнению с которой и Ренессанс, и Новое время кажутся, хотя и сильно измененным, продолжением традиции. «Все утопии современного мира имеют свой источник в искусстве» (Б. Гройс). Если это верно, то верно лишь отчасти и в очень ограниченной области. Скорее, напротив, дух утопии и дух новейшего искусства (по крайней мере, с конца XIX века) имеют один источник – онтологическое несовершенство этого мира, что в полной мере стало очевидным только после эпохи Просвещения, которое Кант определил как время человеческого совершеннолетия, как способность свободно пользоваться своим умом. Достигший зрелости человек начинает понимать, что наилучший из возможных миров его совсем не устраивает – все драмы и трагедии мира сокрыты в его неполноте и недостаточности, в каком-то изначальном изъяне, в «неудаче творения». Ропот потерянного человека, его конвульсии и стоны, обращенные к опустевшим небесам, свидетельствуют как раз о том, что мир был создан не по умыслу всеблагого Творца, а, скорее, лукавого гностического Демиурга. Корни утопии, корни современного искусства – в воскрешении гностических представлений, два тысячелетия противостоявших христианству.[207]
Мир – это тюрьма, каторга, ловушка, гиперматериальное пространство, в котором невозможно существовать. «Мир как неволя и как проект освобождения от неволи», – так библиотекарь Николай Федоров, перефразируя Шопенгауэра, определит духовную парадигму ближайшего будущего, где искусство и утопия неразделимы. Искусство стыдится быть просто искусством, а мысль – просто мыслью. («Просто сочинять музыку, это так скучно», – говорил Скрябин.) Художник или мыслитель становится сотворцом, он «поправляет» неудачное творение, а в радикальном варианте стремится пересоздать его заново. «Я люблю мысли, которых нет… Я люблю страсть, которая не существует… Я люблю людей не такими, каковы они есть, а такими, какими могли бы быть… Я люблю любовь, которой нет, которая парит, как невидимый град, как неуловимый запах… пробуждающая стремление к заколдованным странам, придающая силу, придающая величие, ведущая все существа к совершенству, дарующая тебе чудесное платье, сотканное образной силой, делающая тебя королем всех целей, богом, творцом», – так писала в начале XX века художник Марианна Веревкина художнику Алексею Явленскому.
Аналогичным образом возникает идея «всеискусства» (Вяч. Иванов), сверхпоэзии, сверхмузыки – от Рембо и русских символистов до Скрябина, Хлебникова и Малевича, – космическая утопия, которая должна изменить мир, победить смерть и уничтожить силу земного притяжения. Если Бодлер, открывая для искусства то, что он именует духом современности («Художник современной жизни»), создает тем самым культ современности как главного источника художественного творчества, то «сверхискусство» многих символистов и практически всего авангарда обращено исключительно к грядущему. Современность как непосредственно данное – это как раз то, что должно быть преодолено, будущее становится единственно возможной целью.
«Русский космизм»: отцовство и сыновство
То, что именуется расплывчатым термином «русский космизм» и до сего дня восторженно пропагандируется многими, имеет самое непосредственное отношение к теме разговора. Мистерия воскрешения и космической регуляции природы, созданная травмированным сознанием незаконнорожденного, вечного сироты, скромного служащего
Румянцевской библиотеки Николая Федорова, является метафизическим фундаментом для грядущего «сверхискусства». И не важно, что одни «творяне», как принято считать, в лице Филонова, Хлебникова или А. Платонова, прилежно читали «Философию общего дела», а другие, как Кандинский или Скрябин, ею вовсе не интересовались (или даже не подозревали о ее существовании), черпая информацию из совсем других источников, вроде «Тайной доктрины», «Вестника теософии» или научно-антропософских штудий доктора Штейнера. Важна клиническая грандиозность федоровского проекта, та степень безумия, которую в более или менее здравом уме и рассудке мало кому удалось достичь. Это настоящая теургия, поправляющая трещины и изъяны мироздания и пытающаяся накрепко зацементировать его главный провал – исход в небытие. По сравнению с этим замыслом «метафизика всеединства» другого «космиста» Владимира Соловьева, его утопия всемирной теократии и объединения церквей под властью римского престола выглядит робкой и провинциальной. Разумеется, есть важное различие – мистерия воскрешения всецело ретроспективна и исполнена благоговения перед Отцами, которых сыновья – жрецы новейшего искусства – будут как раз безжалостно изничтожать. Но прошлое легко меняется с будущим, ретроспекция и пассеизм становятся футуризмом, и тогда благоговение сынов перед пращурами превращается в задорную пляску на гробах.
Кризис
Все новое начинается с осознания кризиса. В первой трети XX века в России и Европе, в том времени, которое теперь считается расцветом культуры, все писатели со ссылками на Шопенгауэра, Ницще или Достоевского бесперебойно писали о ее кризисе:
«Кризис европейской культуры» (Р. Панвиц)
«Кризис искусства» (Н. Бердяев)
«Кризис духа» (П. Валери)
«Кризис европейского человечества и философия» (Э. Гуссерль) «Германия и кризис европейской культуры» (А. Вебер) и т. д. Сюда можно включить Шпенглера и все возможные вариации «Заката», «Конца» и «Апокалипсиса». Ясно, что это не просто название – состояние кризиса, крушения, заката, катастрофы переживалось необыкновенно интенсивно. Андрей Белый во время революции сочинил целую трилогию о «кризисе всего» – «Кризис жизни», «Кризис мысли» и «Кризис культуры». Из этого переживания и рождалось радикально Иное – дух утопии, переустройства бытия, эстетической или социальной революции.
Кризис, как известно, означает суд, суд над самим собой, который в исторической перспективе и оказывается «расцветом». Сегодня кризис во всех сферах не менее очевиден, но пишут и переживают его в значительно меньшей степени. К нему привыкли, с ним смирились – стало ясно, что кризис в наше время есть нормальное и неизбежное состояние жизни. Как давно замечено, в этом скептическом смирении перед невозможным и неразрешимым – сущность «постмодерна». И радикально Иное в таком состоянии вряд ли возможно. Колоду можно перетасовать заново и карты лягут иначе, но это будет все та же прежняя игра.
Виртуальная реальность
В свое время Ницше говорил – «ни один художник не в состоянии вытерпеть реальность». Сегодня можно сказать: едва ли не любой человек не в состоянии выносить реальность. Поэтому чуть ли не каждый может стать «художником» и творить собственную реальность, в своем роде персональное убежище. Наше время в целом можно назвать эпохой квазигностицизма, когда с помощью техники, основанной на знании, создаются бесчисленные виртуальные протезы и пространства. Возможностей много – путешествия, наркотики, деньги, Интернет, мультимедиа и т. д., характер убежища прямо пропорционален невозможности выносить окружающий мир.
Разрыв
Рим, 1920-е годы – европейское захолустье, где дух «Вечного города» естественным образом соединялся с полупатриархальной католической провинциальностью. В мемуарах Лидии Ивановой (дочери Вячеслава) есть сцена, где способ существования «нового искусства» описан предельно точно. Будучи музыкантом, она познакомилась с монахом, знатоком и известным исполнителем григорианской музыки, в прошлом – виолончелистом.
– Я в музыки ничего против модернистов не имею, – сказал он ей. – До того как я постригся, играл охотно и Баха, и Бетховена…
Этот человек совершенно органично продолжал жить в средневековье – Бах, Гайдн, Бетховен, не говоря уже о Шопене, были для него «модернистами». В современной музыке, говорил он, мелодия коротка, отрывиста: зарождается и сразу обрывается. В григорианской – мелодия подчас так длинна, что одним человеческим дыханием ее нельзя пропеть. Поют хором в унисон, и поющие меняют дыхание посреди мелодии в разных местах, так что слушающие не замечают перерыва и линия мелодии кажется очерченной сверхчеловеческим дыханием: «Старайтесь и вы писать музыку широким дыханием, избегать этой разорванности современной души…»
Традиция – это непрерывность голосов, хор, сливающийся в бесконечно длящуюся тему. Она постепенно утрачивается Новым временем (даже Паскаль в этом смысле уже «авангардист), в XX веке превращаясь в разорванность и фрагментарность. Консерватор Розанов, начиная с «Уединенного», создал образец «разорванного письма». Если футурист Малевич в своем рождественском послании 1913 года говорил, что разум – «каторжная цепь для художника» и поэтому советовал всем художникам отказаться от него, то Бретон и сюрреалисты провозглашают полную невменяемость творящего субъекта в акте творчества; Александр Введенский признается, что его основное ощущение – «бессвязность мира и раздробленность времени».
С какого-то момента – точно определить точку отсчета невозможно – единая музыкальная тема навсегда утрачена, ее никто не в состоянии пропеть одним голосом, но и хор тоже распался. Мы можем мыслить и дышать только клочками, обрывками, фрагментами.
Метафизика ничто
Новое искусство начинается с искренней и гибельной веры в возможность подлинного преображения жизни, с того духа «великой утопии», который до сих пор завораживает весь подлунный мир. Художники в большинстве своем совершенно серьезно были убеждены, что их видения способны радикально изменить реальность, за что многие поплатились жизнью. Это присутствует и в апофатическом ничто Малевича, которое есть начало и конец одновременно, черная дыра, бездна, точка последнего сжатия, праформа творения, откуда произойдет Большой Взрыв и разлетится новая Вселенная.
«Во всяком месте и времени можно найти абсолютное ничто – ничто как возможность», – сказано у Джона Кейджа. Прежде всего, это присутствует в русском футуризме и супрематизме, в меньшей степени в кубизме, дада, или сюрреализме, где игра чувствуется особенно сильно. То, что в Америке получило наименование «абстрактного экспрессионизма», начиналось с подражания европейскому авангарду. Только после второй мировой войны художники перешли к полной беспредметности и всю остальную жизнь рисовали чистое ничто. Если на полотне вдруг возникало нечто фигуративное – абрис лица, очертание куста или дерева – это считалось неудачей, Ничто для них стало абсолютом. Все они – Джексон Поллок, Марк Ротко, Арчил Горки, скульптор Смит – имели при жизни определенный успех и все, в конце концов, покончили с собой (Поллок, последние годы жизни находившийся в тяжелой депрессии, погиб в автокатастрофе, которая очень похожа на самоубийство). Это была своего рода религия ничто, абсолютная апофатика, замкнутая на себе самой. Ретроспективная выставка Марка Ротко в Городском музее Современного искусства в Париже (1999) – очень красивое, завораживающее визуальное пособие для самоубийц (народ валил валом, на выставку было не попасть). В первых залах – фигуративные работы, подражание сюрреализму и экспрессионизму, затем – большие, беспредметные прямоугольники с чуть размытыми краями. Ротко как художник – метафизичен и в апофатическом смысле религиозен (его любимой книгой долгое время был «Страх и трепет» Киркегора), но финал все тот же. Цвета – красный, малиновый, желтый, серый, черный. В последнем зале – предсмертные полотна, огромные, вертикально вытянутые, цвет постепенно исчезает – серый, черный, черный, черный. Тьма. Ничто. Ничто. Ничто.
Ничто – как невозможность.
Разочарование Лакана
Биографы Жака Лакана рассказывают, что в последние годы жизни он не скрывал своего глубокого разочарования по поводу человеческого удела. Человек раздавлен условиями своего существования, рецептов примирения нет. И главное – Лакан был вынужден признать, что проиграл самый важный поединок – с католической церковью: «Стабильность религии проистекает из того факта, что смысл всегда религиозен… Религия существует, чтобы лечить людей, точнее, она придумана из неспособности понять, что же в жизни не так».
Иными словами, если смысл религиозен, то психоанализ, вскрывающий бессознательное, чтобы констатировать утрату смысла, не может не проигрывать религии.
Характерно, что «воин» и «ницшеанец» Эрнст Юнгер в последние годы своей нескончаемой жизни (он прожил 101 год!) стал католиком, хотя и не афишировал свой католицизм. Для русского уха такой итог звучит почти смешно: здесь еще в начале XX века с него начинали. Достаточно вспомнить «Уединенное»: «Боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни. Вот отчего религия всегда будет одолевать философию».
Это не значит, что мы «умнее», скорее, напротив, но при этом неизбежным образом интуитивно глубже. Апофатическая культура изначально ощущает эту неизреченную глубину, о ней невозможно забыть. Но именно она же дает мало шансов проделать путь до конца (ибо все есть не то). А путь важен сам по себе, он оставляет следы. В результате мы ходим кругами или бесконечно топчемся на месте (тот же Розанов – пример этого кружения).
Рильке сделал России комплимент – каждый день здесь жизнь начинается заново. Звучит замечательно, но это означает, что каждый день ты умираешь и рождаешься вновь, как древние божества умирания и воскрешения, это существование не в линейном, а в циклическом, полуязыческом времени.
Водевиль Гете и Ницше
Ницше, как человек, живший, в сущности, уже в XX веке, усмехался, когда слышал, что «Фауст» называют «трагедией познания». Для него это был всего лишь водевиль века невинности.
Фрейд и Юнг
Все различие между ними можно выразить очень просто. Для Фрейда, с его рационализмом и шлейфом, тянущимся от Просвещения, невроз – это всегда зло. Но вместе с тем этот скептик и создатель радикальной герменевтики подозрения чувствовал себя мессией, желавшим освободить человечество от душевных травм и исцелить его. Он полагал, что знание и самопознание может привести к свободе. Юнг, при всем его мистицизме, понимал, что освободить и исцелить кого-либо очень сложно. Ибо болезнь – это сам человек: «Лишиться невроза все равно, что потерять себя».
Революция как перфоманс
Необъяснимая загадка: почему они так долго и преданно любили Ленина, Троцкого и все, с ними связанное, хотя и слепому было ясно, что происходит на самом деле?
Леви Стросс, пожалуй, первым увидел, что в современном искусстве, в отличие от искусства прошлого, «господствует магическая алчность по отношению к миру», отныне оно хочет обладать миром, жаждет владеть и повелевать им. Великой и потаенной мечтой авангарда было не только иконоборчество, тотальное разрушение и освобождение, но и власть. Ему нужна была власть, конечно, не в политическом или финансовом смысле, а, скорее, власть как игра, как победа искусства над жизнью – революция как художественное произведение, как грандиозный перфоманс, который в Западной Европе в XX столетии в сущности так никому не удалось осуществить (все необходимые революции уже совершили буржуа в XIX веке). Они получили ее в виде запоздалой пародии в мае 1968 года (изнутри, правда, казавшейся событием невероятным – даже отшельник Бланшо с восторгом вспоминает, что тогда любой мог подойти к любому и просто заговорить – исчезла буржуазная дистанция), завершившейся страшной вонью на улицах Парижа. Старые русские эмигранты, насмотревшиеся на революции, рассказывают, что главным несчастьем мая 1968 года были не баррикады, а мусорные бачки, не убиравшиеся несколько недель, так что по некоторым улицам невозможно было пройти без носового платка. Отсюда скрытая или явная устойчивая зависть, смешанная с восхищением, к творцам и участникам русской революции – такого перфоманса никому более осуществить не удалось. К Георгию Иванову и Ирине Одоевцевой (см. «На берегах Сены») в конце 20-х годов в Париже часто заходил Жорж Батай, чтобы вести их на очередной сюрреалистический вернисаж. Он восхищался русской революцией и открывал им «новое искусство». После футуристов, супрематистов, ничевоков, имажинистов и т. д. удивить их было трудно, но они были снисходительны к Батаю и его «революционным устремлениям». Этот будущий «великий философ» казался им милым, забавным и, естественно, не очень умным человеком.
Владимира Ульянова (несмотря на его мещанские взгляды на искусство) и, конечно же, Троцкого можно рассматривать как квинтэссенцию авангарда, литераторов, осуществивших его тайную мечту. Стиль Ульянова-Ленина в подлинном смысле слова стиль авангардного писателя – брань, ругань, провокации и проклятия, лозунги и манифесты заполняют большую часть пятидесяти пяти темно-синих кирпичей его собрания сочинений. У формалиста Тынянова («Архаисты и новаторы») есть специальное и совершенно серьезное исследование языка Ленина как революционного писателя, создателя своеобразной «деконструкции», взрывающей изнутри традицию «буржуазно-либеральной гладкописи», подобно «взорвалям» футуристов. «Стиль Ленин» подобен стилю авангарда, результатом которого является не коллаж или картина, а реальное событие – революционный перфоманс. «Восстание – это искусство»: подлинная и успешная магия овладения реальностью, по сравнению с которой большинство футуристических листков кажутся легковесным чудачеством. Давид Бурлюк в «Фрагментах воспоминаний футуриста» откровенно признавался, что вначале футуристы хотели жить мирно, ни с кем не желали ругаться, а просто стремились писать и печататься, но увидели, что это невозможно. Все места вокруг уже заняты, так что ругаться пришлось.
Андре Бретон на какой-то вечеринке в Париже в конце 20-х годов поссорился с Магриттом из-за того, что у жены Магритта, бельгийской католички, он увидел на шее «буржуазный крестик». Бретон потребовал его снять, ибо это не совместимо с сюрреализмом на службе революции; Магритты отказались и ушли. Идеологически не менее радикальный Ульянов был вместе с тем более прагматичен – к крестику чьей-то жены он приставать бы не стал, но достаточно вспомнить хрестоматийное в адрес Гегеля в «Философских тетрадях»: «Бога жалко! Сволочь идеалистическая!», или увещевание Горького: «Все это, батенька, труположество, богостроительство так же отличается от богоискательства как черт синий от черта желтого…».
По своей изначальной сущности проект авангарда – нереализуемая и неосуществимая утопия, видения поэтов и художников, вслед за Ницше и Сорелем мечтавших о радикальной революции, о могуществе и тотальности, но на деле оказывающимися больными, несчастными, разрушенными, суицидальными людьми. Власть искусства над жизнью осуществляется необыкновенно редко, на ничтожные мгновения. Художник Шилькгрубер был по-своему прав, определив европейскому авангарду место в клинике для умалишенных. Художник Ульянов эту желаемую тотальность, эту победу искусства над жизнью осуществил, сам, впрочем, оказавшись ее жертвой.
P.S. Близкий в 1920-е годы к сюрреалистам Фернандо Аррабаль сообщает апокрифическую историю, что именно Ленин невольно оказался основоположником дадаизма. Когда Тристан Тцара отплясывал в неглиже в кабаре «Вольтер», а возмущенная публика кричала: «No! по!», то Ленин, живший на той же улице и часто посещавший это заведение, в восторге кричал: «Да! Да!»[208]
А в 2002 году в Германии появилась книга чуткого к переменам интеллектуальной моды словенского «лаканомарксиста» Славоя Жижека «13 тезисов о Ленине» (ныне переведенная и у нас), где вождь мирового пролетариата полностью реабилитирован и представлен как крупнейший мыслитель и писатель художественно-политического авангарда XX столетия.
P.P.S. Хорошо понятен ужас и парализующее всепонимание тех русских, кто тоже хотел делать «новое искусство», но был выброшен в 20-е годы в пустыню, именуемую Парижем, в щель между двумя катастрофами, одной – сотворенной, другой – грядущей. «Наше положение похоже на полярную зимовку многочисленной экспедиции, в то время как дни проходят и бесконечная полярная ночь длится, – это бурлящий Париж 20-х-30-х годов в восприятии Бориса Поплавского. – Не родниться же с эскимосами, ибо, несмотря на Пруста и Селина, – чуждо, глубоко чуждо нам французское глубокомыслие, от пресыщения счастьем и свободой флиртующее с большевиками».
Можно закончить словами другого изгнанника, Чорана, румына, писавшего по-французски, жившего отшельником в центре Парижа на протяжении десятилетий: «Все эти безмятежные, объевшиеся счастьем народы – французы, англичане… Я совсем из другого мира, у меня за спиной – столетия непрерывных бед».
Травма рождения
Так называется старая книжка Отто Ранка, по всей видимости, самого радикального и безумного из учеников Фрейда. Младенец с плачем, криком, с болью и страданием из материнского лона выбрасывается в этот кошмарный мир. Все, что человек творит потом, – это желание вернуться в «райское лоно». Пещера, хижина, комната, дом, дворец, вся культура – это строительство убежища, попытка реконструировать материнскую утробу, вернуться в нее из угрожающей и враждебной реальности. У Марко Феррери в «Истории обыкновенного безумия» (по прозе Буковски) есть буквальная иллюстрация этой темы: пьяный герой, поэт, тычется головой в промежность проститутки, безуспешно пытаясь возвратиться назад… В сущности, большая часть искусства XX века замешана на этой глубочайшей травме. Опять-таки это похоже на гностицизм чистой воды: злой бог, Демиург создал чудовищный мир, в котором невозможно существовать, и предназначение человека – уход или восстание против этого мира. Есть только два выхода – мир должен быть разрушен, либо преображен: «Кто и за что выбросил меня сюда?! Это не мой мир, это либо ошибка, либо злой умысел. И у меня нет с ним ничего общего!» Отсюда универсальная неприязнь – иногда доходящая до ненависти – многих новейших творцов к семье, семейственности и деторождению. Мир невозможно продолжать по той простой причине, что этот мир не заслуживает продолжения. Есть специальные исследования (например, у Ольги Матич) об исключительной неприязни русских футуристов-будетлян, «баячей будущего» к семье и деторождению (А. Жолковский и Ю. Щеглов, совершая очередную демифологизацию Маяковского, изображают его не только как ненавистника семьи и брака – «даже счастливый брак, по Маяковскому, подозрителен и представляет собой мелкобуржуазную помеху идеальной любви будущего», – но и полного женоненавистника). Это и так понятно, без исследований – если мир ловушка, созданная Демиургом, то о каком продолжении может идти речь? Можно вспомнить и Хармса, не переносившего детей и беременных женщин. В той «борьбе с тяготением», которой был поглощен весь авангард, естественно, не было места ничему, что притягивает к земле.[209] На этом фоне семейственные персонажи, вроде Томаса Манна, Гессе, Хайдеггера или Набокова, выглядят буржуазным анахронизмом позапрошлого века.
«Всякий поэт в силу своей природы осуществляет возвращение в утраченный рай» (Бодлер). Но в данном случае это не возвращение в рай. Можно сказать, что это возвращение к до-бытию, к несуществованию. В авангарде в скрытом виде можно обнаружить многочисленные вариации на тему Софокла: «Лучше совсем не быть, чем быть в таком мире». Чоран, вслед за индусской философией, постоянно говорит об ужасе рождения: «У меня нет ненависти к жизни, нет желания смерти, все, чего бы я хотел – это не рождаться на свет.
И жизни, и смерти я предпочитаю нерожденность, Страсть к не-рожденности. Чем дольше я живу, тем сильней во мне эта страсть».
Чоран в «Записных книжках» повторяет эту мысль цитатами из Сесара Вальехо, Пессоа и Эндре Ади, и в конце концов проговаривается до конца: «Я бесконечно сочувствую всему несуществующему, потому что до боли, до безнадежности чувствую на себе проклятье, тяготеющее над любой жизнью как таковой».
Гибель богов. Скрябин, Вл. Соловьев и другие
Голоса приближаются: Скрябин. О, куда мне бежать От шагов моего божества! Борис ПастернакМоя возлюбленная есть сокращенное подобие Вселенной, а Вселенная есть расширенное подобие моей возлюбленной.
НовалисЧеловека более всего не устраивает то, что он просто человек: ограниченное, несчастное и смертное существо. В греческих мифах и в книге Бытия – его главное стремление быть больше себя самого, знать все, обладать миром и быть подобным Богу. Поэтому уже в греческой мысли неизбежно возникает идея промежуточного существа, посредника. Гений, по Платону, именно посредник и истолкователь между людьми и богами, существо не смертное, но и не абсолютно бессмертное, пребывающее «меж теми и другими, так что мироздание связано внутренней связью». Благодаря гению возможны пророчество, жречество, искусство и магия. Эрот, сын Пороса и Пении (бедности и богатства, недостаточности и избыточности), именно гений, а не Бог и не человек, связующий человеческое с божественным, земное с горним. Изначально в Эроте нет ничего собственно «эротического» (эта коннотация появляется значительно позднее), он соединяет низшее с высшим, давая человеку возможность совершить трансгрессию и выйти за положенные ему пределы. Но человеку недостаточно быть просто гением, он хочет большего – «будете как боги, знающие добро и зло»… Две с половиной тысячи лет спустя богоборец Ницше в полубезумии напишет: «Если бы боги существовали, как бы я мог представить себе, что я не бог? Следовательно, боги не существуют». Несколько позднее атеист Сартр в «Бытии и ничто» опишет эту ситуацию: первоначальное желание человека быть всем, не иметь ничего вне себя, быть богом и обладать миром. Но существует Другой, являющийся главным препятствием. Поэтому Другой – всегда катастрофа, и человек в конце концов терпит неудачу. Подобное можно обнаружить и в титанизме Ренессанса, и в романтизме, в тех или иных формах это присутствует у Фихте, Гегеля, Штирнера, Лермонтова, Ницше. О том же самом Герману Раушнингу часто говорил уже ставший диктатором художник Шилькгрубер – «творение еще не завершено… Человек становится богом, вот в чем смысл. Человек – это будущий бог», в этом сущность арийской революции.
В русской культуре достаточно «титанических» персонажей, но среди всех есть один, по сравнению с которым меркнут все его предшественники, включая Вагнера и Ницше. Это создатель божественной музыки Александр Николаевич Скрябин. Поразительно: Скрябин в здравом уме и рассудке по-настоящему ощущал себя новым мессией, спасителем человечества. За достаточно заурядной внешностью (таким, по крайней мере, его вспоминают мемуаристы[210]) – маленького, светловолосого, но неизменно изысканно одетого пианиста с клинообразной бородкой и лихо закрученными вверх усами, необыкновенно подвижного и весьма общительного – скрывался пророк, чьи музыкальные произведения должны были поставить последнюю точку в бессмысленно затянувшейся истории человеческого рода. Впрочем, Скрябин не делал из этого тайны, охотно посвящая в нее друзей и знакомых (с тех пор и до сего дня существуют скрябиниане – его последователи и посвященные). Собственно говоря, все сочинения Скрябина – от фортепьянных сонат, прелюдий и симфоний до «Прометея (Поэмы огня)» – были лишь прологом к грандиозному завершающему действу, именуемому «Мистерией». Описать «Мистерию» довольно трудно, ибо замысел в представлении самого Скрябина был довольно расплывчат (он отдаленно напоминает финал «Розы мира» Даниила Андреева, если переложить его на музыку и стихи), но в общих чертах конец всемирной истории должен был выглядеть примерно так. «Мистерия» как синтез музыки, поэзии, танца и цвета – это космическое действо, в котором принимают участие расы и народы всех континентов, имеющее место быть в специально отстроенном храме (отсылка к Вагнеру с важной поправкой – никакой театральности, ее Скрябин на дух не переносил) с колоколами, подвешенными к небесам, в Индии, у колыбели цивилизации. Оно должно было длиться семь дней, но как при сотворении мира семь дней равнялись миллионам лет, так и теперь космическое ускорение времени должно было наполнить эти дни эпохами. Согласно древним учениям, почерпнутым в основном из теософских книжек, весь мир должен был сначала низойти до стадии полного отвердения, жесткой кристаллизации, чтобы в итоге окончательно дематериализоваться, перейдя в чисто духовное завершающее состояние…
Плоть от плоти русского символизма, Скрябин в юности прошел через увлечение Ницше и сверхчеловеком, позднее тесно общался с Сергеем Трубецким, Бальмонтом, Балтрушайтисом, Вячеславом Ивановым, с которым рассуждал о «всеискусстве», но для его масштабов и этого было явно недостаточно. Его абсолютный солипсизм («Мир есть результат моей деятельности, моего творчества, моего хотения… Я есмь и ничего вне меня») требовал много большего; он почти всерьез находил символической дату своего рождения в Рождество 25 декабря 1871 года. Скрябин – космический революционер, и по сравнению с ним, скажем, его собеседник-оппонент в Италии в начале века революционер Плеханов выглядит ограниченным социал-реформистским буржуа. Все скрябинские сочинения, предшествующие «Мистерии», – это предчувствие и выражение грядущей вселенской катастрофы и преображения бытия, где политические революции и мировые войны лишь начальные стадии на этом пути. Он создатель сверхмузыки, сверхискусства и сверхметафизики одновременно (хотя в философии Скрябин был плохо осведомлен). Молодой Пастернак, завороженный Скрябиным, на исходе лет нисколько не изменил своего отношения, посвятив ему в мемуарном очерке восторженную главу: «Его рассуждения о сверхчеловеке были исконно русской тягой к чрезвычайности. Действительно, не только музыке надо быть сверхмузыкой, чтобы что-то значить, но и все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою» («Люди и положения»). Все это похоже на истину: Пастернак развивает здесь выстраданную идею многих русских космистов, в первую очередь Владимира Соловьева, любившего повторять, что человек, в отличие от других тварей, предназначен к преодолению своих ограниченных пределов, к нескончаемому росту и возвышению. Но, опять-таки, отличие Скрябина от своих отечественных предтеч заключается в том, что все они исходили из христианской метафизики, из идеи бого-человечества, а именно это композитора и пророка совершенно не устраивало. К софиологии и «христианскому космизму» Владимира Соловьева он был вполне равнодушен (за исключением поздних эсхатологических писаний философа), как и к христианству в целом, и даже неоднократные беседы с С. Трубецким, С. Булгаковым, Бердяевым и Вяч. Ивановым нисколько не поколебали его убеждений. Его замысел намного грандиозней, так что все остальные проекты меркнут по сравнению с ним.
Если для Бориса Пастернака Скрябин – выразитель исконно русского устремления к бесконечному и чрезвычайному, то для философа Алексея Лосева, тоже серьезно увлекавшегося его творчеством и в эпоху русской смуты (1919–1921) написавшего пространный очерк «Мировоззрение Скрябина» (опубликован лишь в 1990 г.), автор «Поэмы огня», напротив, высшее, логически неизбежное завершение всей новой европейской культуры с ее субъективизмом, солипсизмом и богоборчеством. Скрябин, в изображении Лосева, своего рода гениальное чудовище, отвергнувшее христианство и воскресившее старый языческий пантеизм. Бог, мир и «я» у Скрябина тождественны, из чего возникает следующий силлогизм: «Я – это мир, мир – это Бог, следовательно Бог – это я». «Даже без музыки Скрябина, читая только тексты его записей, – пишет Лосев, цитируя стихи и дневники композитора, – нельзя не содрогнуться перед смелостью и необычностью его выражения. Так никто никогда не говорил. Такие слова не выговаривали ни одни уста… Никто так громко не называл себя Богом…» И далее: «Слушая Скрябина, хочется броситься куда-то в бездну, хочется… сделать что-то небывалое, ужасное, хочется ломать и бить, убивать и самому быть растерзанным. Нет уже больше никаких норм и законов, забываются всякие правила и установки. Все тонет в эротическом безумии и восторге».
Да, музыка и мистика Скрябина густо настояны на острых и пряных образах времени – символистских безднах, «демонизме», «люциферианстве», жажде всесжигающего хаоса и утонченно-эротической чувственности. «Мистерия», в частности, это и завершающий акт космо-исторического оргазма, овладение пассивным, вечно женственным, астральное «всемирное радение», где все мистически соединяется со всем. «Ведь “Мистерия” – это акт эротический, акт любви», – говорил Скрябин Сабанееву, который реально ощущал в нем этот «страшный эротизм, предельно обостренный и предельно утонченный… вся его наружность свидетельствовала об этом, эти тонкие, истомленные черты лица… какая-то истома в движениях, опьяненный взор…».
Лосев во многом прав, но он слишком преувеличивает европейское влияние на Скрябина – от Фихте до Шопенгауэра – и не знает о том (большинство мемуаров, в том числе и Сабанеева, еще не вышли), что настольной книгой в последние годы у Скрябина было французское издание «Тайной доктрины» Блаватской. Весь его космический солипсизм держался не на европейской, а на индуистской мистике, где Атман есть Брахман, а мое глубинное «я» совпадает с божественным. Поэтому столь шокирующее европейца высказывание – «Я – это Бог, а Бог – это я» – произносится восточной мистикой без стыда и смущения; и Скрябин, устремленный совсем не в Европу, а в «Индию духа», почерпнув это в теософском пересказе, мог высказывать такую мысль с определенным основанием. В финале своего очерка молодой Лосев, начав за здравие, кончает за упокой: Скрябин – это исход романтизма, его закат и вырождение: «Можно сказать, что существенное отличие Скрябина от романтической философии и музыки – это анархия разврата, захватывающая в свою бездну всю гамму настроений от будуара до вселенской Мистерии. Скрябин, как никто другой, показал всю сладость и какую-то тайную правду разврата. В этом смраде мазохизма, садизма, всякого рода изнасилований, в эротическом хаосе, где Скрябин берет мир, как женщину, и укусы змеи дарят ему неизъяснимые наслаждения… Скрябин обнаружил чисто религиозную стихию, и он один из немногих гениев, которые дают возможность конкретно пережить язычество и его какую-то ничем не уничтожимую правду». Но в конце своего текста христианин Лосев по-инквизиторски сурово осуждает Скрябина – «за сатанистов не молятся. Их анафематствуют».
Что можно ответить Лосеву? Игра в демонизм и обвинения в «демонизме» и «сатанизме» – общее место для культуры серебряного века. Например, Розанов в «Литературных изгнанниках» обвинял Вл. Соловьева в невероятной скрытой гордыне, в «гностическом демонизме», полагая, что «может быть, было в нем “божественное”, как он претендовал, или, по моему определению, глубоко демоническое, именно преисподнее; но ничего или очень мало в нем было человеческого»; «Соловьев был странный, многоодаренный и страшный человек». (Самого Розанова обвиняли в еще больших прегрешениях.)
Кем же был Скрябин как человек, как реальная живая личность? Как художник, Скрябин, несомненно, тоже «гностик», языческий гностик новейшего времени, создатель проекта всеобщего спасения с помощью абсолютного искусства, освобождения от власти Демиурга, творца материи, отягощенной пассивностью, инертностью и злом…
С другой стороны, уж чего-чего, а именно «страшного», «демонически одержимого» в нем как в живом, реальном человеке не было совсем. «Милейший и добрейший», обладавший чувством юмора, Александр Николаевич был человеком необыкновенно деликатным, хрупким, нервным, доверчивым, как ребенок. Он хотел казаться демоническим, но, по свидетельству современников, у него это плохо получалось. Воспитанный бабушками и тетушками в обстановке всеобщего обожания, в тепличной атмосфере предзакатной дворянской культуры, позднее надежно защищенный от реальности заботами и хлопотами своей второй жены Татьяны Шлецер, он остался таким ребенком на всю жизнь, страшно изнеженным, избалованным, капризным. Разумеется, «ребенком» совершенно исключительным, игравшим в чрезвычайно рискованные игры.
Всю жизнь Скрябин был невероятно мнительным, панически боялся нечистоты, всяческой заразы и инфекции. Он ходил по улицам только в перчатках, не брал без них денег, с малознакомыми людьми держался изысканно-вежливо, боясь прикосновений и всегда соблюдая дистанцию.
Владимир Соловьев в последние годы жизни полушутя-полусерьезно воевал с бесами, и, как свидетельствует С. Маковский, безмерно злоупотреблял скипидаром – средством, по его мнению, «физически и духовно очистительным», т. к. терпентинные пары не только уничтожают бактерии, но и отгоняют бесов. Он щедро поливал им из флакона постель, платья, книги, а заодно и свою голову, даже пил скипидар, что, как считает Маковский, возможно и привело его к преждевременной смерти. Владимир Сергеевич Соловьев скончался в имении Петра и Сергея Трубецких «Узкое» в апокалиптических предчувствиях 31 июля 1900 года 47 лет от роду от полного истощения организма, цирроза почек и уремии.
Александр Николаевич Скрябин скончался в своей московской квартире в возрасте 43 лет от карбункула, внезапно вскочившего у него на губе и вызвавшего общее заражение крови, 14 (27) апреля 1915 года. Не только «Мистерия», но и пролог к ней – «Предварительное действие», писавшееся в последние годы, осталось неосуществленным и даже незаписанным. Через два дня он был похоронен на Новодевичьем кладбище, среди венков, возложенных на могилу, был и венок с такой надписью: «Прометею, приобщившему нас к небесному огню и нас ради в нем смерть приявшему».
P.S. Осип Мандельштам – апологет христианского эллинизма на русской почве – в докладе, прочитанном после смерти композитора в 1915 году, дал совершенно неожиданную и парадоксальную характеристику его творчества, поставив Скрябина рядом с Пушкиным и, вопреки Лосеву, увидел его огромную ценность для христианской культуры и русской культуры в частности: «Скрябин – следующая после Пушкина ступень русского эллинства, дальнейшее закономерное раскрытие эллинистической природы русского духа. Огромная ценность Скрябина для России и для христианства обусловлена тем, что он безумствующий эллин. Через него Эллада породнилась с русскими раскольниками, сжигавшими себя в гробах… Его хилиазм – чисто русская жажда спасения; античного в нем – то безумие, с которым он выразил эту жажду». В трагической гибели Скрябина Мандельштам увидел не случайность, а высший акт его творчества.
Большевики, в первую очередь с подачи Луначарского, превратили Скрябина в очередного пророка «мирового пожара», предвидевшего крушение старого мира и рождение нового; все мистические составляющие его взглядов были затушеваны, таковым его образ и остался в советской историографии.
Прошедший через лагеря и «перековку» Алексей Лосев сорок лет спустя (1962 г.) в статье под названием «Гибель буржуазной культуры и ее философии» уже не анафематствовал Скрябина с христианских позиций, а, став по необходимости марксистом, описал его именно как поэта «мирового огня», в котором «погибает весь старый мир и в героических подвигах рождается новое общество».
P.P.S. Однажды я слушал «Поэму огня» поздним августовским вечером в глухой псковской деревне. Пластинка поскрипывала на старом вэфовском проигрывателе, шипели колонки, приближалась гроза и титанические звуковые вихри «Прометея» звучали в унисон с надвигавшимися громовыми раскатами. С финальным аккордом возникла ослепительная вспышка и огненный зигзаг вонзился в землю рядом с домом. Небесный грохот был такой силы, что зазвенели стекла, свет погас, и все мгновенно погрузилось во тьму: когда боги разгневаны неслыханной человеческой дерзостью, наказание следует незамедлительно.
Поэзия как проклятье (Шарль Бодлер)
В возрожденной серии «ЖЗЛ» переведена книжка о Шарле Бодлере, написанная Анри Труайя (псевдоним Льва Тарасова – эмигранта из России, члена французской Академии, автора популярных и не слишком глубоких беллетризованных биографий.)
Перед нами по сути дела первое жизнеописание французского поэта на русском языке, что довольно странно, если учесть, что мало кто так повлиял на русскую поэзию начала XX века и вызвал бесчисленные подражания как в литературе, так и в жизни.
Едва ли не каждое стихотворение из «Цветов зла» переведено множество раз: текстам Бодлера многие искали русские эквиваленты – от народников и символистов до Цветаевой и современных «бодлероведов». Первый «проклятый поэт» насмерть поразил русскую литературу.
Очевидно, что создатель «Цветов зла» никак не мог быть ангелом, но под пером Труайя он предстает гениальным чудовищем, сочетавшим в себе все возможные и невозможные противоречия: католик и богохульник, денди и полунищий, сладострастник, бонвиван и женоненавистник, безумец и опиоман, стремившийся к героизму и святости, поэт, перемешавший возвышенное с низким, мизантроп, безгранично презиравший современников и современность и – одновременно выразивший ее, как никто другой: «Совсем ребенком я ощутил в себе два противоречивых чувства: ужас жизни и упоение жизнью», – и это главное в Бодлере.
Биография дотошно и довольно бесстрастно представляет основные вехи его жизни: раннюю потерю отца, повторную женитьбу матери, ненависть к отчиму, недосостоявшееся путешествие в Индию, литературную деятельность, безденежье в сочетании с дендизмом, осуждение «Цветов зла» парижским судом за безнравственность, недолгий успех, заранее обреченную попытку стать членом
Французской академии, неудачную поездку в Бельгию и тяжелую мучительную смерть. Самое любопытное в тексте биографии – его сложные отношения с матерью – самым близким человеком (вот простор для фрейдистов!), которая отвечала ему взаимной любовью. Среди десятков знакомых и поклонников близких друзей, собственно, у него и не было – именно Каролина Опик оставалась его последним спасением.
Бодлер всегда эпатировал современников: презирал французов, ненавидел бельгийцев, поносил любых буржуа, приходил в ужас от американизма, восхищался последними романтиками – от Альфреда де Виньи до Эжена Делакруа, – завидовал успехам Виктора Гюго, мечтал писать романы, которые принесли бы ему доход. Лентяй по природе, он достаточно много работал, переведя почти всего Эдгара По на французский язык. Его высказывания точны и абсолютно современны: «Цивилизация – это не газ и электричество, а стремление стереть следы первородного греха». Он писал изумительную короткую прозу, критические статьи, блестящие обозрения выставок, что давало передышку, но никак не спасало ситуацию в целом: нужда постоянно душила его. Но, как справедливо замечает Труайя, будь он богатым и живи в замке, по существу ничего бы не изменилось – он все равно бы страдал и жаловался на жизнь. Подобно Ницше в философии, который дал большинство интеллектуальных сюжетов XX столетия, «проклятый Бодлер» стал поэтом на все времена, став прообразом многих будущих поэтических судеб.
Ирония судьбы: Бодлер на исходе жизни зачем-то безуспешно пытался попасть в Академию, а Анри Труайя, написав несколько романов и беллетризованных биографий, в конце концов стал «бессмертным». Так что не пишите стихи. Пишите романы и жизнеописания, и будьте счастливы.
Жан-Поль Сартр или «Плохие мальчики»
Лучше всего об истоках экзистенциалистского движения написала его участница – Симона де Бовуар: друзья ее юности Поль Низан, Эрбе, Сартр «безжалостно развенчивали всякого рода идеализм, поднимали на смех “прекрасные души”, “благородные души”, все души вообще, а еще “состояние души”, “духовную жизнь”, “чудесное, таинственное, исключительное”. При любой возможности – в разговорах, шутках, своим поведением – они демонстрировали, что человек – это не дух, но тело, мучимое потребностями и брошенное в жестокую авантюру».[211]
В мемуарной серии «Мой XX век» вышла книга Жана Поля Сартра «Человек в осаде». В отличие от большинства философов XX века экзистенциалист № 1 обладал исключительным литературным дарованием, о чем свидетельствуют и его роман «Тошнота», и пьесы, и воспоминания о детстве «Слова» (1964) (помимо нее в книгу вошли фрагменты «Дневников странной войны» (1939–1940), несколько эссе и интервью). Именно за «Слова» ему была присуждена Нобелевская премия, от которой он горделиво отказался как от премии «буржуазной». Это единственный случай в мировой литературе, когда писатель без давления извне не принял столь престижную награду. Французы нередко называют XX столетие «веком Сартра» – по аналогии с тем, как XVIII век именуют «веком Вольтера». Похвала, впрочем, не слишком чрезмерная для тех, кто понимает, кем на самом деле был Вольтер.
Сартр страстно желал быть и стал кумиром левых интеллектуалов канувшего в бездну столетия. Он был философом, критиком, публицистом, политиком, но, прежде всего, – «абсолютным писателем» в традициях галльской словесности, где письмо является основанием культуры. В этом смысле он был настоящим «графоманом» – объем его наследия насчитывает несколько десятков томов. Но, в отличие от своих коллег, ему было мало быть просто писателем и потому он постоянно изменял литературе, выступая как публицист и общественный деятель, желающий влиять на судьбы мира. Именно в этом качестве он стал выразителем бесчисленных иллюзий и заблуждений западной интеллигенции. Последовательно он был «философом отчаяния», попутчиком коммунистов, «борцом за мир», либеральным марксистом и даже маоистом. И в публицистике странным образом исчезала определенная глубина его литературнофилософских текстов. Пожалуй, нет таких нелепостей, которые бы он не сказал о социализме, коммунизме, СССР и Китае. Дихотомия этих высказываний проста: есть «реакция» и есть «прогресс». «Реакция» – это христианство, буржуазия, империализм, традиция, и т. д. «Прогресс» – это марксизм, экзистенциализм, социализм (при всех недостатках), Хрущев, Кастро и Мао.
В 1939 году он написал резкую рецензию на роман Набокова «Отчаяние» как образец «реакционной» эмигрантской литературы. (Обиженный Набоков с тех пор назвал его не иначе как «французский журналист Сартр».) Это очень типично для Сартра и его окружения. Позднее они будут зачитываться какой-нибудь «Битвой в пути» или «Поднятой целиной», но «осколки» великой русской философии и литературы, которые доживали свои дни на соседних улицах Парижа, они не удостоили вниманием. Можно было восхищаться Фиделем, но не дай бог похвалить хоть за что-нибудь католицизм, и уж тем более Папу. Левый, но в сущности буржуазный бомонд прощал Сартру все прегрешения, при этом не прощал Эзра Паунду – Муссолини, а Борхесу – Пиночета.
С другой стороны, нельзя не признать, что Власть в разных странах прислушивалась и даже заискивала перед Сартром. Возможно, именно поэтому 10 апреля 1980 года в последний путь его провожал «весь Париж». Сегодня, когда фигур такого масштаба больше нет, подобное трудно представить. Власти в большинстве стран откровенно плюют и на интеллектуалов, и на общественное мнение.
Сартр писал беспрерывно, сутками, страдал бессонницей, принимал барбитураты и в конце жизни почти полностью ослеп. При этом он успевал заниматься политикой и всегда, разумеется, на стороне сил «прогресса». Но, как заметил один французский философ, его современник (Эмиль Чоран), – в XXI веке «прогресс» может зайти так далеко, что Гитлер и Сталин покажутся мальчиками из церковного хора. Будем надеяться, что он ошибался.
Любовная речь интеллектуала
В языке рабство и власть переплетены неразрывно. Если назвать свободой не только способность ускользать из-под любой власти, но также способность не подавлять кого бы то ни было, то это значит, что свобода возможна только вне языка. Беда в том, что за пределы языка нет выхода: это замкнутое пространство. Выбраться из него можно лишь ценой невозможного..
Ролан БартКак ни странно, философы и критики – могильщики литературы, долгие годы занимавшиеся то похоронами романа, то смертью автора, то умиранием искусства, – время от времени сами одержимы наивно-честолюбивым желанием сочинить что-то непосредственно о жизни – повесть или роман. Ролан Барт, похоронивший Автора еще в 1968 году, не был исключением. В 1970-е годы он, тем не менее, раздумывал над созданием прозаического произведения. Роман он так и не написал, но в 1977 году в Париже появилась книга с интригующим названием «Фрагменты любовной речи» (Fragments d’un discours amourex), ставшее наиболее читаемым произведением известного семиолога и выдержавшее в течение одного года тираж в 80 000 экземпляров.
Что же такое «Фрагменты любовной речи», изящно изданные на русском языке под названием «Фрагменты речи влюбленного» во вполне читабельном переводе Виктора Лапицкого и под неусыпным редакторским оком Сергея Зенкина? Это не совсем проза, не исповедь, не семиотика или аналитика литературы, но и то, и другое, и третье вместе. Текст написан от первого лица: ветеран и классик французского структурализма медитирует по поводу собственного любовного опыта, вкупе с размышлениями над некоторыми текстами мировой литературы. Это, прежде всего, гетевский «Вертер», затем Фрейд, Пруст, Стендаль, Платон, Ницше, Дени де Ружмон («Любовь и Запад»), Киркегор, Флобер и т. д., причем философские и аналитические тексты превалируют над любовной прозой. Уже оглавление фрагментов интригует, кажется, что разговор пойдет о чем-то очень существенном: «Я безумен», «Изгнание из воображаемого», «Истина», «Нежность», «Непознаваемый», «Непристойность любви», «Похвала слезам»… Продравшись с большим трудом через бесконечное предисловие С. Зенкина (оно занимает почти четверть всей книги) и короткое вступление самого Барта, читатель пускается в увлекательное путешествие: «Итак, слово берет влюбленный». Бартовский влюбленный несчастен, это опыт мучительной неразделенной любви, поэтому столь часты отсылки к «Вертеру». Траектория его речи начинается с самоуничижения, с чувства вины, растерянности, ощущения собственной аномальности, неуместности, доходящего до безумия состояния человека, лишенного кожи, плененного и порабощенного. Наконец, следует период недолгого счастья, тут же срывающийся в кризис любви и обвал: персонаж близок к самоубийству…
В книге как будто постоянно речь идет о любви, но ощущение какой-то вязкой двусмысленности по мере чтения усиливается. Дело в том, что объект влюбленности во «Фрагментах» не только не имеет пола («Я считаю, что у мужчины, который любит женщину, у женщины, которая любит мужчину, у мужчины, который любит мужчину и у женщины, которая любит женщину, тональность чувства оказывается одинаковой» – говорил Барт в одном из интервью), он анонимен, абсолютно безличен, его индивидуальность несущественна. В каком-то смысле его попросту нет, а есть только бесконечная рефлексия влюбленного субъекта, хотя и несчастного, но вполне самодостаточного не только в своем чувстве, сколько в томительном рефлексирующем ожидании. Именно в этом, по Барту, и состоит фатальная сущность влюбленного: «Я тот, кто ждет». Это и есть любовная речь интеллектуала: рефлексия о рефлексии над влюбленностью значит больше, чем сама любовь, которая в итоге становится проблемой письма, а Эрос – сюжетом семиологии. Иногда кажется, что возлюбленный Барта – это не личность, а все тот же Текст, и «Фрагменты» лишь эпизод в любовном романе Ролана Барта с гипертекстом мировой литературы. И здесь возникает главная проблема влюбленного интеллектуала – желание любить и невозможность любить одновременно. Он никогда не может быть уверен до конца, что он любит или что он любим: бесконечность сомнения и вопрошания порождает зыбкое пространство неопределенности, в котором и увязает герой Барта. Это мучительное состояние в книге передано превосходно: кружение, блуждание, двусмысленность, неразличимость… Но это длится так долго, что в конце концов мы устаем. Текст начинает раздражать своей чрезмерной многозначительностью: слишком изощренные средства при отсутствии какого-либо результата, о котором сам Барт, впрочем, никогда и не помышлял. Его стратегии – ускользание, вопрошание, аллюзии, недоговоренности, никакой власти, прорыва, завершения. Как и полагается левому интеллектуалу, всю свою жизнь Барт занимался подрывом Власти, обнаруживая ее прежде всего в речи и письме. «Кое-кто ожидает от нас, интеллектуалов, чтобы мы по любому поводу восставали против Власти; однако не на этом поле мы ведем нашу подлинную битву; мы ведем ее против всех разновидностей Власти», – говорил Барт в одном из своих текстов. И следует добавить, против той, которая скрыта в Эросе. Поэтому его влюбленность – это любовь без обладания. Всякое обладание ложно, влюбленный еще не обладает, а обладающий уже не любит. Несчастный бартовский влюбленный не обладает ничем, даже своими переживаниями, его речь – это бесконечный поток рефлексии, повисающий в пустоте. Из языка, даже из языка влюбленного, в самом деле нет никакого выхода. Бартовский «Вертер» переживает, страдает, наслаждается своими переживаниями, двигаясь кругами и превращая их в письмо. Видимо, в жизни Ролан Барт был очень ранимым человеком, его влюбленному интеллектуалу явно не хватает искренности, непосредственности, откровенности, он слишком умен, искушен и осторожен. Но возможна ли в этой ситуации для интеллектуала искренность вообще, если всякий порыв будет тот час же поставлен под сомнение и скорей всего уничтожен безжалостным механизмом рефлексии, работающим без остановки?.. Прорыв к Другому оказывается невозможен, поэтому в книге он полностью отсутствует, есть лишь авторское «я», занимающееся подрывом власти во всех ее формах. Но и гиперанархизм Барта становится самопародией: подрыв власти, таящейся в языке, в Эросе, в человеческих отношениях, не более чем знаковая игра. Она происходит во имя себя самой и ничто иное ее не интересует. В результате получается еще один опыт изысканной интеллектуальной мастурбации, которые постоянно порождает современная, и, прежде всего, французская философия, эталоном которой является «S\Z» самого же Барта, где каждая фраза новеллы Бальзака «Сарразин» подробно комментируется автором.
Ролан Барт не написал романа: об этом можно только пожалеть. Но после «Фрагментов» становится понятно, почему он его не написал. Автор – это Демиург, он должен обладать безграничной властью, такой Автор для Барта умер навсегда.
Симона де Бовуар, феминизм и миф о матриархате
Этот текст родился на пересечении двух фундаментальных книг: новейшей пятитомной «Истории женщин на Западе» (на русском вышло пока первые три тома, «Алетейя», СПб), выполненной коллективом из 75 авторов, по преимуществу феминисток, посвященный античности, христианству и новому времени. И «библией» феминизма – книгой «Второй пол» Симоны де Бовуар (1949 г.), написанной по совету и под влиянием Жана-Поля Сартра, имевшей ошеломляющий успех, разошедшейся на основных европейских и восточных языках общим тиражом в несколько миллионов экземпляров. Это позволяет сравнить классический интеллектуальный феминизм с современным.
Начнем с новейшего феминистического труда. Естественный вопрос: почему «История женщин»? Тогда ведь должна быть и «История мужчин». Но дело в том, что все известные нам «Истории…», начиная с Фукидида и Геродота, пишут мировую историю как историю мужского сообщества. Подобно тиранам и диктаторам, сочиняющим историю под себя, репрессивная мужская цивилизация творит собственный миф о прошлом, где женщинам отведена ничтожная роль. «Что мы знаем о женщинах? Незначительные следы, которые они оставили, им не принадлежали, – пишут редакторы издания, известные французские историки Ж. Дюби и М. Перро. – Их описывали мужчины… Менее всего им было разрешено говорить о себе». Иными словами, перед нами не просто очередное историческое исследование, а радикальный пересмотр «мужской истории» рода человеческого.
Итак, античность: мы узнаем о женщинах из мужских текстов, ибо собственно женских сохранилось очень мало. «Греки говорили о женщинах ужасные вещи. Великие философские системы и почитаемые науки создавали лживое и презрительное представление о женственном», – это высказывание в начале первого тома Джулии
Сисса красной нитью проходит через всю книгу.[212] Это существа пассивные, невежественные, слабые рассудком, непостоянные, непредсказуемые, источники хаоса, суеверий и страха и т. д. При этом, если слабый пол вдруг «проявляет активность, берет на себя инициативу – то сразу же становится предметом обвинений в обольщении, ведовстве, злокозненности, агрессии», иными словами, женщины изначально становятся «козлами отпущения». В греческой религии женщины-жрицы получали равноправие, но, опять-таки, их всегда выбирали мужчины. В Риме жрицы получали еще более высокий статус, но наряду с иностранцами и преступниками им было запрещено участвовать в таком важном ритуале, как жертвоприношение. И так на протяжении 600 страниц, о каких бы аспектах жизни не шла речь. Словом, не «история женщин», а сплошной кошмар, просто стыдно становится за мужиков. Едва ли не краснеешь, читая уничижительные пассажи о прекрасном поле Гесиода, Пифагора («есть начало доброе, сотворившее порядок, свет и мужчину, и злое начало, сотворившее хаос, мрак и женщину»), Платона, Аристотеля и примкнувшего к ним Плутарха. Писали, что хотели – и не было на них ни Клары Цеткин, ни Розы Люксембург… Были ли у женщин достоинства? Да, но согласно грекам и римлянам, все они производные от мужских. А красота? А античные статуи? А божественные скульптуры?.. Мы привыкли думать, что античность воспевала женскую красоту, о чем свидетельствуют все крупнейшие музеи мира. Но все это ложь и обман, как убедительно показывают профессора-феминистки из известных европейских университетов. Какой бы прекрасной не изображал женщину художник, она всегда была лишь «объектом для удовлетворения мужских удовольствий».
Но самое интересное в книге – развенчание мифа о матриархате (чему посвящена целая глава), который был сочинен в XIX веке антропологами Баховеном и Морганом, подхвачен наивным Энгельсом и с радостью принят первыми суфражистками. Вывод современного интеллектуального феминизма резок и категоричен: на самом же деле «в обществах, поддающихся историческому исследованию, мы не находим даже слабых следов матриархата».[213] В подтексте чувствуется даже определенная обида – подавляя и истязая прекрасный пол на протяжении столетий, эти коварные фаллократы в качестве подачки придумали «миф о матриархате», которого в действительности никогда не существовало.
Казалось бы, христианство должно было радикально изменить ситуацию. Ведь именно женщины остались со Спасителем, а апостолы – один из которых стал предателем, другой трижды отрекся – странным образом исчезли. Среди первых христиан преобладали женщины. Отсюда появились «диакониссы», женщины-священники, сыгравшие огромную роль в раннехристианской истории. Но Церковь и светская власть (разумеется, мужские) сделали свое дело. В восточной Церкви диакониссы исчезли к XII веку, а в западной – намного раньше. Наступившее Средневековье не сулило ничего хорошего. Второй том имеет красноречивый подзаголовок – «Молчание средних веков». Надо ли говорить о том, что у христианских писателей и богословов можно найти еще более радикальные и уничижительные суждения о слабом поле…
Если сравнить новейший пятитомник с 2-х томным «Вторым полом» Симоны де Бовуар, то последний никак не покажется устаревшим. Разумеется, «История женщин», созданная 75 авторами, охватывает неизмеримо больший материал, но вместе с тем дробит общую картину на множество крайне любопытных, но не достаточно отрефлексированных частностей. Это типичные «гендерные исследования», ставшие столь популярными в 1970-2000-е годы. Тогда как «Второй пол» – по-настоящему философская книга, что выгодно отличает ее от многочисленных чисто эмпирических исследований нашего времени. И по охвату материала, эрудиции и тщательности анализа (исключение составляют лишь очевидные глупости, посвященные «освобождению женщины» в сталинской России, что простительно для левой интеллектуалки) немногие современные работы могут быть сравнимы с исследованием французской экзистенциалистки. Именно благодаря этой книге «второй пол» получил мощное идеологическое оружие в борьбе против репрессивной мужской цивилизации. Большинство феминисток идут по ее стопам, однако явно уступая в глубине анализа. Самое существенное де Бовуар высказала первой, все остальное лишь добавления и вариации на ту же тему. Да, мир всегда принадлежал и, увы, по-прежнему принадлежит мужчинам, создавшим многочисленные мифы о женщине. Первый том как раз и посвящен страстному развенчанию многочисленных мужских представлений о женщине – от древности до наших дней – как о «сосуде дьявола», «самке», «вампире», «пожирательнице», «ревнивой собственнице», «неполноценном существе», легкомысленной ветренице, неспособной к самостоятельному творчеству. Развенчание мифов сопровождается описанием жестоких и изощренных форм порабощения и угнетения, которым самовлюбленные самцы (а на самом деле ущербные и закомплексованные особи) подвергали слабый пол на протяжении тысячелетий. Текст изобилует портретами злостных фаллократов – от Пифагора до Серена Киркегора, от Фридриха Ницше до Дэвида Герберта Лоуренса (правда, почему-то отсутствуют такие «титаны» мизогинии как Шарль Бодлер, Лев Толстой и Отто Вейнингер). Одним из редких в мировой культуре «друзей» женского пола оказывается, как ни странно, неисправимый романтик, а потому и «феминист» Стендаль.
Однако самые прихотливые приключения смысла начинаются во втором томе («Жизнь женщины») с его исходным тезисом: «Женщиной не рождаются, ею становятся», противостоящем аксиоме Зигмунда Фрейда: «Анатомия – это судьба». Книга пронизана пафосом освобождения, столь характерным для послевоенного поколения левых западных интеллектуалов и экзистенциализма в частности. Согласно экзистенциализму, существование предшествует сущности, человек свободен, он сам творит свою судьбу, точно так же может сотворить ее и женщина. Идеальный проект феминизма реален при выполнении двух условий: наличие независимой женщины, способной стать «полноправным членом общества» и подлинной любви двух свободных существ, где ни один из полов не порабощает другой (именно такой союз с переменным успехом и пытались осуществить Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр). Если первое вполне возможно, то странным образом именно любовь становится для женщины главным источником ее травматической зависимости. Для мужчины любовь – одно из проявлений жизни, «для женщины она – вся жизнь». В любви женщина отрекается от себя, для мужчины она становится лишь одной из форм самореализации. «Абсолютная влюбленная», отдавая себя целиком, требует ответного дара, которого, за редкими исключениями, увы, не получает.
Поборница эмансипации, Бовуар, тем не менее, не жалеет красок для изображения биоантропологической драмы изначальной женской несвободы (глава «Влюбленная женщина»), и логика исследования ставит под сомнение и исходный тезис автора, и философию экзистенциализма. «Именно в этом состоит проклятие, тяготеющее над влюбленной женщиной, – ее любовь неизбежно превращается в требование равноценного дара. Отрекаясь от себя ради другого, она стремится в то же время добиться своего. Ей необходимо завладеть человеком, которому она отдает все свое существо. Она может жить лишь им и жить полной жизнью, для этого мужчина неизбежно должен посвятить всего себя ей»[214]. Превращаясь в любви в зависимое и подчиненное существо, влюбленная женщина находит множество способов, в свою очередь, поработить мужчину. В этом и состоит один из обманов любви, который с такой обидой разоблачают писатели-фаллократы, скажем, Стриндберг, Лоуренс или Монтерлан: любовь принимает форму дара, будучи на самом деле тиранией.
Бовуар, в отличие от своих академических последовательниц, постоянно обращается к опыту мировой литературы – художественные образы действуют намного сильнее, чем социологические или статистические данные. Она цитирует маргинальные и малоизвестные тексты, которые действуют не менее сильно, чем классические. Она приводит фрагменты из романов, дневников, частных писем тех, кого она называет «мученицами любви», женщин разных эпох и столетий – их жалобы, гнев, ненависть, плач и стон, свидетельства безмерной любви, жертвенности, самоуничижения и самоотречения одновременно – от любовницы Виктора Гюго Жюльетты Друэ до Колетт, Кэтрин Мэнсфильд или своей подруги Виолетты Ледук… Лучше всего эту полифонию чувств выразить словами самой Бовуар:
«В “Адольфе” Бенжамен Констан едко описал путы, которыми оплетает мужчину слишком возвышенная женская страсть. “Она не скупилась на жертвы, потому что единственной заботой было заставить меня принимать их”, – говорит он об Элеоноре. Действительно, жертвы, которые принимает любовник, превращаются в опутывающие его обязательства, при этом он лишен преимущества выглядеть человеком, который что-то дает сам. Женщина требует, чтобы он с благодарностью нес крест, который она на него возлагает. И ее тирания ненасытна. Влюбленный мужчина властен, но, если он получил то, что желал, он дает женщине определенную свободу и чувствует себя удовлетворенным. Что же касается взыскательной женской преданности, то она не знает границ…»[215]
Парадоксальным образом феминистический пафос книги перечеркивается размышлениями о «влюбленной женщине» и заключительным пассажем этой главы: «Любовь в самом патетическом виде представляет собой проклятие, тяготеющее над женщиной, запертой в женском мире, не способной обходится без посторонней помощи.
Бесчисленные мученицы любви свидетельствуют против несправедливости судьбы, предлагающей им в качестве единственного спасения бесплодный ад».[216]
Это написано более 60-ти лет назад о жизни и отношениях предыдущих веков. Что изменилось сегодня? На первый взгляд – все. Многие говорят о наступлении эпохи нового матриархата. Радикальный феминизм, как бы над ним не иронизировали, достиг того, о чем женщины минувших дней даже и не мечтали. Помимо прочего, феминизм привел к столкновению, борьбе, «вражде полов» и их отдалению друг от друга, о чем свидетельствует не только значительная часть литературы XX века, но и очевидный рост гомоэротизма. Но изменилась ли «влюбленная женщина» так же фундаментально, как переменилась ее социальная, психологическая и даже политическая роль в обществе? В какой степени изменилась биоантропологическая природа человека? Социальные перемены лежат на поверхности. Но насколько они затронули глубинные онтологические сущности, не меняющиеся веками? У меня нет ответа на этот вопрос.
Бедняк, богач (Леон Блуа)
Что может быть очевиднее? Сначала Моисей осудил свой народ за поклонение Золотому Тельцу. Затем христианство учинило исторический скандал, закрыв богатым вход в Царство Небесное. Многие максимы Нового Завета можно толковать по-разному, но то, что верблюду легче пройти в угольное ушко, чем богатому в Рай, истолковать иначе никак нельзя. Но, увы, за три тысячи лет мало что изменилось. Христианство изначально проповедовало бедность, тысячи общин, монашеских и рыцарских орденов принимали обет нестяжания. Но люди есть люди, и несмотря на проповеди, исторические перемены и катастрофы искушению богатством немногие могли противостоять. Церковь, как западная, так и восточная, неизбежно должна была пойти на компромиссы и признать то, что существовало испокон веков. Западные, восточные, русские монахи и святые отрицали это своей жизнью вновь и вновь, но все возвращалось на круги своя. Даже «мрачное средневековье» не смогло радикально изменить ситуацию, а говорить об этом в новейшие времена стало как-то совсем бессмысленно. «К чему бесплодно спорить с веком, обычай – деспот меж людей».
И, тем не менее, в богатейшей и самой буржуазной стране мира – прекрасной Франции – нашелся человек, сделавший проповедь бедности – ив метафизическом, и в буквальном смысле – делом своей жизни. Его звали Леон Блуа. Многие французы почитают его великим мыслителем и писателем, но на протяжении почти столетия после его смерти (он умер в 1917 году) на русский не было переведено ни одной его строчки. И вот впервые его сочинения в достаточно представительном объеме появились у нас (издательство «Русский путь»). В книгу вошли программные вещи – памфлет «Кровь бедняка», избранные отрывки из «Толкования общих мест» и предсмертный очерк «Душа Наполеона». Текстам предпослано короткое вступление Никиты Струве, за которым следует пространная работа Николая Бердяева, впервые заметившего Блуа еще в начале XX века и написавшего о нем необыкновенно проникновенный текст под названием «Рыцарь нищеты» (1914 год).
Самое лучшее в однотомнике – это необыкновенно язвительный, саркастический комментарий Блуа под названием «Толкования общих мест»: «себя не переделаешь», «бедность – не порок», «витать в облаках», «убивать время», «крайности сходятся» и т. д. Вообще говоря, писатель он был удивительный, странный, непонятный и глубоко несчастный: большинство его текстов есть ядовитое поношение того, что когда-то именовалось ценностями буржуа, а сегодня тем, чем собственно и жива уже не только Франция, но и вся современная цивилизация. В Блуа сочетается несочетаемое. В истовом католике есть что-то и от библейского пророка, бичующего свой народ, и подпольного человека Достоевского, и одновременно нищего аристократа, презирающего убожество современной жизни. Что, кроме силы и власти, можно противопоставить богатству в этом мире? Богатыми пытаются быть все, даже церковь, если она не будет богатой и сверкать золотом, кто ее будет уважать?
Мы живем в такие времена, когда «монетаризм» поглощает собой все: и политику, и власть, и культуру. А противопоставить бедность, евангельскую духовную нищету богатству, то же самое, что туземцев с их луками и стрелами – танкам и самолетам. Голос Блуа, раздавшийся из самой буржуазной страны на свете, это еще один глас вопиющего в пустыне. Интересно бы знать, кто его услышит и поймет в сегодняшей России.
Метафизическое путешествие Рене Домаля
Я хочу быть поэтом – и насилую себя ради того, чтобы превратиться в ясновидца… Цель одна – достичь неведомого путем расстройства всех своих чувств.
Артюр РембоИспокон веков люди создавали тексты, которые сами по себе никогда не были самоцелью. Они писались либо для того, чтобы свидетельствовать о каких-нибудь событиях, либо чтобы просвещать и научать, либо, наконец, чтобы выразить некий духовный или метафизический опыт вне дидактических побуждений. Поэты средневековья и Возрождения стремились в текстах передать свои мистические переживания, а добрая половина мистиков – от Симеона Нового Богослова до Ангелуса Силезиуса – были поэтами; во многом схожие причины порождения текстов можно обнаружить у романтиков – от Блейка до Новалиса. То, что текст становится ценностью сам по себе, а его значимость определяется исключительно искусством его создания, а поэтом именуется человек, впадающий в подобие наркотической зависимости от слова как такового – изобретение не столько Нового, сколько Новейшего времени.
Русский символизм, будучи одной из последних коллективных попыток «теургии» и одновременно сопротивления этой повальной эпидемии со времен «парнасцев», Флобера или Уайльда и вплоть до Набокова, захватившей весь подлунный мир, – был попыткой слияния жизни, литературы и мистического опыта воедино, оказавшейся полной неудачей. А история символизма, если верить Ходасевичу, превратилась в историю разбитых жизней. Поэтому во второй половине нашего века, в эпоху «победившего акмеизма», не только поэт-визионер, как Даниил Андреев, но и поэт-метафизик, как Рене Домаль, для которого текст был, прежде всего, ступенькой к трансцендентному, кажутся недоразумением или анахронизмом.
Впрочем, если быть точным, преодолеть и разрушить искусство в двадцатом веке пытались почти все. Р. Домаль – наследник и почитатель «проклятых поэтов» девятнадцатого века, в первую очередь главных «разрушителей литературы» Лотреамона и Рембо, – был младшим современником Батая, Бланшо, Бретона и сюрреалистов, поднимавшихся на штурм художественных твердынь с неменьшей неистовостью: он был им в чем-то очень близок, но вместе с тем бесконечно далек. Близок – в опыте запредельного, в переступании границ сознания, в разрушении традиционных форм, в стремлении к абсолютной трансгрессии любым путем: через гашиш, опиум, кокаин, алкоголь или пары эфира, через увлечение альпинизмом, через самоистязание и боль. Но если опыт его современников – от Батая до Жене – был всегда сознательно постулируемым опытом чистой негативности, бунта без цели и тотального самоутверждения, то история Домаля – это, скорее, история духовного прорыва, оборвавшегося, однако, на полпути. Если наставниками того же Батая были Ницше, Гегель (интерпретируемый как создатель негативной диалектики), Л. Шестов или А. Кожев, то для Домаля и его друзей ими стали Рене Генон, а затем и Гурджиев.
В уравновешенном и здравомыслящем девятнадцатом веке поэтам в поисках нечеловеческого и запредельного, подобно де Квинси и Бодлеру, приходилось действовать на свой страх и риск, блуждая в сумрачных наркотических лабиринтах «искусственного рая». В XX же столетии Учителя, способные указать Путь, появились в изобилии: художники, как существа хрупкие и непостоянные, часто слабые и женственные, с неизбежностью попадались в расставленные сети. Если влияние Генона и традиционализма на Домаля было достаточно плодотворным, то его увлечение Гурджиевым, продолжавшееся до конца жизни, трудно оценить однозначно, как и самого Гурджиева. С одной стороны, это несомненный «Калиостро XX века», гуру, маг и духовный провокатор. Но с другой – если, как принято сейчас, оценивать личность по способности к «переоценке ценностей», – то по сравнению с этим выпускником тифлисской семинарии Ницше кажется провинциальным иконоборцем. В известной книге Луи Повеля «Мсье Гурджиев» утверждается, что повесть Домаля «Гора Аналог» выдержана целиком в духе гурджиевского учения. Это явное преувеличение, влияние Генона нисколько не меньше: следы автора «Кризиса современного мира» и скрытые цитаты встречаются на каждом шагу этого метафизического путешествия к «центру мира»: «Цивилизации в своем естественном движении к вырождению продвигаются с Востока на Запад. Чтобы вернуться к истокам, надо идти в обратном направлении». Но так или иначе занятия Домаля в одном из филиалов «Института гармонического развития человека» в Шато де Приерэ в Фонтенбло были длительными и серьезными, и в «Горе Аналог» влияние тифлисского мага тоже чувствуется достаточно отчетливо. Человек, по Гурджиеву, – автомат, рождающийся в полусне, в полусне живущий и в полусне умирающий, создатель ущербной цивилизации и сомнительной культуры (Гурджиев вообще не принимал ее всерьез) и есть та особь, которая подлежит безжалостному разрушению. Отсюда и главная тема повести Домаля – внутреннее пробуждение от летаргического сна повседневности через метафизическое путешествие и инициацию.
С чем можно сравнить «Гору Аналог»? Это совсем не очередное «Паломничество в страну Востока». Скорее, чисто внешне она действительно похожа на философские сказки XVIII века, как отмечает автор удачного предисловия Ю. Стефанов, а неискушенный читатель может принять ее за обычный авантюрный роман. Отчасти «Гора Аналог» напоминает романы-метафоры типа «Замка» Кафки или «Пустыни Тартари» Дино Буцатти при том различии, что, скажем, если Кафка описывает блуждания землемера К. как историю безнадежного тупика, как дурную бесконечность ошибок, то у Рене Домаля мы прочитываем историю духовного обретения.
Существует масса романов и повестей с эзотерической проблематикой, которые захлопываешь после нескольких страниц, ибо к искусству они не имеют отношения. Странствия восьми путешественников на яхте «Невозможная» к неведомому материку – горе Аналог – являет достаточно редкое равновесие художественных образов и эзотерического опыта, когда внутреннее получает адекватное выражение через внешнее. Книга написана очень легко, даже на удивление легко, что свидетельствует о внутренней свободе автора, судьба которого, однако, не стала судьбой метафизического обретения. Скончавшийся в Париже в мае 1944 года в возрасте 36 лет от туберкулеза Домаль остался трагическим персонажем, повторив судьбу своих духовных двойников прошлого и настоящего, а роман остался недописанным – с рисунками автора он был издан посмертно. Но в одном из предсмертных писем к Вере Домаль из-под его пера вырвался текст, который хочется привести целиком. Из него, в частности, следует, что пройдя через различные этапы авангардистского или мистического «разрушения искусства», Домаль в конце пришел к совершенно иному результату, чем подавляющее большинство его современников:
«Таким образом я подытоживаю для себя то, что мне хочется передать работающим здесь вместе со мной:
Я мертв, потому что у меня нет устремлений;
У меня нет устремлений, потому что я думаю, что обладаю;
Я думаю, что обладаю, потому что не пытаюсь дать.
Пытаясь дать, понимаешь, что у тебя ничего нет;
Поняв, что у тебя ничего нет, пытаешься отдать себя;
Пытаясь отдать себя, понимаешь, что ты ничто;
Поняв, что ты ничто, ты стремишься стать;
Стремясь стать, ты начинаешь жить».
Легенды Монпарнаса (Борис Поплавский)
Осенью 1935 года об этом написали многие парижские газеты – как французские, так и русские, эмигрантские: у себя дома, во сне, от передозировки героина умер тридцатидвухлетний поэт Борис Поплавский. Смерть ненадолго всколыхнула русскую диаспору, видевшую на своем веку столько, что, казалось, ее трудно было чем-либо потрясти. Но в те давние времена такое было еще внове. Все подозревали самоубийство, но большинство друзей позднее подтвердило, что это было не самоубийство, а случайная гибель, впрочем, ставшая символической. Много лет спустя Нина Берберова в своем «Курсиве…» напишет об этом – «именно гибель, а не смерть и, вероятно, не самоубийство сделала его на один день знаменитым». Но Берберова оказалась не совсем права. Как раз трагическая гибель поэта навсегда сделала его легендой русского Монпарнаса – в чем-то похожего, а в чем-то нет на Монпарнас французский, о котором написаны десятки книг. В отличие от него о русском Монпарнасе долгое время существовали лишь главки в мемуарах, обрывки воспоминаний. Кафе были те же самые – «Селект», «Наполи», потом «Ротонда» и «Куполь», но русская богема почти не пересекалась с французской. Сюрреалисты во главе с Бретоном шумели где-то рядом, мечтая о «перманентной революции», русские же, прошедшие через 1917 год и гражданскую войну, были лишены каких-либо иллюзий на этот счет. Так что, несмотря на общность некоторых эстетических установок, взаимопонимание было невозможно. Для русской богемы Париж был пустыней, она грезила предреволюционным Петербургом. «Наше положение похоже на полярную зимовку многочисленной экспедиции, в то время как дни проходят и бесконечная полярная ночь длится, – писал Поплавский. – Не родниться же с эскимосами, ибо, несмотря на Пруста и Селина, – глубоко чуждо нам французское глубокомыслие, от пресыщения счастьем и свободой флиртующее с Советами».
«Русский Рембо» Поплавский при жизни напечатал лишь один сборник стихов «Флаги». Посмертно вышли еще два – «Снежный час» и «Венок из воска», а также фрагменты «Из дневников (1928–1935)», которые философ Николай Бердяев, редко писавший о современной литературе, почтил взволнованным и проникновенным текстом.
Потом была война, оккупация Парижа немцами, «незамеченное поколение» русского Монпарнаса разметало по свету, старики – от Мережковского до Бунина – умерли, и «золотой век» русской эмиграции в Париже канул в Лету. Естественно, что о Поплавском забыли.
Сначала его «воскресили» слависты во французских и американских университетах. В 1980-81 гг. трехтомник его стихов вышел в Беркли под редакцией Семена Карлинского. Но самое удивительное, что два его замечательных романа «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес» пролежали под спудом более 50 лет и были впервые изданы в Питере лишь в 1993 году. В 1990-е годы в России было множество публикаций текстов поэта, и, наконец, появилась первая книга о нем французского слависта Елены Менегальдо «Поэтическая вселенная Бориса Поплавского» (Алетейя, СПб). В работе тщательно анализируется мироощущение Поплавского, основные архетипы его творчества: «небо», «море», «земля», «пустота», «одиночество», «смерть», мистический опыт, поиски Бога. Когда-то, в 1969 году, один советский критик процитировал стихи Поплавского как пример разложения эмигрантской поэзии. В 2000 году в Москве вышло трехтомное собрание сочинений поэта. Наверное, Поплавский был бы счастлив.
Обособленный человек (Юлиус Эвола)
Один из главных парадоксов новейшей истории заключается в том, что победы в ней одерживали, условно говоря, «прогрессисты» и «либералы». Но грядущие за этим разочарования и катастрофы предвидели и предсказывали проигравшие – «реакционеры» и «консерваторы». В советские времена либералов ругали, к левым относились более благосклонно – так или иначе, информация о тех и других просачивалась через «железный занавес», тогда как об их правых оппонентах не было известно практически ничего. Барон Юлиус Эвола (1898–1974) – итальянский аристократ, «пламенный реакционер», философ, поэт, художник был одним из ярчайших представителей тех, кого ныне именуют консервативными революционерами, таких несхожих людей как Рене Генон, Эрнст Юнгер, Эзра Паунд, для которых современная цивилизация являлась не вершиной прогресса, а, напротив, – завершающей ступенью деградации рода человеческого. Названия работ итальянского традиционалиста говорят сами за себя: «Восстание против современного мира», «Доктрина пробуждения», «Фашизм с точки зрения правых», «Люди и руины» и др. Его перу принадлежит уникальная книга «Метафизика пола» (1956), по охвату материала и глубине проникновения в проблематику, без преувеличения, не имеющая себе равных в философско-психологической литературе XX века.
Биография барона весьма любопытна. Как подлинный аристократ в мире буржуазных посредственностей он всегда был склонен к хулиганствам и эпатажу. Он участвовал в Первой мировой войне как офицер-артиллерист, в своей художественной деятельности – как дадаист; учился на инженерном факультете, но сознательно отказался от диплома – «я делю мир на две категории: знать и людей, имеющих диплом». В начале 1920-х участвует в эзотерических обществах, занимается восточной философией, публикует ряд своих не самых лучших книг, в том числе «Языческий империализм», активно участвует в муссолиниевских изданиях, сохраняя при этом принципиальную независимость, читает лекции в Германии, возлагая надежды – как и значительное число интеллектуалов-консерваторов того времени – на «правое» преображение Европы, что заканчивается тотальным разочарованием в политике и символическим финалом. В 1945 году он попадает под бомбежку в Вене, что навсегда приводит к параличу нижних конечностей.
Работа «Оседлать тигра» во многих отношениях является итоговой. Ее главный вопрос: как духовно независимому человеку, которого волею судеб занесло в наш «прекрасный новый мир», сохранить внутреннюю свободу? Как оседлать тигра – чудовище, именуемое «современностью»? «Я ставлю этому миру ноль!» – кричит героиня современного фильма. Эвола спокойно и последовательно ставит всем проявлениям «темного века» ноль, показывая как все известные формы протеста против удушающей реальности – от сюрреализма и экзистенциализма до наркотической или сексуальной революции – приводят к еще большей зависимости от нее. Он обращается к творчеству наиболее радикальных писателей прошедшего века, пытаясь нащупать возможность освобождения, но тщетно. Человек, разорвавший все мыслимые путы, не достигает свободы, скорее, напротив, оказывается в убийственной зависимости от самого себя: «Меня засасывают мои мысли, мои воспоминания, мои желания, мои чувства, бифштекс, который я ем, сигарета, которую я курю, любовь, которой я занимаюсь, погода, дождь, это дерево, этот проезжающий автомобиль, эта книга…»
И тем не менее Эвола далек от тотального пессимизма в духе Беккета или Чорана, он оставляет обособленному человеку пространство возможной свободы. Еще одна утопия?.. Возможно. Но именно ради нее и стоит прочесть эту книгу.
Роман XXI века или «Борхес на Балканах» (Милорад Павич)
Все книги на земле имеют эту потаенную страсть – не поддаваться чтению.
Милорад ПавичВ XIX столетии, да и в первой половине XX, профессора философии и литературы крайне редко обращались к художественному творчеству, а если и обращались, то без особого успеха. В наше время ситуация существенно меняется: филологи, философы, историки и вообще авторы «вторичных текстов» все чаще занимаются сочинением романов и повестей – от Умберто Эко и Сьюзан Зонтаг до Александра Пятигорского и Юлии Кристевой. Прежнее деление на «творцов» и «истолкователей», когда первые многое могут, но ничего не понимают (или делают вид, что не понимают), а вторые все понимают и объясняют, но ничего не могут, исчезает частично или полностью. Ныне автор окончательно теряет свою художническую невинность и счастливое моцартовское неведение: ему приходится не только сознавать то, что он делает, и «поверять алгеброй» собственную гармонию, но и видеть тот контекст мировой культуры, в котором, хочет он того или нет, ему приходится существовать. После Музиля, Борхеса или Бланшо вековечный конфликт между автором и интерпретатором, художником и критиком все чаще выглядит анахронизмом. Более того, философия искусства или аналитика искусства подчас становится интереснее самого искусства.
Сербский писатель Милорад Павич (род. 1929) и являет собой конкретный пример сочетания «творца» и «интерпретатора» в одном лице. Прежде всего, он литературовед, переводчик, исследователь сербского барокко и поэзии символизма, профессор белградского университета, которому, однако, мировую известность (разумеется, в достаточно узких кругах) принесла его интеллектуальная проза – четыре сборника рассказов и четыре романа. Среди них выделяется «роман-лексикон» под названием «Хазарский словарь» (1984), уже названный некоторыми европейскими критиками «первой книгой XXI века», вышедший в русском переводе в петербургском издательстве «Азбука».
Что же такое «Хазарский словарь»? В самом деле, его можно было бы счесть новаторской книгой, если б над ним не витали тени Борхеса и Альберто Савинио с его «Новой энциклопедией». Представьте себе десятистраничный борхесовский рассказ, стилизованный под рукопись XVII века, обставьте его несколькими предисловиями и послесловиями, примечаниями и дополнениями, развейте побочные линии, добавьте подробные биографии персонажей, исследователей и комментаторов рукописи, как вымышленных, так и реально существовавших, расставьте все это в алфавитном порядке и вы получите «Хазарский словарь» объемом в 380 страниц. Один из персонажей «Хазарского словаря», совсем как у Борхеса, заблудился в собственных снах, а секта «Ловцы снов» играет важную роль в структуре романа. Так что не будет преувеличением сказать, что Павич – это растянутый, многословный Борхес, порой любопытный и занимательный, иногда ошеломляющий внезапной глубиной, а иногда несколько затянутый и скучноватый. В «Хазарском словаре» та же удивительная связь сна и жизни, реального и мистического, мифа и повседневности, при том существенном отличии, что мифологические и фольклорные корни у Павича совершенно иные – не столько латинские, сколько балкано-средиземноморские. Книга существует в пространстве, где пересеклись христианство, ислам и иудаизм – соответственно христианские, исламские и еврейские источники составляют три части романа.
Существенным является то, что автор совершенно не претендует, чтобы его книгу читали целиком. Если не заподозрить в этом некоторое постмодернистское кокетство, то здесь и заключается несомненная новизна книги. Роман-лексикон, говорит сам Павич, можно читать так, как читают словари – по диагонали, отдельные статьи, справа налево или слева направо. Автор более не является демиургом, и читателю предоставляется максимально возможная свобода.
Когда-то во времена Августина люди могли читать только вслух: даже в одиночестве чтения «про себя» не существовало – считалось, что проговаривание текста способствует его более глубокому усвоению. Шведский писатель Пер Лагерквист, воспитывавшийся в конце XIX века в суровой протестантской семье, вспоминает, что в их доме не было никаких книг, кроме Библии и сборника проповедей – их тоже читали часто вслух. Его же родители были убеждены, что сочинительство, выдумывающее человеческие судьбы – это презренное и богохульное занятие. Они слишком серьезно воспринимали любое реальное событие, и потому романист-демиург, подобно Творцу создающий свой мир «из ничего», был для них человеком возмутительным и бесстыдным. Слово – слишком серьезная вещь, чтобы относиться к нему столь легкомысленно.
О чем-то схожем речь идет и у Павича: в «сохранившемся» предисловии к первому изданию рукописи «Хазарского словаря» 1691 года читателю «не советуют браться за эту книгу без большой необходимости». А если уж это захочется, то «делать это нужно в такой день, когда ум и осторожность способны проникнуть глубже, чем обычно». Читать же книгу следует так, «как треплет человека горячка или жар лихоманки».
В XVII веке, как нам сообщает первая страница «Хазарского словаря», первый читатель рукописи умер после ее прочтения. В конце XX века Автор стилизованного романа, используя этот факт как некую интригу, рекомендует не относиться к его писаниям слишком серьезно. Слово давно потеряло свой сакральный смысл и является определенной интеллектуальной игрой, в которую при желании может сыграть и читатель. В конце концов весь «Хазарский словарь» ни что иное, как чистый розыгрыш, захватывающая интеллектуальная мистификация – скорее, пародийная «игра в классики», нежели глубокомысленно-серьезная «игра в бисер». Хотелось бы повторить, что это тот тип интеллектуальной прозы, полное отсутствие каковой мы обнаруживаем в русской литературе. В самом деле, кого у нас можно было бы отнести к создателям подобных текстов за последние лет сто? Конечно, не Розанова, создателя совершенно особой, но слишком русской прозы подобного толка, мыслившего чем угодно, но только не «чистым интеллектом». Как не странно, не подойдет сюда и Достоевский, у которого самодостаточный интеллект был всегда на подозрении, как едва ли не главный источник разрушений и зла, и видимо поэтому доводивший своих самых интеллектуальных персонажей до крушения, логического или реального самоубийства. Можно было бы назвать Андрея Белого, если б не его чисто славянское безумие, постоянно разрушавшее весь его интеллектуализм. С некоторой натяжкой сюда можно было бы отнести Набокова, при всей его неприязни к «идеям и идеологиям», но ровно в той степени, в какой он был не только русским, но и западным писателем. Автономный интеллектуализм всегда был, есть и остается у нас чем-то глубоко подозрительным, ибо представляет собой всего лишь срединный уровень культуры, занимающий весьма ограниченное пространство между жизнью и Богом. «Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не более, чем полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что уже в нас есть. Он сам не двинется вперед, покуда не двинутся в нас все другие способности, от которых он умнеет», – читаем мы у Гоголя, и аналогичные высказывания можно обнаружить у многих русских писателей. Достаточно вспомнить, например, что Антихрист в «Трех разговорах» Владимира Соловьева необыкновенно умен, прежде всего он великий мыслитель…
Если же вернуться к Павичу, то при внимательном чтении становится совершенно очевидно, что его великолепный европейский интеллектуализм и эрудиция удивительным образом сочетаются с живыми славянскими и балканскими фольклорными источниками, которые, при всех очевидных влияниях и заимствованиях, и делают его прозу совершенно особенной. Ибо все лучшее сегодня рождается либо на пересечениях культур, либо на окраинах ойкумены.
Записки из подполья или новый самиздат (Дмитрий Галковский)
Общеизвестное суждение о том, что русская литература вышла из «Шинели» Гоголя, сегодня требует корректировки: ее не менее, а, может быть, и более значительная часть произошла из «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского.
Если многие сочинения пролежали под спудом более пятидесяти лет, то десять лет по российским меркам совсем небольшой срок. «Бесконечный тупик» Дмитрия Галковского, фрагменты из которого в 1990-е годы печатались более чем в двадцати периодических изданиях разных направлений – от «Нового мира» и «Логоса» до «Нашего современника» – наконец-таки издан самим автором полностью. Огромный том формата А4, объемом более 700 страниц, безусловно, производит впечатление: «Это философский роман, – согласно авторскому определению, – посвященный истории русской культуры XIX–XX веков, а также судьбе русской личности – слабой и несчастной, но все же существующей». Главные действующие лица в алфавитном порядке: Бердяев, Бог, Бунин, Гегель, Гоголь, Достоевский, Ленин, К. Леонтьев, Набоков, отец Д. Галковского, Пушкин, Розанов, Вл. Соловьев, Толстой, Чернышевский, Чехов, авторское Я, иногда скрывающееся под псевдонимом Одиноков и ведущее со своими героями бесконечную тяжбу. Книга населена очень плотно, помимо главных персонажей – множество «второстепенных», от Бабеля и Белинского, до Хармса и Чаадаева. Написанный в форме бесконечных комментариев к другим комментариям и примечаниям, «Бесконечный тупик» представляет русскую литературу и русскую философию в особенности, ставшую в последнее время объектом унылых диссертаций и толкований недавних казенных марксистов, как совершенно живую стихию, столь же странную, безумную и непредсказуемую, как и современная жизнь. И хотя в «Бесконечном тупике» нет абсолютно никакого вымысла, по жанру это, скорее, именно авторская философская проза, в которой умершая культура оживлена и вписана в современность, где автор исповедуется, провоцирует, размышляет, проклинает, взывает, издевается, юродствует, кричит, переходя от самоуничижения к мегаломании, изредка восхищается и признается в любви. Больше всех достается большевикам, Ленину, евреям, русским, декабристам, масонам, Белинскому, Чернышевскому, либералам, интеллигенции, Вл. Соловьеву, иногда – Бердяеву или Струве и т. д. А среди «положительных» персонажей резко выделяются только три – Пушкин, Розанов и Набоков. Они единственные подлинные личности в русской культуре, реализовавшие свое предназначение (с некоторыми натяжками к ним можно прибавить Достоевского и Чехова), возвышающиеся над остальным, как правило, ущербным и несчастным литературно-философским фоном. Отсюда и сквозная тема книги: онтологическое крушение личности на евразийском континенте под названием Россия. Быть личностью здесь – это чудовищное, ни с чем не сравнимое несчастье, она неизбежно будет повержена, сокрушена, распылена, уничтожена либо судьбой, либо обществом, либо близкими и родными. «Признание себя личностью в России – это признание в неудаче. Признание себя исключительной личностью – признание в исключительной неудаче, неудаче окончательной», – это уже из другого текста Галковского. Но почему Россия так безжалостна к своим сыновьям и пасынкам? Внятного ответа на этот вопрос в книге нет, как почти нет и других внятных ответов. Скорее всего, это происходит по той простой причине, что Россия – это не Европа и не Азия, но и то, и другое вместе. Являясь «русской Европой», она подчас порождает личности, по масштабу превосходящие европейские, которые «русский Восток» тут же испепеляет и уничтожает. И потому в книге периодически звучат проклятия «азиатчине», а Запад предстает в совершенно мифологизированном виде. Россия же – это «бесконечный тупик» самопорождения и саморазрушения. Поэтому здесь и идет речь о столь же бесконечных неудачах, о неудачах Гоголя, Леонтьева, Вл. Соловьева, Блока, Толстого, Бердяева, неудаче «Вех», русской культуры и русской истории XX столетия, наконец, неудаче самого Одинокова и его «Бесконечного тупика»: «Вот и книга эта… В чем ее удача? – В неудаче. В ненужности. В такой ненужности, что даже сама констатация этой ненужности уже не нужна, уже воспринимается как ненужная заглушка, оговорка. И вся книга – тысячестраничная. Какая-то бесконечно длинная оговорка – “бесконечный тупик”».
Но, надо признать, именно эта неудача, – несмотря на свою несоразмерную величину, многословие, повторы, иногда развязный тон и банальные парадоксы, ненужные и запоздалые проклятия то в адрес «советских литераторов», то – «гадов-читателей», саморекламу, мегаломанию, собственный скульптурный портрет в конце книги, откровенное подражание то Розанову, то Набокову (подобно «Дару», в тексте приложено несколько пародийных рецензий), – одно из немногих сочинений последнего времени, которые останутся в истории русской мысли. Эту книгу будут читать, изучать и писать о ней диссертации.
На солидном «кирпиче» в коленкоровом переплете полностью отсутствуют выходные данные – ни издательства, ни типографии. На титульном листе зато горделиво значится: «Самиздат Москва 1998», «тираж 2000 нумерованных экземпляров». Автор покончил с официальной печатью и вновь ушел в подполье, где, конечно, намного свободнее и спокойнее, чем в современной литературе или в современной жизни. Впрочем, это довольно своеобразный самиздат с личным сайтом Галковского в Интернете, где можно прочесть электронную версию его работ. Но, в конце концов, что такое Интернет, как не мировой самиздат с аудиторией, потенциально не сопоставимой ни с какими книжными тиражами.
Игра на понижение или о «символах времени» (Борис Парамонов)
Современные философы, как правило, пишут скучно, занудно или попросту плохо. В каком-то смысле философ – это зануда по определению: всем давно уже все понятно, но метафизическая шарманка по-прежнему крутится, и философ все что-то твердит на десятках и сотнях страниц. Если у Канта, Гегеля, Хайдеггера или Лосева за чудовищной терминологией всегда присутствовал некий метафизический порыв и онтологическая страстность, то сегодня, во времена академического дискурса, происходит удушение всего живого, так что от большинства философских текстов отдает мертвечиной.
На этом фоне Борис Парамонов на редкость свеж, раскован, парадоксален: что ни страница, то подвох, эпатаж или провокация. Конечно, это не философия в строгом смысле слова, а эссеистика на литературно-философские темы, но в любом случае она захватывает и увлекает: отличное чтение на ночь для тех, кто скучает от детективов. По обилию персонажей «Конец стиля» напоминает густонаселенный роман: и кого тут только нет! Чехов, Шкловский, Зощенко, Эренбург, маркиз де Кюстин и Киркегор, Алексей Лосев и Леонид Леонов, Горький и Чапек, Алан Блум и Вуди Аллен, Бунюэль и Спилберг, Бердяев и Флоренский, Писарев и Арцыбашев, Розанов и Шестов, Камилла Палья и Марина Цветаева и, разумеется, бесконечный Фрейд везде и всюду… Но из-за калейдоскопа идей, тем и персоналий всегда выглядывает ироничное лицо автора: Б. Парамонов не только со всеми «на дружеской ноге», но и наверняка знает, что, в чьей душе и когда творилось значительно лучше, чем ее обладатель. Более того, задним числом он способен предсказать возможные варианты той или иной творческой судьбы. Например, Бердяев, чтобы написать «Смысл творчества», должен был «сублимировать свой гомосексуализм» (с. 144).
А родись, скажем, философ А. Лосев на современном Западе, он, «с его вкусом к скульптурно и фигурно выразительным феноменам, стал бы знаменитым парикмахером или модельером женской одежды» (с. 115). Отец Павел Флоренский, по Б. Парамонову, «сумел преодолеть в себе то, что Бердяев называл “декадансом”»… Но почему? «… Шутка ли, человек женился и пятерых ребят родил!» (с. 115).
Но по мере столь увлекательного чтения постепенно выясняется, что несмотря на все многообразие мира, в его основе лежат очень простые вещи, настолько простые, что даже дух захватывает.
Итак, культура репрессивна (этот психоаналитический тезис проходит почти через все тексты); «гении» рождаются как раз благодаря сопротивлению репрессивной культуре. Западная демократия (она же – «мировая энтропия») всеядна, иронична, равнодушна, но главное, в отличие от фундаментализма, тоталитаризма и всех традиционных обществ, если и репрессивна, то совершенно по-другому – в ласковой, обволакивающей форме. Если «гениев здесь и убивают в колыбели, но в мягкой манере, без кровопролития. Человека не доводят до отчаяния, с которого начинается гениальность… Что в человеке надо “спасать”: гений – или благополучие, материальный и психологический комфорт? Ясно, как отвечает на этот вопрос демократия, как отвечает на него Америка…» (с. 14). Это ясно уже всем, не устает повторять Парамонов, правда, кроме русских, которые «недемократичны, т. е. не постмодернистичны, они не могут преодолеть уважения, даже религиозного благоговения перед классическими образцами репрессивной культуры…». И самое ужасное: они не в состоянии понять, «что “секс” важнее сублимаций» (с. 19).
В начале века Иванов-Разумник в своей «Истории русской общественной мысли» свел всю идейную историю петровской Руси к борьбе «самосознания» (интеллигенции) с косным и удушающим «мещанством». В «Конце стиля» та же нехитрая схема, но с точностью до наоборот: место «интеллигенции» в терминологии Парамонова занимают «гении». Если западная демократия ласково удушает их в колыбели (совсем по Шигалеву из «Бесов»), зато она благосклонна и милосердна к «массам», «толпе», «обывателю», ко всему усредненному, банальному и «низкому». Внешнее вытесняет внутреннее, телесное – духовное, поверхностное – непроницаемой пленкой застилает глубину – и слава Богу, ибо глубина опасна, а за поверхность жизни можно зацепиться, можно выжить. «Гении» все как один ужасны, агрессивны, трагичны, чудовищны, они вечно переступают границы дозволенного, заигрывают с инфернальным, а их безумные порывы приводят в итоге к революциям, репрессивным режимам, катастрофам и самоуничтожению. Впрочем, некоторые из них, как, например, Марина Цветаева, (эссе «Солдатка» – одно из лучших в книге, по крайней мере здесь отсутствует навязчивый пансексуализм) вызывают у автора «Конца стиля» почти благоговейный ужас. Ибо Цветаева (по сравнению с «какой-нибудь Ахматовой» (с. 292)) выражает наиболее полно глубинный архетип России, страны, которая изначально подобна Пенелопе, оставленной жене: «Кем же надо быть, чтобы носить в себе все бывшие и будущие судьбы? Да, это женщина была поистине femme fatale. Фатальность здесь – не разорение и самоубийство десятка любовников, а фатум, Рок, предвестие всеобщей гибели… Цветаева – сама Россия, русская земля и одновременно – гибель ее и разорение. Это от нее, от матери-земли в ужасе и отвращении разбегаются сыновья. Все Телемаки делаются Одиссеями…» (с. 294).
Но этот благоговейно-патетический тон редкое исключение. Конечно же, весь пафос постмодерниста совсем в другом – именно в развенчании всего «гениального», «трагического», «вертикального» Б. Парамонов и достигает подлинной силы. Вслед за Бодлером или Константином Леонтьевым вы привыкли думать, что гении, художники и пророки уникальны и неповторимы? Глубокое заблуждение! На самом-то деле именно «гении похожи друг на друга, они, страшно сказать, одинаковы, стандартны, шаблонны, а разнствуют, являют конкретное богатство бытия, форм и красок – обыватели. Это понимал Честертон, сам только притворявшийся простаком… Он-то видел, что склонность художественно одаренных натур весьма однообразна: куда ни плюнь, попадешь в педераста» (с. 14). Но, к счастью, время этих ужасных людей на земле близится к концу. Все выдающееся, из ряда вон выходящее, безумное, «уродливо-талантливое» поглощается мировой энтропией, паюсной икрой грядущей демократии, из которой вылупляются мириады необыкновенно жизнеспособных головастиков – им и предстоит являть удивительное «богатство бытия, форм и красок». Именно они – любимые герои автора: люди, способные выжить при любых обстоятельствах – от аббата Сейтса, который на вопрос: что он делал во время террора Французской революции, ответил: «я остался жив», до советских писателей, просуществовавших «от Ильича до Ильича», вроде Леонида Леонова или Ильи Эренбурга. В апологии всего среднего, массового, телесного, в защите «низких истин» от «агрессивных гениев» талант Б. Парамонова и раскрывается во всем многообразии. Иногда его смелость просто не знает границ: «Я хочу защитить лакеев от Достоевского», – говорит он в эссе «К вопросу о Смердякове». Оказывается, Достоевский оклеветал Смердякова, который являл собой «низовой тип русского западника», мелкого буржуа, мечтающего о предпринимательстве – их ведь так всегда не хватало России! О чем мечтает Смердяков? Он хочет открыть кафе-ресторан в Москве на Петровке, со специальной подачей. «Он и сегодня этого хочет и открывает, но его облагают налогом бандиты-рэкетиры – широкие русские натуры, потомки Мити Карамазова», (с. 352).
Ставится вопрос: «Что общего у (постмодернистов), софистов, александрийских эклектиков, средневековых скоморохов, романтиков девятнадцатого столетия, Пушкина, Тимура Кибирова?» «Общее у них – “еврейство”. Еврей – родовое имя постмодерниста, человека без стиля. Блок говорил: большинство человечества правые эсэры. Теперь можно сказать: большинство человечества полуевреи. Я давно думаю написать статью под названием “Еврей Пушкин”, но пока написал только о Вуди Аллене, этом американском Пушкине» (с. 15).
Итак, да здравствуют оклеветанные мировой (и, прежде всего, русской) литературой мелкие буржуа, лавочники, обыватели, дельцы, софисты и постмодернисты, продажные художники, Смердяковы и Чичиковы: «печать продажности на лице артиста придает ему пикантность… Красота – она на то и красота, чтобы продать ее подороже… Нужно англоязычное остранение, чтобы ощутить святость экономики. Учитесь торговать, и вы спасетесь!» (с. 96).
К сожалению, навязчивые вариации на одну и ту же тему постепенно делают увлекательное чтение «Конца стиля» все более утомительным. «О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? – спрашивал “подпольный человек”. – Ответ: о себе». И о ком бы и о чем бы ни говорил Борис Парамонов, он всегда говорит о себе. Для этого, надо признать, нужна немалая смелость, тем более, что он хочет быть парадоксалистом, стремится раздражать, шокировать, эпатировать. Но кого?.. Очевидно, вымирающую русскую интеллигенцию, которая так и не в состоянии была понять, что «секс» важнее «сублимаций». Но если когда-то это кого-то и могло эпатировать, то ныне подобными «шокирующими» трюизмами переполнено буквально все – бульварная пресса, масс-медиа, иллюстрированные журналы. В конце концов настойчивая сексуально-экономическая озабоченность автора исчерпывается, в сущности, куплетом, который распевали герои «Трехгрошовой оперы» еще 70 лет назад:
Гиганты мысли и титаны духа — С ума всех сводит потаскуха. И так выходит на поверку, Что спать он все равно ложится сверху.Иногда не совсем понятно, почему в «Конце стиля» речь так часто идет о постмодерне – для «деконструкций», которые совершает Б. Парамонов, его арсенала не требуется, тут вполне достаточно брехтовского куплета: «Постмодернистский человек резонно полагает, что Киркегор овладел бы своей Региной после десятка сессий у психоаналитика. Вот и решайте, что лучше – написать “Заключительный ненаучный постскриптум” или переспать с Региной Ольсен: или-или» (с. 14).
«Конец стиля» превосходно издан в серии с характерным названием «Символы времени» и очень точно ей соответствует. И разговор здесь должен выйти за пределы этой книги: «символы времени» все полнее выражают себя сегодня в какой-то иступленной апологии «низких истин». Большая часть пишущей братии, режиссеры (А. Михалков-Кончаловский выпустил книгу мемуаров с аналогичным названием, где защищает «низкие истины» с завидным упорством), философы, изобретающие для этого «новую софистику», делают это подчас столь агрессивно, что кажется – «низким истинам» и всеобщей игре на понижение кто-то серьезно угрожает. Но кто?.. Фанатики-идеалисты, романтические поэты, религиозные пророки или безумные утописты?.. Сама атмосфера «эры подозрения» давным-давно превратила их в вымирающие, реликтовые типы, которых если еще и можно отыскать, то на задворках цивилизации. Немецкий философ Петер Слотердайк в своей «Критике цинического разума» писал, что если прежде циниками становились самые смелые политические умы, то сегодня любой заурядный функционер или буржуа в своем цинизме не уступит Талейрану, Меттерниху или Бисмарку. Все давно редуцировано, деконструировано, низведено до уровня, ниже которого, кажется, ничего быть не может. Глубина закрыта, вертикаль почти уничтожена, мы существуем в одномерно-плоскостном мире, откуда нет выхода.
Так кто же угрожает «низким истинам» и всеобщей игре на понижение? Очевидно – сами их адепты. Вернее, то, что им еще не удалось уничтожить в самих себе. Поэтому они столь упорны и настойчивы: им нужно окончательно убедить и других, и самих себя, что ничто иное в мире более невозможно. Если Смердяков, по Парамонову, положительный тип «низового западника в России», то, в свою очередь, автор «Конца стиля» по сравнению с Лиотаром, Умберто Эко или Бодрийяром являет собой «низовой уровень» постмодерна и психоанализа и выполняет полезное дело, низводя все и вся до какой-то самозабвенной и виртуозной пошлости.
P.S. В своей следующей книге «МЖ» (2010 г.) Парамонов идет еще дальше, развивая совершенно экстравагантную концепцию. Если в «Конце стиля» большая часть русской культуры возникает из репрессированной сексуальности, то в «МЖ» – из репрессированной гомосексуальности. При этом откровенные содомиты, вроде Михаила Кузмина или Николая Клюева, его мало интересуют. Псхиоаналитический сыск занимается исключительно латентной гомосексуальностью, которую с помощью «единственно верного учения» (разумеется, фрейдизма) он обнаруживает везде и всюду – у Достоевского, Блока и Белого (психоаналитический мотив «Кандавла» – на самом деле они были влюблены не в Любу Менделееву, а в друг друга!), Вяч. Иванова, Бердяева («главный теоретик гомосексуализма в России»), у Чернышевского, Герцена и его окружения, и т. д. Но главное – у Андрея Платонова в его коммунистическом мужском сообществе будущего, из чего следует, что в своем изначальном проекте коммунизм возник как гомоэротическая утопия (в этом есть некоторая доля истины).
Парамонов по-прежнему пишет превосходно – ярко, образно, увлекательно, но, увы, смысл его нового исследования можно свести к предельно простой истине: если один мужчина посмотрел на другого с симпатией, или, более того, написал ему прочувствованное письмо, – значит, он уже «прелюбодействовал с ним в сердце своем».
Я не думаю, что следует полемизировать с подобной концепцией.
Метафизика и практика самоубийства
Довольно трудно привыкнуть к мысли, что современный человек значительно чаще убивает себя самого, нежели своего ближнего: в некоторых частях ойкумены количество самоубийств превосходит число убийств в полтора раза. В определенном смысле это может вызывать даже уважение к нынешнему обитателю земли, ведь в традиционных обществах с твердыми религиозными устоями убийство ближнего или «дальнего» было меньшим злом, чем насилие над самим собой – «худший из всех грехов» (у Данте самоубийцы попадают во второй пояс седьмого круга ада, ниже тиранов, убийц и разбойников). Убивают себя независимо от возраста, пола, рода занятий, уровня образования, эпохи и социального статуса. Тем не менее, общая тенденция, фиксируемая книгами по суицидологии, начиная с Дюркгейма, достаточно очевидна: число самоубийств неизбежно (хотя и синусоидально) растет с развитием цивилизации, городов, атомизации общества, кризисом традиционных верований. Чем раскрепощеннее человек, чем выше уровень жизни, чем независимее его сознание, чем больше у него свободного времени, тем чаще он убивает себя. Интеллектуалы уничтожают себя в десять раз чаще, чем малообразованные люди, а женщины, в свою очередь, в три-четыре раза реже, чем мужчины.
«Писатель и самоубийство» Г. Чхартишвили – это очень эмоциональное, страстное, захватывающее, временами леденящее душу повествование о том, как писатели, философы, поэты всех времен и народов – от античности до наших дней, от Японии до Латинской Америки, от Сократа до Делеза – вскрывают себе вены, травятся, вешаются, стреляются, топятся в силу различных, часто совершенно непостижимых причин. Мы читаем об отношении к суициду мировых религий, взвешиваем метафизические аргументы «за» и «против», узнаем о современных психологических и философских теориях, национальных причинах и особенностях (самый высокий уровень самоубийств по необъяснимым причинам характерен для угро-финских народов – от Венгрии до Удмуртии), об альтруистических, жертвенных, эгоистических, массовых, религиозных самоубийствах. Наконец, завершает книгу «Энциклопедия литературицида» – около 350 коротких биографий литераторов, трагически закончивших свою жизнь. Автор, которого можно назвать скептиком и агностиком, стремится быть объективным, подробно разбирает аргументы противников суицида (Платон, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Бердяев, Камю) и тех, кто допускал его возможность (Сократ, Эпикур, Монтень, Дж. Донн, Юм, Ницше). Однако его симпатии явно на стороне последних. И перед нами попытка если не оправдания самоубийства, то, по крайней мере, понимания и оправдания потенциального права личности на добровольную смерть. Лучше всего это выражено в тексте Мориса Бланшо (повторяющего отчасти аргументы Юма), цитируемом в книге: «Без способности к самоубийству человечество потеряло бы какое-то равновесие, перестало бы быть возможным… Мы не убиваем себя, но можем себя убить… Это чудодейственное средство. Не будь под рукой этого кислородного баллона, мы бы задыхались, не могли бы жить. Когда смерть рядом, безотказно послушная, то становится возможной и жизнь, ибо именно смерть дает нам воздух, простор, радостную легкость движения – она и есть возможность». Ампула с цианистым калием в зубе у разведчика – это уже авторская метафора потенциального суицида, т. к. «разве не похож человек на шпиона, оказавшегося во враждебной и опасной или, во всяком случае, чужой и непредсказуемой среде?» Такой человек может дожить до глубокой старости и спокойно умереть в собственной постели, но дверь в небытие не может быть закрыта наглухо: возможность отворить ее должна присутствовать всегда.
Прочитывая «всемирную историю самоубийств», мы погружаемся в трагедию богооставленности: эпидемии суицида – по крайней мере, в западной культуре – начинаются только после «смерти Бога», достигая своего пика в XX столетии. В мартирологе мучеников литературы нового времени религиозных людей практически нет (Симона Вайль, умершая, как и Гоголь, от истощения, включена сюда автором по явному недоразумению) – подлинная вера позволяет человеку вынести свой удел до конца. Христианское средневековье, в отличие от античности и Нового времени, не знало именитых самоубийц-ин-теллектуалов (единственный пример – Пьетро делла Винья, покончивший с собой в тюрьме, куда он был брошен по навету врагов).
В традиционном обществе творчество как сочинение вымысла, в противоположность созданию хроник, житий или летописей, творящихся «во славу Божию», было если не откровенно греховным, то весьма сомнительным и малопочтенным занятием. Сочинитель как демиург, создающий новую реальность «из ничего», хочет он того или нет, неизбежно бросает вызов Творцу и становится его соперником (недаром жанр романа возникает в христианских культурах так поздно). Признание Грэма Грина – «я не понимаю, как люди, не занимающиеся созданием книг, картин или музыки, не приходят в отчаяние при виде человеческого удела», – именно об этом. При всей условности писательского мартиролога (понятно, что о многом история умалчивает) легко увидеть, как кривая суицида от эпохи Возрождения возрастает в геометрической прогрессии. Если в XVI столетии мы имеем три писательских самоубийства, в XVII – пять, в XVIII – двенадцать, то в XIX и XX счет идет уже на десятки и сотни. Эпоха рационализма и Просвещения, время горделивого упоения освобожденным сознанием выражено Спинозой в знаменитой шестьдесят седьмой теореме четвертой части «Этики»: «Человек свободный ни о чем так мало не думает как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни». Два века спустя Ницше записывает слова, которые можно поставить эпиграфом к наступающей эпохе самоубийств: «Мысль о самоубийстве – сильное утешительное средство: с ней благополучно переживаешь иные мрачные ночи». Все радикально меняется: мысль даже не о смерти, а о потенциальном самоубийстве, становится спасительной. Сознание, претендовавшее на то, чтобы поделить «мир на разум без остатка», уже не в состоянии справиться ни с реальностью, ни с собой. В XX столетии сознание подписывает акт о безоговорочной капитуляции – змея начинает кусать себя за хвост. Конец утопии освобождения, конец Просвещения, произошедший на наших глазах, означает, что сознание сегодня не столько ищет свободы, сколько желает подчинения, зависимости, подавления, ибо раскованный Прометей со скал может броситься прямо в море. Конечно, человек крайне редко расстается с жизнью по «разумным основаниям»: логическое самоубийство в духе Майнлендера или героев Достоевского – ситуация исключительная. Но достаточно чуть-чуть ослабнуть нитям, связывающих человека с миром, как зов сирен небытия с каждым веком становится все более манящим. Именно освобожденный разум не в состоянии предоставить убедительных оснований для продолжения жизни. Отсюда нетрудно предсказать, что и в наступившем веке кривая суицидов будет медленно, но верно расти вверх…
На протяжении полутора тысячелетий христианство было главным противоядием от этой болезни. Хотя ни в Евангелиях, ни, тем более, в Ветхом Завете нет прямого и непосредственного осуждения самоубийства (это является очень важным напоминанием в книге). Примерно вплоть до Августина добровольная мученическая смерть не вызывала проклятий, как несколько столетий спустя. Очевидно, что категорическое осуждение самоубийства церковью начинается примерно тогда, когда она становится социальным институтом и сливается с государством. Именно в то время суицид начинает трактоваться как тройное преступление – против Бога, общества (короля) и природы, а тела несчастных протыкают колом в сердце и скидывают в выгребные ямы. Понятно, что речь здесь ведется, скорее, на языке власти, а не на языке любви. Достаточно сказать, что в «доброй старой Англии» уголовное наказание за попытку суицида было окончательно отменено лишь в 1961 году.
Когда в эпоху раннего средневековья смерть была естественным продолжением жизни, в отличие от языческого страха перед миром мертвых, «прирученная смерть», как назвал ее Филипп Арьес, позволяла располагать погребения внутри деревень и городов, рядом с домами и монашескими кельями. В современной же культуре смерть – это всегда несчастье, провал, вновь вызывающий мистический ужас, поэтому как что-то постыдное, дикое, неприличное она изгнана за пределы обитания, как кладбища вынесены за пределы городов; она не только удаляется от взоров общества, но даже на разговоры о ней наложено табу. Если естественная смерть – это провал, то суицид – абсолютная бездна, черная дыра, парализующая общество, он хотя и не порицается, но табуируется дважды – об этом не говорится даже в некрологах. Если бодрая и самовлюбленная наука девятнадцатого века считала суицид либо следствием умопомешательства, либо заболеванием, которое излечивается холодным душем или вовремя поставленным клистиром, то в нашем столетии мы имеем социологические, антропологические, биохимические, генетические и др. суицидные теории. Общество всегда стремится к простому, предельно элементарному объяснению самоубийств, ибо таким образом оно охраняет себя и снимает возможную вину. К счастью, в своей книге Г. Чхартишвили этим не злоупотребляет, предпочитая при анализе трагических писательских судеб более традиционные психологические объяснения. Но при всем правдоподобии приводимых версий меньшая категоричность только бы украсила его книгу – сколь не были бы внешне убедительны причины, толкнувшие человека переступить порог небытия, последний акт всегда будет тайной, перед которой остается только склонить голову.
Философ Чоран, одержимый в своем творчестве темами отчаяния, крушения и смерти, в одной из книг вспоминает, как однажды в здравом уме и рассудке он пришел к окончательному убеждению, что пора быть последовательным и свести счеты с жизнью. Он отправился к морю, в то место, где скалы обрывались с огромной высоты. Но за ним увязалась собака, сколько бы он ни гнал ее – она не уходила…
Сознание капитулировало. Он остался жить.
Pulp fiction, скука жизни и «тайны истории»
Как и множество других вещей в этом мире, изначальный смысл понятия detective story искажено до неузнаваемости.
На самом деле все производные от латинского detectio – раскрытие, расследование, розыск, разгадывание, наконец, поиски смысла – принадлежат, конечно же, не к сфере «бульварного чтива», а к основным архетипам культуры. Добрая половина героев мировой литературы, включая Эдипа, Гамлета и Фауста, разгадывают истины мироздания или же пытаются прочесть тайнопись собственной судьбы. От метафизики до повседневности мы все – в той или иной степени – во власти инстинкта разыскивания.
Именно в этом простой и великий смысл, скрывшийся за прозаическим словом «детектив». Жизнь – это расследование: от элементарных объяснений до смыслов высокого порядка. Объект важен, но поиск денег, пропавших вместе с хозяином банка, трансцендентного смысла существования, или причин, почему наш ближний решил свести счеты с жизнью, в реальности чаще всего переплетаются.
Классический жанр расследования возникает именно как высокое искусство. Рожденный Эдгаром По в «Убийстве на улице Морг», в XIX веке он достигает своей вершины в «Братьях Карамазовых» – метафизическом детективе, где поиски смыслов на разных уровнях заканчиваются открытым финалом: выводы предоставляются читателю.
Но Эдгар По, создавая Огюста Дюпена, вряд ли предполагал, что несколько его коротких рассказов породят мириады опусов, которые в недалеком будущем завалят книжные прилавки во всех странах и континентах. Ближайшие наследники первого сыщика – патер Браун и незабвенный мистер Холмс по уровню дарований достойны своего предшественника. Но если По обладал роскошью быть вполне свободным в выборе тем и сюжетов, то Честертону в начале XX века уже приходится оправдываться, почему он работает в столь низком жанре и пишет не для элиты, как полагалось раньше, а для массовой аудитории. Если «высокая» литература, утверждал он, часто нигилистична или беспросветно мрачна, она воспевает пороки и насмехается над добродетелями, то авантюрно-детективное чтиво для народа защищает этические ценности: добро всегда побеждает зло.
Но как раз «восстание масс» и становление индустрии масс-культа, превращающие народ в «толпу», постепенно лишают жанр тех качеств, на которые возлагал надежды Честертон, и превращают его исключительно в средство развлечения, избавления от нескончаемой скуки жизни.
Скука, сплин, хандра – некогда эзотерические чувства, свойственные, как говорили в старину, возвышенным умам – от Байрона и Леопарди до Чаадаева и Лермонтова, – благодаря расширению сферы досуга и всеобщей грамотности становятся вполне прозаическими недугами, поражающими большую часть всего прогрессивного человечества. Болезни требуют эффективных и разнообразных противоядий. Так, в награду миллионам читателей из полигамного брака традиционного детектива с триллером и шпионским романом рождается на свет «черный жанр» (получивший свое название по черным обложкам соответствующей серии издательства «Галлимар»), который в скором времени породит своего кинематографического двойника. Любой расхожий жанр неизбежно следует в ногу с веком и соответствует быстро меняющемуся духу времени с его профанизацией традиционных ценностей. Как заметил в середине XX столетия философ Дитрих фон Гильдебранд, именно в это время в философии и науке широко распространяется тенденция смотреть на мир снизу. Это основано на молчаливом соглашении о том, что чем ниже метафизический ранг объекта, тем неоспоримее его реальность: «Такие инстинкты, как голод, жажда, сексуальное влечение, считаются очевидными реальностями, тогда как воля, любовь, способность к познанию или созерцанию красоты рассматриваются как сомнительные реальности, чья истинная сущность может быть сведена к инстинктам». Все это сполна сказывается и на «низком» жанре – говорить об этических ценностях, скажем, «черного романа» уже вряд ли приходится.
В эти же годы Борхес, большой поклонник детектива, сокрушался по поводу его упадка. Одномерные люди совершают тривиальные поступки (преступления), раскрытие которых столь же банально. Герои ищут деньги, этим все начинается, этим и заканчивается. Привкус тайны или хотя бы многозначности, которые должны сохраниться до конца повествования и тем самым расширить его пространство, исчезают частично или полностью. Для Борхеса По, Стивенсон и Честертон остаются непревзойденными образцами жанра, но именно библиотекарь из Буэнос Айреса поднял его на недосягаемую высоту. Сам он сочинил не более полдюжины собственно детективных рассказов, но вся его проза – как фантастическая, так и эссеисти-ческая – есть не что иное как метафизическое или психологическое расследование. Начиная с середины 1950-х, его стали переводить и читать в большей части университетов западного полушария.
В конце 1970-х профессор Умберто Эко трудился над 500-страничной историей убийств в средневековом монастыре (уместившейся бы у автора «Алефа» на 10–15 страницах), и именно Борхес, в образе слепого испанского монаха Хорхе, охраняющий «святое святых» монастыря – Библиотеку, где хранятся книги, которые опасны для непосвященных, неслучайно стал одним из персонажей повествования. Независимо от своих личных намерений (и вопреки мнению критики), Эко в своем романе не столько редуцировал высокое к низкому, сколько, напротив, шел по пути великого аргентинца, пытаясь вернуть жанру его изначальный смысл и хитроумным способом обмануть пожирателя детективов: «Книга, – говорит он в заметках к роману, – начинается как детектив и разыгрывает наивного читателя до конца, так что читатель может и вообще не заметить, что перед ним такой детектив, в котором мало что выясняется, а следователь терпит поражение». Другое дело, что благие намерения часто обращаются в свою противоположность.
Так или иначе, «Имя Розы», и в особенности роман «Маятник Фуко» породили определенный тип литературы, вызвавший десятки подражаний. Случилось так, как если бы Библиотека, охраняемая сумрачным монахом Хорхе, не сгорела, как в романе, а была вскрыта и разграблена. То, что еще недавно если и не было, то казалось эзотерикой, исследовалось в трудночитаемых монографиях или же хранилось загадочными наследниками Рене Тенона, стало общим достоянием. Древние рукописи, тайные секты, общества посвященных, мировые заговоры, мистические ордена, розенкрейцеры, тамплиеры, масоны, зловещие монахи и т. д., – становятся штампами интеллектуального масскульта, кочующими из одного опуса в другой.
В 1997 году на американском книжном рынке был запущен очередной проект под названием «Genesis Code» («Код Бытия») – его автором была семейная пара, скрывшаяся под псевдонимом Джон Кейз. В нем присутствовали все признаки нового триллера: «подземелья Ватикана», Туринская Плащаница, католические ордена, монахи, ненавидящие весь «род человеческий», ученый, разгадавший «код бытия», расхожий антиклерикализм, череда необъяснимых убийств и т. д. Роман попал в списки бестселлеров, но особого шума не произвел. Причина очень проста: при всех достоинствах текст обладал одним существенным недостатком – он был относительно прилично (и традиционно) написан. Были выписаны характеры героев, психологические мотивировки, бытовые подробности, экшн, саспенс и хорор были строго дозированы, а до «сенсационных откровений» о тайнах христианской истории авторы не додумались. Автор «Кода да Винчи», чьи первые «технологические» триллеры – «Цифровая крепость», «Точка обмана» успеха не имели (понятно почему – секретные технологии и спецслужбы уже всех достали), был по всем признакам внимательным читателем не только «Маятника Фуко», но и «Кода бытия». И в своем собственном «Коде…» отбросил все «ненужные» составляющие – характеры, мотивировки, элементарное жизнеподобие. Его просчитанный на компьютере текст разбит на сто небольших главок, едва ли не в каждой из которых нагромождены невероятные и нелепые события, которых сочинителю старого закала хватило бы на добротный психологический роман. А его главной интригой стали фантастические «тайны» христианства: о вечной женственности, Леонардо, Иисусе и Марии Магдалине. Чем более дикими, невежественными и несуразными являются «разгадки», тем лучше. При хорошем запуске читатель проглотит все. Впрочем, в интервью автор романа, как и большинство его коллег, обязательно намекнет, что долго работал в неких «спецхранах» и причастен «подлинным тайнам».
Итак, рецепты новой кухни просты: читателю третьего тысячелетия, живущему во все более жестком, сжимающемся времени и пожирающему пухлые криптодетективы в метро, поездах и самолетах, как опиоману нужны все более сильные дозировки: ему не достаточно просто тайн, экшена, саспенса и хорора, ему нужны сверхтайны, сверхэкшен, гиперсаспенс и гиперхорор. Дозы все время должны увеличиваться, и так будет продолжаться до тех пор, пока ненасытный читатель не погибнет от передозировки.
Если раньше какой-нибудь патриархальный комиссар Мэгре расследовал убийство консьержки или банковского клерка (Сименон тоже был мужик не промах, все-таки 200 романов сочинил!), за которыми скрывались более или менее тривиальные семейные пороки или финансовые махинации, то теперь при расследовании убийства куратора Лувра читатель оказывается причастен «Великим Тайнам» истории.
По схожим рецептам сварены и т. н. «искусствоведческие детективы» (Иан Пирс, Петер Демпф, Перес Реверте и др.) с неизменными цитатами или эпиграфами из Борхеса. Как правило, уровень этих текстов выше, но сверхидея та же: наряду с копанием в грязном белье никому не известных людей читателю предлагают «тайны» и «разгадки» знаменитых творений величайших художников прошлого. Публикующий многие из этих сочинений на русском языке издательский холдинг «АСТ» порадовал читателя еще одной популярной серией брошюр (впрочем, тоже переводной), где вся мудрость мира – от Платона до Сартра и Фуко – постигается за 90 минут.
В несколько ином жанре – квазифилософской притчи – работает бразилец Коэльо. Герой его романа «Алхимик» тоже занят поисками не менее как философского камня. В предисловии для приличия и он цитирует Юнга, Борхеса и Блейка, вспоминает о Христе и Марии, но в тексте какие-либо интеллектуальные знаки намеренно отсутствуют. Он предельно элементарен, это даже не столько притча, сколько сказка, фэнтази с «эзотерикой для бедных». В принципе «Алхимик» совсем не плох – его вполне можно читать детям (Честертону несомненно бы понравилось – добро побеждает зло и герой достигает цели), но проблема не только в том, что читают его по преимуществу взрослые. Главное, что объединяет и интеллектуала Эко, и убогого Брауна, и «сказочника» Коэльо – их тексты не должны иметь никакого отношения к реальности, к ненавистной всем и всюду повседневности. Чем меньше «жизни», тем лучше! Она никому не нужна и никого не интересует. На худой конец есть «реалити-шоу» – кто желает, может подсмотреть в щелку.
Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. За ничтожное количество лет мир радикально изменился. Многомиллионный тираж «Имени Розы» вполне сопоставим с количеством проданных экземпляров «Кода да Винчи», но их разделяет бездна. Более нет не только необходимости знать дюжину языков и проводить дни и ночи в Библиотеке, но и основательно знать описываемую эпоху… Вся мудрость мира под рукой! Как можно меньше скуки жизни! Конвейер запущен. Продолжение следует.
Р. S. Философ Николай Лосский в своих мемуарах вспоминал, что в конце 80-х годов XIX века гимназисты перед сдачей выпускных экзаменов должны были в обязательном порядке исповедоваться и причащаться. Одним из серьезных прегрешений считалось чтение «романов», передававшихся из-под полы, особенно заграничных, как источников всяческого вольномыслия и разврата. Это были не только «Приключения Рокамболя», но и то, что ныне именуется классикой. Священник как раз и спросил Лосского на исповеди: «Что, романы читаешь? – с ударением на «о». – «Читаю, батюшка». «Нехорошо», – сказал священник, и на будущего философа наложили епитимью – отбить столько-то поклонов.
Сегодня в одной питерской интеллигентской семье растет вполне смышленый отпрыск, преуспевающий в точных науках, полночи проводящий за компьютером, почитывающий комиксы и фэнтези. Но для того, чтобы заставить его читать «романы» из школьной программы, родители разработали меры материального поощрения – столько-то рублей за определенное количество страниц. Причем ставка менялась в зависимости от сложности текста. Школа была с французским уклоном, так что кроме русской приходилось одолевать и французскую классику. «Утраченные иллюзии» и «Госпожа Бовари» читались очень тяжело и были названы «полным отстоем». «Милый друг» был принят несколько лучше, а Тургенев, у которого было обнаружено «слишком много соплей», читался с большим интересом. «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» не вызвали ни малейшего энтузиазма, но более всего не повезло автору «Войны и мира». Когда с огромными усилиями были взяты первые 50 страниц про салон Анны Павловны Шерер, возмущению мальчика не было пределов: «Это что же, четыре тома такой ботвы?!» В результате за Достоевского и Толстого назначили самую высокую ставку.
Но не исключено, что через полвека гимназистам будущего за чтение всевозможных «Кодов…» нашего времени придется тоже назначать материальное поощрение.
Реакция как прогресс (Жозеф де Местр)
Парадоксальным образом программное сочинение французского мыслителя, оказавшее существенное влияние на интеллектуальную атмосферу русского аристократического общества первой четверти XIX века (от Софьи Свечиной до Чаадаева) и изображенного Львом Толстым в «Войне и мире», появилось в русском переводе лишь 180 лет спустя. «Санкт-Петербургские вечера» были написаны в Российской столице, где философ в течение 15 лет (1803–1817) был посланником короля Сардинии. Ультрароялист, католик, непримиримый противник Просвещения и либерализма, яростный критик Бэкона, Вольтера, Жан-Жака Руссо и французских энциклопедистов, он был одним из первых представителей консервативных революционеров XIX столетия, включающих имена Томаса Карлейля, Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше, Жозефа Гобино, Константина Леонтьева, находившихся в радикальной оппозиции к либерально-просветительскому духу своего времени. Блестящий писатель и полемист, де Местр – «пламенный реакционер» в самом глубоком и точном смысле этого слова. Рационалистическому оптимизму эпохи он противопоставляет идею об изначальной испорченности человеческой природы, пораженной первородным грехом; человек, как и общество, отнюдь не руководствуется разумом, напротив, он глубоко иррационален. Индивидуум, как и все человечество, не столько стремится к свободе, (которая, по преимуществу, ведет к хаосу и разрушению, что наглядно продемонстрировала Французская революция), сколько к подчинению и порабощению.
Сегодня реакционные мыслители вызывают нашу симпатию уже тем, что при жизни – по крайней мере, в новейшее время – они всегда проигрывают. Как правило, даже самым успешным и осуществившимся из них, как, например, К. П. Победоносцеву, суждено было увидеть крушение своего жизненного проекта – всех охранительных иллюзий и надежд. Победа, в конечном счете, оказывается за их противниками – и счастлив тот, кто успевает умереть вовремя. Но вся ирония истории состоит в том, что любая победа «прогрессивного человечества» оказывается пирровой. Революции и исторические катастрофы раньше или позднее пожирают своих детей, а новый строй в лучшем случае оказывается столь же несовершенным, как и тот, что был разрушен, а в худшем – неизмеримо более страшным. Уничтожение одних пороков приводит к бурному цветению других.
Неумеренное развитие науки, техники, цивилизации может породить непредсказуемые последствия. Высказывания де Местра о грядущих судьбах Российской империи, которую он называл своей второй родиной, поразительны по своей точности и предвосхищают пророчества Константина Леонтьева:
«Если бы желание русских можно было запереть в крепость, оно разрушило бы ее до основания. Нет никого, кто умел бы желать так страстно, как русские. Посредством какого-то необъяснимого заблуждения великая нация достигает точки, где начинает казаться, что она может действовать вопреки законам мироздания. Русские всего хотят добиться в один день. Среднего пути нет. Человеку следует медленно ползти к установленным целям, никому не дано туда долететь! Русские усвоили две в равной степени несчастные идеи. Первое – ставить литературу и науку во главу угла, и вторая – сплавлять в единое целое преподавание всех наук…
Русские способны жить в свое удовольствие только в том доме, который только что купили. Все – от государственных законов до лент на платьях – все подвластно неумолимому вращению колеса ваших перемен… Во что превратятся эти несогласные элементы, приведенные в движение страстью к новизне, которые образуют, быть может, самую яркую черту вашего характера; страстью, непрестанно устремляющей вас навстречу новым предметам и вызывающей отвращение к тому, чем вы уже обладаете?..
Если нам придет в голову пожаловать свободу тридцати шести миллионам таких людей и мы сделаем это… в мгновение ока вспыхнет огромный пожар, который обратит в пепел всю Россию».
И далее:
«Стоит этим рабам получить свободу, как они очутятся в окружении наставников, более чем подозрительных, и священников, не имеющих ни силы, ни влияния. Не будучи готовыми к сему, они несомненно и внезапно перейдут от суеверия к атеизму, от пассивного повиновения к неудержимой деятельности. Свобода окажет на их страсти такое же воздействие, какое крепкое вино оказывает на человека, совершенно к нему не привыкшего. Само зрелище этой вольности развратит даже тех, кто не принимает в нем участия… К этому прибавьте безразличие, неспособность или чванство отдельных дворян, государства, преступные действия заграницы… а также нескольких Пугачевых с университетским образованием, и государство, по всей вероятности, буквальным образом расколется надвое…»
Католичество де Местра воинственно и парадоксально: религия – это единственная сила, которая может удержать людской род от деградации и самоуничтожения. «Он знал или чувствовал, что религии губит ординарность, и, спасая христианство, старался добавить ему остроты и жути». Это замечание Чорана предельно точно. Как и католик де Местр, православный Леонтьев стремился добавить «остроты и жути», напоминая в очередной раз о том, что вместе с христианством на землю пришел не только мир, но и меч. Для тех, кто хотя бы поверхностно знаком с идеями Леонтьева, близость двух мыслителей вполне очевидна. Но поразительным образом в сочинениях Леонтьева имя де Местра практически не встречается. Свободно читавший по-французски и страстно искавший предтеч и единомышленников как в России, так и в Европе, Константин Николаевич каким-то образом умудрился не заметить столь же неистового, сколь и гениального предшественника. Возможное объяснение заключается в том, что репутация «ультрареакционера» и «паписта» де Местра во второй половине девятнадцатого века была настолько одиозной, что объявить его своим союзником означало окончательно утратить авторитет не только во враждебном, либеральном, но и консервативно-славянофильском лагере.
В относительно спокойные периоды истории о таких мыслителях, как де Местр, вспоминают редко. Несмотря на несомненный успех в Петербурге и тесные отношения с Александром I, он был вынужден покинуть российскую столицу в 1817 году и скончался в Пьемонте четырьмя годами позднее, так нигде и не придясь ко двору. «Век невинности» похоронил философа на добрую сотню лет – о нем вспомнили лишь, когда над просвещенной и либеральной Европой заполыхало зарево мировых войн, катастроф и кровавых революций. В России в 1890-е годы наиболее содержательную и объективную статью о де Местре написал Владимир Соловьев, будущий кадет Павел Милюков отмечал его влияние на Петра Чаадаева, вышло несколько историко-биографических материалов, и это, пожалуй, все. Переводов основных работ де Местра на русский так и не появилось.
Естественно, о нем вспомнили в эпоху октябрьской катастрофы. Лев Карсавин пишет о нем наиболее обстоятельное и глубокое эссе из всех, что появилось на русском языке, но по понятным причинам и оно тогда не увидело свет, будучи опубликованным в «Вопросах философии» лишь в 1989 году.
И возвращается ветер… (Анатолий Марченко)
В начале декабря 1986 года произошло событие, о котором стало известно во всем мире, но мало кто знал в СССР. В Чистопольской тюрьме после четырехмесячной голодовки умер Анатолий Марченко – политзэк и писатель, автор книги «Мои показания», изданной к тому времени в десятках стран. Существует версия, что именно смерть Марченко стала катализатором дальнейших событий – Горбачев позволил Сахарову вернуться в Москву, а в январе 1987 года была объявлена амнистия и началось освобождение политзаключенных. У этой версии серьезные основания: смерть Марченко нанесла такой урон репутации страны и начинавшимся реформам, что даже Кремлю стало очевидно – подобного больше допускать не следует. Вдова Марченко, Лариса Богораз, в послесловии к другой его книге «Живи как все» вспоминала, что главным требованием голодовки мужа было освобождение политзаключенных в СССР. Постановление об амнистии уже готовилось, о чем было сообщено Марченко, ибо перед самой смертью он прекратил голодовку. Сегодня можно утверждать, что его добровольное жертвоприношение стало началом нового этапа в истории России.
Кем был Анатолий Марченко? В отличие от подавляющего большинства диссидентов, он не принадлежал к интеллигенции, а был родом из глухого сибирского городка, из семьи железнодорожного рабочего. Да и диссидентом он стал случайно: в 1958 году он был осужден за драку, в которой на самом деле не принимал участия, и отсидел два года в страшных карагандинских лагерях. После отчаянной попытки бегства за границу, в Иран, он получает второй, теперь уже шестилетний срок за измену Родине и попадает в печально знаменитые мордовские лагеря, где знакомится с настоящими политическими заключенным, в частности, с Юлием Даниэлем.
Главная книга Марченко «Мои показания» была написана после выхода из лагерей, распространялась в Самиздате, а в 1969 году опубликована «Посевом». Это первое свидетельство о жизни в после-сталинских лагерях («И возвращается ветер…» Буковского появится значительно позднее) – предельно простая, протокольная, жесткая и сильная проза, где мир политзаключенных тесно переплетается с миром уголовным. На Западе прозу Марченко сравнивали с прозой Жана Жене. Это было бы правомерно, если б не одно существенное обстоятельство: Жене с детства был вором, а его дальнейшая жизнь стала в своем роде метафизическим протестом против буржуазного существования. А Марченко оказался в несравнимо более кошмарном мире хрущовско-брежневского ГУЛАГа волею случая: в сущности, не совершив ни одного преступления, он провел двадцать лет в тюрьмах и лагерях, сумев сохранить удивительную чистоту и чувство собственного достоинства.
В семидесятые годы власти настойчиво пытались вытолкнуть Марченко в эмиграцию. Он мог бы легко уехать, но остался, выбрав самопожертвование.
С тех пор много воды утекло, страна неузнаваемо изменилась, но, судя по всему, постсоветский лагерный мир мало отличается от того, что описан в книгах Марченко. Разумеется, различия есть: статей об антисоветской агитации или измене родине больше нет, зато едва ли не каждый может быть заподозрен в «разглашении государственной тайны». Российская история сделала очередной вираж: тексты Марченко из исторических документов вновь становятся злободневным чтением. Никто ни от чего не застрахован, а государственной тайной может стать все что угодно.
И возвращается ветер…
Снова конец времен? (Эсхатологический сборник)
Давно не попадалось столь необычной книги. Даже не знаешь, как к ней подступиться. Российская Академия наук совместно с вполне академическим издательством «Алетейя» (СПб) выпустили фундаментальный «Эсхатологический сборник». С одной стороны, в нем наличествуют тексты ученых мужей, рассматривающих те или иные модели эсхатологических представлений далекого или недавнего прошлого. Исследователи – от Е. Афонасина до Н. Котрелева – анализируют учения, начиная с гностиков до эсхатологических концепций знаменитых российских мыслителей: Константина Леонтьева, Вл. Соловьева и Льва Тихомирова. Тексты серьезные, обстоятельные, со множеством ссылок и цитат.
С другой – тут же представлены работы современных метафизиков, мистиков и эсхатологов самой различной конфессиональной ориентации. Здесь присутствуют и иудеи (израильский публицист Дов Канторер), и исламисты (Гейдар Джемаль), и православные патриоты (от Владимира Карпеца до Сергея Фомина). Последний является составителем авторитетного в определенных кругах сборника «Россия перед Вторым пришествием».
Это удивительное знамение времени: «ученые» мужи соседствуют с не совсем «учеными» – мистиками, эсхатологами, апокалиптиками. И, наконец, в-третьих, есть и работы современных философов и политологов (В. Багдасарян, В. Цимбурский, А. Неклесса), рассматривающих нарастание апокалиптических представлений в мире – ив первую очередь в России. Рядом с бесстрастной аналитикой – пророчества и предсказания.
Руководитель проекта Дмитрий Андреев в предисловии отмечает, что так как цивилизация дошла до своего предела, то «каталогизация мира завершается». Начинается процедура учета и регламентации, «версии его конца, то есть – инвентаризация эсхатологии».
Цифры магически действуют на человеческое сознание. Всевозможные «круглые» или «подозрительные» даты испокон веков порождали настроения конца времен. Церковь, как западная, так и восточная, не только никогда не жаловала апокалиптиков и прорицателей, но часто применяла к ним довольно жесткие меры. Понятно, не человечьего ума дело судить о наступлении последних времен. В свое оправдание авторы ссылаются на мнение одного современного философа: «человеку не дано знать сроки, но ему же вменяется читать знаки».
Очевидно, что даже бегло обозреть столь оригинальный и неоднородный сборник невозможно, поэтому на Знаках и остановимся. Главные – на поверхности: миллениум, комета Галлея вместе со звездой «Полынь» в 1986 году, крушение СССР, распад Югославии, 11 сентября, вторжение США в Афганистан и Ирак, новый мировой порядок, глобализация, клонирование животных и людей, электронное кодирование, повсеместное вторжение «числа зверя» (666), которое одновременно является «числом денег» и т. д.
Что можно сказать по этому поводу? Нагнетание апокалиптики у здорового человека всегда вызывает реакцию отторжения, иронию. Когда-то Розанов, слушая апокалиптический доклад Владимира Соловьева, снизил его пророческий пафос падением со стула. Но не надо забывать, что и сам он закончил в 1919 году «Апокалипсисом нашего времени».
Пока я писал текст, в дверь – звонок. Стоит девушка: Вы читали Библию?» Узнаю их сразу же: исследователи Библии – «Свидетели Иеговы». Еще один знак.
Но все же лучшим ответом на вопрос: «Что бы вы делали, если бы наступил конец мира?» остается знаменитый ответ принца Гонзаго, 500 лет назад игравшего в мяч: «Продолжал бы играть».
Традиция и ничто (вместо послесловия)
Первая часть книги «Русское молчание. Изба и камень» начинается с эпиграфа: «Мы не должны, не смеем замазывать противоречие тестом своих философем! Пусть противоречие остается глубоким, как есть. Если мир познаваемый надтреснут, и мы не можем на деле уничтожить трещин его, то не должны и прикрывать их» (о. Павел Флоренский).
В книге мы встречаемся с широко известными русскими противоречиями: «апокалиптического бунта» и «культуры», Матери сырой земли (избы) и цивилизации (камня). «В этом невероятном алхимическом котле, породившем катастрофу в русской истории» (стр. 9), оказались самые честные и духовно бесстрашные души – русские западники и антизападнки, но часто все свершалось на недосягаемом по противоречивости уровне: «западники» начали русскую философию (Чаадаев), русские славянофилы были более всего близки Ше-лингу, Жозефу де Местру и др. мыслителям Запада.
Павел Кузнецов поднимается над бинарной оппозицией Запад-Восток, совершает экзистенциальный «прыжок», идет по водам «апофатического антиномизма» (Вл. Лосский).
Его установка – это «мудрость незнания». Его отношение к философскому наследию отмечено глубиной сопереживания, со-бытия, осознанием иерархизма мысли и духа.
Радует преданность автора Истине, пусть эта истина будет сколь угодно горькой и недоступной. Кузнецов (цитируя Галковского) признается: «смертность, хрупкость, возможно, главная особенность русского мышления» (стр. 12).
Прочтя книгу, где с такой пронзительной живостью даны портреты Артура Шопенгауэра, Антонена Арто, Генри Торо, Жозефа де Местра, Шарля Бодлера, Генри Торо, Борхеса и Набокова, Леона
Блуа, Юлиуса Эволы, Рене Домаля и многих русских мыслителей, невольно приходишь к выводу: всё настоящее в мировой философии предельно смертно и беззащитно. Общество потребления и спектакля уже давно объявило войну мысли. Для толпы мыслящие «безумцы» опасны и непонятны. Но Божьей волей, именно они создают сакральную историю человечества. Вершины всегда одиноки. И «кратчайший путь между вершинами – прямая» (Ницше).
Кузнецова интересуют только вершины. Или бездны («Бездна бездну призывает»). Его книга далека от интеллектуального провинциализма, столь распространенного в нашей философской среде. Он не посвящает ни строчки критике какого-нибудь «редукционизма»: фрейдистского, экономического, биологического и пр. Ему абсолютно чужды грубость и ложь любой идеологии.
Естественно, не теряет он времени на критику водевильного «неогегельянства» (местного марксизма) с его тезисом-антитезисом-синтезом. Книга «Русское молчание. Изба и камень» – это собор одиночек, «частных людей».
«Чудак же в большинстве случаев частность и обособление. Не так ли?
Вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом, и ответите: “Не так” или “не всегда так”, то я пожалуй и ободрюсь духом… Ибо не только чудак “не всегда” частность и обособление, а напротив бывает так, что он-то пожалуй и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи – все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались…» («Братья Карамазовы». От автора).
Глубочайшая основа русской ментальности – православие, а потому русская мысль исходит из молчания, опирается на юродство, не любит «принудительности» (Шестов), «объективации» (Бердяев), ординарности и срединности (Леонтьев), мертвечины (Розанов). Она достигает вершин и глубин познания, опираясь на особый, таинственный персонализм. «Истина невыразима, непостижима, непередаваема… Важна не истина, а бытие-в-истине, в конце концов, важно не то, что ты можешь помыслить и сказать, а кто ты есть» (подчеркнуто мною – Т.Г.) (стр. 68).
Этот персонализм не субъективен, не произволен[217]. Он подчинен «алмазным законам аскетики» (о. Павел Флоренский). Строгость и риск здесь идут рука об руку, гениальность совпадает со святостью, молчание – с мудростью. Это путь по «лезвию бритвы», путь «обратной перспективы», когда только идиот («блаженны кротции») владеет полнотой бытия. Это царский путь. В его основании – жертва и служение.
Все, названные сумасшедшими, изгоями, аутистами, оказываются наиболее реальными фигурами, которые, дойдя до ада, не отчаялись. По слову преп. Силуана: «Держи свой ум во аде и не отчаивайся».
Все, кого принимает всерьёз и о ком пишет Павел Кузнецов: Гельдерлин, Киркегор, Шопенгауэр, Ницше, Арто, Чоран, Достоевский, Платонов, Поплавский… познали истину о невозможности существования и прошли испытание болью. Но они несли в себе и противоположное начало – тоску по раю. Отсюда мысль Киркегора и Чорана о великом счастье «никогда не родиться». Ибо там, до рождения, был рай, а явление в этот мир – сошествие во ад.
Так, живя по закону «гераклитовской молнии», эти безумцы и одиночки встали во главе единого человеческого и сверхчеловеческого космоса. Как поётся в православном песнопении: безумием мнимое (?) безумие мира обличили.
Их одиночество – только по видимости «индивидуалистично». На самом деле оно соборно, как соборны царственность духа, внутренний аристократизм. Не зря Бодлер назвал гениального «аутиста» Людвига Баварского «единственным настоящим королем нашего времени». Аристократ не морализирует, не обвиняет других, а изначально соглашается нести ответственность за весь мир только на своих собственных плечах. Выбирая поражение, он побеждает.
Это уже не «романтический» гений, а вестник Иного. Жозеф де Местр (о котором многократно говорится в книге), одинаково французский и русский (по силе влияния) мыслитель, часто говорил о необходимости поражения, о том, что благополучная ординарность – главный враг Бога, а для религиозности нужны «соль и жуть».
Ницше писал когда-то, что «ни один художник не в состоянии вытерпеть реальность». Сегодня можно сказать: «едва ли не любой человек не в состоянии вынести реальность» (стр. 281).
В наше время – время виртуальных и гиперреальных симулякров, победы технократов и сатанинской экспансии «Ничто» – многие пытаются вернуться к традиции. Консервативные течения в философии всё громче заявляют о себе[218].
Традиция опять насыщает души и умы: «Произведения искусства не только помогают нам выжить перед лицом потери: они развивают в нашем воображении то, что более счастливые люди получали сразу – мир сакрального (Roger Scruton. “Notre heritage est aussi la proriete de ceux qui ne sont pas encore nes”. Le Figaro, 19.09.2016).
He случайно именно в России, стране и западной, и восточной, одним из самых популярных движений в рядах мыслящих патриотов становится неоевразийство. Павел Кузнецов подробно анализирует «концепты» и жизненные установки самых ярких представителей этого направления. Он указывает и на серьезные «слабости» московского неоевразийства.
Современные неотрадиционалисты борются не только с модернизмом (он уже и так преодолен), но – что важнее – с постмодернизмом. И здесь они предлагают не совсем честный ход: чтобы покончить с постмодернизмом, нужно самим стать немного «несерьезными», лучше сказать, притвориться таковыми. И истина подменяется мифом, фантазиями, оккультизмом… «Разумеется, это не философия или метафизика, а мифотворчество, манипуляция сознанием, для которого различие между истиной и ложью несущественно: она озабочена лишь влиянием на общество, власть и, конечно же, откровенным стремлением к власти» (стр. 145).
Но то, что Россия одновременно и Европа, и Азия, что она выше всяких дуализмов, с необыкновенной внимательностью раскрыто в статьях Павла Кузнецова. У русских «процесс познания является способом жизни, а не способом мышления. В индуистской традиции единство бытия и истины именуется термином “сатья”, и как бы бесконечно далеко не отстояло православие от индуизма, именно здесь оно совпадает с языческим Востоком, а не с христианским Западом и его изначальным субъект-объектным дуализмом. Восток и Запад не просто сошлись в России, они срослись, соединились в единое нерасчленимое целое на пространстве гигантского материка. В этом – глубинная сущность этноса, некое онтологическое ядро, которое в своих эмпирических проявлениях постоянно обнаруживает за “западной оболочкой” “восточное содержание” и на поверхности определяет очень многое: и евразийский хаос, и темную русскую тоску, и русский ужас, и русскую свободу» (стр. 68).
Путь Мысли идет через жертву, рану, боль. В книге есть текст «Реквием по авангарду». Автор цитирует В. Розанова: «Боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни. Вот отчего религия всегда будет одолевать философию».
Отвергая Zeitgeist и любой трусливый конформизм, Павел Кузнецов принимает жизнь в мире, не имеющем смысла, выбирает свой путь без какой-либо внешней опоры. Он сам становится опорой для этого всё ещё загадочного мира: «Да, мы живем в некрополе, всё прожито и жизнь на кладбище грустна, но только это и остается – жить».
Выход, точнее «прыжок» из антиномии «сознание-жизнь» всегда ведет к победе жизни. И в этом – глубина, свет мудрость, ведь верующий человек начинает любое дело с молитвой к Святому Духу, Жизни, Подателю. В этом великое отличие Православия, оно выражено в догматах и, главное, живет в крови. И жизнь в русском понимании не редуцируется до биологии, физической силы, гедонистического потребления.
Однажды автор этих строк посетила большое собрание немецких священников. Среди прочего обсуждали «недостатки» и неполную «католичность» выдающегося и любимого студентами священника патера Ниссена. И приговор был единогласным: «Патер Ниссен слишком живой».
Как это умонастроение противоречит русской стихии: в «святой русской литературе» (Томас Манн) главное – «живая жизнь»[219]. Она – и катарсис, и тайна, и новое начало, и умная эсхатология. Книга «Русское молчание. Изба и камень» захватывает своей живой герменевтикой, потрясает глубиной понимания того, что в принципе непостижимо. Любовное внимание Павла Кузнецова к глубочайшим явлениям мировой культуры заражает и читателя. И хочется вспомнить гумилевское: «Так, значит, не все перечислены звёзды, так значит, наш мир не открыт до конца».
Татьяна Горичева
Приложение
В первоначальных редакциях тексты печатались в следующих изданиях:
Метафизический Нарцисс и русское молчание (П. Я. Чаадаев и невозможность философии в России). – «Вопросы философии», 1997, № 8; «Звезда», 1997, № 8.
Борьба с тяготением: Лев Шестов – несчастное сознание и счастливая судьба. – «Звезда», 2001, № 12.
Русский Феникс, или Что такое философия в России. – «Звезда», 2001, № 5.
Предсмертные книги Розанова. – «Звезда», 2003, № 8.
Евразийская мистерия. – «Новый Мир», 1996, № 2.
Многоликий Янус: (нео)евразийство в России. – «Звезда», 2010, № 6.
Петербург: конец века. – «Звезда», 1998, № 7.
Метафизика и практика Петербурга. – «Звезда», 2002, № 10.
Утопия одиночества. Набоков и метафизика. – «Новый мир», 1992, № 10.
«Крах литературоцентризма»: истина или изящная словесность? – «Звезда», 2001, № 10.
Горе от ума: Сигизмунд Кржижановский и русская литература. – «Звезда», 2003, № 2.
Последний князь и русская словесность. – «Звезда», 2011, № 2.
Эмиграция, изгнание, Кундера и Достоевский. – «Звезда», 2002, № 4.
Три революции: 1789, 1917, 1991. Послесловие к Жозефу де Местру и Александру Солженицыну. – «Звезда», 2010, № 12; «Русский мiр», № 3, 2011.
Краткая история доктора Фауста. – «Звезда», 2012, № 8.
Убежище или Метафизика безумия. – «Сеанс», №№ 39–40.
Жак Деррида или предательство Декарта. – «Звезда», 2016, № 10.
Бог и Бодрийяр. – «Звезда», 2016, № 10.
Слотердайк как апостол прогресса. – «Звезда», 2016, № 10.
Реквием по авангарду. – «Звезда», 2002, № 2.
Pulp fiction, скука жизни и «тайны истории». – «Сеанс», № 29/30.
Другие тексты были опубликованы в журнале «Октябрь», «Новый мир искусства» (СПб), газете «Русская мысль» (Париж), еженедельнике «Хроника» (СПб), журнале «Посев» (Франкфурт-на-Майне), журнале «Ступени» (СПб).
Павел Вениаминович Кузнецов -
писатель, философ, критик, автор работ по истории русской и западноевропейской философии и литературы. Печатался в «Вопросах философии», «Новом мире», «Звезде», «Октябре», «Русской мысли», «Посеве», «Новой русской книге», «Новом мире искусства», «Сеансе», «Независимой газете» и др. Автор романа «Археолог» (Лондон, 0PI, 1992; СПб, 2003). Главный редактор Санкт-Петербургского альманаха «Ступени» («СТ»).
Интеллектуальное достоинство в полной мере присутствует в каждом из текстов: как расслышанность мысли, как строгое соблюдение метафизической и исторической перспективы. Однако особого внимания заслуживают литературные достоинства книги, ее полная пригодность для чтения, что является большой редкостью в наши дни…
Александр СЕКАЦКИЙАвтор обладает редкой способностью переводить абстрактный язык философских терминов в пластическую образность интеллектуальной прозы, в которой отвлеченные понятия и категории обретают художественную емкость, ясность и глубину.
Андрей АРЬЕВПримечания
1
В 1921 году он пошлет оттиск этого цикла, вошедшего в сборник «Песнослов: прямо в Кремль вождю. Отзывы Ильича нам неизвестны.
(обратно)2
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М. 1992. С. 233.
(обратно)3
Устрялов М. В. Национал-большевизм. М. 2003. С. 273
(обратно)4
Простая статистика показывает, что, за исключением богатых купеческих старообрядческих династий, большая часть раскольников и сектантов первоначально восприняло революцию как освобождение от Государства и Синодальной церкви.
(обратно)5
Единственным человеком, который для Клюева отличался от других «растленных горожан», был Александр Блок.
(обратно)6
Эта ненависть в самых различных формах благополучно просуществовала и до сего дня, достаточно вспомнить деревенскую прозу Василия Белова, Виктора Астафьева, Дмитрия Балашова и др.
(обратно)7
Флоровский Г. Пути русского богословия. Paris. 1988. С. 1.
(обратно)8
Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избранные письма в 2-х тт. Т. 1. М. 1991. С. 329.
(обратно)9
Страстный русский рационалист Густав Шлет в своем очень эмоциональном «Очерке истории русской философии», который, в сущности, является подробным развитием чаадаевской концепции, дает этому традиционное, но слишком простое объяснение: «Не природная тупость русского в философии, не отсутствие живых творческих сил… а исключительно невежество не позволило русскому духу углубить в себе до всеобщего сознания европейскую философскую рефлексию». (Шпет Г. Г. Сочинения. М. 1992. С. 49).
(обратно)10
Галковский Д. Русская политика и русская философия. – В кн.: Иное. Россия как субъект. М. 1995. С. 5.
(обратно)11
Мандельштам О. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М. 1990. С. 151.
(обратно)12
«Новый мир». 1991. № 3. С. 239; См.: Розанов В. Чаадаев и кн. Одоевский. – «Новое время», 10 апреля 1913.
(обратно)13
«Дендизм у нас не был элементарным “искусством повязывать галстук”. В лице своих лучших представителей он являл одну из попыток придать взбаламученной русской жизни и расплывчатым отечественным нравам законченный чекан и определенную граненость». (Гроссман Л. Пушкин и дендизм. – В кн. Л. Гроссман. Этюды о Пушкине. М.-Пг. 1923. С. 36.)
(обратно)14
. Жихарев М. И. Докладная записка потомству о П. Я.Чаадаеве. – В кн.: Русское общество 30-х гг. XIX в. М. 1989. С. 56.
(обратно)15
Розанов В. Литературные изгнанники. London 1992. С. 142–143.
(обратно)16
Жихарев М. И. Докладная записка… С. 57.
(обратно)17
Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч… Т. 1. С. 791.
(обратно)18
Тарасов Б. Чаадаев. М. 1986. С. 387.
(обратно)19
Батталье Ф. Фрейд, его жизнь и учение. М. 1922. С. 42.
(обратно)20
Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч… Т. 2. С. 12
(обратно)21
Там же. Т. 1.С. 467, 461.
(обратно)22
Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1.СП6. 1993. С. 109.
(обратно)23
Чаадаев П. Я. Сочинения. М. 1989. С. 530.
(обратно)24
Чаадаев сначала, по-видимому, растерялся и обнаружил большое малодушие… Написал после допроса и обер-полицмейстеру, сам после обыска доставил ему две свои рукописи, бывшие в день обыска вне его квартиры, – и все это с целью доказать властям, «сколь мало он разделяет мнение ныне бредствующих умствователей» {Гершензон М. О. Грибоедовская Москва. Чаадаев. Очерки прошлого. М. 1990. С. 156.). То есть, прежде всего, Чаадаев хотел показать, что его неправильно поняли и «Письмо» совсем не является сатирой, как его восприняло большинство современников.
(обратно)25
Самое удивительное в том, что НИКТО из русских религиозных философов, бродивших вокруг и «около церковных стен», и даже богословов, вошедших внутрь и написавших горы религиозно-философских книг, – внятно не изложил основы мистического миропонимания православия. Исключением является лишь С. Булгаков, у которого в «Свете невечернем» есть обстоятельный, но чисто академический очерк отрицательного богословия, где, однако, проблема соотношения апофатики и собственно православия не затрагивается; а в его книге «Православие» об апофатике нет ни слова вообще. Православная апофатика была раскрыта лишь В. Н. Лосским в книге «Очерк мистического богословия Восточной Церкви», вышедшей в 1944 году в Париже на французском языке. Эта ныне знаменитая книга была переведена на русский лишь в 1972 году и по сей день является едва ли не единственным каноническим изложением мистической теологии православия. То есть до этого времени за всю историю существования философско-богословской мысли в России собственные «гносеологические корни», вытекающие из святоотеческого Предания, так никем и не были осознаны. См. также недавно переведенную на русский книгу X. Яннараса «Вера Церкви. Введение в православное богословие». М. 1992. С. 211. и работу Татьяны Горичевой «Апофатика и философия» – В кн.: Православие и постмодернизм. Л. 1991. С. 51–57, где подробно раскрыто апофатическое богословие Восточной Церкви.
(обратно)26
Флоровский Г. Восточные Отцы V–VII вв. Paris. 1990. С. 102.
(обратно)27
В этом фундаментальное отличие мышления восточной патристики от западной. Это прекрасно показано в книге греческого православного богослова X. Яннараса «Вера Церкви. Введение в православное богословие». «Отказ от апофатизма в познании восходит, несомненно, к юридическому духу римской традиции» и связан с «именем Августина, который не получил эллинистического образования и даже не знал греческого языка. Он изучал главным образом право… и позднее перенес дух строгой объективности на область гносеологии. Как система законов укрепляет объективные и действенные гарантии социальной гармонии, так определения истины, неизбежно схематичные, но зато общедоступные, обеспечивают эффективность познания, выступая как своего рода “право” истины… Так истина была отождествлена с ее определением, а познание – с индивидуальным усвоением формулировок. Истина оказалась оторванной от динамики жизни, была сведена к чисто рассудочному моменту, к правильному способу рассуждения» (Яннарас Христос. Вера Церкви… С. 216–217). Отсюда истина становится принудительной, а принудительность – агрессивной (именно с этой принудительностью всю жизнь безуспешно воевал Лев Шестов), из этого вытекает и экспансионизм западной цивилизации.
(обратно)28
Яннарас Христос. Вера Церкви… С. 47.
(обратно)29
Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 2.
(обратно)30
Флоренский П. Соч. в 4-х тт. Т. 1. М. 1994. С. 660.
(обратно)31
Шпет Г. Сочинения. С. 26.
(обратно)32
Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 505
(обратно)33
Как ни странно, Флоровский, прекрасно знавший апофатическое богословие, вопрос о его трансформации на русской почве в своих «Путях русского богословия» почему-то обошел молчанием.
(обратно)34
Недаром Ареопагит в трактате «О мистическом богословии» опасается, «чтобы никто из непосвященных об этом не услышал»; под «непосвященными» он понимает не только «непричастных таинствам… и воображающих, что выше Сущего вообще ничего нет», но и просто «совершенно невежественных людей».{Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. СПб. 1995. С. 343).
(обратно)35
Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 503.
(обратно)36
Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч… Т. 2. С. 129.
(обратно)37
Там же. С. 100.
(обратно)38
Ульянов Н. «Басманный философ». – Вопросы философии. 1991. № 5.
(обратно)39
Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель. 1977. С. 44.
(обратно)40
Леонтьев К. Избранные письма. СПб. 1993. С. 534–535.
(обратно)41
Гессе Г. Письма по кругу. М. 1987. С. 106.
(обратно)42
Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч… Т. 2. С. 791.
(обратно)43
Памятники литературы Древней Руси. Конец XV-первая половина XVI века. М. 1984. С. 443, 501.
(обратно)44
Житие Аввакума и другие его сочинения. М. 1991. С. 15, 24,28.
(обратно)45
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. 1979. С. 105.
(обратно)46
Цит. по: Шпет Г. Г. Сочинения. М. 1992. С. 76.
(обратно)47
Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми тт. Т.6. М. 1967. С. 254–255.
(обратно)48
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти тт. Т. 20. М. 1980. С. 196–197.
(обратно)49
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М. 1993. С. 891.
(обратно)50
Первое П. Д. Философ в провинции. – В кн.: В. Розанов: Pro et contra. СПб. 1995. С. 94–95.
(обратно)51
Сегодня считается, что в этой книге Розанов предвосхитил герменевтику, Гадамера и Хайдеггера и сделал множество других открытий. За русскими почему-то всегда числятся не очень почетные заслуги предвосхищения – так Лобачевский предвосхитил Римана, Данилевский – Шпенглера, и т. д. Мы все время оказываемся в положении викингов, которые открыли Америку, но так как из этого ничего не последовало и этого никто не заметил, то Колумбу пришлось открывать ее заново.
(обратно)52
Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1. С. 109.
(обратно)53
Леонтьев К. Избранные письма. С. 602–603.
(обратно)54
Вестник РХД. 1985. № 144. С. 78.
(обратно)55
Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911–1928). Париж. 1991. С. 260–261.
(обратно)56
Шестов Л. Соч. в 2-х томах, т. 2 (На весах Иова). Москва. 1993. С. 27.
(обратно)57
Характерно, что две первые книги Шестова были напечатаны им за свой счет, все издательства и журналы отказывались от них.
(обратно)58
Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления. Ленинград. 1991. С. 54, 88.
(обратно)59
Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. С. 100–101.
(обратно)60
Там же. С. 89.
(обратно)61
Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. С. 85.
(обратно)62
Булгаков С. Н. Соч. в 2-х томах, т. 1. М. 1993. С. 519.
(обратно)63
Герцык Е. Воспоминания. Париж. 1973. С. 103.
(обратно)64
Штейнберг А. Друзья моих ранних лет… С. 256–257.
(обратно)65
Benjamin Fondane. Rencontres avec Leon Chestov. Paris. 1982. P. 37–38.
(обратно)66
Шестов Л. Sola Fide – Только верою (Греческая и средневековая философия. Лютер и Церковь). Париж. 1966. С. 119–120.
(обратно)67
Вопреки утверждениям Шестова, Киркегор был известен в России на рубеже XIX–XX веков, было переведено две книги Киркегора и появилось несколько статей о нем. Достаточно сказать, что датчанина внимательно читал Толстой, а Шестов, по необъяснимым причинам, прошел мимо него.
(обратно)68
Фокин С. Л. Жорж Батай в 30-е годы: философия, политика, религия. СПб. 1998. С. 16.
(обратно)69
Шестов Л. Соч. в 2-х томах, т. 1 (Афины и Иерусалим). С. 609–610.
(обратно)70
Шестов Л. Умозрение и Откровение. Париж. 1964. С. 257–258.
(обратно)71
Бердяев Н. Типы религиозной мысли в России (Лев Шестов и Киркегор). Париж. 1989. С. 401.
(обратно)72
Булгаков С. Н. Соч. в 2-х томах, т. 1. С. 533.
(обратно)73
Иванов Вяч. и Гершензон С. О. Переписка из двух углов. СПб. 1921. С. 11–12.
(обратно)74
Бердяев Н. Типы религиозной мысли в России. С. 402.
(обратно)75
Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. С. 286.
(обратно)76
Более подробно об отношениях двух мыслителей см. в статье «Русский экзистенциализм? Николай Бердяев и Лв Шестов».
(обратно)77
См.: Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб. 1995. С. 107–112.
(обратно)78
Benjamin Fondane. Rencontres avec Leon Chestov. Paris. 1982. P. 37–38.
(обратно)79
Бердяев Н. Самопознание. Ленинград. 1990. С. 133.
(обратно)80
Русская религиозно-философская мысль XX века. Сборник статей под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург. 1975. С. 160.
(обратно)81
Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления. Ленинград. 1991. С. 88.
(обратно)82
Цит. по: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. Paris. 1983. С. 74–75.
(обратно)83
Там же. С. 76–77.
(обратно)84
Цит. по: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. С. 286.
(обратно)85
Там же.
(обратно)86
Там же. С. 287.
(обратно)87
Там же. С. 288.
(обратно)88
См.: Русская религиозно-философская мысль XX века. Сборник статей под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1975.
(обратно)89
Более подробно о философии в России в советскую и постсоветскую эпоху см.: Философия не кончается… Из истории отечественной философии: XX век: В 2-х кн. М, 1999; Alyssa DeBlasio. The End of Russian Philosophy Tradition and Transition at the Turn of the 21st Century. London-New York. 2014.
(обратно)90
Помимо фундаментальной «России и Европы» Н. Я. Данилевского, статьи с таким же названием можно обнаружить у Герцена, Вл. Соловьева, Н. Бердяева (в книге «Судьба России), Л. Карсавина («Россия и Европа. Наброски евразийской идеологии»). Далее следует назвать лишь известные работы, свидетельствующие о навязчивой повторяемости этой темы: И. Киреевский «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России»; К. Кавелин «Философия и наука в Европе и у нас»; Ф. Тютчев «Россия и Запад»; К. Леонтьев «Византизм, Россия и славянство»; С. Ф. Платонов «Москва и Запад»; Н. Бердяев «Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы»; Л. Карсавин «Восток, Запад и русская идея»; В. Зеньковский «Русские мыслители и Европа»; Г. Федотов «Россия, Европа и мы»; В. Вейдле «Россия и Запад» и т. д. Кроме того, от «Философических писем» Чаадаева до итоговой книги Г. Адамовича «Комментарии» эта же тема является основной в огромном количестве историософских работ, хотя она и не вынесена в заглавие.
(обратно)91
Как давно замечено, понятия «Восток» или «Азия» трудно определимы. В широком смысле к ним относят все, отличное от Запада и Америки, иными словами, Восток – это не Запад. В данной работе речь будет идти не столько об аутентичном Востоке – исламском, индуистском, буддийском или китайском, сколько о его отражении в русском самосознании XIX–XX столетий. Здесь сложился определенный мифологический язык, в котором понятия «буддизм», «Китай», «Азия», «Индия», «скифство», «монголизм», «туранство» часто весьма далеки от своего первоначального смысла.
(обратно)92
Франк С. Л. Этюды о Пушкине. Мюнхен. 1957. С. 95.
(обратно)93
Герцен А. И. Буддизм в науке. – Собр. сочю в 9-ти томах. Т. 2. М. 1955. С. 70.
(обратно)94
Соловьев В. С. Литературная критика. М. 1990. С. 94.
(обратно)95
Соловьев В. С. Соч. в 2-х томах, т. 2. М. 1989. С. 432.
(обратно)96
Там же.
(обратно)97
«Русское обозрение», 1890. Т. I. С. 677.
(обратно)98
«Русское обозрение», 1890. Т. I. С. 677.
(обратно)99
Соловьев В. С. Смысл любви. Избранные произведения. М. 1991. С. 431.
(обратно)100
Там же. С. 432.
(обратно)101
Мережковский Д. С. Плн. собр. соч… Т. XIV. М. 1914. С. 8, 10, 11.
(обратно)102
Самарин Ю. Сочинения. Т. 1. М. 1877. С. 98.
(обратно)103
Показательна в этом отношении судьба крупнейшего русского синолога, отца Иакинфа (Бичурина), пытавшегося объяснить, что Китай – это не только «косность» и «застой», но древняя великая цивилизация. В лучшем случае многочисленные работы о. Иакинфа о «срединном царстве» удостаивались снисходительной похвалы, но в целом в глазах общественного мнения этот монах оставался странным чудаком, увлеченным восточной экзотикой. «Властители дум» того времени видели в его книгах лишь то, что хотели увидеть. В качестве примера можно привести отклик В. Г. Белинского на его работу «Китай в гражданском и нравственном отношении» (СПб., 1848). «Отец русской интеллигенции» в духе времени не жалеет ярких красок: «Исчисление родов китайских преступлений даже у почтенного отца Иакинфа хоть кого приведет в ужас… Все это свидетельствует о нравственности народа. Лицемерие, лукавство, ложь, притворство, унижение – натура китайца. И как быть иначе там, где церемония поглощает всю духовную жизнь народа… Вся жизнь китайца словно пеленками связана церемониями. Становиться на колени и бить поклоны – это его священная обязанность… Китай – страна неподвижности; вот ключ к разгадке всего, что в нем есть загадочного, странного. Тут ничего нет проникнутого идеей государственного и народного развития: все держится на закоснелом обычае…» (Белинский В. Г. Соч. в 9-ти томах. Т. 8. М. 1991. С. 598–599).
(обратно)104
Чаадаев П. Я. Соч. в 2-х томах. Т. 2. М. 1991. С. 103–104.
(обратно)105
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 27. Л. 1984. С. 33–37.
(обратно)106
Лермонтов М. Ю. Поли. собр. соч. Т. 2. М. – Л. 1936. С. 250.
(обратно)107
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М. 1991. С. 71.
(обратно)108
Горький М. Статьи 1905–1916. Изд. 2-е. Птг. 1918. С. 184.
(обратно)109
Бердяев Н. Соч. в 4-х томах. Т. 4. Париж. 1990. С. 108, 107.
(обратно)110
Примечательно в этом отношении определение Востока у X. Л. Борхеса в его лекции о «Тысячи и одной ночи»: «Я говорил, что понятия “Восток” и “Запад” – обобщения, что ни один человек не чувствует себя восточным. Я предполагаю, что человек ощущает себя персом, индусом, малайцем, но не восточным… И тем не менее понятие существует… На чем же оно основано?.. Прежде всего на идее мира крайностей, в котором персонажи либо очень счастливы, либо очень несчастны, очень богаты, или очень бедны. Миры царей, которые не должны объяснять, что они делают. Царей, которые, можно сказать, безответственны, как боги. Кроме того, на идее клада. И на идее магии, чрезвычайно важной». Иными словами, Восток, по Борхесу, основан на трех вещах, это – мир крайностей, идея клада (как возможность чуда и преображения) и магия – причинность особого рода, способность вызывать духов и творить чудеса.
(обратно)111
Розанов В. В. Мимолетное. М. 1994. С. 413.
(обратно)112
Леонтьев К. Избранное. М. 1993. С. 168, 147.
(обратно)113
См.: Бердяев Н. Константин Леонтьев. Париж. 1926. С. 211.
(обратно)114
«Вестник РХД». – Париж. 1977. № 123. С. 180.
(обратно)115
Бердяев Н. Константин Леонтьев. С. 54–55.
(обратно)116
Там же. С. 226–227.
(обратно)117
Нэф Мэри. Личные мемуары Е. П. Блаватской. М. 1993. С. 268.
(обратно)118
Бердяев Н. Соч. в 4-х томах. Т. 3. Париж. 1989. С. 483.
(обратно)119
Флоровский Г. Пути русского богословия. Изд. 4-е. париж. 1988. С. 484–485.
(обратно)120
Мандельштам О. Соч. в 2-х томах. Т. 2. М. 1990. С. 199.
(обратно)121
Нэф Мэри. Личные мемуары Е. П. Блаватской. С. 289.
(обратно)122
Вышеславцев Б. Кришнамурти. (Завершение теософии). – «Ступени», философский журнал. СПб. 1991. № 1. С. 124.
(обратно)123
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л. 1989. С. 506.
(обратно)124
Ходасевич В. Некрополь. – В кн.: Серебряный век. Мемуары. М. 1990. С. 179.
(обратно)125
Там же.
(обратно)126
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 506–507.
(обратно)127
Блок А. Дневники. М. 1989. С. 260–261.
(обратно)128
В этом отношении прав Даниил Андреев, который в «Розе мира» рисует путь Блока как гибельное падение, происходившее одновременно с творческим расцветом, закончившееся в последние годы «умиранием заживо».
(обратно)129
49 Иванов Вяч., Гершензон М. Переписка из двух углов. Пг. 1921. С. 16.
(обратно)130
Юзефович Л. Самодержец пустыни. Феномен судьбы Р. Унгерн-Штернберга. М. 1993. С. 235.
(обратно)131
Там же. С. 12–13.
(обратно)132
Оссендовский Ф. Звери, люди, боги. Рига. 1925. С. 174.
(обратно)133
Там же.
(обратно)134
Юзефович Л. Самодержец пустыни… С. 146.
(обратно)135
Оссендовский Ф. Звери, люди, боги. С. 178.
(обратно)136
Юзефович Л. Самодержец пустыни. С. 59–60.
(обратно)137
«Высшее, основное европейское искусство есть искусство одеваться, искусство половой борьбы, полового подбора, которое и создало промышленное государство… Ибо женщина, пользуясь всеми произведениями фабрик и заводов для соблазна мужчин, заставляет и сих последних пользоваться произведениями тех же фабрик и заводов, чтобы и в свою очередь путем соперничества друг с другом действовать на нее…» (Федоров Н. Ф. Сочинения. М. 1982. С. 446–447).
(обратно)138
Юзефович Л. Самодержец пустыни. С. 61, 225.
(обратно)139
Сопровождавшие Ф. Оссендовского казаки рассказали ему, что, когда во время боя барон по обыкновению сам поскакал в атаку, китайцы узнали его и открыли по нему прицельный огонь. Потом в седле, седельных сумах, сбруе, халате и сапогах
Унгерна обнаружили следы будто бы семидесяти пуль, но он не был даже ранен. Этим чудом, по словам Оссендовского, его собеседники объясняли громадное влияние своего начальника на монголов.
(обратно)140
Юзефович Л. Самодержец пустыни. С. 225, 226.
(обратно)141
В Азиатской дивизии, измотанной в боях с многократно превосходящими силами красных, возникает заговор, в результате которого Унгерн попадает в плен, не успев покончить жизнь самоубийством. После судебного процесса, устроенного большевиками с невероятной помпой, он, по личному указанию Ленина, был казнен в сентябре 1921 года. Обвинителем на процессе выступал Емельян Ярославский.
(обратно)142
Оссендовский Ф. Звери, люди, боги. С. 191–192.
(обратно)143
См.: Савицкий П. Н. Подданство идеи. – «Евразийский временник». 1923, кн. 3; Трубецкой Н. С. Об идее-правительнице идеократического государства. – «Евразийская хроника». 1935. Выпуск XI.
(обратно)144
«Начала». М. 1992, № 4. С. 60–61.
(обратно)145
«Евразийство… порождение эмиграции. Оно подрумянилось на маргарине дешевых столовок, вынашивалось в приемных в ожидании виз, загоралось после спора с консьержкой, взошло на малой грамотности, на незнании России теми, кого революция и беженство застигли подростками» (Чебышев Н. Впечатления. – «Возрождение». Париж. 1927, 16 февраля).
(обратно)146
См.: Хоружий С. С. Трансформация славянофильства в XX веке. – «Вопросы философии», 1994, № 11. С. 56.
(обратно)147
Карсавин Л. Восток, Запад и русская идея. – В кн.: «Русскя идея». М. 1992.
(обратно)148
Федотов Г. Лицо России. Статьи 1918–1930. Paris, 1988. С. 74.
(обратно)149
Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж. 1988. С. 501–502.
(обратно)150
Шкловский В. Сентиментальное путешествие. М.1990. С. 322–323.
(обратно)151
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М. 1994. С. 323.
(обратно)152
Адамович Г. Комментарии. Washington, 1967. С. 5.
(обратно)153
Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период. Л., 1989; Этногенез и биосфера земли. Л., 1990; Заметки последнего евразийца. – «Наше наследие», 1991, № 3; Ритмы Евразии. – «Наш современник», 1992, № 10 и др.
(обратно)154
Достаточно объективное изложение идей классического евразийства см. в кн.: Ларюэль Марлен. Идеология русского евразийства, или мысли о величии империи. М. 2004.
(обратно)155
См.: «Элементы. Евразийское обозрение», №№ 1–8, М. 1992–1996.
(обратно)156
Лимонов Э. Моя политическая биография. Сказочник Дугин. НБП-инфо, 2003. URL: -info.ru/new/lib/lim_biography/bio6.htm.
(обратно)157
Дугин А. Русская вещь. В 2-х тт. М. 2002. Т. 1. С. 187.
(обратно)158
^м.: Был ли Петр Первый масоном? – -europe.eu/index. php / comments/66-comments-russia/2979-2015-07-27-02-24-17.
(обратно)159
См.: Асадова Н. 3., Мацих Л. А. Тайны Петербурга. М. 2014.
(обратно)160
Там же. С. 47.
(обратно)161
Здесь можно привести характерный фрагмент из повести «Соглядатай»: «Глупо искать закона, еще глупее его найти. Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с туго набитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массами, и тогда несдобровать отдельному индивидууму с его двумя бедными “у”, безнадежно аукающимися в чащобе экономических причин. К счастью, закона никакого нет – зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж – все зыбко, все от случая…»
(обратно)162
Набоков редко позволяет себе прямые высказывания, но в романе «Пнин» есть непосредственный и весьма ироничный выпад. Там говорится о Православной Церкви как о «благостной общине, так мало требующей от совести по сравнению с теми утешениями, которые она сулит».
(обратно)163
На эту тему существует целая монография: В. Александров. Набоков и потусторонность. СПб. 1999.
(обратно)164
К тому же редкие политические высказывания Набокова всегда остаются в рамках либеральных «общих мест», оппозиции «прогрессивное-реакционное». В этом смысле Достоевский для него, помимо всего прочего, – писатель с «реакционными взглядами».
(обратно)165
В эссе «Литература против здравого смысла» (русский перевод – журнал «22», 1984, № 35) Набоков, пожалуй, наиболее полно раскрывает эту основную грань своего метафизического кредо – ее можно определить как в своем роде «антихолизм», то есть «отвержение целостности». Здесь опять-таки речь идет о «превосходстве детали над общим, части, более живой, чем целое, той малости, которую замечает человек и приветствует дружеским духовным кивком в момент, когда окружающая толпа влечется общим импульсом к некоей общей цели». Более того, говорит Набоков, «эта способность дивиться мелочам, несмотря на грозящую опасность, эти побочные явления духа, эти примечания к книге жизни – суть высшие формы сознания…».
(обратно)166
А. Пятигорский в статье «Чуть-чуть о философии Владимира Набокова» («Континент», 1978, № 5) называет мироощущение писателя философией бокового зрения.
(обратно)167
Гностические мотивы в романе «Приглашение на казнь» отмечали многие комментаторы, в частности, Г. Адамович и Дж, Мойнэхен. В послесловии к однотомнику Набокова (М. «Книга». 1989) А. Долинин называет его романы гносеологическими. После того как данная статья уже была написана, в журнале «Логос» (1991, № 1) появилось исследование С. Давыдова «“Гносеологическая гнусность” Владимира Набокова», в котором «Приглашение на казнь» интерпретируется целиком и полностью как гностическое произведение, причем Набоков, как считает автор, возможно, специально изучал гностические тексты. Мне кажется, что это лишь одна из многочисленных трактовок романа: гностицизм Набокова стихийный, а никак не сознательный; и уж совершенно невероятно, чтобы Набоков мог намеренно следовать какому-либо религиозно-философскому учению и специально изучать его для этих целей.
(обратно)168
О сакральной роли писателя во французской культуре см.: Поль Бенишу. Писатель во священстве: 1750–1830. – В НЛО, № 13. 1995.
(обратно)169
Charles Maurras. De l’intelligence. Paris. 1905. (Эта книга есть и в русском переводе под названием «Будущее интеллигенции» М. 2003. С. 20–21)
(обратно)170
Об апофатике в русской культуре см. напр.: Михаил Эпштейн. Вера и образ. Религиозное бессознательное в русской культуре 20-го века. Эрмитаж, 1994.
(обратно)171
Кржижановский С. Собр. соч. в 5-ти тт. Том 1. СПб. 2001. С. 64–65.
(обратно)172
Там же. С. 56.
(обратно)173
Солженицын А. И. Черты двух революций, mag.russ.ru > novyi_mi/1993/12/ publ.html. Литература по Французской и Российской революциям – от Э. Берка и А. Токвиля до современной историографии – воистину необозрима, но ее обзор не входит в нашу задачу.
(обратно)174
История Франции в 3-х т. М. 1973. Т. 2. С. 10
(обратно)175
Солженицын А. И. Там же.
(обратно)176
Моррас Шарль. Об интеллигенции. М. 2001. С. 27
(обратно)177
Де Местр Жозеф. Рассуждения о Франции. М. 1997. С. 14.
(обратно)178
Де Местр Жозеф. Рассуждения о Франции… С. 14–15.
(обратно)179
История Франции… Т. 2. С. 26.
(обратно)180
Манфред А. 3. Три портрета эпохи Великой французской революции. М. 1989. С.331.
(обратно)181
Де Местр Жозеф. Рассуждения о Франции. С. 17–18.
(обратно)182
Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. London. 1990. Т. 2. С. 19.
(обратно)183
Де Местр Жозеф. Рассуждения о Франции. С. 23.
(обратно)184
Там же. С. 25.
(обратно)185
См /.Жирар Рене. Насилие и священное. М. 2000. С. 15–16.
(обратно)186
Де Местр Жозеф. Рассуждения о Франции. С. 19, 25–26.
(обратно)187
Последовательно: монах, якобинец, свирепый атеист, жирондист, вновь якобинец, ярый сторонник казни Людовика XVI, палач Лиона (его кровожадность возмутила даже самих якобинцев), незаменимый министр полиции при Директории и Наполеоне, получивший за это титул герцога Отрантского, потом сторонник реставрации Бурбонов, но во времена 100 дней, в 1815-м, вновь министр полиции Бонапарта и даже министр полиции при Реставрации (!) – правда, ненадолго; роялисты вывели его на чистую воду и выставили за пределы Франции; заботливый семьянин, приняв соборование, умер в собственной постели в Триесте, оставив своим детям солидное состояние.
(обратно)188
Цит. по: Кропоткин П. А. Великая Французская Революция. 1789–1793. М. 1979. С. 422.
(обратно)189
Там же. С. 440
(обратно)190
Манфред А. 3. Наполеон Бонапарт. М. 1989. С. 86–87.
(обратно)191
История Франции… Т. 2. С. 71–72.
(обратно)192
Там же. С. 74.
(обратно)193
Тарле Е. В. Наполеон. Минск. 1993. С. 27.
(обратно)194
Тарле Е. В. Талейран, с. 459.
(обратно)195
Там же, с. 532.
(обратно)196
Цвейг С. Избр. произв. в 2-х тт. М. 1957. Т. 2. С. 312.
(обратно)197
Арендт X. О революции. М. 2011. Условно говоря, она делит все революции на «хорошие» и «плохие». К первым относится Американская война за независимость (именуемая почему-то революцией), ко вторым – Французская и Русская.
(обратно)198
См.: Легенда о Докторе Фаусте. М. 1979.
(обратно)199
Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М. 1981. С. 412–415.
(обратно)200
Цит. по: Рассел Б. История западной философии. М. 1959. С. 766.
(обратно)201
Успенский П. Д. Новая модель Вселенной. СПб. 1993. С. 128.
(обратно)202
Мейер А. А. Философские сочинения. Paris, 1982. С. 239–240.
(обратно)203
Там же. С. 243.
(обратно)204
Fritjof Capra. Uncommon Wisdom. London-NY.1989. C. 20-23
(обратно)205
Идиотэс – это совсем не слабоумный человек, а частная личность, изолированное лицо.
(обратно)206
См., напр. работы В. Руднева «Диалог с безумием: Аналитическая философия личностных расстройств». М. 2005; «Гурджиев и современная психология». М. 2010 и особенно «Энциклопедический словарь безумия. М. 2013.
(обратно)207
Гностицизм здесь я понимаю в самом широком смысле, не только как религиозно-философскую доктрину I–II века от Р. X., но и как любое учение, согласно которому задачей человеческого духа является стремление вырваться из уз этого мира, отягченного материей и злом, созданного «отрицательным богом» (Демиургом), и переход в другое состояние.
(обратно)208
На эту тему даже существует специальное исследование: Dominique Noquez. Lenine Dada. Paris, Laffont. 1989.
(обратно)209
Б. Парамонов в «Триптихе о ЛЕФе» считает, что сверхзадача революционных художников заключалась не только в освобождении от традиционных форм культуры, но и в создании такой возможной ситуации, где никакой рациональной стихии не будет места, в том числе и полу. Он полагает, что это была тайная мечта всех русских поэтов XX века, включая Александра Блока: «До конца проведенная революция должна была вообще уничтожить пол: пол как метафору и в то же время фундаментальную реальность Природы». Я думаю, что это чрезмерное преувеличение. Гендерные отношения, как сказали бы сегодня, должны были остаться, но как освобожденная и преображенная стихия, а семейственно-бытовое рабство, дурная бесконечность продолжения («мистический революционер» Бердяев тоже постоянно писал о «рабстве пола», которое заставляет человека быть лишь средством, звеном в воспроизведении рода) – исчезнуть полностью.
(обратно)210
Личность Скрябина наиболее полно представлена в известных мемуарах Леонида Сабанеева «Воспоминания о Скрябине».
(обратно)211
Симона де Бовуар. Воспоминания благовоспитанной девицы. М. 2004. С. 434–435.
(обратно)212
История женщин на Западе: в 5 тт. Т. 1 От древних богинь до христианских святых. СПб. 2005. С. 76.
(обратно)213
Там же. С. 457–472.
(обратно)214
Симона де Бовуар. Второй пол. СПб. 1997. С. 736.
(обратно)215
Там же.
(обратно)216
Там же. С. 737.
(обратно)217
Персонализм отрицается, например, большинством традиционно мыслящих католиков. В интервью журналу «Беседа» (№ 6), кардинал И. Ратцингер, будущий Папа, обвиняет персоналистов в субъективизме. Но это сугубо западный подход.
(обратно)218
Например: Alain Finkelcraute во Франции и Roger Scruton в Англии.
(обратно)219
Выражение, часто встречающееся, например, у Достоевского.
(обратно)




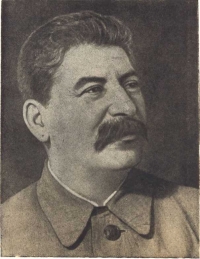

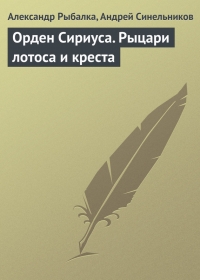

Комментарии к книге «Русское молчание: изба и камень», Павел Вениаминович Кузнецов
Всего 0 комментариев