Лев Мечников Последний венецианский дож. Итальянское Движение в лицах
Публикация и вступительная статья
Ренашо Ризалиши
Научная редакция и послесловие
Михаил Талалай
На обложке:
Наполеоне Нани, «Даниеле Манин и Никколо Томмазео, освобожденные из австрийской тюрьмы, возглавляют восстание венецианцев в 1848 году» (1876)
На задней стороне обложки:
Бальдассаре Верацци, «Пять миланских дней в 1848 годи» (1870-е гг.).
Предисловие публикатора
Сборник из восьми очерков Льва Ильича Мечникова, который мы представляем, пришел к русскому читателю после того, как он уже получил – с задержкой в полтора века – впервые собранные в одной книге его замечательные «Записки гарибальдийца» (СПб.: Алетейя, 2016).
Публикуемые ныне очерки по Рисорджименто выходили в 1860-1870-х гг. в журнале «Современник» Некрасова и Чернышевского и в 1870-х гг. в журнале «Дело», под разными псевдонимами: одни – «Последний дож Венеции», «Аспромонте» и «Капрера» как Леон Бранди (прямой перевод имени Лев Мечников[1]), другие, «Сицилия и г. Криспи» и «Раттацци», как Гарибальдиец, а остальные, «Франческо-Доменико Гверраци» и «Чезаре Бальбо», как Эмиль Де Негри.
Хронологический разрыв между этими двумя сериями очерков – восемь-десять лет, и они характеризуются разницей в ряде положений, что объясняется накопленным идейным опытом возмужавшего автора.
Самые последние свои статьи, к примеру, о Викторе-Эммануиле II, автору удавалось публиковать уже под своим действительным именем. Именно в заключительной статье о короле-объединители его идеи о Рисорджименто и соответственный опыт приобретают завершенность. Каков же был этот опыт?
После того, как Мечников пролил кровь за объединение и независимость Италии в качестве гарибальдийца, в 1864 г. итальянские власти препроводили его до швейцарской границы, так как он оказался «виновным» в попытке вызволить беднейшие слои населения из угнетенного состояния (через агитацию в сиенском журнале «Flagello»), а также в налаживании связей между русским революционным движением и Партией действия Гарибальди.
Что касается последнего обстоятельства, то в советскую эпоху историки так и не смогли установить, кто же именно служил связующим звеном между революционными сообществами двух стран. Ответ вроде бы лежал на поверхности, но не был найден, так как автор использовал разные криптонимы и псевдонимы (М., Леон Бранди, Гарибальдиец, Эмиль Де Негри и проч.).
Когда же он стал печатать в герценовском «Колоколе» тексты под собственным именем, Герцен – после пяти статей – остановил его публикацию «Противников русского государства». Советский историк М. В. Нечкина даже назвала его «историком-дилетантом»… В то время как американские исследователи считали его крупным русским историком калибра Карамзина, Соловьева, Ключевского!
Лев Мечников несчастливым образом попал в сектантские раздоры Первого Интернационала между сторонниками Маркса и Бакунина, симпатизируя более русскому анархисту. Посланный затем как журналист (и, возможно, как революционный агент) в Испанию, он старался позднее избегать возникшей полемики. Тем не менее, в советскую эпоху близость к Бакунину стоила ему как историку-мыслителю забвения.
Если же разобраться, то расстояние между Мечниковым и Бакуниным (или же Марксом) представляется космическим. Его идеи о развитии цивилизаций четко выражали постулат о развитии общества не на базе социальных или народных революций, а на базе кооперации, что имеет немало аналогий с христианскими понятиями.
В публикуемых нами первых трех статьях Мечникову пришлось считаться с необходимостью зарабатывать на жизнь в русской прессе, поэтому он не выговаривается целиком, а часто лишь намекает. Заметим также, что не всё им сказанное о революционной эпохе в Италии вошло в наш сборник, в частности – его очерки о братьях-венецианцах Бандьера и о пламенном республиканце Мадзини.
Тем не менее, центральное место в текстах Мечникова заслуженно занимает Джузеппе Гарибальди: он единственным из революционеров сумел понять как крестьянские массы, так и городскую бедноту, начиная с неаполитанских лаццарони. Он же осознал, что Мадзини и другие политические вожди только доктринерствуют и посему нуждаются в нейтрализации, в то время как победительным девизом должно стать «Италия и Виктор-Эммануил», то есть объединенная и независимая нация с конституциональным монархом. Этот лозунг Гарибальди провозгласил сразу во время экспедиции Тысячи (к которой примкнул Мечников); ему же он остался верен и во время печального эпизода на Аспромонте (где Мечников не был, но подробно его описал), и во время других своих вооруженных выступлениях, к примеру, под Ментаной. В итоге с таким девизом Гарибальди победил на Итальянском Юге и во всей стране.
Однако между победой в Неаполе и конечным торжеством Рисорджименто была Капрера, добровольный уход Гарибальди с государственной сцены, тоже обстоятельно представленный Мечниковым. Выбор Капреры являлся политическим ходом: это стало очевидным, когда бывший затворник вновь объявился на Апеннинах и по выражению Антонио Грамши, «сыграл сбор».
Со страниц Мечникова встает истинная сущность Гарибальди – человека-политика, в противовес итальянской историографии, которая традиционно его представляла как человека действия, оставляя в тени его политический стержень.
Для русского мыслителя объединение Италии было поставлено в прямую зависимость именно с необыкновенными политическими дарованиями Гарибальди, который сумел пожертвовать своими республиканскими убеждениями ради объединения нации – быстрым и эффективным путем.
В судьбоносный 1860-й год развернулась политическая борьба между Кавуром (либералом) и Гарибальди (демократом). Виктор-Эммануил сумел выступить как их примиритель, в качестве конституционного монарха. Кавур, после победы Гарибальди, желал сразу подчинить Итальянский Юг пьемонтскому бюрократическому правлению. Предпринятая этим правлением массовая секуляризация монастырей (дававших работу и пропитание бедному люду) и роспуск бурбонской армии вызвал феномен «brigantaggio», что не являлось «бандитизмом», как следует из прямого перевода, а было вооруженным политическим протестом, типа партизанства, гверильи. Южное «brigantaggio» было подавлено Пьемонтом с небывалой жестокостью…
И последнее. Впечатляет дальновидность, с которой Лев Мечников в своих очерках рассматривает проблему католичества: для него она – не только международный и/или политический вопрос, а одна из ипостасей южноитальянского и национального вопроса. Того вопроса, что не вполне разрешен и спустя полтора века после описываемых эпохальных событий.
Ренато Ризалити,
Пистойя, февраль 2017 г.
Перевод с итальянского М. Г. Талалая
Последний венецианский дож. Даниеле[2] Манин, 1848 г.
История Венецианской республики – навыворот история других итальянских республик: в то самое время, когда во Флоренции, например, аристократическая община уступала свое первенство народу – общине del popolo magro[3] – в Венеции олигархия покупала у народа его права на участие в управлении городом и зависящими от него провинциями. Народ уступил охотно, потому что ему платили очень щедро, и Великий Совет[4] все более и более сосредоточивал в своих руках власть, ослабляя все другие учреждения и низводя самого дожа на степень коронованной и богато украшенной куклы, предназначенной единственно для того, чтобы занимать почетное место во всякого рода процессиях и торжествах, которыми развлекали народ. В самом начале XIV столетия этот олигархический деспотизм уже сильно вкоренился в Венеции и народ выносил его очень охотно, так что когда дож Марино Фальеро[5] затеял внутреннюю перемену, чтобы возвратить своему сану утраченное величие, предприятие его встретило сочувствие только в очень немногих, и сам он, вместе с зятем своим архитектором Календарио[6] и несколькими другими гражданами, стал жертвой собственных замыслов, и кровь их пролилась, не вызвав даже мстителей за их участь…
Это олигархическое, нелепое устройство республики наподобие коммерческого дома, где ценился только один успех и где банкротство было худший позор – продолжалось очень хорошо до тех пор, пока венецианская торговля процветала; но едва пришло то время, что государственных доходов не стало хватать на плату наемных войск, когда соседи стали мстить Венеции, как больному льву за старые обиды, тогда живо почувствовали недостаток в гражданах, каких не могли породить, разъевшееся на выгодных спекуляциях коммерческое сословие и народ, который, в несколько веков жизни под отеческим управлением Великого Совета, успел отвыкнуть от политической жизни. Среднее сословие в Венеции не имело никакого значения, ни даже смысла: оно состояло наполовину из негоциантов, не успевших еще нажить себе порядочные капиталы для того, чтобы стать отцами отечества, и наполовину из разорившихся олигархов – и те и другие равно были погружены в коммерческие расчеты, мало заботясь об остальном.
Таким образом, республика св. Марка перестала существовать еще задолго до того, как Наполеон I занял ее своими войсками. Ее терпели и покровительствовали сильные соседи и по преимуществу Австрия, которой она скоро стала одним из самых покорных вассалов.
Обстоятельства, сопровождавшие взятие Венеции французами, достаточно показывают, как хил был правительственный организм республики. Едва пришло в собравшийся по этому поводу Великий Совет известие о приближении неприятеля, отцы отечества очень охотно сложили с себя всякую верховную власть и отдали ее в руки дожа Манина[7] – крестного отца Даниила Манина. Тот, озадаченный печальным событием, расплакался в полном собрании, как ребенок, и не нашелся сказать ни слова.
Тогда народ, которому с давних пор запрещено было носить оружие, вышел на площадь; костями и ножами вырывал плиты из мостовых и устроил баррикады, которые отчаянно защищал против иностранных пришельцев; женщины помогали мужчинам, чем могли, и мужественно лили из окон кипяченую смолу и масло на треуголки будущей Великой армии. Французы, однако, взяли верх и повесили свое трехцветное знамя на флагшток близ церкви св. Марка. При этом печальном зрелище один известный венецианский аристократ второпях оставил собрание сената, побежал в свой дворец и приказал тотчас же накрепко запереть двери, которые отворились только через 15 лет после того, и для того только, чтобы пропустить носильщиков с траурным гробом на плечах, в котором покоились бренные останки достойного отца отечества…
Остальная аристократия последовала его примеру и заживо похоронила себя в своих великолепных дворцах, которые долго после того стояли мрачные и пустые, как гробы, пока наконец промышленное поколение завело в них гостиницы и магазины, а австрийское правительство обратило остальные в полицейские бюро и в жандармские казармы. Венецианская аристократия с тех пор навеки исчезла с лица земли.
У народа не было дворцов, где бы он мог укрыться от налогов и всякого рода стеснений, которыми обременяли его странствующие рыцари свободы. Французское правительство не могло быть выносимо безропотно венецианцами, у которых многими веками праздной площадной жизни успели выработаться свои совершенно особенные и чисто практические взгляды на общественное устройство. Новому правительству нужны были деньги, и оно, не стесняясь, обременяло новыми налогами новые провинции, а венецианцы, привыкшие сами брать подать с своего правительства, всего неохотнее принимали это нововведение. Неудовольствие было всеобщее, но их геройская попытка 1797 г. достаточно показала им собственную их слабость перед неприятелем, и они ограничивались мирными демонстрациями, гордыми протестами и пр. Трактат Кампо-Формийский[8], отдавший Австрии Венецию, был встречен довольно хладнокровно, хотя многим ухудшал положение города и провинций.
Трудно встретить два народа, которые и по развитию, и по природе были бы так противоположны один другому и так мало способны понимать друг друга, как венецианцы и австрийцы. После Венского конгресса Венеция очутилась совершенно изолированной от всех других провинций Апеннинского полуострова, в лапах австрийского двуглавого орла. Народ ненавидел своих новых владетелей, гордо и дерзко оскорблял их на каждом шагу, но до открытой оппозиции не доходил и, может быть, не из одного только страха перед их силой. Венецианскому народу ничего не было дорого в его прошедшем. Он понимал очень хорошо, что счастливые годы республики св. Марка прошли безвозвратно и что убили их ни французы, ни австрийцы. За последнее время управления коммерческой аристократии народ успел возненавидеть ее всем сердцем и с переменой судьбы ненависть эта возросла еще больше, так как во всех чердаках и подвалах Венеции и между жильцами портиков старых прокуратов[9]очень распространено было мнение, что аристократы продали и народ и родину иностранцам. Гондольеры и работники под самым носом австрийских часовых распевали оскорбительные для завоевателей куплеты своего народного поэта Буратти[10], между прочим и следующий, в котором автор с исключительно ладзоронской[11] точки зрения делает оценку трех существовавших в Венеции правительств:
Quando Marco comandava Si disnova e si cenava; Colla cara liberta S’ha disna, non s’ha cena; Colla Casa di Lorena Non si disna, non si cena.«Во времена св. Марка (то есть лучшие времена управления Великого Совета) мы и обедали и ужинали; с любезной свободой (с французской республикой) – обедали, но не ужинали; а с Лотарингским домом не обедаем и не ужинаем»[12].
В народных театрах, несмотря на все полицейские строгости, давались фарсы, в которых австрийцам предназначены были самые обидные для их самолюбия роли, и на них переделывались все смешные и карикатурные анекдоты, которых героями прежде бывали триестинские славяне и греки. Но собственно народная литература, имевшая большое влияние на переворот 1848 г., явилась гораздо позже.
Народу недоставало единства; корпорации, потерявшие давно и тень всякого политического значения, продолжали, однако же, ненавидеть друг друга; недоставало одного, дорогого всем и каждому знамени, под которым каждый готов бы был драться до последней капли крови; недоставало центра – человека, или идеи, вокруг которого собрались бы все элементы венецианского народонаселения…
Венские администраторы, очень плохо понимавшие настоящий характер и нужды венецианцев, мало знакомые с положением дел в новой провинции империи, не могли, однако же, не замечать этой слабости, и верные своей политике – divide et impera[13] – старались с одной стороны еще более ослабить венецианцев, с другой – запугать их жестокими и деспотическими проявлениями своей власти. Их усилиями в течение долгого времени поддерживалась борьба между корпорациями, ненависть между провинциями, между Венецианской областью и Ломбардией. С этой целью одним давались привилегии и преимущества, других угнетали; в Падуанском университете старались поддержать старую борьбу между ломбардской и венецианской корпорациями; затруднены были донельзя сообщения между провинциями и пр. Между тем усилены полицейские строгости, придана публичность варварским военным судам и заведено какое-то вечное осадное положение.
Запуганная тяжелыми событиями, умственная жизнь в Венеции совершенно притихла, а правительство приняло всевозможные меры для того, чтобы, невзначай, извне, не попала туда какая-нибудь искра. Но, как это очень часто бывает, излишние предосторожности произвели совершенно противоположные результаты тем, которых ожидала от них Австрия. Распространенные в то время на всем полуострове, и в особенности в неаполитанских провинциях, тайные общества – масоны, карбонары, просвещенные (illuminati) – конечно, не проникли бы никогда в Венецию через тройную преграду жандармов, шпионов и всякого рода полиций, а если бы и проникли, то не встретили бы там никакого сочувствия, если бы само правительство не подало опасный пример народу своим публичным судом и циническим чтением приговора на площади св. Марка ломбардским карбонарам, в числе которых был и Сильвио Пеллико[14], пользовавшийся особенной популярностью в Венеции и осужденный на пожизненное заключение. Сознавая саму опасность своего положения, австрийское правительство сочло за лучшее окружить сильной цепью солдат всю площадь и поставить сильную батарею на «piazzetta»[15].
Эта обстановка еще более возмутила зрителей, и тут в первый раз венецианская чернь грозно зарычала, как раненый лев, так что военный комендант готов уже был отдать приказ стрелять по ней… Но это был минутный порыв, который прошел очень скоро; только мальчишки собирались по вечерам у окон тюрьмы нового узника, и кричали ему: «Addio, Silvio!…»[16].
Самая главная ошибка австрийского правительства заключалась в том, что оно оставило в руках венецианцев весь флот, в надежде, что так как он исключительно представлял аристократический элемент страны, то не мог представить ему значительной оппозиции. Расчет этот оказался неверным, потому что аристократический элемент во флоте очень скоро уступил новому чисто-демократическому и враждебному Австрии, и таким образом народу представилась возможность выйти из того грубого невежества, в котором он находился прежде, и усилить ряды среднего сословия, которому этим самым придан совершенно новый смысл и значение. Между тем и число падуанских студентов все возрастало, так как коммерческая деятельность, со времени открытия порто-франко в Триесте, упала окончательно. Оттуда демократический элемент проник и в литературу, которая в Венеции больше, чем где-нибудь, имела влияние на народ, и оживил ее своими совершенно новыми началами.
Еще прежде этого в Ломбардии Манцони[17] затеял литературную революцию, и нашел очень много последователей в самом непродолжительном времени. Австрийское правительство сумело понять, что реформа, начатая Александром Манцони, могла иметь не только литературное значение, а потому и поспешила представить ему энергическую оппозицию через посредство цензоров, жандармов, «Миланского вестника» и Винченцо Монти[18]. Этот добрый и ученый педант и до смерти не понял, что защищая против нововведений «дерзкой северной школы» старые литературные формы, греческих богов и авторитеты, он являлся рыцарем средневекового папизма и венских богов.
В Венеции первый внесший романтизм в литературу был Бензон[19], умерший очень молодым и написавший всего одну только поэму «Nella», имевшую громадный успех в свое время, а теперь совершенно забытую во всей Италии. Преемником его был Луиджи Каррер[20], падуанский студент, сын простого лодочника. Их нововведение имело тем больший успех, что классицизм в Венеции существовал в самом жалком и смешном виде, и что Австрия не могла найти здесь ни одного Винченцо Монти, и никого, кто бы мог хотя сколько-нибудь ему противодействовать. К тому же Венеция с давних пор была отечеством всякого рода научных и религиозных реформ, и венецианцы Сарпи[21] и Сагредо[22] первые восстали против авторитетов в науке вообще и против Аристотеля в особенности, гораздо раньше, чем Галилей появился на свет со своей новой теорией землевращения.
Романтизм Каррера был несравненно опаснее для Австрии, чем манцониевские нововведения в Ломбардии: молодой студент, с венецианским остроумием, наполнял свои юношеские поэмы намеками и вовсе недвусмысленными воззваниями. Наконец, в одном из сонетов своих, он открыто уже призывает народ к восстанию; но к несчастью, сам, слишком напуганный своим огромным успехом, тотчас вслед за этим написал другой, на выздоровление вице-короля, и этим убил свою репутацию.
В это время все умы были до такой степени настроены на одну тему, что даже самая наука приняла какой-то революционный и враждебный Австрии характер. Венецианский Атеней невольно обратился в национальный комитет и даже миролюбивый археолог Эммануил Чиконья[23] в своем ученом сочинении «Венецианские надписи» не устоял против всеобщего направления. А между тем старый поэт Буратти – венецианский Беранже – служил как бы посредником между литературой и чернью, популяризируя новые идеи, и во всей Венеции не было ни лодочника, ни носильщика, который бы не знал наизусть по крайней мере дюжины его стихов и имена лучших венецианских литераторов, которых сочинения он еще не понимал, да и не читал по всей вероятности.
В силу старой своей системы, венский кабинет постоянно переводил из Ломбардии чиновников в Венецию и обратно, а они служили посредниками между двумя провинциями; тогда как моряки знакомили своих соотечественников с положением других стран Италии и Европы, которые им случалось видеть во время путешествий.
В это самое время умер Франц I, и со вступлением на престол сына его Фердинанда, изменилась политика венского кабинета, а следовательно и судьба Венеции.
Старый девиз римского сената divide et impera заменен был новым viribus unitis[24]: начались гонения пуще прежнего против всего, напоминавшего автономию отдельных провинций империи; централизационные попытки министерства, нелепые и жестокие, легли тяжелым грузом на плечи подданных, и даже терпеливая Вена не могла безропотно выносить эти нововведения. Скоро вся государственная администрация стала огромной корпорацией жандармов, таможенных стражей, тупых бюрократов, шпионов и солдат, упорно преследовавших все, в чем была хотя тень жизни. Внимание правительства, конечно, обратилось главным образом на положение подвластных ему итальянских провинций, которое действительно становилось угрожающим. В Падуе неоднократно уже бывали кровавые стычки между студентами и полицией; ссоры студенческих корпораций были забыты, ломбарды и венецианцы дружно вместе восстали против стеснительного австрийского университетского устава…
Преобразование началось прежде всего с флота, так как венское морское министерство нашло, что офицеры, начиная с адмирала Паулуччи[25] и кончая последним гардемарином, – все образованы не в духе империи. Назначена была комиссия под председательством эрцгерцога Фридриха[26] и полковника Мариновича[27] – командира венецианского
Арсенала и рабочих рот. Но сколько ни выгоняли они старых и молодых офицеров – им не удалось уничтожить народный элемент, слишком уже вкоренившийся в венецианских моряках.
Новый цензурный устав, гораздо строже прежнего, заставил молчать литературу. Фосколо[28] и Томмазео еще молодыми бежали во Флоренцию, и в Венеции не осталось ни одного дорогого народу имени.
Последние остатки венецианской автономии были уничтожены, и венское законодательство без малейших изменений получило силу и в итальянских провинциях. Правительственные строгости возбуждали явные неудовольствия повсюду; одна Венеция упорно молчала, и венские администраторы, приписывая это молчание или полному индифферентизму, или бессилию, все смелее и смелее обращались с своими долготерпеливыми подданными.
Между тем приближался 48-й год: вся Италия была в волнении, на место прежних мистических тайных обществ появились новые, энергические и деятельные. Романья восстала против папы; самый Рим был неспокоен, и на Юге в особенности порождались новые политические секты. Мадзини[29] проповедовал единство Италии, Менотти[30] в Болоньи дрался за этот принцип, и пьемонтское правительство заметно начало склоняться на сторону нововведений. В Венеции все это находило отголосок только в немногих избранных, т. е. поставленных в более выгодное положение; посредником между ними и народом послужили сперва публичные выставки. Академия художеств и самая живопись получила, вследствие этого, совершенно другой характер, который не ускользнул от зорких глаз австрийского правительства. Объявлено было, что за картины, сюжет которых заимствован из истории Венецианской республики, не будут выдаваться премии; но это не произвело должного впечатления, и вынуждены были закрыть самые выставки для народа…
Хотя многие имели возможность доставать через посредство моряков, или другими путями, сочинения, выходившие на свет в других частях Италии, – Венеция слишком была занята собственным тяжелым положением и мало заботилась об остальных, оставаясь совершенно равнодушной к новым идеям и политическим догматам, проповедуемым Мадзини. Молодежь составляла тесные и очень немногочисленные кружки, совершенно изолированные один от другого. Передовое сословие мечтало только о некоторых ослаблениях полицейских строгостей; народ по-прежнему хотел того, чего хотят все народы – хлеба и зрелищ; но усталый от гонений и от бездействия – готов был идти вслед за первым, кто сумел бы осветить его блеском героических подвигов, или по крайней мере красноречием. Но таких-то именно не находилось.
Братья Бандиера[31], морские офицеры, весной 44-го г. затеяли опасную высадку в Калабрию с очень небольшим числом приверженцев, по большей части венецианских матросов, и со знаменем единства Италии. Оба они погибли в этом предприятии. В Венеции все были возмущены их казнью, провозглашали их мучениками любви к родине, но в сущности очень мало понимали их настоящую цель…
* * *
Центром одного из маленьких домашних кружков, в которых сосредоточивалась бо́льшая часть тогдашней политической жизни Венеции – был Даниил Манин, сын крещенного жида, крестника того дожа Манина, который торжественно плакал в совете по случаю занятия Венеции французскими войсками.
В то время, когда братья Бандиера умирали в Калабрии, Даниил Манин только что выступил на поприще политической жизни, и вступление его далеко не было блестяще и не обещало ничего. Личность Манина сама по себе замечательна только тем, что не будучи вовсе гением, он имел, однако же, громадное влияние на судьбу всей Италии. Наружность его была далеко непривлекательна: маленький, с огромной головой, с довольно толстыми губами и плутовскими серыми глазками, с широким мясистым лбом, толстым носом и выдающимися скулами, он так мало создан для классических изображений, что когда в прошлом году в Турине задумали поставить ему памятник, скульптор не решился поставить его статую рядом с мраморными портретами генерала Пепе[32]и Чезаре Бальбо[33], а изобразил на место его Италию в виде вооруженной женщины, со щитом в руке, на котором в барельефе вылеплен идеализированный профиль Манина.
Очень молодым он окончил курс в Падуанском университете, был очень хороший математик, отличался прилежанием и сметливостью, больше чем блестящими качествами ума. Отец его, хотя еврей, не оставил ему никакого состояния, и он должен был в адвокатстве, которое избрал своей профессией, искать себе средств к жизни. Очень молодым он женился на бедной девушке, за которой не взял никакого приданого.
Занятый исключительно своим ремеслом, он мало занимался политическими делами, пока наконец денежные его обстоятельства улучшились и позволили ему поселиться с некоторыми удобствами в маленьком домике в Местре, ближайшем к Венеции городе материка. Там он давал маленькие приятельские вечеринки, и в числе обыкновенных его посетителей были многие из лиц, принимавших очень значительное участие в итальянском движении, и ставших впоследствии во главе венецианской революции.
Мании был в полном смысле слова то, что называется практический человек. Первое и долгое время единственной его заботой было обеспечить независимые средства к существованию себе и маленькому своему семейству. Едва успел отложить он в сторону маленький капитал, тотчас же вступил в коммерческие обороты и стал членом венецианского коммерческого общества. Общество это было единственной в то время ассоциацией, устоявшей против преследований правительства; оно служило проводником национальных идей и, под прикрытием своей торговой фирмы, занималось науками и всего более политикой. Оно заводило журналы в Венеции, Падуе, Триесте, Милане и других городах австрийской Италии, где имело своих агентов. Под тем же самым предлогом оно вошло в сношение с триестинским «Ллойдом». Депутаты триестинской торговли дали на пароходах «Ллойда» банкет соединения этому обществу, и это, чисто частное дело имело, однако же, очень важное значение, так как в Венеции тогда все сколько-нибудь существенные вопросы сводились к одному. На этом обеде сказано было несколько торжественных речей, потом переданных в единственном сколько-нибудь либеральном журнале того времени: «II Gondoliere», издававшемся под покровительством общества. Следствием всего этого было новое волнение умов и многие арестации…
Это натянутое положение, по естественному ходу событий, не могло продолжаться долго. Скоро действительно началась венецианская революция, очень мирным путем журнальных распрей и протестов. Первым поводом послужил к ней вопрос о постройке ломбардо-венецианской линии железных дорог. Общество состояло наполовину из венских и из ломбардо-венецианских акционеров. Поводом к первым недоразумениям послужила ветвь между Миланом и Брешией. В силу императорского указа, она должна была идти по ровной местности через Тревильо; некоторые из ломбардо-венецианских акционеров считали более сообразным со своими выгодами вести ее по холмам Бергамо, что влекло к несравненно большим издержкам, правда, зато обещало и больший доход, так как она служила вспомогательной ветвью железной дороги между Бергамо и Миланом. Большая часть ломбардо-венецианских акционеров принимали участие и в этом последнем предприятии, а потому немало заботились о том, чтобы новые работы не только не убили старую дорогу, но даже дали бы ей большее значение. На этом основании они готовы были отказаться от вспомоществования, которое давало австрийское правительство в таком только случае, если железная дорога будет проведена сообразно утвержденному министерством плану.
Венские акционеры, исключительно падкие на правительственные гарантии, и кроме того, по многим соображениям, желавшие упадка линии бергамо-миланской, представили своим итальянским собратьям очень энергическую оппозицию. Завязалась журнальная полемика, сперва задеты были личные выгоды обеих сторон, наконец и их самолюбие.
Пока спор касался чисто технической стороны вопроса, то главными борцами со стороны ломбардо-венецианских акционеров были инженеры Поссенти и Палеокапа. Скоро, однако же, дело дошло и до юридических споров, и тогда Даниил Мании, слывший одним из лучших легистов в Венеции и который сам был акционером, выступил на сцену. Сильный своей судейской логикой, Мании не выводил этого спора за пределы обыкновенного тяжебного дела, но он скоро получил совершенно новое и чисто национальное направление, а следовательно, и совершенно особенное значение и характер. Честь эта, однако же, вовсе не принадлежит Манину, как утверждают некоторые из чересчур горячих его приверженцев. 7-го июля (45 г.), в официальной венецианской газете появилась статейка, без подписи имени автора, в которой вопрос о железных дорогах разбирался с совершенно иной точки зрения и в тесной связи с политическим бытом и будущей судьбой Ломбардо-Венецианской области. Он доказывает на основании очень положительных данных, что акционеры, при распределении новой ветви дорог, должны брать несравненно больше в расчет статистическое положение правого берега По, чем южных немецких провинций и предлагает свой, совершенно новый проект. Статья эта произвела очень сильное впечатление и придала совершенно новый характер спору акционеров. Австрийское правительство, чтобы избежать более печальных последствий, вынуждено было само принять сторону ломбардо-венецианцев и утвердило новый проект, сообразно их желаниям и требованиям. Таким образом Мании и его партия были поставлены совершенно неожиданно в самое неловкое положение, ставши партизанами австрийского правительства, тогда как венские акционеры, под предводительством графа Морони, представляли оппозицию. Будущий венецианский дож, кажется, однако же не очень смутился этим оборотом дела; вероятнее всего, на этот раз в нем преобладало просто самодовольное чувство победителя и он публично приглашал Морони подписать благодарственный адрес, в котором он, от лица всего общества, «дерзает припасть к стопам императора, с изъявлением живой и искренней благодарности за новое и блистательное доказательство августейшей справедливости и беспристрастного покровительства».
Эта победа ломбардо-венецианских акционеров над венскими обошлась очень дорого не одному только Манину, которого торжественно освистали на первом после этого заседании общества, но и всей партии. Австрийское правительство, недовольное тем, что отстранило опасность, своими происками заставило значительное большинство членов подать ему прошение, «чтобы правительство соблаговолило устроить на их счет ломбардо-венецианскую линию, так же хорошо и скоро, как устроило свои собственные».
Чтобы восстановить потерянную репутацию, Манин восстал против этого прошения, вследствие чего получил приглашение явиться к генеральному комиссару, который заметил ему, что для него могут выйти очень дурные последствия, если он произнесет хотя одно слово, которое могло бы породить сомнение в акционерах насчет великодушия и благонамеренности правительства. Смириться после подобного внушения – значило бы окончательно погубить себя во мнении соотечественников. Манин, в надежде на свои познания по части юстиции и на громадную память, в которой удерживались все многочисленные правительственные постановления, продолжал энергическую оппозицию, удерживаясь, однако же, постоянно в строгих пределах законности. Открыты были публичные собрания акционеров обеих партий, и для них отведена была зала dei Pregadi Дворца дожей. Манин был адвокатом партии ломбардо-венецианской; для венской же от правительства назначен был один из самых известных в то время прокуроров, доктор Колтелла. Сам Манин удерживался постоянно в очень тесной рамке чисто коммерческих и судебных прений; но некоторые из его приверженцев, ставшие впоследствии вместе с ним во главе революции, когда она перешла на площадь, оказывали ему очень плохую услугу, постоянно отвлекая его от главного дела и сводя на чисто национальные вопросы.
Народ, давно отвыкший видеть какие-нибудь признаки жизни во Дворце дожей, толпой сбегался на новое зрелище – понимал, конечно, очень мало, но в первый раз узнал Манина, слыхал, что он говорит против немцев и притом говорит очень много и с жаром; а так как в это время, за исключением Сильвио Пеллико, не было ни одного имени, пользовавшегося какой бы то ни было известностью между низшим сословием, то оно и пополнило именем Манина этот недостаток, тем более, что оно ему было уже знакомо и даже дорого до известной степени, так как напоминало блестящее прошлое…
Между тем готовилось событие особенной важности: в начале 1846 г. назначен был в Венеции, вместо двухгодичной выставки мануфактурных произведений всего полуострова, заведенной еще во время республики св. Марка, и которой не могло уничтожить австрийское правительство, – последний итальянский ученый конгресс.
При тогдашнем положении Венеции и всей Италии – где только что появились на свет и взволновали все умы сочинения Бальбо, Винченцо Джоберти[34] и других, при неспокойствах в Романье и только что данной конституции в Риме Пием IX – австрийское правительство должно бы было помешать этому конгрессу, хотя бы для этого пришлось занять целым корпусом кроатов[35] залу заседания. Оно ограничилось, однако же, робкими полумерами. Римский граф Канино высадился на Riva degli Schiavoni в мундире национального гвардейца; его тотчас же арестовали, что произвело сильное волнение в народе.
Конгресс этот был тоже в одной из зал Дворца дожей. Народ наполнял все остальные, и галереи, и портики. Не знаю, насколько интересны были для него ученые, геологические, нумизматические и другие речи, но речь Чезаре Канту[36], которой окончилось заседание, произвела на всех самое магическое впечатление и была встречена такими неистовыми рукоплесканиями, что дежурный офицер ближайшей гауптвахты послал к военному коменданту просить подкрепления. Канту кончил свое воззвание к венецианцам приглашением подписать адрес австрийскому правительству, в котором требовалось ослабление цензуры. Адрес этот подписали, однако же, очень немногие: Томмазео, Каттанео[37], и он не пошел в ход, так как Манин, вокруг которого сгруппировались тогда все передовые люди Венеции, объявил тут же, что еще не время\ Замечательнее всего, что этот его отказ не повредил ему нимало в глазах народа, и эта слепая к нему доверенность ничем не объясняется из его прошедшего.
В то же самое время Манин, по примеру миланских депутатов, представил в муниципальное правление Венеции прошение на имя императора, в котором излагал настоящие потребности и желания народонаселения. Содержание этого прошения было всякому известно и не содержало в себе ничего особенного, так что даже робкий муниципальный совет решился подать его императору и от своего имени. Манин открыто протестовал против этого воровства и протестом этим приобрел несравненно большую известность в Венеции, чем самым прошением. В один день он получил более тысячи визитных карточек.
С другой стороны Томмазео, не удовольствовавшийся лаконическим объяснением Манина на конгрессе по поводу прошения о послаблении цензуры, собрал очень большое количество подписей, отправил его министру народного просвещения Кюбеку.
Италия была тогда в страшном волнении. Движение, начатое в Риме Пием IX, очень скоро перешло в Тоскану и распространилось по остальным провинциям с баснословной быстротой. В Ломбардии начались серьезные тревоги и Надзари[38] выбивался из сил, чтобы удержать тамошнее движение «в пределах законности». В Венеции народ тоже не был совершенно спокоен, но не отваживался на открытое сопротивление правительству. Однако всякого рода шумные демонстрации становились все чаще и чаще. Стены домов были испещрены всякого рода надписями: Evviva Pio IX! Morte ai Tedeschi![39] и пр.
Ненависть к австрийцам, которую низшие классы народонаселения и прежде не считали долгом скрывать особенно тщательно, стала высказываться резче и определеннее, часто в довольно пустых, по-видимому, и ребяческих формах. Так например, сначала появились прокламации, которыми запрещалось курить табак или сигары, так как с табачного откупа правительство получало большой доход; и на улицах никто не смел показаться с сигарой во рту. Потом стали курить в большом количестве контрабандный табак, доставляемый лодочниками Канарреджо[40], пользующимися и теперь репутацией самых ловких контрабандистов и отчаянных плутов – прямых наследников венецианских браво старых времен. Завели особенной формы пеньковые трубки, по преимуществу в виде сапога, раскрашенного национальными красками (сапог – вульгарная эмблема Итальянского полуострова). Полиция напрасно старалась прекратить контрабанду и уличную журналистику, т. е. расписывание стен.
Прошения Манина и Томмазео показывают, однако же, что в высших классах народонаселения не было и помину о восстании. Оба они требуют или, правильнее, просят у венского кабинета только уничтожения некоторых особенно стеснительных строгостей и возобновления статута 1815 г.
В числе прочих нововведений централизационного австрийского правительства было одно, отнимавшее у венецианцев право подавать прошения на высочайшее имя; на этом основании прошения Манина и Томмазео должны бы были быть возвращены им, как незаконные. Однако же полиция, занятая гонением на революционные сигарные мундштучки и трубки, не отважилась на такую решительную меру. Прошение Томмазео было возвращено ему только потому, что не было подписано достаточным числом лиц, и вместе с тем автору предоставлено было право открыть новую подписку. Директор полиции Каль надеялся запугать тем временем все народонаселение и потом схватить самого Томмазео, когда у него не будет уже достаточного числа приверженцев. В несколько дней, однако же, набралось до тысячи имен и оба прошения были представлены военному генерал-губернатору. Он обещал обоим просителям исполнить их требование, с тем только, чтобы они, пользуясь своим влиянием, успокоили народное волнение. По приказанию генерал-губернатора, действительно, была назначена комиссия для рассмотрения этих двух прошений. Через месяц с небольшим, комиссия объявила, что провинция совершенно довольна настоящим своим положением, ничего не желает и не просит, и что прошения Манина и Томмазео – просто дерзкая выходка с их стороны и вполне плод их собственных кичливых умов.
Манин по поводу этого написал губернатору, что если провинция действительно довольна настоящим управлением, то всякое посредничество между правительством и народом совершенно лишнее, и что со своей стороны он не считает возможным успокоить волнение, когда просьба его не уважена. Вместе с тем он составил новый проект прошения, в котором требовалась совершенно отдельная администрация для Ломбардо-Венецианской области, с тем, однако же, чтобы область эта по-прежнему составляла часть империи. Этот проект он представил в областное правление, которого председателем был тот же генерал-губернатор; он передал прошение к директору полиции. Полиция в это время была занята войной против падуанских студентов, авторов стенных надписей и курильщиков контрабандного табаку, и обращалась с теми из них, которые попадались в ее руки, с возмутительной строгостью. Напуганный новым проектом Манина, Каль объявил всю область в очень опасном положении, из которого было поручено вывести ее фельдмаршалу Радецкому[41]. Этот рассчитал, «что 30-ю часами осадного положения он добьется 30-тилетнего спокойствия в целой области» и наводнил всю Венецию и Милан своими солдатами (9 января 1848 г.). В Милане новые гости встречены были свистками и всякого рода оскорблениями, на которые австрийцы отвечали штыками и ружейными выстрелами. Началась резня.
Едва узнали в Венеции о случившемся в Милане, народное волнение усилилось и стало понемногу принимать грозный характер. Дамы в траурных платьях ходили по городу, собирая вспомоществование «для раненых братьев». В несколько дней собраны были значительные суммы и посланы в Милан, при адресе, подписанном более тысячи венецианских граждан. Удинский епископ издал прокламацию к своей пастве, в которой от имени религии увещевал их держаться спокойно и принимал открыто сторону Радецкого. Несколько экземпляров этой прокламации попали и в Венецию. Томмазео отвечал на нее очень энергическим письмом, которое было тайно отпечатано, и разошлось в громадном количестве экземпляров.
Революция не могла уже удержаться в «пределах законности», в которых держали ее до сих пор Манин и Томмазео. Оба они очень хорошо понимали свое положение.
– Мы с вами прямо идем по дороге в Шпильберг[42], – говорил он Томмазео.
– Мне все равно, – отвечал тот: – берегитесь вы, у вас семейство.
Итальянские дела шли очень быстро и всеобщая революция почти в несколько дней вспыхнула на всем полуострове. Венеция по-прежнему не изъявляла особенного сочувствия ни пьемонтскому королю, ни идеям Мадзини, но и в ней дело шло к развязке. Манин был в каком-то туманном и нерешительном положении, не зная сам, на что решиться. Нужно, однако же, отдать ему полную справедливость – он ни разу даже и не подумал принять сторону Австрии.
17 января, в театре «Apollo», давалась какая-то драма из истории Венецианской республики. Известный венецианский актер, теперь уже покойник, Густав Модена[43], друг Мадзини, один из первых собратий «Молодой Италии», долгое время проживший в изгнании, играл в ней главную роль. Модена обладал очень редкой способностью – вдохновлять всех своих многочисленных слушателей, доводить их до электрического восторга и настроить на тот или на другой лад, сообразно собственному расположению духа. Представления, в которых он принимал участие, обыкновенно оканчивались шумной демонстрацией против Австрии, и актер не раз прямо с подмостков отправлялся в тюрьму. Представления 17 января ожидали с большим нетерпением, караулы были усилены и задние ряды партера заняты военной силой. Перед поднятием занавеса Манин отправился в уборную Модены, где нашел уже Томмазео. Происшествие это, не имеющее по-видимому никакой важности, осталось, однако же, не без последствий. Когда Манин и Томмазео выходили из уборной, навстречу им попался полицейский комиссар… Представление началось обыкновенным порядком, а окончилось сперва громкими рукоплесканиями главному актеру, потом торжественными viva! в его честь; среди этого шума несколько голосов закричали: «Viva l’Italia!» скоро все слилось в один крик: «Viva S. Marco! Morte ai Tedeschi….»
На следующее утро, при восходе солнца, полицейский комиссар вошел в спальную Манина с несколькими жандармами, но не застал его врасплох. Манин оканчивал приводить в порядок свои бумаги; сдал их с рук на руки комиссару, пригласил его выпить чашку кофе с ним и с хозяйкой дома, и затем в сообществе его и жандармов сел в полицейскую гондолу, где был уже и Томмазео… Гондола пристала у дворца Борджа, где помещалось главное полицейское управление. Там тотчас же приступили к допросу двух арестантов. Допрос этот не открыл ничего, что могло бы послужить поводом к осуждению Манина, и замечательно то, что сам он гордился тем, что постоянно удерживался в пределах законности. Это, однако же, помогло ему немного, и вечером того же дня его заперли в старой зале нижнего этажа Дворца дожей, служившей во времена республики сборным местом для судей над уголовными и государственными преступниками.
Все это случилось так тихо, что даже ближайшие друзья арестованных узнали только через несколько времени об их участи. Совершенно незнакомые Манину семейства являлись по очереди ухаживать за его больной женой; портной Тофоли, которого Манин никогда не видал в глаза, взял на свой счет все домашние его издержки, лучшие доктора бесплатно посещали по нескольку раз в день больную, и аптекари точно также даром отпускали ей лекарства. Адвокаты, бывшие товарищи Манина по университету и по трибуналу, взяли на себя начатые им процессы. Представлено было прошение за подписью членов муниципального правления и нескольких десятков граждан, в котором требовали освобождения обоих арестантов на их поруки. Им было отказано. Директор полиции писал председателю уголовного суда, чтобы их не выпускать ни по какому случаю, ни во все время процесса, ни даже после. Процесс тянулся очень долго, и сперва бог знает почему в миланском уголовном суде, и когда тот положительно отказался признать подсудимых виновными в измене и в оскорблении особы императора – дело перешло в венецианский уголовный же суд, наперекор всем существующим законным постановлениям. Там тоже оно решено было (5 марта) в пользу арестованных; тем не менее их продолжали держать в тюрьме и в строгом секрете, с запрещением писать к кому бы то ни было…
Все сословие венецианских адвокатов поднялось тогда против этого незаконного тюремного заключения, началась снова законная революция, бомбардировка циркулярами, прошениями, ссылками на прежние судейские постановления, которых австрийское правительство никогда и не имело в виду сдерживать не на шутку. Но пришло наконец время, что революция эта перешла на площадь и получила совершенно иной характер. Полиция по обыкновению сама вызвала наконец катастрофу. События в Пьемонте, в Тоскане и в Неаполе слишком напугали австрийских полициоттов[44]; строгости в Ломбардии и в Венеции усилились. Демонстрации становились все чаще и принимали более грозный характер. В Милане повторились кровопролития, в Венеции тюрьмы наполнились новыми арестантами… Народ, однако, же не унывал. В театре Сан-Самуэле Фанни Черрито[45] танцевала тарантеллу с трехцветным букетом на груди; по этому поводу повторилось то же, что было в «Apollo» 17 января. Наконец в Падуе произошла кровавая стычка между студентами и солдатами Радецкого. Закрыли университет. Большая часть студентов отправились оттуда в Милан и в Венецию; израненные, в карбонарских шляпах, с усами all’italiana, бродили они по площадям и набережным каналов, просвещая народ, и десятками отправляясь оттуда прямо в тюрьму. Кофейные обратились в революционные клубы. Известия о Французской революции жадно читались и комментировались вслух, несмотря на то, что весь город был наводнен солдатами и шпионами Радецкого. Благодаря услужливым студентам, известия эти тотчас же переходили оттуда на площади. В честь Манина устроено было несколько шумных демонстраций, и он из своей тюрьмы, которой окна, выходящие на площадь св. Марка, были закрашены, неоднократно слышал отчаянные крики: «Evviva Manin!» Наконец 17 марта в Венеции разнеслись слухи об обещанной в Вене конституции. Вечером того же дня большие толпы собрались на площади св. Марка, при криках: «Evviva Manin!», «Tommaseo!», «Evviva la Costituzione!», «Evviva la liberta!».
Губернатор Пальффи[46], напуганный венскими делами, настрого приказал полиции и солдатам не трогать народ. Странно сказать, – однако же, правда, – первое употребление, которое сделал венецианский народ из новой свободы, было освистать и обругать жену губернатора, гулявшую по площади с адъютантом мужа. Многочисленная толпа лодочников и факинов[47] отправилась к генерал-губернатору требовать освобождения Манина и Томмазео. Он обещал, что требование это будет исполнено в самом непродолжительном времени. Недовольная его ответом, толпа отправилась во Дворец дожей и, разломав несколько дверей, добралась до тюрьмы героев законной революции.
Манин между тем сидел, довольный собственным сознанием того, что он ни разу не вышел из-за пределов законности, и не зная, как понимать доходившие до него с площади крики. Вдруг дверь его тюрьмы с треском падает на землю, вся зала наполняется ладзаронами св. Марка, в их живописных костюмах, с разгоревшимися лицами и сверкающими глазами – со всеми наружными признаками того ненормального положения, в котором они действительно находились. Узникам объявлено было, что они свободны. Манин, находя подобное освобождение вовсе незаконным, объявил в свою очередь, что он не выйдет. Тогда один отчаянный popolano[48] схватил его и посадил верхом себе на плечи; какой-то народный поэт с Канарреджо подхватил таким же образом Томмазео, и вся процессия отправилась церемониальным маршем на маленькую площадь Сан-Патерньяно, где жил Манин и, сдав его домашним, отправились освобождать других заключенных. Покончивши и эту трудную задачу, толпа возвратилась на площадь св. Марка. Из трех разноцветных лоскутков – зеленого, белого и красного – сделано было итальянское народное знамя и поднято на одном из флагштоков против базилики; веревки, служащие к тому, чтобы поднимать и опускать эти флаги, были обрезаны и знамя это оставалось на месте до нового занятия Венеции австрийцами. Тогда один из юнг военного парохода, за приличное вознаграждение, решился взобраться на самый верх флагштока и снять оттуда трехцветную тряпку, которой вид был очень неприятен немцам, известным любителям порядка…
В несколько часов мостовая площади была разобрана почти вся, плиты разломаны в куски и вооруженные таким образом popolani взобрались на крыши, куда не могли залететь австрийские бомбы. На рассвете, 9 пушечных выстрелов с австрийских пароходов возвестили о полной революции в городе…
С восходом солнца, площадь св. Марка представляла совершенно новое зрелище. Белые мундиры нескольких батальонов пехоты резко отделялись на сером фоне окружных зданий. Штыки их ярко блестели на солнце. На земле валялись в крови несколько тяжело раненых гондольеров и работников, и за ними ухаживали старухи нищие. Между вооруженными толпами кроатских гренадеров и тирольских стрелков с петушьими перьями на знаменах, прохаживался мерными шагами немецкий поэт Штиглиц[49], в гороховом сюртуке и в шляпе all’italiana, с записной книжкой в руке и с пистолетом на перевязи через плечо. Бронзовый лев св. Марка смотрел на него молчаливо и угрюмо, а народ, слишком занятый созерцанием белых мундиров и желтых усов своих врагов, не обращал никакого внимания на бедного поэта…
В это время Томмазео переодетый, второпях пробегал через площадь; австрийские солдаты не узнали его, но зато Штиглиц, проникнутый сознанием позора своей нации, торжественно закрыл лицо руками, увидя итальянского поэта, и дружески, с отчаянием вместе с тем, сказал ему: «Mein Gott!», когда тот проходил мимо. Томмазео не отвечал ему ничего, он слишком торопился к Манину – душе законной революции.
Оба приятеля были смертельно напуганы тем характером незаконности, который принимало дело и долго изощряли свои изобретательные умы, чтобы придать ему должное направление. Решили, наконец, отправиться к генерал-губернатору и просить у него законным порядком учреждения национальной гвардии. Пальффи обещал им очень многое в будущем, позволил даже приступить к составлению городских батальонов, но только оружие обещался выдать через несколько дней, когда получит на это разрешение от кого следует.
Пока Мании и Томмазео трудились таким образом на благо общее, на площадь подоспел отряд канарреджиоттов, вооруженных ножами и небольшим количеством старых ружей. Усиленная новым подкреплением, толпа слезла с крыш, часть ее заняла комнаты коммерческого клуба, которого окна выходили на площадь; другая же отправилась разбирать мосты через каналы, чтобы отрезать бывшим на площади солдатам сообщение с городом. Началось кровопролитие, которое прекратилось, когда Мании и Томмазео объявили разрешение генерал-губернатора учредить национальную гвардию.
К учреждению ее было приступлено немедленно и со следующего же дня безоружные патрули национальных гвардейцев днем и ночью ходили по городу. Манин и Томмазео, в новых мундирах, командовали ими. Спокойствие водворилось на несколько дней в Венеции.
Между тем миланские геройские Пять дней[50] нанесли австрийскому владычеству в Италии решительный удар. Пьемонтские войска заняли Ломбардию и неаполитанский генерал Пепе, с 3 тысячами итальянского войска, был уже почти на венецианской границе.
Пока приверженцы Манина, довольные успехом, заказывали себе новые мундиры и ждали, что им откроют Арсенал, генерал-губернатор, занятый иного рода приготовлениями, меньше всего думал об исполнении своего обещания. Австрийское правительство намерено было отнять у венецианцев все, взятые ими с бою конституционные вольности. Для этого приготовлялись бомбардировать весь город со всех концов. Приготовления эти были облечены всевозможной таинственностью, тем не менее слух о них быстро разнесся по городу.
Одна старая кухарка, бывшая в дружеских отношениях с монахами Сан Франческо, которых монастырь был как раз против сухопутного Арсенала, занятого богемской артиллерией, узнала от них, что по ночам, в Арсенале, слышится особенное движение. Она тотчас же донесла об этом своему хозяину, бывшему командиром национальной гвардии этого квартала. Тот еще накануне слышал то же самое от одного из своих унтер-офицеров, ходившего с ночным патрулем. Чтобы лучше узнать в чем дело, он сам отправился в монастырь, и за приличное вознаграждение монахи впустили его с одним приятелем на галерею, с высоты которой была видна внутренность двора Арсенала.
Ночью они действительно увидели, с помощью театрального бинокля, что артиллеристы при огне готовили гранаты и чиненные бомбы.
На следующий день матросы военного корвета, стоявшего возле морского Арсенала, донесли командиру тамошней роты национальной гвардии, что на их судно принесены были большие запасы огнестрельных снарядов и что они знают из положительных источников, что на маленьком пароходе, стоявшем у входа на рейд, возле Giardini Pubblici, по приказанию офицеров, заряжены были пушки, но что потом матросы, по большей части венецианцы и славяне, разрядили их, пользуясь отсутствием командира. Едва все эти слухи дошли до Манина, он тотчас же принял зависевшие от него меры, для того, чтобы город мог представить неприятелю отпор. К сожалению, он мог сделать очень немного и тем меньше, что боялся, чтобы слухи эти не дошли до народа. В ночь с 19 на 20 марта он сам отправился в монастырь Сан Франческо с двумя ротами национальной гвардии, которые успел вооружить кое-как втихомолку. Одна из них была расположена на галерее, о которой я уже говорил, и должна была стрелять по богемским артиллеристам, едва они покажутся на дворе; другая осталась внутри и должна была напасть на Арсенал и завладеть им, едва первая откроет огонь. Но – или бомбы и гранаты были уже заготовлены в достаточном количестве, или по чему другому – только в Арсенале все было спокойно на эту ночь. На следующее утро остальные командиры национальной гвардии остались очень недовольны распоряжением Манина, и у него отнято было начальство над его отрядом за превышение власти. Оскорбленный этим, он объявил, что не намерен больше принимать участия в общественных делах и заперся в своей квартире. Удаление Манина произвело дурное впечатление на многих, но не на всех, и за его отсутствием, которое, правда, продолжалось всего один день – дела пошли вовсе не хуже. Положение Венеции вовсе не было отчаянное, так как большая часть экипажей военных судов, на которые особенно рассчитывало австрийское правительство, за исключением командиров и морских офицеров, готовы были передаться на сторону города. Адвокат Авеццани, хотя не пользовавшийся особенной популярностью, за отсутствием Манина выдвинулся вперед и готов уже был подать знак к открытому восстанию. Полковник Маринович, о котором я уже говорил, со своей стороны приготовился разыграть – и, вероятно, с большим успехом, так как он был известен своею храбростью и хладнокровной жестокостью – роль Радецкого. Ожидали новых кровопролитий, наподобие миланских Пяти дней. Что еще много улучшало положение города – это примирение между собой народных корпораций, враждовавших между собой в течение нескольких веков – и отъезд директора полиции, место которого занял новый, робкий, неопытный и совершенно незнакомый с краем. Наступил решительный день 22 марта.
Офицеры одного из стоявших на рейде корветов пригласили к себе на обед некоторых из главных офицеров национальной гвардии, желая показать этим миролюбивым образом, что держали сторону города. В числе приглашенных был и Манин, но он не поехал вместе с другими. Маринович, назначенный военным комендантом, едва узнал об этом через своих шпионов, приказал тотчас же привести в Арсенал роту кроатов, с которыми вместе намерен был отправиться на снабженный огнестрельными снарядами корвет. Пока пришли кроаты, Фабрис, Цимоло и несколько других офицеров национальной гвардии на пароходной барке отправились на приглашение с набережной del Molo. Едва отчалив от берега, они распустили трехцветное знамя и были встречены торжественными рукоплесканиями со всех стоявших на рейде судов. На пароходе их встретили очень дружелюбно, и пока некоторые из них отправились с командиром в кают-компанию, матросы подняли на мачте трехцветный флаг. Командир парохода, выйдя на палубу, остался очень изумлен новым зрелищем; но делать было нечего, и пароход остался в руках итальянского правительства.
Между тем арсенальные работники едва узнали о том, что Маринович намерен отправиться на корвет, понимая очень хорошо настоящую цель его прогулки, освободили содержавшихся там арестантов и галерников и с ними вместе напали на полковника и убили его ножами и обломками цепей. Кроаты, сами ненавидевшие Мариновича, защищали его плохо, да если бы и хотели, то вряд ли могли что-нибудь сделать против втрое большей их силы. Работники, однако, не тронули их, но заперли всех вместе в одной из рабочих зал. Озадаченные сами неожиданным успехом, они не знали, что делать. Во всей Венеции одно имя – Мании – было им знакомо. Решили послать к нему депутатов и призвать его немедленно в Арсенал. Но он, едва услышал о предполагаемой поездке Мариновича на корвет, вышел из дому вместе с своим сыном и с несколькими из национальной гвардии, особенно ему преданными. Арсенальные депутаты застали его на площади св. Марка. Он тоже несколько был озадачен случившимся, но не теряя времени, отправился вслед за депутатами.
Там прежде всего его встретили арсенальные громкими: viva! Скоро явился генерал Мартини, взявший на себя, по поручению Пальффи, командование Арсеналом. Положение нового коменданта было, однако же, очень затруднительное; он не знал, на что решиться, и даже не посмел взять с собой сильный отряд войска, в надежде, впрочем, на кроатов, о заключении которых на место каторжных он еще не знал. Вообще он не предполагал даже, что убийство Мариновича имело такой важный политический характер.
Едва Манин снова стал во главе движения, сильный слепым доверием к нему людей, знавших его едва по имени, оно снова приняло «законный» характер. Манин успокоил работников, но стоя среди их, вступил в переговоры с Мартини. Он требовал, чтобы Арсенал, а вслед за тем и все гауптвахты и караулы города были сданы национальной гвардии, опираясь на то, что кроаты очень дурно исполняют свои обязанности, и что они даже не защищали своего командира, – а это доказывается тем, что из них ни один даже не ранен. Мартини в душе был не прочь податься на сторону Манина, да и делать кроме того ничего не оставалось. Не желая, однако же, принять на себя ответственность, он пробовал затянуть дело, думая стороной дать знать об этом генерал-губернатору. Этого ему сделать не удалось, и он должен был сдаться на предложение Манина.
Для вооружения национальной гвардии нужно, однако, было отпереть арсенальные залы, в которых были сложены ружья. Мартини отказался от этого под предлогом, что не знает, где ключи. Работники, усиленные новыми толпами народа и неизбежными в подобных случаях каларреджиоттами, хотели разбить двери.
В это время во дворе Арсенала собрались уже многие из колонновожатых революции. Манин один решился остановить народ. Замечательна следующая черта его характера:
– Дайте мне часы! – закричал он.
Кто-то подал ему часы.
– Если через пять минут, – сказал он, обращаясь к Мартини, – ключи не будут найдены – мы разобьем двери.
Народ отвечал неистовыми рукоплесканиями, а ключи тотчас же были найдены.
Толпа нахлынула в растворенные залы и меньше чем в полчаса оружие было разобрано.
Манин в это время как будто вырос; прежние друзья не узнавали его… Он стал распоряжаться как диктатор и все по машинальному какому-то чувству слушались его и исполняли его приказания. Мартини, понимавший очень хорошо, что для австрийского владычества в Венеции все было кончено, принял открыто сторону города. Манин, однако же, не оставил его начальником Арсенала, а назначил на место его Грациани[51]. Тот отказывался и сдался только на настоятельные требования всего народа и на увещания самого Мартини. Затем Манин со всей толпой взошел на Арсенальский мост и закричал: «Viva l’Italia!». Толпа подхватила его провозглашение и «Viva l’Italia!» долго раздавалось в воздухе. Оттуда процессия отправилась на площадь св. Марка. На площадке Сан Сеполькро стоял отряд национальной гвардии, громкими криками приветствовавший Манина и его свиту. Возле находился магазин мануфактурных изделий; побежали туда, схватили по куску белой, красной и зеленой материи, даже не заплатив за нее старой лавочнице, очень озадаченной таким неожиданным происшествием; соорудили трехцветное знамя второпях и подали его Манину. Его маленькая фигурка едва была заметна среди дюжих арсеналоттов. Когда пришли на площадь св. Марка, Мании вскочил на столик, выставленный из кофейной. С этой импровизированной кафедры и с трехцветным знаменем в руках он провозгласил республику св. Марка. Ему отвечали громким: «Viva vecchio nostro S. Marco»![52]
Генерал-губернатор Пальффи, едва узнав о взятии Арсенала и о смерти Мариновича, на которого по преимуществу возлагал большие надежды, поспешил сдать свою власть в руки венгерского генерала Зичи[53]. Этот добрый старик долго жил в Венеции, где у него успели родиться две дочери, бывшие уже невестами во время революции. Больной и усталый, Зичи не принял никакого участия в венгерском восстании, и больше еще потому, что не предвидел ему счастливого исхода; в уме же он далеко не оправдывал Австрию за ее отношение к иностранным провинциям. Как старик, Зичи успел охладеть ко многому; но в нем еще не вполне замерло сочувствие к геройским поступкам других и к храбрости, на которую он уже сам не был способен, но которую, как венгерец, ценил и уважал в других. Следовательно, этого нового представителя Австрии Венеции нечего было бояться.
Едва прошел первый порыв восторга, многие, в том числе и Мании, поняли, что не все еще было сделано одним провозглашением республики со столика кофейной. Арсенал, правда, был в руках национальной гвардии; но австрийские войска стояли еще в городе, и хотя им мало было надежды на успех, но могли произойти новые стычки и кровопролития, которых некоторые из революционеров очень побаивались. Зато другие неуместной храбростью чуть было не испортили все дело; предлагали вооруженной силой выгнать австрийцев из Венеции; несколько голосов поднялись даже за повторение сицилианских вечерен[54]. Но Мании своей законностью восторжествовал и на этот раз. Решено было послать депутацию к новому генерал-губернатору и требовать от него, во что бы то ни стало, чтобы австрийские войска сдали все посты в руки национальной гвардии и подоспевшего неаполитанского отряда генерала Пеле и, оставив пушки и казну, вышли из города. Выбор депутатов поручен был Манину, и он назначил адвоката Авеццани с двумя депутатами от муниципального правления и с тремя капитанами национальной гвардии.
Зичи сидел в своем кабинете, только что принявши власть от Пальффи. Депутаты изложили ему цель своего посещения. Добрые голубые глаза старика блестели и разбегались, глядя на них, и он напрасно старался принять приличную своему положению грозную наружность. Понимая очень хорошо, что сопротивление не довело бы его ни до чего хорошего, он, однако же, счел своей обязанностью отказать им в исполнении их требования. Авеццани решительно спросил у него:
– Генерал, это ваше последнее слово?
– Конечно, – отвечал Зичи, тоном, показывавшим достаточно, что он вовсе не намерен оставаться непреклонным.
– В таком случае мы намерены драться, – прибавил Авеццани, приготовляясь выйти.
Зичи остановил его и, подумав с минуту, потом еще раз прочел принесенный ему лист капитуляции.
– Господа, – сказал он, – я мог бы залить кровью ваши улицы и площади и мог бы задавить восстание, но я этого не делаю. Подписываю капитуляцию, и, может быть, подписываю свой смертный приговор. Но будь, что будет! Венеция – отечество моих дочерей… Прошу вас об одном только: помните, что я заплатил Венеции долг чести и благодарности и, когда будете проклинать австрийских солдат – пощадите мое имя!
Капитуляция, подписанная Зичи, состояла из следующих главных пунктов:
a) австрийские войска должны выйти из Венеции немедленно же, сдав в руки национальной гвардии все военные снаряды и войсковую казну, из которой им выдастся сумма для уплаты солдатам жалованья за три месяца;
b) все гражданские суды и правления должны сдать в руки муниципального правления все дела, документы, реестры, списки и пр. и кассу;
c) войско Пепе остается в Венеции, взамен австрийского;
d) сам Зичи должен остаться в Венеции до тех пор, пока не выйдет оттуда последний австрийский отряд.
Бедный генерал сделал бы гораздо лучше, если бы остался дольше: тотчас же, по прибытии в Вену, он был арестован и только благодаря наступившему тревожному времени ему удалось спастись от смерти.
Депутация Авеццани, возвратившись к народу, была встречена торжественными рукоплесканиями.
Затем главные герои этого дня, арсеналотти, канарреджиотти и проч., покончили с государственными делами и занялись исключительно новыми уличными торжествами, довольные тем, что проклятые белые мундиры не придут уже смущать их удовольствия.
Вечером, 22-го марта, площадь св. Марка представляла действительно великолепное зрелище: фасады зданий были увешаны трехцветными фонарями; множество национальных знамен развевались везде, где только был какой-нибудь шпиц или палка. На гауптвахте и под дворцом дожей, вместо кроата со вздернутым носом, стоял очень красивый венецианец в новом с иголочки мундире и с золотой часовой цепочкой по борту форменного сюртука. Среди торжественных возгласов, многие по привычке обращали с беспокойством на него свои глаза, но вид юного часового джентльмена успокаивал их совершенно. Толпы канарреджиоттов ходили по площади, по соседним переулкам с трехцветными знаменами, с гитарами, громко пели национальные песни и кричали виваты кому вздумалось. Говорят даже, что в эту достопамятную ночь не было украдено ни одного платка из кармана во всей Венеции и не произошло ни одной драки между гондольерами, – вот до чего может доходить народный энтузиазм в подобные минуты.
Манин сразу из смиренного адвоката ставший диктатором республики, ушел скоро очень домой, но имя его долго повторялось на площади. В сущности ему еще не было предоставлено никакой власти, да и вообще никто еще не сделал никакого распоряжения на будущее время; никому, однако же, и в голову не приходило сомневаться в том, что Манину предстоит играть очень видную роль в последующих событиях, и он не был таким человеком, чтобы отказаться от предлагаемых почестей. Некоторые из его врагов приписывают чисто случайности и его навязчивости особенную популярность, которой он пользовался в это время в Венеции. Это, однако же, совершенно несправедливо: если в прошедшей деятельности Манина не было ничего оправдывавшего слепое доверие к нему народа, если арсеналотти действительно только потому призвали его стать во главе их, что не было другого имени, хотя сколько-нибудь известного, и самое имя Манин было им больше известно по дожу 1797 г., то после всего этого, Манин успел уже сделать достаточно для того, чтобы иметь право рассчитывать на содействие народа, по крайней мере в это время энтузиазма.
Я говорю о провозглашении республики св. Марка. Передовые люди венецианского движения почти все, без различия политических оттенков, сильно склонялись на сторону присоединения к Пьемонту в виду принципа итальянского единства и той помощи, которую в случае нужды мог оказать им Карл-Альберт[55]. Ломбардия за миланскими Пятью днями присоединилась к Пьемонту и требовала только законодательного собрания для того, чтобы издать новый статут для соединенного королевства. В Венеции, как я уже говорил, было много желавших последовать ломбардскому примеру. Сам Мании был приверженцем унитарных идей и поддавался скорее на сторону Пьемонта, чем Мадзини, и вероятно немногие из его приятелей и политических друзей ожидали такого исхода революции, какой сам он дал его потом на площади св. Марка. Что заставило Манина решиться на эту несколько несообразную с его прежним направлением меру – угадать нетрудно. Предполагать, чтобы он с первого разу понял выгоды, которые могла извлечь и Венеция, и вся Италия из существования в этом отдельном уголке полуострова независимой республики – было бы, мне кажется, не основательным. Мании, и до революции, и после, – был очень обыкновенным смертным, хорошим адвокатом и практическим человеком – не больше. До тех пор, пока исключительно он руководил революцией, она была более похожа на процесс, на тяжебное дело, чем на народное движение; с чего же предполагать, что в нем вдруг, как бы по вдохновению свыше, появились блистательные качества политического деятеля: гениальный ум, способный предвидеть очень отдаленное будущее, и в такую минуту, когда настоящее поглощает все способности обыкновенных людей.
Другие видят в этом проявление его ненасытного честолюбия: с тех пор, как арсеналотти избрали его своим главою, он мог быть уверен, что при республиканском образе правления будет играть слишком значительную роль, которая вряд ли удалась бы ему при немедленном присоединении республики к Пьемонту.
Всякие предположения по этому поводу совершенно лишни, так как все дело объясняется удовлетворительно и без них: с тех пор, как народ сделал все дело, Манин не имел возможности поступить иначе.
Не заходя слишком далеко в историю, – со времени братьев Бандьера, Венеция привыкла много слышать, а потом и сама говорить о единстве Италии, конечно, не понимая хорошенько самой сущности дела. Затем, благодаря новому сближению цивилизованного класса народонаселения с чернью и посредству выгнанных из Падуи студентов, идея итальянской национальности стала иметь смысл и для них. Крик: «да здравствует Италия!» неоднократно раздавался на площадях во время демонстраций; сочетание цветов зеленого, белого и красного (итальянское знамя) встречалось с восторгом.
Народ хотел единства Италии; интересно только знать, в какой форме? Симпатизировать пьемонтскому правительству он не мог, точно так же, как и ни одному из существовавших тогда в Италии правительств. Да наконец, венецианцы просто не хотели отказаться от своего крылатого льва, он им стал слишком дорог: во время сурового владычества наполеоновской республики и затем тяжелого австрийского деспотизма они успели забыть последние века правления Великого Совета, а воспоминания счастливых времен все живее воскресали в их памяти.
В жизни народа вообще суеверия, в особенности связанные с приятными воспоминаниями прошедшего, имеют несравненно большее значение, нежели это думают; в Венеции больше чем где-либо. Тамошние герои 48-го года вовсе непохожи на суровых римских республиканцев, на приверженцев Мадзини, смотрящих на политический переворот, как на религиозное дело, жаждущих высоких добродетелей. До добродетелей венецианцам мало дела: они хотят только хорошо и весело прожить свой век.
Отвыкши с давних пор от политической жизни, они не требовали для себя никакого участия в общественных делах, они даже того только и добивались, чтобы свалить на чьи-нибудь плечи всю эту докучную обузу, а самим остаться в стороне, строго разбирать действия новых администраторов, смеяться над ними вдоволь – одним словом, поставить их на положение актеров, а себя на положение публики; но понятно, чтобы эти актеры не позволяли себе с ними никаких излишних вольностей. Все эти выгоды когда-то соединяло в себе правительство св. Марка, и им для полного спокойствия необходимо было, чтобы и новое носило ту же форму; а что оно будет в сущности – об этом они не много заботились.
Мании, как природный венецианец, не мог не знать этого существенного направления своих соотечественников; не мог не понимать и того, что 22-го марта именно чернь господствовала и что, следовательно, законность в том смысле, в каком понимал ее он, была в опасности. Рассчитывая на то, что торопясь насладиться всеми прелестями освобождения, они не будут особенно требовательны в этот первый день, и что кроме того несравненно безопаснее дать им carte-blanche и не противоречить им ни в чем в этот первый день, чем рисковать оставить им власть на бесконечное время – он решился исполнить или даже предупредить все их желания. Нечего и говорить о том, что в его положении не только колебаться, но даже неосторожным намеком выказать, что его стремления не вовсе сходны с народными – значило бы убить в зародыше его слишком молодую и, так сказать, слепорожденную популярность.
Провозглашением вожделенной республики св. Марка он настолько привязал к себе венецианскую чернь, как будто она знала его до ниточки в течение нескольких лет сряду, как будто он жил вместе с нею и ее же жизнью, как будто в нем воскрес и воплотился дух какого-нибудь из давно отживших народных героев Венеции.
Одно это слепое доверие к нему черни, составлявшей всю его силу, успокаивало за будущее: он понимал очень хорошо, что вся задача только в том, чтобы раз самому выдвинуться вперед и стать сильным, и что все остальное впереди. Поэтому он и устремил все свои способности исключительно на то, чтобы как-нибудь не упустить из рук власть, которая сама к нему навязывалась.
Тщательно избегая всяких разговоров и даже свиданий со своими вчерашними друзьями, под предлогом усталости и домашних дел, он рано оставил площадь и отправился на свою квартиру. Там – пока народ торжествовал и шумел – он занялся сочинением следующей прокламации, которую сам печатал ручной машинкой:
«Венецианцы! Я знаю, что вы меня любите. Во имя этой любви я прошу вас, чтобы вы в изъявлениях вашего восторга не выходили из пределов законности и тем доказали бы, что вы вполне достойны той славной участи, которая вас ожидает. – Друг ваш
Манан».На следующее же утро экземпляры этой прокламации появились на стенах зданий, среди крылатых львов, начерченных на всех перекрестках бойкой, но неопытной рукой безымянных артистов. Это была первая прокламация одного из венецианских граждан к народу, а потому и судили ее вовсе не беспристрастно. Очень немногие заметили все то, что было неловкого, неуместного, навязчивого в этой выходке Манина. Не говоря уже о том, что не один он в Венеции имел право на привязанность народную – требовать во имя этой привязанности того, чего должно было требовать во имя идеи, принципа, или просто во имя блага общего – было довольно неосновательно. Кроме того, венецианцы вовсе не нуждались в подобном напоминании, потому что в течение первых двух дней республики не было и тени какой бы то ни было полиции, а между тем порядок ничем и ни разу не был нарушен.
Манин, однако же, имел цель, публикуя эту прокламацию: он все еще боялся, чтобы как-нибудь в порыве восторга не забыли его и с его законностью, и хотел непременно напомнить о своем существовании, что ему и удалось вполне. Муниципальное правление вынуждено было пригласить его «для обсуждения вопросов, прямо касающихся существования республики». Манин, конечно, тотчас же (утром 23 марта) отправился туда и принес уже приготовленный им самим проект нового министерства, и когда правление предложило ему оставить этот проект на рассмотрение кого следует, он лаконически отвечал: «Теперь некогда – рассуждать будем потом; а теперь нужно немедленно дать ему надлежащую силу».
Муниципальное правление не решилось противиться ему и проект Манина был провозглашен утром того же дня на площади св. Марка и принят тут же с рукоплесканиями нескольких сотен народа, не понимавшего хорошенько, в чем дело и не вслушавшегося даже в чтение. Одно только, чего не мог сделать авторитет Манина – заставить принять в число министров адвоката Авеццани, которого популярность не увеличилась нисколько его удачным посольством к Зичи. Манин великодушно принял на себя всю ответственность, а следовательно и успех этого предприятия.
За исключением этого маленького изменения, проект Манина был принят во всей его целости, и сам автор его провозглашен президентом нового правительства, установившегося в Венеции 23 марта 1848 г., под фирмою республики св. Марка.
* * *
Между тем все провинции Венецианской области, за исключением Вероны, освободились от австрийского владычества и присоединились к Венецианской республике. Первый декрет нового правительства, вызванный именно этим обстоятельством, подавал большие надежды на будущее; но – по общему закону природы – надежды эти не осуществились.
Что по преимуществу погубило первую Венецианскую республику – это неравенство прав провинций и столицы, вследствие которого между ними постоянно существовали враждебные сношения, и провинции при первом удобном случае готовы были отложиться от нее. Понимая, что при настоящем положении дел, для республики слишком важно было сохранить с ними самые дружеские отношения, Манин издал декрет, которым совершенно сравнивались все их права; Манин решился на эту меру, только вынужденный крайней необходимостью и настоятельными требованиями Томмазео, которого сам он назначил министром народного просвещения. Тем не менее декрет его скоро стал яблоком раздора между двумя бывшими приятелями. Томмазео хотел, чтобы созвано было законодательное собрание из депутатов всех городов и провинций области, основываясь на том, что маниновский проект, утвержденный 23-го на площади св. Марка, мог иметь только временную силу, потому что был одобрен одними жителями столицы. Манин никак на это не соглашался, забыв по этому поводу законность, которой был странствующим рыцарем. Между ними начались распри; провинции поддерживали Томмазео, но Манин был слишком силен в Венеции, потому и поставил на своем. Законодательное собрание созвано не было, а вместо его Манин учредил род государственного совета (Consulta di Stato) из депутатов провинций – по трое из каждой. Совет этот был созван только для формы, и не имел никакого положительного значения, так как Манин держал в своих руках почти диктаторскую власть.
Таким образом едва не на второй день владычества Манина, начались уже сильные неудовольствия против него. Приверженцы Томмазео, к сожалению, не умевшие приобрести себе популярности в Венеции, впоследствии обратились в горячих приверженцев Мадзини и присоединения к римскому его триумвирату, а потом в сухих и непрактических доктринеров… Если бы они сумели составить правильную и дельную оппозицию автократическим попыткам нового дожа (народ называл так Манина, хотя официально он не принял этого титула) – ему не удалось бы может быть по-диктаторски распоряжаться в Венеции, а это отстранило бы на долгое время падение республики. Но с предположениями можно зайти слишком далеко, тогда как факты представляют несравненно более интереса…
На основании капитуляции, которую Авеццани заставил Зичи подписать, венецианские пароходы, составлявшие весь почти австрийский флот и находившиеся в это время в Поле (военная гавань между Триестом и Венецией) должны были быть уступлены Венеции. Но чтобы добиться этого, следовало по крайней мере удержать и Пальффи в Венеции вместе с Зичи до тех пор, пока условия капитуляции не будут исполнены. Новое правительство дало очень важный промах, дорого стоивший Венеции, а именно: капитану парохода, на котором Пальффи отправлялся в Триест, дано было поручение передать стоявшей в Поле флотилии приказ нового правительства немедленно явиться в Венецию. На пароходе вместе с Пальффи был довольно сильный отряд солдат, и потому капитан вынужден был исполнять все требования своего пассажира, а бывший венецианский генерал-губернатор вовсе не считал себя военнопленным или обязанным сдерживать условия капитуляции, им неподписанной. Он приказал капитану парохода миновать Полу и плыть прямо в Триест, – у того не хватило энергии исполнить приказание венецианского правительства… В Триесте венецианский пароход был уже совершенно в руках австрийцев, его там задержали и тем временем откомандировали в Полу австрийскую флотилию с приказанием удержать венецианские суда или пустить их ко дну, если первое окажется невозможным. Очень немногие из преданных народному делу капитанов успели бежать оттуда втихомолку, и с большой опасностью добрались до Венеции. Австрийские крейсеры преследовали их почти до самого рейда, но о побеге их узнали уже слишком поздно, так что нагнать их хотя бы на пушечный выстрел было невозможно.
Оставив таким образом республику без флота, Манин и насчет сухопутных сил распорядился не лучше. Весь почти трехтысячный корпус генерала Пепе, состоявший из опытных солдат, был распущен; Манин имел в виду заменить регулярное войско национальной гвардией, которой организовал четыре батальона, по тысячу человек каждый, с тем, чтобы мобилизировать их потом. В основании проект его был может быть и недурен; но он сам скоро увидел, что неудачно выбрал время к приведению его в исполнение. Было, однако же, поздно. Солдат Пепе пришлось заменить новобранцами. Конечно при тогдашнем настроении умов рекрутский набор не мог возбудить неудовольствия: все слишком хорошо понимали, что они далеко еще не покончили со старым своим врагом, и что этот вопрос без крови разрешен быть не может. Толпы народа, по преимуществу молодежи, осаждали дворец Municipio, требуя чтобы всех их без разбора приняли в солдаты. Исполнить подобное требование было невозможно; они тем не менее очень остались недовольны новым правительством за то, что оно не дает им возможности идти драться против австрийцев. Многие решились обойтись и без него. Составились отряды волонтеров, фанатики ходили повсюду, проповедуя крестовый поход против Австрии. Три из подобных отрядов, состоявшие из нескольких тысяч венецианцев и жителей провинции, отправились по направленно к Вероне; но скоро увидели, что взять эту крепость без осадных оружий невозможно, и расположились в соседних городах: Виченце, Пальманове; третий не дошел далее Тревизо (несколько миль от Венеции)…
Рекрутский набор слишком дорого стоил республике, которой финансы были далеко не в цветущем положении. Для того, чтобы иметь по крайней мере опытных офицеров, которым можно бы было поручить обучение рекрут, принуждены были призвать на службу всех отставных венецианцев, служивших в австрийском войске. Они – довольно основательно, конечно – не пользовались такой популярностью; кроме того мера эта была насильственна и не могла ни на кого произвести хорошего впечатления. Старые австрийские служаки, ставшие таким образом офицерами и наставниками венецианской армии, требовали завести в ней дисциплину на манер немецкой – что совершенно не сообразовалось с новыми учреждениями. Изо всего этого вышла порядочная путаница…
Как адвокат старой школы, Манин очень любил прелести австрийской бюрократии – в чем не сознавался даже самому себе. При выборе лиц для своей администрации он исключительно руководствовался своим личным произволом, но давал мало хода своим прежним друзьям; он старался окружить себя посредственностями, которые ни в каком случае не могли бы затемнить его собственной гениальности; большая часть из них были совершенно незнакомы с деловой процедурой, и приходилось менять очень часто чиновников – что, конечно, служило не в пользу делопроизводства. После нескольких неудачных попыток в этом роде, Манин решился возвратить отнятые им же должности бывшим австрийским чиновникам, и сам наслаждался быстротой, с которой пошли вследствие этого гражданские дела. Восхищался, впрочем, только один – остальные не могли не замечать вреда, приносимого республике этой старой бюрократией, отличавшейся вовсе не бескорыстием и честностью.
Даже прежняя полиция осталась почти в полном составе, только имя ее было переменено (Comitato di Vigilanza, или di Salute pubblica). Эта мера в особенности вызвала неудовольствие; но Манин тем упорнее придерживался своей старой системы, может быть потому, что вне ее он вряд ли был на что-нибудь способен. Только по возвращении австрийцев в Венецию открылось, что Комитет общественного спокойствия действовал против республики. Манин должен бы был спохватиться по крайней мере несколько раньше.
Недоверие к новому правительству перешло слишком скоро на площадь и многие предвидели то, вовсе не отдаленное будущее, когда популярность Манина исчезнет, и ему самому предсказывали очень печальную будущность. Он, однако же, не смущался и с особенной любовью занялся дипломатией, которая всего меньше ему давалась…
Венецианская республика с дипломатической стороны находилась с самого начала вовсе не в дурном положении: Швейцария, Северо-Американские Штаты и Сардиния признали ее официально; Англия приказала консулу своему Даукансу войти в сношения с новым правительством; в самой Италии Пий IX, бывший тогда в полном цвете своего могущества, послал новой республике свое благословение при очень дружеском рескрипте; одна Франция не торопилась высказать определительно свою политику по отношению к Венеции. По некоторым довольно положительным данным можно было, однако, предполагать, что с этой стороны нельзя было ждать хорошего. Манин просил у французского правительства разрешения купить во Франции ружья и несколько военных пароходов; разрешение это дано ему было после семи месяцев, когда финансы республики не позволяли и думать о пароходах!.. Ружья (20 тысяч) были заказаны в Париже, но окончить их фабриканты не брались раньше известного, очень отдаленного срока; французское правительство предложило великодушно дать республике старые ружья в обмен новых; волей или неволей нужно было согласиться, потому что ждать не было возможности. Эти старые ружья пришли в Венецию только тогда, когда она уже сдалась снова австрийцам, и их пришлось везти назад во Францию. Манин, однако же, – это общая итальянская слабость – заботился по преимуществу о французском союзничестве, хотя – как впоследствии оказалось – очень плохо понимал смысл тенденций французского правительства и людей, его составлявших. Несмотря на то, что Ламартин[56], вздыхавший прежде в поэтическом экстазе о жалком положении Италии вообще и Венеции в особенности, показал очень ясно венецианскому правительству, что ни он, ни сотоварищи его вовсе не расположены помогать чем бы то ни было – за исключением благих советов – новой республике, – Манин упорно настаивал на союзе с Францией и жертвовал во имя его очень существенными выгодами. На все возражения по этому поводу он отвечал лаконически, что Франция не может не помочь Венеции, и в доказательство приводил цитаты из Макиавелли.
Несмотря на эту блаженную уверенность, обстоятельства шли все хуже и хуже; он решился обратиться к Карлу-Альберту, но и в нем не нашел готовности поддерживать независимость республики, что впрочем сардинский король высказал, хотя и очень не прямо, в своей прокламации к венецианцам, вскоре после 22-го марта. Наконец Ламармора[57], явившийся в Венецию по приглашению Манина, в качестве экстраординарного посланника, объявил без особенных обиняков: «Если вы хотите, чтоб король сделал что-нибудь для вас, то должны бы сами прежде сделать что-нибудь для него».
Что было это что-нибудь, Манин понимал очень хорошо, но сделать это что-нибудь – в его положении было слишком трудно: народ и слышать не хотел о присоединении к Пьемонту, да и другие итальянские короли и герцоги, начавшие уже тогда враждебно относиться к Пьемонту, могли бы вовсе не одобрить этого присоединения; а Манин хотел угодить всем. Делать было нечего, и он решился на адвокатскую уловку. Министр Палеокапа[58] был послан в лагерь к королю, с просьбой прислать в Венецию сардинские войска и флот и с изъявлением готовности, в благодарность за эту услугу, присоединиться к Пьемонту, выговорив, однако же, чтобы было созвано законодательное собрание, которое решило бы, когда именно присоединение это должно быть приведено в исполнение. Карлу-Альберту нетрудно было предвидеть ответ законодательного собрания. Однако, в стратегическом отношении для него было слишком важно иметь Венецию, и он продолжал переговоры.
Манин, начитавшись Макиавелли, не поддавался, забывая впрочем, что Макиавелли прежде всего советует государству опираться на свои собственный силы, а этого-то и недоставало Венеции. Манин с самого начала отказался вооружить народ, а теперь было уже поздно, тем более, что венецианские провинции, недовольные центральным правительством, учредили временные местные, и отказались не только посылать рекрут в Венецию, но даже платить ей государственные подати, не возвратили ей ни тех пушек, которые были посланы Манином тотчас после их освобождения, ни венецианских волонтеров, которые отправились туда, как я уже говорил, в числе нескольких тысяч. Тогда Манин – слишком поздно, к сожалению – убедился, что Томмазео был прав, и что он своими централизационными стремлениями испортил все дело, – тогда только он принялся со всевозможным усердием за исправление сделанного им зла; но и это было уже поздно. Напрасно он посылал туда самые красноречивые прокламации, напрасно даже – едва австрийцы начали враждебные действия против Виченцы – сам он, вместе с Томмазео, отправился в лагерь и совершенно бесполезно подвергал опасности свою жизнь, выбирая самые опасные пункты.
Неудача с Пьемонтом тем более огорчила Манина, что он и не подозревал, что сам Карл-Альберт очень нуждался в посторонней помощи и ни в каком случае не мог послать порядочный отряд войска в Венецию. Томмазео утешил его несколько, сообщив ему по дружбе, что он еще в начале апреля просил Поэрио[59] прислать маленькую военную флотилию…
Скоро дела Италии приняли такой оборот, что ждать помощи от кого бы то ни было Манин уже не мог, несмотря на все свое желание. Наступил май; энциклика Пия IX вышла в свет и объявила всему миру, что папа изменил совершенно свою политику. Затем (15-го мая) неаполитанский король последовал его примеру… Как раз 15-го же мая, неаполитанская флотилия, под начальством адмирала Де Козы[60], бросила якорь в Маламокко (островок близ Венеции, где прежде была военная гавань).
Народ, с самого 22-го марта совершенно удалившийся со сцены, воспользовался этим случаем, чтобы сделать новое торжество на площади; но несколько месяцев новой республики св. Марка успели во многом разочаровать народ, на Манина не возлагали уже никаких блестящих надежд – его терпели, потому что не на кого было променять его; но он давно уже перестал быть кумиром. К тому же, в будущем каждый предвидел тяжелые испытания и не многим удалось заглушить в себе черные предчувствия шумом демонстрации…
Предчувствия эти слишком скоро оправдались, к несчастью. Венецианские провинции все почти успели уже снова попасть в руки Австрии; Радецкий с сильным корпусом утвердился в Вероне и ожидал новых подкреплений… 18-го мая неаполитанский адмирал получил приказ возвратиться в Неаполь и взять с собой генерала Пепе и его войско. Пепе, однако же, воспротивился этому и остался в Венеции; жаль только, что он прежде еще (3 мая) исполнил приказание неаполитанского военного министра и расположил большую часть своего войска в Болоньи и на правом берегу реки По, близь Феррары. В Венеции с ним осталось всего два батальона волонтеров, одна батарея полевой артиллерии и саперная рота. В это же самое время корпус Дурандо[61] должен был оставить провинцию Тревизо (соседнюю с Венецией) и спешить под Верону, чтобы остановить фельдмаршалов Нугента и Вельдена[62], шедших на подкрепление Радецкому.
Все силы Венецианской республики состояли из этого маленького отряда генерала Пепе, из нескольких мобилизированных батальонов национальной гвардии и из волонтеров, которые в беспорядке возвращались в Венецию из занятых Австрией провинций. А девятитысячный австрийский отряд был уже под самой Венецией. Мании назначил Пепе главнокомандующим всей армией республики. Не знаю, действительно ли Пепе стоил целой армии, как уверял Мании, но обстоятельства выказали в нем блестящие военные способности и при этом горячую преданность национальным идеям, которым он служил верой и правдой с замечательной гражданской храбростью, которую ценят больше военной, потому, может быть, что она реже встречается.
Сам Мании, веривший в неизбежность французского союзничества, не падал духом, пока наконец Ламартин не отказался положительно от всякого участия в делах Венеции.
* * *
В эту критическую минуту Мании разыграл роль прежнего Великого Совета, во время занятия Венеции французскими войсками. Устоять не было возможности, и он решился по крайней мере сложить с себя ответственность за неизбежное падение.
Не говоря уже о внешних событиях, внутри республики был полный разлад. Пьемонтская партия имела предводителями Кастелли и Мартини, бывшего полчаса (22 марта) комендантом Арсенала. Палеокапа, ездивший в лагерь к Карлу-Альберту, помогал им своим красноречием. Мании, однако же, держался крепко; но когда Мартини искусно распустил слухи о том, что сардинский король, несмотря ни на что, хочет спасти Венецию, и отдал уже приказ о присылке туда должного вспомоществования (финансы республики были в самом плохом состоянии) и войска, пьемонтская партия начала приобретать некоторую популярность. Мании рассчитал, что настало время, и созвал на 3-е июля генеральное собрание; эта экстренная и совершенно несообразная с прежней его политикой мера напугала весь город…
Мании явился со смиренным видом и в очень короткой, против своего обыкновения, речи изложил со всевозможной запутанностью дело и вызвал наконец прямо вопрос о присоединении. Депутаты Мальфатти, Феррари Браво и министр Томмазео восстали очень энергически против пьемонтской партии. Зная лучше других то невыгодное положение, в котором был сам Карл-Альберт, они требовали, чтобы подождать по крайней мере окончания кампании, а в это время употребить всевозможные средства, чтобы устоять против Австрии. Красноречие Палеокапы и выходки Мартини подействовали сильнее на робких членов собрания, а таких было больше. Манин, сидевший спокойно во все время рассуждений, поднялся наконец и обратился к «благонамеренным гражданам» с просьбой, – на этот раз уже не во имя их любви к нему, – чтобы они «принесли свои выгоды и даже убеждения в жертву необходимости» и пр., и прибавил в заключение, что все, что они решат теперь, будет иметь только временную силу, а окончательно решит все вопросы итальянское законодательное собрание в Риме и что только в Капитолии может быть окончательно установлена та форма внутреннего устройства, которая должна господствовать во всей Италии. Смысл речи Манина был ясен и авторитет его, даже после того, как он перестал быть идолом венецианцев, имел все-таки вес. Приступлено было к баллотировке: 127 голосов было подано в пользу немедленного присоединения и только 6 за самостоятельность Венеции.
Таким образом Манину представился очень благовидный предлог, чтобы подать в отставку. Он сказал: «Я приношу свои убеждения в жертву благу общественному, но я не могу от них отступиться». Затем он совершенно удалился от дел и снова занялся токарными работами в своей квартире на Сан-Патерньяно.
Бедный адвокат Кастелли пришел в такой восторг от неожиданной победы своей партии, что чуть не запрыгал в полном собрании и закричал торжественно: «Теперь Венеция спасена!» Но только он один верил в это.
Сомневаться насчет дальнейшей участи Венеции было невозможно. Партизаны самостоятельности Венеции, мрачно опустив головы, вышли из собрания; народ волновался на площадях, но волнение это не имело уже и признака того детского, игривого характера, как 22 марта. Национальная партия, очень немногочисленная, стала искать силы во внутреннем единстве, в тесном сближении с народом; об оппозиции водворившемуся вновь правительству (в смысле обыкновенной министериальной оппозиции) не было и помину. Да оно и не стоило никакой оппозиции.
С удалением Манина учредился род триумвирата из Колли, Чибрарио и Кастелли; Палеокапа, со своим красноречием, и Мартини предпочли остаться в стороне. Скоро и сам Кастелли успел убедиться, что присоединением к Пьемонту немногим улучшили участь Венеции. Карл-Альберт прислал очень чувствительное воззвание, 2 тысячи человек солдат и 800 тысяч франков. Венеция выиграла немного…
Дела Сардинии принимали очень плохой оборот. Войска должны были отступить за Тичино, флот оставил блокаду Триеста… Журнал народной партии «Fatti е parole» призывал народ на защиту отечества, открывал ему всю опасность его положения, из которого только геройство и энергия могли его вывести. Народ выражал ей свое доверие демонстрациями. Учрежден был клуб del Cento (ста), который стремился к тому, чтобы соединить в одно целое все живые силы Венеции, так как все они были нужны для отстранения опасности.
Правительство комиссаров испугалось всего больше именно этого и ознаменовало свое вступление (7 августа) тем, что наводнило город пьемонтскими жандармами и сделало открытое нападение на типографию, в которой печатался народный журнал, изломало станки и секвестрировало все нумера, бывшие уже напечатанными. Это, однако, не повело ни к чему, потому что журнал продолжал по-прежнему выходить в свет, заседания клуба продолжались по-прежнему и народ даже внимания не обращал на строгости и ярость комиссаров.
Мании, однако, не вытерпел; его законный дилетантизм был возмущен до крайности, и он во главе очень немногочисленной партии начал оппозицию.
Между тем в Венецию пришел батальон ломбардских волонтеров с Сиртори[63] (в 1860 г. начальник главного штаба Гарибальди) и вместе с ним несколько сот венецианцев, удалившихся в Ломбардию, когда Мании отказал во всенародном вооружении.
Все они, конечно, приняли сторону клуба. Партия эта усилилась кроме того значительным числом морских офицеров, возвратившихся из-под Триеста – по большей части молодых венецианцев, которые удалились из города, когда увидели, что Мании слишком придерживается рутины и поняли, что с ним и с его австрийской администрацией, Венеция пойдет не далеко.
На одном из заседаний клуба решено было настоять на том, чтобы комиссары согласились на учреждение военного Комитета Защиты из дельных и пользующихся популярностью офицеров. Комиссары, озадаченные этим требованием, не знали даже, что отвечать, когда (11-го августа) пришло печальное известие о перемирии, заключенном Карлом-Альбертом с австрийцами. Комиссары потерялись совершенно; народ, однако же, больше их ожидал этого. Вооруженные толпы весь день ходили по улицам в мрачном молчании. Вечером все они собрались на площади св. Марка – не было ни демонстраций, ни криков; но комиссары хорошо поняли, в чем дело, и все трое разом подали в отставку. В это время Мании показался на балконе дворца дожей – он тоже словно переродился. Каким-то особенным чутьем все поняли сразу друг друга и крики «Viva Manin!» снова пронеслись по площади.
Мании, не кланяясь, как это обыкновенно водится в подобных случаях, объявил, что на послезавтра будет созвано новое собрание, с тем, чтобы установить новое правительство.
«Эти же 18 часов управляю я», – прибавил он совершенно неожиданно. Неистовые рукоплескания прервали его на этом интересном месте.
«Скоро вы услышите тревогу», – продолжал он, когда толпа притихла: – «нужно защищать Маргеру[64], которую австрийцы намерены атаковать».
«Мы все пойдем», – кричала толпа – и сдержала свое обещание.
Эта театральная сцена имела для Манина самые выгодные последствия. Десятками лет бескорыстной и незапятнанной гражданской деятельности трудно приобрести такое слепое доверие массы, какое снова отдано было Манину за его удачное появление – deus ex machina[65] – на балконе Дворца дожей. Вместе с комиссарами и народ в Венеции подал в отставку, отдав все в руки Манина.
Народ с криками «Viva Mamin!» прямо с площади побежал на форты Маргеры, и эффектное представление 11 августа закончилось отчаянной перестрелкой…
Неожиданный новый успех Манина произвел самое дурное впечатление на клуб и на всю Партию действия (Partito d’azione). Томмазео, бывший ее предводителем, не отваживаясь уже вступить в борьбу с новым диктатором, отправился в Париж с дипломатическим поручением. За отсутствием его, попробовали противопоставить Манину генерала Пепе. Попытка эта не удалась. Пепе был иностранцем в Венеции, а в подобных случаях муниципальная гордость никогда не молчит в итальянцах.
Собрание, созванное 13 августа, – как и следовало ожидать, – сосредоточило всю власть в руках Манина и утвердило за ним диктаторство, которое сам он дал себе только на 18 часов. Манин заставил собрание назначить ему, по его собственному выбору, двух сотоварищей, «людей сведущих в специальных вопросах». Клуб, при новом обороте дел, не мог удержаться больше в первоначальном своем виде; он вдался в маленькую оппозицию в то время, когда кругом шло дело к совершенно иного рода войне… Этим он сам убивал себя, отнял у себя же всякое положительное, практическое значение.
Многих поразил выбор Манина двух товарищей, так как оба они не пользовались известностью государственных людей, или даже действительно сведущих специалистов. Однако же расчет диктатора ясен: не говоря уже о постоянной его приверженности к посредственностям (Грациани – один из двух, – ниже всякой посредственности), ему нужны были вовсе не сотрудники на дела высшей администрации, а известные имена. Поэтому он выбрал двух, принадлежавших к богатым семействам, а следовательно пользовавшихся уважением. Именно этот его выбор объясняет многие из его стремлений: он не был создан для народа; иногда, в минуты вдохновения, он был способен на высшие порывы, театральные эффекты, вызывающие рукоплескания массы, – но в эти минуты он, как актер, очень хорошо играл свою роль. В жизни же ему нужно было нечто более умеренное, соответствующее больше его спокойным «законным» склонностям. Во всякой другой стране, карьера его была бы определена ясно: везде он нашел бы себе сильную и умеренную партию толстых мещан. Но в Венеции, к сожалению, партия эта робко молчала, пряталась в купленных ею с молотка у австрийского правительства дворцах старой аристократии. Манин хотел вызвать эту партию на сцену, в надежде, что под его спасительным прикрытием она забудет, наконец, вековечную робость. Ему нужна была именно такая партия, способная оценить всю прелесть его «законных» стремлений.
К сожалению, обстоятельства не допустили его до исполнения этих благих намерений.
Между тем люди, «сведущие в специальных вопросах», принялись за дело. Один снова возвратил должности австрийским чиновникам и офицерам, которых Мании прежде еще (вскоре после 23 марта) призвал было на службу, но впоследствии вынужден был выгнать вон. Другой «сведущий человек», занявшийся исключительно военной частью, менял мундиры солдатам, окружил себя неспособными и недобросовестными людьми – и вызвал везде и повсюду неудовольствия. Войско, истощенное постоянными ученьями и парадами, не получая жалованья и получая очень плохие съестные припасы, готово было само отдаться в руки австрийцев. Один только волонтерский стрелковый батальон, сильный своим избирательным устройством, остался на прежнем основании.
С самого 11 августа начинается в Венеции новая борьба между народными партиями и правительством. Первые, в виду неминучей опасности, хотят поголовного вооружения; а Мании, вечно занятый дипломатическими тонкостями и мыслью о союзе с Францией, проповедует спокойствие и всякого рода умеренные и законные меры – одним словом, по выражению одного итальянского писателя, приговаривает Венецию к долгой и мучительной смерти от внутренней хронической болезни, тогда как все готовы были лучше умереть на баррикадах.
Это внутреннее несогласие партий, тогда, когда уже ближайшие укрепления были осаждены австрийцами, не обещало ничего хорошего. Партия действия понимала очень хорошо, что для Венеции один выход – отделаться во что бы то ни стало от Манина с его «сведущими специалистами». Но сделать это было невозможно: после генерала Пепе, никто уже не осмеливался вступить с диктатором в открытую борьбу; Томмазео оставался в Париже – остальные все боялись народа, с которым даже немногие из них умели бы говорить понятным для него языком. Начались немые протесты, которые были бы смешны во всякое другое время… Несколько десятков молодых морских офицеров, приверженцев народной партии, подали в отставку, их заменили старыми австрийскими моряками.
Был составлен опытными стратегиками смелый, но удачно задуманный проект защиты и перенесения военных действий на По и в Романью, тогда еще не занятую австрийцами. Все это вместе хотели представить на рассмотрение римского триумвирата и просить его помощи. Нечего говорить, что и римские и венецианские дела очень много бы выиграли от тесного союза между двумя республиками. Записка эта осталась, однако же, в кармане редакторов, и Мании становился все более и более полновластным диктатором. Недовольный «законными» преследованиями против клуба и Партии действия, он совершенно незаконно изгнал из Венеции нескольких, особенно для него опасных, то есть тех, на кого особенно могла рассчитывать республика в случае кризиса. Некоторых других, пользовавшихся популярностью настолько, что прямо изгнать их было опасно, он отправил в Рим с разными пустыми поручениями.
Но звезда Манина снова начала блекнуть – нужен был новый театральный эффект, чтобы возвратить ей прежний блеск; а возможность этому не представлялась. Манин, чтобы по крайней мере чем-нибудь выказать свою деятельность, заказал три военных парохода в Арсенале. Финансы были в слишком плохом состоянии и не на что даже было купить новых машин. Манин разыскал где-то три старые, из которых одна отслужила уже свой срок на австрийском речном пароходе, и была брошена в Арсенале за негодностью; другие две служили для просушки окрестных болот, – явно было, что эта постройка предпринималась чисто для виду.
Директор Арсенала на приказание диктатора отвечал, что к работам нельзя приступить до известного срока, так как теперь все руки заняты выделкой железных походных кроватей для солдат. Случай этот наделал много шуму. Манин решился собрать снова генеральное собрание, не знаю под каким предлогом, но с исключительной целью выйти как-нибудь с помощью своего красноречия и нового театрального эффекта из затруднительного положения.
В собрании никто не восставал прямо против Манина; но против разных отраслей администрации и в особенности против двух «сведущих специалистов» восстали очень энергически… Манин вскочил на трибуну и объявил, что он своей честью ручается за бескорыстие и лихорадочную деятельность своих чиновников и что – если не оставят ему специалистов – он сам выйдет в отставку… Собрание притихло; но один из молодых офицеров требовал, чтобы адмиральство и начальство Арсенала представили отчет во всех своих поступках особенной комиссии – Манин не дал ему времени кончить – и закрыл собрание…
* * *
Между тем Томмазео возвратился из Парижа с самыми печальными известиями. Бастид[66], в письме своем на имя Манина, говорит, что он готов воспротивиться всеми зависящими от него средствами осаде Венеции, и думает, что имеет на это право, как предложивший раз свое посредничество, но он должен предупредить его, что в самой Франции готовится правительственный переворот, и что те, которые сменят его, вряд ли будут разделять его образ мыслей по отношению к Венеции… Пальмерстон[67] советовал сдаться без всякого замедления Радецкому…
Зато с другой стороны положение стало понемногу улучшаться… Началось движение в Венгрии, и Кошут[68] предлагал Венеции свое союзничество. В Тоскане и в Риме дела приняли лучший оборот, и оттуда тоже предложена была помощь Венеции.
Эти новые подкрепления усилили, однако же, только Партию движения; а Мании, противившийся почти открыто союзничеству с римским и тосканским триумвиратами – еще более потерял в мнении народном. Клуб поднял голову, предвидели близкое падение диктатора – но они слишком мало знали Манина.
Он снова созвал собрание, на этот раз с очень определенной целью – назначить жалованье государственным чиновникам. Каким образом случилось то, что этот вопрос поднят был только после 8 месяцев существования республики – неизвестно. Жалованье было назначено, и чиновники в великодушном порыве пожертвовали известную его часть в пользу государственной казны. Мании пожертвовал его все, и объявил, что если ему понадобятся деньги, то он займет их у своих друзей, но что брать жалованье от республики в то время, когда она сама нуждается – он не считает достойным порядочного гражданина. Со стороны Манина – это была не маленькая жертва, так как сам он был человек далеко не богатый. Слова его произвели на слушателей надлежащее действие.
Великодушие Манина не ограничилось одним этим: увидев, что собрание достаточно наэлектризовано, он в короткой, но красноречивой речи изложил, как намного улучшились обстоятельства Венеции и всей Италии (налегая по преимуществу на пьемонтские дела) с 11 августа, т. е. со времени его диктаторства, и заключил тем, что – считая опасность минувшей – он сам слагает с себя диктаторскую власть и просит собрание учредить новое правительство.
Пораженные этой неожиданной выходкой, даже заклятые его враги, приверженцы Партии движения, не нашлись сказать что-нибудь против него. Собрание, разумеется, снова утвердило его диктатором, и популярность его возросла снова во всей силе.
В виде блистательного финала к этому новому драматическому представлению, и чтобы показать в выгодном свете и собственную свою деятельность и силы Венеции – Манин задумал высадку на Маргере, занятую уже австрийцами. Высадка эта назначена была в ночь с 27 на 28-е октября – несколькими днями позже собрания.
С вечера Манин собрал сколько мог лучшего венецианского войска и прикомандировал к стрелковому батальону, любимцу венецианской публики – своего сына. Это произвело тоже должное впечатление…
Австрийцы не ожидали со стороны Венеции никаких враждебных действий, тем более, что время перемирия еще не кончилось, а право не сообразоваться с его условиями они считали только за собой, как за сильнейшими… Тем удачнее для венецианцев кончилась эта попытка и на утро войска возвратились в город при всенародном торжестве, положив на поле 200 австрийцев и приведя с собою 500 пленных и 6 пушек. Австрийский генерал Митис бежал из Маргеры с остальными, оставив на письменном столике своей канцелярии слишком поздно им полученное дружеское уведомление из Венеции о предстоящем предприятии. Так как план этой высадки мог быть известен только очень немногим и высокопоставленным в венецианской администрации лицам – а его-то и нашли на столе у Митиса – то не могло быть сомнения в том, что большая часть маниновских чиновников или проданы, или бескорыстно преданы Австрии…
Республика только это открытие извлекла из геройской высадки, которая в сущности не имела никакого значения и никому кроме Манина не принесла никакой пользы. Пальмерстон сделал строгое замечание венецианскому правительству: «нарушая таким образом условия перемирия, республика отнимает у благорасположенных к ней и готовых покровительствовать ей держав единственное средство, которым они могли бы воспрепятствовать осаде Венеции австрийцами». Французский консул также выразил неудовольствие своего правительства, и Манин, приготовлявший уже другую и более важную высадку, должен был отказаться от предприятия… Австрийцы снова возвратились в Маргеру и маниновские чиновники снова вели с ними приятельскую переписку…
* * *
Пьемонт начинал оправляться после поражений и с нетерпением ожидал окончания перемирия, заключенного в Саласко[69]. Карл-Альберт имел в виду не только австрийцев, но современные правительства средней Италии – триумвираты Тосканы и Рима: напрасно Мадзини добивался союза с ним – король-мученик предпочел Новарское поражение[70]этому союзу. Тогда в Риме образовался другой центр, и это раздвоение немало помогло австрийцам. Мадзини поддерживали плохо, хотя во всех частях Италии он имел горячих приверженцев. По-видимому, Карл-Альберт имел больше шансов на успех – так по крайней мере думали и в Пьемонте и в Европе…
В Венеции Партия движения приняла еще прежде сторону Мадзини, Мании напротив того, с душой и телом отдался Пьемонту. Сильный своей вновь возродившейся популярностью, он даже не считал нужным скрывать свои стремления и открыто стал против им же предложенного итальянского законодательного собрания, требуя безусловного и немедленного присоединения к Пьемонту. В это время он в первый раз изложил, хотя в очень неопределенной форме, свой план Итальянского королевства под скипетром конституционных королей Савойского дома. План этот он развил уже впоследствии, когда ему не оставалось ничего больше делать. Пока, он ограничился только тем, что требовал, чтобы Венеция отказалась от всякой политической и административной автономии и, следовательно, от республики св. Марка.
Это было невозможно и, несмотря на всю свою популярность, он встретил такую энергическую оппозицию, что вынужден был покрыть все свои происки по этому поводу «мраком неизвестности», то есть работать втихомолку, обманывая тех, которые избрали его в диктаторы. Для этого нужно было отвлечь чем-нибудь общественное внимание от этих слишком важных вопросов. Манин задумывался недолго. Он распустил прежнее генеральное собрание под предлогом, что оно состояло из депутатов провинций, уже занятых австрийцами, и принялся за учреждение нового.
Выбор лиц зависел исключительно от него, и он распорядился так хорошо, что, по собственному его мнению, оппозиция не могла никаким образом пробраться в это новое учреждение. Твердо убежденный в этом, и чтобы отстранить всякие подозрения, он предложил президентство нового собрания Томмазео, бывшему по-прежнему главой оппозиционной партии. Томиазео отказался, и Манин был совершенно спокоен; к несчастью, он забыл Сиртори. В несколько месяцев своего пребывания в Венеции, Сиртори сумел привязать к себе не только своих ломбардских волонтеров, но и неаполитанские войска Пепе. Морские офицеры, вышедшие в отставку при провозглашении Манина диктатором, видя возрастающую силу Сиртори и ожидая от него больше чем от Томмазео, приняли его сторону. Когда Томмазео отказался от председательства над новым генеральным собранием – тем восстановив против себя прежних своих приверженцев – Сиртори очутился на его месте главой партии движения. Эта перемена была очень неприятна для Манина. Между Томмазео и Сиртори – старым и новым предводителем оппозиции – отношения были тоже вовсе не дружеские.
Тут произошла странным образом шумная демонстрация (5 февраля 1849), настоящего смысла которой и до сих пор еще никто хорошенько не сумел понять. Очевидно, народ терялся в этих мелких борьбах и соперничествах, не понимая, чего нужно этим господам. Толпа вышла на площадь и, окружив дворец дожей, из которого выходили почтенные мужи по окончании какой-то тайной конференции, принялась яростными криками выражать свои настоящие стремления: Viva S. Marco! Morte agli Austriaci![71] Других криков не было слышно и нельзя было предполагать, чтобы толпа имела враждебные намерения против кого бы то ни было из присутствующих, а всего менее против Сиртори. Мании, однако же, воспользовался случаем высказать свое великодушие. Он собственной грудью защитил Сиртори против ударов, которых никто и не думал ему наносить, и неистово махая шпагой, разразился отчаянным потоком красноречия…
Демонстрация приняла совершенно другой характер, и демонстрировавшие поспешили криками приветствия убедить и Манина и Сиртори в том, что им нечего было бояться. В это время бог весть чей голос поднялся против Томмазео, которого упрекнул во враждебных замыслах против Манина. Народ мало знал Томмазео, хотя тот и держал постоянно его сторону против диктатора… Тут уже Манину не на шутку пришлось защищать прежнего своего сотоварища по тюрьме. Демонстрация окончилась торжественными криками в честь диктатора… Того же дня на колоннах дожева дворца были прибиты анонимные прокламации, которые от имени народа грозили смертью всякому, кто осмелится открыто стать против Манина…
Насколько сам диктатор подготовил всю эту площадную комедию – осталось неизвестно. Томмазео заподозревал Манина; он обвинял во всем случившемся одного из чиновников комитета общественной безопасности. Этот на очной ставке не осмелился опровергнуть обвинений Томмазео. Манин с тех пор принял этого чиновника под свое специальное покровительство, – все эти факты довольно красноречивы.
Народ между тем видимо устал от подобных комедий, ожидал с нетерпением окончания перемирия, хотя и не без страха за будущее. В ожидании, устроено было несколько национальных праздников на площади св. Марка и на Большом Канале, но все они вышли как-то мрачны. Веселье мало шло на ум при этой обстановке.
Но Манин трудился недаром. Вслед за демонстрацией 5 февраля оппозиция несколько присмирела. 15-го было созвано новое генеральное собрание, и оно подтвердило диктаторство сперва только на 15 дней. Манин отстоял также и двух своих «специалистов», один из которых в ответ некоторым, обвинявшим его в бездействии, сознался, что «конечно военные приготовления (которыми он заведовал) шли не с особенной быстротой», но что он со своей стороны делал все, «чего требовала благоразумная политика».
Первые две недели прошли в полном бездействии. В сущности и делать было нечего, так как всего ждали от Пьемонта. Диктаторство Манина продолжили еще на 15 дней, потом и еще.
Едва начались военные действия на По, в народе открылось тревожное беспокойство. Вооруженные толпы отправились на форты; Манин, уверенный уже, что сумеет провести их, как ему будет угодно, не только не мешал им, но даже величаво благодарил за выказываемое рвение и свел с некоторых укреплений моряков и войско, оставив их совсем в руках вооруженного народа. Очень скоро пришло известие о поражении Карла-Альберта под Новарою и, как громом, поразило диктатора…
Австрийцы начали осаду. В самом правительстве поневоле наконец проснулась деятельность. Манин назначил морскую комиссию для вооружения 40 барок (trabaccoli), которые под прикрытием военных судов должны были поддерживать сообщение с Романьей и снабжать город съестными припасами и военными снарядами. Другой пользы почти нельзя было ждать от флота. Этой же комиссии поручено было окончательное вооружение и наблюдение за защитой фортов, с предоставлением ей полной власти на все время продолжения этих работ.
В силу этой статьи, комиссия распорядилась таким образом, чтобы никогда не кончить своих работ. С вооружением барок медлили долгое время, под предлогом, что не было пушек должного калибра. Манин сам отправился в арсенал и нашел их тридцать пять, валявшихся безо всякого употребления. Комиссия только восемь из них поставила на барки, остальные оставила для фортов, но не позаботилась приготовить для них лафеты, так что пушки эти лежали на земле; а для того чтобы предохранить их от дождя, устроили навесы из полотна, предназначенного на паруса для барок, и прочее в том же роде. Благодаря особенной деятельности Манина, сознавшего наконец всю опасность положения, окончено было наконец вооружение восьми из этих барок. Комиссия, однако же, не отпустила и эти восемь в Романью, а удержала в гавани, признавая их необходимыми для защиты фортов. Всего этого, кажется, вполне достаточно для того, чтобы показать, каким людям вверил Манин, из личных видов, самые важные административные посты.
Между тем австрийский генерал Гайнау[72] предложил Венеции капитуляцию. Манин вынужден был созвать новое заседание собрания (2 апреля). Единодушный ответ всех был: Венеция не капитулирует с Австрией.
С этого времени начинается агония Венеции, подготовленная почти годом маниновской диктатуры; агония тяжелая, но блестящая, славная. Народ не побежал с фортов, когда на них посыпались неприятельские ядра; напротив, новые толпы постоянно подкрепляли старые, до тех пор, пока наконец все, что было способного в Венеции носить оружие, не вышло на укрепления. Это был не мятеж, а восстание геройского народа против иноземных пришельцев, которых он ненавидел и язык, и нравы, и обычаи.
Между тем, по милости комиссии, не было сообщения с Романьей – единственным местом, из которого можно было бы подвозить съестные припасы; а бывшие уже прежде в городе приближались к концу, и голод уже начал чувствоваться в массе…
Толпы вооруженной и израненной черни собрались на площади, настоятельно требуя уничтожения комиссии. Манин вышел на балкон дворца дожей, удивленный, что народ начинает мешаться в его административные тонкости и, подозревая, что во всем этом виновата ненавистная оппозиция. Подозрение было напрасно, потому что его комитет общественной безопасности, воспользовавшись обстоятельствами, выпроводил всех недовольных за границу республики, даже без его ведома.
– Что заставляет вас требовать раскассирования комиссии? – спрашивал он.
– Голод, – отвечали все в один голос.
Но было уже поздно.
Манин зная, что и Рим готов уже сдаться, созвал секретное собрание, в котором решено было сдаться. Но объявить это решение народу не брал на себя ни диктатор и никто из его сотоварищей по собраниям. Патриарх вывел всех из затруднения.
Едва вышла его прокламация, народ бросился на его дворец, переломал в нем все стекла и разбил его богатые погреба и птичные дворы. Вино и птицы были отнесены в госпитали, а окна оставались невставленными до занятия города австрийцами. Точно так же было поступлено с домами двух депутатов, принимавших участие в тайном заседании.
А голод чувствовался все больше и больше…
Между тем французы заняли Рим… Гарибальди бежал оттуда, и за ним, как за диким зверем, гнались по лесам и по болотам. Он пробирался в Венецию, которая держалась одна во всей Италии. Вести эти пришли в Венецию…
Толпа, более многочисленная, чем когда бы то ни было, собралась снова под балконом Дворца дожей, и Манин снова вышел на балкон. Толпа, во что бы то ни стало, хотела Гарибальди; Манин вовсе не хотел его, но противоречить не смел и пустился по обыкновению на уловку.
– Гарибальди без войска – один, – заметил он, надеясь охладить восторг народный.
– Гарибальди никогда не бывает один, – отвечали ему: – мы все с ним, – мы умрем с Гарибальди!
Но им не удалось и этого. Тогдашний диктатор Венеции препятствовал всеми средствами будущему диктатору Обеих Сицилий высадиться в Киоджии[73].
А ведь может быть совершенно иная была бы судьба Венеции и всей Италии в 1849 г., если бы будущий герой Марсалы[74] успел пробраться туда.
Этого не случилось, и гибель Венеции стала неизбежна. Народ геройски умирал на укреплениях, на площадях и на улицах с голоду и от эпидемических болезней. Манин в мрачном отчаянии сидел в зале собрания. Австрийцы все ближе и ближе подвигали крепостные работы и приверженцы их все смелее работали в самом городе.
Целый отряд войска, истощенный трудами и голодом, выведенный из терпения нелепыми строгостями начальников и тем, что больше трех месяцев не получал уже ни копейки жалованья, с неистовством бросился на площадь, громко прося хлеба и денег, грозя разграбить город, если требования его не будут исполнены.
Манин в последний раз вышел на балкон, худой, мрачный, в лихорадке.
– Позор тем негодяям, которые осмеливаются оскорблять Венецию в последние минуты ее жизни! – закричал он глухим голосом: – позор и проклятие! Но пока жив Мании – Corpo del Diavolo![75] – этого в другой раз не случится!
С этими словами он сбежал с лестницы и с ружьем в руке бросился на солдат. Толпа народа бросилась с ним вместе. Солдаты побежали; их гнали таким образом под самые укрепления, где дождем сыпались пули и ядра…
Агония продолжалась. Сиртори удачной вылазкой отбил у неприятеля 50 барок, на которых было около 200 быков (2 августа); но было уже поздно… Холера распространилась в городе в страшных размерах и помогала австрийским батареям усердно.
По истощении и этих запасов, в Венеции не оставалось буквально и куска хлеба. 22-го августа она сдалась Радецкому на капитуляцию. Радецкий со своим главным штабом входил в гавань у Giardini Pubblici, на богато украшенном пароходе; 9 судов уходили с другого конца, нагруженные беглецами, которые сами не знали еще, куда удаляются и что их ждет в будущем. Между ними был и адвокат Мании, с семейством.
* * *
Этим и закончился период административной деятельности Манина; и он, и Венеция выиграли бы оба, если бы период этот не продолжался так долго. Он погубил Венецианскую республику, хотя вовсе не того желал. Он был очень добрый и довольно смышленый практически человек, и в нем не было недостатка ни в энергии, ни в административных способностях. Управление его, конечно, имело и свои хорошие стороны, но я не думаю, чтобы меня упрекнули в пристрастии за то, что я выше не упомянул о них. Я разбирал его, как диктатора, а не как начальника департамента; а его главный недостаток именно в том, что он постоянно оставался порядочным бюрократом там, где нужно было совершенно другое; приверженцем дряхлого порядка, спокойствия, а следовательно и бездействия там, где нужно было вызвать к деятельности все разнообразные силы народонаселения, наэлектризовать их, направить на одно, – а это, конечно, сумел бы делать Манин, отличавшийся до высшей степени развитой способностью рисоваться, производить эффект на массу…
Упрекать Манина за честолюбие, за желание играть роль в политической жизни Венеции – было бы довольно неосновательно, потому что во многих других эти же самые чувства, но соединенные с более блестящими способностями ума, порождали несравненно лучшие результаты.
Положение Манина было затруднительно, правда; многие промахи и недосмотры были неизбежны; но Манина, конечно, осуждают не за эти промахи и недосмотры, хотя и из них некоторые имели чересчур важные и печальные последствия. Главное, однако же, то, что Манин вовсе не понимал ни своего собственного тогдашнего положения, ни положения Венеции и всей Италии. Будучи во главе сильного и молодого еще народа, – на венецианской черни прошедшее не лежит тяжелым грузом, – он должен был сам стать таким же простолюдином, каковы были они; жить их жизнью, сочувствовать их нуждам и выгодам. Они были единственная тогда сила в Венеции, и только опираясь на эту силу, республика могла устоять против Австрии. Манин должен был вызвать в венецианцах всю энергию, к которой они только были способны, стать рядом с ними и забыть все то, что отдаляло его от них. Он делал, однако же, прямо противоположное.
Время было военное, все висело на ниточке. Прежде всего нужно было освободиться из-под Дамоклесовского меча, висевшего над всеми головами, а потом уже думать об остальном. Вопрос был чисто народный, вопрос закоренелой ненависти, физического грубого насилия против святого права; вопрос этот мог решиться только кровью, и только этого решения ждали от Манина. Он же, со всей своей законностью, не сумел или не захотел понять этого; может быть он думал не только о личных своих выгодах; но об чем он думал – до этого мало дела, а делал он много вредного для Венеции…
Ни один из благоразумных и беспристрастных судов не принимает в оправдание подсудимого незнание закона. Тем менее может принять подобное оправдание история, и она назовет Манина убийцей Венецианской республики. Да он даже и не может оправдываться неведением; он знал венецианский народ, иначе он не мог бы по своему произволу ворочать массою. Но он не сочувствовал этому народу и употреблял во вред ему это свое знание. Манину нечего было делать в Венецианской республике 1848–1849 гг.; ему нужна была другая среда, другие зрители, – так как он всю жизнь свою оставался актером; зрители, способные оценить его милую ученость, его лавочническое красноречие. Этой среды в Венеции не было, или, по крайней мере, из страха перед народом, она жила в роскошных дворцах. Манин хотел создать из нее целое сословие, политическую единицу – это была его главная задача. А положение требовало того, чтобы им одним занялись со всем вниманием и безраздельно. Кроме того, понимая, что эта дорогая ему среда необходимо враждебно будет встречена народом, он старался парализовать силы народа в то время, когда все они были нужны…
С бегства из Венеции для него начинается совершенно новая эпоха, и эпоха более блестящая, чем первая. Тут ему представилась полная возможность ласкать свои идеалы, создавать планы, задумывать и передумывать их; не было уже врага, который был готов воспользоваться первым шагом промедления, колебания, нерешимости.
С этих пор, можно сказать, начинается тот Мании, которого прославляет теперешняя конституционная Италия, считая его своим отцом…
* * *
Из Венеции, через Корфу, Манин отправился в Марсель. Тотчас же по приезде его в этот город у него умерла жена, не вынесшая со своим слабым здоровьем тревог последнего времени и неудобств путешествия. Тело его жены было бальзамировано на деньги, собранные по подписке. Французы этим способом думали выказать позднее свое сочувствие к печальному положению Венеции!
Манин был слишком франкоманом, что доказал постоянным своим болезненным стремлением заискивать французское союзничество для Венеции. Поэтому он предпочел остаться во Франции, а не ехать в Англию, как сделали многие из его сотоварищей по изгнанию. Некоторые из его биографов, считающих необходимым находить всевозможные и невозможные добродетели, утверждают, что он уже в это время предвидел будущую политику Наполеона по отношению к Италии. Опровергать можно только то, что можно и доказывать, а не подобные предположения.
До 1854 г. Манин жил в Париже, не принимая никакого, ни прямого, ни косвенного, участия в политических делах. Вскоре после своего прибытия он заседал в собрании итальянских эмигрантов, живших в Париже. Собрание это не решило ничего и положило только придать новую силу постановлению Римского собрания (3 июля 1859 г.)[76]. Лондонские итальянские эмигранты признали кроме того за этим новым собранием право определить ту форму правительства, которая должна господствовать на полуострове. Манин во всем этом принимал слишком пассивное участие, может быть потому, что не успел еще опомниться от последних невзгод.
Во Франции он был встречен очень хорошо, и даже самым правительством. Наполеон предложил ему ежегодный, довольно умеренный пансион, от которого он отказался; точно так же отказался он и от довольно значительной суммы, собранной в его пользу в Турине маркизом Паллавичино[77], но принял в то же время присланную ему незначительную сумму из Венеции, где деньги эти набраны были по преимуществу негоциантами средней руки; подписка, конечно, происходила со всевозможной тайной, потому что австрийское правительство, без всякого сомнения, конфисковало бы деньги и засадило в тюрьму тех, которые этим образом высказывали свою симпатию павшему диктатору.
Изо всего можно заключить, что Мании в деньгах особенно не нуждался. Зимою 1850 г. он открыл в Париже курс итальянской литературы, и хотя с платой за вход, но вовсе не с целью заработать деньги. По крайней мере направление его лекций заставляет предполагать это с полной основательностью. Из писем Манина, относящихся к этому времени, видно, что он обдумывал уже тот план, который развил впоследствии, хотя тоже в довольно общей и неоконченной форме… Он добивался сближения между Италией и Францией, как первого шага к достижению той цели, которую он предположил себе.
Между тем, то видимое бездействие, в котором он проводил свое время, восстановило против него лондонскую эмиграцию, жаждавшую фактов… У Манина завязалась с ней длинная и мелочная полемика, из которой не привожу никаких выписок, так как она не высказывает в Манине ни одной новой черты… Это в сущности та же законная революция, которой долгое время он был единственным оплотом в Венеции. Что же касается до упрека в бездействии, – Италия, а в особенности Венеция должна бы быть очень благодарна за него экс-диктатору, потому что это его бездействие было настолько же ей полезно, насколько гибельна его деятельность.
В 1854 г., при самом начале Восточной войны[78], Манин издал свою первую программу при прокламации к итальянской эмиграции. Он предвидел возможность войны западных держав против Австрии и приглашал своих соотечественников, единодушно и забывая все побочные вопросы, принять сторону того, кто восстанет против Австрии. Он просил особенно отложить до времени всякий вопрос о той форме правительства, которая должна существовать в Италии, прибавляя, что она точно также может быть и республикой, как конституционной монархией, либо под одним скипетром, либо федеративной. Все это, конечно, было не ново; но следующие слова Манина придают колорит его программе.
«Итальянская партия ни в каком случае, – говорит он, – не должна вредить ни Франции, ни Пьемонту – какое бы ни господствовало в их обоих правительство».
Таким образом высказывал Манин свои стремления еще в начале 1854 г.; в последней своей программе он развил их гораздо больше, и в его трех примирительных проектах, найденных после его смерти в его бумагах и распубликованных в свет г. Шассеном (Chassin) – он создает целую правильную систему итальянской политики… Но так как эти проекты стали известны тогда уже, когда бо́льшая часть того, что в них высказано, было приведено в исполнение Кавуром, то я и не считаю долгом говорить о них, а расскажу лучше последовательное развитие этих основных начал самим Манином в журналах того времени. Прибавлю, что Манин был почти единственный тогда итальянский публицист и что все, им тогда высказанное и теперь уже приведенное в исполнение – было новостью для Италии в то время.
Манин поместил большое число отдельных политических статей во французских, английских и итальянских журналах. Чтобы дать в немногих словах понятие о его публицисткой деятельности, достаточно сказать, что он проповедовал то, что делал Кавур. В Италии вообще очень распространено мнение, что Кавур сделал Италию – в этом и разгадка популярности Манина…
Вот несколько образцов его красноречия:
Парижская «Presse» поместила его ответ Джону Росселю (22 марта 1854 г.), в котором Манин говорит следующее по поводу либерализма Австрии и предлагаемого примирения: «Мы хотим только одного – чтобы Австрия оставила нас в покое и со своим либерализмом и с гуманностью; мы хотим сами быть хозяевами в нашем доме… Это один вопрос, занимающий итальянцев – все остальное мелочи, которые мы охотно принесем в жертву главному».
После 49 г., когда именно нежелание подчиниться Пьемонтской администрации с одной стороны, и страх перед триумвирами с другой, погубили Италию – это было слишком смело. Явно Манин сперва хотел заставить своих соотечественников забыть все внутренние вопросы в виду одного самого главного – внешнего единства Италии, чтобы потом удобнее привести их к необходимости сделать итальянским пьемонтское правительство.
Он довольно долго продолжает играть эту индифферентную роль, и только год спустя начинает высказываться определительнее:
«Сделайте Италию, – говорит он пьемонтскому правительству от лица, будто бы, всей итальянской партии, – и мы будем за вас. Если же нет – нет».
Манин очень робко подвигался вперед, и нужно было бы прочесть все его журнальные статьи, чтобы увидеть, как мало-помалу он приводит своих соотечественников к необходимости признать королями Италии королей Савойского дома.
С другой стороны, он успокаивает иностранные правительства на счет Италии. И едва ему удалось провозгласить заранее Пьемонт будущим центром Италии, высказать слабость всех других политических партий на полуострове – он приступил к подписке на приобретение 100 пушек для Италии, и французское правительство не только не помешало ему в этом, но даже само приняло участие в ней. Затем прямо следовали события 1859 г.[79] Вот что сделал для Италии Манин.
Определить точнее его настоящее значение трудно. По отношению его к Кавуру, можно сказать, что он поставлял материалы этому министру; он начинал то, что оканчивал Кавур; но он не был обыкновенным абоцатором[80], обтесывающим глыбу мрамора, из которой потом художник вырубит прекрасную статую; скорее, он сам был художник, хорошо задумавший большую картину, но не имеющий возможности сам выполнить ее. Кавур пополнял Манина, переводил его на практику. Манин первый составил проект того здания, которое создал Кавур (у Манина оно было только на бумаге), и которое теперь благословляет оба эти имена, которым оно обязано своим существованием. Здание это – теперешняя конституционная Италия, опирающаяся на национальную гвардию, на избирательный ценз, на пушки – Cavalli[81] регулярной армии и на пьемонтских карабинеров с либеральными бородками. Многие великодушно хотели приписать и Гарибальди долю участия в этом сооружении. Они ошибаются: Гарибальди никогда не был сотрудником Манинов и Кавуров – он трудится и теперь, но над другим великим предприятием…
В заключение этого очерка, привожу программу, данную Манином итальянскому национальному обществу, так как в ней в самой полной форме высказались стремления экс-диктатора.
«Итальянское национальное общество признает необходимым поставить единственной своей целью – единство и независимость Италии, отложив в сторону все вопросы касательно внутреннего политического устройства муниципальных и провинциальных интересов.
Оно будет держать свято сторону королей Савойского дома – как самых верных защитников итальянского дела (Causa Italiana) – и поддерживать без различия личного состава всякое сардинское министерство, которое в виду выгод Италии – готово будет забыть чисто пьемонтские вопросы.
Для достижения цели своей – единства Италии – оно считает необходимым содействие народа, и весьма полезным содействие пьемонтского правительства».
Эта программа – политическое духовное завещание Манина. Он умер очень скоро по выходе ее в свет (22 сентября 1857 г.).
По освобождении Милана, труп Манина был перевезен туда из Парижа. Когда снова освободится, наконец, Венеция – если только теперешняя Италия, – Италия Риказоли[82] и Раттацци[83] – способна освободить ее – в первом порыве восторга венецианцы, может быть, забудут диктатора-Манина и снова побеспокоят бренные остатки Манина-публициста; крики «Viva Manin!» может быть снова раздадутся на площади св. Марка[84].
Но Мании не был достаточно богат, чтобы подкупить даже суд истории. Вообще мало надежд, чтобы в Венеции кто-либо сумел отделить в нем публициста от диктатора, – да и искупают ли его последние успехи промахи диктаторства?
[Леон Бранди]
Сиена, 16 апреля 1862 г.[85]
Франческо-Доменико Гверацци
I
Венский конгресс создал для Италии положение, ближайшим последствием которого было сконцентрирование всех сил и помыслов этой страны на исключительно политических и патриотических интересах. С этого времени все, что не имело прямого соотношения с насущным вопросом об изменении политических судеб страны, предается пренебрежению и забвению. Науки и художества, относительно еще процветавшие в Италии в конце прошлого столетия, заметно приходят в упадок. Некогда славные университеты, в Пизе, в Болонье, в Падуе, становятся консерваториями отжившей рутины и педантического невежества. Молодежь, поглощенная ненавистью к чужеземным или же доморощенным притеснителям, мало помышляет об учении. Литература также только в таком случае имеет значение, если становится служительницей и пособницей всепоглощающего дела национального освобождения.
Однако ж, это движение не сразу отлилось в определенную национально-унитарную форму, которую окончательно дали ему Мадзини и «Молодая Италия». Во время движения в Романьях (в 1830–1831 гг.)[86], не говоря уже о предыдущих, карбонарских заговорах и восстаниях, – нет еще и речи об «итальянской нации», о ее «возрождении» и «единстве». Но гораздо раньше, чем Мадзини сумел втеснить итальянскую агитацию в столь свойственные для нее рамки унитаризма, – итальянская нация как-то бессознательно уходит в самое себя, – в свое прошедшее; она отстраняется от остальной Европы и ее умственного и промышленного развития; она замыкается в горделивом презрении во всему чужеземному. Это последнее обстоятельство должно было, конечно, положить некоторую печать застоя и затхлости на всю итальянскую жизнь, умственную и промышленную – затхлости, правда, живительно продуваемой постоянно возрастающим вихрем национального освобождения.
Нельзя, однако ж, сказать, чтобы в первой половине нынешнего века в Италии не являлись таланты и деятели, разнообразные как по самому основному складу своих характеров, так и по разным случайностям своей деятельности и своего развитая; но те общие условия итальянской общественной жизни, которые мы очертили выше, служат неизменным фоном для портрета каждого итальянского деятеля помянутой эпохи. А эта общность фона в значительной степени сглаживает индивидуальные различия даже первостепенной важности. От этого нам представляются родственными и схожими между собою даже такие разнородные образы, как например, идеалист Мадзини с его иерархической и несколько даже экклезиастической законченностью, не допускающей никаких возражений; Феррари[87], враг политических единств вообще и итальянского в особенности, отважный диалектик, не ставящий никаких пределов своей критике и своему скептицизму; Каттанео, демократ и «italianissimo» по мадзиниевскому образцу, но неуклонно ищущий для своих пламенных патриотических планов и пожеланий прочной экономической и рассудительно-научной почвы; Джусти[88], тяжеловесный, но ядовитый сатирик; Леопарди[89], с его мрачной лирикой отчаяния, и т. д. Бесспорно, все поименованные здесь деятели весьма разнообразны в самых своих существенных чертах; некоторые из них, например, Мадзини и Феррари, шли по-видимому не только различными путями, но и к различным целям. В жизни, особенно в бурную эпоху 1848 г., им часто приходилось враждебно сталкиваться между собой. Но тем не менее, сила обстоятельств вынуждала каждого из них делать одно и то же общее дело. Самая интересная сторона жизни и деятельности каждого из них есть именно та сторона, которой они связаны с этим единым и как бы неотразимым общим народным делом. Биография каждого из них есть непременно в значительной своей части биография всех остальных.
Гверраци[90] смолоду представляет нам чрезвычайно интересный пример богато одаренной личности, вступившей в борьбу с общим огуловым строем общества. Уроженец классической страны кротости и мягких уступок – Тосканы, он менее, чем уроженцы остальных углов полуострова, несет на себе тяжелый гнет системы, навязанной Австрией всей Италии; а потому он и слабее протестует против этой системы, легче и скорее перерастает наиболее непосредственную и первобытную форму узко-политического и узко-патриотического протеста. Живя в торговом Ливорно[91], он с детства осваивается с самыми разнообразными национальностями, а его художественно-восприимчивая и сосредоточенная натура не допускает его относиться к чужеземцам с тем величавым, но ограниченным презрением, которым его соотечественники платили Европе за свое собственное жалкое и униженное политическое положение. Наконец, ознакомясь с малолетства с корыстной, но живительной суетой, наполняющей жизнь трудового народа, он приобретает способность даже в порывах своего крайнего романтического увлечения, не отрываться вовсе от реальной почвы. Несмотря на все причуды и порывы его необузданной фантазии, настроенной на сильно преувеличенный тон в роде Виктора Гюго, несмотря на страстную привязанность к эффекту и оригинальности, характеризующую вообще писателей так называемого романтического направления, Гверраци ни в одном своем произведении не покидает реальной почвы.
По году рождения и по началу своей деятельности, Гверраци почти сверстник Мадзини. Оба они – Мадзини в Генуе, Гверраци в Ливорно – с детства чутко воспринимают «дух времени». Оба они развивают в себе с молоком матери всосанные симпатии и антипатии раньше и живее, чем большинство итальянских молодых людей, не столь счастливо одаренных природой и воспользовавшихся менее серьезным первоначальным воспитанием. Оба уже в университетской аудитории являются с определенным сознанием, что до сих пор сделано слишком мало для осуществления тех идей, которым они служат; с горячим желанием сделать больше и с непоколебимой верой в свои силы. Не достигнув еще двадцатилетнего возраста, Гверраци открывает свою пропаганду в журнале «Ливорнский Указатель», в то самое время, как Мадзини начинаете приобретать известность в Лигурии и в Пьемонте своим журналом «Генуэзский Указатель».
Оба эти журнала, сходные по названию, по духу, по значению и по некоторым подробностям, однако ж, разнятся между собой, и тот, кто дал бы себе труд внимательно сличить эти юношеские пропагандистские опыты двух впоследствии знаменитых деятелей, без труда предсказал бы им различную судьбу. Разница во многих отношениях оказывается в пользу «Ливорнского Указателя». Не говоря уже о том, что меньшая строгость цензуры в Тоскане, чем в Пьемонте, дает возможность Гверраци более ясно и откровенно высказывать свои мысли, «Ливорнский Указатель» менее односторонен и исключителен, чем «Генузский». Он преследует менее широкую, но зато и менее отдаленную, более определенную, легче уловимую цель: втянуть итальянское общество в водоворот общеевропейского умственного и литературного движения. Как Мадзини, так и Гверраци вынуждены изощрять свое юношеское перо над иностранными художественными произведениями. Но для Мадзини все, о чем бы он ни говорил, – не более как повод или предлог внушать своим соотечественникам мысль о необходимости немедленной прикладной политической деятельности, об организации живых и деятельных сил страны: агитатор в Мадзини едва ли не с детства стоит всегда на первом плане. Гверраци же в «Ливорнском Указателе» выступает уже более художником, чем организатором; более живым и мыслящим человеком, чем предвозвестником близких преобразований. Отсюда преимущество живости на его стороне.
«Ливорнский Указатель», впрочем, получал направление не от одного Гверраци: более счастливый, чем Мадзини, Гверраци в кругу своих товарищей нашел себе не только сотрудника, но отчасти и руководителя в лице Карло Бини[92] (скоро отжившего свою жизнь в грязных кабаках «Венеции», работничьего квартала Ливорно), человека способного, обладавшего самыми разнообразными и богатыми сведениями, приобретенными неизвестно каким путем и никогда не приведенными в систему или порядок.
По свидетельству самого Гверраци, Бини имел самое решительное влияние на его развитие: Бини ознакомил его с образцами немецкой и английской литературы, которые для большинства итальянских не только читателей, но и писателей, были мертвой буквой, и подражание которым (конечно, по преимуществу Байрону) было сменено Гверраци в оригинальность, в то время когда явилось его первое беллетристическое произведение. Бини, всегда готовый на все, имевшее характер протеста или агитации, стоял, однако ж, гораздо выше тогдашнего огулового в Италии патриотического политиканства и принадлежал к числу тех немногих лучших людей, которые очень хорошо понимают, что истинная демократия есть демокедия (т. е. народовоспитание) и что всякое преобразование, замышляемое в обществе, должно иметь своим корнем шаг, предварительно совершенный вперед на поприще общественного образования. Все суживающее умственный кругозор человека, хотя бы оно и прикрывалось священными фразами патриотизма и благонамеренности, было ему ненавистно. Бини переводил для «Ливорнского Указателя» лучшие произведения немецких и английских поэтов, писал рецензии; потом на несколько недель пропадал в самых грязных притонах, в одном из которых он и был убит ударом ножа, вступившись за публичную женщину, при нем оскорбленную пьяным матросом[93].
Юношеский дуумвират Гверраци и Бини был заметен, несмотря на то, что рядом с ним, во Флоренции, представители итальянской интеллигенции со всех концов полуострова сгруппировались блестящей плеядой в кружок «Антологии»[94]. Вскоре к этому дуумвирату присоединился Мадзини, когда сардинское правительство прекратило его «Генуэзский Указатель». Сотрудничество Гверраци с Мадзини (еще лично незнакомых между собою) длилось всего один год: тосканское великогерцогское правительство, при всей своей обычной нелюбви к крутым мерам, вынуждено было сослать Гверраци в Монтепульчано, – горный городок в захолустье, в долине Кьяны[95]. Здесь в первый раз навестил его Мадзини, посланный из Генуи вербовать приверженцев для карбонарского ордена в Тоскане. При личном сближении разница их натур выступила резче к Мадзини вынес из этого свидания с своим будущим политическим врагом не вполне благоприятное для последнего впечатление.
«Он уже начал в это время (1829 г.) свою “Осаду Флоренции”[96] и прочел нам ее вступление. От чтения у него кровь приливала к голове и он смачивал себе лоб водою. Он очевидно много думал о себе; мелкое преследование, которое следовало бы переносить с усмешкою, переполняло его душу негодованием. Но в то же время он много думал и об отечестве, о его минувшем величии и о его будущем. Мне казалось, что его итальянская и личная гордость, быть может, и не предохранит его от личных заблуждений, но уж наверное не допустит его до низостей, до постыдных уступок и сделок. Его безмерно развитое воображение возбуждает его к деятельности. Но мысль его еще не нашла себе прочных устоев; вскормленная на Макиавелли и на изучении человека в его историческом прошлом, она влекла его к анатомированию, к анализу, которые вполне пригодны для того, чтобы засвидетельствовать факт смерти и указать его причины, но которые вполне бессильны в деле создания и организации возрождения. В нем я видел два враждебные между собой существа; между ними не было связи, примирения, не было той гармонии, которая дается твердой верой или сердечной теплотой. Он ничего не любил; уважал и того меньше. Напрасно я искал в нем искры того огня, которым искрились глаза Карло Бини, слушавшего с материнской нежностью и гордостью чудные страницы “Осады Флоренции”, который потом итальянская молодежь заучивала наизусть. В это время мы с особенным волнением глотали доходившие к нам из Франции, исторические лекции Гюзо[97] и философские Кузена[98], имевшие в своем основании ту доктрину преемственности прогресса, которая заключает в себе религию будущего. Мы тогда еще не предвидели, что ровно через год вся эта доктрина разрешится Луи-Филиппом[99] и буржуазной хартией июльской монархии. Я вычитал эту же самую доктрину в дантовом трактате “О монархии”, вообще мало читаемом и редко понимаемом в его настоящем значении. Я любил это учение и с жаром заговорил о нем. Гверраци улыбался полупечально, полунасмешливо. Мне стало страшно от этой его улыбки, словно в ней я читал указания на все опасности и соблазны, которые ожидают в жизни этого привилегированного человека. Я даже не имел духу заикнуться ему о главной цели своего посещения (т. е. о предложении основать в Ливорно карбонарскую вендиту). Я уезжал, препоручив это дело Бини. Тем не менее я уважал его; меня очаровывал его мощный ум и его благородная гордость, которая в моих глазах была порукой за честное будущее» (Мадзини, «Ореге [Сочинения]», ч. I, с. 29–30).
Таким образом, антагонизм идеалистической, организаторской натуры Мадзини с анархической натурой его ливорнского сотрудника сказался уже во время первого их свидания. Равносильные по закалу, обе эти натуры могли, разумеется, заключать только временные, деловые союзы, для того, чтобы рано или поздно разойтись каждая своим путем.
Роль Гверраци, в деле итальянского национального возрождения была второстепенная, но тем не менее он сделал для него не мало и его влияние резко отразилось на умах двух деятельных итальянских поколений.
II
Гверраци, как и Мадзини, не хотел и не мог довольствоваться тем огуловым, узко-националистическим протестом, который составлял, так сказать, повальный нравственный фонд итальянского общества того времени. Но Мадзини сумел расширить рамки этого самого протеста, вдохнуть в него живительный общечеловеческий смысл. Гверраци избрал другой путь. В сотрудничестве с Бини он пытается приобщить итальянское общество к интересам общеевропейского умственного движения, ввести итальянскую литературу в область европейских литератур; усвоить Италии вне ее выработанную мысль, как Джоберти, Мании и другие усвоили ей вне ее выработанный склад политической жизни.
В мечтах самых смелых итальянских прогрессистов слишком значительную роль постоянно играла реакция: возобновление старого, давно отжившего. Итальянское общество как будто оледенело на той точке, когда муниципальная гражданственность, столь пышно расцветшая на развалинах старого мира, была последним крайним словом цивилизации. Но с тех пор Европа жила, а Италия умирала. Европа пережила и выработала многое; Италия оставалась враждебно-чуждой ее жизни и ее развитию.
Уже в начале текущего столетия Уго Фосколо восставал против слепой вражды своих соотечественников к именам, словам и формам, независимо от их содержания. Но протест этот, довольно слабый в самом Фосколо, мало вяжущийся с общим смыслом его деятельности, прошел почти бесследно, едва замеченный немногими. Гверраци делает этот протест основой всей своей литературной деятельности. Он указывает на то, что люди ненавидят призраки, давно истлевшие и переставшие быть опасными или вредными, и что в силу этой рутинной ненависти, они горячо любят и верят в то, что не должно и не может быть предметом ни веры, ни любви. Слепая ненависть к иноземцам составляла один из основных устоев рутинного итальянского миросозерцания и считалась как бы залогом итальянского возрождения.
Гверраци весьма настойчиво нападает на этот пункт, однако ж, он не проповедует примирения, прощения врагу. Но перед боем он считает не излишним оглянуться, пересчитать врагов и друзей… Он видит, что старые перегородки, которыми подавленная Италия, еще во времена первого гвельфо-гибеллинского союза против своей независимости, думала отделить козлищ от доброго стада, давным-давно уже сгнили, несмотря на заботливый за ними уход патриотических антиквариев. Он видит, что несмотря на почти трехвековой застой, на кажущуюся неподвижность, в действительности все изменилось. Врагов у Италии множество, и тем хуже и тем опаснее, что их не замечают, или даже курят им фимиам. Таких скрытых врагов итальянского возрождения Гверраци находит всюду: в рядах его пропагандистов и защитников, в природе, даже в себе самом, не имеющем уже силы отказаться от стремлений и сомнений, возбужденных в нем знакомством с общеевропейской мыслью, нежелающем уступить свое право быть человеком ради обязанности быть итальянцем всего прежде и всему наперекор. И в нем действительно существует внутреннее раздвоение, неурядица, отсутствие примирения, угаданное в нем Мадзини во время первого их свидания. Бини представляет несколько другой оттенок того же самого нравственного состояния. Пантеист и эпикуреец, он не обвиняет природу в безнравственности за то, что она «дает пышный и красивой цветок цикуте, убившей Сократа; блестящую одежду ядовитому боа»; он не негодует на океан за то, что тот «покорно лизал могучие ребра испанской флотилии, везшей смерть и разрушение в Америку, и подло разбивает утлое челноки рыбаков» (Гверраци, «Assedio di Firenze»).
Полное равнодушие природы к бедствиям людей не оскорбляет талантливого юношу. Он умеет наслаждаться «богатым рисунком на шкуре боа» и «ядовитым цветком цикуты», но он не забывает, что в этих формах – смерть. Он ближе к микеланджеловскому: «жизнь и смерть – два великие произведения одного и того же автора»; оттого он трезвее и спокойнее, чем Гверраци; он меньше негодует. Из сознания, что природа вовсе не благодетельная нянька или нежно любящая мать, он приходит к мужественному выводу, что человеку самому следует предохранять себя, если он не хочет бесследно погибнуть в анархическом хаосе космического бытия. Если Бини и негодует, то он негодует на людей за то, что в них часто не хватает смелости для подобного сознания; что они почти добровольно мешают себе уяснить и определить свои воззрения на безразличные явления природы… Кроме нескольких небольших статей в «Ливорнском Указателе», Бини не написал ничего; мы не стали бы распространяться здесь о его мировоззрении, если бы оно не представляло собою, так сказать, гавани, в которой Гверраци постоянно стремится отдохнуть и успокоиться от своего внутреннего разлада; но более артист и человек страстных порывов, Гверраци меньше, чем Бини, понимал свою собственную умственную работу. Он не без боли и страданий переходил через ряд нравственных пыток, которыми загородили путь к развитию современному ему человеку. В самых этих страданиях он искал и находил какую-то прелесть, избрав, как и следовало ожидать, себе в руководители Байрона (а позже Гейне). Между всеми байронистами тридцатых годов, Гверраци резко отличается тем, что он всего более сохранил самобытность в своем подражательном влечении. Благодаря этому сочетанию в нем «своего» и «усвоенного», он акклиматизировал на итальянской почве не внешнюю форму, а существенный смысл байронизма и глубоко потряс сон своих соотечественников.
С байронизмом непосредственно вяжется другая его характеристическая черта – ядовитая ирония, по образцу Гейне и Бернса. Итальянские критики, мало знакомые с этим элементом, редким в южно-романских литературах, где сарказм чаще отливается в менее утонченную форму Рабле, Боккаччо или Сервантеса, принимали этот смех за равнодушное глумление… Когда появился отпечатанный в Швейцарии «Осёл» Гверраци, написанный им частью в тюрьме, частью в изгнании в Германии, доктринеры накинулись на него с особенной яростью. Им в первый раз открылась возможность застать своего давнишнего врага без обороны со стороны общественного мнения, всегда горячо державшего его сторону. Действительно, в этом своем сочинении автор платит слишком значительную дань Гейне, т. е. именно тому из современных писателей, который всего менее доступен итальянцам или нужен им. Немногие оценили ядовитую силу насмешки Гверраци, никогда еще не проявлявшуюся в нем с такою полнотою и глубиною, как в этом причудливом сочинении. Но его фантастическая форма и то, что есть в нем гуманно-мистического, послужили препятствием к тому, чтобы «Осёл» был оценен и понят всеми наравне с остальными произведениями автора, хотя и более слабыми по исполнению. Масса читателей осталась холодна. Критика пользовалась случаем, чтобы выставить автора совершенно чуждым итальянскому быту, совершенно равнодушным к вопросам, к которым оставаться равнодушным в глазах итальянцев составляет худшее из возможных преступлений против общественности… Клеветы и оскорбительные намеки посыпались на бедного автора со всех сторон. Не думаю, чтобы кто-нибудь серьезно поверил им, но во всяком случае, время издания «Осла», – вместе с тем и время первого изгнания Гверраци, – самое тяжелое время всей его жизни.
«Манцони», – говорит Чезаре Канту (в «Истории Ста лет»[100]) – «наказал Италию своим молчанием», за то что схоластики и рутинеры осмелились высказать нечестивый образ мыслей о его «Обрученных» («Promessi sposi»). Гверраци не смолк под выстрелом доктринерских батарей, а доказал, что он прав, изданием в свет давно уже начатой им «Осады Флоренции». Знаменитый и действительно замечательный роман этот представляет собой высший предел если не художественного, то умственного и политического развития автора.
III
Гверраци оказал великую услугу Италии своим энергическим протестом против отчуждения ее от прочей Европы. Однако ж, не следует думать, чтобы до него никто не руководствовался иностранными образцами: в произведениях Уго Фосколо заметно сильное отражение немецких поэтов. Манцони своими «Обрученными» акклиматизирует в Италии вальтер-скоттовский роман. Но роман этот, хотя и английского происхождения, по самой своей сущности чисто «националистический». Никто не отличается таким коснением в самом узком и исключительном патриотизме, как подражатели и последователи Вальтер Скотта во всех европейским литературах. Самые «Обрученные» с их идеализацией местного колорита и с нео-гвельфскими стремлениями их автора, не давали итальянской мысли живительного толчка, не будили стремления вперед, а скорее влекли назад к давно отжитому. Вальтер-скоттовское направление, имевшее свой исторически-законный повод к существованию, тем не менее заключает в себе зачатки, едва ли благоприятные для истинного прогресса: с одной стороны оно будит романтически-реакционные инстинкты своей идеализацией и прославлением местных бытовых условий и побуждает к национальной разобщенности; с другой оно усыпляет мысль своей археологической художественностью. Поэтому-то оно нигде не продержалось долго, где были элементы умственного движения, где мысль упорно стремилась вперед и не хотела только похудожественнее устроиться на покое. Страна, по преимуществу отличающаяся жизненностью, Франция представляет нам первый пример быстрого перерождения вальтер-скоттовского романа в Гюго, в Дюма, в Э. Сю. Отсюда быстро начинает распространяться на всю Европу новое романтическое направление, «безобразное как современная действительность», часто бессодержательная, подкрашенная, как парижская бульварная красавица, но тревожная, возбуждающая.
В Италии (мы умалчиваем о некоторых второстепенных лириках, вдохновлявшихся по Байрону и по Шиллеру) заимствование извне ограничивалось почти исключительно вальтер-скоттовской националистической школой. Вслед за Манцони – Джованни Розини, Чезаре Канту и пр. утрируют националистическую археологичность своего родоначальника. Массимо д’Азелио[101] представляет собой последовательный переход из Вальтер Скотта в Дюма. Он пользуется нейтрально-безжизненной формой исторического романа, чтобы проводить отрывочно и всем понятными намеками некоторые мысли, очень трудно проскальзывавшие тогда в печати. К сожалению, его талантливая, но поверхностная политиканская натура недостаточно богата и сильна, чтобы стать Атлантом нового литературного периода…
При таких условиях является в свет повесть о «Битве при Беневенто»[102], – первое беллетристическое произведение Гверраци, если не считать его неудачной драмы «I Bianchi е i Neri»[103], и едва ли не самое замечательное из произведений всей итальянской литературы этого периода.
«Битва при Беневенто», исторический роман или повесть, – разумеется, вяжется с вальтер-скоттовским направлением той казенной своей стороной, которой не избег еще ни один исторический роман или повесть – я говорю о более или менее длинных археологических описаниях и других подробностях, о геройски-чудовищных поединках и сражениях, где закованные в железо рыцари, обнявшись в судорожной злобе с своими врагами, перепрыгивают с ловкостью балетной феи со скалы на скалу (в повести о «Битве при Беневенто» – с борта одного корабля на другой), получают и наносят баснословное количество ударов, и т. п. Такие страницы, скопированные более или менее удачно с Вальтер Скотта и его подражателей, притом утрированные – как утрировано все у Гверраци – и переполненные напыщенного лиризма, портят не только этот первый юношеский роман Гверраци, но даже наиболее зрелые и наилучшие его произведения. Этой своей стороной он непосредственно вяжется с итальянскими романистами вальтер-скоттовского направления. Зато во всех других отношениях, исполненная существенных промахов и недостатков, «Битвы при Беневенто» была в самом деле нова и во многом самобытна. Еще новее и еще самобытнее должна она была казаться в Италии, где для значительного большинства читателей было совершенной загадкой – откуда черпал автор свое вдохновение? У кого заимствовал он свою антиклассическую, судорожную манеру?
Эта повесть Гверрацци должна была показаться читателям чем-то новым уже и потому, что в ней не было главнейшего недостатка тогдашних итальянских романистов: исключительной национальности, требующей отчуждения от всех других чужих национальностей. Для Гверрацци избранная им историческая эпоха, героическая и декоративная сторона повести, служит только предлогом, чтобы выставить перед публикой собственную свою личность, переполненную сомнений, тревог, разъедавших мысль и сердце лучшей части современного ему человечества. Эту субъективность ставят ему в укор не только его литературные зоилы и враги, но даже многие из его приверженцев. Мадзини, как мы уже видели, обвиняет за нее молодого писателя в излишней гордости, в поглощении собственной своей особой (он высказал это обвинение печатно в «Генуэзском Указателе» и впоследствии повторял его несколько раз в журнале «Молодая Италия»). А между тем, благодаря именно этим своим качествам, Гверраци играл в итальянской литературе столь видную и блестящую роль.
Личность автора «Битвы при Беневенто» гораздо интереснее, чем все первостепенные и не первостепенные его герои. В том и заключается интерес самой повести, что живая мыслящая личность ее автора проглядывает везде на первом плане.
Гверраци резко отличался от всех современных ему итальянских писателей, за исключением одного только Леопарди, тем, что он не заглушил в себе ни одной из тех тревог и сомнений, которые составляли неотъемлемую принадлежность каждого мыслящего человека его времени, что он не успокоился на каком-нибудь голословном, рутинном и догматическом полурешении. Он переливал, так сказать, в душу читателя то нравственное брожение, которое происходило в его собственной душе. Брожение это отражалось даже на внешней стороне его повести, придавало ей беспокойный, нервный, судорожный характер… Итальянские критики, спокойно спавшие в своем эстетическом замке, были пробуждены ее появлением; спросонок они не шутя перепугались и сильно осердились на беспокойного автора. Они увидели в начинающем романисте непростительные стремления к уродливому, чудовищному (tenderize al brutto), столь возмущавшие их в «варварской», т. е. не итальянской литературе.
Гверраци, тогда еще только что познакомившийся с мрачной поэзией Байрона, в этой первой своей повести (также и в некоторых других), действительно близок к тому, чтобы перескочить барьер, отделявший мрачное, скептически-страждущее, от натянутых и безобразных вымыслов французской cole echevele[104]. В этом отношении он и В. Гюго представляются нам как два родные брата-близнеца, разительно схожие между собой. «Битва при Беневенто» заключает в себе все достоинства и недостатки всех лучших романов и повестей Гверраци, как «Изабелла Орсини», «Вероника Чибо», «Герцогиня Сан-Джульянская» и «Беатриче Ченчи». Их нет или они, по крайней мере, мало заметны в лучшем его произведении «Осада Флоренции».
Но несмотря на все недостатки произведений Гверраци, значение этого писателя в итальянской литературе было громадное. Он служил пигментом или бродилом, выводившим итальянскую мысль из застоя, в который ее погружала одинаково как консервативная, так и революционная рутина. Гверраци заменил мертвую поэзию прошлого, – которую до него в Италии считали единственно-возможной, – живой, анархической поэзией Байрона… Классики и романтики единодушно восстали за это против него, они обвиняли его в безграмотности, цитировали Данте и академические словари. Но молодое поколение заучивало наизусть целые страницы произведений Гверраци, неподдельно восхищалось его часто напыщенной, но страстной, энергической прозой, заражалось его тревогами и сомнениями, которые, раз возбуждены в человеке, неизбежно выведут его на дорогу мышления и самостоятельного умственного труда. Это одно уже избавляло Гверраци от необходимости вклеивать между строк своих повестей политические намеки и замаскированные обрывки старых истин, по образцу Массимо д’Азелио: он и без них был достаточно богат чисто современным смыслом и значением.
Гверраци долго остается под преобладающим влиянием Байрона и даже в своей «Осаде Флоренции» не вполне освобождается от него. Но зависимость всех без исключения новейших поэтов от своего английского первообраза, как известно, имеет много ступеней. Гверраци начинает с низшей из них, с той, где он ученической рукой копирует мрачные рембрандтовские фигуры своего учителя, принимает их за объективные воплощения близких ему страстей и мыслей, не замечая, что байроновские герои вовсе не лица, что они существуют только отрицательной своей стороной, что они мифы, антитезы.
В «Битве при Беневенто» Гверраци еще так детски верит в реальность байроновской поэзии, что он думает создать живое лицо из отрывков всех этих Манфредов, Гяуров, Лоры и пр. Лицо это, – герцог Казертский, – естественно выходит более карикатурно, чем трагично. То же самое случалось повально со всеми недальнозоркими подражателями Байрона, увлекавшимися одной его стороной – поэтичностью страдания. Байроновские герои страдают от того, что они не живые люди, не в самом деле лица, а сконцентрированные олицетворения тех человеческих стремлений, которые попраны, задавлены исключительным, односторонним развитием человечества. Как громадное большинство байронистов, Гверраци не понял этого. Его герои не отвлечения, или, по крайней мере, он усиленно заботится о том, чтобы они не были ими. С итальянской пластичностью он рисует те их стороны, которыми они тесно вяжутся с жизнью. Он даже не показывает – в чем эта жизнь так горько им противоречит? А без этого совершенно не понимает – отчего они так упорно, так настойчиво страдают? Автор сам не дает себе в этом ясного отчета, и потому вынужден пополнять легко всем приметный психический пробел невероятным сцеплением неблагоприятных случайностей, которые могли бы мотивировать страдания его героя. Этим он только еще более охлаждает и утомляет интерес и внимание читателя; и именно этой своей стороной он всего ближе подходит к свирепой школе французских романистов.
Гверраци охотно останавливается на психическом анализе; но только не заходит глубоко в душу. Для этого он слишком итальянец, у него не подымается рука на серьезные замкнутые истины, особенно если они освящены некоторыми патриотически-либеральным авторитетом. Несмотря на это, он, однако ж, изумил и напугал своих современников именно тем, что пошел слишком далеко в отрицании. Выше мы видели, что даже Мадзини «обдавало холодом от его, полу-печальной, полу-эпиграмматической улыбки».
Герои Гверраци все преступники, томимые раскаянием, убедившиеся, что цель, которую они преследовали в большей части случаев кровавым путем, не стоила жертв и мучений, сопряженных с ее достижением. Но этого раскаянья далеко не всегда бывает достаточно, чтобы погрузить сильно одаренного человека в ту бездну нравственных мучений, которую автор предполагает за своими героями. Я говорю: предполагает, потому что Гверраци действительно только более или менее косвенными намеками дает знать читателю, что намерен свести его в один из самых ужасных адских углов, в который тень Виргилия по забывчивости не свела Данте. Но читатель нелегко верит этому, потому что действующие лица романов и повестей Гверраци в большинстве случаев вовсе не заслуживают столь жестоких наказаний. Иной его герой, которого он думает выставить самым мрачным злодеем, поправшим все божеские и человеческие законы и на свою беду сохранившим сознание своей преступности, в сущности оказывается просто добрым малым, или же недальновидным пройдохой, которого разборчивый Плутон, пожалуй, даже и не впустит в свое мрачное царство. Гверраци есть самое полное отражение байронизма в Италии; но тем не менее байроновская его сторона есть с тем вместе и самая слабая сторона его произведений. Это объясняется, может быть, не только личными способностями автора, сколько условиями итальянской среды, не особенно нуждавшейся в байронизме.
Но уже в первые свои произведения Гверраци вносит и свой собственный, самобытный элемент живой восприимчивости, пластического стремления к наслаждению жизнью помимо всяких общепринятых условий и приличий. Страстность эта тоже доводит его героев до преступления; но за ним следует не раскаяние, не разочарование…
Этот самобытный оттенок в Гверраци довольно робко проглядывает в первой его повести («Битва при Беневенто») в лице молодого стрелка из свиты короля Манфреда. Его пылкий нрав в противоречии с полулакейским званием, – мотив почти тождественный с «Рюи Блазом» В. Гюго, и обещает с первых же страниц живую и интересную драму. Но автор не сдерживает обещания. Он спешит дать своему стрелку самую аристократическую генеалогию, как будто она нужна для того, чтобы оправдать в его собственных глазах честолюбивую мощь молодого героя и его противо-этикетную любовь к молодой королевне.
Гораздо полнее и выдержаннее именно в этом отношении одна из последующих повестей – «Вероника Чибо», которую мы не затруднимся отнести к самым удачным из ряда чисто-художественных произведений Гверраци. Самая ее краткость составляет ее достоинство. Гверраци вообще трудно дается целость, психическое единство. Его причудливый юмор утомляет читателя; воображение дробится, перебегая с предмета на предмет, не находя на чем сосредоточиться. «Вероника Чибо», как картинка, недоделанная в подробностях, но проникнутая от начала до конца одним горьким, но невымученным чувством, производит более сильное впечатление. Содержание ее незатейливо; интерес не сосредоточен на одной личности, поставленной правда на ходули для того, чтобы она могла лучше заслужить благосклонное внимание публики.
IV
Отсутствие националистических и патриотических мотивов в поименованных выше произведениях Гверраци вовсе еще не доказывает, чтобы увлекаясь общеевропейским гуманитарным движением, он забывал свои обязанности гражданина угнетенной Италии. Теория искусства для искусства никаким образом не может считать его в числе хотя бы временных своих приверженцев.
«По моему, – говорит он, – совестливый писатель должен направлять все свои усилия к тому, чтобы его сочинения отвечали практически прямо полезной его отечеству цели». А в другом месте: «Отечество есть тот алтарь, на который и Авель, и Каин равно должны приносить свою жертву, как бы скудна она ни была. Я не превозношу до небес тех, которые, словно ангелы бесплотные, только и любят, что одну родину; но всеми своими привязанностями я считаю себя всегда обязанным поступиться для блага родины», и т. п.
Впрочем, самая жизнь Гверраци лучше всяких признаний и выписок служит опровержением часто взводившихся на него обвинений в отсутствии «итальянских чувств» и в политическом индифферентизме.
В самой первой молодости мы встречаем его деятельным и горячим приверженцем всех политических кружков, тогда очень немногочисленных в Италии. Вместе с Джусти и Леопарди он устраивает общество под названием «Accademia Labronica», не имевшее строго определенной цели и находившееся под влиянием недальнозоркого политика Коллетты[105]. Эта не литературная деятельность Гверраци рано ознакомила его с тюрьмой и ссылкой и в то же время еще более убедила его в несостоятельности повального тогда в Италии мелочного политиканства. Не находя в себе силы создать, по примеру Мадзини, такие формулы, которые бы давали прочные устои итальянскому движению и выводили бы его из сферы узко-националистической в гуманитарную, Гверраци действительно в своей литературной деятельности как будто избегает затрагивать непосредственно наиболее насущные гражданств вопросы. Но уже с самого начала своей литературной карьеры Гверраци задался мыслью написать «Народную эпопею итальянского возрождения» и хотел олицетворить ее в своем романе «Осада Флоренции», вступительные главы которого он читал уже Мадзини в Монтепульчано в 1829 г. Это замечательное произведение появилось в свет (первоначально в рукописи, так как цензура не допустила ее в печать) более чем через десять лет спустя. Политические преследования, которым Гверраци подвергался постоянно, начиная с 1829 г., раздражали его восприимчивую натуру и заставили, по его собственному признанию, изменить первоначальный план этого романа. Вместо стройного художественного целого, которое он первоначально думал создать из «Осады Флоренции», он решился сделать страстный, жгучий дифирамб. «Нужен бешенный ураган, чтобы взволновать это море грязи, – пишет он в предисловии, – и моя “Осада Флоренции” будет этим ураганом. Я написал эту книгу, потому что не мог дать генерального сражения врагам Италии».
Лучшие люди итальянского общества отозвались на клич, обращенный к ним Гверраци. «Осада Флоренции» стала школой, в которой воспиталась марсальская Тысяча.
«Я убежден, – говорит Гверраци в своих записках, – что в том печальном положении, в какое мы сами поставили нашу родину, едва ли кто мог бы написать произведение более содействующее общему благу, чем моя “Осада Флоренции”. Я основываю это свое гордое сознание на том, что лучшая наша молодежь, читая эту книгу, чувствовала сильнее свой позор, свое угнетение. Мое сочинение не могло выйти лучше, чем оно есть: виною тому мое воспитание, гонения, которые я терплю с детства, наконец самая моя природа. Оно не могло быть хуже, потому что моя совесть не допустила бы меня написать чтобы то ни было иное… Моя совесть призывала меня к возрождению Италии, и я, по мере сил, исполнил ее призвание».
Таким образом автор сам дает нам мерку для оценки своей «Осады Флоренции». В его глазах это не столько художественное произведение, сколько «генеральное сражение, данное им врагам Италии», гражданский подвиг. Публика не безусловно приняла эту мерку и была права, потому что и с чисто художественной точки зрения этот роман представлял слишком много замечательного и нового. Мы не намерены останавливаться здесь над эстетическим разбором его красот и над указанием его довольно многочисленных недостатков, разбросанности, растянутости, напыщенно-лирических отступлений. Несомненно, что этот роман представляет собой образец совершенно нового вида исторического романа. Здесь историческая эпоха является не обстановкой какой-нибудь личной драмы, а история и драма отождествляются. Герой «Осады Флоренции» не Вико, сын Макиавелли; не мелодраматический изменник Джованни Бандини (измене которого приписывают падение Флоренции), ни даже Франческо Ферруччи, капитан Флорентийской республики, этот Гарибальди XVI в. Героиня здесь сама Флоренция, остававшаяся в рассказываемую эпоху такой же, какой она была в лучшие годы процветания итальянского муниципального быта – «пирамидой, в основании которой стоят Якопо Нарди, защищающий с дюжиной безоружных ребят (giovini) ратушу против войск Медичи, Микеланджело Буонаротти, собственноручно копающий ров вокруг укреплений, созданных по его плану, подчиняющий сознанию обязанностей гражданина свою гениальность; а на вершине – робкие старцы della Signoria[106], забывшие, что есть на свете неподдельный энтузиазм, рыдающие при восторженных речах гонфалоньера Кардуччо, готовые на уступки, на признание правления оптиматов, лишь бы сохранить на плечах свои старческие головы и удержать свои не менее пустые, не менее дряхлые привилегии».
«Моему роману (мы опять цитируем самого автора) следовало быть народной эпической поэмой, а потому я решился на место той бледной личности, вокруг которой романисты школы Вальтер Скотта обыкновенно группируют все события, поставить целый народ, национальную идею».
Эпоха, которую выбрал Гверраци, представляла ему все, что он только мог пожелать, чтобы выставить свой художественный прием в наиболее выгодном для него свете. Падение итальянской муниципальности представляет собой именно один из исторических моментов, полных невыдуманного, живого, быстро развивающегося, чисто драматического интереса. Люди особенно мощного закала, восприимчивые, деятельные на добро и на зло, группируются блестящей плеядой в обоих лагерях. Карл V, папа Климент VII, Филипп Оранский, Бандини; а со стороны Флоренции – Ферруччи, Кардуччо, Данте Кастильоне, Микеланджело, и главнейшим образом народ – popolo magro гвельфских муниципальных республик, – этот своеобразный исторический элемент, который не имеет себе элемента ни в одной европейской истории. Эффектность неравной борьбы, в которой город, имеющий всего 7000 жителей, отвыкших от войны, поглощенных торговой деятельностью, – держится один против сильной лиги папы и императора, – эффектность эта, еще более усиливается тем трагическим значением, которое имело падение Флоренции для Италии вообще. С падением Флоренции гражданская жизнь Италии кончилась. Осталось много порывов прекрасных, великодушных порывов, но разрозненных, почти не имевших смысла в самой Италии, где их никто не оценил и не понял. И после этого много итальянских имен прославились в науках, в художествах, подвинули вперед общеевропейское развитие; но все это не находило отзыва в самой Италии. Ее пьеса была сыграна, занавес опущен. Крепкие руки держали его, и антракт продолжался более двух веков: до самого наполеоновского вторжения.
Пересказать содержание разбираемого романа чрезвычайно трудно: пришлось бы перечислять разрозненные эпизоды последнего момента трагической борьбы, итальянской муниципальной борьбы против общеевропейского унитарно-государственного и авторитетного строя. Ряд превосходно начерченных исторических картин составляет главнейшую прелесть особенно начала «Осади Флоренции». Во второй его половине становится уже чересчур очевидно, что автор оставил свой план создания художественно-народной эпопеи и торопливой рукой набрасывает краски, спеша создать свою «дикую бурю», которая должна рассеять и освежить уже чересчур сгустившуюся миазматическую атмосферу. И эта торопливость исполнения портит не одну только художественную сторону произведения: инстинкт необузданной мести, преобладающий во второй части сочинения, вводит Гверраци в противоречие с самим собой, заставляет его платить непомерную дань той итальянской патриотической исключительности, против которой он восставал всей своей предыдущей и значительной частью своей последующей деятельности. Здесь встречаются дикие личности в роде Мортичино дельи Антинори. Если в лице изменника Джованни Бандини Гверраци (по его собственному толкованию) хотел доказать, «до чего доводит слепая ярость, когда она направлена против родины», то в лице Мортичино он, может быть неумышленно, показал, что это качество немногим похвальнее и в том случае, когда она находит себе оправдание в огуловом всеобщем патриотическом настроении. Обычный и основной гуманизм Гверраци во второй части «Осады Флоренции» заявляет себя только тем, что не допускает автора увлечься подобными зверскими проявлениями даже в сочувственном ему лагере: он не прикрашивает их, не идеализирует, а просто поставляет их на вид читателю во всей их возмутительной наготе.
В первой главе романа Гверраци вводит читателя в комнату умирающего Макиавелли, которого он заставляет перед смертью говорить очень длинную поучительную речь, собравшимся вокруг него друзьям. Друзья эти – Ферруччо, которому он, как достойнейшему, препоручил своего сына Вико; Данте Кастильонский; монах фра Бенедетто Фойянский, ученик Савонаролы; Мартелли и поэт Аламанни, только что вернувшийся из изгнания – все, игравшие очень важную роль в политических событиях, последовавших немедленно за смертью Макиавелли во Франции. Заставлять умирающего дряхлого старика говорить в течение нескольких часов сряду, цитировать целые страницы из своих сочинений, – конечно, большой промах в романисте. Но Гверраци до такой степени верно передает существенный характер знаменитого секретаря Флорентийской республики, которого жизнь и воззрения опередившие свой век своей трезвой реальностью, были столь дурно поняты и подали повод ко многим нелепым подозрениям и обвинениям, что читатель, пораженный этой высшей правдой, даже и не замечает романической натяжки. Макиавелли перед смертью забывает все и помнит только Флоренцию, над которой уже готова разразиться гроза. Те слова, которые говорит он перед смертью своим друзьям, выясняют его характер и его сложную политику несравненно лучше, чем могли бы сделать целые тома критических рассуждений и исследований. Кроме того, они знакомят читателя с эпохой действия, заставляют его с живым интересом следить за дальнейшим ходом событий, решающих судьбу муниципально-республиканской Италии, и которые Макиавелли предвидел. Затем вы уже как с знакомыми встречаетесь с героями этой гигантской борьбы, хотя бы встречали их имена первый раз на страницах «Осады Флоренции»… И до самого конца длинного романа вы видите перед собой образ Макиавелли, совмещающего в себе одном всю мудрость последних лет итальянской муниципальной истории, умирающего в то самое время, когда он всего нужнее для отечества…
Эта первая глава служит вместо пролога, несравненно более удачного, чем насыщенная лирическая интродукция, которой Гверраци счел за нужное снабдить свой роман. Затем он уже прямо переходит к самому эпизодическому ходу драмы. С необыкновенной живостью он рассказывает взятие Прато и Вольтерры флорентийскими войсками, постыдное бегство из-под Ареццо комиссара республики, внутренние раздоры между смелой молодежью и робкими старейшинами, народное воодушевление и трусливую уступчивость оптиматов, глубокомысленные совещания отцов отечества, кончающиеся тем, что последние войска республики препоручаются хитрому Малатесте Бальоне, кондотьеру из Перуджии, между тем как флорентийский капитан Ферруччо, кумир народа и молодежи, устраняется под всевозможными предлогами и вынужден с горстью голодного войска блуждать по окрестностям, тщетно проповедуя одноплеменным городам тут в первый раз возникшую в нем мысль национального единства Италии… Пылкое увлечение борьбой низших классов, женщин и детей; всесторонний патриотизм Микеланджело, то скульптора, то посланника, то поэта и музыканта, то военного инженера; Климент VII, – лисица в папской тиаре, и Карл V, которого страх перед Лютером повергает на колени перед только что ограбленным его войсками святым отцом; грубая крестьянка, приводящая двух последних своих сыновей-подростков, на место двух старших, только что убитых на городской стене: все оживает под страстной кистью Гверраци, освещенное каким-то особенным светом, согретое его внутренним огнем.
В «Осаде Флоренции» Гверраци предположил себе развить одну прекрасную и благородную мысль, совершенно новую в историческом романе. Одно это уже ставит его произведение несравненно выше лучших романов Манцони и его школы, проповедующих тоже возрождение, эмансипацию, нравственное улучшение народа. Но они не идут дальше сферы узко-индивидуальной и семейной. Гверраци в своей «Осаде Флоренции» проповедует то же самое, но гораздо энергичнее и полнее. Он забывает индивидуумов и сословия и обращается к народу, к обществу. Он хочет освободить его не от случайного внешнего врага, а от собственной близорукой разобщенности и расчетов, парализующих его силы. Из состояния кичливой пассивности, он призывает его к деятельности во имя отечества и гражданской свободы. Он не льстит ни сильным, ни слабым; не обманывает никого сладостными надеждами. Пропаганда его сурова и скептична при всей своей страстности и восторженности. Единство Италии не рисуется у него, как у Мадзини, например, лучезарной обетованной обителью, в которой найдут себе разрешение все томления и невзгоды отдельных личностей и целого народа. Он не становится в положение пророка; для этого, кроме горячей любви, нужна еще детская, наивная вера. Ее нет у Гверраци. Он слишком человек своего времени. Самый страстный его патриотизм имеет своим основанием рассудительный реализм Макиавелли, буквально возрожденный в Италии его «Осадой Флоренции», а не мадзиниевскую веру в призвание страны.
Говорят, старик Манцони плакал, читая некоторые страницы «Осады Флоренции». Действительно, страстное негодование внушает иногда ее автору порывы неподдельного, высокого лиризма. Но общий тон этого сочинения остается все же тоном рассудительного скептицизма с сильной примесью раздражения и желчи. Сидя один в своей маленькой келье в форте делла Стелла в Порто-Феррайо (на о-ве Эльбе), он с проницательной злобой смотрит на Италию и видит с одной стороны ее поработителей, с другой – переродившихся из граждан великой демократической республики смирных подданных смирного Леопольда. Все дальнейшие соображения и помыслы уходят у него на задний план перед этой картиной. В летописях Нарди, в «Storie fiorentine» своего учителя Макиавелли, он ищет не идеалов общественного устройства, а только образов или картин, которые бы еще ярче оттенили своим сопоставлением с ними современный гражданский разврат. Он призывает в возрождение во имя мщения, тогда как за несколько лет перед тем он сам говорил: «если Италии суждено возродиться, то, конечно, не во имя ненависти или мщения». Теперь он ведет другую речь: «вы слишком страдали», – говорит он своим итальянским согражданам, – «вынести больше вам не под силу; значит, вы победите».
Но будем ли мы счастливы вслед за тем? – спрашивает он все в том же длинном своем вступлении. «Che importa![107] Бросьте счастье, лишь бы возвратить эти дорогие для Италии дни. Горька радость мщения, но все же радость. Чем тяжелее нанесенная обида, тем более месть за нее радует сердце».
V
Первоначально Гверраци смотрел глазами соперничества на Мадзини, которого идеалистически-унитарные формулы итальянского возрождения не вполне удовлетворяли скептическим требованиям питомца Макиавелли.
В первых главах «Осады Флоренции» (по преимуществу в поучениях, которые умирающий Макиавелли дает своим друзьям) слишком приметно желание автора, так сказать, продолжать это свое соперничество и, в параллель к мадзиниевскому унитаризму, изложить свою собственную доктрину или систему национального возрождения. Мы уже сказали, каким образом заключение Гверраци на три года в тюрьму (по нелепому обвинению, будто бы он купил с преступною целью 40 000 ружей) весьма решительно повлияло на весь план его капитального сочинения. Посвящая этот свой труд Мадзини, Гверраци тем самым как бы указывает, что он уступает своему давнишнему сопернику пальму руководства делом возрождения, а сам довольствуется более скромной ролью трубача или глашатая, призывающего живые силы к возрождению, сосредоточивающего свои помыслы и усилия лишь на том, чтобы его призывный клич был доступен наивозможно большему числу бойцов и потряс бы до глубины души тех, кто его услышал.
В общей истории итальянского национального движения, взаимные роли Мадзини и Гверраци остались именно такими, какими мы их только что очертили здесь, т. е. Мадзини представляется нам организатором и агитатором; Гверраци же является деятелем чисто литературным, пробуждавшими итальянскую молодежь, собственно политическая деятельность Гверраци отразилась на итальянском движении гораздо слабее, чем его литературная деятельность.
Это, однако ж, нисколько не мешало тому, что чисто политические труды наполняли собой долголетнюю жизнь автора «Осады Флоренции» по меньшей мере настолько же, насколько и литературная его работа. Мы уже сказали, что, едва выйдя из ребячества, он уже встречается во всех политических кружках, иногда столь многочисленных в Тоскане, и везде играет очень видную роль либо инициатора (как, например, в «Accademia Labronica»), либо руководителя (как, например, в кружках, образовавшихся из посетителей покойного генерала Коллетты). Но только по основному складу своих воззрений и своего характера, Гверраци постоянно оставался деятелем чисто местным, тосканским. Его практический макиавеллизм весьма естественно побуждал его отдавать гораздо больше своего внимания прикладной стороне дела, чем общим формулам; а при разрозненности, которая еще тогда существовала между областями полуострова – быть общеитальянским деятелем в прикладном значении представляло решительную невозможность.
Мы видели, что уже в 1829 г. Гверраци, хотя и относившийся с скептической улыбкой к восторженным воззрениям Мадзини на итальянское возрождение, заключил, однако ж, с ним союз, которого назначение не ограничивалось одним только совместным изданием либеральнолитературной газеты. Связь Гверраци с мадзиниевской ассоциацией была, однако ж, почти только номинальная и существенно состояла едва ли не в том только, что оба они равно признавали самую безотлагательную необходимость вывести Италию из того жалкого положения, в котором она была; оба одинаково понимали, что дело их иначе не может быть подвинуто вперед, как при объединении живых сил всех частей полуострова. Во всем остальном Гверраци предоставлялось действовать вполне самостоятельно. Он учреждал агентства по своему усмотрению во многих второстепенных тосканских городах, предпринимал подписки с патриотическими целями, организовал целое общество с целью вспоможения эмигрантам из только что побежденных Романий, часто даже без ведома Мадзини. Наконец даже в своих воззрениях на государственное единство Италии Гверраци довольно существенно расходился с Мадзини: для него единство это было вовсе не окончательной формой, в которую должна отлиться политическая жизнь возрожденной Италии, а только боевым орудием, необходимым во время борьбы. В идеале Гверраци был гораздо более федералистом, чем унитарием, но считал излишним поднимать этот вопрос в то время, когда еще и первые шаги к фактическому освобождению еще не были сделаны.
Все эти разногласия, чуть приметные вначале, не замедлили, однако ж, высказаться очень решительно при первой попытке к действию. Тотчас после окончательного поражения инсургентов в Романьях, между Мадзини и Гверраци готовился уже резкий разрыв. Поводом к нему послужило то, что Мадзини, разделявший насчет тогдашнего положения Тосканы заблуждение, распространенное во всей Италии и Австрии, считал момент крайне пригодным для восстания и требовал от тамошних своих друзей, чтобы они немедленно подняли знамя освобождения. Гверраци, изучавший положение на месте, возражал, находя исполнение мадзиневского требования неисполнимым. Из своего прекрасного далека Мадзини предполагал, что многочисленный элемент восстания в Тоскане составят беглецы из Романьи, которые действительно после поражения нахлынули в великогерцогские владения. Но великий герцог Леопольд, уступая требованию Австрии и папы, начал против них преследования; так что тосканские патриоты с трудом могли препроводить значительную их часть заграницу. Внимание всех итальянских правительств было возбуждено в высшей степени. Австрийские войска занимали почти центр полуострова. Деньги, которые Гверраци собирал по крупицам на патриотические предприятия, были все истощены на вспоможение беглецам из Романий, сам он, наконец, был арестован. Комиссия, назначенная для исследования его процесса, упорно добивалась от него, «куда он подевал 40 000 ружей»?
– «Да помилуйте, – отвечал он полицейскому комиссару Мейснеру, председательствующему в комиссии, – «ведь на покупку такого запаса понадобилось бы не меньше миллиона лир. Откуда у меня могли быть такие деньги?»
– «Я и сам думаю, – отвечал уступчивый Мейснер, – что это неправда; но нам предписано формально спросить вас».
– «Так отвечайте точно также формально, что, если бы у меня была такая сумма денег при тех намерениях, которые во мне предполагают, то я купил бы всего 20 000 ружей, а на остальное приобрел бы запаса пороху и огнестрельных снарядов, а тогда, вероятно, вам не пришлось бы допрашивать меня, куда я подевал ружья».
По окончании этого процесса, тянувшегося очень долго, Гверраци принужден был удалиться из Италии и долго не прибегал к политической деятельности, не доверяя успешности и основательности попыток итальянской эмиграции.
Мы бы растянули через меру этот беглый очерк, если бы захотели дать читателю основательное поняло о той важной политической роли, которую Гверраци играет в тосканских событиях 1848 г., а потому ограничимся сухим и, по возможности, кратким перечнем главнейших фактов.
Когда, после февральского переворота во Франция, итальянская агитация, начавшаяся еще в 1846 г. при избрании папой Пия IX, вынудила к уступкам всех итальянских владетелей, тосканский великий герцог Леопольд увидал скоро полнейшую невозможность обойтись без единственного человека, которого всеобщий голос признавал способным совладать с трудностями тогдашнего положения и успокоить недоверие и волнение народа: Гверраци был сделан министром. Вскоре, как известно, великий герцог, перепуганный тою ролью, которую он должен был принять на себя, угрожаемый анафемой из Рима и войском из Вены, счел за лучшее бежать из своей столицы. Министерство преобразилось в республиканский триумвират Гверраци, Маццони и Монтанелли. Друзья и недруги автора «Осади Флоренции» равно удивляются той удивительной энергии, с которой Гверраци сумел управиться с донельзя усложненными затруднениями этой критической минуты. Товарищи его по временному правительству, – Монтанелли, поэт и мечтатель, составивший себе доблестное имя, как предводитель легиона пизанских студентов в сражении под Куртатоне, и Маццони, честный и хороший человек, но не имевший ни строго определенных политических воззрений, ни опытности, были для него слабыми помощниками. А между тем врагами временного правительства были не одни только открытые реакционеры и клерикалы, скоро убедившиеся на опыте, что в лице Гверраци они нашли себе противника, способного нанести им смертельные удары. Неогвельфы, т. е. приверженцы либерального Пия IX, и неогибеллины, т. е. приверженцы савойского короля, опрокидываются с одинаковой злобой на злополучного Гверраци, который видит в их доктринах ребячески-романтическое увлечение или мелко-честолюбивый расчет. Умеренные всех оттенков не могут простить ему того, что он выдвинут к власти волнениями ливорнской черни, которую он один только умеет укрощать, потому что он едва ли не один тогда во всей Италии ставит нормой для своей политики не собственные свои мечты и идеалы, а реальные нужды тосканского народонаселения. За это в нем видят опасного демагога, готового ниспровергнуть «священнейшие основы». Прежние его друзья становятся наиболее заклятыми его врагами. Джусти бросает ему в лицо желчную, несправедливую эпиграмму arruffapopoli (встрепыватель народов). Сознавая, что трезвость воззрений составляет главнейшую из обязанностей государственного человека, Гверраци ни на минуту не позволяет себе увлечься также и собственной своей популярностью в низших слоях тосканского народонаселения. Он понимает, что трудовые массы народа нелегко поддаются увлечениям и порывам платонической любви к независимости и к родине. Чтобы пустить прочные корни в этих темных слоях, движение должно отвечать на какие-нибудь существенные, невыдуманные их потребности. Гверраци употребляет все усилия на то, чтобы установить требуемую круговую поруку между народными массами и современным движением. Задача эта тем более для него трудна, что католическое духовенство, знающее быт народа несравненно основательнее всяких либералов и революционеров, ведет против нее упорную борьбу не на живот, а на смерть…
При таком-то ходе дел, Мадзини покидает Ломбардию и спешит в Тоскану, которой правительство сосредоточено в руках ее бывшего союзника. Занятый исключительно своей идеей политического единства, он требует от временного правительства, чтобы оно отвлеклось от самых настоятельных нужд и потребностей этой трудной минуты и почти сложило бы свою власть в руки одного центрального учредительного собрания, которое имеет быть созвано в Риме. По этому существенному пункту завязывается между старыми друзьями и союзниками упорная борьба, закончившаяся, как известно, полуизгнанием Мадзини из Тосканы. Он спешит в Рим, где его провозглашают триумвиром вместе с молодым Саффо и Армеллини. Гверраци остается в Флоренции, покинутый и последними своими политическими друзьями.
Быстро наступала реакция во всей Италии после увлечений весны 1848 г. Ввиду возрастающих ее успехов и чтобы избежать ужасов насильственной реставрации, всегда благоразумная Тоскана спешит предупредить неизбежное: временное правительство низвергнуто и члены его, не успевшие бежать, отведены в тюрьму. Против Гверраци поднимается скандальный политический процесс, в котором обвинения нелепо путаются, взаимно противореча одно другому. Призванный в министерство великим герцогом, он не мог подлежать суду за незаконное будто бы присвоение себе власти. Измышлены были другие поводы к обвинению; и в них самый позорный, подсказанный бывшими политическими друзьями многострадального триумвира, состоящих в расхищении им велико-герцогского имущества. Леопольд, более справедливый в этом случае, чем итальянские либералы, счел своей обязанностью написать судьям Гверраци, что он не только не имеет повода жаловаться на расхищение своего имущества, но должен благодарить временное правительство за крайне добросовестное и тщательное его сохранение.
Снова пришлось Гверраци покинуть родину, куда он вернулся только в 1860 г.[108]
[Э. Денегри][109]
Сицилия и г. Криспи
Кап. Анучкин: Прекрасная, доложу я вам, страна Сицилия.
Гоголь – Женитьба[110]Во главе этой статьи стоит одно из тех магических слов, которые пробуждают ряд самых поэтических представлений в мыслях каждого, сколько-нибудь знакомого с географией; а таких между моими читателями найдется, конечно, не мало, благодаря ученым трудам гг. Арсеньева и Ободовского[111]. Я с своей стороны большой охотник до поэтических красот южной природы и по нескольку часов сряду стоял со всеми признаками самого трогательного изумления перед каким-нибудь волшебным пейзажем, которых множество представляет на каждом шагу эта благословенная Богом страна. Как капитан Анучкин, я с истинным наслаждением вглядывался в эти чудные кусты роз – таких роз, какие только в Сицилии можно встретить, – блистающих тысячами разнообразных красок под знойными лучами африканского солнца. Но, сознаюсь, розы другого рода, посылавшие поцелуи со своих балконов доблестному капитану, попрятались на время грозы и ни одна из них не позаботилась, хотя бы ради чести и достоинства края, почтить меня таким задушевным приветом. Прибавлю, что моей вины в этом нет ни на волос, и у меня теперь еще болит шея, когда я вспоминаю, как усердно я поднимал голову и устремлял беспокойные взоры на причудливо висящие по обеим сторонам палермских улиц балконы.
Несмотря на этот существенный недостаток, я вынес о Сицилии самое живое и отрадное, – поэтическое, если хотите, воспоминание. Я от души поделился бы им с первым, готовым выслушать меня, но до сих пор я очень мало встречал таких, гораздо меньше по крайней мере нежели таких, которые очень снисходительно принимали самый братский дележ – только не поэтических воспоминаний; а потому я решился хранить их для себя самого. Тем хуже для вас, поверьте, но я могу только сожалеть с вами о вашей потере, и ни за какие блага в мире не отступлюсь от раз принятого решения. Чтоб облегчить впрочем вашу горькую долю, я могу указать вам очень хорошие источники, где вы можете почерпнуть хотя некоторое утешение. Возьмите, например, «Пиччинино»[112], если вы охотник до дикой, взволнованной ежедневными почти ужасными катастрофами Катании; читайте Байрона в особенности, а лучше всего читайте «Тысяча и одну ночь» – из нее вы скорее всего ознакомитесь с этим волшебным краем, в возвышенном слоге (итальянцы еще пишут возвышенным слогом) называемом Тринакрийскою землей[113]. И если когда-либо вы будете рассказывать вашим детям сказки про фей и добрых гениев, выбирайте театром их действия этот отдаленный уголок земли, где все делается как бы по мановению волшебной палочки.
Даже в серьезную и положительную сферу политической жизни сицильянцы сумели внести свой магический элемент, к величайшему изумлению президента Риказоли и всего председаемого им кабинета. Экс-министр Мингетти[114] так был озадачен этой калейдоскопической переменой, что и теперь еще считает чернокнижником г. Криспи[115], представившего ее на вид удивленному парламенту в одном из заседаний, предшествовавших достопамятному для Италии вотированию[116] 11-го декабря прошлого года.
Между слушавшими речь г. Криспи много было людей, хорошо знакомых с характером страны, о положении которой он говорил, но и на тех новизной и неожиданностью подействовали слова оратора. Сицилия одна из тех стран, где правда всего менее правдоподобна; она во всех отношениях стоит как-то особняком, и составить себе о ней какое бы то ни было понятие по аналогии с другими частями земного шара, а в особенности с остальными провинциями Италии – невозможно. Министерство руководствовалось официальными донесениями генерала делла Ровере[117], бывшего королевского наместника. Донесения его были очень утешительных свойств, но увы! с жизнью острова, с его настоящим политическим и административным положением не знакомили вовсе, и сделали только то, что министерство еще с большим удивлением слушало речь г. Криспи.
А между тем личность оратора должна бы внушить доверие кабинету. Криспи может быть единственный умеренный[118] сицильянец, что ему ставит в большую заслугу флорентийская «Gazzetta del Popolo», проводящая в одном из своих нумеров параллель между Криспи и неумеренным генуэзцем доктором Бертани[119]. Криспи, говорю, враг радикальных перемен и выказал преданность свою существующему порядку еще недавно в деле палермитанских студентов, возмутившихся было против своего префекта. Криспи наконец по одному тому уже имеет право на особенную признательность и доверие к нему министерства, что во время своего продиктаторства в Палермо, он один стоял за немедленное присоединение Сицилии, тогда как падре Кукурулло, священник прихода Сан-Джованни в Палермо[120], и все священники других церквей целого острова, вместе с своими прихожанами, склонялись на сторону автономии. И это тем большая заслуга Криспи, что сам Гарибальди, оставляя диктаторскую должность, чтоб исключительно заняться высадкой на материк, высказался скорее в пользу падре Кукурулло и приходских священников, нежели продиктатора.
Кто знает еще, чего стоила г-ну Криспи эта его преданность министерству! В то время два великие деятеля итальянской независимости, которых общие усилия были необходимы для полного успеха так блистательно начатого предприятия – Гарибальди и Кавур – были вовсе не в дружеских отношениях между собой. Криспи приходилось выбирать между ними. Личную преданность свою первому он доказал во многих случаях. Один из тысячи высадившейся при Марсале, он может быть популярностью своей в родной стране больше был обязан сотовариществу с героем этой высадки, нежели собственным своим достоинствам, которых очень удобно могли не знать его соотечественники. Во всяком случае, и каково бы ни было доверие к нему сицилийцев, в нем больше уважали представителя Гарибальди, чем продиктатора. Обвинить ту или другую из враждовавших сторон было невозможно. Кавур, занятый своими дипломатическими расчетами, взвешивавший осторожно обе стороны всякого дела, имел неоспоримое право бояться ежеминутно, чтобы пылкий его соперник не разрушил какой-либо отчаянной выходкой его благодетельных хитросплетений; Гарибальди со своей стороны, ставший вдруг французом по милости расчетливого дипломата[121], не понимая притом, чтобы в каком-либо случае позволено было обрезывать фалды кафтана для заплат на рукава[122], мог от чистого сердца и со всей возможной законностью ненавидеть кабинетного героя: если так не случилось, то может быть только потому что в душе Гарибальди не оставалось места для каких бы то ни было личных антипатий или привязанностей.
Криспи, однако, колебался недолго. Едва наступила решительная минута, он открыто склонился на сторону министерства. Решение это делает большую честь расчетливости продиктатора: гарибальдизм его был слишком известен всем и каждому, и на этот раз он не рисковал нисколько скомпрометировать себя в глазах своих соотечественников. А вместе с тем он умел приобрести благорасположение другой стороны. Ему очень нетрудно было увлечь за собой массу; исход предстоявшего вотирования легко было предвидеть, едва г. Криспи высказал свое окончательное и безапелляционное решение. Впрочем успех продиктатора на этот раз вовсе не был доказательством необычайной будто бы его популярности, или по крайней мере может быть объяснен совершенно другим образом.
Сицилианцы подались бы может быть очень легко на революцию в другом каком-нибудь смысле, лишь бы она была против неаполитанского правительства. Они приняли, однако же, со всей пылкостью своей полуафриканской натуры то направление, которому так горячо и честно был предан Гарибальди. «Италия и Виктор-Эммануил» – программа диктатора – стала для них религиозным догматом; у них не было ни одной сепаратистской идеи, никаких помыслов о личных и местных выгодах. Мысль о независимости Сицилии от королевства родилась впоследствии уже при деятельном сотрудничестве некоторых чересчур ревностных приверженцев итальянского правительства, простирающих до того свою горячую преданность народному делу, что соглашаются даже брать жалованье от римского и бурбонского двора, с патриотической, конечно, целью подорвать денежные ресурсы этих последних.
Но тогда вся Сицилия единодушно хотела стать членом одного и нераздельного итальянского королевства. Это, однако же, не мешало им желать и душой и сердцем продолжения диктатуры Гарибальди, или кого-либо в его имя. В их понятиях это нисколько не мешало им принадлежать королевству, быть его действительной частью, тем более что все декреты диктатуры выходили в свет с именем короля. Но как скоро сицилианцы увидали, что Гарибальди оставил их, слишком занятый на материке, – только муниципальная гордость могла противиться в них полному и немедленному слитию, fusione.
Г-ну Криспи оставалось только обеспечить соотечественников на счет сохранения административной автономии острову и после присоединения, и они очень охотно поддались на его увещания, будучи рады с непривычки и тому, что их мнение спрашивают и ценят…
Криспи с цинциннатовской[123] простотой сложил с себя продиктаторское достоинство. Сицилии сделали честь дать ей особого от неаполитанских провинций наместника.
С тех пор сицилианцы как будто совершенно сошли со сцены. В то самое время, когда соседние им провинции материка волновались и бушевали при всяком удобном случае, обращая на себя все внимание правительства, вымогая значительные уступки у кабинета, генерал делла Ровере, последний наместник Сицилии, доставлял министерству самые успокоительные сведения о ходе дел в управляемой им провинции; корреспонденции журналов, более всего знакомых с местностью, наполняли отделы о Сицилии трогательными описаниями религиозных праздников в честь св. Розалии[124] и военных парадов национальной гвардии. Телеграфические депеши сообщали то об обеде, даваемом мессинскими батальонами палермским, то о завтраке, которым палермская национальная гвардия отплачивала своим амфитрионам[125]. Изредка попадались печальные известия о ночных стычках, попытках реакционерных высадок, всегда отражаемых либо местными жителями, либо окрестной национальной гвардией, безо всякого вмешательства войска. Генерал делла Ровере утверждал, что на целом острове не существует и тени бурбонской партии. «Наместник потому верно не заметил ее, что она слишком близка была возле него», сострил по этому поводу один из оппозиционных журналов. Бывший наместник сам отказался от своих слов на этот раз при многочисленном заседании камеры, убежденный энергическими доводами г. Криспи.
Сицилия представляет странную смесь очень разнохарактерных элементов. В лицах ее жителей легко заметить слитие эфиопов с северными норманнами. Язык ее не просто набор арабских, старо-греческих и итальянских слов, как, например, язык мальтийский – он представляет довольно значительную степень самобытности и цельности, но тем не менее эти разнохарактерные элементы живо чувствуются в нем, только как-то более срослись, как будто химически соединились между собой.
Жизнь этого острова не могла правильно развиться под влиянием бесконечных правительственных перемен и всякого рода катастроф, которых он был театром с незапамятных времен, а потому остатки средневекового варварства на каждом шагу мешаются с плодами новейшей цивилизации. Словом, везде и во всем путаница, которую нужно брать такой как она есть.
Разнообразие климатических условий делает положительно невозможным какое бы то ни было общее положение для всех, или хоть для большей части провинций и городов острова. Единственное отступление от этого составляет радикальная и застарелая ненависть сицилианцев к неаполитанцам и взаимная антипатия всех ее городов между собою. Много еще придется дать обедов и завтраков мессинской и палермитанской национальной гвардии, прежде чем заглохнет это недружелюбное расположение отечественных городов одного к другому.
Я особенно прошу обратить внимание на эту вражду: в Средней и Северной Италии она легко объясняется, как остаток прошлого муниципального величия каждого города в те времена, когда слова: сосед и враг, значили одно и то же. Сицилия постоянно была в совершенно противоположном положении; все части ее находились одинаково над равно-ненавистным всем им иноземным игом; а известно, что ничто так не сближает людей, как общий враг. Братская ненависть сицилианцев к неаполитанцам, высказывающаяся тысячами различных способов и в частной и в общественной жизни островитян, так хорошо всем известна, и послужила основанием такому множеству романсов, повестей, поэм и пр., что мне совестно говорить здесь о ней. Но что же развило и поддерживает в Сицилии эту мучительную взаимную вражду? Вопрос этот разрешится, надеюсь, в тот верховный миг, когда выйдет на свет все, что теперь скрывается во мраке и в тайне; когда и первый вопрос логики профессора Протопопова[126] станет удобопонятным и ясным.
Мысль о самостоятельном и независимом существовании Сицилии с очень давних пор гнездилась в голове каждого островитянина и послужила к сближению между собой различных классов народонаселения. В течение слишком многих веков это задушевное желание держалось непоколебимо, несмотря на тяжелую действительность; палермские и неапольские тюрьмы наполнялись ежегодно мучениками этой химерической идеи. Множество других заговоров, все с той же благонамеренной целью, не повели даже и к этим печальным последствиям. Наконец другие надежды, более существенные и легче приводимые в исполнение,
вытеснили эти вековые и дорогие сицилианским сердцам замыслы. Идея единства и независимости целой Италии, которой Сицилия с гордостью признает себя одной из существенных частей, была принята здесь с обыкновенным в этом климате энтузиазмом. Несколько веков постоянных неудач заставили даже и самых непреклонных склониться перед невозможностью и признать неисполнимыми свои прежние надежды и задушевные мечты. Все классы народонаселения с одинаковым воодушевлением принялись за служение новым целям.
Сицилия, одна из тех благословенных стран, где разделение на касты существовало в очень слабой степени. Аристократия, вся испанского или неаполитанского происхождения, держалась бурбонского правительства, жила особняком и считалась иностранной. Очень небольшое количество богатых и титулованных владельцев замков и поместий, чисто сицилианского происхождения, мало мешались с этой иностранной знатью, смотревшей на них с презрением. Чувствуя свое бессилие, они охотно склонялись на сторону народа, часто жертвовали своими фешенебельными привычками гордым, заносчивым сицилианским popolani[127], которые в награду за их уступчивость и мягкость их обращения снисходили очень часто до готовности считать их себе равными, великодушно прощая им короны или девизы их гербов.
В торговом и промышленном отношении Сицилия никогда не первенствовала на земном шаре. Она мало ушла вперед со времен сицилианских вечерень, а пожалуй даже и со времен Геродота, и если жители ее не мрут с голоду, то обязаны этим несравненно более св. Розалии, наделившей покровительствуемый ею остров такой почвой и таким климатом, нежели собственному трудолюбию и изобретательности. При этом состоянии дел в Сицилии не могло образоваться денежной аристократии. Я не хочу сказать этим, чтобы в Сицилии не было богатых и бедных; в больших городах, в особенности, чувствуется неравное распределение между жителями щедрых даров св. Розалии; во всяком случае, ни в занятиях, ни в образе жизни нет той существенной и громадной разницы, которая в других странах создает отдельные касты, ненавидящие одна другую.
Сицилианский popolano обыкновенно слишком горд для того, чтобы быть сребролюбивым или честолюбивым. С детства он привыкает к той простой и не лишенной своего рода удовольствий жизни, которая очень легко достается в этом благословенном крае. Сицилия доставила Италии одного из лучших музыкальных композиторов, Беллини, и каждый веттурин[128] также гордится этим, как и собственными своими музыкальными способностями.
Сицилианцы вообще очень охотно занимаются делами, выходящими из ряда их вседневной жизни, а потому дело независимости и единства Италии было принято, за очень небольшими исключениями, всеми жителями острова с самой горячей привязанностью, которую впоследствии, в усиленной степени, перенесли они на главного героя святого дела – Гарибальди. Привязанность эта в них была несравненно выше и серьезнее чувства достойных их врагов и соседей – неаполитанских ладзаронов, также боготворящих по-своему своего избавителя. В Сицилии никому и в голову не приходило спекулировать этим чувством, тогда как в Неаполе гарибальдийцы на каждом шагу бывали останавливаемы оборванными квартирантами мостовой. Viva l’Italia una! Viva Garibaldi! Adesso siam fratelli – da mi un grano[129] – было в Неаполе условной фразой, которой эти тунеядцы выпрашивали милостыню у прохожих, выкидывая очень удачно на пальцах все отдельные слова этой фразы, о чем трудно дать понять тому, кто сам не видал этой оригинальной жестикуляции, чисто ладзаронского изобретения, и безо всякой гарантии со стороны правительства.
Кроме того, сицилианцы оказались на столько же положительнее в своих привязанностях, на сколько они были честнее и искреннее. Мне даже кажется, что они слишком далеко простерли свое увлечение, доводившее их порой до самопожертвований, а это не всегда бывает к добру.
В жизни сицилианцев есть еще одна очень хорошо всем известная черта – а именно их особенная преданность религии, понимаемой ими тоже по-своему; или правильнее – их детская, простодушная набожность. Вовсе не желая проводить параллель между сицилианцами и их соседями на материке, я, однако же, считаю не лишним сказать здесь несколько слов о различном у них проявлении чувства, выходящего из общего им источника: страсти ко всему праздничному, торжественному, выходящему из скучной и пошлой колеи вседневной жизни.
Дух язычества великой Греции сохранился одинаково и на материке, и на острове. Неаполитанцы, без души преданные всевозможным церковным процессиям, может быть, единственный народ на земном шаре в настоящее время, которого религия лишена даже тени внутреннего значения. Об обожания ими св. Януария много было говорено и писано, но, всмотревшись поближе в это дело, трудно не заметить, что если св. Януарий и пользуется особенным почетом в Неаполе, то единственно только потому, что в честь его бывает несравненно более праздников, дорогих ладзаронскому сердцу, нежели в честь какого бы то ни было другого святого. К нему не чувствуют никакого уважения, которое в этих грубых натурах всего проще выражалось бы в чувстве страха. Интимная история Неаполя представляет очень много блистательных доказательств тому. Неаполитанец всегда готов защищать честь своего любимого святого, но он всегда с таким же жаром готов вступиться за Везувий, за честность неаполитанских трактирщиков и способен зарезать всякого, кто бы вздумал утверждать, что есть на свете вино, лучше нежели асприно[130].
Духовенство в Неаполе тоже не пользуется ни малейшим уважением со стороны народа – что вытекает из предыдущего как самое естественное последствие. Многие из иностранных путешественников видели большие сходбища народа в церквах и на улицах, вокруг какого-нибудь проповедующего монаха или священника, и из этого заключали об особенно религиозных наклонностях жителей мостовой Санта-Лучии и Толедо. Если б они дождались хоть раз конца этих набожных митингов, они может быть совершенно переменили бы свое мнение: ладзарон, великий спекулятор, за неимением свободного входа на биржу, выискивает самые разнообразные поприща для своих коммерческих наклонностей. Духовенство при прежнем правительстве пользовалось очень большим влиянием в Неаполе, но этим оно вовсе не обязано ни предполагаемой набожности, ни преданности к нему народа. Все это я говорю только о самом Неаполе; жители провинций, и в особенности обеих Калабрий и горной Капитанаты, составляют на этот раз совершенно особенную категорию.
В религии сицилианцев внешняя сторона играет тоже, может быть, более важную роль, нежели желал бы суровый флорентинец Савонарола. Внутренний мир сицилианца богат поэзией и живыми красками и каждый из них, без различия звания и возраста, стремится осуществить по-своему этот внутренний мир. Но в этой волшебной стране, ничто не удержится и не устоит против влияния внешних впечатлений. Среди этого мира впечатлений сицилианцы живут себе как дети, и всех их душевных сил едва хватает на то, чтобы любоваться разноцветными камешками калейдоскопа и только изредка разве расположить их в сколько-нибудь более живописном порядке.
Религиозные процессии служат гораздо лучшим поводом для их художественных наклонностей, нежели, например, парады бурбонских швейцарцев, или теперешней национальной гвардии. Сицилианцы, впрочем, мало заботятся о папе: цветы, музыка, богатые рясы священников и миловидные лица святых, вот главные атрибуты их религии; их соединенным действием приходят они в то сладостное и спокойное состояние духа, которое они считают главным благом своей жизни. Папа и римский двор остаются для них совершенно чужими. Они никогда не видели папу во время их благочестивых торжеств, он для них чистый миф.
С другой стороны, сицилианское духовенство, не только как герой религиозных представлений, пользуется уважением народа. По многим очень положительным данным известно, что оно с давних пор возбуждает сильное негодование в своих ватиканских патронах; и если святой отец[131]ни разу не отлучал их от римской церкви, то единственно потому, что он считает отступничество их столько же временным, сколько заблуждение лютеран и нас грешных, в скором обращении которых к непогрешимой католической церкви он нисколько не сомневается, и в непомерной благости своей держит на этот случай готовых епископов для Москвы, для Лондона и для Мекленбурга-Стрелицкого[132]. Может быть и чересчур нелепая привязанность сицилианских прихожан к своим духовным пастырям несколько обуздывает верховного главу церкви в проявлении его справедливого негодования в отношении к этим последним.
В настоящее время во всей Италии сицилианское духовенство составляет характеристическую особенность. В прежние времена монастыри и церкви были центрами здесь всякого рода заговоров против иностранного владычества, а священники и монахи главными деятелями этих богоугодных предприятий.
Католические священники вообще находятся в затруднительном положении, а монахи еще в большем. Каждый из них, после торжественной клятвы служить верой и правдой родной стране, жертвовать всем ее интересам и выгодам существующего правительства, дает другую, совершенно подобную первой, в пользу римского двора, которого выгоды и интересы в большей части случаев совершенно несообразны с патриотическими наклонностями присягающего и его первой присягой.
Поставленные таким образом в необходимость служить двум господам, эти несчастные или плохо служат обоим, или же забывают одну из двух присяг, обыкновенно менее сообразную с их личными выгодами. Одна из особенностей сицилианцев – это совершенно искренняя и бескорыстная их любовь к родине. А потому духовенство этого острова, без особенных колебаний, выбрало ту из двух противозначащих одна другой клятв, исполнение которой было для него легче и приятнее. Выбор этот был не в пользу Ватикана.
Во время последних событий в Сицилии, 1860 г., многие из священников и монахов надели красную рубашку под свои священные одежды; госпитальные прислужники почти все были составлены из сицилианских, а впоследствии и калабрийских, духовных. Менее воинственные из них говорили с церковных кафедр в пользу того же народного дела. Я не скажу, чтобы исключительно любовь к родине и к единству Италии заставила их избрать такой образ действий: ненависть к неаполитанцам и сознание, что интересы Рима тесно связаны с интересами бурбонской династии играли при этом свою значительную роль.
Во всех остальных частях Италии духовенство выказало наоборот ревностную привязанность к падавшему порядку. Монастыри и церкви и теперь еще одно из главных орудий против нового правительства, притон реакционеров и разбойничьих шаек, готовых за очень умеренную плату стать против всякого порядка и правительства, так как их геройские подвиги восстановляют против них всякое правительство и порядок. Генерал делла Ровере был совершенно прав, говоря, что в Сицилии нет и тени реакционерного духа, но еще больше прав, когда перед очевидными доказательствами, приводимыми против него г-м Криспи, он признал неверность своих донесений о спокойном состоянии острова.
Это кажущееся по-видимому противоречие я надеюсь разъяснить удовлетворительно без особенно длинных разглагольствий, а что останется неясным затем, покорнейше прошу относить к тому исключительному положению Сицилии, о котором я говорил в начале и которое виной тому, что на материке Европы постоянно будет непонятным многое, что на этом волшебном острове существует, как самый обыкновенный факт.
Поспешим воздать полную хвалу туринскому кабинету за то, что, раз сознав необходимость централизации, он с рыцарским увлечением, извиняющим очень многие существенные промахи, стремится к раз избранной им цели, не обращая внимания на то, что с каждым днем теряет из-под ног твердую почву, и что оппозиция со дня на день приобретает все более и более силы; кроме того, министерство поступает в этом случае так открыто и прямо, как нельзя было бы и ожидать от искусных дипломатов, его составляющих; видно, что оно совсем поддалось влиянию своего прямодушного президента. И если б и можно в чем-нибудь упрекнуть кабинет, то уже никак не в недобросовестности, а скорее в излишней пылкости, не всегда позволяющей ему хладнокровно взвешивать находящиеся под рукой средства.
Г. Джорджини[133], очень ученый итальянский профессор, оставивший недавно свою кафедру в Сиенском университете для палаты депутатов, и выказавший несколько раз самую горячую привязанность к кабинету, и в особенности к его председателю, попробовал было по дружбе оказать услугу приятелям и популяризировать направление их административной деятельности. С этой целью он написал очень ученую брошюру, придравшись к декретам, уничтожавшим наместничества в Неаполе и в Сицилии[134]. Брошюра эта имела успех, но только не в Сицилии. Жители этого острова так не расположены к настоящему кабинету, что готовы даже подвергнуть сомнению ученость автора брошюры об октябрьских декретах и о централизации, и только потому, что он вздумал защищать политику, которая не приходится им по нраву.
Министерство, однако же, вовсе не предполагало таких недружеских к нему чувств в этих почтенных островитянах, которых считало самым министериальным народом в мире и неоднократно ставило их в пример их буйным соседям – неаполитанцам. Однажды выказав свои унитарные стремления, Сицилия упорно молчала, а министерство, смешивающее не только в официальном слоге этот остров с прилежащими частями материка под общим названием бывшего королевства Обеих Сицилий, принимало это молчание за знак согласия со всеми его распоряжениями. Я уже сказал, что г. Криспи своей речью в одном из заседаний, предшествовавших вотированию 11 декабря, вывел его из заблуждения.
Это было в то самое время, когда – что вы конечно знаете из газет – парламент был слишком занят очень важными вопросами о Риме и о Венеции, и одно уже то, что деликатный и терпеливый оратор решился оторвать его внимание от дел такой первостепенной важности, и обратить его на интересы чисто местные, могло бы служить доказательством того, что настоящее положение Сицилии, о котором он намеревался говорить, было серьезно и не допускало ни малейшего отлагательства.
Тон речи Криспи часто очень жесток, в особенности для министерских ушей; в нем слышится раздраженный голос народа, уставшего от тяжелой борьбы и от всякого рода пожертвований, доверившегося простодушно министерству, которое обещало ему моря и горы. Оратор не только прямо объявляет в самом начале своей речи, что министерство в настоящее время не пользуется даже самой слабой степенью доверия во всей Сицилии, но передает очень многие и вовсе не лестные для кабинета слухи, весьма распространенные на этом острове на его счет.
Сентябрьские циркуляры барона Риказоли, – которых содержания вы очень легко можете не помнить, так как этот министр, надобно сказать правду, очень щедр на циркуляры, – по поводу его намерений насчет Рима, исполненные очень глубокомысленных сентенций о религии, о свободе церкви и проч., произвели в Сицилии впечатление.
Капитуляция барона Риказоли, которой он предоставляет Риму право избрания и утверждения епископов, встретила тем более неудовольствий в Сицилии, что духовенство этой страны с давних пор ищет освободиться из-под римского ига, что оно надеялось добиться этой цели последней революцией и видит, что надежды его на этот раз остались тщетными; тем более им кажется парадоксальной формула: свободная церковь в свободном государстве, когда под свободной церковью разумеется римская церковь. Без особенного семинарского образования, простым умом своим они легко понимают, что церковь, как дело касающееся религии, задушевных убеждений каждого, должна быть всегда свободна и чужда всякого постороннего вмешательства, но что как скоро церковь будет иметь свою иерархию, не подчиненную господствующему правительству и закону, – она будет оскорблять права и того и другого.
Эта уступка ватиканскому двору, казавшаяся очень незначительной президенту кабинета и прошедшая, может быть, незамеченной во всех остальных частях Италии, в Сицилии подала повод к очень сильным неудовольствиям. Г. Криспи мимоходом упоминает об этом, но, принимая в соображение то, что он высказывает не свои личные взгляды и требования, а своих избирателей, которых образ мыслей и наклонности, как сицилианец, он должен бы хорошо знать, я нахожу, что на этот раз почтенный депутат мог бы яснее поставить на вид камеры всю важность этих по-видимому мелочных распрей для своих соотечественников.
Следя за ходом речи, я перехожу к другим печальным известиям, сообщаемым г. Криспи. Прежний восторг сицилианцев и их горячее стремление на общее благо успели значительно охладиться под влиянием тех успокоительных средств, на которые особенно был щедр кабинет. Большая часть общинных советов не полны, в очень многих случаях жители даже не приступали к избраниям. Эта молчаливая протестация, однако, вовсе не достигла своей цели. Министерство, привыкшее к более шумным и энергическим выходкам со стороны неаполитанцев, вовсе не ждало такой воздержности от южных островитян, и г. Криспи имел на этот раз удовольствие высказать министерству совершенно неожиданную новость.
Национальная гвардия собирается очень неохотно или вовсе не собирается по требованию начальства. Фонды пьемонтского и итальянского займов на палермской бирже продаются 2 и 3 % ниже их обыкновенной цены, и когда министр земледелия и торговли вздумал (в ноябре кажется) учредить в Палермо отделение национального банка, ему пришлось оставить это предприятие, так как не нашлось и десятой доли требуемого числа акционеров.
Я не стану перечислять здесь все поступки министерства, возбудившие недоверие к нему сицилианцев. Они охотно простили бы ему некоторые стеснительные для них меры. Уничтожение порто-франко в Палермо не встретило никаких неудовольствий или препятствий со стороны жителей этого города, считавших необходимым пожертвовать частными своими выгодами на благо общего отечества. Но совершенное незнание местных условий, проглядывающее в других министерских декретах и распоряжениях, от которых может быть и не столько потерпели интересы острова, уронило, однако же, больше в их глазах настоящий кабинет. Щедрые обещания министерства, которые уже заранее ожидает неисполнение, производят также очень невыгодное впечатление. А между тем министерство медлит и не решается прибегнуть к энергическим средствам, чтобы загладить упущения.
Для примера приведу следующий случай: 17 октября 1860 г. долги городских общин Сицилии были приняты на счет государства. Воспользовавшись этим, общины тотчас же отказались от уплаты процентов по своим облигациям; но государство тоже не платит процентов, не признавая законным декрет 17-го октября. Таким образом, кредиторы вовсе не могут добиться своих денег, и многие из них поставлены в самое затруднительное положение. Палермская городская больница, все капиталы которой находились в руках общины этого города, уже второй год, не получая процентов на них, скоро должна быть закрыта, за неимением средств для содержания ее. Министерство же до сих пор еще не подумало таким или другим способом положить конец этому двусмысленному, или скорее бессмысленному положению.
Подобную же медлительность и с не меньшим для себя ущербом выказало оно в другом очень важном для сицилианцев деле, а именно в разрушении мессинской цитадели[135], которое обещано было тотчас по занятии ее итальянскими войсками, и о котором снова на днях были толки и рассуждения в парламенте[136]. Существование этой цитадели не приносит никакого существенного вреда ни Мессине, ни Сицилии вообще, но хотя взимавшаяся с города на поддержание ее подать очень великодушно подарена министерством мессинской городской общине, тем не менее министерство гораздо больше выиграло бы, или по крайней мере проиграло бы несравненно меньше в глазах сицилианцев, если б исполнение декрета о разрушении цитадели воспоследовало тотчас же за его обнародованием.
Цитадель эта, как и крепость Сант-Эльмо в Неаполе и как большая часть построенных испанцами или Бурбонами крепостей, построена вовсе не с целью защищать город от внешних нападений, что лучше всего доказывают последние успехи Гарибальди в Сицилии. Видя по-прежнему постоянно устремленные на себя пушки, жители Мессины подчас легко могут забыть радикальную перемену в их существовании, совершенную с такими сильными с их стороны пожертвованиями.
С уничтожением наместничества в Сицилии исчезла и тень автономии острова, который, по изложенным мною выше причинам, очень дорожил своей административной самостоятельностью. Если декрет, присоединявший ее в административном отношении к центральному правительству безо всяких уже уступок и оговорок, не встретил никакой враждебной демонстрации со стороны жителей, то только потому, что сицилианцы успели уже убедиться в том, что присутствие королевского наместника в Палермо очень плохо ручается за их автономию.
Управление последнего наместника в Сицилии очень много способствовало тому неутешительному положению, в котором теперь находится этот остров. Г. Криспи приводит весьма красноречивые факты, доказывающие, что всем известная благонамеренность генерала делла Ровере не могла искоренить всякого рода административные злоупотребления, оскорбляющие и статут, и личные права граждан. Полицейское управление, Guardia della Sicurezza[137], представляет узаконенную корпорацию реакционеров и простых воров. Большая часть их состоят на жаловании Франческо II.
Желая привязать к себе приверженцев бывшего правительства, министерство сохранило очень многих из них, и в особенности в ведомстве полиции, на прежде занимаемых ими местах. Сицилия таким образом очутилась в руках тех же бурбонских полицеистов и сбирров[138], переодетых в новые мундиры, и столько же по старой привычке, сколько и от излишней преданности к новым своим падронам[139], берущих жалованье от старых, с патриотической вероятно целью подорвать их финансовые средства.
При таких блюстителях порядка, личная безопасность граждан находится в двусмысленном положении. Г. Криспи приводит несколько положительных фактов, свидетельствующих о самовластии этой продажной шайки, не стесняющейся ни законом, ни общественным мнением. В больших городах Сицилии никто не выходит из дому вечером без вооружения, что выгодно только разве для оружейников, и в особенности для гг. Лефоше и Минье[140], которых усовершенствованные произведения находят прекрасный сбыт в Сицилии. Что же касается г. Криспи и других мирных граждан, то они не находят никакой выгоды в этом военном положении.
Деятельность сицилианской полиции выказывается во всей полноте и силе в следующем маленьком статистическом расчете: и течение последнего года в Палермо, совершено было 200 убийств; из них 5/6 всего числа преступников и поныне остались неизвестными, а из известных очень немногие были арестованы и подверглись каре закона.
Перепечатанное всеми итальянскими и многими иностранными журналами, письмо синдика Катании, барона Толозано[141], к г. Мингетти, бывшему министру внутренних дел, очень живо рисует положение этой провинции, самой миролюбивой и спокойной изо всех сицилианских провинций. Барон Толозано прямо обвиняет в продажности и в злоумышленности полицейских чиновников, покровительствующих реакционерам и преступникам, нарушающих личные права граждан, и доведших до того эту провинцию, что свидетели какой-нибудь кровавой катастрофы не только не смеют принять зависящие от них меры против преступления, но даже отказываются свидетельствовать против него перед судом, из страха полиции, готовой всегда прикрывать виновного и содействовать ему.
Я не привожу здесь самой речи г. Криспи, речи очень замечательной во всех отношениях, ни даже извлечений из нее или ее разбора. Г. Криспи сообщает очень интересные, но мелочные по большей части факты в подтверждение всего того, что говорю здесь я о Сицилии. Президент совета министров[142] не присутствовал в заседании, в котором речь эта была сказана, и г. Криспи в начале изъявил по этому поводу свое сожаление, так как он считал долгом своим высказать ему лично чувства своих соотечественников к председаемому им кабинету. В заключении своем оратор обращается к депутатам, приглашая их при предстоящем вотировании вспомнить то жалкое положение, в которое поставлена Сицилия настоящим кабинетом; что другими словами значит просто вотировать против барона Риказоли и его сотоварищей. Большинство депутатов, как вы знаете, не поддалось на приглашение г. Криспи. В словах и в тоне этого последнего слышно более раздражения и негодования лично против состава кабинета, нежели может быть в соотечественниках оратора, мало знакомых с личностями, составляющими центральное правительство. Дело в том, что в г. Криспи не молчит оскорбленное чувство личного доверия. Не так давно еще он выступал перед сицилианцами защитником и приверженцем того самого министерства, которого теперь он стал ревностным противником и даже личным врагом.
С своей стороны я спешу уведомить вас, что г. Криспи не может быть считаем вполне отголоском своих избирателей. Правда, и они недовольны министерством и выбрали г. Криспи своим представителем, потому что знали, что он не подаст своего голоса в его пользу. Но личной вражды в них ни к министерству, ни к министру – нет. Наконец они восстают против него главным образом не за вред, причиняемый прямо им его управлением; они и теперь еще готовы многим пожертвовать для достижения той цели, которой они отдались один раз с такой полной горячностью и энтузиазмом.
Соглашаясь на немедленное и полное присоединение Сицилии к королевству, сицилианцы вовсе не ждали от этого каких-либо выгод. Они слишком хорошо понимали, что страна их представляет такие особенности, которым только совершенно особенная и отдельная администрация могла удовлетворить. Но они решились пожертвовать частными выгодами благу Италии, надеясь может быть, что центральное правительство пощадит эти их особенности, и постарается сделать им более легкой их жертву. Теперь они разочаровываются в этих надеждах, но благородный порыв их еще не прошел.
Очень небольшая партия пустила было в ход эгоистическую мысль: «Министерство не думает вести вас в Рим и в Венецию, а потому подумаем о себе». Партия эта может со временем усилиться и, если возьмет верх, довести Сицилию до отделения ее от Италии; но пока она вовсе не пользуется популярностью. Пока еще сицилианцы, во что бы то ни стало, не хотят оставить программу Гарибальди.
К сожалению, прежние владетели острова вовсе не так легко отказываются от помыслов о своем возвращении в этот дорогой им, и ненавидящий их край. Рассчитывать на содействие самих жителей было бы безумством со стороны Бурбонов и их приверженцев, а потому они и не отваживаются здесь на предприятия такого рода, которые имеют успех в провинциях материка. В Сицилии они приняли совершенно другую систему действий, в выборе которой показали такое знание местных условий края, какого не достает итальянскому правительству.
Я говорил уже о влиянии монахов и духовенства на народонаселение Сицилии. При том настроении, которым отличались сицилианские духовные, влияние это не могло быть вредным для народного дела. Но монашеская одежда слишком хорошо покрывает то, что может под нею укрыться. Известно положительно, что французские пароходы «Messageries Imp riales» ввозили неоднократно в портовые города Сицилии очень значительные грузы монахов всевозможных орденов, отправлявшихся туда из Рима. Известно также и то, что святые отцы эти попадали в Сицилию не проездом по пути ко святым местам, но что они очень надолго утверждалась на этом острове, откуда отправлялись иногда на Мальту, где в настоящее время главный центр реакционерной деятельности; а оттуда они почти всегда возвращаются опять в Сицилию. Эти смиренные странники находят братский прием в некоторых иезуитских братствах, которых главное убежище после их двукратного изгнания из Сицилии – община Кальтанизетты[143]. Это святое братство пользуется большой ненавистью со стороны сицилианцев с самого времени появления своего на острове, и вполне заслуживало эту ненависть своей ревностной и деятельной приверженностью к врагам Сицилии. Иезуиты были главной опорой бурбонского правительства в Сицилии. По занятии ее Гарибальди, один из первых декретов диктатора был об изгнании этого ордена из пределов управляемых им провинций. Декрет этот был признан и итальянским правительством; тем не менее иезуиты остаются пока в Сицилии, в Кальтанизетте по преимуществу, и даже не заботятся скрывать своего там присутствия. Они были зачинщиками многих стычек и кровавых катастроф, которые не могли не дойти до сведения министра внутренних дел. Интересно бы знать, чем г. Мингетти объяснит незаконное пребывание этого братства в Сицилии? Как оправдает он свою излишнюю в этом случае воздержность?
Соединенными усилиями этих святых отцов и кочующих монахов испанских и римских, в Сицилии мало-помалу стала образовываться очень хитрая и запутанная сеть тайных заговоров и реакционерных попыток, существование которой стало ясно министерству только после кровавых происшествий в Кастелламаре близ Палермо[144].
Эти монахи и священники не выказывают никакой преданности к Бурбонам, не пропагандируют ни явно, ни тайно в их пользу – это бы значило раскрыть перед народом тайные свои цели и стремления, а следовательно загубить и все предприятие, за которое взялись они, конечно, не из-за мученического венца. Они гораздо умнее принялись за дело и – странно сказать – нашли очень сильную опору в управлении наместника и в центральном правительстве. Они понимают очень хорошо, что Сицилию возвратить к старому можно только силой, и потому стараются ослабить силы этого края, для того чтобы в случай какой-либо реакционерной попытки, иметь дело исключительно с регулярной армией, а министерство, конечно в других видах, делает то же самое. Эти бескорыстные деятели реакции с одной стороны хотят напугать министерство и заставить его обратить еще больше внимания на подавление в Сицилии того, что им может помешать при исполнении их патриотических замыслов; а с другой стороны они силятся возбудить борьбу партий в народе, восстановить его окончательно против туринского правительства, заставить его сделать какую-нибудь отчаянную сепаратистскую попытку, и тогда уже захватить его врасплох.
Чтобы достигнуть своей цели, они как нельзя лучше подделываются под наклонности и требования народа и разыгрывают перед ним очень длинные комедии с переодеваниями и другими театральными эффектами, в виде пролога к приготовляемой ими трагедии. На маленьких площадках и в загородных садиках Мессины и Палермо не раз видел монахов, собиравших вокруг себя целые кучки любопытных слушателей; эти почтенные отшельники говорили своим слушателям очень трогательные речи, показывали красные гарибальдийские рубашки, носимые ими под рясой, и прочее.
Сицилианцы держатся крепко. Каждый месяц почти появляются здесь новые патриотические общества и комитеты, стремящиеся больше всего к тому, чтобы выяснить самым низшим классам народа его настоящее положение, чтобы поддержать в нем его преданность Италии. Трудами патриотического палермского комитета, в Английском саду этого города поставлен мраморный памятник Гарибальди[145]. Открытие его было очень торжественно, но обошлось очень мирно, безо всяких кровавых случайностей, которых обыкновенно следует ожидать при подобных обстоятельствах. Торжество это было несколькими днями позже реакционерной попытки в палермском Кастелламаре, но воспоминание о столь недавнем кровавом событии не помутило всеобщего праздника.
Известиями о кровавых событиях палермского Кастелламаре полны все журналы. Между тем этот факт не представляет особенной важности. Бурбонские высадки в Сицилии начались со времени наместничества делла Ровере – что показывает, что правление предшественников его, не меньше, как и его собственное, приготовило Сицилию к этим нападениям. Я с своей стороны готов совершенно освободить генерала делла Ровере и его предшественников ото всякого обвинения на этот счет: сицилианское наместничество было и с самого начала своего пустой формой, а октябрьскими декретами у него отняты были последние остатки жизни и значения. Вина генерала делла Ровере, что он смотрел и не видел, что делалось вокруг него, или видел, но не понимал. Генерал делла Ровере не находил реакционеров в Сицилии, и принимал за народный костюм маскарадное платье.
Теперь генерал делла Ровере уехал из Сицилии; наместничество этого острова существует только по наружности, так что его гораздо удобнее можно считать вовсе не существующим. Желания министерства достигнуты. А лучше ли пошли от этого дела? Кастелламарская высадка не ответ ли на это?
Заключу словами г. Криспи: «Там, в самой средине Средиземного моря кроется тайна судеб Италии».
[Гарибальдиец]
Сиена, 20 (8) января 1862 г.[146]
Чезаре Бальбо
I
Восемнадцатый век на поприще политической литературы в Италии обозначает собой рубеж или перелом, весьма интересный и назидательный во многих отношениях. Мы обратим внимание только на одну особенно выдающуюся черту его: а именно, с концом XVIII столетия политическая мысль в Италии утрачивает свою самобытность, которую мы пытались обрисовать в предыдущих очерках[147]. Сильный импульс, данный итальянской гражданственности политическими бурями и треволнениями XIII–XV вв., очевидно, истощился среди безотрадного гнета, наступившего здесь с испанским завоеванием.
С другой стороны, с XVII столетием Галилей открывает для итальянской пытливости новое поприще. В течение всего XVIII в. деятельность чисто-научная, по-видимому, совершенно поглощает собой лучшие интеллектуальные силы страны. По крайней мере, история этого времени не дает нам ни одного политического имени, которое заслуживало бы чести быть сопоставленным с именами Мальпиги, Гальвани, Вольты[148] и столь многих других, обогативших великими открытиями ту или другую из отраслей естествознания…
Эти соображения заставляют нас прекратить на Кампанелле ряд наших очерков политической литературы в Италии.
Мы начнем новый ряд этюдов с того времени, к которому относится начало либерально-унитарного движения, столь недавно увенчавшегося, на наших глазах, неожиданным успехом.
По всеобщему признанию даже крайних итальянских патриотов, толчок или повод к национальному пробуждению дало нашествие французов с Наполеоном I. Таким образом, почти насильственно пробужденная Италия уже более не возвращается к своему вековому сну, когда утихает буря, поднятая во всей Европа великой французской республикой и вышедшей из нее империей. С тех пор и по самое присоединение Рима к объединенному итальянскому королевству, политическое движение здесь не прекращалось. Мы обратим внимание на одну только литературную сторону этого движения, а потому пропустим здесь даже такого почтенного патриарха итальянского возрождения, каков был Мадзини, стяжавший главнейшим образом свою славу на политическом, а не на литературном поприще.
Интеллектуальное движение, предшествовавшее событиям 1789 г. во Франции, было исполнено мирового значения: в сравнении с ним итальянская политическая жизнь этого времени столь бледна и ничтожна, что подпадение итальянской политической литературы под французское влияние представляется нам фактом весьма естественным и не нуждающимся в объяснениях. Возьмите любого из немногих ломбардских, тосканских или неаполитанских публицистов этого времени, и вы увидите, что лучшие из них только пытаются акклиматизировать в своем отечестве идеи и начала, выработанные Жан-Жаком Руссо, физиократами или энциклопедистами. Весьма немногие успевают сделать самостоятельный шаг вперед хотя бы только в применении и дальнейшем развитии изчужа заимствованных ими принципов. В числе этих немногих с особым почетом следует упомянуть Чезаре Беккарию[149], столь много сделавшего для применения гуманных начал к уголовной практике. Остальные, – часто при замечательной силе личного дарования и при чувстве национальной гордости, развитом иногда до абсурда, – остаются рабскими копистами чужеземных образцов. Ненависть против французов, которой так щеголял, которою прославился Альфьери, очевидно, не имеет себе другого источника, как оскорбительное для его национального самолюбия сознание невозможности высвободиться из-под французского влияния.
То обстоятельство, что Италия самым своим пробуждением обязана событиям, корень которых принадлежит французской истории, естественно должно было только усилить и упрочить эту умственную крепостную зависимость. Даже подражание другим чужеземным образцам (английскому и немецкому) не освобождает итальянскую мысль от французских оков. При этом должно заметить, что английское и немецкое влияние заметны здесь исключительно на беллетристическом поприще и что Фосколо, ознакомивший впервые итальянскую публику с байронизмом и с воззрениями немецких философских школ, мало находит себе подражателей: вальтер-скоттовское направление, начатое Алессандро Манцони, быстро перерождается в чисто-французский пустозвонный жанр a la Dumas[150].
Наконец, достаточно заметить, что сам Мадзини, этот italianissimo[151]по преимуществу, платит обильную и слишком очевидную дань якобинскому идеалу единой и нераздельной демократической республики и еще более существенным образом вяжется с родоначальником всех идеалистически-реформационных сект – Жан-Жаком Руссо.
С Наполеоном I установляется фактическая связь между политическими судьбами Италии и Франции, и с падением Наполеона I связь эта не исчезает: всем известна роль, которую итальянские карбонары играют во французском государственном перевороте июля 1830 г., точно также как и влияние, в свою очередь, оказанное на итальянские дела орлеанской революцией, а позже событиями 1848 г.
Если мы распространялись о том влиянии, которое Франция оказывает на Италию в первой половине текущего столетия, то это потому, что оно играет очень существенную роль в деятельности всех без изъятия итальянских публицистов периода борьбы за национальное освобождение.
Чезаре Бальбо[152], которому мы посвящаем этот первый очерк, может быть, менее всех других своих собратий отражает на себе это чуждое влияние; или, по крайней мере, на нем оно заметно менее, чем на других. Политический вождь узко-национальной итальянской партии (прозванной нео-гибеллинами в pendant[153] нео-гвельфам, предводительствуемым аббатом Винченцо Джоберти), Бальбо всего себя посвятил на служение тем эфемерным политическим интересам, которые на первый взгляд легко могут показаться совершенно реальными, вытекающими из глубоких потребностей народной жизни и принадлежащими исключительно тому времени и той местности, в которой они возникают.
А между тем Чезаре Бальбо, уроженец Пьемонта (т. е. именно той местности, которая представляет собой как бы переходный член от Италии к Франции), большую часть своей жизни провел не только во Франции (это бы еще ничего не значило), но на французской службе в Италии. Потомок аристократической семьи, он предназначал себя к ученому поприщу и изучал астрономию; но при посещении Наполеоном Италии, не достигши еще двадцатилетнего возраста, он, по увлечению, вступает на императорскую службу. Впоследствии Чезаре Бальбо сам отрекается от воззрений, которыми он руководился во время своей молодости; свою приверженность к французскому владычеству в Италии и к наполеонидам называет увлечением[154]. Увлечение это было, однако же, довольно продолжительно и оставило глубокие следы на всей жизни и деятельности разбираемого нами публициста.
II
Мы не намерены рассказывать здесь всю политическую и дипломатическую карьеру графа Бальбо. Заметим только, что он в течение нескольких лет с ряду был членом различных французских государственных учреждений в Тоскане, в Риме и в Париже. – После падения императора Бальбо, очевидно, остается верен бонапартизму; будирует реставрацию, отказывается от довольно важного дипломатического поста при дворе Людовика XVIII и отправляется в качестве незначительного чиновника при пьемонтском посольстве в Испанию. Эта, по-видимому, ничтожная подробность получает, однако же, некоторый вес, если вспомнить, что Испания в эпоху реставрации, была центром и рассадником либерального движения на весь романский мир. Правда, выбор, сделанный Чезаре Бальбо, может быть объяснен чисто-домашними обстоятельствами: посланником Виктора-Эммануила I[155] в Мадриде был граф Просперо Бальбо, отец Чезаре.
Так или иначе, роль политического агента сардинского правительства скоро надоедает нашему публицисту. Он возвращается в Турин и вступает в армию, которая тогда значительнейшим образом состояла из наполеоновских ветеранов и нетерпеливо ждала случая поднять знамя восстания.
Случай, как известно, не заставил себя долго ждать. Сигнал к борьбе подала Испания, откуда только что вернулся Чезаре Бальбо 1 января 1820 г. Капитан Риего, во главе сильного войска, провозгласил в Андалузии конституцию, которую Фердинанд VII тотчас же признал… Движение это тотчас же отразилось и в Италии; на сторону его стала значительная часть армии, в которую только что поступил Чезаре Бальбо. В Неаполе генерал Попе, в Генуе капитан Пальма не замедлили провозгласить себя сторонниками испанской конституции. Виктор-Эммануил I не принял никаких мер к подавлению восстания, а немедленно отрекся от престола в пользу своего брата, Карла-Феликса[156], известного своим крутым нравом и своей приверженностью к старому государственному порядку. Но Карл-Феликс был в это время в Модене, и Виктор-Эммануил, за его отсутствием, передал регентство молодому кариньянскому принцу Карлу-Альберту[157], которого дружеские сношения с генуэзскими заговорщиками не подлежат никакому сомнению.
14 марта новый регент издал нижеследующую прокламацию:
«В столь трудную минуту, как переживаемая нами ныне, мы не можем удержаться в узкой роли регента, нам предоставленной. Наша глубочайшая преданность его величеству Карлу-Феликсу побуждаете нас воздержаться от всяких коренных изменений государственного строя, или, по крайней мере, обождать его присутствия для их осуществления. Но, с другой стороны, обстоятельства требуют немедленного решения; и мы хотим передать новому монарху народ благополучный и благоустроенный, а не истощенный междоусобиями и неурядицей. По зрелом обсуждении и руководясь мнением нашего государственного совета, мы решили, что испанская конституция будете принята за основание государственного права нашей страны».
Затем следует заявление надежды, что король одобрит эту меру, и оговорки на счет тех изменений, которые Карл-Феликс сочтет нужными сделать в этом декрете.
Карл-Феликс не поспешил, однако же, своим возвращением в страну, ждавшую его как своего правителя. 3 апреля он из Модены ответил на манифест регента нижеследующим посланием:
«Долг всякого верноподданного требует добровольного подчинения тому порядку, который утвержден в государстве Богом и верховной властью. Вследствие этого, мы, принимая верховную власть только в силу Божией милости, не поддадимся ничьим посторонним внушениям касательно тех средств, помощью которых наш народ должен быть приведен к своему благополучию. Всякий, кто осмелится роптать против мер, которые мы заблагорассудим принять, перестанет считаться перед нами за верноподданного. Мы ждем заявления со стороны нашего народа его верноподданнических чувств, прежде чем вернемся в нашу столицу».
В то же самое время король назначил военно-судную комиссию, которая должна была судить конституционалов, как изменников. Семьдесят три из 170 подсудимых были приговорены этой комиссией к смертной казни…
Карл-Альберт поспешил отправиться в Модену; но король не захотел его принять, а моденский герцог велел ему немедленно удалиться из своих владений.
Ходили слухи, будто Карл-Феликс вступил в переговоры с Австрией о том, чтобы навсегда отстранить своего племянника от наследства сардинского престола в пользу герцога моденского; но за кариньянского принца вступился Людовик XVIII. Однако-же, для заявления чистосердечного своего раскаяния, Карл-Альберт должен был отправиться в качестве простого капрала с французской армией, отправлявшейся в Андалузию для приведения в подчинение Фердинанду VII испанских конституционалов. Самым знаменательным следствием этого похода была песня, сочиненная Беранже, «Ordre du jour»:
Mon ancien, qu’a donc fait l’Espagne? – Mon fils, elle ne veut plus qu’aujourd’hui Ferdinand fasse périr au bagne Ceux-là qui se sont battus pour lui. Nons allons tirer de peine Les moines blancs, noire et roux, Dont on prendra la graine Pour en replanter chez nous[158].Какую роль играл Чезаре Бальбо в событиях, которые мы рассказали в конце предыдущей главы? Это не представляет достаточного интереса. Дело в том, что перед лицом Карла-Феликса он оказался скомпрометированным и вынужден был искать убежища во Франции. С другой стороны, мы знаем, что Бальбо не был в числе зачинщиков или руководителей движения.
Время своего изгнания Бальбо посвятил немногим литературным работам чисто беллетристического характера, не замечательным ни в каком отношении. Из его записок мы узнаем, что он употребил эти годы на пополнение многочисленных пробелов, оставленных его слишком рано прерванным образованием. Он вознамерился посвятить себя преимущественно изучению итальянской истории с древнейших времен и собирал материалы для большого исторического сочинения. В свет он издал, однако же, только перевод Тацита.
Вот как он сам объясняет побуждения, заставившие его обратиться к изучению национальной истории:
«Бесполезно жаловаться на неудовлетворительность настоящего; надо уметь изменить его там, где оно зависит от нас. То же, что мы не можем изменить на деле, мы должны, но крайней мере, уметь удовлетворительно объяснить с точки зрения разумной и обыденной национальной политики. В стране, которая, подобно Италии, распадается на множество государств, хотя бы все эти государства держались представительной системы правления, – истинная национальная политика не может быть создана ни парламентскими ораторами, ни журнальными публицистами. Такую политику могут создать только писатели, глубоко изучившие политический механизм и умеющие собрать в одно стройное и строго обдуманное целое разрозненные результаты частных стремлений и исследований, многочисленные поучения, вытекающие из исторических примеров… Вы одни можете создать ее, молодые итальянские писатели, родившиеся в более счастливое время, чем мы, – в то время, когда вы не только можете свободно и беспрепятственно высказывать свои мысли, но когда перед вами уже ясно определилась цель, к которой вы должны стремиться. Прекрасная цель: свобода и независимость…
…Только то единичное или коллективное существование почтенно, которое неуклонно и настойчиво преследует какую-нибудь благую цель. Для всякой нации такой целью должна быть ее национальная политика…
Что касается собственно значения истории в подобном деле, то я весьма желал бы избежать той педантической склонности к преувеличению значения своего дела, которая вообще свойственна людям, долго занимавшимся одним предметом. Я не считаю историю за наилучшую школу для людей и для народов; я думаю, что из жизни непосредственно и те, и другие могут почерпнуть еще больше полезных уроков. Но где политической жизни нет (а Италия, в сожалению, находится именно в этих условиях), история дает единственную прочную основу для национальной политики… Политика не может основаться на одних теоретических соображениях, как бы хороши и глубокомысленны они ни были сами в себе. Для каждой страны политик всего прежде должен принять в расчет ее естественные условия: климат, почву, близость морей и пр. Затем, множество условий, созданных человеком, – как, например, крепости, дороги, каналы, портовые и большие города, в свою очередь становятся как бы естественными условиями. Точно также предки оставляют нам в наследство предания, нравы, воспоминания, имена, которые все привходят, как элементы, в сложное здание нашей исторической действительности. История есть как бы реестр, в котором помечены все эти условия и вытекающие из них отношения. Из нее мы узнаем, каким образом в различных случаях были приводимы в действие эти многосложные пружины, – эти естественные и искусственные элементы, – пассивные и активные силы страны…
…Я нахожу, что страна, не имеющая истории (как, например, Америка), находится в более выгодных условиях: у нее есть вовне люди и свежие силы, и нет освященных временем нелепостей и предрассудков; ее взоры, за неимением прошлого, устремлены только вперед. Но народ, который имеет историю и не знает ее, находится в самом невыгодном положении, какое только можно себе вообразить… Бесплодно было бы отрешаться от условий, среди которых слагается наше существование: надо владеть ими для того, чтобы из более разумного их сочетания сделать возможным лучшее будущее»[159].
Мы не побоялись привести эту длинную выписку, во-первых, потому, что она позволит нам впоследствии воздержаться от частых ссылок на разбираемого автора; во-вторых, и главнейшим образом, потому, что она, по нашему мнению, в значительной степени рисует литературный и интеллектуальный характер этого родоначальника и вождя той унитарной итальянской партии, за которой, в конце концов, осталась фактическая победа. Бальбо принадлежит к числу тех тяжеловесных и солидных натур, которых достоинство заключается не в разносторонности и богатстве мотивов и побуждений, не в размашистости и смелой самобытности мысли, а гораздо более в искренности и твердости убеждения, – в известной целостности, не допускающей разлада мысли и дела. Таким натурам ничто не дается легко; зато они крепко стоят за однажды добытое и, приняв один определенный строй, не изменяют его до самого конца своей жизни. Каков человек, таков и слог его: чуждый риторики и многословия, не лишенный известной глубины и некоторого оригинального сурового оттенка, Чезаре Бальбо очень поздно, т. е. уже более чем пятидесяти лет от роду, выступает на ту публицистическую дорогу, на которой он прославился; но зато он выходит на нее уже во всеоружии, твердо обозначив для себя самого не только свою главную цель, но и те чисто практические политические средства, при помощи которых он надеется дойти до ее осуществления. Этой своей законченности и определенности, не оставляющей ничего недосказанным, он обязан значительной долей своего успеха…
Впрочем, приводя здесь строки, написанные нашим автором почти накануне 1848 г., мы впали в анахронизм, для сглажения которого мы должны вернуться к историческим событиям того времени.
В 1831 г., т. е. тотчас после июльской революции в Париже и в самое время восстания в Романиях, экс-карбонарий Карл-Альберт сменяет на пьемонтском престоле Карла-Феликса. Слишком известны те надежды, которые были пробуждены в сердцах итальянских патриотов его восшествием на престол. Мадзини пишет вдохновенное письмо новому королю, прославившему свое кратковременное регентство 1821 г. смелым, хотя и неудачным подвигом[160]. Известно также, что надежды эти не осуществились: первые пятнадцать лет царствования Карла-Альберта не ознаменовываются решительно ничем и, по всей справедливости, могут быть названы продолжением царствования его предшественника. Из этого, однако же, не следует заключать, будто надежды итальянских патриотов были лишены всякого основания.
Венский конгресс создал для Сардинского королевства такое положение, которого неустойчивость была чересчур очевидна для каждого, мало-мальски способного понимать немногосложный механизм международных и политических отношений. Будучи поставлен в непосредственные и ежедневные столкновения с Австрией, сардинский король должен был или утратить всякую свою самостоятельность перед лицом этого сильного соседа, постоянно вмешивавшегося в его дела и часто даже требовавшего территориальных уступок, или же опереться на враждебный Австрии итальянский национальный элемент и в его содействии найти силу, достаточную для того, чтобы противостоять Австрии с некоторой вероятностью успеха. Эта необходимость лавировать между двух опасных рифов существовала и для предшествовавших королей Сардинии, но для Карла-Альберта самая возможность дальнейшего лавирования значительно затруднялась тем, что в Вене не доверяли его раскаянию, несмотря на все его геройские подвиги в качестве гренадера при осаде Трокадеро, – одного из фортов Кадикса, в котором заперлись испанские конституционалисты[161].
Несмотря на эту трудность, Карл-Альберт в течение пятнадцати лет делает геройские усилия, чтобы продолжать безжалостную внутреннюю политику своего дяди, имевшую девизом доводить в своих владениях абсолютизм до таких размеров, в которых он решительно несовместим с требованиями нашего времени. Ошибочно было бы приписывать эту политику личным склонностям короля. Это была первая из уступок, требуемых от него Австрией, для которой необходимо было иметь право сказать итальянским националистам: «Вы ропщете на чужеземное владычество, но сравните цветущее положение Ломбардии, под нашим управлением, с бедствиями и угнетением Пьемонта».
Чтобы объяснить себе политику Карла-Альберта, надо вспомнить, что король этот, в бытность свою наследником, успел хорошо узнать положение дел и настроение партии в своем государстве. Он видел, что конституционалисты и карбонары, с которыми он некогда вступил в добровольный союз, утратили уже всякую силу и с каждым днем выдыхались все более и более перед лицом «Молодой Италии», против которой оказывались бессильными все преследования и «строгости». Принять же союз национальных итальянских сил в той форме организации, которую давал им Мадзини, король считал для себя еще опаснее, чем остаться лицом к лицу с своим врагом, т. е. с Австрией. Среди таких условий король прибег к тому, к чему вообще прибегают лица, когда не могут найти рационального выхода из трудного положения – в рутине.
Рутина же привела его в тому, в чему она вообще приводит людей, т. е. на край гибели. В 1846 г. умер папа Григорий XVI и на папский престол был избран кардинал Мастаи-Ферретти, ознаменовавший свое вступление некоторыми благими начинаниями. Этого обстоятельства оказалось совершенно достаточно для того, чтобы нанести роковой удар застою во всех итальянских государствах, в том числе и в Пьемонте. Восшествие Пия IX на престол открывало для итальянских патриотов перспективу осуществления их стремлений не революционным путем. Итальянское общественное мнение жадно хватается за эту вновь открывшуюся возможность. Перед пьемонтским королем возникает новый опасный соперник в лице римского святого отца.
В самом Пьемонте аббат Винченцо Джоберти воскрешает старую гвельфскую доктрину св. Фомы Аквинского, желавшего объединить всю Италию под духовным верховенством папы. Джоберти издает свою книгу о «Верховенстве Италии» (Primato d’Italia), а вслед затем своего «Новейшего иезуита», – написанных с замечательным дарованием памфлетиста и приноровленных как нельзя лучше к тогдашнему настроению общественного мнения всей Италии. С эклектической ловкостью, изобличающей в нем слишком тесное знакомство с французской философией своего времени, Джоберти обходит все трудности, вытекающие из несовместимости фанатических стремлений средневекового католического монаха с требованиями новейшей цивилизации. Амальгамируя Руссо и св. Терезу, Ламенэ и Гизо[162], он создает заманчивую картину католической демократии, примиряющую суеверие католических монастырей с требованиями политического равноправия и прогресса, заставляющую закоренелых вольтерьянцев и демагогов лобызать апостольскую туфлю наместника св. Петра с восторженным криком: «да здравствует Пий IX!»…
Среди таких-то, пагубных для савойской династии обстоятельств, Чезаре Бальбо встает в первый раз во весь рост, со всей своей, на долгом досуге приобретенной, исторической и политической эрудицией…
III
Литературная известность Бальбо начинается с 1839 г., т. е. несколько раньше, чем нео-гвельфское движение в Италии достигло до своего апогея. Однако, его первый шаг на публицистическом поприще есть уже полемика против возрождающегося демократического папизма.
Если уже в XIV столетии Данте мог составить против теологической политики св. Фомы Аквинского неотразимый обвинительный акт и подавить его клерикально-демократический идеал своим гибеллинским идеалом благоустроенной светской монархии, то в половине XIX в., задача, взятая на себя Чезаре Бальбо, с теоретической точки зрения не должна бы представляться особенно трудной. Но не надо забывать, что имена нео-гвельфов и нео-гибеллинов, – св. Фомы и Данте, – не более, как классические прозвища, довольно удачно придуманные для обозначения современного рода борьбы, – борьбы насущной, будничной, политически мелочной и отнюдь не теоретичной. Сила обоих лагерей черпается вовсе не из возрождения классической аргументации отживших мировых идеалов. Сила их заключается в умении найти практический компромисс между тогдашним положением Италии, невыносимость которого слишком живо сознавалась общественным мнением, и между теми решительными революционными путями к выходу, которые предлагал Мадзини.
Некоторые, чисто-практические, трудности ставились Чезаре Бальбо именно теми, чью защиту он брал на себя. Когда, в конце тридцатых годов, Бальбо приходит в сознание, что уже не время более заниматься солидными историческими изысканиями, что эфемерное публицистическое поприще манит к себе все интеллектуальные силы страны, – и когда он, наконец, решается выступить на это поприще, – он находит его загроможденным всякого рода цензурными препятствиями. Сознательно преследуя политическую цель, Бальбо должен, однако же, своему сочинению придать чисто-литературную форму, чтобы сделать его доступным для читателей. Он начинает свое поприще трактатом о Данте и его «Божественной комедии» с поэтической и исторической точки зрения.
Надо сознаться, что с точки зрения пропаганды тех политических начал, которые выработал себе граф Бальбо и которые, под названием «национальной политики», он хотел положить в основу итальянского либерального движения, выбор предмета не мог быть удачнее. Данте дает ему возможность возражать одновременно и республиканцам, которых он считает за опасных для народного дела утопистов, и нео-гвельфам. Кроме того, республиканская пропаганда в Италии слишком успешно эксплуатировала исторические предания своей страны, начиная от Брута и кончая Мазаниелло. Чезаре Бальбо избирает своим героем едва ли не единственную монархическую славу Италии и, под почетным флагом творца «Божественной комедии», пускает в свет свою собственную политическую доктрину.
У Данте Бальбо заимствует собственно только его основной монархический догмат (unum porre est necessarium[163]) и положение о том, что верховная власть, долженствующая положить предел внутренней неурядице и политическому угнетению Италии, должна быть светской (а не духовной), организованной сообразно с принципом аристократии заслуг и достоинств, и вместе с тем способной совершенствоваться. Но в то же время Бальбо укоряет Данте за отсутствие в нем националистического итальянского элемента и за его часто-бесцеремонное отношение к папству.
От сочинения более литературного, чем политического, нельзя требовать строгой определенности относительно заключавшейся в нем политической программы, особенно, принимая во внимание неблагоприятные условия, среди которых находилась итальянская пресса того времени. Но, с одной стороны, тогдашняя итальянская публика обладала в высшей степени уменьем читать между строк. С другой стороны, Бальбо говорил тоном человека, твердо убежденного и хорошо знающего, чего он хочет. Таким образом, с выхода в свет этого первого его замечательного произведения, его литературная и политическая репутация уже упрочилась. Партия приверженцев представительной формы правления и с тем вместе национального освобождения Италии, только что потерпевшая решительное поражение с неудачей моденского, а позднее анконского восстания, признала в Чезаре Бальбо своего вождя и обновителя.
Тем не менее, по издании в свет своего трактата о Данте, Бальбо снова сходит на несколько лет с публицистической арены.
В 1846 г. в Лозанне вышла его история Италии, начиная с древнейших времен и кончая 1814 г. Бальбо неоднократно говорил, что лучшей его мечтой во времена молодости было создание национальной итальянской истории. Мы знаем также, что он лучшую часть своей жизни провел в собирании материалов для этого капитального труда. Его «Storie d’ltalia», изданные книгопродавцем Буонамичи в Лозанне, не представляют, однако же, осуществления этой задушевной мечты, а скорее служат указанием на то, что он отказался от ее осуществления. В самом деле, – говорит автор в своем предисловии, – для Италии наступают такие времена, когда добросовестным гражданам становится не до кабинетных исследований. Самому Бальбо было уже в это время около шестидесяти лет от роду (он родился в 1789 г.), а потому нельзя не сознаться, что он поступил весьма благоразумно, не откладывая в долгий ящик издания в свет тех, хотя бы и не вполне удовлетворительных результатов, которые он добыл многолетним трудом.
Оценить на немногих страницах сочинение столь объективное и столь обширное по своему содержанию, как «Итальянская история» Чезаре Бальбо, конечно, невозможно. Скажем, что она и до сих пор еще считается в Италии за образцовое сочинение и что успех ее, при ее первом появлении в свет, был весьма замечательный; в самый непродолжительный промежуток времени, т. е. до. 1853 г., она выдержала пять изданий. Несомненно, что некоторые из недостатков этого сочинения, может быть, еще больше, чем самые его достоинства, послужили поводом в этому успеху. Нельзя не счесть за недостаток подобного труда то, что личность автора, его политические симпатии и стремления играют на его страницах гораздо более видную роль, чем историческая истина. В последующих изданиях автор сам считает нужным оговорить эту выдающуюся сторону своего произведения:
«Многим может показаться, что, издавая по возможности сокращенный учебник итальянской истории, я должен бы был воздержаться от изложения в нем собственных своих взглядов и воззрений. Но я считаю решительно невозможным писать не только историю, но хотя бы простые хронологические таблицы, не высказывая при этом с большей или меньшей ясностью собственных своих воззрений и склонностей. Недаром Наполеон говорил, что даже числа и запятые отражают на себе убеждения писавшего их[164]. Да, кроме того, мне кажется, что именно при кратком и сжатом изложении фактов всего необходимее дополнение их личной оценкой и соображениями автора… Мое руководство предназначено не для ученых, не для литераторов, а для тех, которых образование не вполне закончено, т. е. для самой многочисленной и самой деятельной части публики. Мог ли я упустить столь удобный случай оказать на умы своих читателей то влияние, которое всегда оказывает на них писатель с искренними убеждениями и горячо преданный своему делу!.. Пусть моя книга будет слишком исключительным плодом своего времени. Что касается до истории (и я желал бы, чтобы читатели и писатели, критики и цензоры глубоко прониклись этим), – то ее нужно либо вовсе задушить, либо же предоставить ей быть отражением не только того времени, про которое она говорит, но также и того, в которое она пишется»[165].
В другом предисловии к одному из позднейших изданий Бальбо высказывает сожаление о том, что краткость заставляет его слишком часто придавать своим суждениям и приговорам о событиях и людях такую абсолютность и резкость, которое сам он не придает им в своем сознании.
Излагать содержание этой истории мы, конечно, не станем. Об общем же характере труда читатель, кажется, легко составит себе некоторое понятие из того, что здесь уже сказано о книге и об авторе. Бальбо, очевидно, не принадлежит к числу тех обширных умов, которые открывают перед публикой новые горизонты. Но он мастерски умеет собрать разрозненные элементы исторической картины в одно стройное целое и осветить их так, что читатель непременно заметит те их стороны, на которых автор хочет сосредоточить его внимание. Вопросы исторического метода, как и вообще чисто-теоретические, научные вопросы, для Бальбо не существуют. История в его руках не наука (он сам говорит это), а только орудие политической пропаганды, и должно сознаться, орудие весьма мощное. Бальбо пишет историю по французским образцам, но образчиком ему служил не Гизо, которого лекции об истории цивилизации Европы и Франции так высоко ценили Мадзини и Гверраци. Бальбо сам указывает нам свои образцы в Миньё и в Боссюэте[166].
Политический идеал, проповедуемый Бальбо в его истории, есть та же конституционная монархия, которую он уже вскользь очертил в своем трактате о Данте, – но монархия не по английскому и не по дантовскому образцу, а скорее наподобие наполеоновского цезаризма с легким аристократическим и весьма сильным военным оттенком. «Было бы пустым тщеславием, говорит он в своей автобиографии, гордиться своим происхождением из семейства, известного уже в древнем Риме; но я не поступлюсь другой фамильной славой, а именно тем, что пятьдесят членов нашей семьи легли костьми на полях Леньяно» (где ломбардцы одержали победу над войсками Фридриха Барбаросса)[167].
Основной мотив итальянской истории, благодаря которому она стала настольной книгой целого либерального итальянского поколения, без различия политических партий, составляет ее неподдельная любовь к национальной независимости. Ее он возводит в догмат, и ради нее он готов жертвовать всем решительно. Для Бальбо независимость составляет ultima ratio[168], нечто, не требующее никаких пояснений и дополнений. Его вечный упрек славным итальянским предкам заключается в том, что они, в вечной погоне за гражданской свободой, утратили национальную независимость своей страны. Погибель Италии, по его мнению, имеет своей единственной причиной раздоры муниципалитетов и кичливость итальянских республик. За это он однажды навсегда устраняет возможность республиканской формы правления в возродившейся Италии. В особенности сильна его ненависть к тосканской демократии XVI в., вовлекающая его в мелочную борьбу против героев, триста лет тому назад покончивших свое земное странствие. Так, например, известно, что время падения итальянской независимости привыкли считать с завоевания Флоренции войсками Карла V. Но это значит придавать флорентийской демократии слишком высокое значение, и Бальбо лезет из кожи, чтобы показать неосновательность такого летосчисления. Из того же самого источника проистекает недоброжелательство Бальбо против Макиавелли, которому он едва уделяет в своей истории несколько строк…
IV
Появление в свет третьего замечательного сочинения Чезаре Бальбо вполне равнялось политическому событию. Сочинение ее носит смелое название: «Надежды Италии» и есть как бы свод политической доктрины автора.
Из записок Мадзини, Брофферио, Сантарозы[169], самого Бальбо и многих других мы знаем, что Карл-Феликс довел притеснение печати в своих владениях до такого предела, о котором не имеют даже понятия жители других, хотя бы и весьма несвободных государств. Достаточно сказать, например, что в его время были запрещены всякие без исключения литературные периодические издания. Мадзини в Генуе был вынужден прикрывать формой каталога книжных магазинов беглые заметки об итальянской и иностранной литературе, с которых он начал свое публицистическое поприще. Карл-Альберт в этом отношении, как и во всех других, до 1847 г. продолжал политику своего дяди. История Бальбо, – как уже сказано, – была отпечатана на вольной швейцарской почве, и итальянское общественное мнение ставило в немаловажную заслугу ее автору то, что он имел смелость оставаться после ее выхода в свет в сардинских владениях.
Бальбо, однако же, повел свою смелость еще дальше: он хотел во что бы то ни стало издать новое свое сочинение («Надежды Италии») в самом Турине, понимая очень хорошо ту особую прелесть, которую получит в глазах современных ему читателей первое свободное слово, сказанное на итальянской земле человеком, не считающим за нужное оградить себя от могущих возникнуть для него неприятных последствий. Правда, все то, что по искреннему убеждению говорил Бальбо, служило в пользу Карла-Альберта и савойской династии гораздо лучше, чем все, что могли бы сказать по этому поводу подкупные литературные агенты. Но при тогдашнем порядке вещей это еще не представляло для Чезаре Бальбо гарантии против преследований. Сказанное в пользу Пьемонта ео ipso[170] было нападением против Австрии, и, пока Карл-Альберт держался в покорной роли наместника венского двора, не могло быть сомнения, что он, – даже если бы пожелал, – не мог оградить своего апологиста от австрийской мстительности.
Чтобы исполнить свой план, Бальбо должен был получить особое разрешение короля. Здесь кстати заметить, что между Карлом-Альбертом и Бальбо с давних пор существовали близкие отношения, впоследствии ставшие почти дружескими. Одно из позднейших изданий истории Италии снабжено нижеследующим посвящением:
«Памяти моего короля Карла-Альберта посвящаю я этот труд, исполненный среди волнений и надежд, возбужденных его великим предприятием. Да будет это поздним для него выражением моей благодарности и моей преданности, оставшимися неизменными среди смут, ошибок и раздоров; еще усилившихся со смертью этого мученика нашей национальной независимости, – этой последней жертвы итальянских несогласий».
Точно также и Чиро Менотти в Модене был другом герцога. Это, однако же, не спасло его от австрийской петли.
Нет ни малейшего сомнения, что ни личные связи Чезаре Бальбо с королем, ни его выгодное положение при туринском дворе не доставили бы ему желаемого разрешения, если бы Карл-Альберт не был уже доведен в это время до той крайности, о которой мы уже говорили по поводу избрания на папский престол Пия IX.
Благодаря, однако ж, этим условиям, книга Бальбо действительно была отпечатана в Турине. Таким образом, она собственно обозначает собой поворотную точку в политике пьемонтского короля: с выходом ее в свет начинается разрыв между Веной и Турином. В самом деле, впоследствии ничтожное столкновение по таможенному вопросу дает повод облечь этот разрыв требуемой дипломатической формальностью.
«Надежды Италии» представляют собою полный свод и как бы руководство той «национальной политики», о которой Бальбо так много говорит в предисловии к итальянской истории и которую он прикрывает почетным именем дантовского гибеллинства. Книга эта, весьма обильная политическим значением, может быть рассматриваема с весьма различных точек зрения, но ни в каком случае не с научной и не с чистолитературной. Всего точнее, она есть прямой ответ на «Primato d’ltalia» аббата Джоберти, составлявшую как бы кодекс нео-гвельфизма, и в то же время полемика против Мадзини и «утопистов», с которыми Бальбо полемизирует всегда, о чем бы он ни говорил.
Бесспорно, самый лучший из полемических приемов заключается в заимствовании у своих противников того, что, не будучи неразрывно связано с целой их системой, служит существенным элементом их успеха. Бальбо отлично пользуется этим приемом. Краеугольным камнем популярности «Молодой Италии» и нео-гвельфизма была их пропаганда национального освобождения. Бальбо в своем идолопоклонстве пред итальянской независимостью превосходит и тех, и других. Одним из существеннейших догматов учения Бальбо был конституционализм – принцип представительства. Но там, где дело касается независимости, Бальбо не задумывается пожертвовать и им. «Предположим, что от произвола итальянских государей зависит принять или не принять принцип представительства – должно ли желать, чтобы они его приняли? Будем говорить откровенно (parliamo schietto). Если они примут этот принцип, то разве это не может послужить источником новых опасностей, разочарований, пожалуй, даже отвлечь от главного дела – независимости. В таком случае я не задумаюсь назвать этот переход вредным»[171].
Самый свой монархизм Бальбо подчиняет условиям борьбы за независимость; но так как именно с точки зрения этой борьбы превосходство монархического начала не подлежит, по его мнению, никакому сомнению, то он и ставит его вне вопроса, ограничиваясь простым отрицанием революционных средств и республиканской организации.
Рядом с вопросом национальной независимости мадзиниевская программа ставила вопрос политического единства, решая его абсолютно и в самом резком реформационном смысле. Программа нео-гвельфов на этот счет гораздо неопределеннее. Правда, Джоберти распространяется о верховном главенстве папы, но он в то же время не упускает случая воскурить и Карлу-Альберту хвалебный фимиам и ни слова не говорит о той политической форме, в которую должно вылиться римское церковное преобладание.
Бальбо в своих «Надеждах» решает без обиняков вопрос единства отрицательным образом. Он не верит в возможность единого итальянского королевства при тех раздорах и при том разнообразии условий общественного быта, которые до сих пор еще существуют в Италии. Кроме того, он считает в высшей степени неполитичным возбуждать этот вопрос в то время, когда нужны соединенные усилия всех итальянских государей для того, чтобы освободиться от иностранного владычества. Италия должна принять строй федерации, в которой «Пьемонт будет меченосцем, Рим – сердцем». Федерированные итальянские государи должны суметь «поднять народное благосостояние на такую высоту, чтобы отнять у Австрии всякую возможность соперничать с ними, и, таким образом, приготовить тот вожделенный час, когда они оставят Италию, довольствуясь территориальными вознаграждениями за счет Турции»[172].
Несмотря на это недвусмысленное решение у Бальбо унитарного вопроса, в идеале он все-таки остается унитарием, принимая федерацию, как вынужденную уступку обстоятельствам. При господстве парламентской системы управления во всех федеративных государствах и при благоразумной свободе прессы (без которой Бальбо считает парламентаризм совершенно немыслимым) в Италии, по его мнению, не замедлит возникнуть некоторое сильное, единомыслящее большинство, которое и совершит требуемое объединение путем мирной пропаганды. Без возникновения такого большинства Бальбо считает возникновение итальянской национальности неосуществимым.
«Я считаю несерьезными и основанными на случайности, – говорит он, – те надежды, которые в деле итальянского возрождения возлагаются на одного какого-нибудь государя или государственного человека».
Бальбо осторожно обходит вопрос о великом значении «Молодой Италии» или о всесветном «верховенстве» ее, потому что его отношение к этому предмету легко могло бы задеть стихийное самолюбие итальянских масс. Собирая его отрывочные замечания по этому вопросу, мы приходим в заключению, что Бальбо не давал места этому поэтическому и льстивому элементу в своих воззрениях. Так в одном месте он говорит, обращаясь в итальянской образованной молодежи:
«Наш народ не лучше и не хуже других цивилизованных народов; правда, он более страстен и менее других освоен с представительной формой правительства. Но и то, и другое – беда поправимая. Вы одолеете страсть рассудком, лишь бы только в вас была охота рассуждать. Вы победите невежество наукой, если только вы сумеете должным образом направить ваши труды и затем изложить их результаты в форме искренней, простой и энергичной… Только не увлекайтесь несбыточными надеждами и не робейте перед призрачными угрозами: и то, и другое – порождения лености, препятствия, поставляемые лицемерием всякому плодотворному труду».
В другом месте он выражается еще определеннее. В первом предисловии к своей истории, желая убедить своих читателей в справедливости своего положения о том, что «счастье всегда склоняется на сторону того, кто умеет настойчиво идти до конца по однажды избранному пути», он ссылается на пример Америки, Пруссии, Англии и Франции, силой своей политики стяжавших себе верховенство в политическом мире. «Для нас, – продолжает он, – речь идет пока еще не о том. Мы слишком далеки от подобной доли. Нам надо помышлять не о том, чтобы вырвать пальму политического первенства у тех, кто держит ее теперь. Нас ждут более скромные, хотя и не менее доблестные победы. Свобода и независимость для нас нужнее, чем господство над миром; но мы их не добьемся никогда, если не сосредоточим на этой борьбе все наши умственные и интеллектуальные силы. Посмотрите на пример Испании… Или, еще лучше, посмотрите на ваше собственное политическое существование в течение последних четырнадцати веков и почти что до настоящей минуты».
Таким образом, и при всем своем исключительном национализме, Бальбо, однако ж, заботится не о том, чтобы изолировать Италию среди какого-то мистического величия, а о том, чтобы вовлечь ее в общий поток европейской цивилизации.
Черта, которой Бальбо всего резче отличается от националистов мадзиниевской школы, это – его решительно консервативное направление, доводимое им иногда до крайности. По вопросу папства Бальбо, не менее чем сам Джоберти, остается правоверным сыном Ватикана. Он ни на минуту не подвергает сомнению необходимость сохранения в римских владениях светской власти пап; но он хотел бы, чтобы правительство Церковной Области преобразилось согласно светскому идеалу конституционной монархии. Этим он и отличается довольно существенно от нео-гвельфов, желавших всю Италию подчинить теократическому римскому господству.
Ахиллесову пяту теорий Бальбо составляет его крайний милитаризм – результат молодости, проведенной в школе и под обаянием Наполеона I. Впрочем, желая сделать борьбу против Австрии делом исключительно правительственным, в принципе отвергая в этом деле всякое патриотическое содействие народных масс, Чезаре Бальбо весьма естественно должен был прийти к преувеличению военных функций государственности… Заметим, что, начиная с самого Макиавелли, едва ли хоть один из апологистов итальянской независимости не сетовал на упадок в своих соотечественниках воинственного духа. Но Макиавелли писал о необходимости заменить кондотьеров отрядами вооруженных граждан; Мадзини проповедовал партизанские банды и даже оставил сочинение о партизанской войне в применении в итальянской территории. Чезаре Бальбо хочет солдат, и именно таких, какие нужны были Наполеону. В бытность свою председателем кабинета пьемонтских министров, в самую критическую эпоху, – весной 1848 г., – Бальбо оставляет Турин и министерство, чтобы отправиться в действующую армию с тремя своими сыновьями и в качестве бригадного генерала принять участие в ничтожном сражении при Пастренго[173]…
Если из всего, сказанного выше, читатель не составит себе вполне определенного понятия о причинах, обусловивших блестящей политический успех и громкую известность Чезаре Бальбо, то мы постараемся в немногих словах пополнить здесь оставленный нами пробел. Бальбо первый заговорил о национальном освобождении Италии языком простым, ясным и вполне удобопонятным для каждого, как о деле будничном, так сказать, практичном. Он отрешил это великое дело от той мистической, восторженной обстановки, которую оно имеете в творениях лучших итальянских патриотов и публицистов нового времени. Он сумел обратить в свою пользу весь тот пыл благородных порывов, который пробудил Мадзини своей «Молодою Италией», но направил этот пыл на тот путь «благоразумной середины», на котором не требовалось от его агентов ни великодушия, ни геройских порывов, а только известной доли здравого смысла, – качества несравненно более распространенного, чем те республиканские добродетели, на которых строил свое величавое здание генуэзский агитатор. Бальбо не оставил по себе величавой доктрины национального возрождения; но он первый задумал начертать род удобоисполнимого политического рецепта, по которому, без особенных, затрат, так сказать, домашними средствами, мог быть приведен в исполнение план, отвечавший самым настоятельным требованиям итальянского народонаселения. Короче говоря, Чезаре Бальбо в действительности создал ту консервативную партию итальянского объединения, которая, тем или иным путем, благодаря многим непредвиденным, но благоприятным случайностям, в конце концов все-таки довела свою ладью до благополучной гавани.
Быть может, Чезаре Бальбо той ролью, которую он разыграл в итальянской борьбе за независимость, обязан не одним только своим достоинствам, но, в значительной степени, также и выгодному своему общественному положению. Тем не менее, благодарное отечество зачло ему все его заслуги и почтило его памятником, воздвигнутым в 1856 г. (три года спустя по смерти Бальбо) на одной из площадей Турина. И оно было право: Карл-Альберт долго бы колебался в выборе между цепями Австрии и итальянской свободой, пока последняя представлялась ему в революционном плаще заговорщика «Молодой Италии». Но когда он облекся в генеральский мундир и принял графский титул в лице Чезаре Бальбо, то колебания короля исчезли сами собой. Едва убедившись в существовании за собой сколько-нибудь значительной монархически-национальной партии, Карл-Альберт, не задумываясь, бросает перчатку Австрии и, весною 1848 г., тому же самому Бальбо поручает составить первое в Пьемонте конституционное министерство.
Деятельность Бальбо, как председателя пьемонтского кабинета, не входит в рамки этой статьи. И благо, потому что этот почтенный публицист и добросовестный кабинетный мыслитель оказывается крайне плохим политическим деятелем. Его аристократический темперамент, – если не убеждения, – оказывается совершенно несоответственным с требованиями и духом того трудного времени; и вскоре Бальбо вынужден передать свой портфель аббату Джоберти, которого министерство носит название «демократического», в отличие от гибелинского кабинета его предшественника.
Министерская деятельность Бальбо может служить некоторым доказательством неудовлетворительности его политической программы. Это, впрочем, не умаляет его публицистических заслуг: он указал новое направление итальянскому национальному движению. При этом не могли замедлить явиться люди, которые бы пополнили пробел и исправили недостатки своего родоначальника. Таким исправителем и пополнителем программы Бальбо явился Даниеле Мании с своим «духовным завещанием», – талантливый трибун, но решительно ничем не заявивший себя как мыслитель.
В этом новом своем виде программа Бальбо становится достоянием графа Кавура, которого сам Бальбо, так сказать, возвел на министерские кресла в 1858 г. и которого удачная политическая деятельность слишком хорошо всем известна.
[Э. Денегри][174]
Раттацци
Неожиданное назначение Раттацци представителем Итальянского кабинета обратило всеобщее внимание на эту во многих отношениях интересную личность. Урбано Раттацци – одна из знаменитостей 1848 года. В тогдашнем перевороте он играл далеко не последнюю роль; но репутациям того времени теперь не много доверяют, к тому же обстоятельства его вступления в министерство поставили во враждебные отношения к нему почти все партии и их подразделения, а потому от него ждут мало хорошего и много дурного. Насколько основательны эти опасения – покажет будущее. Не имея пока для оценки стремлений нового министра положительных данных в настоящем, считаем не лишним обратиться к его прошлому, чтобы знать по крайней мере, что такое было Раттацци в других случаях. Теперь ему 52-й год, а в этом возрасте человек редко изменяется, даже на поприще дипломатии и высшей политической деятельности.
Удача редко была на стороне командора в течение всей его трудной карьеры. Общественное мнение видит в нем невольную, но тем не менее действительную причину политических бедствий Италии с самого начала 1849 г., хотя командор миролюбивого нрава и никогда не командовал даже взводом берсальеров и, вообще, не вмешивался в военные дела ни под каким предлогом; его же считают виновником плачевной Новарской битвы. В настоящее время обвинения со всех сторон сыплются на бедного министра: одни упрекают его за оппозицию Кавуру, другие за дружеские отношения к тем, с кем бы ему в качестве итальянского политического деятеля, следовало, по их мнению, находиться в непримиримой вражде. Неудача выборов 1857 г., позднее присоединение Тосканы и Эмилии, бездна других неудач – все идет здесь под его именем; его административная деятельность 1859 г. дает повод к полдюжине других серьезных обвинений. Предоставляю г. Гверрацци (известному любителю этого рода сочинений) читать апологию нового министра, но не могу не спросить, отчего это все теперешние укоризны, основанные на фактах из прошлого, не слышались прежде? Отчего администрация Раттацци в 1859 г., если она действительно была такова, какой ее рисуют, не вызвала в свое время протестов? Ведь не из страха же перед властью, которой был облечен тогда командор: итальянская оппозиция если не без упрека, то по крайней мере без страха… А в истории Италии за последние 14 лет имя Раттацци встречается на каждом шагу и тесно связано со многими из ее важнейших эпизодов; несколько раз он являлся министром, два раза – главой кабинета; не один год председательствовал в сардинских палатах, едва образовался итальянский парламент, тотчас был выбран президентом. Карл-Альберт рекомендовал его своему преемнику, как человека достойного занимать самое видное место в кабинете. Между Виктором-Эммануилом и Раттацци до сих пор продолжаются дружеские отношения, которые должны бы служить сильным аргументом в пользу нового министра… Повторяю, не мешает заглянуть в его прошлое.
I
До издания статута Карла-Альберта, Раттацци был просто адвокатом, как и большая часть теперешних итальянских министров и администраторов. Родом он из небогатого семейства, жившего в Алессандрии, неподалеку от Турина, работал прилежно и имел много клиентов. Деятельный и по темпераменту, и по необходимости, он мало принимал участия в событиях предшествовавших мирной революции 1848 г., хотя и был довольно близок с людьми, ставшими впоследствии опорой нового порядка. Вообще, как кажется, Раттацци более занимал вопрос о внутренних преобразованиях Сардинии[175], чем унитарные стремления, существовавшие тогда еще в виде утопий. Осенью 1847 г. во время знаменитого аграрного конгресса, он принимал некоторое участие в составлении адреса, который был подан королю вместе с просьбой об учреждении национальной гвардии. Но вслед за обнародованием статута Алессандрия выбрала Раттацци своим представителем и, едва вступив в парламент, он уже нашел употребление своим ораторским способностям. После миланских Пяти дней, Ломбардия выразила желание присоединиться к Пьемонту, но требовала, как непременного условия, конституционного собрания, которое занялось бы изданием для соединенного королевства нового статута. Это требование встретило упорное противодействие со стороны туринской муниципальной партии, и таким образом, с самого начала блестящего предприятия Карла-Альберта, внутри его собственной страны, готов был возникнуть раздор, который при тогдашних отношениях Италии к остальной Европе мог иметь дурные последствия. Субальпийский парламент[176] находился в затруднении; в Турине волновались при одной мысли, что столица может быть перенесена в Милан; ломбардцы, с своей стороны, раздраженные и напуганные встреченными препятствиями, еще настоятельнее требовали собрания, готовясь в противном случае отказаться от присоединения; Пьемонт, с одними собственными силами, едва ли мог даже подумать о войне с Австрией: катастрофа казалась неизбежной…
В таких-то обстоятельствах выступил Раттацци с своим примирительным влиянием. Дело было нелегкое. Ломбардцы стояли крепко; мало того, в Милане с каждым днем приобретала все более и более силы партия, считавшая гораздо выгоднее присоединиться к римскому триумвирату, или к венецианской республике, чем к Пьемонту. Раттацци был назначен в совет, который решал вопрос. Испуганные ходом дела, товарищи вверились ему совершенно. Среднего выхода не было; Раттацци решился выбрать из двух зол меньшее, из опасностей – слабейшую. Рассчитывая на любовь к порядку туринского населения, на его отвращение к уличным вымогательствам, он решился исполнить требование ломбардцев. Ответственность Раттацци принял на себя, и совет подписал закон в пользу ломбардцев. Расчет Раттацци оказался очень верен. Пинелли[177], тоже адвокат, давнишний, еще судебный враг Раттацци, потом его постоянный политический противник, в ту минуту один из коноводов муниципальной партии, ответил оскорбительной для джунты, и в особенности для Раттацци, брошюрой. «Гг. советники», говорил он в заключение: «не хочу клеветать на вас; готов верить, что вы не изменили присяге государству и королю, но не могу признавать вас ни государственными людьми, ни политическими деятелями, понимающими нужды и пользу отечества».
Брошюра разошлась в Турине в большом количестве экземпляров, но тем и кончилась оппозиция муниципальной партии. Кавур отстал от нее, туринские жители сочли за лучшее поверить красноречию Раттацци, так как иначе приходилось взяться за оружие. В парламенте закон был принят большинством, и дело кончилось мирно.
Эта кабинетная война, без сомнения, самый важный эпизод из первоначальной политической жизни и самого Раттацци, и субальпийского парламента, открыла командору широкую дорогу. Раттацци был предложен портфель народного просвещения, единственный, случившийся тогда вакантным, который Раттацци и принял. Министерство держалось, впрочем, недолго: поражение сардинцев под Кустоцой и перемирие в Саласко[178] дали новое значение консервативной партии. Карл-Альберт не считал, однако, себя побежденным и воспользовался перемирием для того чтобы собраться на весну с силами для новых попыток против Австрии. С началом зимы парламентская оппозиция приобрела уже достаточный вес. Раттацци был одним из ее вожатых. В январе 1849 г. попробовали преобразовать министерство в духе крайней левой партии. Кандидатом с ее стороны был Раттацци, консерваторы предлагали Джакомо Дурандо[179]. Большинство оказалось в пользу последнего, но разница голосов была незначительна, и несколько дней спустя, министерство «посредничества и необходимости», как его называли, пало. Оппозиция, став положительной силой, поручила состав нового кабинета Винченцо Джоберти, и одним из первых вошел в него Раттацци.
Назначение Джоберти было уступкой Пьемонта настроению умов остальной Италии. После перемирия Саласко, многое изменилось; движение приняло иной характер. Первенство Пьемонта несколько поколебалось влиянием мадзиниевского триумвирата и Гарибальди в Риме, и Манина в Венеции. В Неаполе, Фердинанд II явно ждал лишь случая переменить политику; в Тоскане, хотя Леопольд II и оставался верен своим утешительным обещаниям, однако все более и более значения приобретал Гверраци. Чтоб избежать всякой внутренней вражды, которая была бы гибельна и для Пьемонта, и для всей Италии, решились прибегнуть к содействию везде популярной партии Джоберти. Но и новое министерство оказалось непрочным. При том усиленном волнении партий, которое впоследствии ускорило поражение Карла-Альберта и дальнейшие победы австрийцев, не могло быть ничего твердого. Ввиду успехов демократии Леопольд оставил Флоренцию, и Гверраци остался во главе временного правительства, место которого скоро занял триумвират, состоявший из него же, Монтанелли и Маццони. Тоскана сделалась новым центром движения. Можно было опасаться, что Пьемонт потеряет то первенство, на которое он имел полное право, начав дело и вынесши почти на себе одном все тяжести войны прошлого года. Джоберти был готов послать помощь Леопольду против тосканцев, забывая, что это повело бы к усобице, в то время как единство и согласие были всего нужнее для Италии и когда сам он объявил, что военные действия против Австрии должны начаться немедленно по окончании перемирия. Он распорядился отправлением войска в Ливорно, но палата единодушно воспротивилась этому. Джоберти подал в отставку; Раттацци и все члены кабинета последовали его примеру. Карл-Альберт поручил составление нового кабинета Раттацци. Он не отказался, и это дало повод к разнообразным толкам насчет искренности его отношений к павшему министерству. Никакая человеческая сила не могла тогда удержать или изменить по-своему ход обстоятельств. Вся Италия требовала войны; да и без этого война была неизбежна. Еще за несколько месяцев перед тем, бывший тогда министром Перрон так изображал положение Италии английскому и французскому посланникам: «Мы должны приготовиться к большей катастрофе, чем мартовские события прошлого года. Правительство не может избегнуть кризиса, не подвергаясь само всякого рода опасностям».
Вскоре после этой ноты, в палате был поднят вопрос о войне по поводу пылкой речи депутата Буффа[180]: самые робкие выказали тут воинственное расположение. Граф Кавур, бывший тогда во главе умеренных, прямо говорил, что война неизбежна. Военный министр Дабормида[181] уверял, что войско совершенно оправилось от предшествовавшего перемирию поражения. Министр внутренних дел, Пинелли, враг Раттацци, отвергал примирительные попытки Франции и Англии. «Примирения быть не может, доказывал он: потому что Австрия отказалась дать прямой и удовлетворительный ответ на наши предложения; потому что условия перемирия были самые незаконные и приняты только по необходимости и на время; потому, наконец, что мира не хочет Италия!»
Раттацци понимал положение Италии. Это было ни война, на мир. Не было надежд и тревожных ожиданий военного времени, но Пьемонт нес на себе всю тяжесть последствий недавней кампании. Лучшие силы народа гибли в бездействии и в пустых волнениях; торговля остановилась, промышленность также, а финансы были обременены военными расходами, Между тем, ломбардские эмигранты разжигали народный энтузиазм жалобами на австрийское иго, и требовали войны во что бы то ни стало. Сам король-мученик, как звали Карла-Альберта, высказал в порыве рыцарского увлеченья, что всякое замедление будет предательством относительно угнетенной провинции.
В Тоскане и Риме делались грозные приготовления. «Решайтесь, пожалуй, на мир, мы избираем войну», писал в парламент триумвир Брофферио. Такой лаконизм был многозначителен. Малейшая проволочка грозила решительным ударом первенству Пьемонта. Умеренное парламентское большинство единодушно подало голос за войну. Когда, всеобщей подачей голосов, спросили мнение населения, нация отвечала королю следующим адресом: «Да подкрепит вас, государь, всеобщая преданность. Смело примите войну. Мы к ней готовы. Доверьтесь нашему оружию и святости вашего предприятия».
Война была решена без Раттацци, и решена так, что ему не оставалось выбора. Но ему пришлось издать манифест об ее объявлении, и на него пала тяжелая ответственность. Сардинская армия отправилась выжидать австрийцев у Боффалоры на По. Те, однако же, сверх ожидания, переправились через эту реку у Павии и шли на Сфорцеску. Карл-Альберт сам не был во главе войска. Известие о неожиданном движении австрийцев застало главнокомандующего врасплох. Навстречу им был послан сильный отряд, а центр армии отправился для задержания врага в Новару. Разбив итальянцев при Сфорцеске и при Мортаре, 23 марта австрийцы пришли в Новару…
Их 57 000-й корпус стал в свернутых колоннах на небольшом пространстве, тогда как 80 000 итальянцев растянулись линией в несколько миль длины. Они первые начали атаку, и до 4-х часов постоянно имели перевес. Но Радецкий пустил резервы, которые тотчас переменили ход дела. Итальянцы дрогнули; один центр еще держался крепко: им командовал Виктор-Эммануил, бывший тогда герцогом савойским. К вечеру пьемонтская армия отступила в самый город. Держали военный совет. Итальянские генералы объявили единодушно, что нет никакой возможности к дальнейшему сопротивлению. Карл-Альберт отказался от престола и бежал в Португалию. А ответственность за все несчастья, из которых многие были неизбежны, многие зависели от плохой военной администрации и от несогласия партий, пала на Раттацци.
Виктор-Эммануил вступил на престол в то время, когда Пьемонт почти не существовал уже в виде отдельного государства. С обеих сторон ему грозила окончательная погибель. Австрийские войска заняли Алессандрию, и если не пошли дальше, то лишь потому, что интересы остальной Европы не дозволили им вполне воспользоваться победой. Общественное мнение и во Франции, в Англии далеко не было, однако же, в пользу Италии и Пьемонта. Внутри королевства сильнее чем когда-либо бушевали партии. Революция в Генуе не могла быть подавлена без особенно энергических мер. С другой стороны, реакционная партия усиливалась и готовилась прибрать к рукам всю страну. Глава кабинета Делоне[182] мало внушал доверия. Тех отношений между королем и народом, которые впоследствии дали Пьемонту такую силу, не существовало и тени. Парламентские заседания проходили в мелочной и ожесточенной борьбе двух крайних сторон; ни большинства, ни центра не существовало. Крайняя левая сторона открыто клонилась на сторону римского триумвирата и осуждала робкую, по ее мнению, политику Карла-Альберта, его страх перед свободными учреждениями средней Италии. Гордый ответ короля французской республике, Italia /ard da se[183], служил поводом к еще большим упрекам. Крайняя правая сторона требовала коренного изменения статута в смысл реакции. И та и другая одинаково не доверяли новому правительству. В таком положении Делоне не предпринимал ничего, и кто знает что было бы дальше, если бы внутри самых партий не случился раскол? Граф Кавур, принадлежавший с своими друзьями к правой стороне, составил новую переходную партию под названием правого центра. По образцу его, Раттацци, прежде приверженец левой, образовал левый центр, к которому примкнули многие из пользовавшихся авторитетом членов. В программе новой партии Раттацци объявил, что он по-прежнему остается верен началам оппозиции, во что и самые лучшие политические принципы не всегда могут быть немедленно приложены к практике, что не во всякое время истина может быть полезна, что в политике главное – благовременность, и что поэтому он, хотя и предан прогрессивным началам крайней левой стороны, но считает обязанностью помогать каждому шагу парламента на пути улучшений. Крайняя левая сторона провозгласила его отступником и предала анафеме; крайняя правая, не видевшая спасения Пьемонту вне строго-муниципального устройства, обвиняла его в честолюбивых замыслах. Один Кавур был доволен, предвидя возможность скорого союза между левым центром и правым, и образование, таким образом, парламентского большинства, которое дало бы, наконец, возможность предпринять что-либо для радикального улучшения политического положения Пьемонта.
В сущности, обе новые посредствующие партии мало разнились одна от другой, и обе желали союза. Кавур и его партия были представителями старой аристократии, имевшей тогда еще большое значение в Пьемонте, но готовой уступить свои наследственные привилегии, а Раттацци с левым центром представлял новую буржуазию, готовую в свою очередь стать менее требовательной и от многого отказаться. Их соединенными усилиями был вызван министерский кризис. Новый кабинет составился под председательством Массимо д’Азелио. В состав его вошли и Кавур и Раттацци, – первый министром торговли, второй юстиции, а скоро за тем и внутренних дел. Кавур, конечно, имел особенное влияние и употреблял его на то чтобы скорее вызвать соединение партий. Скоро министерство д’Азелио вступило в открытую борьбу с крайней правой партией по поводу закона о епископских судах, предложенного Раттацци, которого, кроме левого центра поддерживал еще и Кавур с своими приверженцами. Закон этот и теперь имеет силу в Итальянском королевстве, и польза его признана всеми. Даже и после обнародования статута, некоторые из духовных корпораций в Пьемонте, во главе прочих привилегий, имели право своего особенного суда во всех делах гражданских и уголовных. В свое время епископские суды принесли уже пользу тем, что сохранили для Италии и для Европы римское право, но с интересами настоящего времени такой порядок совершенно не сообразен. Предложенный Раттацци закон, уничтожавший привилегию духовенства, встретил сильное сопротивление со стороны клерикалов. В защиту его Кавур произнес речь, которая приобрела ему полное расположение левого центра. Кавур и Раттацци стали главной опорой министерства. В начале 1851 г. Раттацци высказал, в одном из парламентских заседаний, что правительство тогда лишь будет иметь действительную силу, когда «рядом со знаменем умеренности, поднимет знамя решимости и твердости, деятельности и прогресса», то есть когда решится наконец на существенные реформы в духе обоих центров. Кавур объявил с своей стороны, что если бы, почему бы то ни было, министерство оставило некоторые из задуманных преобразований, то он первый оставит кабинет. Это доказывает степень близости, которая существовала тогда между двумя предводителями центров. Не доставало только какого-нибудь события, которое вызвало бы их официальное соединение.
Благодаря Лудовику-Наполеону[184], случай к этому скоро представился. Произведенный им переворот во Франции отозвался во всей Европе. Надеясь воспользоваться им для своих замыслов, надеясь склонить нового диктатора на свою сторону, Австрия тотчас вошла с ним в сношения. Предлогом послужили промахи пьемонтских газет, которыми воспользовались венские дипломаты в виде аргументов против субальпийского парламента. Наполеон посоветовал Турину обратить особенное внимание на журналистику. Совет, конечно, имел значение требования. В декабре 1851 г. канцлер Де Фореста[185] предложил наскоро составленный закон о наказания всякого рода печатных оскорблений против иностранных государей. Крайняя левая пария встретила его самой постоянной оппозицией; Раттацци напрасно истощал свое красноречие, доказывая, что мера вынуждена самой настоятельной необходимостью и что правительство ни в каком случае не намерено, однако же, слишком поддаться ретроградным внушениям крайней правой стороны. Кавур видел, что необходимо его вмешательство, и со всеми приверженцами перешел на сторону левого центра, который составил таким образом значительное большинство. Присутствие Кавура придало совершенно новое значение левому центру, изменившему и самое направление свое несколько в смысле крайней левой, что еще больше увеличило его численный состав. Остальное сделали ретрограды. Менабреа[186] – главный из рыцарей и защитников реакции – выступал с требованием радикального изменения уложения о печати в ретроградном смысле, а также и того, чтобы закон Де Фореста, принятый с некоторыми ограничениями, был восстановлен в своем полном смысле. Министерство стало в открытую оппозицию против этого предложения и всей поддерживавшей Менабреа правой стороны. Так как еще не пришло время для полного разрыва, то решились попробовать примирение, а где дело идет о примирении, там на сцену всегда выходит Раттацци, обладающий даром сладко высказывать самые горькие истины. И Раттацци взошел на трибуну…
Речь его, конечно, украсит в любой хрестоматии отдел примирительного красноречия, но она не имела успеха, и понадобилось вмешательство Кавура; тем не менее Раттацци изъявил окончательное намерение содействовать министерству всеми силами своей партии. Правый и левый центры исчезли, и место их заняло довольно значительное большинство под предводительством Кавура. Раттацци остался при нем в качестве примирителя и домашнего оратора.
Новообразовавшееся большинство доставило ему вице-президентство в камере, а по смерти Пинелли он занял и председательское кресло. Вскоре между Массимо д’Азелио и Кавуром произошел разлад, начался министерский кризис, но кавуровское большинство было в то время уже сильно, д’Азелио подал в отставку, и место его занял Кавур, изменивший весь личный состав кабинета.
II
Войдя в кабинет вместо Массимо д’Азелио, Кавур не был намерен оставлять Раттацци президентом палаты и в 1854 г. предложил ему портфель министерства юстиции. Раттацци, вообще не охотник отказывать, принял. Очутившись снова в кабинете, он занялся законодательством, особенно слабой его стороной, привилегиями духовных корпораций, против которых восставал еще в первое время своей политической деятельности. Самый важный из фактов этой эпохи – проведенный им закон о монастырях, а теперь еще носящий его имя (Legge Rattazzi). Первоначальный проект Раттацци был слишком смел: он хотел присоединить монастырские доходы, имения и капиталы к государственным имуществам. Палата приняла предложение с восторгом, как решительный удар клерикальному могуществу, но в сенате явилось сильное сопротивление, едва не вызвавшее нового министерского кризиса. Общественное мнение не допустило кабинет до отставки, но тем не менее сам Раттацци согласился на некоторые уступки. Закон прошел в следующем виде: лежавшие на торговле и промышленности налоги в пользу монастырей и епископов – уничтожены, а монастырские имущества перешли в ведомство особой, совершенно независящей от светской власти, духовной администрации, под именем церковной казны – Cassa Ecclesiastica. Вообще во второе пребывание свое в министерстве, Раттацци выказал себя заклятым врагом духовенства, которое, в свою очередь, платило и ему, и правительству, и всему установившемуся порядку самой чистосердечной ненавистью. Унитарные стремления, благодаря Кавуру снова начинавшие приобретать в Пьемонте популярность, особенно вызывали вражду преданных Римской курии клерикалов, и они не стеснялись даже во время богослужения выражать ее оскорбительными выходками против правительства. Раттацци был вынужден предложить еще новый закон против них, именно дополнительную статью к уголовному кодексу, на основании которой подвергаются светскому уголовному суду те из духовных, которые во время богослужения сделают что-либо законопротивное. Дерзость духовенства нередко была поводом к беспорядкам в народе, все сознавали необходимость сдержать ее, и потому Раттацци нетрудно было провести закон без изменений. Но ретроградная партия ожесточилась. Парламентская левая также не могла простить ему произведенного внутри ее раскола. Несмотря на поддержку кавуровского большинства, оппозиция ретроградов и радикалов побудила Раттацци просить в 1857 г. отставки. Большинство поднесло ему благодарственный адрес, король написал очень благосклонное письмо, в котором говорил о своем расположении и как государя, и как честного человека, и Раттацци уехал за границу. По возвращении, его немедленно выбрали в президенты парламента.
Между тем, началась и кончилась итальянская кампания. Известие о Виллафранкском мире[187] повергло Италию в отчаяние. Приходилось расстаться с блестящими надеждами, пробужденными речью императора
Наполеона. Как это всегда бывает в подобных случаях, забыли все, что выиграли от последних событий, забыли Ломбардию, и думали только об одной Венеции, которая снова была осуждена на неволю. В Пьемонте боялись еще и того, чтобы вверившиеся его обещаниям провинции не обманулись в значении бездействия, на которое обрекали его обстоятельства, и не приписали унитарные стремления единственно его честолюбивым замыслам; боялись, чтобы влияние Пьемонта не погибло снова, как в 1849 г. Романья и герцогства Моденское и Пармское были в волнении; в Тоскане формировалась партия, желавшая независимого Этрусского королевства и готовая пригласить на его трон какого-либо из иностранных принцев. Если не численностью, то авторитетом составлявших ее лиц грозила партия, требовавшая конфедерации, а не полного административного и политического единства; Монтанелли писал свою брошюру о географических препятствиях. Между тем собирался Цюрихский конгресс. Решение судеб Италии перешло с поля битвы на поприще дипломатических ухищрений. Приходилось вступить в новые переговоры с врагом.
Кавур отправился на конгресс. Раттацци было поручено составить новое министерство. В это переходное время на долю кабинета выпадали трудные задачи. Чтобы принять их на себя при подобной обстановке, нужно было много самопожертвования, или уже особенная любовь к портфелю. Трудно сказать, что именно побудило взяться за него Раттацци. Впрочем, на первый взгляд задача казалась не трудной. Всех занимали внешние события; общественное внимание сосредоточивалось на Кавуре; с сердечным трепетом ждала Италия конца переговоров, во всем полагаясь на своего гениального представителя. Затем министерство, казалось, нужно было только для того, что нельзя же конституционному государству оставаться без министерства. Но едва принял бразды правления с Ламармора, как явились депутаты из Тосканы, Модены, Пармы и Эмилии, с требованием немедленного присоединения к конституционной итальянской монархии под скипетром королей Савойского дома. Их встретил в Турине всеобщей восторг. Положение Раттацци с самого начала становилось критическим. Отвергнуть желания провинций значило бы возбудить недоверие к себе и, может быть, даже волнение; удовлетворение его в ту минуту, когда уже начались переговоры и налаживался новый общеевропейский конгресс – могло повести к войне, к которой Италия была тем менее готова, что уступленные Пьемонту по Виллафранкскому договору ломбардские войска пока еще оставались в распоряжении императора… Среднего термина не было и Раттацци, теряя уже надежду выйти из трудного положения, – вероятно бы не вышел, если бы не встретил помощи со стороны Кавура, наблюдавшего издали за ходом дел в Турине, и со стороны Риказоли, бывшего тогда в числе депутатов.
Эта история едва не убила репутации министра; но едва трудный вопрос разрешился, и Раттацци с обыкновенной неутомимостью принялся за внутреннюю организацию, уничтожил между Пьемонтом и вновь присоединенными провинциями таможни, отменил паспортные формальности и т. д., – доверие к нему возвратилось. По части внутреннего устройства Раттацци сделал все, что можно было сделать в те трудные времена, но беда в том, что Италия нуждалась тогда в решении и иных важных вопросов, в которых Раттацци оказывался несостоятельным. Кроме того, он уже слишком пользовался тогдашним исключительным положением дел, дававшим ему право издавать законы без предварительного рассмотрения парламента. Сосредоточивая в своих руках три самые важные отрасли министерской деятельности, юстицию, внутренние дела и дела духовные и затеяв по всем управлениям существенные перемены, он торопился привести их в исполнение, так как по окончании конгресса, должен был потерять свою законодательную власть. В течение 4 месяцев явилось множество новых уложений. Высшая государственная администрация, провинциальное и общинное управления, счетная часть, уголовные законы, народное просвещение и всякого рода духовные и благотворительные заведения, городская полиция и пути сообщений, – всего коснулся неутомимый законодатель; многое, конечно, сделал бы он иначе, если б имел время обдумать, так что и тут не обошлось без промахов. Это министерство всего больше сгубило популярность Раттацци. Даже друзья его были вынуждены сознаться, что Раттацци добросовестный и просвещенный легист, но политическими способностями не блещет.
Между тем цюрихские совещания окончились, не решив самого важного для Италии вопроса – вопроса о присоединении герцогств и Романьи. Общественное мнение раздражалось замедлением развязки; министерство колебалось и, ничего не предпринимая, ожидало, что скажет предполагавшийся в Париже конгресс. Уступка Савойи и Ниццы, в которой Раттацци едва ли виноват хоть на волос, была также поставлена ему в упрек, и нападки по этому поводу были так сильны, что ему пришлось оправдываться в полном заседании палаты. Речь его произвела некоторое впечатление, но вообще говоря, общественное мнение объявило себя против него. Раттацци не совладал с трудностями своего положения и этим уронил себя в глазах Италии. Один Виктор-Эммануил по-прежнему относился к нему благосклонно и это служило поводом к новым обвинениям. Его удаление из министерства не произвело никакого впечатления. Тем не менее, при открытии заседаний первого итальянского парламента, его снова выбрали в президенты. В самом деле, Раттацци как будто создан для председательства. Он одарен весьма приятным, хотя и не особенно звучным голосом и умеет держать себя со всем достоинством, необходимым человеку, занимающему столь важное место. Его совершенно особенная, чисто парламентская деликатность и изящность манер, и главное, примирительные наклонности, заставляют даже врагов желать его президентства, тем более, что в течение всей своей парламентской жизни он ничем никогда не задел амбиции ни одного из ораторов, как бы они ни были неумеренны в мыслях и выражениях. Кроме того, Раттацци одарен вполне адвокатской, вразумительной логикой; никто лучше его не умел сразу понять сущность дела, часто очень запутанного красноречием спорщиков; никто не умел яснее, определеннее и короче составить важный протокол. Он ловко и вежливо прекратит ненужные толки и сведет прение на главную тему, с достоинством и с любезностью удержит слишком пылкий порыв оратора, редко прибегает к колокольчику и, в этом ему все единодушно отдают справедливость – не пользуется своим президентским авторитетом, ни для себя лично, ни для дружеских партий.
Тотчас по открытии парламента вслед за общими выборами, в палате было всего две партии; одна – значительное большинство, преданное Кавуру и составлявшее его настоящую силу, другая оппозиционная, далеко не имевшая того значения, которое имеет она в настоящее время. Правой стороны не существовало с самого вступления Кавура в министерство. Раттацци по обыкновению попробовал стать между этими партиями в качестве посредника или примирителя, и образовал свой кружок, конечно, не имевший ни программы, ни какого-либо политического значения. Из составляющих его лиц только предводитель выходил иногда на сцену с какой-нибудь красноречивой речью не совсем в пользу министерства и не совсем против него. Так шло до смерти Кавура. Когда он умер, некоторые по старой привычке обратились было к Раттацци, в котором всегда находили великодушную готовность вывести министерство из анархии и занять президентское место, несмотря ни на какие обстоятельства… Но эти некоторые не составляли уже сколько-нибудь сильного меньшинства. Кредит Раттацци был совершенно утрачен. К тому же дело шло уже не о том, чтобы место Кавура не оставалось не занятым. В преемники Кавуру нужно было дать человека, которому Италия могла бы довариться как покойному conte Camillo, а такого человека никто не предполагал ни в Раттацци, ни в одном из старых корифеев пьемонтского министерства. Новому времени нужны были и новые люди. Личность Риказоли невольно становилась на первый план. Правда, его мало знали вне Тосканы. Но слух о его деятельности во время последнего движения, услуги, оказанные им в трудном деле присоединения, его административные способности, о которых ходили самые благоприятные слухи, а более всего приверженность к нему тосканских депутатов – все на него указывало. Дело, конечно, обошлось не без оппозиции, однако же, уладилось. Раттацци по-прежнему остался президентом палаты.
Между тем министерская перемена вызвала перемену внутри самого парламента. Большинство продолжало поддерживать министерскую политику, так как пример Кавура доказал, что полное согласие между законодательной и исполнительной властью равно полезно и той и другой, но того безграничного доверия, которым пользовался Кавур, не было, хотя депутаты большинства при всяком удобном случае и подавали свои голоса за министерство. Сам Риказоли жаловался впоследствии на разногласие между официальным и личным мнением своих приверженцев. Обстоятельства поставили его в невозможность быстро и прямо идти к решению итальянского вопроса, как он обещал в своей программе и как действительно желал по внушениям своего рыцарского нрава.
Оппозиция, восставшая против Риказоли, неосновательно в отношении его медлительности, но не без сильных аргументов относительно его централизационной политики, скоро из силы отрицательной, стала вполне положительной. Положение партии Раттацци между двумя главными становилось уже не только бесполезными, но и невозможным, так как примирения между ними быть не могло, потому что дело шло уже не о том или другом из распоряжений министерства, но о смысле всех его действий. Раттацци не присоединился, однако же, ни к одной из них и нашел себе особый уголок.
Поставленный в необходимость поддерживать самые дружеские сношения с парижским кабинетом, Риказоли тем не менее вовсе не был расположен сделать Париж столицей Итальянского королевства. Враждуя против партии движения, он вовсе не был расположен прибегнуть относительно ее к каким-нибудь экстренным мерам; напротив, он желал предоставить ей возможно полную свободу. Благо Италии вовсе не требовало закрытия комитетов, и решиться на это можно было бы только в угоду Франции. Между Риказоли и тюльерийским двором существовали почти те же отношения, как между им и парламентским большинством. Французское правительство платило ему кажется тем же: оно неоднократно уверяло кабинет, что вполне им довольно, а после Constitutionnel и Patrie[188] радовались последнему министерскому кризису…
Об обстоятельствах, сопровождавших вступление Раттацци в министерство, я говорил уже в другом месте. Для того, чтобы составить какое-нибудь основательное мнение насчет политики нового кабинета, нужно подождать, чтобы кабинет окончательно установился; а в настоящее время он даже и не полон, да мало и надежды на скорое его пополнение. Для того же чтобы судить о новом итальянском министре, кажется, достаточно сказанного. Раттацци вовсе не из тех дорогих народу личностей, о жизни которых собирают все мельчайшие подробности. Биографических данных о нем немного, и самые важные из них я уже сообщил выше. Остается разве нарисовать портрет его, для тех, которые думают по наружности судить о характере человека. Наружность Раттацци впрочем не обманчива: маленькая, розовая фигурка, несколько плотная, с серенькими влажными глазками и белокурыми волосами, светлыми до такой степени, что в них нельзя почти заметить седины. Приятный, но не громкий орган голоса, изумительная обходительность – все в нем говорит об аккуратности и ловкости.
[Гарибальдиец][189]
Капрера
В Италии много есть мест, пользующихся всемирной известностью по связанным с ними историческим воспоминаниям и манящих к себе путешественников со всех концов света. Сами же итальянцы о них обыкновенно вовсе и не думают, за исключением разве классических чичероне, для которых эти географические знаменитости – хлеб насущный. Если бы Италия в настоящее время могла забыть и все свое блестящее прошлое, может быть, для нее было бы лучше; оно чересчур тяжелый для них теперь груз. Вообще прошедшее хорошо бы предоставить изнемогшим уже старикам, у которых в настоящем – подагра и ревматизм, в будущем – гроб: пусть бы рассказывали его детям, у которых ничего нет в настоящем, а в будущем – все.
Многие здесь и следуют моему глубокомысленному совету, не дожидаясь даже, чтобы я дал им его. Эти-то и относятся всего смелее к будущему, всего деятельнее в настоящем; а настоящее здесь стоит того, чтобы ему отдались вполне, забывая прошлое, хотя бы в нем было много истинно великого, дорогого сердцу каждого.
С этой стороны прошедшее Италии представляет большие выгоды: к нему не нужно относиться враждебно, да этого и нельзя бы было сделать; во-первых потому, что всякое прошлое дорого людям уже по одному тому, что оно прошло безвозвратно; и во-вторых потому, что итальянское прошлое действительно прекрасно, величаво, как античный барельеф. Его и следует сдать в музей на удивление иностранцам, на гордость потомкам и на пр. Даже и сторож этому музею представляется отличный в лице Массимо д’Азелио, инвалида итальянской литературы; он с особенной любовью ежедневно сметал бы пыль с этих драгоценных памятников, и продавал бы у ворот форестьерам[190] свои многотомные романы, до того уже успевшие изветшать в книжных лавках, что не поразили бы ничьи глаза даже среди египетских мумий.
Только новый министр Раттацци, если он действительно предан благу Италии, должен бы настрого запретить своим соотечественникам вход этого музея. Я не думаю впрочем, чтобы и без этого запрещения, то, что есть в Италии живого, стало бы толпиться в его залах; у них под рукой слишком много других знаменитостей, имеющих за себя все прелести новизны и жизни, которые не уложились бы ни в каком археологическом собрании.
В их числе, конечно, главное место занимает Капрера, маленький пустынный островок, в проливе св. Бонифачио, между Сардинией и Корсикой, о существовании которого каких-нибудь 20 месяцев тому назад едва ли кто знал в Италии, за исключением сардинских рыбаков. Теперь глаза всех обращены на нее, вся Италия у нее ждет решения своей участи. Все, что есть в Италии смело думающего, горячо преданного благу родины, отправляется на поклонение в Капреру, как правоверные в Мекку; самые иностранцы посещают ее далеко не с тем чувством холодного любопытства, с которым они посещают остатки древних амфитеатров и храмов[191].
Остров этот представляет не только то замечательного, что на нем жил Гарибальди, – в таком случай Palazzo Arigri[192] в Неаполе могла бы оспаривать его права на знаменитость. Но на Капрере Гарибальди дома; на ней все носит на себе следы его рук, его трудов; там везде и на все он положил свой, особенный отпечаток, и Капрера долго будет полна его именем, после того, как он оставит ее[193].
Местность этого острова дика, а все дикое теперь очень живописно: скалы моря, густая зелень дерев, насаженных руками самого Гарибальди – все то же, что и на всех других итальянских островах Средиземного моря. Что именно заставляет каждого, вступающего во владения Гарибальди, чувствовать себя среди совершенно новой для него жизни? Природа растительности слишком хорошо знакома всем и каждому, нет ни одного куста, имеющего хотя сколько-нибудь экзотический вид; стада волов пасутся на небольшом луге, с совершенно такой же тупой и хорошо всем известной физиономией, как и сотоварищи их в малороссийских степях; домик владельца, белый, каменный, в один этаж, архитектуры совершенно общей всем небогатым итальянским загородным домам и виллам…
Именем Гарибальди полна Италия, перед ним преклоняются все партии, даже самые враждебные по политическим видам и целям; он кумир и городского пролетария столицы, и бедного хлебопашца какого-нибудь захолустья горной Тосканы, до которого только оно одно и жило изо всей итальянской революции. Гарибальди, как политического деятеля, полного в своих убеждениях и преданного им со страстной горячностью, как смелого и гениального партизана, знает не только одна Италия. Но как человека здесь не знает его почти никто, потому что мало кому в голову приходило, что Гарибальди тоже человек, что он не весь живет в своих американских победах и геройских подвигах двух последних итальянских движений. Гарибальди так мало жил личной жизнью частного человека, что в Италии думают, будто у него нет и не было никогда потребности в ней. А между тем многое в нем заставляет предполагать, что он приносил тяжелые жертвы своим убеждениям, когда решался проводить всю свою жизнь то на военных кораблях, то на полях сражения.
Еще почти ребенком он бросил дом и семью, и принял деятельное участие в первом унитарном предприятии Мадзини, в то время, когда Карл-Альберт не смел еще произнести слово народности и поддерживал дружеские сношения с Австрией, против которой потом он хотел драться, в качестве простого солдата, в войске своего сына.
Это первое вступление Гарибальди на поприще политической деятельности окончилось очень неудачно и для Италии, и для него самого. С тех пор он должен был искать себе средств к жизни заграницей. Над ним почти постоянно висела самая страшная нищета; чтобы избегнуть ее, он должен был то давать уроки математики в Марсели, то торговать свечами в Нью-Йорке.
Его жизнь известна всем, и я не имею в виду писать его биографию[194]. Замечу только, что во время самых блестящих успехов своих в Америке, как и прежде, он постоянно думал только о том, чтобы употребить все свои способности и силы на пользу Италии. Едва дошла до него весть о первых событиях 1847 г., он вопреки всему оставил свою адмиральскую должность, забыл все личные соображения и расчеты, и отправился в Пьемонт, где был принят очень неохотно в действующую армию с чином полковника.
В 1849 г., спасшись почти чудом от печальной участи друга своего Басси[195] (расстрелянного австрийцами), он опять очутился без средств к существованию и провел почти 10 лет, то в фабрикации сальных свечей, то в плавании по морю с коммерческими судами и пароходами. И над ним постоянно тяготело одно – что главное его дело еще не сделано.
Наконец, по занятии Капуи итальянскими войсками (в ноябре 1860 г.), наступил для итальянского движения тот период, в который всякого рода «мошки да букашки» выползают из щелей, в которые они было попрятались на время грозы. Не желая быть зрителем этого необходимого, но очень печального эпилога к своей блистательной драме, сделав Италию, присоединив к скипетру Виктора-Эммануила более 10 миллионов граждан, чувствуя вместе с тем, что для Италии необходим отдых, по крайней мере на время, Гарибальди решился воспользоваться сообразно с собственными наклонностями предоставившейся ему свободой. Не требуя себе ничего в награду за свои подвиги, кроме только того, чтобы позабыли его до тех пор, пока он снова станет нужен для Италии, он отправился в маленькое свое имение на Капрере.
Там он в первый раз после очень долгого времени очутился среди небольшого кружка близких ему людей, среди тихой, спокойной жизни, и с полной возможностью предаться занятиям, к которым более всего склонен по натуре.
Гарибальди слишком молодым вырывался изо всякого общества и никогда потом в нем не жил, а потому он совершенно чужд обычаев его и предрассудков. Это единственный может быть в наше время человек без профессии, в полном смысле этого слова, не принадлежащий ни к одному из существующих социальных подразделений или сословий. Во всей его жизни у него было одно только близкое дело, почти ремесло – он сделал Италию – все остальное служило ему в виде необходимого – не для развлечения, а для пропитания себя и своего маленького семейства, препровождения времени. Если бы Гарибальди отправился во Францию, у него мог бы быть очень интересный разговор с сержантом пограничной стражи, так как на все вопросы, которые этот по обязанности службы предложил бы ему, у него был бы только один ответ: я Гарибальди, – и кто знает, удовлетворился ли бы им блюститель внутреннего благосостояния империи. Затем у Гарибальди нет даже национальности, так как со времени присоединения Ниццы к Франции, он уже более не итальянец, но быть французом до сих пор не изъявил ни малейшего желания.
Итальянское правительство приняло, впрочем, на этот раз необходимые предосторожности и прислало ему патент на чин генерала и диплом кавалера Савойского креста, с пенсионом в 1200 франков в год (300 руб. серебром). Не знаю, будет ли Гарибальди носить крест, но от пенсиона он уже отказался, как и ото всех предложенных ему правительством вспомоществований. На Капрере он не нуждается ни в документах, ни в деньгах. Доход его очень ограничен и достается ему нелегко, но его потребности еще ограниченнее – он живет, как достаточный крестьянин, оказывает охотно гостеприимство своим многочисленным посетителям, но не стесняется для них ни в чем, ни в занятиях своих, ни в образе жизни.
Только благодаря своим необыкновенным способностям, Гарибальди мог среди всякого рода тревог и треволнений своего прошлого приобрести то блестящее образование, которое в нем изумляет по преимуществу англичан, ожидающих встретить в нем только грубого и храброго гверильяса[196], – на деле он совершенно иное. В нем нет той начитанности, которую в обществе привыкли встречать сплошь да рядом; он и теперь очень мало читает, а прежде не имел даже возможности проводить много времени в этом занятии. Но, однако, все замечательные мыслители последних веков ему очень хорошо знакомы; он ничего не брал из них прямо, размышляя много, и до всех своих убеждений дошел сам. У него и нет никакой определенной теории в жизни, потому что он к теориям вовсе неспособен; то, что он раз сознал, он тотчас же прилагает к практике. Убежденный, что человек, не работающий сам, не имеет права пользоваться никакими доходами, он сам обрабатывает свою землю, прибегая к помощи наемных работников только там, где труда его собственных рук недостаточно. На Капрере у него живет несколько человек крестьян, с которыми он заключил совершенно новые для Италии условия.
Он встает с рассветом, отправляется вместе с своими работниками в поле; около полудня он отправляется на охоту, затем обедает, потом спит несколько часов, к вечеру опять отправляется в поле, и только по заходе солнца возвращается домой, и это единственное время, которое он уделяет своим друзьям и посетителям.
Первое время его пребывания на Капрере в домашних занятиях ему помогала дочь его, Терезита[197], вышедшая недавно замуж за одного из бывших его офицеров. Она теперь в Милане и отец остался один на Капрере, где, за ее отсутствием, обед ему приготовляет единственный его прислужник, живущий на правах домашнего друга. Обед у него не очень роскошный, но приготовленный чисто и хорошо; состоит по большей части из овощей, насаженных рукою самого хозяина, и из дичи.
Этот его образ жизни возбудил удивление в целой Италии, и может быть, даже не в одной только Италии; многим казался он слишком неестественным: одни желали видеть в нем протест против неблагодарности правительства, другие – желание отличиться во всем от большинства смертных. Оба эти предположения очень оскорбительны для капрерского помещика, но понять такие характеры, как его, способен не всякий, а Гарибальди нужно знать не только по имени, для того, чтобы видеть, что он ведет этот образ жизни единственно потому, что всякий другой был бы ему в тягость. Прибавьте, что во всем этом есть черта, очень редко встречающаяся в Италии, а именно, любовь к сельским занятиям, к земляной работе.
Италию, конечно, нельзя назвать страной земледельческой, а между тем в ней – в особенности в южных провинциях и в Нижней Тоскане – земледельчество играет слишком важную роль в жизни народонаселения. Земледельческие классы не только не пользуются здесь никаким уважением, но даже полным презрением со стороны горожан. Контадин – земледелец – здесь ругательное слово. Классы эти действительно здесь находятся в состоянии самого грубого невежества, а всего более в Тоскане, и поражают противоречием всему их окружающему.
В истории Италии сельское народонаселение не играло никакой роли, или по крайней мере играло очень пассивную роль. Во время борьбы муниципальностей оно держалось совершенно в стороне от политических событий и принимало с одинаковым враждебным равнодушием все возникавшие политические и административные перевороты. В это время успела уже до такой степени вкорениться здесь ненависть между городским и сельским сословиями, что позже, когда наступило время борьбы Италии с иностранными правительствами, сельское народонаселение только из ненависти к горожанам держало постоянно сторону этих последних. Оно и теперь еще в неаполитанских провинциях составляет последнюю опору тамошних Бурбонов. В Тоскане, где сословие это слишком задавлено и собственной тяжелой участью и в особенности развитой там муниципальной жизнью, оно не имеет никакой силы, а потому и не имеет вовсе никакого значения в настоящем движении.
Когда в 1859 г. приступлено было здесь ко всеобщей подаче голосов в пользу присоединения к Пьемонту, контадины выказали такое полное равнодушие, что их должны были обмануть для того, чтобы склонить на сторону прогресса. Им обещали уничтожение некоторых податей и налогов, в особенности для них обременительных, предоставление им некоторых особенных прав на землю, на которой застанет их оседлыми новое положение. Всего этого, конечно, не случилось. Итальянский статут, то есть пока еще пьемонтский статут короля Карла-Альберта, имеющий пока силу во всем итальянском королевстве, относится к контадинам тоже не очень благосклонно. Правда, вместе с ними он оставил за цензом и большую половину низшего городского народонаселения, то есть всех, не платящих в год 40 франков податей; но положения этих двух классов слишком различны, и то, что легко выносит городской работник, который здесь даже вовсе и не сокрушается о непредоставлении ему прав избирательства, то для контадина слишком тяжело, и во многих случаях может показаться даже явной несправедливостью. В Тоскане, например, самый бедный земледелец, оседлый на помещичьей земле, платит в год более 70 франков в государственную казну, но подать эта записывается не от его имени, а от имени помещика, вследствие чего избирательный ценз на него не распространяется.
Кроме того, итальянский статут достаточно вознаграждает городских работников за все, предоставляя им право собираться где и как им угодно, образовывать всякого рода общества, комитеты и ассоциации. Законом это право не отнято и у сельских жителей, но те не имеют ни малейшей возможности им воспользоваться, так как живут обыкновенно отдельными семействами, и собираются только по воскресеньям в церкви или на городском базаре.
Мне случилось нынешней зимой провести около месяца на маленькой вилле в сиенских холмах, которые считаются плодороднейшим местом всей средней Италии. Я скоро свел дружбу с тамошним контадином. Это был человек лет 25, худой и бледный, с физиономией хорошо мне знакомой по рисунку этрусских ваз. Он скоро посвятил меня во многие из тайн земледельческого быта в Италии. Я скоро увидел, что и мой Тоно и все его товарищи очень холодно принимали последние славные события отечества, хотя и на реакции особенно склонны не были. Меня в особенности интересовало узнать, какое именно участье принимали они в последней мирной тосканской революции. Вот что сообщил мне на этот раз мой приятель:
– Мы ровно ничего не знали о том, что делалось во Флоренции. Работы было столько, что рук нельзя было отвести; я даже из собственных денег нанял двух батраков («pizionali» – сельские пролетарии, существующие только в Тоскане). Хозяин позвал меня к себе в кабинет:
– Ты грамотный, Тоно? – спрашивает.
– Нет, говорю, где нам грамоте учиться…
– Ну так хочешь, говорит, я тебе лист прочту?
– Читайте, – говорю, – милости просим.
Вот он и стал читать, а потом вдруг и говорит:
– Слышишь, говорит, Тоно, нужно, чтобы ты подписал…
– Да как же я подпишу, ведь я писать не умею, да и не знаю совсем, что там такое писать нужно.
– Это ничего, говорит, я за тебя напишу, а ты только дай 5 полов (70 коп. серебром).
– Кому, какие?.. 5 полов – шутка, а где их возьмешь, говорю, ведь вот вчера еще заплатил батракам, масло еще не продал и за вино не получил еще ни копейки пока…
– Все, говорит, вздор, я, говорит, их за тебя отдам, а тебе запишу это в счет.
– Ну после этого уже мне и сказать ничего не приходилось. А зачем, говорю я, позвольте спросить, берете вы у меня эти 5 полов?
– Да ты, говорит, не слышал разве, что мы не хотим Леопольда, а будет на место его у нас один король теперь на всю Италию – Виктор-Эммануил, знаешь?
– Один на всю Италию – шутка! Ну, спрашиваю, а нам лучше будет оттого, что один будет король на всю Италию?
– Лучше, говорит, Тоно, и куда лучше, и такого насказал, что и…
– Ну, дал я ему полов. Дал он мне бумажку какую-то и говорит:
– В воскресенье тебя потребуют в город (Сиену), там должен ты будешь голос свой подавать, так ты эту бумажку и положишь, куда скажут.
– А за кого, говорю, эта бумажка?
– За Виктора-Эммануила, говорит, глупый. Нечто ты за Леопольда хочешь?
– Нет уж, чего, говорю, за Леопольда, уж коли лучше за Виктора-Эммануила, так за него уж и класть, да и денег 5 полов вы у меня на это уже взяли.
– Так вот оно дело и было, – прибавил Тоно, – только того, что обещал мне хозяин, ничего и не вышло: за землю платим то же, что и прежде, да и поголовная подать (testatico) с нашей семьи та же.
– Стало быть вы все недовольны новым?
– Недовольны? С чего же нам быть недовольным, соль дешевле стала и много…
– Ну, а если бы опять Леопольд вернулся?
– Пусть его: нам ништо, что тот, что другой.
– Ну да который же для вас лучше?
– Да кто ж его знает. Попы говорят, Леопольд был лучше, и грех, говорят, сделали мы. Я сам, как рассказали мне, что он, сердечный, на старости лет да к тедескам[198] ехать должен – даже заплакал. Где уж ему, думаю, старику, с тедесками жить. А вот в городе все говорят: не след ему было у нас оставаться, лучше-де Виктор-Эммануил. А нам, что тот, что другой – оба хороши: обоим добра желаем.
– Так из чего же вы все дело наделали?
– Как из-за чего? сказал мне г. Дезидерио, хозяин: – нужно так, ну, стало быть и нужно. Да в городе все хотели, так и без нас бы сделали; из-за чего же нам им перечить – все равно по-своему бы сделали. Нам вот только в город когда что продавать надо, так и сами мы радуемся.
– Чего же, ведь габеллу вы платите по-прежнему? (В Италии осталось обыкновение, как и во Франции во многих городах, брать у входа в город пошлину с мелких продуктов; подать эта лежит, конечно, на покупателях, то есть на городских же жителях, и называется gabella).
– Габеллу платим по-прежнему, – отвечал Тоно: – за то уж, как заплатишь ее, так и отправляешься прямо на базар: никто ничего уж больше не просит и даром товару никому не даем, да и полицейские вежливые такие стали. Нам бы ничего, довольны бы были, – прибавил Тоно после минуты раздумья: – только вот попы стращают – говорят: Бог за это накажет. Где-то, в Неаполе, что ли, тоже герцога выгнали, – так там уже, говорят, три деревни огнем попалило. Боимся, чтобы и нам того же не было, – городу ничего, а нам как бы не досталось.
Итак, все итальянские деревни остались в стороне от прогресса и сами не понимают, отчего они сделали всю эту довольно дорого стоившую им революцию. Они, по-прежнему, остались в руках католического духовенства, которое выбивается из сил, чтобы сделать из них оружие против нового правительства. В Тоскане вряд ли им это удастся: здешнее сельское все народонаселение слишком равнодушно ко всему, выходящему из пределов его ежедневных занятий и насущных барышей. В большей части случаев они и не замечают перемены – у них прибавилось только одно дорогое имя, и имя это – Гарибальди; за него они готовы всегда и во всяком случае, готовы опять идти с ним куда угодно, хотя они вообще не охотники до походов. В чем же секрет этой привязанности? Чем вызвана в них она?
Итальянское правительство в настоящее время не имеет возможности заняться улучшением крестьянского быта; да надежды мало, чтобы оно когда-нибудь занялось им, до тех пор, по крайней мере, пока класс этот не будет иметь своих представителей в парламенте. Но каким образом ни одно из учредившихся здесь в последнее время патриотических обществ не подумало об этом? Это тоже загадка.
А надежды мало на то, чтобы крестьяне скоро взяли сами инициативу в собственном деле, – ведь мало того, что закон дает им на это право, коли возможности нет.
Между тем вопрос о крестьянах в Италии – вопрос чисто местный: есть целые провинции, в которых сословие это вовсе не существует; а следовательно, конституционное правительство имеет полное право им не заниматься. Если существующие городские комитеты и общества итальянского единства им не займутся, положение бедных хлебопашцев надолго останется в том же жалком виде. А до сих пор только один голос поднялся в целой Италии в их пользу, только один человек назвал себя их братом, и назвал не неосновательно: он понимает их нужды, то важное значение, которое они должны иметь в будущей внутренней жизни возродившейся Италии; человек этот Гарибальди – Бог знает каким инстинктом понявший их темную жизнь, остающуюся загадкой для всей муниципальной Италии, в которой она возбуждает только вражду и презрение.
В этой-то симпатии, которая существует между Гарибальди и земледельческими классами итальянского народонаселения, с которыми он никогда не жил, с которыми встречался только на поле сражения – разгадка этой непонятной привязанности, которую нашел он в них, не сделав для них в сущности ничего, не улучшив нисколько их быта.
14(3) марта
Время бы возвратиться и на Капреру. Теперь маленький домик Гарибальди на время опустел – владелец его в Генуе.
Имел ли Гарибальди в виду, отправляясь на Капреру, отчуждаться совсем от политического движения Италии, до тех пор, пока не наступит время докончить, с оружием в руках, так блистательно начатое им дело – я не думаю. Он и желать этого не мог, а если бы и желал, то обстоятельства, конечно, никогда не позволили бы ему это сделать.
Как бы то ни было, оставив почти Италию, сложив с себя все чины и форменные отличия, распустив свое войско, Гарибальди остался все же тем, чем был прежде, то есть главою и центром итальянского движения, выступившего теперь в совершенно иной форме своего развития.
Италия в течение едва ли не 50 лет приготовлялась к тому, что в ней случилось в 1860 г. Тем не менее новая перемена застала ее почти врасплох, как это обыкновенно случается. Предприятие было слишком трудно, а потому понятно, что в течение всего этого долгого периода ее занимала почти исключительно внешняя форма.
Развитие гражданственности в ней было слишком затруднено в течение нескольких веков. Для большинства оно и осталось на той степени, на какой захватило его новое вторжение варваров, т. е. соединенных гвельфов и гибеллинов, папской и императорской партии – Климента VII и Карла V, в последней половине XVI в. Удержаться на этой степени было тоже нелегко, так как победители стремились всеми силами прогнать его назад.
Это, однако же, не помешало умам более смелым идти вперед, тем быстрее, может быть, чем сильнее было встречаемое ими противодействие. Только слабые поддались гонению.
Следствием всего этого было то, что когда Италии представилась наконец возможность устроить свой внутренний быт сообразно собственным стремлениям и понятиям, в ней возникло множество партий, из которых очень многие слишком враждебны одна другой и готовы снова покориться иностранцам, лишь бы не видеть торжества своих противников. В 48 г. именно это-то и случилось.
Мысль об итальянском единстве наперекор всему очень упорно держалась в итальянских головах во всякое время; но приведение ее в исполнение было так затруднено, что для большинства она существовала в виде отвлечения, философской доктрины, религии.
Когда с падением Наполеона I разрушились и последние надежды Италии на независимость, иностранные правительства прочнее, чем когда-либо утвердились в Италии – отчаяние было повсеместное, все почти поддались тяжелому гнету, немногие отважились на оппозицию, и оппозиция эта была слепая и мелочная. А глубокие мыслители держались в стороне, в глуши своих кабинетов, а часто и тюрем, и решали абстрактную сторону вопроса.
Мадзини первый из них поднял голос за итальянскую народность. Он хотел не только политического, но и социального переворота, который еще немногие понимали в то время. Не знаю, вполне ли сочувствовали его теориям соотечественники, но он был один – и все, что только было в Италии смелого и любящего свое отечество, приняло его сторону. Генуэзцы, по старой памяти очень враждебно относившиеся к сардинскому правительству, которое тогда еще не отличалось от австрийско-итальянских правительств, составили главную силу Мадзини, но и в остальной Италии он имел преданных прозелитов.
Когда король Карл-Альберт объявили войну Австрии, большинство Италии склонилось на его сторону; за Мадзини остались только те, которые хотели более радикального переворота. Между этими партиями тогда же началась упорная вражда.
В 1848 г. обе они проиграли, но Гарибальди с волонтерами поддерживал еще мадзиниевский триумвират, в то время, когда Карл-Альберт уступил уже Радецкому.
С тех пор многое переменилось в Италии. Отношения ее к новому сардинскому королю стали гораздо лучше, чем были прежде; Мадзини много потерял после неудач 1849 г., к тому же он хотел слишком трудного. У него оставалась еще партия, но толпа политических последователей, т. е. большая часть собратьев прежней «Молодой Италии» нашли, что новому делу нужны новые начала, что радикализм вреден в Италии.
Едва Виктор-Эммануил начал снова военные действия против Австрии, партия эта, – из мадзиниевской, ставшая партией народного движения, – присоединилась к нему и стала оказывать ему содействие всеми силами, в лице нового предводителя своего – Гарибальди.
Знамя, с которым Гарибальди высадился в Сицилию, его тогдашняя программа: «Italia una con Vittorio Emanuele»[199] – были знамя и программа всей партии движения. Спор о формах и теориях был отброшен, и умеренные только в слепой ярости своей против оппозиции осыпают их упреками в радикализме, мадзинизме и всяких ужасах…
Волонтеры Гарибальди были организованы и вооружены стараниями и насчет политических комитетов, составленных из лиц, принадлежащих к партии движения. Насчет настоящей ее программы не могло оставаться ни малейшего сомнения, тем более, что она неоднократно, гласно провозглашала Гарибальди своим единственным главою и предводителем. До тех пор, пока тянулись военные действия в Южной Италии, между большинством и партией движения царствовало примерное согласие.
Но едва Виктор-Эмануил стал королем Италии de facto, едва представилась возможность мира и спокойствия, едва не стало в Неаполе бурбонских войск – тотчас же поднялась внутренняя, отчаянная борьба между большинством и крайней левой стороной. Из этого не следует, впрочем, заключать, чтобы последняя хотя на волос изменила свою программу; она по-прежнему хочет единства Италии под скипетром конституционных королей Савойского дома – для нее это уже вопрос решенный; остается только, чтобы при этой внешней форме Италия добилась той высшей степени внутреннего развития, на которую она только способна стать. Пользуясь с одной стороны предоставленным по закону правом всем гражданам строгого контроля над министерством, она вовсе не считает своей обязанностью соглашаться заранее со всеми его распоряжениями и действиями. Министерству предстоит в Италии в настоящее время слишком трудная задача и ему нужно законное содействие нации; министерская оппозиция в конституционных государствах – факт неизбежный и даже как бы требуется самим статутом.
Кроме того, в Италии правительство – я не говорю о централизационном министерстве барона Рикасоли[200], оно уже и упало – берет на себя разрешение только главных вопросов, касающихся целой страны; вопросы более частные, вопросы местные, сословные и личные оно оставляет своим подданным, давая им только общую норму. Наконец министерство, один из главных правительственных органов, слишком зависит от случайностей, от личного своего состава; в парламенте не все сословия имеют своих представителей, а министерство избирается парламентом, следовательно по необходимости действует в видах и выгодах своих избирателей. Таким образом, быт низших классов народонаселения может очень пострадать от этого устройства, если бы и они не имели своих представителей, своего как бы особенного парламента. Неудовольствия легко могли бы в нем возникнуть против правительства, которое все же остается от него на некотором отдалении. Все это могло бы обратиться во вред обеих сторон, а в особенности в Италии, где настоящее правительство нуждается в дружном содействии всего народонаселения, а оно здесь не прибегает к щедрым подачкам, которыми неаполитанские Бурбоны привязывали к себе тех из своих подданных, которых они оставляли вне покровительства законов.
Всего этого мне кажется достаточным для того, чтобы показать не только всю законность существования в Италии так называемой партии движения, но даже ту пользу, которую из ней может извлечь правительство. Вся задача в том, чтобы правительство могло доверить этой партии в том, что она не выйдет из законных пределов, или чтобы оно достаточно верило в свои собственный силы на тот раз, что если бы партия эта переменила свои стремления и цели, оно могло бы удержаться в должных пределах. В первом достаточной порукой служит имя теперешнего вождя партии движения – Гарибальди; во втором, слова Рикасоли, сказанные им незадолго перед отставкой в заседании парламента.
Почему старое министерство враждебно относилось к этой партии и почему все новые будут относиться к ней точно также? – вопросы, не требующие особенных разъяснений.
Почему большинство или партия умеренных яростно кричит против той же несчастной оппозиции? Тоже понять не трудно, в особенности, сообразив еще то, что итальянские модераты, находящие, что руками союзников легче сделать трудное дело, чем своими собственными, боятся, чтобы иностранные государства, на содействие которых они рассчитывают, не приняли в ином смысле подвиги этой партии, что легко, конечно, может случиться, так как эти союзники привыкли считать Италию за гнездо всякого рода отчаянных революционеров, да к тому же они слишком издалека смотрят на дело, а издали все кажется в преувеличенном виде, как уверяет Макиавелли.
Партия движения очень распространена во всех итальянских провинциях, всего меньше, однако же, в Пьемонте и в Тоскане, где со времени падения Рикасоли образовалась в виде отдела бывшей министериальной, или правильнее, Рикасолиевской партии, своего рода оппозиция, но только против существующего теперь министерства Раттацци; партия эта стремится к тому, чтобы вызвать новый кризис, в надежде устроить новый кабинет, более сообразный с ее наклонностями. Я упоминаю о ней мельком и перехожу к той оппозиции, или партии движения, главной квартирой которой Капрера, и которая имеет в виду прежде всего устройство внутреннего благосостояния тех классов народонаселения, о которых обыкновенно мало думает и министерство и парламент, а которые тем не менее играют важную роль в судьбах страны. Конечно, и ее члены не чужды личных побуждений, но корысть не играет здесь никакой роли и заменяется честолюбием – обмен не невыгодный, по моему мнению.
Внутренний состав этой партии разнообразен; говорить о нем нужно очень много, или ничего вовсе – я выбираю последнее, чтобы более на досуге сказать несколько слов о средствах, которыми она добивается своей цели.
Средства эти главным образом те политические комитеты и общества, о которых я упоминал уже не раз. Ассоциации эти существуют во всех больших и маленьких итальянских городах, но влияние их на положение дел своих участков очень различно и зависит вполне от их личного состава. Цель их – стремиться ко внутреннему единству Италии всеми зависящими от них средствами, и теми по преимуществу, которыми почему бы то ни было не может воспользоваться правительство.
По самому существенному характеру своему общества эти едва ли способны быть централизованными; единственная, существующая между ними связь – общая основная мысль и общее – более нравственное, чем действительное – председательство Гарибальди.
Однако же это отсутствие цельности много вредит их делу; кроме того, самое правительство, не имея возможности знать частной программы каждого из них, несколько неблагоприятно смотрит на их существование, не вполне убежденное в том, что встретить действительно в них во всех без исключения необходимое для себя содействие и помощь. Итальянское правительство может еще не возмущаться ими открыто; но «великодушный союзник» смотрит на это, как кажется, совершенно иными глазами.
Некоторые попытки против них в парламенте корифеев итальянской французской партии, как здесь называют бывшую партию Раттацци – заставили обратить особенное внимание на их внутреннее устройство и за этим им пришлось снова обратиться – на Капреру, где они и встретили дружеское содействие и помощь.
В Генуе назначен был на 9-е марта конгресс, на который приглашены были представители всех без исключения итальянских народных обществ и комитетов. Гарибальди принял предложенное ему председательство и оставил Капреру во второй или третий раз в течение тех 17 месяцев, которые он провел на ней, не оставляя ее даже в минуты очень важных министерских кризисов и парламентских распрей, случавшихся довольно часто в продолжение этого времени. Одно это показывает уже, что Гарибальди считает благоустройство этих комитетов делом особенной важности и принимает его очень близко к сердцу.
Обвинять в чем бы то ни было Гарибальди, порицать его действия не осмеливаются здесь никакие периодические издания, ни даже клерикальные, очень наглые во всех других случаях. Неудачная попытка Чальдини в прошлом году отбила у многих охоту подражать ему в подобных проделках[201]. К тому же общественное мнение за глаза одобряет все, что скажет или сделает Гарибальди. Однако враги комитетов по профессии – т. е. вся умеренная и приверженная французскому союзничеству партия, нашли средства высказать свое неудовольствие по этому поводу. Министр Раттацци, обещавший не следовать централизационной политике своего предшественника, тоже не одобрил генуэзский конгресс, – неизвестно только, что в нем особенно вызвало министерский гнев.
Гарибальди никогда еще не отказывался от председательства ни над одним патриотическим обществом: он неоднократно признавал их своим делом. С этой стороны готовность, которую он высказал на этот раз помочь им всеми, зависящими от него средствами, – не прибавила ничего нового к тому, что и прежде было хорошо известно всем, не желавшим особенно не знать того.
Вся задача в том, что прежде оставалась возможность восставать против комитетов под тем предлогом, что они не разделяют программы Гарибальди, что они для формы только выбрали себе его в общие президенты, а он из вежливости не отказался, что за тем не оставалось между ними никакой связи, ничего общего. Теперь возможности этой нет, так как программа ассоциации составлена главным образом самим Гарибальди, распубликована во всех журналах и встречена была с восторгом представителями всех комитетов, клубов и обществ. Остается одно из двух: или согласиться, что эти общества вовсе не враждебны благосостоянию всей Европы – тогда в чем же их винить и во имя чего требовать их немедленного закрытия и чуть ли не ссылки в Сибирь их главных деятелей; – или заодно уже признать и самого Гарибальди за человека вредного для Италии – другого выхода из этой дилеммы нет, а и то и другое решение одинаково противны умеренным и министерству.
Несмотря на это, умеренная партия усиливается высказывать по-прежнему полную преданность Гарибальди, и с этой целью высказывает мнения насчет его личности, не лестные для нее самой, если они только искренни, и поражающие своей наивностью. По словам журналов этой партии, Гарибальди во время пребывания своего на Капрере не принимал никакого участия в настоящих делах Италии и прикрыл своим именем комитеты только из надежды, что они займутся исключительно приготовлением ему волонтеров на будущие походы, а что истинное направление и значение этих комитетов не только ему чужды, но даже и вовсе неизвестны, и что комитеты таким образом как будто надули своего представителя.
Если бы предположение, будто Гарибальди с отъезда своего из Неаполя оставил совсем политическую деятельность, имело какое-нибудь основание, это было бы тяжелое обвинение против итальянского героя. Италия в настоящем своем положении нуждается в содействии всех, кто способен оказать ей его. Да и как допустить, чтобы он мог оставаться спокойным зрителем всего, совершающегося вокруг него.
Он отказался от предложенного ему наместничества в Неаполе и в Сицилии, точно так же, как и ото всяких других должностей в итальянской администрации и от участия в парламенте, по множеству причин, которые легче угадать, чем рассказать. Самые учреждения эти всего менее нуждаются в людях, подобных ему. Эта уже вовсе не новая форма правительства может идти точно также хорошо и со старыми деятелями, и для руководства им достаточно и одной рутины. Доказывать, однако же, что Гарибальди не имеет против нее никаких враждебных замыслов, было бы потерянное время, потому что она ему обязана своим существованием в Италии.
Не совсем основательно было бы требовать конечно, чтобы Гарибальди, при настоящих обстоятельствах своего отечества, придавал ту важность, хотя бы самому критическому из министерских и парламентских кризисов, которую имеют они в глазах всяких англо– и франкоманов. Впрочем, первая попытка его парламентской деятельности, вызвавшая ругательное письмо к нему Чальдини, показала достаточно, что он не создан для этого учреждения, как и самое учреждение это не создано для него. Все в нем как-то неприятно поражало горячих приверженцев statu quo среди итальянских умеренных ораторов, одежда, манера говорить – не говоря уже о силе его парламентских речей.
16(4) марта
Мне не раз случалось слышать, что для хорошего полководца необходима способность рисоваться вовремя перед солдатами: в доказательство этой великой истины приводились факты из жизни Наполеона, Аннибала и множества других.
Гарибальди совершенно лишен этой важной способности, и вероятно вследствие этого здешние строгие тактики и стратегики никак не соглашаются признать его не только за великого, но даже вообще за полководца: они уверяют, что он вовсе не по правилам военного искусства одержал все свои победы, которым никто и счету не ведет – это, конечно, должно значительно уменьшить их достоинства, особенно в глазах немцев, которых бьют везде и всегда, но которые всегда проигрывают сражение по всем правилам науки, и вслед за поражением, берут тотчас же реванш изданием в свет какого-нибудь нового гениального и многотомного трактата о фортификации, стратегии и пр.
В течение всей своей военной карьеры Гарибальди ни разу не произнес какой-нибудь необыкновенной речи, которая бы вдохновила его солдат и перешла бы в историю, как памятник находчивости генерала, вроде, например, знаменитой речи Наполеона у пирамид. Если чем-нибудь он производил впечатление в решительные минуты, то всего скорее своим невозмутимым спокойствием, вовсе не натянутым видом, отсутствием всего, напоминающего театр и цирк.
Во время военных действий под Капуей он редко показывался солдатам, так как слишком был занят диктаторством в Неаполе. Но я помню его в две довольно торжественные минуты[202].
В первый раз это было 1 октября, на маленькой батарее под Капуанскими арками. Бурбонская кавалерия, поддерживаемая сильной артиллерией, с утра напирала на нашу маленькую батарею; два маленькие единорога, составлявшие всю нашу силу на этом пункте, раскалились от продолжительного огня. Неприятельские пули как шмели летали в воздухе по сторонам, а бомбы и гранаты ежеминутно валились у самых углов арки, не попадая, однако же, внутрь батареи. Маленький отряд пехоты теснился вокруг пушек, затрудняя артиллерийской прислуге ее маневры. Вдруг шальная какая-то граната попала на разложенные у самого входа в батарею пороховые заряды… Последовал страшный взрыв, многие попадали на землю, наши пушки замолкли. Едва прошло первое смятение, бросились к амбразурам, неприятельская батарея усилила свой огонь, баварские стрелки по-прежнему с флангов осыпали нас пулями, прямо напротив эскадрон драгун летел на нас, вздымая пыль, их сабли сверкали в воздухе. Минута была решительная; второпях строили солдат, чтобы представить хоть какой-нибудь отпор неприятелю… Едва несколько человек вышли из-под арки, тут же повалились на землю, а королевские драгуны были уже у последней баррикады. В это время раздались голоса: «Гарибальди!»
Он вошел на батарею в своем сером американском плаще и в измятой венгерской шапочке совершенно с тем же спокойным видом, с каким расхаживал несколько дней тому назад в маленькой зале Palazzo Angri, диктуя какое-то письмо своему секретарю. Солдаты кричали: Viva! На один миг он остановился у амбразуры, быстро повернулся назад и пошел вперед по направлению к неприятелю, словно гулял при хорошей погоде, вовсе не замечая сыпавшихся градом пуль; те с своей стороны тоже не обращали на него внимания, или по крайней мере не трогали его, когда кругом десятками валился народ. Единственные слова, сказанным им солдатам были: «Идемте же, ребята!». Солдаты бежали, стараясь опередить его, и на прощанье кричали ему: Viva! Это было новое morituri te salutant[203].
Очень немногие из них возвратились целы и невредимы, но драгуны не перешли за баррикаду.
В другой раз я видел Гарибальди, когда он прощался со своими волонтерами. Они стояли рядами без оружия. Гарибальди вышел к ним в своем обыкновенном костюме, но не сказал при этом случае тоже никакого назидательного спича. «Возвратитесь к вашим ремеслам», сказал он им: «я об вас подумаю, пока снова не встретимся на поле сражения. Будьте готовы во всякое время отвечать на мой призыв. До свидания.»
Герои Марсалы и Вольтурно возвратились – кто в смрадную мастерскую, кто к тяжелым полевым работам. Предводитель их отправился на Капреру, но там не забыл данного им при прощании обещания, среди собственных тяжелых трудов. Под его председательством скоро образовались во всех итальянских городах ремесленные братства. Он не съезжал для них с Капреры, не отправлялся по все городам и деревушкам, проповедуя соединение, но имя его стояло во главе прокламаций учредителей этого братства и списки их членов пополнялись ежедневно новыми именами. В нескольких словах председатель очень удовлетворительно разъяснил всем и каждому цель нового учреждения и направление, по которому все они должны следовать. Если он не следил за точным исполнением ими его программы, то только потому, что был уверен, что они не изменят ему, так как он не изменил данному им слову подумать о них. Но в Италии не одни работники нуждались в помощи Гарибальди. Многие из самых существенных и прямо касающихся жизни народа вопросов не были решены и не могли быть без согласных усилий всего итальянского народонаселения. Перед некоторыми из них и министерство и парламент признали свое бессилие. Вопросы эти, хотя чисто политические, затрагивают между тем внутреннее устройство быта всех почти классов итальянского народонаселения, а из них многие стоят совершенно вне министерского и парламентского влияния, и в этих многих может быть главная сила страны. Этой-то именно силой располагает Гарибальди один во всей Италии: она не ответила бы ни на один призыв, не поддалась бы ни на какие обещания и может быть даже готова была бы стать в совершенно враждебные отношения к настоящему положению дел, если бы с Капреры не получала очень определенной инструкции…
Вопрос о Риме, важность которого сознают все, для низших классов народонаселения – вопрос жизни и смерти. Только когда он удовлетворительно решится, сельское народонаселение Италии скажет свое решительное слово. До тех пор оно ограничится совершенно пассивною ролью и постоянно будет обращать взгляды свои на Капреру, ожидая сигнала оттуда. Общественное же положение, в котором один человек – хотя бы человек этот был и Гарибальди – располагает по своему произволу такими громадными силами, не может назваться прочным. Гарибальди первый работает против него…
Италия, конечно, не может служить нормой для других европейских государств, но и сама не может быть судима по иностранной норме. Я не считаю нужным вступать в спор с почтенным итальянским мыслителем, ставшим очень дорогим для своих соотечественников после своей смерти – с Винченцо Джоберти, предполагающим, будто Италии уже так самим Господом Богом суждено вести на помочах за собой по дороге к прогрессу и к совершенству всю остальную Европу, – замечу только, что она много опередила было на этом пути всех нас, бедных северных варваров; но скоро сила, против которой она не могла бороться, остановила ее развитие. Потом одна часть ее народонаселения совершенно свернула с истинного пути, другая окоченела на той степени, на которой застала ее катастрофа, и теперь, когда и она воскресла, она поражает нас чем-то совершенно нам неизвестным, что на первый взгляд очень похоже на дикость, на полное невежество. В сущности ни то, ни другое.
В здешних деревнях на сотню один едва ли умеет читать и писать; с новейшими усовершенствованиями всевозможных родов, с паровыми плугами и с дипломацией, с политической экономией незнаком никто. Потребности их патриархальной простоты: им нужно хлеба и славы. Если бы во Франции мужик вдруг стал правителем – он разрушил бы Париж и заставил банкиров ходить в сабо и в блузе, – в Италии он удавился бы от отчаяния; что не может придумать никакого такого разумного статута, которым бы сразу он поставил свое отечество на степень первоклассного государства. Или уже действительно в Италии родятся привилегированные натуры, или же столько веков блестящего прошедшего оставили по себе что-нибудь очень существенное и живое.
Со свойственной всякому крестьянину особенной чуткостью, здесь каждый из них очень хорошо угадывает настоящий смысл той или другой из так часто случающихся здесь политических перемен; до сих пор не было еще ни одной, которая бы удовлетворила их, – а потому они уже и не ждут ничего хорошего, они дошли до полного равнодушия. Перевороты эти обыкновенно до них и не доходят, или доходят в слишком измельченном, дробном виде; они совершенно правы, что не хотят проливать своей крови из-за тех прав, которые им достаются. И в этом смысле-то и следует понимать слова моего приятеля Тоно: «Тот, или другой – нам оба хороши, обоим добра желаем».
Коль скоро самый существенный вопрос, вопрос о хлебе насущном, не затронут – из-за чего поднимать тревогу? Ведь в том, или в другом случае они останутся одинаково в стороне, одинаково за ценсом. А от мелочных лавочников, ставших правительством в силу нового положения, мало можно ждать увеличения отечественной славы. На этом-то основании первое слово Гарибальди было требование распространения гражданских прав на все сословия, на все классы народонаселения.
Парламент, однако же, оставил без внимания эту просьбу, переданную ему через посредство бывшего генуэзского центрального комитета; предлогом ему послужили те важные вопросы, которые должны быть представлены на его рассмотрение. Вопросы эти были действительно очень важны, так как касались приобретения Рима и внутреннего устройства Неаполитанских провинций, где реакция в это время была в полной силе. Рикасоли представил действительно очень скоро после открытия заседаний камеры свою программу, которую в виде ультиматума хотел послать к папе.
Не говоря уже о том, что Италия вовсе не была в таком положении, чтобы посылать свои ультиматумы, но самая программа, а в особенности формула его – chiesa in libero stato[204] – была вовсе не одобрена парламентом. Рассуждения тянулись долго и чуть не вызвали нового министерского кризиса. Не видя спасения вне Рикасоли, который в то время был в очень хороших отношениях с Парижем, большинство решилось консолидировать его кабинет; но волнение умов продолжалось, так как все стали наконец подозревать, что решение всех этих важных вопросов вовсе не во власти ни министерства, ни парламента, и за ним приходилось обращаться или в Париж к союзнику, или в Капреру к Гарибальди. Первое оскорбляло народную гордость итальянцев, на второе у умеренного большинства не хватало решимости. Попробовали полумеры; Рикасоли истощил весь запас своего дипломатического гения, предположены были всякого рода довольно выгодные сделки, – но у папы на все был один готовый ответ: non possumus[205].
Между тем оппозиция – хотя и связанная по рукам и по ногам – не оставалась в бездействии; собирали подписи на протест итальянской нации против занятия Рима французами, – большинство робело, но не смело открыто воспротивиться этому проявлению народной воли. Министр внутренних дел Мингетти выказался храбрее и написал к префектам отчаянный циркуляр против протеста, чем ускорил свое падение.
Сами римляне тоже не оставались спокойными зрителями. Дан был новый ход их шаткому протесту, или, правильнее, просьбе их к императору французов, не имевшей прежде никакого успеха. Несмотря на чересчур покорный тон этой прокламации, она местами исполнена самых горячих чувства, любви к итальянской народности и сознания собственных прав.
«Мы уважали тайны вашей политики», говорят они, «несмотря на занятие нашей столицы вашими войсками, несмотря на то, что вы дали новую силу у нас клерикальному правительству, несмотря на виллафранкский мир, ни на то, что вы поддерживаете у нас правительство, которое вас презирает и терзает нас.
Мы хотим видеть только изгнание австрийцев из Ломбардии, бегство Бурбонов, присоединение герцогств, Обеих Сицилий – одним словом, все то, что не могло сделаться без вашего согласия; из этого мы выводим, что вы действительно хотите единства Италии.
Мы не станем обнажать перед вами наших ран, не скажем ни слова о тех оскорблениях, которым вы подвергаете нас, осуждая нас на неподвижность, о распространяющейся с каждым днем все больше и больше здесь страшной нищете, которой мы обязаны покровительствуемым вами всякого рода древним и новым вампирам. Мы заперты в адской яме, где испытываем муки хуже танталовских, в ожидании того блаженного положения, на которое у нас не отнята надежда, а между тем на наших глазах терзают лучших из наших собратий, то запирают их в тюрьмы, из которых мало надежды выбраться на свет Божий, то невинных отдают в руки палача…
Но все это не погасило в Риме последнюю искру священного огня… Снимите ваше знамя с наших стен, и вы увидите этому блестящее доказательство.
Вы сильны, но наши силы гибнут каждый день среди реакции и разбоев.
Неужели вы ждете, что наконец Римский двор волей или неволей поддастся на благие советы и примет наши предложения? 10, 50, 100 лет сряду он будет также упорно повторять свое non possumus, если только войска ваши в течение всего этого времени будут поддерживать его.
Но смеем напомнить В<ашему> В<величеству>, что 600 000 несчастных, составляющих исключение изо всего человеческого рода, алчущие хлеба и свободы (affamati di pane е di liberta), не могут долго терпеть этой невыносимой неизвестности. Не дожидайтесь же, чтобы какой-нибудь неожиданный случай, случайный порыв страстей, так долго подавленных, заставил бы нас попробовать какой-нибудь отчаянный подвиг.
Не замедляйте нашего освобождения для вас самих, для нас, для всей Европы – или примите от нас древний римский привет: Caesar! Moturi te salutant.
Romani»
Ответ, полученный ими на это прошение через посредство Лавалетта[206] – был тот же классический non possumus, только на другой лад.
То, что сделали римляне в своем жалком положении, централизаци-онное правительство Италии не смело помешать сделать народонаселению тех провинций, за независимость которых столько уже пролито крови. Рикасоли хотел только забрать в свои руки монополию всякой политической инициативы, но адепт его Мингетти перещеголял его: он хотел даже бездействие сделать исключительной привилегией министерства.
Жаль, что он слишком скоро покончил свою политическую карьеру, а то при его содействии кабинет Рикасоли показал бы, до каких чудовищных размеров может доходить конституционное министерство, когда чересчур робкий парламент добровольно отказывается от своих прав контроля над ним…
Попав однажды в область дипломатических учреждений и административных фокус-покусов, которыми итальянское министерство в некоторых случаях старается прикрыть свое бездействие и немощность, считаю не лишним сказать несколько слов о том, какими средствами эти господа надеются выбраться из тесного лабиринта, в котором они с большим успехом кружатся вот уже второй год, с геройским упорством отказываясь от путеводной нити, протягиваемой им Гарибальди. Самолюбие этих глубоких политиков примиряется, хотя неохотно, с мыслью о том, что в ожидании Рима столицей Италии будет Париж, но чтобы Капрера, ничтожный, скалистый островок, играла в ней такую важную роль, – это для них уже слишком.
Парламент, после вотирования 11 декабря прошлого года в пользу министерства Рикасоли, отложил, что называется, всякое попечение о Риме, и предоставил решение этого головоломного вопроса мудрости первого министра – Рикасоли, или кого другого – в сущности одно и то же. Министр Бастоджи[207] в течение настоящего парламентского сезона достаточно изощрял его деятельность, представляя на его рассмотрение множество очень удачно задуманных проектов новых податей и налогов. Потом министерский кризис обратил на себя его внимание, и в настоящее время устройство почтовых сношений по Средиземному морю возбуждает в нем самые горячие рассуждения. Конечно, все эти вопросы имеют связь и с римскими делами, – даже и последний из них: необходимо ведь каким-нибудь образом дать знать великодушному союзнику, в случае бы в Риме что случилось, – а там легко могут выйти такие дела, что по телеграфу их не расскажешь.
Министерство Рикасоли пало, оставив в наследство своим последователям очень большую кипу бумаг под рубрикой: документы, касающиеся Рима. Раттацци занял пока его место и в своей вступительной речи счел долгом «сказать несколько слов» об этом трудном деле.
Первое, что он объявил по этому поводу парламенту, было то, что он будет стараться всеми силами приобрести для Италии содействие иностранных государств, очень для нее необходимое в настоящем случае, ограничивая эти свои старания весьма эластическою фразой – лишь бы честь страны от этих союзничеств не пострадала. Все это было очень ново и для тех, кто знал предыдущее командора Раттацци, и для тех, кто знал о нем только то, что он председатель итальянского министерства.
Затем новый администратор признал необходимость очень сильного войска для Италии, и привел все те причины, которые и без него все знали хорошо, умолчал об одном только своем особенном расчете. Все то, что за рекрутскими наборами останется годного в Италии для военной службы, не преминет стать в ряды волонтеров Гарибальди, под предводительством которого, по мнению многих, новобранец стоит двух старых фрунтовиков регулярного войска. Таким образом, очень много вероятности на то, что Гарибальди одержит много новых побед над врагами Италии, а если будет располагать большими средствами, то чего доброго, еще и Рим возьмет, – все это, конечно, вовсе не по правилам стратегии и тактики; а Италия только тогда может считать себя страной благоустроенною, когда войска ее никогда и ни в чем не совершат ни малейшего отступления от строгих законов науки и военного искусства, – хотя бы для этого нужно было им отказаться и совсем от побед. Fiat порядок и pereat mundusl[208]
Г. Раттацци, как оказывается, однако же, хорошо понимает, что не в одном войске – разрешение римского вопроса. Католический мир его несколько пугает. Сильно распространенное, преимущественно во Франции, влияние духовенства на известные классы народонаселения, которое очень удачно умеет выставить на вид публики Наполеон III – как будто оно связывает ему руки – заставляет почтенного министра сильно призадуматься; и он объявляет в парламенте, что главные средства, которыми Италия (читай: министерство и его клиенты) может добиться своей настоящей столицы – пока чисто моральные, и что ими-то в особенности он, г. Раттацци, намерен воспользоваться, так как в сущности они самые безопасные: инквизиции, слава Богу, уже нет, в папские владения итальянский министр не намерен предпринимать путешествия, а великодушный союзник на этот раз расположен предоставить ему полную свободу.
Итак, как видите, министерство намерено предпринять новую реформацию в XIX в. По счастью, г. Раттацци на этот раз поставлен в гораздо выгоднейшее положение, чем все, бывшие до сих пор религиозные реформаторы, не выключая и самого Лютера. Ему незачем самому трудиться над переводом Библии, ни ходить по селам и по городам, проповедуя новое свое учение. У него два помощника по этой части, на которых он вполне может положиться: один – экс-иезуит Пассалья[209], другой – монсиньор Ливерани[210], занимавший недавно еще очень важную должность при папском дворе. Оба они проповедуют совершенно новую для католического мира духовно-политическую доктрину, живут в довольно тесной дружбе между собою, хотя расходятся во многом, не прямо касающемся их учения.
Падре Пассалья, как иезуит, несравненно более схоластик, формалист. Ему нужны новые догматы, системы; самый слог его слишком напоминает семинарию. Ливерани более человек светский, благовоспитанный прелат, всегда прилично одетый и гладко причесанный. Он мало заботится о догматах, не строит никаких новых теорий и довольствуется только тем, что энергически восстает против старых злоупотреблений, во многом нисходит ко слабостям человеческим и многое принимает как существующий уже факт. Логика его порой сильнее и здравее, чем у его почтенного сотрудника, и выражается он гораздо яснее и определительнее, чем экс-иезуит. Зато падре Пассалья, несмотря на свои особенно дружеские отношения к своему собрату по реформации, не может не сознаться, что он зело искусен в дьявольских, без сомнения, ухищрениях языческого витийства.
Общественное мнение в Италии выказало по поводу этих двух реформаторов свои профанские наклонности: журнал, издававшийся в Милане под редакцией падре Пассалья – «II Mediatore» («Посредник»), лопнул, а книжка монсиньора Ливерани: «Папство, Империя и Итальянское королевство» («II papato, l’impero ed il Regno d’ltalia») разошлась в большом количестве экземпляров. Зато Пий IX воздал обоим им должное с примерным беспристрастием: он приказал отрубить голову портрета экс-иезуита и готовил менее классическое наказание для своего мятежного прелата. Ливерани – домашний прелат его святейшества, да кроме того еще протонотариус и ревендариус; ему, конечно, очень прискорбно должно быть потерять такие громкие титулы. Автор книжки «Папство, Империя» и пр. искал убежища против папского гнева во французской казарме, где прожил несколько дней, и в благодарность за гостеприимство учил французских солдат итальянской грамоте и имел очень большой успех.
«Ce prelat!» говорили между собой храбрые защитники прав св. Петра и его наместника: «ça n’est pas grand, mais ça parle comme un Marseillais!»[211]
Гг. Ливерани и Пассалья нашли очень много последователей между здешним духовенством, которое готово ухватиться за первую возможность примирения с итальянским правительством, без риску, однако же, быть suspensus a divinis.[212] Я говорю, разумеется, о духовенстве низшего разряда, которое не имеет, сверх своих курий, никаких средств к существованию. Ливерани, однако же, не их вовсе имел в виду, когда издавал в свет свое сочинение.
Вся эта духовная литература и успех, которым будто бы она пользуется в публике, больше ничего, как маленькая комедия, которой итальянцы отплачивают «великодушному союзнику» за то блистательное представление, которое дает он им в своем сенате, с фейерверком, Ларошжакленем[213] и всякими другими великолепиями. Для себя в Италии едва ли кто-нибудь их даже здесь и читает; сочинение Джовани: «Нравы и обычаи римского двора», в котором он рассказывает с замечательным юмором очень интересные подробности из жизни высшего римского духовенства, произвело несравненно сильнейшее впечатление.
Я не могу с хронологической точностью определить эпоху, в которую итальянцы перестали быть такими набожными приверженными светской и духовной власти папы, какими выставляют их в иностранных романах и поэмах, – только это случилось уже очень давно. Весь секрет клерикализма здешнего сельского класса в том, что монастыри здесь были для них самым лучшим источником дохода, не стоившего им никаких трудов. В Умбрии, например, их было 30 на пространстве нескольких десятков квадр. миль, и поселяне всей окрестности только со времени закрытия их научились спать без ужина. И этой потери не возвратит им никакой г. Ливерани, хотя бы он прибавил и еще 15 томов к изданному им сочинению.
Прежде, бывало, едва взойдет солнце и покажутся полевые работы, и старый и малый вприпрыжку спешили к воротам то того, то другого из окрестных монастырей. Толстые монахи с бритыми головами и в разноцветных рясах раздавали щедрой рукою то по здоровому ломтю хлеба с прибавкой куска вареной говядины, то миску макарон или вареного рису, а иногда и по баиоку[214] (около 1 коп. с.) в придачу. Теперь ворота этих монастырей заперты наглухо, и каждый раз, когда мимо их случается пройти голодному поселянину, слюни текут у него изо рту при взгляде на эти священные стены и он в голодной тоске проводит рукой по пустому животу.
17(5) марта
Сочинения, о которых я говорил в прошлой главе, имеют все одну главную цель – показать католическому миру, что между итальянским народом и папой, как главою церкви, не существует никаких враждебных отношений, и что Италия по-прежнему останется опорой католицизма, какие бы в Риме ни вышли политические перемены. По их словам, самая ненависть их к светской власти папы происходит только от того, что власть эта унижает религиозное значение папы, – одним словом, что Италия в католицизме превзошла самого папу.
К числу сочинений, написанных в этих видах, следует отнести и министерскую программу-ультиматум барона Рикасоли. Так как тут дело не в том, чтобы обмануть императора французов, а только клерикалов всего мира, то сочинения эти могут и не быть вовсе бесплодны.
Изо всех их только книжка Ливерани хотя сколько-нибудь достигла цели, чем он обязан одному из самых заклятых врагов своих, французскому кардиналу Матье (Mathieu), написавшему против нее очень длинное опровержение и таким способом сделавшему ее известной во Франции – честь, которой автор вряд ли бы добился без этого маленького случайного обстоятельства.
Ливерани, конечно, отвечал французскому кардиналу и письмом, и новой книгой, под заглавием «Католическое учение и итальянское движение», в которой он гораздо смелее развивает то же, что несколько робко и неясно высказал в первой.
Полемика двух монсиньоров не может послужить образцом вежливости и веротерпимости, и еще меньше со стороны французского кардинала, чем итальянского прелата. По старой католической привычке католического духовенства, спор переходит в личную перебранку. Кардинал Матье, сожалея, что теперь уже нельзя сжечь на костре самого автора книги «Папство, Империя и Итальянское королевство», хочет по крайней мере подвергнуть этой участи сочинения, а прелата Ливерани называет Иудой и наперсником Иродовым. Г. Ливерани отвечает очень последовательно на эти категорические обвинения. Обо всех этих духовных беседах может дать очень определенное понятие латинская формула, приложенная Стерном к его роману «Тристрам Шенди»[215].
Успех министерской программы далеко не был так блистателен; она даже и противоречие встретила только со стороны некоторых особенно наивных парламентских депутатов, которые никак не могли примириться с мыслью о том, что итальянское министерство в столь важных случаях до того занято Парижем, что собственное отечество забывает вовсе.
Разбирать эту программу и ее основную формулу libera chiesa in libero stato с точки зрения здравого смысла была бы совершенно лишняя работа, так как она издана в свет с совершенно специальной целью – успокоить католический мир насчет будущей участи главы церкви. С этой точки зрения она вполне удовлетворительна. Г. Рикасоли предлагает папе очень выгодное положение.
Итальянское правительство, хотя и решившееся наконец закрыть многие из монастырей, построенных на землях, им не принадлежащих, во всем остальном придерживается в отношении к духовенству надувательной политики. В пользу их оно во многих случаях отступается даже от статута; национальная гвардия выказывает всегда особенное усердие, когда ей приводится защищать монахов и попов от проявлений народного гнева, который сами они очень дерзко и неосторожно возбуждают часто против себя. Классы народонаселения, не посвященные в тайны отечественной дипломации, очень недружелюбно смотрят на потачку, которую правительство дает католическому духовенству, и нужно сознаться, что правительство иногда слишком уже далеко заходит на этой дороге. Попы пользуются очень бесцеремонно этими выгодами своего нового положения и постоянно возбуждают всякого рода беспорядки в народе. Клерикальные журналы с особенной охотой набиваются на процессы, которые обыкновенно проигрывают перед судом присяжных, но которые дают гласность их необыкновенному героизму, стоящему им очень дешево, так как денежные иски платят богатые здешние аристократические семейства, особенно привязанные к реакции и ко всем прелестям австрийского правительства в Италии.
Вот те моральные средства, на которые в особенности рассчитывает министр Раттацци в деле решения Римского вопроса, и ими почти ограничивается вся министерская и парламентская деятельность по этой части. А потому, как видите, содействие Гарибальди и его партии здесь вовсе не лишнее. Теперь, мне кажется, время поговорить наконец и об этом вовсе не дипломатическом действии, так как оно-то именно занимало Гарибальди во все время его пребывания на Капрере.
Если бы намерение Гарибальди было идти прямо в Рим с вооруженной силой, не обращая внимания ни на какие обстоятельства – чего особенно боятся здешние умеренные – он не ждал бы на Капрере, пока остынет энтузиазм Италии, пока большинство втянется в тину робкой министерской дипломации. По окончании военных действий под Капуей он был несравненно сильнее нового Итальянского правительства, располагал почти 20 000-м войском и мог бы иметь его в 10 раз столько, если бы изъявил хотя малейшее желание. Не знаю, пошло ли бы за ним регулярное сардинское войско, но против него оно не стало бы ни в каком случае; на это уже были доказательства, и так недавно еще в деле тосканской экспедиции Джованни Никотеры[216].
Он, однако же, не воспользовался этим, конечно, не потому, что понимал выгоды своего положения. По занятии передовых позиций над Капуей пьемонтскими войсками, он тотчас же распустил свое войско. Те, которые изъявили желание остаться вооруженными, были тотчас же преобразованы в отдельный корпус итальянского войска, и не сохранили даже своего прежнего имени. Гарибальди сам признает их своими солдатами, а сардинское военное начальство не доверяет им, так что они вдруг очутились в очень неловком, двусмысленном положении, которого и должны были ожидать.
Гарибальди вовсе не дилетант войны. Личная его храбрость заключается в том, что он ни перед какими опасностями не отстанет от своих убеждений, не уступит иностранцам клочка итальянской земли. Опасность не опьяняет его, не имеет для него никаких особенных прелестей. Только эту храбрость он избирает в других. Бешенство Нино Биксио[217], слывшего за храбрейшего из гарибальдийских храбрецов, в нем встречало мало сочувствия, а жестокость этого генерала в минуты сражения возбуждали в нем даже отвращение, и под конец между ними установились вовсе не дружеские отношения. Гарибальди вовсе не имеет намерения мстить врагам Италии за старые обиды, – он будет драться отчаянно против них, каждый раз, когда выгоды отечества этого потребуют, но он первый протянет дружески им руку, едва они переберутся по ту сторону Альп. Во время Вольтурнской битвы рота бурбонских солдат, переодетых в красные рубашки, с криками Viva VItalia пробралась в тыл гарибальдийцам. Хитрость эта не удалась, их узнали слишком скоро. Не пробуя даже защищаться, они побросали ружья, но остервеневшие гарибальдийцы не намерены были щадить их. Сам Гарибальди с большим трудом остановил эту бойню. Отряд национальной гвардии отвел уцелевших в тюрьму Санта-Мария.
По военному уставу они должны были быть расстреляны. Войско требовало этого с тем большей настойчивостью, что Бурбоны варварски обращались с итальянскими пленниками. Возле тюрьмы собирались толпы солдат и народу, с криками и угрозами. Комендант донес об этом Гарибальди. Он сам отправился к заключенным, дружески говорил с ними, и узнавши, что они ничего не ели в течение 30 часов слишком – так как в Санта-Марии трудно было раздобыть съестных припасов, послал им из ближайшей кофейной на свой собственный счет в большом количестве коньяк и кофе.
Только крайняя необходимость может заставить его прибегнуть к кровопролитию. В то время, когда он уезжал на Капреру, никто в Италии не предполагал, чтобы римские дела затянулись так, как это случилось. Носились очень достоверные известия о какой-то тайной конвенции между итальянским правительством и французским двором, что Рим будет уступлен Италии тотчас же по взятии Гаэты. Известия эти были очень правдоподобны – не знаю, доверял ли им Гарибальди – во всяком случае он мог считать позволенным отсрочить вооруженную попытку.
На приобретение Венеции таким же мирным путем не могло быть надежды; само правительство проповедовало крестовый поход против Австрии на будущую весну (1860). Вопрос о продолжении французского союза был очень загадочен. Самые выгоды Италии требовали, чтобы Наполеон не отступал даже и в ее пользу от своего принципа «невмешательства». Одна Австрия не казалась Гарибальди непобедимой, но он понимал очень хорошо, что только соединенными усилиями целой нации можно было добиться победы. Между тем ни министерство, ни парламент не намерены были дать участие в будущих военных подвигах классам народонаселения, стоявшим за цейсом. Они, однако же, громко требовали этого; внутренняя вражда готова была вспыхнуть с новой силой. Гарибальди явился примирителем: «приготовимся и вооружимся» (prerariamoci ed armiamoci), – писал он комитетам. Этот совет его был принят всеми без исключения с восторгом, и стал главным пунктом программы патриотических ассоциаций.
В то время еще Гарибальди – хотя в не дружеских отношениях с министерством – верил в благие стремления итальянского правительства, надеялся, что самый статут пьемонтский заменится новым итальянским, который бы благосклонно относился к низшим слоям общества, оказавшим новому правительству очень важную услугу во время последнего переворота и требующим в вознаграждение за это только того, чтобы и впредь им позволено было принимать участие в судьбах отечества. А потому Гарибальди представил на рассмотрение парламента свой проект всенародного вооружения и мобилизации национальной гвардии, которая до известной степени могла заменить регулярное войско, слишком дорого стоящее Италии в настоящее время.
Выгоды этого предложения для обеих сторон были очевидны: министерство, однако же, не приняло его только на основании двух условий, из которых одного требовал Гарибальди, другое являлось само собою, а именно: пополнение новых мобилизированных батальонов национальной гвардии волонтерами всех сословий и классов и предоставление главного начальства над ними самому Гарибальди. Первое было очень определительно высказано самим Гарибальди (я очень часто повторяю это имя, потому что никак не могу решиться называть его генералом), и он ни в каком случае не отступился бы от него.
Министерство сочло лучшим прибегнуть к рекрутским наборам, и войско по-прежнему осталось самой тяжелой статьей его государственного бюджета. Самые рекрутские наборы, в особенности во всех присоединенных провинциях, могли встретить много затруднений и объявления их ожидали не без некоторого неспокойства. Сверх ожидания, в Неаполитанских провинциях – где прежде он никогда не существовал – он пошел очень удачно; зато в Умбрии возбудил всеобщее неудовольствие. Провинция эта одна из тех, в которых всего более на полуострове развита сельская промышленность, а следовательно труд ценится больше, чем деньги. Пока она находилась под властью папы, она платила больше податей, чем в настоящее время; из них известная часть шла на наем швейцарцев для войска.
Уменьшение податей произвело здесь без сомнения очень хорошее впечатление; но когда пришлось отдавать в солдаты лучших работников на 6 лет, умбры прокляли и прогресс и унитарные стремления, и если не сделали никаких реакционных попыток, то единственно по непривычке доверяться собственным силам. Прежде еще уничтожение монастырей заставило поколебаться их несокрушимую преданность статуту и единству Италии…
Несмотря на это явное неодобрение правительством его планов, Гарибальди вовсе не отказался от всенародного вооружения, но только дело это он предоставил уже вполне комитетам, так как министерство само отказалось от его содействия, а следовательно и на содействие министерства Гарибальди рассчитывать не приходилось.
«Те, которых не поведут за собой против общего врага итальянские генералы, пойдут за мною», сказал он, и обойденные правительством классы народонаселения увидели, что они при этом, конечно, ничего не потеряют.
Таким-то образом Гарибальди стал почти против воли правительством вне правительства, генералом очень многочисленной армии, хотя и распустил всех своих до последнего солдата.
Время шло, а дело не приближалось к развязке и даже скоро вступило в ту область утонченных дипломатических хитростей, из которой и не предвидится скорого выхода. Стали поговаривать об уступке Сардинии… Министерству был сделан запрос по этому поводу. Рикасоли гордо отвечал, что он не намерен уступать иностранцам ни клочка родной земли.
То же говорил и Кавур перед присоединением Савои и Ниццы. Слова Рикасоли встретили, однако же, более доверия в публике, потому что его твердость вошла здесь в поговорку. Тем не менее все это не могло успокоить ни Гарибальди, ни его приверженцев. Рикасоли мог ручаться только за себя. Внезапная его отставка возбудила самые сильные подозрения. В Кальяри, в Сардинии, была сделана заранее торжественная демонстрация; новому министерству жителями этого острова был представлен протест. Раттацци, однако же, не произнес по поводу всего этого дела ни одного слова, которое могло бы увеличить или рассеять сомнения насчет предполагаемой уступки.
Самые горячие приверженцы министерства понимают очень хорошо, что оно дошло до такого запутанного положения, из которого без посторонней помощи ему никогда не выбраться. Страх за то, чтобы Гарибальди не попробовал наконец развязать а 1а Александр Македонский этот новый гордиев узел, по-видимому приобретает все больше и больше основания. И Гарибальди конечно с большим трудом выносит свое бездействие при этом жалком состоянии дел своей родины. Его молчание по этому поводу особенно стращает умеренных: добро бы он хоть протестовал словесно или письменно против того дурного употребления, которое делает министерство из итальянской независимости. А то он ни слова не говоря, не мешаясь по-видимому ни во что, одиноко живет на своей Капрере, словно ждет минуты… И он действительно ждет этой минуты, только вовсе не в бездействии…
18(6) марта
В Тоскане есть одна местность, которая, кажется, самой судьбою предназначена для авторов ужасных романов в роде Радклиф[218], тем более, что с нею связаны исторические воспоминания тоже очень ужасного рода: старый, мрачный, полуразрушенный замок на дикой и голой скале, построенный для сикариев[219], как тогда называли, по их оружию – мечу, сделанному наподобие языка – sica[220]. В замке этом они держались очень долго против преследований правительства. Теперь замок этот пуст и посещается только по ночам летучими мышами, весьма разнообразного, но одинаково отвратительного вида.
Вокруг этого замка местность самого мрачного и угрюмого вида: вечно мокрая, глинистая почва, ни куста, ни цветка в окружности. Камни вулканического происхождения загромождают дороги. На каждом шагу попадаются ямы, насыщающие воздух серными испарениями, из которых теперь в большом количестве добывают сернистоводородный газ.
Замок этот называется Рокка Силлоно[221], местность вокруг носить общее название Saforii. Несколько в стороне находится Mons Cerberi, возле которого открыты были еще в древности эти серные озера.
Эти озера вдруг исчезают, как по колдовству, и появляются в новом месте, часто на довольно большом расстоянии от прежнего. В настоящее время лагуны Mons Cerberi, или Montecerboli[222], как его теперь называют, приносят очень небольшой доход и главные фабрики перенесены на Монтеротондо[223]; но в старые времена вряд ли были известны эти последние, и первые обращали на себя внимание и наводили страх и на этрусков и на римлян.
Лукреций в своей поэме «De natura rerum»[224] поместил следующее двустишие:
Is locus est Cumas apud; acri sulfure montes Obpletei calidis ubi fumant funtibus auctei[225].Стихи эти заживо задели этрусское самолюбие здешнего археолога Ринетти: он никак не хочет допустить, чтобы подобное место могло быть где бы то ни было во всем свете, за исключением тосканской Мареммы, и на этом только основании доказывает, что эти стихи Лукреция непременно должны относиться к здешним лагунам. Ученый соотечественник Ринетти, Маркетти[226], переведший Лукрециеву поэму народными стихами и несколько переиначивший эти стихи, восстал против него; таким образом завязался между двумя почтенными тосканскими антиквариями очень назидательный ученый спор, породивший очень большое количество томов всякого рода остроумных аргументов с обеих сторон.
Дело, однако же, в том, что Кум в древности было только двое: одна в Неаполе, другая в Азии. Первая из них незамечательна ничем, вторая – классической глупостью своих жителей, в доказательство которой Страбон приводит, что они, несмотря на то, что в течение 300 лет обладали одним из лучших портов в Средиземном море, не могли придумать наложить подать на ввозимые к ним отовсюду товары. Из этих слов историка можно вывести, что наложение податей есть признак развитого и здравого ума – заключение очень выгодное для министра финансов Бастоджи. Я, впрочем, не имел намерения говорить ни об ученых спорах, ни о министре финансов, ни о налогах.
Я лучше приведу несколько строк из другого латинского писателя об этих лагунах, которые не возбуждали никаких ученых споров:
«В этих местах ключи бьют с такой быстротою, поднимаются на громадную высоту и после быстро падают вниз, что издали слыша их, воображаешь себя среди несметного стада блеющих баранов или, лучше, среди многочисленной толпы хриплых плебеев, кричащих против сената. К тому же воды эти так горячи, что если бы кто в них вздумал купаться, вылез бы оттуда совсем без мяса и с обнаженными костями». – «Я уж не знаю, что только пьют жители этих мест», прибавляет наивный географ.
Жители этих мест не пьют, конечно, этой воды, потому что там очень дешево хорошее вино. Выкупался же в подобной лагуне несколько лет тому назад некто Чьяски, конечно, не по собственному желанию, и сотоварищ его, химик Джузеппе Гверрацци, на трупе его мог хорошо изучить губительное действие этих вод.
Итальянские ученые не останавливались, однако, перед трудностями исследования этих мест; они не могли допустить, чтобы природа устроила подобные феномены единственно с целью пугать народ Божий. Геффер, придворный аптекарь тосканского великого герцога Фердинанда, отправился по высочайшему повелению исследовать эти озера или, правильнее, лужи, и очень с большим трудом добился только того, что они содержат буровую кислоту, но в каком количестве и стоит ли труда добывать ее оттуда – он не решил.
Первый, исследовавший их основательно и заведший там фабрики, был Гверрацци, получающий с них и теперь очень большой доход, хотя ему делают уже сильную конкуренцию. Впрочем, в настоящее время фабрика эта принадлежит уже не Гверрацци, а французу Лардерелю. Этот новый владетель попробовал было отправлять продукт своих фабрик в Марсель, но во Франции товар этот показался до такой степени новым, что вынуждены были сделать особенный запрос министру торговли, какой таксой обложить его. Министр, как видно, не хотел уподобиться жителям азиатской Кумы, и назначил такую пошлину, что Лардерель предпочел иметь дело с Англией, куда и отправляет теперь всю добываемую им буровую кислоту. Доход, получаемый им от этого производства, не вычитая издержек, около 150 тысяч франков ежегодно. Г-жа Радклиф не заработала бы столько, если бы стала описывать все ужасы Рокка-Силлана, Церберовой Горы и окрестностей.
Процесс, которым добывается из лагун эта кислота, очень немногосложен и сама природа делает большую половину дела. Лагуны первоначально были просто расщелинами, их обратили в правильные бассейны, из которых постоянно идет густой, удушливый и горячий пар. Дождевая вода, падающая туда в большом количестве во время осенних дождей, насыщается ими, так как в них подземным огнем постоянно поддерживается атмосфера кипения, и оттуда бьет фонтаном в нарочно приготовленные для этого стоки.
Лагуны отделены одна от другой узкими и скользкими дорожками; земля очень глинистого свойства, темно-красного цвета, употребляется в живописи под именем тердесьен[227]. Его особенно любили наши русские художники времен Шебуева и Егорова[228]. Во время дождей, к ним невозможно приблизиться, – удушливый пар останавливается в сырой атмосфере; в ясную погоду он уходит вверх. Но во всякое время года атмосфера здесь так насыщена испарениями их, что все металлы чернеют до того, что там очень легко отдать золотой в 10 франков за медную монету в 2 сантима. Путешественники очень неохотно посещают эту интересную местность. Немудрено – в ад всегда успеешь попасть вовремя, – торопиться нечего.
Возвращаюсь к дальнейшему производству.
В трубах, по которым идет насыщенная этими парами вода, осаждается в твердом виде вещество очень похожее на железо; его перегоняют в котлах при температуре кипения, которая поддерживается жидкостью, набираемой из самых лагун. После этой процедуры в котлах остается чистая буровая кислота, сушится и продается. Эта последняя самая безопасная и приятная во всех отношениях часть процедуры.
Фабрикация совершается через посредство небольшого числа работников, за что особенно должен благодарить судьбу г. Лардерель; иначе бы ему пришлось распроститься с миллионами, потому что здесь очень трудно найти людей, которые за умеренную плату решились бы осудить себя на преждевременную смерть и каждый день подвергаться опасностям быть сваренными в вонючей жидкости, как кокон шелковичного червяка. Человеческие жилья попадаются здесь очень редко, и то на порядочном расстоянии от лагун, ближе к Bagni a Morba, славившимся в древности и в Средние века своими целительными свойствами. Репутации этой у них не может оспаривать никто, так как во все время их существования решился посетить их только Медзетто, секретарь Флорентийской республики, которого уже не на шутку одолела подагра. На полпути его схватили разбойники и потребовали с него выкупу 2000 флоринов. Он стал торговаться с ними, говоря, что жизнь человека, больного подагрой, не может стоить так дорого. Те замучили его до смерти, желая добиться своего. Таким образом Медзетто не мог добраться до пресловутых ванн, и репутация их осталась незапятнанной.
Ночью с 1 на 2 сентября 1849 г. Гарибальди вдвоем с одним из бывших старших офицеров римской армии пробирался по опасным тропинкам между лагунами, в надежде добраться до Bagni a Morbo. За ним охотились, как за диким зверем. Жизнь его была оценена немногим дешевле, чем разбойники оценили жизнь секретаря Флорентийской республики. Что должен был он вынести, блуждая впотьмах по местам, на которых и днем редко кто решится прогуливаться? – предоставляю решить вашему воображению.
Местность была ему вовсе незнакома, как и большая часть внутренней Италии, – тогда он еще очень недавно возвратился из Америки. Судьба привела его к воротам бедной крестьянской избушки… Но кто знал, что было для него безопаснее: продолжать ли ночью свое путешествие или просить убежища у неизвестных ему крестьян? На нем была его обыкновенная форменная одежда, которую все знали очень хорошо. Манифесты Радецкаго, обещавшие верную смерть каждому, кто в чем-нибудь поможет его бегству, и несколько тысяч флоринов тому, кто мертвого или живого отдаст его в руки австрийцев, были распубликованы по всем деревням и читались во всех церквах после обедни. Гарибальди, однако, не задумываясь, постучал в ворота. Я не знаю, что отвечал он спросившему его домохозяину… Его впустили… На следующий же день, переодетый в крестьянское платье, в сообществе владетеля избушки, крестьянина Гвельфо Гвельфи, он отправился по Скарнинской долине к берегу моря. Остальное вы узнаете из следующей надписи, которая должна быть вырезана на мраморной доске, которая вставится в стену избы Гвельфо Гвельфи:
«Выгнанный из Италии, как дикий зверь,
Тот, кому предназначено было
Спасти Италию, -
Джузеппе Гарибальди,
бежавший из Рима
В ночь с 1 на 2 сентября 1849 года,
нашел здесь убежище и здесь отдыхал.
В ту же ночь, пешком, с одним проводником
Отправился он по Скарнинской долине
И благополучно достиг мыса Мартина.
Оттуда
на рыбачьей лодке отправляется он по морю.
Бог милосердый,
Видя наши бедствия,
Спас его и сохранил.
Хвала Богу,
Честь герою.
Гвельфо Гвельфи.»
Надпись эту сочинил Франческо-Доминико Гверрацци, автор «Осады Флоренции». Вот почему она вышла несколько витиевата.
Такого-то рода обязательства существуют между Гарибальди и сельским народонаселением Италии. Они сто ят слова, данного им работникам.
19(7) марта
Вынужденный политические свои действия ограничить одним приготовлением к будущим военным событиям, не желая возбудить новое раздвоение и внутреннюю вражду в Италии своим вмешательством в министерскую политику, Гарибальди предпочел употребить это время на то, чтобы расквитаться со своими старыми обязательствами. Это-то святое дело он доверил комитетам; устройство внутреннего благосостояния этих несчастных классов народонаселения должно, по мнению Гарибальди, играть такую же роль в их программе, как и всенародное вооружение. Понять этого не потрудилось ни министерство, ни его партия. Одно это вооружение достаточно восстановило их против ассоциаций, а тут еще они видят, что делается что-то другое, что-то им неизвестное, но касающееся прямо тех из их сограждан, о благе которых они немного заботятся. Во всем этом им чудится какой-то тайный заговор против владычества мещан и банкиров, социальная революция, которая – и это еще меньшее из зол, которые она готовит Италии – наконец выведет из терпения великодушного союзника, и он отправит своих зуавов в Турин защищать парламент, на том же самом основании, на котором теперь он защищает в Риме папу. Из боязни этой невзгоды они доходят до смешного, вдаются в постоянные противоречия и готовы пожертвовать собственными своими гражданскими правами, чтобы только не дать возможности поднять головы задавленному ими же пролетарию и крестьянину.
В Италии, где законы насчет печати несколько снисходительнее тех, при которых Фигаро издавал свой журнал, всякая партия, всякий политический оттенок, каждая что-нибудь значащая в администрации личность – имеет свой орган в журналистике. Низшие сословия, по большей части безграмотные, одни не могут пользоваться этим удобством. У них одно средство высказывать свои стремления и наклонности, средство очень старое и неблаговоспитанное – уличные демонстрации.
В Неаполе перед всеобщей подачей голосов в пользу присоединения, Фарини и Либорио Романо[229] побуждали народ к демонстрациям. Правительство и теперь не принимает никаких против них мер, следовательно закон этим не оскорбляется. Тем не менее, каждое подобное проявление народной воли вызывает в умеренных журналах самые яростные филиппики против комитетов, словно комитеты эти сами кричат на площадях, или имеют возможность и право принять на себя власть австрийских полицейских в подобных случаях.
Заботясь всеми, зависящими от них мерами о распространении в народе грамотности и первых начал человеческого образования, разве они не работают против этих уличных сцен, имеющих конечно свои невыгоды.
Приведу здесь прокламацию флорентийского комитета, которая показывает, что они не возбуждают никаких беспорядков. Напротив.
Сегодня здесь именины Гарибальди – народный праздник. На этот день по обыкновению готовились демонстрации против всего, что в последнее время возбудило неудовольствие против администрации, то есть против того, что могло бы оскорбить Гарибальди, если бы он не стоял выше подобных оскорблений.
Вот слова этой прокламации:
«Лучший способ почтить Гарибальди – сделать доброе дело.
Поэтому флорентийский комитет решил отпраздновать его именины следующим образом:
18 числа, в 9 часов утра, откроется денежная подписка, которая будет закрыта 19 числа, в 10 часов вечера. Деньги эти будут розданы семействам бедных гарибальдийцев, в помощь, того же дня, в зале ремесленного братства, где будет дан бал с платою по 1 франку за вход.
Деньги за распроданные бальные билеты предназначены для капитала на освобождение Венеции и Рима.
Сам герой должен скоро посетить наш город, а потому комитет предлагает всем желающим поднести ему адрес, в котором будут изложены чувства к нему здешних граждан. Таким образом всякая демонстрация в нынешний день будет неуместна».
И во Флоренции, действительно, не было на этот день никакой другой демонстрации. В некоторых других, по преимуществу умеренных, тосканских городах не были даже выставлены знамена в окнах домов и магазинах, что до сих пор соблюдалось всегда в торжественных случаях.
А хотите знать, под каким предлогом умеренные отказываются праздновать этот день? Именины Мадзини, тоже Джузеппе, совпадают с именинами Гарибальди: так видите, они боятся, чтобы изгнанник не принял на свой счет все те проявления привязанности, которыми они во всякое время готовы почтить Гарибальди…
Признаюсь, пока я еще не успел вникнуть в жизнь здешних партий, вся эта ненависть умеренных к партии движения казалась мне 2-м актом комедии, которую Италия разыгрывает единственно для великодушного союзника.
До тех пор, пока дело касалось одного Гарибальди, они очень искусно маскировали свои настоящие расположения, даже против комитетов декламировали с умеренностью им свойственной. Но скоро они сами дали им очень благовидный предлог… Комитеты эти нарядили от себя комиссию, которой поручено было исходатайствовать у парламента уничтожение избирательного ценса и дозволение Мадзини возвратиться в Италию. Это последнее было вызовом на явную борьбу.
«Так вот в чем дело», со злобным восторгом возопили умеренные и министериальные журналы: «комитеты эти обманывают и нас и Гарибальди; они преданы Мадзини и душою и телом, они органы, посредством которых он надеется привести в исполнение свои преступные замыслы».
Более деятельные из комитетов продолжали свои занятия, не обращая внимания на эти отчаянные возгласы; другие, более робкие, отказались от всякой деятельности и устремили все свои способности и помышления на то только, чтобы приобрести себе благоволение министерства и умеренной партии. Теряясь в пустых мелочах и законных формальностях, они совершенно упустили из виду свое главное дело.
Изолированность всех их многим ухудшала положение. Стала очевидна необходимость одного общего всем центра, одной оконченной программы, которая бы была признана всеми и служила бы нормой, регулятором каждой отдельной ассоциации.
Попробовали в Генуе учредить центральный комитет, нечто в роде инспекторского департамента итальянских патриотических обществ, через посредство которого Гарибальди мог бы передавать свои распоряжения. Учреждение это встретило множество затруднений с обеих сторон. Имена лиц, его составляющих, деятельное участие, которое принимал во всем этом друг Мадзини, Марио, возбудили очень сильное подозрение в умеренной партии. Циркуляры, которыми центральный комитет приглашал все итальянские ассоциации сообщать ему подробные сведения о своей деятельности, встречены были с большим неудовольствием. Некоторые остались без ответа.
Министерств журналы распускали самые нелепые слухи. Говорили, что Гарибальди отказался от председательства над центральным комитетом, признавая его делом Мадзини, и вследствие этого о каком-то раздвоении между партиями Гарибальди и Мадзини.
Все это, а главным образом внутреннее неустройство комитетов, заставило наконец самого Гарибальди принять более деятельное против прежнего участие в этом деле.
9-го марта, в Генуе, в зале маленького театра Паганини, собрались представители большей части итальянских братств и ассоциаций. Незанятые ими места были полны народом, ложи заняты дамами, составляющими женский итальянский унитарный комитет. Около половины двенадцатого, громкие рукоплескания с площади дали знать собравшимся о приближении их председателя. Скоро, действительно, вошел Гарибальди и занял место за президентским столом…
Гарибальди во всем очень мало похож на обыкновенных смертных; в особенности же красноречие его очень мало имеет общего с витийством лучших здешних ораторов, очень еще привязанных ко всякого рода фьоритурам, неожиданным эффектам и неумеренной жестикуляции. Особенность Гарибальди – уменье очень определенно высказать многое в немногих словах простым, разговорным, но чистым итальянским языком, говорить которым здесь умеют очень немногие, и которым никто не пишет. В переводе его коротенькая речь много бы, конечно, потеряла, а потому я и не стану приводить ее здесь, точно так же, как считаю позволенным не описывать и весь дальнейший ход этих заседаний, которых было три, последнее 11 марта, а следовательно, все это уже давно прошедшее и легко может быть известно вам по газетам.
Этого конгресса ждали все с большим нетерпением, так как он должен был привести в ясность очень многое. Не знаю, готовились ли умеренные услышать от самого президента полное осуждение комитетов вообще и генуэзского централизационного в особенности, предать их беззащитными в руки министерства и его далеко вышедшей за пределы умеренности партии. Если так, они горько ошиблись в своих расчетах. Гарибальди сделал несколько снисходительных замечаний насчет того жалкого положения, в которое ввергли эти комитеты внутренние раздоры и их разъединенность, назначил специальную комиссию для того, чтобы издать новую программу, общую всем тем комитетам, которые пожелают, соединившись между собою, составить одно итальянское патриотическое общество, под названием Societa Emancipatrice Italiana[230]. Председательство этой комиссии доверено ему же. Каждый вопрос программы баллотировался и все были приняты по большинству голосов. Таким образом Гарибальди уже прямо на себя берет ответственность за действия комитетов, подтвердив прежде, что прежняя его личная программа: «единство Италии под скипетром Виктора-Эммануила» – не изменилась нисколько.
Казалось, как бы не успокоиться этим туринскому министерству, которое только благодаря верности Гарибальди этой его программе и сидит теперь на своем месте. Вышло, однако же, совершенно противное. Раттацци с полным сознанием собственного нового величия выразил свое министерское неудовольствие по поводу генуэзских заседаний. Беда бы еще не велика, так как из заседавших никто, вероятно, не надеялся заслужить одобрение с его стороны. Но на этот раз результаты превзошли ожидание.
Опомнившись несколько от первого волнения, г. Раттацци объяснил, что неудовольствие его относится только к некоторым речам, произнесенным на этом конгрессе. Дело объясняется впрочем очень легко. Министр, видя себя в критическом положении и во враждебных отношениях даже к большинству министериалов, вынужден был сделать маленькую диверсию на парламентскую левую – не поддастся ли авось хоть она? Говорят, он получил необходимое на это разрешение из Парижа.
Но министериальная партия тем яростнее восстает против генуэзских заседаний, чем благосклоннее относится к ней первый министр. Сперва известия о них и ее озадачили сильно. Скоро, однако же, журналы всех умеренных оттенков разразились самым бешеным потоком новых нападений и нареканий. Все они пока направлены еще на один главный пункт.
Один из вице-президентов вновь назначенной Гарибальди центральной комиссии, г. Ф. Кампанелла[231], был в числе тех, которым доверено было исходатайствовать Мадзини права возвращения на родину. Итальянскими статутом право прощать предоставлено исключительно королю, но для получения прощения необходимо представить предварительно прошение в министерство. Депутаты центрального генуэзского комитета выполнили эту формальность. Рикасоли принял их просьбу очень хорошо, но сказал, что к исполнению ее встречались некоторые политические препятствия, и требовал времени, чтобы отстранить их. Между тем министерство его упало. Раттацци начал чересчур затягивать дело. До 9 марта депутаты не могли добиться от него никакого решительного ответа. На первом из генуэзских заседаний, по рассмотрении донесения депутатов, предложено было подать новую просьбу в министерство.
Кампанелла, не ожидая от Раттацци скорого решения, восстал очень горячо против новой попытки и предложил, чтобы Гарибальди взял на себя исходатайствовать этого дозволения. «Если бы и ему не удалось этого добиться», прибавил вспыльчивый депутат: «то мы перенесем это дело на публичные площади».
Слова эти, хотя были осуждены другими членами комиссии, послужили умеренным журналам поводом к обвинению всей комиссии, а затем и генуэзского центрального комитета и всех остальных.
Кампанелла вынужден был напечатать в журналах свое объяснительное письмо, но этим мало поправил дело. Старые обвинения в мадзинизме, радикализме, якобинизме, социализме и целой дюжине всяких других измов с новой силой посыпались на кого следовало. Дело обещало не ограничиться журнальной полемикой, которая сама приняла характер судебного следствия. В парламенте очень серьезно возбужден был вопрос и о генуэзских заседаниях, и о правах ассоциаций вообще.
Генуэзское собрание обвинялось в том, что будто бы ни на одном из заседаний не было произнесено имя короля. Обвинение это оказалось ложным; доказано было положительно, что имя короля произнесено было несколько раз и постоянно встречалось восторженными рукоплесканиями.
Вопрос о праве ассоциаций перенесен был в сенат, где возбуждены были горячие прения по этому поводу, так как статья статута, его касающаяся, несколько темна. Парламентский депутат Бибрио, о котором мне не в первый уже раз приходится говорить, требовал настоятельно, чтобы все комитеты были закрыты во что бы то ни стало.
К сожалению, для этого нужны были другие более законные основания. После долгих распрей и толков решено было приступить к составлению нового закона насчет их, что и отложено до одного из ближайших заседаний камеры, где депутат Марьото-Галенга уже проповедует насчет смысла, в котором должна быть эта статья. Защитником комитетов является – кто бы вы думали? Сам Раттацци, припадок либерализма которого все более усиливается с возрастающим затруднительным положением. Слова его на этот раз исполнены не одних только благих намерений, но и здравого смысла.
«Задача министерства слишком трудна», говорит он вздыхая: «а потому оно сильно нуждается в законном содействии ему всех классов народонаселения. Только дела, касающиеся вооружения, должны быть предоставлены правительству, и всякое постороннее вмешательство было бы неуместно».
До появления нового закона решили дать силу мнению сенатора Ланфреди о комитетах; а Ланфреди не может допустить, чтобы статут отнимал у кого бы то ни было право собираться мирно и без оружия, – опираясь на то, что итальянское правительство не раз само открыто признавало эти права.
В каком смысле будет новый закон, должно бы разрешиться скоро. Но решения ждут не без некоторого беспокойства, так как умеренные продолжают свои иеремиады против богопротивных комитетов, и основывают свою ярость уже не на некоторых только словах и спичах.
Один из журналов, «Movimento» («Движение») – вероятно круговое, по системе Вико – посвящает несколько столбцов самым отчаянным антикомитетским Филиппинам. Все они вертятся вокруг одного: да зачем же эти господа хотят непременно возвращения Мадзини?
Автор статьи, как в заколдованном круге, вертится вокруг этого вопроса и никак не может дойти до разрешения. И наконец, истощенный непривычным движением, бросает к черту и силлогизмы и логику, и восклицает в скорби великой:
«Эти проделки, незаконные сами по себе, в устах генуэзских ораторов принимают характер оскорбления статуту и особе короля! После всего этого[232] не может быть ни малейшего сомнения, что просьба их исполнена не будет».
Интересно бы узнать, какое впечатление произвела на почтенного автора телеграфическая депеша, передаваемая сегодняшними журналами, которой Виктор-Эммануил дает знать Наполеону III, что декрет о снятии с Мадзини смертного приговора им подписан, и следовательно, нет больше препятствий к его возвращению на родину.
Итак, Мадзини, по всей вероятности, очень скоро возвратится в Италию.
Но что же значит страх перед ним умеренного большинства? Этот мнимый страх перед Мадзини – маска, под которой кроется нечто другое, несравненно более безобразное и отвратительное.
Комитетам простили бы учреждение народных споров, обществ вольных карабинеров и пр. Но им не забудут того, что их стараниями городской работник выходит наконец из того крепостного состояния, в котором держали его денежные люди.
Нельзя сказать, чтобы комитеты эти и ассоциации уже далеко ушли по той дороге, которую указывает им Гарибальди. Они с самого начала встретили слишком много затруднений, и немногие из них успели перешагнуть через всякого рода препятствия. Другие же скрестили руки и теперь еще придумывают средство, как бы им перешагнуть так, «чтобы гусей не раздразнить». Пошли им Господь вдохновение, а то долго еще некоторые провинции Италии останутся в настоящем своем жалком положении…
Но оставим этих многих, чтобы не помешать их тяжелому раздумью. Зато по крайней мере в немногих из итальянских городов, как грибы растут воскресные школы для рабочих всех возрастов и всех степеней развития. Многое еще остается сделать, но кое-что уже и сделано; дальнейшее в будущем, но все будущее Италии зависит от этих комитетов, и теперь оно уже начинает наступать…
Многое изменилось в Италии с тех пор, как Гарибальди уехал на Капреру, и не бесплодно провел он там 17 месяцев в тяжелых полевых работах, в дружеских совещаниях с личными своими друзьями, и богатую жатву пожнет Италия с тех бобов и картофеля, которые сажал он там в минуты досугов.
Всего же больше изменилась самая сущность отношений к Гарибальди парламентского большинства и всех тех, которые воспользовались для своих выгод его геройскими подвигами 1860 г. Один только не переменялся к нему с того дня, как под Капуей он назвал его своим лучшим другом. Этот один – Виктор-Эммануил, король Италии, который по-прежнему видит в Гарибальди самую лучшую опору для королевства, блага Италии, за которое сам он не раз дрался рядом с простыми солдатами своего войска против старых врагов…
По окончании генуэзских заседаний Гарибальди отправился в Турин, для свиданья с королем и для того, чтобы исходатайствовать наконец амнистию Мадзини и учреждение народных аторов во всех городах Италии.
Первая просьба его уже исполнена. Вторая вероятно тоже не затянется на долгое время. Виктор-Эммануил не станет ставить преград деятельности Гарибальди – он клялся, что хочет единства Италии, а добиться этого единства и разрешения представляющихся по этому поводу трудных и запутанных вопросов, может быть только через посредство его одного… Прежде чем политическое единство, нужна внутренняя цельность – а ведь не министерство же Раттацци его добьется.
P.S.
Гарибальди предполагает объехать все итальянские города, в которых многие ждут его с нетерпением. Эта его прогулка обращает на себя всеобщее внимание и возбуждает очень разнообразные толки.
[Леон Бранды]
Сиена, 20(8) марта 1862[233]
Аспромонте
Прежде чем решиться писать об этом предмете, о котором так много было говорено после самого события в итальянских и других журналах, я неоднократно задавал себе вопрос: может ли в настоящее время человек, которого самые существенные жизненные интересы тесно связаны с закончившейся при Аспромонте драмой, относиться к ней с тем холодным беспристрастием историка, какое необходимо в подобном случае?
Для этого приходилось анатомизировать многое мне слишком близкое, приходилось забывать, во имя более или менее холодных принципов, многие слишком горячие привязанности, живых людей, и людей таких, которым не могут не удивляться и самые заклятые их враги по профессии…
А между тем сколько мне ни приходилось читать реляций и рассказов, официальных и неофициальных, я во всех их встречал столько же, иногда может быть и добросовестной, только слепой вражды партии, что не только одна абстрактная истина страдала от этого, но и все то, что было во всей этой драме высокого, являлось в совершенно искаженном виде, а порою и совершенно исчезало за риторическими фразами и всякого рода благонамеренной и неблагонамеренной клеветой… Кроме того, имев случай очень близко узнать самое дело со многими его подробностями, я ясно увидел, насколько правильное и беспристрастное изложение фактов будет на этот раз более всевозможных риторических прикрас и разглагольствований служить самому делу.
Достиг ли я своей цели, предоставлено судить читателю…
Во всей Европе очень распространено мнение, будто событие последнего лета в Сицилии – начало какого-то демагогического переворота, но столько не уверенного еще в своих силах, что предводители его сочли за лучшее прикрыться до времени гарибальдийским девизом 1860 г.: Italia ипа е Vittorio Emanuele!
Чтобы показать, насколько неправильно это мнение, основанное на более или менее официальных, т. е. министерско-правительственных показаниях, я начну свой рассказ с того самого времени, когда Гарибальди в первый раз в Палермо сказал свое решительное: Roma о morte[234].
Это было 21 июля: Гарибальди, накануне этого дня, совершенно неожиданно приехал в Палермо, где его по обыкновению встретили не только проявлениями самой горячей признательности за все, им уже сделанное для Сицилии, но и выражениями самого полного и горячего доверия к нему, как человеку, от которого одного ждут скорого по возможности и честного решения всех волнующих Италию вопросов. Гарибальди говорил народу с балкона Преторианского дворца[235], в котором, два года тому назад, он жил в качестве избранного народом диктатора…
Я не стану приводить здесь всей его речи, которая была напечатана во всех почти итальянских журналах. Припомню только, что в заключение ее, представляя палермцам соотечественника их, полковника Коррао[236], как вполне пользующегося его доверенностью, человека, которому он тут же передавал право действовать от его собственного имени, – Гарибальди призывал итальянцев снова стать с оружием в руках под то самое знамя, которое они и победоносно пронесли в 1860 г. по всей Южной Италии и которое развевалось над урнами плебишитов[237].
Слова его были приняты громкими рукоплесканиями, и почти то же самое повторилось во всех городах Сицилии, которые тогда посетил Гарибальди, призывая жителей «оружием взять то, что по праву принадлежит им, и что только силою у них отнято».
Все это говорилось им публично; жандармы и войска были в числе его слушателей, представители административной власти не раз вместе с ними влезали на балкон, с которого он говорил. Министерство между тем предписывало повсюду местным гражданским и военными властям воздавать ему все возможные почести. В Палермо ему была отведена квартира в королевском дворце, и очень скоро эта его квартира обратилась в резиденцию главного штаба войска, к организации которого он приступил немедленно, и приступил вполне откровенно, без всяких тайн… В Палермо же было заказано несколько тысяч красных рубах и военных фуражек, и фабриканты вовсе не держали в секрете свои новые работы. Груз оружия (около трех тысяч ружей), для предполагаемого войска, прошел через палермскую таможню и был впущен в город без всяких затруднений. Ружья эти среди белого дня и на одной из многолюднейших площадей города грузились на фуры, которые должны были их везти в Фикуццу[238], и все знали очень хорошо, куда и зачем они отправляются. Не следует забывать, что из Палермо в Фикуццу слишком 30 миль большой торной дороги, по которой находится несколько пикетов конных карабинеров, и что ружья эти не были сопровождаемы вооруженными гарибальдийцами.
В то же самое время здешний журнал «La Сатрапа della sancia», орган крайнего отдела Партии действия, ежедневно сообщал очень точный и подробный (очень часто преувеличенный) отчет об успехе нового предприятия Гарибальди, и очень многие итальянские журналы занимали из него вести и перепечатывали эти всех интересовавшие сведения…
Похоже ли все это на заговор и можно ли назвать революцией предприятие, которое делалось открыто, с ведома всех и каждого, нимало ни заботясь скрывать ни отдаленной цели своей, ни средств, которыми хотели идти к достижению ее, от правительства? Не основательно ли было предположить, что между этим последним и Гарибальди царствовало полнейшее согласие? И в самом деле, почти вся Италия не могла в то время допустить и мысли о том, чтобы король смотрел неблагосклонно на это предприятие.
В самом Палермо и во всей Сицилии люди, открыто принадлежащие к умеренной и к правительственной партии, – в этой уверенности и с полным сознанием того, что дело Гарибальди истинно народное итальянское дело, – стали содействовать ему, насколько могли, и часто очень значительными денежными приношениями. Палермитанское патриотическое общество, самое умеренное из итальянских патриотических обществ, открыло подписку на организацию военно-походного госпиталя для гарибальдийского войска, и все итальянские журналы, за исключением разве «Monarchia Nazionale» и «Discussione» почтенного адвоката Боджио[239], рассказывали с восторгом об этом человеколюбивом подвиге палермитанского братства…
Я было совершенно упустил из виду следующее, весьма красноречиво говорящее само за себя, обстоятельство: маркиз Паллавичино[240], префект города и провинции Палермо (его ни почему не должно смешивать с берсальерским полковником Паллавичино, о котором я буду говорить после), объявил со своей обычной откровенностью, что он никогда не решится препятствовать новому предприятию Гарибальди; он даже писал об этом в министерство, которое и без того должно бы было знать, что с ведома Паллавичино более тысячи волонтеров из Северной Италии успели уже собраться в Палермо, ходили совершенно свободно по улицам в гарибальдийских мундирах и ни от кого не скрывали настоящей цели своего приезда в Сицилию. Однако же, несмотря на все это и на его собственную формальную декларацию, Паллавичино не был отставлен от должности префекта, пока сам наконец и вполне добровольно – motu proprio[241], не оставил ее, находя, что положение его становится более двусмысленным и запутанным, чем бы он желал…
Со стороны нации не было изъявляемо никакого недоверия к Гарибальди или страха за возможность неудачи его смелой попытки, однако же, некоторые из парламентских депутатов сочли за нужное сделать министерству по этому поводу запрос. Раттацци отвечал, если не уклончиво, то во всяком случае слишком туманно и лаконически, что он будет наблюдать за тем, чтобы закон не был нарушен. А в то же время, и несмотря на возраставший с каждым днем успех Гарибальди в Сицилии, о котором упомянутая «Сатрапа» и «Corriere Siciliano» трубили на весь мир, министерство не давало никакой интимации[242] Гарибальди, не давало даже никаких инструкций местным военным властям, и, когда за отставкой Паллавичино, другой префект, г. Де Феррари принял в свои руки управление островом, ему не было дано никаких особенных инструкций, или экстренных прав, т. е. власть его оставалась чисто административной в настоящем и самом узком смысле этого слова…
Когда наконец (28 июля к вечеру) несколько сот правильно экипированных или вооруженных гарибальдийцев проходили через весь город отдельными взводами и собрались потом на одной из площадей предместья, называемого delle Teste[243], их повсюду встречали только выражениями самого искреннего и дружеского сочувствия, и не только народ, но и самые войска и даже карабинеры. А между тем все знали очень хорошо, что волонтеры эти отправляются в военном порядке в лагерь под Фикуццу, Мизильмери и Пиану[244].
На следующий день, т. е. 29/17 июля, когда Гарибальди, собравшись оставить Палермо, чтобы ехать тоже в свой лагерь, в прощальной своей речи снова объявил целому городу, с какими целями он снова призывает их к оружию – тогда только Де Феррари объявил ему, что им получена инструкция от центрального правительства, согласно которой он объявляет все дело Гарибальди совершенно несогласным с правительственными стремлениями. Он тут же прибавил, что министерство потому только и не препятствовало прежде его замыслам, что не знало их, но что в настоящее время он, Де Феррари, вынужден будет употребить даже военную силу, если Гарибальди не сдастся на его увещания…
Гарибальди уехал. Де Феррари почти следом за ним послал в Фикуццу 10 рот пехоты, состоявшей под начальством регента. Этого последнего – достойного друга и последователя Чальдини – никто здесь не подозревает в приверженности Гарибальди или в слабости и нерешительности; а между тем инструкции, данные им посланному войску, были такого рода, что это последнее сводилось исключительно на роль ненужного зрителя, тогда как оно могло очень мирно помешать по крайней мере дальнейшему развитию предприятия Гарибальди, занять все главные дороги и отнять таким образом у гарибальдийского лагеря возможность сообщения с городами, откуда к нему постоянно являлись новые волонтеры. Этого, однако же, не делали, и на следующую же ночь (с 30-го на 31-е июля) пришла в лагерь колонна, состоявшая из 400 человек из Палермо, где никто не подумал препятствовать ей выйти из города, хотя она вовсе не позаботилась скрывать ни самое свое отправление, ни цель этой прогулки.
Утром 1-го августа Гарибальди явился в Фикуццу, бывшую королевскую виллу[245], известную по многим историческим событиям и в которой жил король Фердинанд, когда бежал из Неаполя от Партенопейской республики[246].
Тотчас по своем приезде, Гарибальди занялся окончательным устройством своего маленького войска.
Гарибальди хотел назвать все отряды общим именем Римского легиона. На знамени его, кроме прежнего девиза Italia е Vittorio Emanuele, были еще слова Roma о morte. Войско это должно было быть устроено сообразно с пьемонтским военным уставом, с той существенной разницей, что все чины, офицеры и солдаты, получали одинаковое совершенно жалованье и совершенно равную пищу. На первый раз все войско было разделено на 14 отрядов, и так как число волонтеров увеличивалось с каждым днем, то скоро должны были дать ему другое устройство и подразделение.
Образовали два стрелковых батальона под начальством Бидескини и Менотти Гарибальди, из остальных образовали три полка под начальством Бентивеньи, Траселли и Бадия[247].
Это была первая бригада под начальством генерала Коррао. Впоследствии составились два других стрелковых батальона под начальством Гверцони[248] и Пелиццари[249], рота генуэзских карабинеров, состоявшая вовсе не из генуэзцев, и два батальона пехоты. Все эти вместе составляют вторую бригаду. Кроме того, под начальством Миссори[250] составился эскадрон гвидов[251].
Начальником главного штаба назначен был полковник Корте[252], командовавший в 1860 г. гарибальдийской экспедицией, взятой в море в плен бурбонским корветом. Но Корте долго не являлся, и место его занимал подполковника Бруццези[253]. Миссори командовал главной квартирой. При главном штабе состояли полковники Фриджери, Энрико Каироли, Руджеро Мауриджи (издавший потом свои записки об этом деле), Нуволари и парламентские депутаты Никотера и Мичели; этот последний потом был генеральным аудитором[254]. Позже приехали полковники Гвасталла, Нулло и Саломоне[255]. В качестве секретаря при Гарибальди был редактор известной газеты «II Diritto». Медицинской частью заведовал старик Рипари, и при нем состояли два молодые итальянские хирурги Базиле и Альбанезе[256].
«Единственным замечательным событием первого дня, – говорит г. Мауриджи в своих записках, – было появление двух конных карабинеров. Они спрашивали медика, но так как его не оказалось, то вручили генералу запечатанный пакет. В нем было несколько экземпляров прокламации Де Феррари, которую накануне развесили было на стенах домов в Палермо; но народ сорвал ее оттуда. Я еще утром принес ему экземпляр этой прокламации. Он прочел ее очень спокойно, и из нескольких слов его, сказанных им мне по этому поводу, я увидел, что он твердо уверен в том, что министерство не решится препятствовать нам, потому что знает, что программа наша есть основа его же собственного существования и само оно обещало много раз развивать ее, во что бы то ни стало.
После обеда, Гарибальди делал смотр всему своему войску и, обратясь к тем, которые стояли близ него, сказал:
“Со мною не было и половины этого числа, когда я в 1859 г. отправлялся из Турина, и еще меньше было со мною при отъезде из Кварто[257]. Я никогда и не рассчитывал на такую цифру”.
Гарибальди в это время думал, может быть, о штыках французских, думал и о штуцерах тирольских егерей, – прибавляет полковник Мауриджи, – но конечно ему и в голову не приходило, чтобы могли на месте этих последних случиться итальянские же солдаты. Мысль об этом ему показалась бы сумасшествием»[258].
Так как место, где был расположен лагерь Гарибальди, было очень бедно водою, то он на заре следующего дня (2-го августа) отправил сына своего с его батальоном в Меццоюзо, куда и сам намерен был прибыть к вечеру. Затем несколькими часами позже он отправил в Корлеоне[259] полк Бентивеньи, состоявший из трех батальонов. Сам же он с остальными колоннами отправлялся по направлению параллельному этому пути к Кукко[260].
От Фикуццы до Кукко идет очень трудная и гористая дорога, и потому – хотя расстояния всего три мили – Гарибальди сделал распоряжение, чтобы колонна его остановилась на вершине горы, где расположено Кукко, изобилующее лесом. Сам он тоже расположился обедать. Он собственными руками вспотрошил и зажарил козленка и пригласил некоторых из своего главного штаба разделить с ним этот не Лукулловский обед… Скоро монахи соседнего монастыря прислали ему довольно роскошный и лакомый завтрак, но так как он уже пообедал, то и передал свой завтрак молодым солдатам, любимым своим piciotti[261], из бригады Коррао.
Около 4-х часов пополудни они снова отправились в путь к Меццоюзо. Дорога была так неудобна, что пришлось слезать с лошадей, которых даже было трудно под уздцы проводить по едва заметным тропинкам, протоптанным стадами и охотниками. К 8-ми часам они были уже в Меццоюзо, жители которого вышли им навстречу за милю расстояния от этого местечка.
Гарибальди пошел с ними в церковь, где отслужили молебствие и священники благословили его и его войско. Потом, взойдя на балкон соседнего дома, он говорил народу, и слова его были приняты слушателями по обыкновению.
Меццоюзо – одна из старых албанских колоний; народонаселение здесь частью православного[262], частью католического вероисповедания. Между двумя духовенствами здесь постоянные ссоры и вражда; оба они, однако же, послали депутацию к Гарибальди. Генерал принял их одинаково ласково и, напоминая им их старые распри, заметил, что он надеется, что скоро все эти несогласия прекратятся, и что люди поймут наконец, что один Бог народов и Бог справедливости.
Главную квартиру расположили в двух маленьких комнатках, где Гарибальди принимал многих из своих офицеров и нескольких граждан, герцога Вердура[263], профессора Ла Лоджа, и др., приехавших к нему из Палермо с известием, что префектом Палермо назначен Куджа[264] с особенной властью административной и военной. Они же привезли Гарибальди экземпляры прокламации короля за подписью министров, которой правительство объявляло себя враждебно расположенным к предприятию Гарибальди и убеждало его последователей разойтись по домам, угрожая в противном случае всей строгостью законов.
«От них мы узнали, – говорит одно из действующих лиц этой драмы, – что генерал Куджа снабжен особенными инструкциями и что ему предписано прибегнуть даже к самым решительным и крайним мерам, для того, чтобы остановить Гарибальди на его пути. Они говорили нам также, что народ сицильянский решился твердо не допустить никакого насилия со стороны войска против гарибальдийцев; затем эти известные патриоты просили не от имени народа, а от своего собственного, чтобы Гарибальди отказался от своего трудного предприятия, потому что результатом его легко может выйти кровавая стычка между войсками и гражданами».
Об этой депутации очень много было говорено во всевозможных газетах. Общий слух насчет ее, слух распространенный здесь очень многими, заслуживающими доверия газетами, тот, что будто лица, окружавшие в то время Гарибальди, шумно восстали против депутатов, едва ли не оскорбили их, и таким образом вынудили генерала дать им отрицательный ответ. Насколько несправедлив этот слух, доказывается прежде всего уже тем, что депутаты были люди слишком близкие и самому Гарибальди, и большей части окружавших его тогда лиц, и что, кроме того, как я и сказал уже, они советовали Гарибальди отказаться от начатого им предприятия вовсе не как депутаты от лица сицильянского народа, а просто в качестве добрых итальянских патриотов, которые готовы были многим пожертвовать для того, чтобы избежать кровопролития и междоусобий.
Дальнейшие подробности этой сцены я выписываю из дневника маркиза Мауриджи, бывшего его свидетелем.
«Некоторые из присутствующих стали было возражать депутатам и совещаться с ними о разных подробностях и случайностях этого дела, но Гарибальди, которого один из главных недостатков именно в том, что он в критические минуты не любил спрашивать ничьего совета, прервал их: он резко отвечал, что ни в каком случае не откажется от исполнения своего слова и от своей марсальской программы, но что, конечно, он, во что бы то ни стало, избежит стычки с королевскими войсками. Затем он просил передать сицильянцам от его имени, чтобы они тоже воздержались от всяких крайностей и “ни за что и никогда не проливали бы и капли итальянской крови, которая вся принадлежит отечеству”».
Должно прибавить, что королевская прокламация, экземпляры которой депутаты принесли Гарибальди, была распубликована по всем городам Италии, но что ее никто и нигде не принимал в настоящем смысле: все были убеждены, что это необходимая дипломатическая уловка со стороны правительства, но что в сущности оно само содействует Гарибальди: lo fa apposta, или per salvar le apparenze (оно это делает нарочно, для видимости) был здесь общий говор…
Несколько дней маленькое войско Гарибальди шло без особенных приключений по уединенным и очень дурно проложенным горным тропинкам по направлению к Мессине. Во всех местечках и городках, через которые им приходилось проходить, их встречали с энтузиазмом, и число их возрастало с каждым днем. 8-го августа они пришли в Виллальба, небольшое местечко в горах над долиной Валлелунга. Гарибальди думал по обыкновению расположить свое войско на ночь на площадях городка, но узнал, что место это известно своим вредным воздухом, и решился идти дальше в горы.
В это время явился известный падре Панталео[265], капеллан гарибальдийского войска, хорошо знакомый тем, кому известны события 1860 г. Он отправился из Фикуццы за колонной Бентивеньи, отправившейся, как я сказал уже, на Корлеоне. От него Гарибальди узнал то, что случилось с этой колонной и что я постараюсь рассказать здесь в нескольких словах с возможной последовательностью.
Колонна Бентивеньи пришла в Корлеоне 3 августа (я ставлю числа по новому стилю) и была встречена там с большим почетом не только жителями, но и военным гарнизоном. На следующее утро она отправилась в Палаццо-Адриано, где ждал ее полковник главного штаба Фриджери, которому было поручено заняться ее организацией. Там она пробыла несколько дней и 7 августа прибыла в местечко Санто-Стефано, пройдя в ночь несколько миль очень трудной дороги, где приходилось переправляться вброд через несколько горных ручьев и рек.
Санто-Стефано принадлежит к Бивонской коммуне и отстоит едва на две мили от самой Бивоны. Бентивенья отправил двух своих офицеров в этот город, чтобы объявить тамошним властям о своем приходе. В Бивону в это время только что пришли две линейные роты, посланные туда новым префектом (генералом Куджа), и офицеры Бентивеньи сочли за нужное представиться начальнику этого отряда. Тот принял их довольно дружелюбно, и они отправились без всяких приключений назад в Санто-Стефано. Там между тем уже успели разместить волонтеров в двух больших церквах, находящихся в противоположных концах города. Едва офицеры успели, разместив солдат, сами отправиться по квартирам, раздалась перестрелка.
Дело состояло в следующем. В Палаццо-Адриано, и прежде еще в Корлеоне, к колонне Бентивеньи пристало несколько человек регулярного войска. Их, конечно, объявили за дезертиров и отдано было приказание всем пикетам карабинеров ловить их. Близ Санто-Стефано несколько карабинеров узнали одного из таких дезертиров между гарибальдийцами и хотели тотчас же арестовать его; гарибальдийцы воспротивились этому, и между ними скоро завязалась драка. Сержант карабинеров послал немедленно в Бивону просить подкрепления от войска. Две роты, о которых я уже говорил, скоро явились в окрестности Санто-Стефано, тотчас же оцепили все местечко и отправили один взвод на рекогносцировку внутрь города.
Несколько гарибальдийцев, бывшие совершенно случайно на дороге, пробовали было удержать этот взвод сначала мирным путем и, наконец, выстрелами. Солдаты отвечали им батальным огнем. Это происходило возле одной из церквей, откуда гарибальдийцы выбежали тотчас же на помощь своим.
Бентивенья и Каироли, услышав выстрелы, бросились тотчас же в другую церковь, где расположена была большая часть их войска, сделали там необходимые распоряжения о защите и, обеспечив своим на всякий случай отступление в горы, поспешили на место драки. Бентивенья, очень молодой человек, в первый раз командовавший отдельным отрядом, несколько смутился. Но Каироли, взяв с собой трубача и парламентерский значок, бросился в самый центр драки. Солдаты, не обращая внимания на его белое знамя, выстрелили по нем несколько раз и на очень близком расстоянии; однако же, благодаря счастливой случайности, он остался не ранен. Ему удалось найти наконец начальника регулярного отряда. Он упрекал его за то, что тот решился безо всякой нужды на кровопролитие и уговорил его наконец заставить прекратить огонь с своей стороны. Чтобы более убедить его в своих добрых замыслах, он отдал ему свой револьвер. Пока Бентивенья переговаривался с майором регулярного войска, Каироли строил в порядок свою колонну, чтобы она могла правильно действовать против регулярного войска, в случае если бы переговоры между Бентивенья и пьемонтским майором имели неблагоприятный исход. Должно заметить, что регулярные солдаты завладели ружьями гарибальдийцев, так как эти, по приказанию Каироли и чтобы показать свое невраждебное расположение к войску, составили их в козлы и оставили без прикрытия.
Солдаты отказывались возвратить гарибальдийцам их ружья, однако же, Бентивенья счел за лучшее выйти из Санто-Стефано и отправился в Кастельтермини.
Полковник Фриджери, майор Каироли и четыре венгерца составляли авангард.
Едва прибыли они в Кастельтермини, бывший там отряд регулярного войска тотчас же вышел оттуда…
Когда падре Панталео рассказал все это Гарибальди, тот на минуту казался очень раздражен случившимся, но скоро с обыкновенным своим спокойствием приказал своей колонне готовиться в путь.
По дороге встретили они отряд великолепно экипированной конной национальной гвардии, выехавший им навстречу из небольшого городка Марианополи. Отряд этот проводил их до Кальтанизетты. В Санта-Катерина Гарибальди встретил консула североамериканских штатов в Палермо, с двумя морскими офицерами; они для того только проехали второпях несколько десятков миль скверной и иногда опасной дорогой, чтобы повидаться с Гарибальди. Ночью Гарибальди должен был принять депутата, прибывшего из Кальтанизетты, чтобы объявить ему, что тамошний гарнизон весь ушел к Джирдженти[266].
Утром 10 августа Гарибальди отправил всю свою колонну различными дорогами к Вилларозе и, оставив при себе только батальон Бидескини[267] и некоторых из офицеров своего штаба, в карете отправился в Кальтанизетту. Там встретили его такой блестящей демонстрацией, какие только южные итальянцы умеют делать.
Гарибальди говорил к народу с балкона дома Унитарного Общества… Смысл его речи и восторг при этом слушателей нетрудно угадать…
Я вообще не останавливаюсь на описаниях торжеств, которыми встречали Гарибальди почти во всех проезжаемых им городах Сицилии. Но не могу пропустить следующий эпизод из пребывания его в Кальтанизетте. Предпочитаю передать его в рассказе очевидца.
«В самый день нашего приезда префект Марко[268], суровый пьемонтский чиновник, явился к генералу с визитом и пригласил его вместе с его офицерами на обед во дворце префектуры. В 8 часов вечера мы были у префекта; с нами обедал синдик и другие муниципальные власти. К концу обеда префект провозгласил тост в честь Виктора-Эммануила, избранного народом короля Италии и в честь Гарибальди, пожелав этому последнему от души успеха во всем, что бы ни предпринял он на благо Италии. Гарибальди встал и, поблагодарив префекта, предложил в свою очередь тост в честь короля и выразил надежду, что он вскоре провозгласит этот же самый клик в Капитолии. Тогда все присутствующие – горожане и военные, монархисты и республиканцы, умеренные и неумеренные – отвечали одним дружным и искренним Viva il Re![269]».
Насколько префект Марко был в этом случае представителем правительства, не знаю. Но положительно известно, что он не только не был сменен за то, что с таким почетом принял в правительственном дворце мятежника, а еще больше – за то, что перед приходом Гарибальди вывел войска из Кальтанизетты; но правительство даже не сделало ему никакого замечания по этому поводу…
На следующий день все городские знаменитости являлись по очереди к Гарибальди; большая часть из них были слишком преданы настоящему порядку вещей, чтобы их можно было заподозрить в какой-либо недобросовестности: но все они очень хорошо понимали тогда, что Гарибальди не партия, что в его словах двусмысленности не кроется и пр… Удивительно, как они перестали совершенно внезапно понимать это.
13 августа Гарибальди прибыл в Вилларозу, где ждала уже его колонна Бентивеньи и другие отряды его маленького войска, шедшие другими путями из Фикуццы. 14-го утром они отправились в Кастроджованни[270]. Гарибальди ехал в экипаже по большой дороге, небольшой конный отряд под начальством Миссори отправился кратчайшим, хотя и очень неудобным путем через горы туда же.
Барон Варизано, богатый патриций из Кастроджованни, вышел навстречу Гарибальди с собранным им самим и экипированным на собственный свой счет батальоном волонтеров, которым сам он командовал, несмотря на очень уже преклонные свои лета. Гарибальди остановился в его доме и решился подождать там несколько дней. Между тем он отправил депутацию в Катанию, чтобы объявить тамошним жителям, что он ни в чем не изменил своей старой монархической программы и что он готов, во что бы то ни стало, избежать стычки с королевскими войсками, а следовательно все слухи, распускаемые на его счет его недоброжелателями, он объявляет вполне ложными. Депутатами были выбраны майор Руджеро Мауриджи и князь Коррадо Нишеми[271], служивший капитаном в батальоне Менотти.
«Проехав в 18 часов всю эту длинную и неудобную дорогу от Кастроджованни до Катании, – рассказывает Мауриджи в своих записках, – мы добрались до Катании 15-го утром. Город этот был в сильном волнении: ходили слухи, что Гарибальди намерен силой войти туда, если его не впустят добром. Пока Нишеми действовал с своей стороны, я обратился к некоторым городским знакомым моим, пользовавшимся большим весом в Катании. Мне не без труда удалось убедить их в том, что Гарибальди далеко не имеет тех замыслов, которые ему приписывают. Затем я отправился к префекту Толозано, старому своему приятелю. С ним я имел довольно длинный разговор в присутствии Сант-Элена, командира карабинеров и капитана корвета “Duca di Genova”[272]. Я сказал им, что поведение министерства во всем этом деле до того темно и загадочно, что трудно его понять. В доказательство я приводил факты, которые несколько смутили префекта: он, однако же, объявил мне, что имеет довольно подробную инструкцию, с которой и будет сообразовать свои действия. Тогда я еще раз объявил ему от имени Гарибальди, что обвинения в республиканизме и в желании междоусобий, которые взваливают на нас, – совершенная клевета, что Гарибальди по-прежнему держится своей монархической программы, но что он твердо решился не оставлять оружия, пока программа его не будет выполнена.
Я ушел от него, а через несколько времени мы, Нишеми и я, получили приказание немедленно уехать из Катании. Я было отправился к нему, но разговор наш не имел никаких последствий: префект стоял на том, чтобы мы уехали, а иначе он вынужден будет нас арестовать.
Я видел, что нам, пожалуй, можно ожидать ареста, и решился уехать. Мы отправились, но так как нам приходилось проезжать через лагерь Мистербьянко, бывший тогда на военном положении, то мы и решились назваться чужими именами, под опасением быть узнанными и принятыми за шпионов. Оставив одного из наших офицеров с некоторыми поручениями в Катании, мы сами отправились в Леонфорте, где нашли полковника Корте с нашим авангардом. Генерала не было: он с несколькими офицерами из Кастроджованни отправился в Пьяццу[273] и Пьетраперцию, так как жители этих деревень очень настоятельно приглашали его к себе; только к пяти часам пополудни он возвратился оттуда и, выслушав наше донесение, решил послать снова в Катанию одного доверенного своего человека, который накануне только явился в наш лагерь…»
На следующий день Гарибальди был в Регальбуто, где его встретили депутаты Мордини, Фабрици[274] и некоторые другие, решившиеся быть посредниками между ним и министерством. После очень длинных переговоров с Гарибальди, они снова отправились в Турин…
17 августа, узнав, что регулярные войска из Мистербьянко придвинулись ближе к ним и расположились в Адерно, так что аванпосты находились на расстоянии за 4 мили от гарибальдийских, Гарибальди перенес свой лагерь в сторону к Ченторби; это – старый городок с остатками норманнских древностей, расположенный на вершине крутого холма.
Несмотря на сделанный в этот день гарибальдийским войском трудный переход, почти 30 миль в 24 часа, к вечеру того же дня Гарибальди снова появился в Патерно, где оставалось в это время всего три роты регулярного войска бригады Piemonte. Остальных генерал Мелла, командовавший этой бригадой, вывел оттуда, чтобы идти навстречу генералу Рикотти[275], который с своей колонной преследовал Гарибальди почти от самого Джирдженти и прибыл в Кастроджованни сутками позже его.
Гарибальди думал перейти через Патерно ночью врасплох. План этот не удался. Бригада Коррао, которая должна была составлять авангард, опоздала в Ченторби, притом еще река Сунто, через которую пришлось переправляться вброд, сильно разлилась, и только днем уже удалось гарибальдийской колонне перебраться на другой берег. Среди белого дня гарибальдийцы подошли к Патерно. Тамошний военный отряд приготовился встретить их в боевом порядке. Гарибальди послал офицеров к майору, командовавшему отрядом, чтобы спросить у него, что он намерен делать. Он отвечал, что он должен препятствовать им войти в город; но что он готов позволить, чтобы были посланы туда в небольшом числе люди за провизией.
Тогда Гарибальди расположил своих солдат лагерем в соседней оливковой роще. Так прошло время до 6-ти часов пополудни. Когда свечерело, вся гарибальдийская колонна по данному сигналу отправилась по едва приметной горной тропинке и благополучно добралась таким образом до центральной площади Патерно. Жители встретили их в буквальном смысле слова рукоплесканиями.
Прежде чем регулярные солдаты успели в свою очередь спуститься в город, гарибальдийцы уже шли по дороге в Катанию, и часовой, стоявший с этой стороны у городских ворот, отдал им военные почести.
Но пьемонтский отряд застал еще в городе порядочное число гарибальдийцев, по большей части итальянцев бригады Коррао. Майор приказал было силой удержать их; гарибальдийцы приготовлялись на силу отвечать также силой. По счастью, Гарибальди был извещен вовремя о случившемся и успел предупредить кровопролитие.
Около полуночи того же дня вся гарибальдийская колонна, состоявшая из 4 тысяч человек, подходила к Мистербьянко. Толпа Катанских граждан с факелами и с криком Viva Garibaldi вышла им навстречу…
Весь переход от Мистербьянко до Катании имел характер триумфального шествия: карету Гарибальди окружала густая толпа, мешавшая ей двигаться скорее. Несколько молодых людей хотели было выпрячь лошадей, чтобы самими занять их место. Город был иллюминован, звонили в колокола, карабинеры и батальон пехоты, остававшийся еще в Катании, выстроились военными порядком на площади, казалось, недоумевая, какую играть роль им во всем этом?..
Через несколько часов после прибытия Гарибальди, разнеслись слухи, что колонна генерала Меллы тоже поворотила на Катанию, и вскоре узнали с достоверностью, что авангард его был уже возле
Мистербьянко. Гарибальди приказал своими приготовиться к защите, предполагая, может быть, что его решимость подействует на регулярных солдат и что дело и тут кончится без драки. Граждане Катании прислали ему депутацию, прося его рассчитывать на их силы и быть убежденными, что они готовы защищать его против кого бы то ни было. Национальная гвардия собиралась близ его квартиры и объявила себя готовой поступить в его распоряжение… В разных местах стали появляться баррикады и набатный звон со всех колоколен звал народ на площадь… По всему считали кровопролитие в этот день неизбежным: жители Катании и многие из гарибальдийцев были слишком озлоблены и не хотели видеть в наступавших войсках солдат ими же избранного правительства… Так как муниципальные власти не показывались, то Гарибальди назначили депутата Никотеру комендантом города. Затем еще раз в эту критическую минуту Гарибальди объявили народу, что программа его осталась прежнею, и первый закричал Viva Vittorio Emanuele! Крик этот скоро раздался по всему городу, повторенный тысячью голосов…
Совершенно неожиданно явился полковник генерального штаба Поццолини[276] в качестве парламентера от регулярного войска. Он требовал, чтобы из города были выпущены с оружием все находившиеся там линейные солдаты и карабинеры, обещая в свою очередь отпустить на свободу несколько десятков гарибальдийцев, отставших дорогой и захваченных солдатами. Гарибальди согласился. Тотчас же явился новый парламентер, объявивший от имени генерала Меллы, что регулярные войска вовсе не имеют предписания атаковать волонтеров, и что если бы подобное предписание пришло впоследствии, то генерал обязывается честным словом уведомить об этом Гарибальди прежде, чем начать враждебные против него действия.
Тогда Гарибальди отменил сделанные им прежде распоряжения насчет защиты города. Выходившие оттуда карабинеры и солдаты были провожаемы криками Viva Vesercito italiano![277] Жители и национальная гвардия положили оружие, толпились вокруг квартиры Гарибальди; он вышел на балкон и сказал им:
«Что сказать мне таким людям, как вы, жители Катании? Вы не нуждаетесь в побуждениях: когда Италия встанет на освобождение своих страждущих еще в неволе братьев, я убежден, что вы отзоветесь на ее призыв».
Гарибальди оставался несколько дней в Катании. Число волонтеров его увеличивалось вновь прибывавшими из Сицилии, и он приступил к формированию новой бригады, которую назвал «Катания»… 21 августа, узнав о приближении колонны Рикотти, состоявшей из 7 тысяч с лишком человек, Гарибальди перенес свою главную квартиру в бенедиктинский монастырь, находившийся на высоком холме в самом центре города.
Между тем королевские войска занимали все соседние деревушки. К ним тоже являлись новые подкрепления (от 2000–3000 человек и одна батарея)…
В ночь с 23 на 24 в гарибальдийском лагере ударили тревогу: разнесся слух, что только что прибывший генерал Рикотти хочет атаковать их. До утра гарибальдийцы простояли под ружьем, совершенно впрочем напрасно, так как Рикотти намерен был атаковать не этой, а следующей ночью – так, по крайней мере, говорит «Italia Militare», официальная военная газета.
Утром гарибальдийские часовые, стоявшие на верху монастырской колокольни, объявили о входе в порт двух коммерческих пароходов: одного итальянского «II Dispaccio», другого французского «Генерал Аббатуччи». Гарибальди, осмотрев их в подзорную трубу, сказал окружающим: «Этой случайностью нельзя не воспользоваться». Он тут же сел в карету и отдал приказание майору Каттабене[278] занять оба эти парохода гарибальдийскими отрядами, а сам отправился наблюдать за выполнением своего приказания…
В 10 часов утра сделано было распоряжение, чтобы, сколько можно было поместить на два эти парохода гарибальдийцев, были готовы к отплытию… В 2 часа по полудни бригада Коррао была уже размещена на французском пароходе, а незначительная часть ее расположилась на итальянском «II Dispaccio». Тут же были четыре стрелковых батальона, соединенные в один легион под начальством Менотти, генуэзские карабинеры, рота моряков и гвиды главного штаба… Всего на оба парохода едва взошло 3 тысячи человек. Две тысячи должны были остаться в Катании. Уезжая таким образом, Гарибальди надеялся избежать преследований пьемонтского войска, с которым драться он не хотел. О числе своих волонтеров он не заботился, потому что знал, что там, куда он придет, найдет новых. В 8 часов вечера Гарибальди подал сигнал к отплытию…
Прежде, чем идти дальше, скажу еще несколько слов о том распоряжении Гарибальди во время пребывания его в Катании, на которое всего больше нападают его враги, и на основании которого думают взвалить на него такого рода обвинения, какие едва ли могут быть когда-либо взваливаемы на людей, подобных Гарибальди. Распоряжения, о которых я думаю говорить, касаются денежных сумм, которыми, по словам последователей и приверженцев Боджо, Гарибальди будто бы силой овладел в Катании и других городах.
Я считаю совершенно потерянным трудом доказывать, что Гарибальди в этом деле не мог поступить недобросовестно, и расскажу только дело, каким оно выходит по очень точным и вполне беспристрастным сведениям, заимствованным мной по большей части из правительственных же журналов.
Говорят, будто бы Гарибальди получил от английского правительства какую-то баснословную сумму на свое последнее предприятие, ложность этого слуха теперь уже доказана: Гарибальди получил действительно из Англии сумму, собранную там по подписке; сумма эта вместе со всеми деньгами, полученными им от итальянских патриотов, составляла казну его войска и не доходила до 10 тысяч франков. Ее, конечно, не хватило бы на содержание гарибальдийской колонны во время перехода ее из Палермо в Катанию, если бы жители проходимых городов не оказывали ей всевозможного содействия. Положительно известно, что муниципальные правления сами предлагали вместо денег за доставляемые продукты брать расписки с них за подписью Гарибальди или его штаба.
В Катании, однако же, ему нужно было запастись деньгами для предпринимаемого им похода через всю Южную Италию в Рим. Он обратился к некоторым из граждан города, более всего пользовавшимся почетом и властью, прося их получить от казначеев таможенного и финансового правления, какие найдутся суммы. Таким образом, собрано было до 300 тысяч франков, и выдано ему под расписку.
* * *
Пароходы «Генерал Аббатуччи» и «II Dispaccio» с своим неожиданным грузом вышли из Катанского рейда еще до наступления ночи.
«Все молчали и не без трепета поглядывали на военный фрегат “Duca di Genova”, который одним выстрелом своих огромных пушек мог бы отправить всех нас на дно морское, – рассказывает один из актеров этой драмы – было до того душно, что мы буквально едва дышали; нельзя было не только ходить по палубе, но с трудом можно было повернуться или изменить позу… Генерал вышел на капитанскую рубку и принял начальство над экипажем. “Генерал Аббатуччи” вышел несколько прежде нас и, как очень хороший ходок, успел уже обогнать нас. Он остановился близ Ачи-Реале почти при выходе из порта; нагнав его, мы также остановились для передачи ему кое-каких распоряжений.
Королевский фрегат, который следовал за нами на некотором расстоянии, вдруг усилил пары и, казалось, хотел воспользоваться этой минутой, чтобы напасть на нас…
Мы уснули с уверенностью едва ли проснуться иначе, как при громе пушек или шуме волны, заливающей обломки нашего парохода… Вышло иначе – переход наш был очень короток и покоен. До рассвета мы были уже у Калабрийского берега».
Пароходы пристали близ мыса Capo d’Armi. Менотти с несколькими стрелками первый вышел на берег; за ним Корте, Никотера, Бруццезе и несколько офицеров главного штаба отправились на рекогносцировку. По соседству нельзя было достать барок, и были принуждены высаживать 3 тысячи человек и небольшое количество съестных и военных припасов на пароходных шлюпках. Благодаря этому едва к 11 часам кончили высадку…
Оттуда прямо отправились по песчаной дороге в Мелито, небольшую деревушку в нескольких милях от берега, где предполагали расположить главную квартиру.
В Мелито встретили Гарибальди несколько старых калабрийских патриотов, наговорили ему очень много о выгодном расположении к нему народонаселения, но обещали очень много такого, что существовало только в их пламенном воображении.
Гарибальди предполагал на следующий же день переехать в Реджо, куда тотчас же отправил некоторых своих офицеров главного штаба, родом калабрийцев, в числе их парламентских депутатов Мичели и Никотеру.
На заре следующего дня вся колонна отправилась по направлению к Реджо. Пройдя 10 миль, т. е. полпути, сделали первый отдых в Ладзаро… Меньше чем через полчаса явилась к ним депутация из Реджо с известием, что осадное положение объявлено в Калабриях, что отовсюду собирается сюда регулярное войско, что солдаты выказали озлобление против гарибальдийцев и пр. Депутаты говорили много о преданности всей провинции Гарибальди, но просили его от лица граждан, чтобы он не подавал повода к междоусобиям. Гарибальди отвечал им, что Ламармора и его полициотты плохие судьи в народном деле, если объявляют мятежником и изменником того, кто взялся за оружие во имя короля и Италии.
Вслед за тем явился гарибальдийский майор Саломоне, которого взяли в плен вместе с 7 волонтерами. С ними обращались очень дурно, но ему удалось бежать: он бросился в море, в него выстрелили несколько раз, но не ранили.
После полудня гарибальдийская колонна, построившись боевым порядком, двинулась вперед. Не успели пройти еще и мили, как повстречали панцирную плавучую батарею «II Terribile»[279], которая, казалось, выбирала место, чтобы стрелять по ним.
Через несколько минут действительно над головами гарибальдийцев засвистали пули, направленные по преимуществу к тому месту, где стоял Гарибальди, которого на таком маленьком расстоянии нетрудно было узнать и по костюму и по фигуре. Гарибальдийцы не смутились, однако же, и продолжали свой путь.
После трех часов хода они узнали, что авангард регулярного войска расположил свои аванпосты очень недалеко от Сан-Грегорио, место, где они тогда находились, и Гарибальди приказал сойти с дороги, которая вела в Реджо, и углубиться внутрь страны. После двух часов ходьбы по страшно утомительной горной тропинке, Гарибальди, боясь заблудиться, приказал остановиться близ Волланиди[280], несмотря на то, что регулярные аванпосты были едва в ста шагах от места, где приходилось ночевать гарибальдийцам…
На рассвете Гарибальди отправился по дороге к Аспромонте, надеясь, что этим путем он пройдет через всю Калабрию, не встречаясь с королевскими войсками.
После 10 часов очень утомительного пути гарибальдийцы достигли наконец первых холмов Аспромонте. Арьергард был еще на самом верху дороги у места, называемого ручьем св. Николая (torrente di S. Niccol), откуда нужно было спускаться по отвесной почти скале, когда из-за кустов показались три роты регулярной пехоты, которые шли скорым шагом и в боевом порядке им во фланг.
Несмотря на очень невыгодное положение гарибальдийской колонны, пьемонтские солдаты не атаковали ее, а рассыпным строем напали на немногих отсталых. Им удалось схватить и связать некоторых, но остальные стали отстреливаться. Скоро подоспел небольшой гарибальдийский отряд (около 150 чел.), замыкавший шествие. Регулярные солдаты открыли по ним живой батальный огонь и убили первыми же выстрелами капитана Риччи. Гарибальдийцы отстреливались так энергически, что заставили регулярных солдат отступить, оставив около 20 чел. убитыми, ранеными и пленными. Гарибальдийцы потеряли почти весь свой обоз, который по непонятной оплошности шел позади их без всякого прикрытия. Убит был мул, на спине которого находился ящик с деньгами, и только благодаря отчаянной храбрости немногих, сам ящик этот не достался в руки неприятеля.
Отдохнув около часа на одной из высших точек первой цепи аспро-монтских холмов, Гарибальди повел свою колонну дальше и остановился на так называемой Реджанской равнине, где нашел в достаточном количестве ключи хорошей воды.
Гарибальдийцы были совершенно истощены, не столько, может быть, усиленными переходами, сколько голодом; в течение последних двух дней они почти ничего не ели. Несмотря на все усилия фуражиров, могли достать всего 20 овец, которыми нужно было накормить все войско, усталое и голодное. В эту ночь Гарибальди потерял около 100 чел., умерших от голода, холода и истомления. Много других, между которыми немало оказалось бравых и сильных солдат, не могли следовать на следующий день за своим предводителем.
К ночи все офицеры главного штаба (за исключением двух или трех, остававшихся с генералом) укрылись в лесу Базилико от проливного дождя: они были все пешком, потому что лошадей оставили в Катании и не могли свободно следовать за движениями колонны… Вся колонна была в самом жалком виде: незнание дорог, проливной дождь, усталость, болезнь – все это вместе уничтожило всякий порядок между ними… Едва 300 человек, более сильных и здоровых, могли идти вперед за Гарибальди и его сыном Менотти. Еще ночью пришли они в небольшую ферму Платании, где укрылись, как могли, от непогоды.
Наутро дождь не переставал. Однако же гарибальдийцы, добыв проводника, отправились в Платанию, чтобы соединиться со своим предводителем. Человек около 500 разбрелись дорогой искать деревни или фермы, где бы могли утолить голод… К концу этого дня у Гарибальди оставалось едва 800 человек, из которых большая часть были истощены до того, что на них нельзя было и рассчитывать.
Утром 27 августа Никотера и Мичели возвратились с известием, что правительство твердо решилось атаковать гарибальдийцев, и что для этой цели больше 30 тысяч регулярного войска собираются в Калабрии. Им во время их пребывания в Реджо пришлось окончательно разочароваться во всех надеждах, возбужденных в них словами калабрийских патриотов в Мелито.
Гарибальди, выслушав их донесение, тотчас же отправил обоих их с полковником Миссори и с майором главного штаба Ломбарди[281] разведать страну, по которой ему предстояло вести свое ослабевшее войско.
Ночью того же числа и утром на следующий день несколько сот отставших было гарибальдийцев присоединились к Гарибальди; и хотя некоторые, узнав о враждебных намерениях на их счет правительства и получив новое уверение в том, что Гарибальди не станет драться с итальянскими солдатами, а будет продолжать свои затруднительные переходы, чтобы избежать с ними встречи – некоторые решились оставить его, – тем не менее, утром 29, когда Гарибальди делал смотр всему своему легиону, налицо оказалось около 1500 человек. Гарибальди сказал им, что их ждут новые и еще более тяжелые жертвы и что потому он просит только тех оставаться с ним, которые не пересчитывают лишений, перенесенных ими за родину, а понимают, что, что бы ни отдал человек своему отечеству, он никогда еще не заплатит ему своего долга. Эти слова обещали в будущем продолжение прежних страданий; около 300 человек, не считая себя в силах дальше выносить их, оставили Гарибальди. Между тем пришло известие о приближении довольно многочисленного регулярного отряда, и Гарибальди, раздав своим небольшое количество съестных припасов, повел свою колонну по горам и после часу ходьбы (около 3 часов по полудни), остановился на сплошном возвышенном холме, поросшем довольно густым лесом и вследствие этого называющемся Форестале. Оставив в центре обоз, Гарибальди расположил часть стрелков Менотти и генуэзских карабинеров вокруг этого центра, остальные стрелки составляли левое, и бригада Коррао (из которой осталось не больше 500 человек) – правое крыло. Гарибальди с некоторыми из офицеров главного штаба и с немногими твидами обходил всю линию…
Около 5 часов вечера регулярная колонна, состоявшая из 6 батальонов пехоты и почти такого же числа берсальеров, показалась на соседних высотах, милях в 2-х расстояния от гарибальдийского лагеря. Заметив гарибальдийцев, полковник Паллавичино, выдвинув вперед цепь застрельщиков и распределив остальных батальным порядком, повел их беглым шагом к Форестале…
Гарибальди в это время приказал своим офицерам повторить своим солдатам, чтобы они отнюдь не стреляли по регулярному войску…
Не подойдя еще на ружейный выстрел, Паллавичино разделил все свое войско на две колонны. Очевидно было, что одна из них, командуемая бывшим гарибальдийским, а теперь регулярным полковником Эбергардтом, должна была обойти в тыл гарибальдийцам, а другая под начальством полковника Паррокви[282] занять равнину у подножья холма. План этот едва ли бы мог быть исполнен колонной Эбергардта, нужно было пройти слишком большое пространство в виду и под выстрелами неприятеля, но Гарибальди и его офицеры обегали всю линию, убеждая своих не стрелять…
Колонна Паррокви подходила все ближе и ближе без выстрелов. Когда наконец она подошла шагов на триста к гарибальдийскому авангарду, состоявшему из стрелкового батальона Менотти и из батальона бригады Коррао под начальством майора Ди Бенедетто[283], по внезапно данному сигналу она открыла сильный огонь по волонтерам… Гарибальдийцы, благодаря усилиям генерала и своих офицеров, не тронулись с места и даже не взялись за оружие…
Пули свистали изрядно и большая часть их была направлена к небольшому холму, откуда Гарибальди, которого весьма легко отличить во всякой толпе, отдавал свои приказания… Менотти, однако, не долго выдержал предписанную ему пассивную роль. Потеряв в первую же минуту нескольких солдат и офицеров и будучи сам уже ранен, он приказал своему батальону стрелять по передовой цепи берсальеров. Две роты его батальона, одна под начальством молодого князя Нишеми, другая поручика Риччи, брата убитого утром капитана, после первого залпа бросились в штыки на берсальеров и заставили их отступить… В то же самое время батальон Ди Бенедетто с успехом открыл в свою очередь батальный огонь, когда разнеслась печальная весть: «Гарибальди ранен».
И действительно: он ни за что не хотел сойти с возвышения, с которого мог сам видеть всю свою линию и быть виденным всеми. В первые же минуты стрельбы он был контужен рикошетной пулей в левое бедро, но не обратил никакого внимания на это, как вдруг почувствовал сильную боль в щиколотке правой ноги. Ступая машинально несколько шагов вперед, он упал на землю, и махая шляпой, громко прокричал, и несколько раз, Viva VItalia.
Напрасно офицеры уговаривали его позволить перенести себя в безопасное место; адъютант его Турилло-Малато[284], Каироли и прибежавший майор Бидискини почти насильно взяли его на руки и понесли. По настоятельным требованиям раненного, они должны были положить его у опушки леса. Полулежа на земле, Гарибальди попросил у одного из ближе стоявших фляжку и носовой платок и принялся сам лечить и перевязывать свою рану, не переставая приказывать, чтобы трубили сигнал отбою и чтобы огонь со стороны волонтеров был немедленно прекращен.
Батальон Менотти, выйдя уже далеко вперед, услышал сигнал отбою. Не зная, что делать, волонтеры остановились перед самым лицом неприятеля, т. е. итальянскими же берсальерами, и прокричали: Viva VItalia! Viva Vittorio Emanuele at Campidoglio[285]. Берсальеры, вскинув за плечи свои штуцера, отвечали им дружным Viva Garibaldi!
Перестрелка замолчала и регулярные солдаты и волонтеры в дружном согласии всходили на верх холма Форестале…
Закончу выпиской из записок Мауриджи, так как последующая сцена, мне кажется, выиграет в рассказе очевидца.
«Более 400 волонтеров теснились вокруг дерева, под которым лежал дорогой им раненный, очень довольный тем, что сражение кончилось и уже не повторится.
Некоторые офицеры и солдаты регулярного войска стояли тут же, робко поглядывали на него, или с невольным страхом человека, сознающего свою сильную вину и надеющегося, что случай может ослабить его последствия, спрашивали у каждого о состоянии генерала.
В это время подъехал верхом поручик регулярного штаба. Он протискался сквозь толпу и, не знаю, по глупости ли или из наглости, не слезая с лошади и не кланяясь, подъехал к Гарибальди, требуя, чтобы он сдался.
Гарибальди не расслышал его слов, но верно по нахальному виду поручика угадал, в чем дело. Он спросил: кто это? Ему отвечали: парламентер. Тогда он сказал: пусть же он отдаст свою саблю, потому что в таком виде парламентеры не являются ни в какой войне… Несколько минут спустя, пришел сам полковник Паллавичино и своим вежливым обращением вполне загладил грубость и невежество своего посланного. Он подходя снял шапку и, став на одно колено перед раненым героем, в очень искренних выражениях высказал всю горесть, ощущаемую им в эту минуту его первого с ним знакомства. Потом он сказал, что не может предложить никаких условий, и что убежден, что Гарибальди в избежание дальнейших междоусобий согласится признать себя и своих военнопленными, тем более, что он, Паллавичино, убежден, что правительство немедленно распустит его волонтеров по домам. Сам же Гарибальди с выбранными им 12 офицерами его главного штаба, сохранив оружие свое, должны отправиться в ближайший морской порт и подождать, пока Паллавичино получит разрешение от высшего начальства допустить их сесть на английский пароход и плыть куда угодно. Отряд берсальеров должен был следовать за ними во время перевоза, на известном расстоянии.
Генерал обратился к окружавшим его офицерам и спросил их, как думают они: согласятся ли гарибальдийцы на это условие? Печальное молчание было ему утвердительным ответом. Тогда он, поручив раненых и дезертиров честности полковника Паллавичино, приказал немедленно собираться в путь.
Промыслив кое-как плохие носилки и положив на них Гарибальди, мы шли по трудной дороге, ведущей в Шиллу, и остановились ночевать на ферме, называемой Marchesina. В домике пастуха Винченцо, старого знакомого Гарибальди, мы сделали ему постель из наших шинелей, а сами улеглись под открытым небом в одну из тех холодных ночей, которые в этой части Апеннин неизбежно следуют за жаркими осенними днями.
Наутро приближенные к генералу офицеры, потерявшие накануне свои кошельки, попросили у меня взаймы два франка, чтобы купить хлеба. А в очень многих журналах и даже в рапорте полковника Паллавичино было говорено о какой-то раздаче денег между гарибальдийскими офицерами ночью на вилле Marchesinal
Оттуда мы шли почти 4 часа до Шиллы. Город имел странный вид; женщины в трауре приветствовали раненого из окон и с балконов.
Полковник Паллавичино, прибывши сюда раньше нас, встретил Гарибальди и на этот раз очень вежливо и объявил ему, что, вследствие приказания правительства, должен отправить его на военный пароход “Duca di Genova”, нарочно присланный в Шиллу из Мессины. Какой-то гражданин пригласил Гарибальди остановиться у него, но генерал пожелал тотчас же отправиться на пароход.
Позволено ему было взять с собою уже только 10 офицеров; он выбрал тех, к которым был больше других привязан и тех, которые всего больше изъявляли желание остаться с ним…
Несколько минуть спустя, его перенесли на походной постели на пароход…»[286]
[Леон Бранди]
Ливорно
19/6 ноября 1862 г.[287]
Король-объединитель
Первая часть Виктор-Эммануил и его эпоха
I
В лице только что сошедшего в могилу первого итальянского короля воплощался целый последний акт недавно разыгранной на наших глазах драмы национального объединения и освобождения Италии. В Викторе-Эммануиле увенчалась в Квиринале[288] вековая идея, обильно политая кровью бесчисленного множества мучеников, – идея, обладанием которой разрозненная, истерзанная Италия была действительно сильна в самые тяжкие годины своего исторического существования.
Конечно, никому и в голову не придет считать личную инициативу покойного короля главным и единственным двигателем событий последнего двадцатилетия. Тем не менее, имя Виктора-Эммануила было девизом и знаменем, вокруг которого собирались лучшие силы Италии, питомцы самых разнообразных политических направлений и школ. Непреклонные идеологи-мадзинисты впадали ради него в самые непростительные диалектические ошибки и вопиющие противоречия с долголетней страдальческой карьерой своего maestro[289]. Честный плебей, Гарибальди, напяливал пьемонтский генеральский мундир и прятал в карман свою республиканскую кокарду, чтобы победоносно пронести из одного конца полуострова в другой революционное знамя, прикрытое савойским крестом и гербом Виктора-Эммануила. Даровитый аристократ, Кавур, забывал свою инстинктивную ненависть ко всяким крайностям и благосклонно протягивал свою фешенебельную руку «революционной орде», во имя все того же баловня судьбы, которому исторический фатум определил благодарную роль не сеять и не жать, а лишь благодушно собирать в житницы своей славы плоды, посеянные и пожатые за него другими.
Отнимите у всякого знамени его символический, условный смысл – и у вас останется пестрый лоскут простой ткани. Возьмите Виктора-Эммануила отдельно от той обстановки, которую создала для него судьба, – и вы увидите очень дюжинного и заурядного доброго малого, вовсе не лишенного некоторых симпатических свойств, но не представляющего ничего такого, что на всяком другом поприще могло бы дать простому смертному неотъемлемые права на внимание и признательность современников и потомства. Очевидно, случай, обстоятельства, которые, по словам французской поговорки, делают воров, создают также и героев.
Это, однако ж, вовсе не дает нам права отрицать всякие личные заслуги покойного короля. Сколько других на его месте не умели понять и разыграть благодарную роль, приготовленную для них судьбою! Как ни баловала судьба своего избранника и любимца, будущего ге galantuomo[290], но она не совсем устранила его от личной ответственности и выбора. Едва ли не главное ее баловство по отношению к нему заключалось именно в том, что она одарила его темпераментом и характером, как нельзя лучше приноровленным к тому, что требовалось от него положением. Не всякий на его месте был бы способен сделать или допустить именно то, что возвысило его над целою полудюжиною итальянских корольков, принчипов и дюков[291], и не надо забывать, что только благодаря некоторым чисто личным, гуманным и добродушным своим чертам, Виктор-Эммануил мог вступить в благодарную роль избранника своей нации.
Но и этот баловень судьбы не всегда был ее любимцем. Трудно вообразить себе что-нибудь печальнее его дебютов в жизни и на престоле. Он является на свет непрошенным гостем в мрачную эпоху, в 1820 г., когда его отец, тогда еще наследный принц Карл-Альберт, подавленный безысходным деспотизмом и мракобесием дяди своего Карла-Феликса, вступает на скользкий путь дворцовых заговоров и братается с карбонарами. Карл-Феликс искренно ненавидел своего племянника и заставил его заплатить за это «увлечение молодости» тяжким унижением и изгнанием. Пока преступный принц странствует по Испании, пожиная позорные лавры гренадера при Трокадеро[292], дети его остаются без всякого присмотра во Флоренции, где, говорят, будущий король Италии чуть было не сгорел, благодаря небрежности своей мамки. Карл-Феликс вовсе хотел оттереть своего племянника от сардинского престола, который он назначал моденскому Фердинанду[293]. План этот, однако, не удался, ив 1831 г. клятвопреступный карбонарий взошел торжественно на сардинский престол.
Желчный и впечатлительный Карл-Альберт не был в душе ни тираном, ни извергом; но печальная катастрофа 1821 г.[294] оставила в нем глубокий нравственный след. Он никогда не смел поднять глаза на прежних своих друзей, которым он трусливо изменил в юности. Деспотизм пьемонтских королей, так легко сломивший его самого, казался ему непобедимою силою, с которою он уже не пытался спорить. Став в свою очередь королем, он как будто даже и не замечал, что в его воле изменить теперь многое, и хлопотал только о том, чтобы ненужными унижениями снискать себе благорасположение Австрии. Можно без преувеличения сказать, что в сравнении с порядками, господствовавшими тогда в сардинском королевстве, австрийская администрация в Ломбардии и Венеции могла казаться образцом гуманности и прогресса.
Положение детей Карла-Альберта существенно изменилось с восшествием их отца на престол, но не улучшилось при этом ни на волос. Прежде Виктор-Эммануил и младший брат его прозябали без всякого присмотра, то во Флоренции, то в Турине; теперь их окружили многочисленной толпой наставников, надзирателей, дядек, под главным контролем некоего Салуццо[295]. Неумолимый этикет туринского двора не давал детям вздохнуть свободно. Систематическое очерствение детей составляло характеристическую черту господствовавших тогда в Пьемонте порядков. Школа и ее схоластическая мертвящая обстановка довершали то, чего не доставало семейной воспитательной рутине. Умы более восприимчивые и гибкие, чем тот, который природа дала будущему итальянскому королю, могли выйти из этой переделки закаленными и озлобленными. Но Виктор-Эммануил ничего не вынес из своего воспитания, кроме отвращения к книгам и ко всему, что напоминало школу, мысль и науку.
Освободившись из-под ферулы[296] педагогов, молодой наследный принц вступил в насильственный брак с австрийской принцессой Марией-
Аделаидой[297]. Отец его смотрел на этот брак, как на новое доказательство своего вассального уважения и преданности к притеснителям своей родины. Сын же, по-видимому, успел уже научиться в этих молодых летах не прать против рожна, не вступать в неравный бой с подавляющей действительностью, а принимать ее такою, как она посылается ему судьбой, на досуге изучая и эксплуатируя наименее безотрадные ее стороны. Уменье это впоследствии очень пригодилось ему.
Ничто так сильно не сближает между собою людей самых различных общественных положений, как общий гнет и общие враги. Будучи сами первой жертвой мрачного деспотизма и подозрительности своего отца, Виктор-Эммануил, естественно, направляет свои симпатии не в те близкие ему возвышенные сферы, откуда истекает зло, а к тем низменным слоям, откуда до него едва доходит глухой, подавленный ропот. Туринское народонаселение было очень недовольно политикой Карла-Альберта вообще и особенно бракосочетанием наследного принца с австрийской принцессой. Чтобы хоть несколько сгладить неприятное впечатление этого события, молодой принц, через несколько дней после свадьбы, решается прогуляться по улицам столицы под руку с молодой женой и без всякой свиты. Эта невинная попытка поиграть в популярность вызывает во дворце целую бурю. Новобрачный подвергается за нее продолжительному домашнему аресту и отдается под строжайший надзор дворцовой полиции.
В этой казарменной и монастырской атмосфере Виктор-Эммануил проводит лучшую половину своей жизни. Нельзя отказать в самостоятельности тому, кто при таких условиях не дал обезличить и втянуть себя в общий омут. Ему уже было двадцать восемь лет, когда (в феврале 1848 г.) отец его решился, наконец, раскаяться в своем более чем двадцатипятилетием раскаянии[298].
Правда, это новое раскаяние было для Карла-Альберта еще более вынужденным, чем первое. Дело шло не о каких-нибудь честолюбивых замыслах, которые могли в нем проснуться после первых побед, но в эту тревожную эпоху нелегко ему было даже удержать так дорого купленную им наследственную корону на своем челе, заклейменном печатью двойного отступничества. Австрийское всемогущество, в которое он так твердо верил, перед которым он так искренно принижался, не устояло против пяти геройских миланских дней. Прежние его революционные друзья, которым он так легко изменил только потому, что на деле видел их тогдашнее ничтожество, теперь являлись перед ним в совершенно ином свете. Мадзиниевская пропаганда в двадцать лет успела дать почти невероятные результаты: единство Италии уже существовало, как нравственный факт, разливалось повсюду огненным потоком, страстно добиваясь фактического признания. Жалкая действительность, которую, в числе прочих туземных и иностранных тиранчиков, и он, Карл-Альберт, столь упорно поддерживали в течение своего долголетнего царствования, делала итальянский народ особенно чуткими ко всякому новому движению, к революционному призыву. Во всех живо было сознание, что хуже настоящего ничего не может быть, всякая перемена приветствовалась, как спасение, как лучшая из надежд. Всем было душно, и о борьбе с народным движением не могло быть и речи. Союзника для этой борьбы он не видел нигде: в каждом из итальянских правителей он мог ожидать только опасного соперника и изменника. Оставалось одно – или бежать, по примеру моденского и пармского герцогов, в австрийский лагерь, или, по примеру неаполитанского короля и Леопольда Тосканского, пристать к народному движению, объявить войну Австрии, перед которой смиряться и трепетать стало и для него невыносимо. Следовало считать за особенное счастье, что новый папа не сумел удержаться на высоте, на которую поднял его итальянский народ единственно за то, что он вступал на папский престол после свирепого Григория XVI. Не закружись тогда голова у трусливого Пия IX, неожиданно для себя самого попавшего в вожди национального движения, и звезда савойского дома поблекла бы навсегда.
Мы не станем рассказывать здесь слишком хорошо всем известные трагические события 1848–1849 гг. Разъедаемый вечными своими сомнениями, слишком прозорливый для того, чтобы допустить возможность веры в его искренность со стороны народных масс и их вождей, Карл-Альберт как будто умышленно делает все, чтобы заградить навсегда своим преемникам то поприще, на котором он, без веры в успех, доходит до окончательного падения. Новарское поражение[299] не оставляет сардинскому королю даже печального утешения воскликнуть: «потеряно все, кроме чести!».
Вождей народного итальянского движения часто упрекали в том, будто они не умели забыть в критическую минуту свои мелкие разногласия, свои честолюбивые замыслы, и тем погубили столь блистательно начатое дело итальянского освобождения. Нет ни малейшего сомнения, что бо́льшая часть республиканских агитаторов, очутившись неожиданно для них самих победителями в некоторых областях, не выказали ни достаточной политической опытности, ни практической умелости, требуемой от них трудными обстоятельствами. Взросшие в тюрьмах, в ссылках, в тайных заговорах, фанатизированные бесчеловечными преследованиями, они плохо знали действительную жизнь; они слишком сжились со своими теоретическими идеалами, чтобы сомневаться в их осуществлении. Пророки, идеологи, пропагандисты, они, очевидно, были бы не на своих местах в роли полководцев, администраторов, дипломатов. Впрочем, личные счеты со всеми ними покончены уже давно.
С общей же исторической точки зрения нельзя не заметить, что ответственность за все обыкновенно приписываемые им промахи и неудачи выпадает отнюдь не на их долю… Задача «Молодой Италии» и других, ей подобных организаций, была естественно кончена с той поры, как идея национального возрождения проникла во все слои итальянского общества. Народное дело, с изгнанием австрийских войск из Ломбардии и Венеции, вступало в новый фазис и требовало деятелей иного закала. Народ благоговеет перед фактической силой, и эту силу он искал в каждом из недавних своих притеснителей: он искал ее в папе или короле, как только тот или другой проявлял хоть слабую готовность принять на себя роль требуемого практического вождя.
Папа, великий герцог тосканский, самый популярный из тогдашних итальянских властителей, а также неаполитанский Фердинанд II не выдерживают и нескольких недель в этой, столь несвойственной им, роли. Едва ли не лучше было бы для итальянского национального дела, если бы и Карл-Альберт откровенно последовал их примеру. Но, увлеченный первыми успехами, сардинский король выказывает на этот раз довольно необычную в нем стойкость и вносит новый элемент разлада в страну, нуждавшуюся больше всего в объединении всех своих сил против чужеземного завоевателя. Прежде, чем занять Ломбардию своими войсками, чего требовали стратегические соображения и даже безопасность самого Пьемонта, король торгуется с миланским временным правительством, желая вынудить от него безусловное присоединение этой области к сардинским владениям. Венеция не хочет вступать ни в какие переговоры до тех пор, пока не создастся уважительное ядро будущего итальянского королевства: ее за это оставляют совершенно на произвол судьбы, чем совершенно расстраивают ход военных действий во всей северной Италии.
Еще сильнее проявлялась апатия и разъединение в самых целях освобождения. Одни желали его ради личных выгод, другие ставили его в зависимость от традиционного status quo. Но в глазах народа оно было только началом тех внутренних реформ, которым могли закрепить и облагородить его. Даже во мнении таких непреклонных унитариев, как Мадзини, таких умеренных либералов, как Кавур, освобождение Италии от внешнего врага и объединение ее в одно стройное целое могло иметь цену только до тех пор, пока оно являлось гарантией дальнейшего свободного развития живых сил страны. Этим-то итальянское объединение и разнится от бисмарковского объединения Германии, что оно не могло улечься в торную колею узко-национальных стремлений.
Короче говоря, сам Карл-Альберт очень хорошо сознавал, что после новарского поражения присутствие его не только на сардинском престоле, но и вообще на итальянской почве становится невозможным. Передав второпях свою королевскую власть законному наследнику, он удалился в Португалию и умер вскоре после своего добровольного изгнания.
II
Вступление Виктора-Эммануила на наследственный престол едва ли еще не хуже и мрачнее, чем первые его дебюты в жизни. Говорят, будто явившись в стан Радецкого под Новарой с просьбой о мире, будущий итальянский король отрекомендовался австрийскому фельдмаршалу в следующих смиренных выражениях: «Перед вами сын без отца; главнокомандующий без войска; король без королевства».
Не знаю, точно ли были сказаны эти слова, но они очень верно рисовали действительное положение, в котором находился Виктор-Эммануил. Ничто не мешало Радецкому идти в Турин и посадить на сардинский престол какого-нибудь австрийского эрцгерцога. Если австрийский фельдмаршал не сделал этого, то единственно потому, что свойственный австрийским дипломатам и полководцам тонкий расчет заставлял его предполагать, что в реставрированном на наследственном престоле юном короле Австрия, без нарушения трактатов, будет иметь еще более преданного слугу, чем в заальпийском герцоге, который, естественно, вынужден бы был популярничать перед новыми своими подданными и, пожалуй, даже стал бы пытаться при их содействии ослабить свою зависимость от Вены.
Обласканный победителем, новый король возвращается в Турин, где его ждал едва ли не самый критический момент в его жизни. Новарское поражение в Пьемонте едва ли не больше, чем где-нибудь, было встречено взрывом самого искреннего негодования. Палата решительно отказывалась признать мир, который король, однако ж, вынужден был принять от Радецкого.
«Найдите мне хоть одного солдата, который согласился бы продолжать войну, и я согласен быть вторым», – говорил король депутации, требовавшей от него, чтобы он не соглашался на постыдный мир.
Даже умеренный и искренно-расположенный к королю Массимо д’Азелио находил, что «война невозможна, но позор точно так же невозможен; хотя, как практический человек и министр, из двух невозможностей все-таки склонился на сторону последней. Но положение, однако ж, было слишком запутано для того, чтобы из него можно было извернуться ловкой фразою. Мало было надежды на то, чтобы народное представительство в минуту народного возбуждения смиренно решилось признать мирный договор и вотировать требуемую Радецким контрибуцию. Не следует забывать, что после новарского поражения те уголки северной и центральной Италии, которые не связали своей судьбы с сардинской монархией, а оставались под властью республиканских диктаторов и триумвиров, еще продолжали борьбу.
Умный Радецкий, конечно, предвидел все эти затруднения. Чтобы еще основательнее и бесповоротнее вовлечь Виктора-Эммануила на реакционную дорогу, мирный договор обязывал его содействовать своим войском реставрации великого герцога в Тоскане и папских легатов в Романиях. Генерал Альфонс Ламармора, с остатками разбитой под Новарой армии, успел дойти уже до Сардзаны, направляясь в Тоскану, как вдруг в столицу пришла весть о том, что Генуя, вспомнив свои вековые льготы и вольности, отложилась от сардинского короля, потерявшего в ней свою популярность.
Все толкало короля на путь традиционного милитаризма. В мрачной школе его предшественников, в Пьемонте, не могло образоваться не только надежных парламентских деятелей, но даже государственных людей, сколько-нибудь проникнутых гуманными и прогрессивными стремлениями. Для большей части ближайших советников короля злополучный статут марта 1848 г.[300] был необходимой уступкой национальным и революционным стремлениям того времени. С тех пор, как стремления эти были побеждены, исчезновение самого статута казалось им совершенно неизбежным. Перед королем в это время были две дороги: отдаться в руки военной реакции, которая уже начинала торжествовать не только в остальной Италии, но и повсюду в Европе; или навлечь на себя ненависть своих ближайших друзей и своих недавних союзников, оставаясь верным тому конституционному порядку, который в его владениях был еще тогда совершенной новинкой.
Между тем, как все, окружавшие сардинский престол, толкали Виктора-Эммануила на первую из этих двух дорог, один только Массимо д’Азелио советовал ему держаться второй. Талантливый романист и живописец, пламенный патриот и восторженный либерал, этот советник короля был тем не менее плохой политик и пользовался в стране незавидной популярностью, так что содействие его не могло ручаться за успех королевской верности конституционному строю. Теперь, когда страсти утихли и драма сыграна до конца, мы можем утверждать, что именно этот честный шаг решил всю дальнейшую судьбу короля, убедив итальянцев, что традиционная политика савойского дома действительно противна и невозможна для Виктора-Эммануила, что в сердце этого добряка действительно есть нечто, делающее для него невозможными те крутые повороты и ретроградные скачки, которые повсюду тогда были самым обыденным делом. Но в первые месяцы после новарскаго поражения этого не могли предвидеть даже самые дальнозоркие люди. Впрочем, таких людей в Пьемонте и не было. Будущий патриарх их, граф Камилло Бенсо ди Кавур, исключенный незадолго перед тем из парламента, как отъявленный codino[301] (ретроград), скромно жил в своем поместье в Лери[302], занятый исключительно агрономическими предприятиями. Либералы из партии экс-иезуита Винченцо Джоберти и Раттацци[303] были слишком подавлены гнетом настоящего, чтобы думать о будущем. Лично молодого короля в Турине знали очень немногие; но, приняв в тяжкую минуту наследие своего отца, Виктор-Эммануил фатально нес на своих плечах ответственность за все, накликанные Карлом-Альбертом, невзгоды.
Не только политически, но и материально, страна была разорена в конец. Застой в промышленности, военные и дипломатические издержки истощили совершенно государственный и даже народный бюджет. А между тем контрибуцию в 75 миллионов, предписанную Радецким, надо было уплатить. Правда, спаситель австрийской империи давал понять, что условия мира могут быть смягчены, если только король не будет упорствовать на столь несвойственной для сардинского короля конституционной дороге.
В ответ на все эти соблазны и затруднения, Виктор-Эммануил нашел, однако, в себе решимость не только удержать во всей его силе злополучный статут, но даже не отдать министерства в руки военной диктатуры. Еще не излеченному от раны, полученной под Виченцой[304], Массимо д’Азелио было поручено составить новый кабинет, который, однако ж, оказался столь же бессильным против разнообразных затруднений этого времени, как и всякий другой. Палата решительно не хотела признавать мира и вотировать контрибуцию. Приходилось поневоле и на конституционном поприще начинать крутой мерой: парламент был распущен. На новые выборы не явилось и трети законного числа избирателей.
20 ноября, т. е. около девяти месяцев после новарского поражения, мир все еще не был подписан, и король нашелся вынужденным обратиться к стране с следующим заявлением:
«Распущение палаты депутатов нисколько не подвергает опасности свободных учреждений страны, которые священны для меня из уважения к памяти моего отца, Карла-Альберта. Я ручаюсь за них честью савойского дома и моей клятвой.
Перед выборами я обратился к нации вообще и к избирателям в частности с искренними словами. В своем воззвании от 3 июля я просил их действовать так, чтобы статут не стал невозможностью… Я исполнил свой долг; почему же они не исполняют своего? В своей тронной речи я изъяснил печальное, почти безвыходное положение страны, я указал на необходимость покончить все внутренние раздоры и устремить все силы на излечение общественных язв, задерживающих всякое дальнейшее развитие нашей родины. Но мои слова, проникнутые искренностью и любовью к отечеству, не принесли никакого плода. С первых же шагов своих палата депутатов стала во враждебные отношения к правительству. Конечно, это было ее право. Но если я сумел забыть многое, почему же они не хотят забыть… Я тоже имею право потребовать от палаты отчета в ее последних действиях…
Я поклялся обеспечить каждому его свободу и его права; я обещал освободить нации из-под гнета партий… Для исполнения этих клятв и этих обещаний я решился распустить эту невозможную палату, но я тотчас же созываю новую палату взамен ее. Если страна, если избиратели откажут мне в своем содействии, то ответственность за дальнейшее падет уже не на меня, а на них…»
Не следует забывать, что это говорит король, по одному знаку которого победоносная австрийская армия готова была наводнить Пьемонт и не только разогнать все существовавшие там палаты и собрания, но даже сделать созвание их невозможным на долгое время впредь. Даже не прибегая к иноземному вмешательству, Виктор-Эммануил мог легко отменить статут 1848 г., опираясь на одну только сардинскую военную и реакционную партию, которая в числе своих приверженцев считала даже несколько почтенных имен. Казалось, именно на эти крайние меры наталкивали его не только враги, но и друзья Италии; последние, быть может, не доверяя искренности его либеральных стремлений и желая раз навсегда закрыть наследнику злополучного Карла-Альберта тот путь, на котором отец его успел сделать много зла национальному делу.
Только после вторичных выборов палата депутатов решила, наконец, узаконить миланский мир, уже в начале 1850 г., т. е. когда Австрия начинала каяться в своем благодушии по отношению к побежденному врагу. Во Франции тоже начинали относиться уже крайне неблагоприятно к тому, что там считали за несвоевременное и неуместное популярничание молодого короля, упорствовавшего в своей верности принципам и учреждениям, сильно скомпрометированным тогда во всей Европе. Несколько позже, замышляя свой государственный переворот 2 декабря, Людовик-Наполеон[305] стал относиться к Пьемонту несколько благосклоннее: опасаясь непризнания со стороны Австрии своих деспотических стремлений, он замышлял против нее союз с Италией и Пруссией и посылал даже своего ближайшего поверенного Персиньи[306] с тайным посольством в Берлин. Но в это первое время после новарского поражения Пьемонт представлялся до того жалким, самое его существование, как независимого королевства, было до того нерешенным, что о союзе с ним не думал никто. Повсюду он встречал только врагов, которых истинно-либеральные склонности нового короля могли только раздражать или тревожить. Сильная французская армия собиралась на савойской границе, в предвидении, вероятно, того, что французское вмешательство в римские дела может вызвать в Италии какую-нибудь отчаянную попытку, на которую сардинский король мог бы опереться для поддержания своей популярности. Россия прерывала с Сардинией всякие дипломатические сношения, одна только Англия относилась поощрительно, но совершенно платонически, к либеральным начинаниям Виктора-Эммануила.
Мы вообще склонны преувеличивать значение силы, нравственной или физической, когда она непреклонно ломит все вокруг себя, назойливо навязывая себя всем и каждому. Но когда сила эта направляется на потаенную внутреннюю работу, мы вовсе не замечаем ее, охотно смешиваем ее с ничтожеством. Для того, чтобы в эту критическую годину воздержаться от традиционных буйных, насильственных приемов, Виктору-Эммануилу нужно было обладать непреклонной волей, твердым сознанием своего долга и многими другими, весьма уважительными и положительными достоинствами. Не надо забывать, что в это время около него нет ни одного заметного руководителя. Ближайшими его друзьями и советниками остаются в первые годы его царствования д’Азелио и граф Сиккарди[307], оба обладавшие несомненными достоинствами, но нисколько не выдававшиеся из среды довольно заурядных политических деятелей. Не они могли импонировать королю, как впоследствии будет ему импонировать Кавур, а король должен был искать их, как единственных возможных союзников на избранной им дороге.
Отстоять конституцию марта 1848 г. против реакционных стремлений старопьемонтской партии и против внушений извне, было не важным делом. Он видел только, так сказать, дипломатическое ее значение. С точки зрения внутреннего устройства, конституция эта оставалась решительно недоделанной. Рядом с клочками либеральных учреждений, выхваченных наудачу из французской буржуазной хартии, в Пьемонте существовали еще самые разнообразные и чудовищные феодальные учреждения: барщины, майораты, кастовые привилегии и, наконец, так называемый foro ecclesiastico[308], т. е. изъятие духовенства из государственного законодательства, установленное конкордатом с папою Григорием XVI. Сиккарди, как опытный юрисконсульт, был особенно необходим и полезен в борьбе с этими реакционными остатками старых порядков. Едва ли можно приписать самому Виктору-Эммануилу инициативу той борьбы, которую министерство д’Азелио и Сиккарди начинает тотчас после заключения мира в новом парламенте; но, во всяком случае, характерно уже и то, что единственными друзьями короля были люди, способные в подобные минуты поднимать столь скабрезные вопросы.
Прения об отмене foro ecclesiastico приняли с самого своего начала крайне воинственный характер. Консервативная партия в парламенте, имея во главе знаменитого Чезаре Бальбо[309], графа Ревеля[310] и большую часть савойских депутатов, решительно отвергала этот закон. Полковник Менабреа[311], бывший секретарем при министре иностранных дел, подал в отставку, спеша разорвать всякую солидарность с кабинетом. Даже те из более умеренных консерваторов, которые понимали несовместимость этих средневековых учреждений с новыми порядками, хотели, чтобы они были уничтожены не правильным законодательным путем, а новыми соглашениями с папой. Когда министр Санта-Роза[312] умер во время этих прений, туринские священники отказались хоронить его, как одного из участников противоклерикального кабинета. Несмотря на эту оппозицию, либеральный закон против эклезиастических привилегий прошел благополучно в парламенте и в сенате. Важный сам по себе, он приобрел для Италии и для Пьемонта еще тем более серьезное временное значение, что, по поводу этих прений, Кавур, депутат города Турина, выделился ярко из рядов консервативной партии и пристал к министерскому большинству. Портфель покойного Санта-Розы был ему наградой за этот полуоборот налево. Когда, по окончании прений, Массимо д’Азелио просил короля назначить Кавура министром торговли, Виктор-Эммануил отвечал: «Что же, я очень рад, только берегите ваши портфели: этот господин отберет их у вас один за другим».
Предсказание короля действительно сбылось. К министерству торговли Кавур очень скоро присоединил министерство финансов; таким образом, при первом своем появлении в парламентской крепости, он уже владел обоими ее ключами.
Кавур, без сомнения, был самым видным парламентским деятелем новейшего времени. Но между тем, как его дипломатические подвиги и заслуги известны всем, даже в преувеличенном виде, немногие знают, что он был почти гениальный финансист и что, на этом поприще, он сослужил Пьемонту и Италии менее видную, но гораздо более действительную службу. Получив с детства солидное математическое образование, сведущий техник и инженер, он едва ли не один во всем тогдашнем официальном Пьемонте обладал еще многими такими сведениями, которые не выносятся из школ и из книг, а приобретаются только через живое и деятельное общение с народом.
Очень молодым еще Кавур был должен подать в отставку, так как в военной службе при Карле-Альберте решительно не могло быть места молодому человеку с некоторым сознанием собственного достоинства и с несколькими мыслями в голове. Большую часть своего времени он проводил в своем поместье в Лери, которое, при его знаниях и талантах, он очень скоро сумел поставить на образцовую ногу. Кавур обладал одной из тех натур, для которых неутомимая деятельность, ежечасное общение с людьми, тревоги, дрязги, составляли органическую необходимость. Здоровяк, вечно веселый, подвижной, он расписался, становился болен от продолжительного бездействия. При таких данных, ему совершенно было недостаточно собственных своих дел, и, после нескольких лет пребывания в Лери, он знал все чужие, в особенности крестьянские дела, и как очень образованный наблюдатель, и как провинциальная кумушка. Народ, мужик рисовался ему не как абстракция, о которой так много говорят во всяких собраниях и заседаниях, а как живой человек, Беппо, Чекко или Пиппо, с которыми он был близко и интимно знаком. Он мог весьма обстоятельно рассказать день-за-день, как живет, чем страдает, чем утешается этот таинственный народ. В особенности же он мог пересчитать по пальцам все немногосложные статьи бюджета всех этих Беппо или Пиппо его округа: сколько с каждого клочка земли собирается рису, кукурузы или винограду; какая железная или шоссейная дорога может увеличить на несколько грошей с фьяско вина или мешка поленты[313] скудные заработки этих вечных плательщиков за все яйца, служащие для изготовления неудобоваримой политической яичницы.
Кавур был плохой оратор; ему вообще не доставало литературного и классического образования, и он любил щеголять этим. Но зато он принес с собой в министерство такой запас фактических знаний и находчивости, какого не было у всех его сверстников, взятых вместе. Никто не умел так, как он, кстати припомнить множество цифр и фактов, которыми он зажимал рот своим противникам. В парламентские прения он принес всю спокойную, но деятельную страстность своей натуры. Для него была истинным наслаждением эта игра в шахматы живыми людьми, у которых он скоро распознавал сильные и слабые стороны и легко заставлял их плясать по своей дудке.
Для самого Кавура и для страны было очень счастливо то, что Кавур начал свое политическое поприще в скромной на вид, но весьма существенной роли министра финансов и торговли. Во всяком другом министерстве он был бы связан своими консервативными преданиями, своим инстинктивным отвращением ко всяким крайностям. Но в деле финансов ему редко приходилось затрагивать опасные абстракции и принципы, а потому он смело мог давать здесь полный ход своей замечательной способности дельца и образованного человека в самом положительном смысле этого слова. Он был слишком хороший счетчик для того, чтобы поверить хоть на минуту, будто большой дефицит маленького государственного бюджета можно покрыть грошовыми сбережениями, скаредничеством. Он понял свою задачу гораздо шире и был самым радикальным министром, которого только можно было себе вообразить. Создавать новые ресурсы, вызывать к жизни грандиозные коммерческие и промышленные предприятия, было его главнейшей задачей, для достижения которой он не щадил никаких средств. В то время, как государственная казна была совершенно истощена и робкие политиканы не предвидели даже возможности с честью выйти из многочисленных обязательств, уже тяготевших над бюджетом, Кавур затеял, например, туннель Mont Cents[314] или расчистку генуэзского порта. Кроме непосредственной практической пользы, деятельность его на этом поприще имела еще очень много второстепенных благотворных сторон. Ею вызывалось промышленное и торговое оживление в стране, которой, после новарского поражения, оставалось, по-видимому, только провалиться сквозь землю. Заключались торговые договоры с первоклассными державами; и во всех этих сделках Кавур умел не только ловко соблюсти выгоду своего маленького отечества, но также и поддержать достоинство сардинской короны. Даже будучи вынужден к уступкам, он умел оттенить свою уступчивость так, что более могущественный контрагент чувствовал себя до некоторой степени связанным и, при первой возможности, готов был отплатить той же монетой.
Мало заботясь о том, как деятельность его будет перетолкована и понята другими, имея главнейшим образом в виду только самое дело, Кавур очень скоро совершенно удалился от прежних своих консервативных друзей, как будто даже и не замечая этого. Когда в одном из заседаний этот разлад его с «друзьями юности» выказался особенно резко, полковник Менабреа колко заметил ему, что «с тех пор, как он направил свою ладью к неведомым берегам», эти друзья уже не могут следовать за ним.
«Вы ошибаетесь, – возразил ему парламентский боец с обычной своей находчивостью, – моя ладья не меняла направления; но только она плывет передом, а ваша задом, потому мы так и разошлись».
Кавура не любили ни в парламенте, ни, кажется, при дворе, но его боялись и ценили. Вскоре Луи-Наполеон, успевший уже стать императором, нечаянно доставил ему случай совершенно овладеть положением…
В это мрачное время реакция дико торжествовала не только на всем итальянском полуострове, но и в большей части Европы. Только в маленьком Пьемонте скромной, но светлой струей текла общественная жизнь, зарождалась политическая и общественная деятельность. Политические изгнанники из соседних стран стекались сюда в большом числе, встречали здесь дружеский прием, иногда даже поддержку в высших правительственных сферах. Многие ломбардцы, венецианцы, романьолы, римляне, натурализовались здесь и получали официальные должности. Оживление политических кружков вызывало множество политических брошюр и газет, имевших здесь дело с относительно снисходительной цензурой. Австрия давно уже указывала на эти сборища, как на рассадник всесветной революции, и требовала репрессивных мер. Однако, мы уже видели, что Виктор-Эммануил, с самого начала своей царственной карьеры, сумел поставить себя довольно независимо от Вены. Но после 1852 г. император Наполеон, будучи неосторожно задет каким-то итальянским памфлетом, воспользовался этим случаем для того, чтобы потребовать от соседних государств Бельгии, Швейцарии и Пьемонта строгих мер против политических и повременных изданий. Требование это заявлено было с большой настойчивостью. В самом Пьемонте едва ли кто-нибудь сомневался в необходимости исполнить волю могущественного соседа. Консервативная партия в парламенте даже услужливо забегала вперед, находя необходимым вообще обуздать свободу слова, не только по отношению к вопросам внешней политики, но и по вопросам внутренней жизни. Все оттенки левой, т. е. не только республиканское меньшинство Брофферио, но и умеренные кружки Раттацци, Теккьо[315] и пр., энергически восстали против этого требования, обойти которое, однако ж, не было никакой возможности.
Президент кабинета д’Азелио отстаивал новый закон, состоявший в том, что печатные оскорбления иностранных государей будут судимы без присяжных, – нижеследующим, оригинальным образом:
«Вообразите себе, что мы идем в лесу, где много диких зверей… Проводник предупреждает нас, что в соседней берлоге спит свирепый лев; он просит нас молчать, чтобы не разбудить чудовища. Вдруг одному из нас является охота петь. Разве благоразумие не заставляет нас зажать ему рот? Это еще не значит, что если, несмотря на все наши предосторожности, лев все-таки проснется и нападет на нас, то мы не сумеем защищаться».
Кавур в этом деле принял сторону министерства, но он сумел дать этому делу такую постановку, что она послужила поводом к новой группировке парламентских элементов. Прежний codino открыто и решительно порвал все связи с консервативною партией и высказался в пользу полной свободы слова. Он соглашался на закон, предписываемый Пьемонту сильным соседом, с которым необходимо было поддерживать хоть по виду добрые отношения, но он требовал в то же время гарантий за то, что правительство не пойдет по этой дороге ни шагу далее того, что безусловно требуется от него обстоятельствами. Значительное большинство, составленное из самых разнообразных оттенков, тотчас же примкнуло к нему и с тех пор уже не покидало его до самого конца его карьеры. Это так называемое connubio[316] сразу сделало Кавура полными хозяином в парламенте и так слепо следовало за ним всюду, что несколько лет спустя один из пьемонтских остряков имел уже полное основание сказать: «у нас есть король, есть министерство, есть парламент; все это вместе называется граф Камилло Бенсо ди Кавур».
Уверенный в победе, Кавур отправляется на время заграницу, откуда возвращается в конце того же 1852 г., чтобы принять председательство кабинета из честных, но дряблых рук Массимо д’Азелио, который, впрочем, не искал и не любил власти. Имел ли он уже в это время определенный, сознательный план завершить итальянское освобождение и объединение путем конституционной монархии и дипломатических комбинаций? Вопрос этот решить довольно трудно, да он и может представлять только чисто-психологический интерес. Кавур любил выставлять себя при каждом удобном случае за аристократа, за консервативного либерала; но в действительности он стоял гораздо выше того, что обыкновенно понимают под этими прозвищами. Как всякий мало-мальски замечательный итальянец своего времени, как сам король, он, быть может, бессознательно поглотил значительную дозу мадзиниевской пропаганды. Но это не был человек идеи, способный задолго наперед создавать и неуклонно преследовать законченный план. Великий мастер пользоваться обстоятельствами, он охотно отдавался течению, зная, что если подвернется благоприятный случай, то он не упустит его, а что без благоприятного случая самые лучшие человеческие планы и предначертания не ведут ни к чему. Такие именно люди всего нужнее бывают в такую пору, когда идейная часть национальной задачи уже закончена, когда осталось только увенчать внешним признанием и успехом то, что внутренне уже созрело давно…
Сам Кавур на этот щекотливый вопрос отвечал следующим признанием:
«Наша политика не может быть национальной, итальянской, если она не будет либерально-преобразовательной внутри. Быть либеральными преобразователями у себя дома, – вот все, что мы можем пока сделать для национального дела».
Ill
Со времени голосования вышепомянутого ограничения свободы печати собственно начинается тот период, в течение которого всякая инициатива в Пьемонте исходит от Кавура. Нельзя не удивляться разносторонности и вместе практичности, которую он выказывал в это время, – не той узкой, что копит и считает гроши и боится производительных затрат, а той широкой, предприимчивой практичности, которая очень близко граничит с отвагой. Он не побоялся затратить 200 миллионов франков на сооружение железных дорог из Турина в Геную, на Лаго Маджоре, в Сузу, в Савойе. Он доказывал, что, затратив один или два миллиона на улучшение портов, выигрывалось более миллиона в год; что туннель через Лукманиер, который не обошелся бы и в 10 миллионов, увеличил бы, по крайней мере, на 30 или 40 % оборот генуэзской торговли и т. п. Начинания его казались слишком грандиозными для маленького государства, которое, при 5 миллионах жителей, имело годовой бюджет около 150 миллионов средним числом, и которому одна злополучная кампания 1848–1849 гг., вместе с австрийской контрибуцией, стоила больше 300 миллионов. Не выходя из своей специальности, он старался на всевозможные лады пробудить частную предприимчивость. Он совершил радикальные реформы в таможенном тарифе и упрочил экономическую роль Пьемонта на общеевропейском рынке. В это же самое время он вел упорную борьбу с остатками клерикализма и т. и.
Не странно ли, что именно эта, в высшей степени почтенная, деятельность Кавура забылась прежде всего даже теми его чересчур ревностными поклонниками, которые любят преувеличивать значение его инициативы в деле иностранной политики, т. е. там, где она всего менее является замечательной?
В настоящее время о Кавуре уже писано так много, опубликовано столько его интимных писем, адресованных к самым близким его друзьям в Женеву, во Францию и пр., что мы с полной достоверностью можем отвергать предположение, будто Кавур с самого начала своей диктатуры уже предвидел возможность союза с Францией против Австрии и энергически содействовал скорейшему осуществлению этой возможности. Конечно, он понимал необходимость для Пьемонта жить в мире с более сильными соседями. Он даже говорит где-то о возможности столкновения между западными и восточными государствами Европы, причем Пьемонт, естественно, должен будет стать на сторону Англии и Франции. Но он, по-видимому, даже вовсе не замечает того, что господство Австрии в Италии совершенно не вяжется с династическими стремлениями Наполеона, и не сделал ничего, чтобы приблизить неизбежное столкновение, подстрекнуть французскую инициативу. А между тем, сам Наполеон, еще до государственного переворота 2 декабря, устами своего поверенного Персиньи, без обиняков говорил генералу Радовицу в Берлине, что изгнание австрийцев из Италии составляет один из краеугольных камней его политики, точно так же, как и поддержка Пруссии против Вены. Персиньи прибавлял, что за свое содействие Италии Наполеону нет никакого расчета требовать от нее каких бы то ни было территориальных уступок. Всего этого Кавур не знал и нисколько даже не думал об этом. Его отношение к иностранной политике остается совершенно пассивным до самого начала Восточной войны.
Когда же, наконец, предвиденное им столкновение Востока с Западом состоялось[317] и Пьемонт примкнул к англо-французскому союзу, то и это еще не может быть отнесено ни к дипломатическим заслугам, ни даже к инициативе Кавура. Во-первых, следует заметить, что Англия, без околичностей, приглашала туринское правительство послать 10 000-ный корпус в Крым и даже изъявляла готовность принять на себя издержки этой экспедиции. Военная партия в самом Пьемонте также настойчиво требовала участия в войне из совершенно понятных побуждений. Союз этот слишком настойчиво подсказывался сардинскому правительству целым сплетением довольно разнообразных обстоятельств и соображений. Для маленького государства вообще было лестно заявить о своем существовании, трактовать, как равный с равными, с левиафанами политического мира. Важно было показать, что маленькая сардинская армия совершенно оправилась от новарского поражения и действительно была способна не только парадировать, но и воевать наряду с лучшими армиями Европы. Конечно, Кавур все это понимал, но это понимали не хуже его и самые второстепенные политические деятели.
Торжеством для Пьемонта этот англо-французский союз стал только благодаря тому, что Австрия, со своим обычным глубокомыслием и основательностью, сумела раздражить против себя обе воюющие державы. Этим промахом наследственного врага Кавур сумел воспользоваться действительно артистически.
Еще недостаточно было пьемонтскому представителю быть допущенным на Парижский конгресс для того, чтобы поднять там итальянский вопрос перед лицом представителей всех первоклассных держав. Барон Буоль[318], один из представителей Австрии, легко мог отклонить этот эпизод, заметив только, что ни он, ни другие уполномоченные не имеют никаких инструкций на этот счет. Он это и сделал, но только уже после того, как своим странным поведением он возбудил против себя неудовольствие со стороны своих товарищей. Граф Орлов[319] справедливо заметил, что «Буоль говорит так, как будто Австрия взяла Севастополь».
Кавур же успел очаровать всех своим тактом и обходительностью, успел даже оказать услугу конгрессу своей удачной постановкой белградского вопроса. Впрочем, строго говоря, он даже не поднял национального итальянского вопроса, так как он протестовал не против признанного владычества Австрии в северной Италии, а только против незаконного даже в смысле положительного права присутствия австрийских войск в папских владениях. Он метко угадал ту сторону, на которую надо было налегать, чтобы привлечь к сардинскому королевству некоторую, хотя чисто-платоническую симпатию первоклассных держав: он, при первом удобном случае, намекнул, что присутствие австрийцев в Италии неизбежно поведет к взрыву и революционным потрясениям, но что роль Пьемонта – чисто примирительная и консервативная и т. п. Впрочем, итальянский вопрос был затронут на конгрессе чрезвычайно поверхностно, среди целого ряда других вопросов, по которым точно также не принято было никакого решения. Короче говоря, Кавур добился нескольких ласковых слов от графа Валевского[320] и лорда Кларендона[321], которому он представил свою записку о тогдашнем положении Италии. Со стороны же императора не было даже повторено тех эластических и ничего незначащих фраз, которыми он удостоил Виктора-Эммануила, посетившего Париж в декабре предыдущего года с Кавуром и Массимо д’Азелио.
В общем итоге, Парижский конгресс и пьемонтское союзничество в Крыму дали самые скудные результаты; и, признаемся, мы совершенно не понимаем того восторга, в который приходил Кавур по представлении в Тюильери и в Лондон своей вышеупомянутой записки об итальянских делах. Правда, Кавур легко мог заметить, что между Австрией и Францией отношения в это время уже были далеко недружелюбные, а также и то, что в случае войны Россия, конечно, уже не вздумает оказать помощь своей неблагодарной соседке. Но все это отнюдь не было делом его рук и не может быть относимо к его заслугам и гениальности.
Отношения между Францией и Пьемонтом после конгресса, как и до него, оставались на том диапазоне индиферентизма, который на дипломатическом языке принято было называть просто дружескими. Впрочем, вот что пишет сам Кавур из Парижа своим друзьям:
«Я видел императора и говорил ему то же, что и Кларендону, но в более смягченной форме. Он выслушали благосклонно и отвечал, что он надеется вызвать со стороны Австрии более добродушные к нам отношения. Он прибавил, что на обеде в субботу он виделся с бароном Буолем и высказал ему сожаление по поводу разногласия, которое существует между Веной и Парижем относительно итальянской политики. Буоль затем ходил к Валевскому и говорил, что Австрия очень желаете сближения с Францией, которую она считает единственной своей союзницей… Император возлагает на эти слова большие надежды. Я высказал недоверие, настаивал на необходимости определить положение; что для этой цели я приготовил протест, который хочу передать Валевскому. Император смутился и посоветовал мне съездить в Лондон и обстоятельно сговориться с Пальмерстоном… Граф Орлов очень со мною любезен и признает, что положение Италии невыносимо… Даже прусак ругает Австрию. В конце концов, практически мы не выиграли ничего, но нравственная победа за нами».
Последнюю фразу даже странно читать в письме Кавура. Не то, чтобы мы его считали за человека, неспособного ценить нравственные победы, когда они сопровождаются практическим нулем; но результаты крымского похода и парижского конгресса были для Пьемонта точно также ничтожны с принципиальной, как и с фактической точки зрения. Австрийское владычество в Италии опиралось на трактаты 1815 г., об отмене которых никто не говорил, никто не думал.
Кавур ездил в Англию. Там его тоже выслушивали благосклонно, осуждали Австрию, не одобряли зверской внутренней политики неаполитанского короля-бомбы[322]. Но и только. Пальмерстон даже не удостоил его сколько-нибудь продолжительного разговора. На оба его мемуара о бедствиях Италии отвечали в Англии и во Франции в роде того, что «Бог даст, Австрия смилуется над вами». Предлагали даже дружеское заступничество перед Австрией; но чуть только Кавур становился настойчивее, брови дипломатических Юпитеров начинали хмуриться, добрые пожелания перемешивались с укоризнами.
«Ваша ошибка в том, – говорил Пальмерстон пьемонтскому посланнику Эмануэле д’Азелио[323] через год после парижского съезда, – что вы воображаете, будто для блага Италии вам необходимо ссориться с Австрией».
Когда д’Азелио пояснял ему, что Австрия и Пьемонт выражают собою два диаметрально противоположные принципа, взаимно исключающие друг друга, что столкновение между ними не может быть устранено никакими дипломатическими хитросплетениями, ему возражали многозначительным «о-о!» и давали понять, что столкновение это во всяком случае падет на страх и ответственность Пьемонта, но что с английской точки зрения ни столкновение, ни отмена трактата 1815 г. вовсе нежелательны.
А между тем, события принимали все более и более настойчивый, грозный вид. С тех пор, как Пьемонт окончательно вступил на конституционную дорогу, Австрия чересчур очевидно начала каяться в снисхождении, выказанном Виктору-Эммануилу. Как ни умеренна была политика Кавура, она тем не менее заключала в себе непрерывный ряд почти ежедневных оскорблений и вызовов Австрии. Организация пьемонтской армии, устройство морского арсенала в Специи, укрепления Алессандрии и Казале возбуждали в Вене самые основательные опасения и вызвали несколько резких замечаний. Одно время Австрия, сконфуженная внезапным охлаждением к ней всей Европы, решила было держаться политики примирения. Либеральный эрцгерцог Максимилиан, впоследствии злополучный мехиканский император[324], был назначен ломбардо-венецианским вице-королем с инструкцией отнять у Пьемонта всякий повод жаловаться перед Европой на жестокости и притеснения тедесков[325]. Но его очень скоро сменили. Венская политика вступила на совершенно иную дорогу. Власти в Ломбардии и Венеции стали с сугубым рвением и с неоднократными нарушениями даже писанного права преследовать патриотов, в особенности же родственников и друзей тех изгнанников, которые нашли себе убежище в Пьемонте. Одним словом, было очевидно, что если Пьемонт, своевременно заручившись надежными союзничеством, не начнет наступательных действий против Австрии, то Австрия очень легко может в каждую данную минуту напасть на Пьемонт и задушить его своим численным превосходством даже прежде, чем союзники подоспеют на помощь.
С другой стороны, опасность и затруднения были не меньше. Патриотическая партия начинала приметно оправляться от поражения 1849 г. и сгорала от нетерпения возобновить борьбу. Правда, мнения, высказанные в завещании Даниила Манина, были уже в это время довольно распространены между итальянскими революционерами и изгнанниками. Проученные горькими неудачами, многие даже крайние мадзинисты увидали необходимость поступиться на время некоторыми существенными частями своей программы и сгруппироваться вокруг конституционного знамени Виктора-Эммануила, которого честный дебют на королевском поприще привлекали их к Савойскому дому и к умеренности гораздо больше, чем осторожная политика Кавура. Чтобы воспользоваться этими благоприятным настроением умов, необходимо было не терять времени.
Союз с Турцией и с Наполеоном [III] никогда не был популярен в этих патриотических кружках. Убедившись, что союз этот не даст тех практических результатов, которых от него ждали, его стали считать политической ошибкой. Доверие к удачливости кавуровской политики стало значительно подрываться. В Генуе вспыхнула новая попытка мадзиниевского восстания, которую легко задушили вооруженною силою. Но с часу на час подобные же попытки могли повториться в разных углах Италии. Кавур не мог не понимать, что несколько побед, которые он будет вынужден одержать над итальянцами, нанесут всей его восьмилетней политике смертельный удар, низведут Пьемонт на степень королевства Обеих Сицилий или чего-нибудь в этом роде. Уже реакция и клерикалы поднимали голову. Выборы 1857 г., произведенные под впечатлением генуэзской бойни, дали уже довольно слабое либеральное большинство. Малейшее потрясение могло нарушить равновесие, установившееся не без труда вначале царствования Виктора-Эммануила… Война с Австрией, война немедленная и решительная, одна могла поправить дело.
Наполеон III в душе постоянно благоволил к Италии. Отмена трактатов 1815 г. была для него легко понятной династической необходимостью. Но со вступления своего на престол он как будто совершенно забыл то, что сам считал своим историческим призванием. Он в это время старался уступками французскому клерикализму укрепить себя на бесцеремонно захваченном престоле. Его министр иностранных дел, Валевский, в своем благоговении перед папой, был одним из опаснейших противников сближения между сардинским и императорским правительствами. Отсюда вытекали все эти противоречия и колебания. Мы не утверждаем, что более искусный дипломат на месте Кавура победил бы все эти трудности и ускорил бы развязку; но не подлежит никакому сомнению, что Кавур этого не сделал. Все его сношения с тюльерийским двором, тотчас по возвращении его из Парижа, ограничиваются самым обыденным заискиванием, не дающим никаких положительных результатов.
В январе 1858 г. разносится по всей Европе весть о покушении на жизнь императора в улице Ле Пелетье.
«Дай только Бог, чтобы это был не итальянец!» – воскликнул Кавур, когда весть эта донеслась и до него.
Это был римский изгнанник Феличе Орсини[326].
Ближайшим результатом этой катастрофы для Пьемонта была суровая нота, сообщенная французским посланником туринскому кабинету. От последнего самым настойчивым образом требовалось издание нового стеснительного закона о печати; запрещение некоторых повременных изданий; изгнание множества итальянских и иностранных эмигрантов и еще несколько тому подобных мер. Исполнение этих требований было заявлено в форме вежливой, но не допускавшей возражения. Впрочем, сам Наполеон III имел по этому делу очень несвязный, но крайне неутешительный разговор с пьемонтским генералом, посланным поздравлять его от имени Виктора-Эммануила. С обычной своей запутанностью, император французов говорил, что он потребовал некоторых подобных мер и от Англии; что коварный Альбион, по-видимому, не намерен их уважать. Из этого неизбежно произойдет война. «Положим, – говорил он, – что в этом столкновении вы станете на сторону Англии. Но какая польза для вас может произойти из того, что англичане пошлют в Специю или в Геную два-три корвета?» и т. п.
Орсиниевская бомба взорвала на воздух всю политику Кавура по отношению к Франции. Не предвиделось решительно никакой возможности не только сделать новый шаг на пути франко-итальянского союза, но даже и удержаться на прежней точке. Быть может, Кавур и не задумался бы купить ценой этой новой жертвы необходимое для него союзничество; но он очень хорошо понимал невозможность исполнения французских требований. Он признавался в совершенном своем бессилии. Добиться от палаты депутатов голосования новых стеснительных законов можно было не иначе, как отдавшись в руки парламентской реакции, которая дорого бы заставила Кавура заплатить за то, что она называла его отступничеством. «Конституция дает нам право, – говорил Кавур, – распустить это собрание и созвать новое. Но нация не отступится от своих представителей и выберет их снова. Что же тогда? Виктор-Эммануил отречется от престола; наступит эпоха государственных переворотов».
Надежды умилостивить Наполеона, убедить его отказаться от своих требований было так мало, что Кавур даже не пробует этого. Он дает Валевскому ничего не значащие, уклончивые ответы. В сущности, он видит, что его инициатива разбилась о неожиданное препятствие. Он тщетно ищет уловки, которая дала бы возможность спасти хоть часть драгоценного груза, но не находит решительно ничего. За бессилием первого своего министра, Виктор-Эммануил, в первый раз после критической эпохи своего воцарения, снова выступает на сцену. Он пишет императору трогательное послание. Он говорит, что, при всей своей дружбе и преданности императору, он решительно отказывается исполнить то, чего от него требуют, что это не в его воле и не в его нравах; что, если его доведут до крайности, то он, по примеру своих савойских предков, уйдет в горы; что он готов потерять свою корону, если не в силах защищать ее, и пр. Письмо это, как и следовало ожидать, не произвело никакого впечатления. Граф Латур д’Овернь[327], французский посланник, настаивал на своем.
Мы умышленно остановились на этих подробностях, так как они, по нашему мнению, рисуют личность и значение Кавура совершенно не в том свете ничем не смущающегося, вечно удачливого дипломата, в котором характеризуют его восторженные поклонники. При всех своих достоинствах, это не был вечно победоносный дипломат, всегда артистически играющий людьми и событиями, умеющий из самых неблагоприятных и неожиданных случайностей извлекать элементы своего триумфа. Орсиниевское покушение разбило в прах скромные результаты его восьмилетней дипломатической деятельности.
IV
Трудно представить, чем бы кончилось это критическое положение Пьемонта и его первого министра, если бы в современной истории элемент глупо-случайный, почти сказочный, фантастически не играл никакой роли. Несомненно только то, что выход был найден не инициативой Кавура, а выскочил как черт из-за печки. В одно прекрасное утро в Турине была получена из официозного источника копия с предсмертного обращения Орсини к императору французов.
…«Вспомните, – говорил Орсини в этом письме, писанном накануне казни, – что итальянцы, в числе которых был мой отец, проливали свою кровь за великого Наполеона и оставались ему верными до конца. Вспомните, что спокойствие немыслимо ни для Европы, ни для вашего величества до тех пор, пока Италия не будет независима… Освободите мою родину – и благодарность двадцати пяти миллионов людей передаст имя ваше отдаленному потомству».
Вместе с этой копией была прислана небольшая заметка, составленная в духе крайне благоприятном для Италии. Все это предназначалось для напечатания в официальных пьемонтских газетах.
Так как письмо это было получено 1-го апреля, то глубокомысленные туринские политики первое время думали, что оно – дело мистификации. Скоро, однако ж, пришлось убедиться, что в политике императора произошел крутой переворот. В письме к Виктору-Эммануилу Наполеон просил его почти забыть первые свои требования и вовсе не стесняться ими.
Замечательно, что вся эта переписка шла совершенно помимо правильных дипломатических путей. Наполеон, очевидно, не доверял своим приближенным, и в особенности Валевскому, который еще продолжает грозить и настаивать в Турине, между тем как во Франции уже появляется официозная брошюра «Наполеон III и Италия», наделавшая в свое время так много шума. Вскоре в Турине было получено письмо, которым Наполеон III приглашал Кавура явиться для личных переговоров в Пломбьер[328], но под условием величайшего секрета.
Кавур прикинулся больным и отправился будто бы отдохнуть к своим родственникам, в Женеву. Оттуда он, под чужим именем, пробрался во Францию, где чуть было не был арестован. В Пломбьере император усадил его в кабриолет и повез будто бы показать ему какие-то постройки. Во время этой поездки, без слуги и кучера, с глазу на глаз, была порешена война с Австрией, бракосочетание дочери Виктора-Эммануила[329] и уступка Савойи и Ниццы. Когда они вернулись во дворец, императору подали депешу из Парижа.
– «Это Валевский извещает меня, что вы у меня в Пломбьере», – заметил с улыбкой император.
Вся эта комедия с сюрпризами и таинственной обстановкой объясняется психологически очень легко. Близкая смерть, от которой он избавился так счастливо, весьма естественно, должна была навести Наполеона на мысль, что почти десять лет его владычества прошли, а он все еще ничего не сделал для поддержания той бонапартистской легенды, которую он считал для себя священной. Упрочить свою династию на французском престоле было его постоянной и любимой мечтой; но для этого ему необходимо было связать свое имя с какими-нибудь великими политическими событиями, внести хоть что-нибудь новое в международный строй, отменить трактаты, служившие памятником унижения его родоначальника. Он уже был в это время далеко не молодой человек, к тому же преждевременно истощенный и обессиленный полной самых разнообразных приключений жизнью. Времени впереди было немного, и откладывать дело в долгий ящик был не расчет. Но он предвидел, что его планы встретят сильную оппозицию в клерикальных стремлениях тех лиц, которыми он себя окружил, начиная с императрицы[330].
Наполеон часто бывал упрям, но он совершенно не был способен отстаивать свои планы против систематической оппозиции. В его мозгу вечно бродил какой-то хаос, в котором ничто не могло становиться с должной определенностью и ясностью. От времени до времени в его воображении рисовались какие-то образы, вспоминались клочки идей и теорий, слышанных им в разнообразных кружках, с которыми его сталкивала авантюристская жизнь. Так, вероятно, и в это время в его мозгу блуждало смутное представление какого-то нового порядка вещей, опирающегося на права национальностей, на либеральный цезаризм. Но он по опыту знал, что он даже изложить порядочно не сумеет этих своих мечтаний, которые должны будут разлетаться в прах перед критикой остроумного великосветского хлыща Мории[331], недальновидного, но смышленого Персиньи, педантического Валевского, перед суеверными страхами Евгении и ее вечным ходатайством «за бедного святого отца[332], который такой добрый» и пр. Так как война все же не могла быть объявлена через несколько дней, то Наполеон и принимал против самого себя всякие предосторожности. Может быть, он ждал, что Кавур поможет ему уяснить себе блуждавшие в его мозгу образы и создаст из них стройную теорию, которую император потом выдавал бы за свою.
Как бы то ни было, это французское союзничество, которое составляло венец кавуровских желаний, давалось ему само собой в такую минуту, когда он не только признавал, но и официально расписался в своей несостоятельности добиться его сколько-нибудь последовательным и рациональным путем. Впрочем, лучшее доказательство тому, что не Кавур владел положением, а положение владело Кавуром, – это уступка Савойи и Ниццы, на которую он соглашался легко, предвидя, конечно, что она может стать для него источником тяжких затруднений в будущем.
К чести Кавура должно заметить, что из Пломбьера он возвращается далеко не триумфатором. «Горе нам, – говорит он, – если успехом мы будем обязаны одному только французскому союзничеству». И с его стороны это не была пустая фраза: в нем несколько раз проскальзывало нечто, похожее на брюзгливость по отношению к императорской политике. Кавур инстинктивно ненавидел все, что направо или налево отклонялось от парламентской порядочности.
Как будто для того, чтобы восстановить равновесие после своего обязательного отклонения в сторону французского империализма, он считает нужным обратиться к той национальной, quasi-революционной инициативе, которой он обыкновенно чуждался всю свою жизнь. Зимой этого же самого 1858 г. Кавур вступает в таинственные переговоры с Гарибальди, который первый между мадзинистами решился пристать к савойскому знамени. К сожалению, подробностей об этих совещаниях Кавура с Гарибальди мы знаем очень мало. Очевидно, дело шло о сформировании тех же партизанских отрядов, которые потом, под именем альпийских стрелков, разыграли блестящую роль на Комо и послужили ядром будущей марсальской Тысячи. Кавур, конечно, не мог придавать стратегического значения этим немногочисленным летучим отрядам, составленным из лучшей молодежи всех итальянских провинций, плохо вооруженным и сильным только своим воодушевлением: Кавур всегда очень мало ценил именно эту силу. Допуская гарибальдийцев под савойское знамя, он, вероятно, хотел, с одной стороны, национализировать затеваемую войну, парализировать исключительно официальный и отчасти империалистский ее характер. Но, с другой стороны, он должен был понимать, что мадзинистский лагерь не останется спокойным свидетелем готовившихся в Ломбардии событий. Призывая заблаговременно наиболее деятельную и умеренную часть в свои ряды, он обеспечивал себя с этой стороны и до некоторой степени подчинял этот, сильно тревоживший его элемент, своему контролю. Впрочем, имя Гарибальди очень скоро показалось ему слишком компрометирующим и он просил будущего неаполитанского героя назначить вместо себя какого-нибудь менее страшного поверенного. Гарибальди выбрал Медичи[333], т. е. именно того из своих прежних сподвижников, который с качествами отважного партизана соединял и многие достоинства образованного светского человека.
Переговоры и приготовления с обеих сторон велись под покровом величайшей таинственности. Видя невозможность совершенно скрыть от взоров любопытной дипломатии свою поездку в Пломбьер, Кавур позаботился придать ей вид полу-политической прогулки. Из Пломбьера он отправился в Базель, где устроил свидание с тогдашним прусским наследным принцем, нынешним императором Вильгельмом. Свидание это не имело никакого политического значения, но оно отводило глаза от пломбьерских переговоров. Все знали очень хорошо, что пьемонтский Ришелье пользуется своим отпуском для таинственных свиданий с высокопоставленными особами; но никому не приходило в голову, что участь Италии или, по крайней мере, Пьемонта уже решена. Чтобы еще лучше скрыть важность результатов своей поездки, Кавур останавливается на довольно продолжительное время в какой-то швейцарской деревушке и пишет оттуда многочисленные и совершенно ничтожные письма к своим друзьям: итальянцы во всякое дело сумеют вносить артистический элемент, и если Кавур не был великим дипломатом, то, конечно, неумения морочить людей ему не недоставало. Впрочем, одно из этих посланий довольно характерно. В Швейцарии он в первый раз прочел книгу Бокля[334], бывшую тогда еще самой свежей литературной новинкой.
«…Я непременно хотел дочитать эту книгу до конца, – пишет он своему другу де-ля-Риву в Женеву, – а это нелегко тому, у кого на руках два портфеля. Я нахожу ее написанной беспорядочно, неясно и растянуто; но это очень замечательная книга. Она указывает на то, что в английском уме совершилась эволюция, которая должна иметь самые знаменательные последствия. Если бы я не был министром, я бы непременно написал статью об этой книге».
Благодаря всем этим предосторожностям, в Европе не знали ничего о приготовлявшейся катастрофе. При приеме иностранных посланников в Париже 1 января 1859 г., Наполеон совершенно неожиданно для всех заявил барону Гюбнеру[335] свое сожаление о том, что отношения между французским и австрийским правительствами неудовлетворительны. Несколько дней спустя, Виктор-Эммануил говорил в своей тронной речи:
«Горизонт вокруг нас помрачается. Наше отечество, маленькое по территориальным размерам, пользуется влиянием в Европе, потому что оно представляет великие идеи. Но это почетное положение имеет свои опасности. Мы проникнуты уважением к трактатам, но мы не можем долее оставаться глухи к воплям и стонам, раздающимся вокруг нас».
На дипломатическом жаргоне это уже прямо значило, что будет война.
Мы не станем распространяться о блестящем франко-итальянском походе в Ломбардию, где австрийцы, по своему обыкновению, постоянно бывали побиты при строжайшем соблюдении с их стороны правил и предписаний военной науки. Война эта, как началась по мановению тюльерийского олимпийца, точно так же и кончилась по совершенно необъяснимому его капризу. Кавуровской инициативе решительно не везло. Конечно, Пьемонт по Виллафранкскому договору приобретал Ломбардию; но, принимая во внимание жертвы, которых стоило это приобретение, его нельзя назвать выгодной сделкой ни в каком отношении. Едва ли не всего хуже было то, что дело принимало какой-то причудливый, почти комический оборот, перед которым становилась в тупик всякая логика.
Наполеон в Пломбьере не обещал объединения Италии, но он формально обязался очистить ее от австрийцев, создать итальянское королевство из северных провинций и связать его федеративными узами с центральными и южными областями, которые должны были сохранить и своих государей, и полную местную самостоятельность. Но между тем, что он обещал и что он действительно выполнил, не было никакого соотношения.
Но Пьемонт тем не менее обязывался сдержать все свои обязательства. Принцесса Клотильда уже была отдана замуж за принца Наполеона, к прискорбию всей своей семьи. Кавур ни на минуту не сомневался, что точно так же придется отдать обещанные Савойю и Ниццу. Он был вне себя и с позором бежал с поля битвы, т. е. оставил Турин и удалился на берега Женевского озера, слагая с себя всякую ответственность за ту путаницу, которая получилась в результате предприятия, имевшего возродить и освободить Италию, изменить политическую физиономию Европы. Отчаяние его нельзя поставить ему в укор, так как для человека мыслящего ничто не может быть трагичнее, как видеть лучшие свои надежды сломанными и поруганными произволом всесильного пошляка, перед которым, однако ж, нужно притворствовать и улыбаться. К тому же, в Турине ему, казалось, ничего не оставалось делать, как покориться тяжелой судьбе. Всякий протест был бы принят за признаки черной неблагодарности и немедленно наказан.
Впрочем, отчаянье Кавура было непродолжительно. Швейцарский воздух очень скоро успокоил его крепкие нервы, и через несколько недель он, так глубоко и искренно чувствовавший всю боль и горечь своего поражения, является уже в роли утешителя:
«Теперь меньше, чем когда-нибудь, следует смотреть назад, – говорит он в одном из своих писем из виллы де-ля-Ривов в Турин; – будем смотреть вперед. Мы следовали одной дорогой, она круто оборвалась. Поищем же другую! Понадобится каких-нибудь двадцать лет, чтобы добиться того, что легко достигалось в несколько месяцев. Но что же делать? Англия еще ничего не сделала для Италии, теперь наступает ее черед».
Еще через несколько дней он уже пишет своему другу Кастелли:
«Я не отступлюсь от политики до тех пор, пока Италия не будет свободна… Но я твердо решился не истощать напрасно своих сил в тщетных и бесполезных попытках».
Впрочем, не один Кавур, а вся Италия была глубоко возмущена этим грандиозным фиаско, венчавшим столько громких фраз, столько искренних, героических усилий. Она, можно сказать, делилась на два лагеря: скорбевших и негодовавших. Самый умеренный из представителей первого, Массимо д’Азелио, таким образом выражается об этом событии: «Если бы два месяца тому назад французам предложили следующую задачу: отправить в Италию 200 000 войска, издержать более 500 миллионов, выиграть четыре сражения, возвратить Италии одну из лучших ее провинций и вернуться оттуда всеми проклинаемыми, – они сочли бы эту задачу неразрешимой. А между тем это так… Впрочем, я отказываюсь осуждать императора. Все-таки он был в огне за нас против Австрии. Что же касается французских солдат, то я готов стать перед ними на колени… Но тем не менее Италия в отчаянном положении».
Но не все столь же благовоспитанно воздерживались от суждения, как этот достопочтенный романист. Нельзя было безнаказанно, по своей прихоти, будить национальные страсти и потом требовать, чтобы они внезапно затихли вновь, по щучьему велению. Кавур хорошо знал свой народ и ожидал самых печальных усложнений. Это ускорило его возвращение в столицу.
Виллафранкский мир был так же дурно исполнен, как и задуман. В сущности, он оставлял главнейшие условия нерешенными; существеннейшие его статьи были так дурно проредактированы, что их можно было толковать на очень различные лады. Ясно было только то, что австрийцы отдадут Ломбардию и удержат Венецию. Про центральные герцогства, Парму, Модену, Тоскану и про легации[336] говорилось, что герцоги могут быть водворены снова в своих владениях.
Но населения центральной Италии высказывали очень определенно и решительно, что они не хотят возвращения своих дуков. Далее говорилось, что «у папы попросят необходимых преобразований». Но папа не хотел делать никаких преобразований, а Романьи не хотели папских легатов.
Наполеон сам начинал сознавать, что дело не ладно. На восторженные приветствия своих вассалов и слуг, собравшихся поздравлять его с победой и возвращением во дворце Сен-Клу, он отвечал извинениями. Он выражал сожаление, что «усталость заставила его покинуть благородное дело, которому он хотел служить»; ему было горько «разбить иллюзии во многих благородных сердцах» и т. п. Он объяснял этот злополучный мир опасением, чтобы Пруссия не атаковала его на Рейне в то время, как его войска воюют на По, т. е. вообще говорил совершенный и бессмысленный вздор. За эти-то признаки императорского раскаяния Кавур хватается как за соломинку, способную спасти от затопления хоть частицу разбитых надежд.
По возвращении из своего кратковременного и добровольного изгнания, Кавур успел оказать Италии только весьма сомнительные услуги. Сомнительно, чтобы он способствовал удовлетворительному разрешению вопроса центральной Италии лучше, чем это сделали бы, вероятно, на его месте Раттацци, Ламармора и Дабормида, сменившие его в министерстве. Заслуга эта, во всяком случае, второстепенная, и он нашел себе слишком надежную опору в настроении духа населения этих провинций. При начале военных действий герцогства центральной Италии изгнали своих правителей и не соглашались принять их вновь ни на каких условиях. Вся задача Кавура по отношению к этим местностям сводилась, во-первых, к тому, чтобы удержать их протест в форме благоприличной и неспособной побудить Наполеона III настаивать на буквальном исполнении статей трактата; во-вторых, в том, чтобы привести эти области под власть Виктора-Эммануила. С этой двоякой целью он разослал в Болонью, Парму, Модену и Флоренцию своих агентов, которые тотчас же были избраны диктаторами всенародным голосованием. Только в Тоскане, вместо прежнего пьемонтского комиссара Буонком-паньи, было составлено временное правительство из местных деятелей, под председательством барона Риказоли.
Деятелей итальянского объединения обыкновенно делят на два противоположных лагеря: монархистов и республиканцев, или кавуристов и мадзинистов; но это деление совершенно не соответствует тому времени, о котором здесь идет речь, и когда дело шло уже не о принципах и доктринах, а только о фактическом завершении того, что уже было создано долголетней пропагандой «Молодой Италии».
Здесь действительно существуют два противоположных, почти враждебных одно другому, течения. Для одних, дело национального объединения Италии представляло интерес исключительно официальной стороной; приобщить Италию к сонму других независимых государств им казалось уже весьма почтенной и уважительной задачей, хотя бы приобщение это не вносило собой ничего нового в мир общепризнанных политических и общественных воззрений и прав. Деятели этого закала даже поставляли особую свою заслугу в том, чтобы устроить это появление Италии в ряду самостоятельных государств, по возможности, без нарушения политических приличий; чтобы уверить всю Европу в том, будто существование независимой итальянской нации, по крайней мере, в известной форме, совершенно сообразно с теми принципами и основами, которые были уже признаны руководящими в международном быту.
Для противоположного лагеря объединительная задача в этом ее официальном значении представлялась чрезвычайно мало привлекательной. Объединение разрозненных частей полуострова и даже самое изгнание австрийцев представлялись им святым и великим делом только в той мере, в какой этим путем можно было достигнуть действительно народного, а не только кажущегося обновления нации, веками приученной к уничижению и застою. Они видели, что даже в передовых государствах нормальное развитие нации слишком часто сдерживалось политическими условиями, насаждение которых на относительно девственной итальянской почве казалось им вовсе нежелательным. А потому деятели этого направления высоко ценили одну только народную инициативу. Однако, даже раньше 1848 г. корифеи народной партии уже умели отрешать существенную сторону своей национальной задачи от ее формальной стороны – от вопроса монархии или республики. Мадзини совершенно искренно обращался и к сардинскому королю, и даже к папе; и только близорукость и недобросовестность большей части тогдашних итальянских государей бесповоротно толкнула его в республиканский лагерь.
Как мы уже показали на этих страницах, партия официальной инициативы успела первая оправиться от поражения, понесенного обеими в 1849 г. До Виллафранкскаго мира, конституционный Пьемонт, душой которого был Кавур, а лозунгом имя Виктора-Эммануила, один только держал знамя свободы и возрождения. Этой заслуги не могли не признать за ним даже многие из тех, которые при иных условиях заявили себя ожесточеннейшими противниками «итальянского единства, распятого на савойском кресте». Мы уже видели, что перед войной Партия действия, – как ее здесь тогда называли, – в лице лучшего своего представителя, предложила дружеский союз официальной Италии, олицетворенной тогда в особе всесильного туринского министра.
Кавур тогда принял этот союз, но главнейшим образом из разных второстепенных, побочных соображений и в значительной степени потому, что в этой сделке он видел лучшее средство обезоружить тех, в ком, по близорукости, свойственной цеховым государственным людям, он видел, если не врагов, то, по крайней мере, опасных соперников. После Виллафранкского мира его недоверие к этому лагерю естественно должно было усилиться. Он знал слишком хорошо, каких громадных усилий стоило ему, воспитанному на парламентских церемониях и недомолвках, сдерживать то негодование, которое вполне законно вызвала во всех итальянских сердцах бесцеремонная игра их кратковременного союзника с лучшими итальянскими стремлениями и надеждами. Он боялся, что у людей поля битвы и площадных собраний не найдется запаса лицемерия, необходимого для того, чтобы в эту критическую минуту поддержать необходимый дипломатический декорум и разыгрывать унизительную комедию благодарности по отношению к тому, в ком сам даже незлобивый д’Азелио еле-еле мог видеть пустого фразёра и шутника.
Деятельность Кавура и его агентов в центральных герцогствах и в Романьях направляется почти исключительно против этой партии народной инициативы, которая, однако ж, с своей стороны не подала ему никакого повода к вражде. Он грозит встретить мадзинистов штыками и пушками, «хуже, чем австрийцев». Более сдержанный его последователь, барон Риказоли, велит от своего имени передать Мадзини, что если этот неутомимый агитатор попадется ему в руки, то он запрет его в своих владениях, т. е. в замке Бролио, и не выпустит на свет божий.
Все эти угрозы и вызовы едва ли политичны и уместны даже с той исключительно официальной точки зрения, которую одну только и допускал Кавур. Нет ни малейшего сомнения, что беспорядки в центральной Италии могли вызвать иностранное вмешательство, избежание которого Кавур считал теперь единственным возможным для него делом. Но он преувеличивал трудность этого дела и не сумел угадать иного пути, который, однако ж, указывался самым положением. С этих пор инициатива выпадает из его рук; но, к счастью для Италии, находятся другие, способные поднять ее.
Франция, очевидно, не имела намерения вмешиваться в итальянские дела в ущерб своим недавним союзникам. Наполеон III, по заключении Виллафранкского мира, даже говорил: «Теперь посмотрим, что Италия сделает одна». Конечно, Италия одна не могла продолжать войны с некоторой вероятностью успеха. Сардинской армии было недостаточно для того, чтобы обеспечить даже центральную Италию от насильственной реставрации. С дипломатической точки зрения, Кавуру ничего не оставалось делать, как обеспечить эти области от австрийских войск. Со стороны Англии, где Пальмерстон, на время ниспровергнутый за свои французские симпатии, стоял снова во главе правления, не могло предвидеться никаких затруднений. В Париже, правда, Валевский говорил пьемонтскому посланнику: «Пьемонтское правительство должно убедиться в неизбежности возвращения папы в Романьи, лотарингцев во Флоренцию[337], Фердинанда V в Модену[338]. Если Пьемонт будет действовать согласно с нашими видами, то мы дадим ему Парму и Пьяченцу; в противном случае, он вызовет в Европе новые затруднения и будет наказан».
Но Кавур уже имел случай убедиться, что Валевский, по крайней мере, по отношению к Италии, не выражал взглядов императора, который в то же самое время давал знать в Турин, что он вовсе не считает себя заинтересованным в реставрации герцогов. В Компьене он объявил Меттерниху, что, если Австрия вздумает перейти По, то Франция снова вступит в Италию. Наконец, он еще категоричнее высказался перед пьемонтским посланником Перуцци: «Пусть населения центральной Италии устроят плебисцит. Если окажется, что условия Виллафранкского договора не могут быть исполнены иначе, как с нарушением того народного права, на котором опирается моя власть, то их можно будет изменить».
При той громкой дипломатической репутации, которой пользуется Кавур, совершенно нельзя себе объяснить, что он с большими усилиями и пожертвованиями стремится к достижению того, что уже дается само собой. Эмануэле д’Азелио, пьемонтский посланник в Лондоне, при всех своих довольно скромных политических качествах, понимал, однако ж, положение дел гораздо вернее. Он писал в Турин: «Я видел подлинное письмо Наполеона… Здесь все думают, что тон, которым говорит с нами французский министр иностранных дел, объясняется необходимостью успокоить Австрию. Император прямо говорит, что он не будет недоволен, если обстоятельства примут иной оборот, нежели тот, которого он ожидал. Все государственные люди, даже французский посланник, думают, что мы должны идти вперед решительно, смело, но осторожно. Примите за правило, что в Париже только того и хотят, чтобы мы им дали предлог нас не тревожить».
Было совершенно очевидно, что Пьемонт смело может присоединить центральные области, рассчитывая на благорасположение Франции и Англии. Более того: со времени Виллафранкского мира Наполеон даже не поднимал речи о присоединение Савойи и Ниццы. Правда, уступка этих областей была решена на пломбьерском совещании. Но там много было решено и такого, чего сам Наполеон не исполнил. Ему как будто совестно было требовать условной награды за полуисполненное обещание. Англия, со своей стороны, высказывалась крайне неблагосклонно относительно этой территориальной уступки. Вместо того, чтобы воспользоваться ее услугами, Кавур хитрит перед Гудсоном[339], уверяет его, что ни о какой уступке и речи нет.
Не только противники, но и самые восторженные поклонники утверждают, что в деле уступки Савойи и Ниццы Кавур забегал вперед французским требованиям. Несомненно, что переговоры по этому поводу между французским уполномоченным Бенедети и туринским кабинетом длились не более трех дней и что со стороны Кавура не было сделано ни малейшего возражения. Виктор-Эммануил согласился с печальным замечанием: «Отдали дочь, так уж нечего жалеть и колыбели». Палата слишком привыкла беспрекословно подчиняться воле всесильного визиря. Только со стороны Партии действия уступка эта вызвала взрыв негодования, грозивший разразиться если не войной, то полнейшим разрознением группировавшихся вокруг конституционного знамени сил. Сам Кавур, в оправдание этого прискорбного пункта своей дипломатической деятельности, говорил, что, поддерживая принцип национальностей по сю сторону Альп, он не мог отрицать его во Франции. Этот аргумент имел бы огромное значение, если бы право национальностей действительно представляло собой стройную и законченную политическую систему, или если бы населения Савойи и Ниццы деятельно и искренно заявляли о своем желании отделиться от Италии. Но так как Кавуру лучше чем кому бы то ни было следовало знать, что значило народное голосование, на котором опиралось это отчуждение от Италии двух ее приальпийских областей, то с нашей стороны позволительно смотреть на его оправдание как на уловку.
Он желал этого присоединения просто потому, что думал таким образом втянуть Наполеона III в свою политику территориальных перемен, основанных на голосованиях местного народонаселения, а не на трактатах. С этой точки зрения, уступка Савойи и Ниццы, даже добровольная, могла не быть промахом, если бы можно было доказать, что в голове туринского министра тогда уже зрел план перенесения итальянского вопроса на такую почву, где этот принцип мог бы дать богатые результаты. Но, к сожалению, этого-то и не было. Совершенно поглощенный затруднениями в центральных провинциях и своей борьбой с национальной партией, – борьбой, принявшей после этой уступки особенно острый характер, – Кавур несомненно не имел ближайшим образом ничего в виду, кроме присоединения Пармы, Модены, Тосканы и Романий. Очень может быть, что, по достижении этой ближайшей цели, он не удовольствовался бы ею и повел бы дальше свою задачу. Но, в минуту слабости и разочарования, тотчас по заключении Виллафранкского договора, он высказал в немногих словах то, чего можно было ожидать от него, если бы инициатива итальянского движения не перешла заблаговременно из его рук в другие. Он совершенно искренно заявлял о своем нежелании отступаться от дела до тех пор, пока в Италии еще есть австрийцы. Но он ни разу в течение всей своей карьеры не выразил сознания, что кроме австрийцев, Италия имеет еще и других врагов; он даже ни разу не выказал себя партизаном итальянского единства.
«Мы шли одной дорогой, говорил он, – она круто оборвалась… Что ж делать? Мы перейдем на другую».
Но он тут же спешил прибавить, что этот переход с одной дороги на другую просто обозначал обращение от французского союзничества к английскому, которое ему, как отъявленному конституционалу и аристократу, было всегда гораздо больше по душе. Он сам предвидел, что для осуществления задачи этим путем ему понадобится, может быть, 20 лет. Да и в самом деле, за вопросом средне-итальянским стоял вопрос южно-итальянский, подойти к которому официальным кавуровским путем было нелегко. Если Кавур медлил и колебался с присоединением герцогств и легатств, которое ему и подсказывали и из Лондона, и из Парижа; если право этого присоединения он считал нужным покупать территориальными уступками, – то мы совершенно вправе предположить, что у него не хватило бы должной решимости на тот смелый и вовсе не дипломатический шаг, который один мог устранить всевозможные хитросплетения и затруднения.
Шаг этот сделал Гарибальди, отплывший из маленькой деревушки Кварто на генуэзском берегу в Сицилии со своей достопамятной Тысячей. С этой минуты знамя с именем Италии и Виктора-Эммануила переходит в руки неофициальной, народной инициативы. Действительная и крайне благовидная роль, разыгранная Кавуром в драме итальянского единства, кончается с присоединением герцогств и легатств к сардинской монархии. Что же касается гарибальдийского предприятия, давшего столь неожиданный и блестящий результат, то Кавуру принадлежит в этом деле только такая доля участия, на которую мог бы претендовать каждый младенец, родившийся накануне этого достопамятного дня 5 мая 1860 г.
Отношения между вождями народной партии и туринским премьер-министром были постоянно холодные; со времени же поднятия в парламенте вопроса об отчуждении Ниццы и Савойи они становятся решительно враждебными. Денежные средства на сооружение этой первой гарибальдийской экспедиции были доставлены отчасти итальянскими патриотами, отчасти же займом, совершенным в Лондоне без ведома пьемонтскаго министерства. Благодаря замечательной организации патриотических кружков, тысяча добровольцев собралась в этой маленькой деревушке на лигурийском берегу с замечательной быстротой и без всякого шума. Только уже по отплытии пароходов «Lombardo» и «Piemonte», Виктору-Эмануилу было доставлено письмо, в котором Гарибальди писал между прочим: «Если мы погибнем, я надеюсь, что Италия и Европа не забудут того, что нашим предприятием руководили одни только чистые патриотические побуждения. Если же нам сужден успех, я буду рад украсить корону Вашего Величества новой драгоценной жемчужиной, но только с условием, что Ваше Величество не позволит вашим советникам отдать эту, мной завоеванную область, иностранцам в придачу к городу, где я родился[340]».
В итоге Кавур стоял целой головой выше тех маленьких великих людей, которые в его время решали судьбы Европы за зеленым столом и даже иногда обыгрывали его в азартной дипломатической игре, называемой политической историей. Но лучшей его заслугой в наших глазах остается все же то, что он не был итальянским Бисмарком, т. е. не потопил дела итальянского единства в суровом море солдатчины и шовинизма.
Вторая часть Италия и Виктор-Эммануил
I
Для исторического героя, в обыденном значении этого слова, необходима такая арена деятельности, которая была бы наполнена шумом, блеском и грозным величием. Слава и обаяние этого героя приобретаются на поле битв, при эффектном освещении и грохоте пушек; разрушение и смерть идут по следам его; сила, отвага и, всего более, счастливая случайность играют главную роль в этой деятельности. Толпа благоговеет перед силой в ее высших проявлениях, и потому обожает ее представителей. Имя Наполеона I было для нее идеалом человеческого величия; внешний, фантасмагорический блеск его так ослеплял массу, что она не видела ни разоренных им сел и городов, ни вытоптанных полей и ограбленной Европы; она видела в нем только победителя, вождя громадных армий, перед которым таяли, как воск, целые царства. Как ни дорого стоят человечеству подобные герои, но оно еще не разучилось любить их и поклоняться им.
Есть другого рода герои; не пролив ни капли крови, ни принеся ни одной жертвы, они, в силу своей мирной деятельности, совершают не громкие, но тем не менее великие подвиги, лучезарный блеск которых отражается на будущих поколениях. Скромный, едва не забытый Гуттенберг не одержал ни одной аустерлицкой победы, но оставил потомству гораздо больше, чем Наполеон I. Первый создавал, а второй разрушал – в этом их главное отличие.
Виктор-Эммануил принадлежит более к разряду вторых деятелей, чем первых. Ему посчастливилось связать свое имя с разрешением одной из важнейших политических задач нашего времени. Под его знаменем Италия объединилась, округлилась и даже отчасти возродилась почти без кровопролития. Но он не имел величественной осанки и грозного вида, а потому мы как-то естественно стремимся умалить его значение и роль, отнестись скорее снисходительно, чем уважительно к его несколько казарменной фигуре. Виктор-Эммануил, кутила и добряк по своей природе, не любил власти и даже не делал вида, будто любит ее. Этой чертой своего характера он резко отличается, например, от Луи-Филиппа, которого тоже считают за образец конституционного короля, «царствующего, но не правящего».
Подавляемый своим премьер-министром Гизо, Луи-Филипп не упустил, однако ж, ни одного случая показать и самому Гизо и целой Франции, что он тяготится своей приниженной ролью. Это вовсе не помешало ему, когда и Франция начала тяготиться филистерским полновластием Гизо, погубить и себя и июльскую монархию, упорно отстаивая надоевшую и ему самому диктатуру скучного доктринера.
Виктор-Эммануил очень добродушно переносил все властолюбивые выходки Кавура. Когда весь Пьемонт и даже вся Европа кричали о том, что этот новый Ришелье, как ревнивая жена, держит под своим башмаком своего чересчур покладистого законного повелителя, то сам Виктор-Эммануил вовсе не спешил какой-нибудь произвольной выходкой заявить о мнимой своей самостоятельности. Совершенно напротив: он устраивал какую-нибудь грандиозную охоту или вилледжатуру[341]с черноокой фрейлиной своего двора. Об этом кричали все журналы; и слух о полной зависимости итальянского (или тогда еще сардинского) короля от своего премьер-министра получал новые подтверждения. Никому и в голову не приходило заметить, что Виктор-Эммануил должен был обладать не малой долей самостоятельности уже для того, чтобы подчиняться опеке сперва Массимо д’Азелио и де Склописа[342], а потом Кавура. В первой статье мы показали обстоятельства, толкавшие Виктора-Эммануила, в начала его царствования, на ту дорогу, на которой ему гораздо естественнее было бы отдать себя в распоряжение Радецкого, Меттерниха и других заграничных и чужеземных реакционеров, и что ему приходилось создавать собственной инициативой ту колею, в которой ему только и оставалось дать себя стушевать до известного предала в пользу тех, кто, талантами и воспитанием, были лучше его приготовлены к тому, чтобы играть первенствующую роль на парламентском поприще.
Мы мало знаем о личных отношениях короля к Кавуру; но имеем основание думать, что Виктор-Эммануил никогда не был очарован личностью своего даровитого сподвижника. Несколько раз в интимной беседе он отзывался о нем не без едкого юмора, свидетельствующего о том, что слабые стороны первого министра не укрывались от глаз его венценосного покровителя. Тем не менее король жертвует ему при каждом столкновении и не одним только своим мелким самолюбием, но также и весьма уважительными своими привязанностями и чувствами. Так было, например, в деле бракосочетания дочери короля с принцем Наполеоном. По вопросу об уступке Франции Савойи и Ниццы, Кавур, главнейшим образом, должен был ожидать энергического противодействия со стороны короля, которого – точно также, как и Гарибальди – эта дипломатическая комбинация «делала иностранцем в собственном отечестве».
Выше я уже имел случай заметить, что отдача Ниццы и Савойи французскому императору, взамен Ломбардии, приобретенной по Виллаф-ранкскому договору, представлялась произвольным действием самого Кавура. Новейшие хроникеры и биографы заинтересованных в этом деле личностей[343], преимущественно французы, положительно отрицают, чтобы уступка эта была предварительно выговорена на знаменитом совещании в Пломбьере, как conditio sine qua non[344] французского союзничества против Австрии. Не подлежит никакому сомнению, что Кавур решился на эту уступку прежде, чем Франция потребовала от него исполнения неизвестно когда принятого на себя обязательства.
Кавур слишком привык хозяйничать в итальянском парламенте и наперед мог быть уверен, что, при голосовании он всегда сумеет собрать в пользу своего предложения требуемое большинство. Тем не менее, даже в парламенте, оппозиция по этому делу приняла крайне ядовитый и опасный для премьер-министра характер. Не только пьемонтские патриоты и демократы из лагеря Брофферио взглянули на политику обмена провинций крайне неблагоприятно, но и тосканец Гверраци, никогда не бывший горячим унитарием и представлявший своеобразный оттенок националистических итальянских стремлений, обрушился на Кавура грозной филиппикой. Он напомнил собранию, что почти за подобную же уступку Дюнкирхена[345] английский министр Кларендон был осужден на изгнание.
Но еще чувствительнее для Кавура было то противодействие, которое политика его по этому вопросу встретила в лагере лиц, стоявших к его воззрениям гораздо ближе, чем Брофферио или Гверраци, – лиц, которых нельзя было упрекнуть ни в излишней горячности, ни в незнании тонкостей и усложнений дипломатии и парламентаризма. Недавний союзник Кавура, Раттацци, выступил на этот раз против него с речью, слишком похожей на обвинительный акт. Спокойно и вежливо, но с своей обычной язвительной щепетильностью, Раттацци заявлял, что он не видит необходимости требуемой от Пьемонта жертвы. Он не преминул указать, что, выступая на путь обменов и заискиваний перед иностранным союзничеством, Пьемонт тем самым уже разрывает с так называемой национальной итальянской политикой и становится в опасность утратить все выгоды, проистекавшие для него из его прежней благовидной и благодарной роли. В этом отношении Раттацци был совершенно прав: отдача Савойи и Ниццы с материальной точки зрения, конечно, с лихвой вознаграждалась приобретением Ломбардии и центральных провинций; но она грозила навсегда поссорить конституционный Пьемонт с той патриотической партией, которая нравственно была всесильна в Италии, но которая не сумела бы, без содействия туринского кабинета, облечь свою победу в форму, сообразную с дипломатическими приличиями и консервативными стремлениями иностранных государств. При такой постановке вопроса об отдаче Ниццы и Савойи, veto короля должно было иметь для Кавура очень решительное значение. Одним своим словом Виктор-Эммануил мог не удержать за своей короной эти наследственные владения, но, по крайней мере, нанести решительный удар самовластию и популярности своего слишком требовательного министра. Он, однако ж, не произнес этого слова, а на доводы Кавура о необходимости этой уступки отвечал: «Что ж! Делайте свое дело; а я, расставшись с дочерью, не стану плакать о колыбели».
Можно бы подумать, на основании этой уступчивости, доведенной до своего действительно крайнего предела, что Виктор-Эммануил относился к своему первому министру так, как короли и принцы доброго старого времени относились к своим астрологам и алхимикам, т. е. ничего не понимая в их хитрых и таинственных манипуляциях. В действительности, может оно так и было, но только отчасти, потому что уже в это время король вовсе не так был подавлен и поглощен личностью своего первого министра, как это обыкновенно думают: он видел уже свет не в одном только окошке Кавура.
Теперь, когда драма сыграна до конца и большая часть действующих лиц уже сошла со сцены, нам довольно легко восстановить этот интересный исторический эпизод во всей его психологической правде. При этом Виктор-Эммануил, со всей своей бесцветностью и стушеванностью, вырисовывается перед нами не просто как образцовый конституционный король на манер Луи-Филиппа Орлеанского или Леопольда Бельгийского, но как человек, имевший чрезвычайно определенный склад сочувствий и стремлений, обладавший притом не малой дозой настойчивости и непреклонности, удачно замаскированных чисто-итальянской гибкостью ума.
В лагере своего отца, а может быть и раньше, он узнал патриотическую итальянскую партию и научился, если не любить ее, то, по крайней мере, горячо сочувствовать ее стремлениям. Его общественное положение естественно создавало между ним и патриотической или революционной Италией целую пропасть, пытаться перескочить через которую он мог бы только в порыве героического безумия. Двоякий печальный пример его отца должен был значительно отрезвить его и без того довольно трезвую мысль. Но зато он, с редкой настойчивостью, преследует всякую представляющуюся возможность перекинуть через эту пропасть хоть сколько-нибудь солидный мост. Пока Кавур был для него одним из таких мостов, король упорно держался за него, тщательно ограждая его от всяких повреждений и оскорблений. Но он весьма легко и охотно покидает его, чуть только начинает сознавать, что мост этот расшатался и уже упирается противоположным концом не на солидный грунт патриотических стремлений, а на зыбкий песок дипломатических хитросплетений.
Новый мост, к которому переходит Виктор-Эммануил после того, как Кавур, поглощенный дипломатической интригой об отдаче Савойи и Ниццы с одной стороны и о присоединении центральных провинций с другой, упускает дело объединения Италии из своих рук, – называется Гарибальди.
Мы уже сказали, что 1860 г. в истории итальянского объединения представляет собой перелом. Дипломатический его фазис с присоединением Тосканы и Романий достиг своего предела, изжился, дал все, что он был способен дать. До сих пор дело усиления и внутренней организации конституционного Пьемонта совершенно отождествлялось с делом освобождения и объединения Италии. До уступки Савойи и Ниццы самый ревностный унитарий не мог бы сделать для Италии больше, чем сделал Кавур, считавший, по крайней мере до поры до времени, единство такой химерой, о которой серьезному государственному деятелю непозволительно даже и думать.
В самое золотое время своего могущества и успехов, в эпоху пломбьерского совещания, Кавур развивал нижеследующий политический план:
1) своими либеральными порядками и внутренним благоустройством Пьемонт приобретает себе благорасположение патриотов целой Италии; в то же время, своей умеренностью, он убедит другие европейские правительства, что господство конституционных порядков на итальянском полуострове и освобождение Италии из-под австрийского владычества будут единственным средством к устранению политических потрясений, периодически повторявшихся в Италии с самого начала текущего столетия и ежечасно готовых вспыхнуть вновь с постоянно возрастающей силой;
2) при содействии французского императора выгнать австрийцев из Италии и усилить Пьемонт присоединением к нему Ломбардовенецианского королевства;
3) склонить папу и неаполитанского короля к либеральным преобразованиям и организовать итальянскую федерацию с предоставлением папским владениям и королевству Обеих Сицилий полнейшей внутренней самостоятельности и прав, равных с Пьемонтом, за которым, во всяком случае, оставалась бы слава почина в столь почтенном деле и материальное превосходство перед другими союзниками, так как, с расширением его границ до Адриатического моря, народонаселение Пьемонтского королевства достигло бы уважительной цифры около 12 миллионов душ, а обладание такими богатыми торговыми городами, как Генуя и Венеция (которой легко можно было возвратить ее торговое значение, искусственно переданное австрийским правительством Триесту) естественно ставило бы это пьемонтское королевство в крайне выгодное промышленное и торговое положение, преимущественно перед всеми другими частями Италии.
Этой программе Кавура невозможно отказать во многих достоинствах. Известно, что очень многие почтенные мыслители и деятели, – в числе которых был и Прудон, которого невозможно заподозрить ни в клерикальных симпатиях, ни в излишней нежности к реакционной политике Меттерниха, – относились к итальянскому объединению очень несочувственно и считали федеративную форму государственного устройства более свойственной и более желательной для Италии, чем та буржуазно-конституционная монархия с некоторым оттенком милитаризма, которую представлял и пропагандировал Пьемонт. Из числа итальянских патриотов, даже очень крайнего лагеря, многие замечательные деятели отдавали федерации решительное преимущество перед единством. Таков был, например, бывший тосканский триумвир Ф.-Д. Гверраци и его соотчич и товарищ по временному правительству 1848 г. Монтанелли.
Но в особенности люди науки и мысли были в Италии гораздо более склонны к федерализму, чем к централизации. Достаточно упомянуть из их числа такого почтенного ученого и критика, павийского профессора Джузеппе Феррари, проведшего большую часть своей жизни в изгнании во Франции, и которого ученые труды на французском языке (в особенности его «История итальянских республик» и «Histoire de la raison d’Etat»[346]) пользуются очень громкой известностью. По складу своего ума и по силе своей критики, Дж. Феррари сильно напоминает собой Прудона; и нисколько не удивительно, что эти два столь сродные один другому таланта совершенно сходились в своих крайних выводах по вопросу об итальянском единстве; но шли они оба разными дорогами: Прудон был преимущественно экономист, тогда как Феррари оставался до конца чистым историком.
Не менее почтенный авторитет в немногочисленном федералистском итальянском лагере представлял собой также Карло Катанео, герой знаменитых миланских Пяти дней и впоследствии учредитель итальянской вольной политехнической школы в Швейцарии.
Конечно, федерализм Кавура был не такой теоретический и ученый федерализм, как тот, который побуждал только что перечисленных мыслителей и деятелей (бывших по большей части людьми крайне либерального закала) ополчаться и против Мадзини, и против Пьемонта, т. е., собственно говоря, против самого принципа единства и централизации. Но, так или иначе, с теоретической точки зрения, кавуровский план пересоздания судеб Италии никаким образом не может быть поставлен ему в укор.
На беду, однако ж, для туринского полновластного министра этот план его, за известным пределом, шел в разрез с самыми заповедными народными стремлениями. Унитарий Мадзини слишком хорошо исполнял свою пропагандистскую задачу. Он, как паук, опутал весь полуостров своей гениально сплетенной сетью «Молодой Италии»; под его влиянием целые итальянские поколения являются почти с колыбели пропитанными его революционно-централизационными учениями. Многие впоследствии успели освободиться, в некоторых подробностях и частностях, от чарующего влияния мадзиниевской пропаганды. Некоторые даже успели стать решительными врагами великого маэстро. Но от мала до велика, все, что было в Италии живых, деятельных сил, не видело спасения вне единства, которое действительно предписывалось в это время для Италии историей, как неотразимый, хотя, быть может, и временный шаг. Те немногие единицы из лагеря федеративно-либерального, о которых мы только что говорили, были вынуждены или добровольно осуждать себя на политическое бездействие, по примеру Дж. Феррари, или, как Карло Катанео, вступать в союзы и в сделки с унитариями.
В первой статье мы уже показали, с какой настойчивостью Кавур преследовал и как блистательно он выполнил на практике первый пункт своей программы. Осуществление второго ее пункта зависело уже не от него одного. Измена или ветреность Наполеона III, обнаружившаяся Виллафранкским перемирием, на время, казалось, разбивала вдребезги весь этот план. Но Кавур скоро одумался и увидел, что удар еще не так смертелен, как он полагал. В самом деле, с заключением Виллафранкского перемирия, Пьемонт на долгое время впредь лишался возможности включить Венецианскую область в свои пределы; но Кавур увидел, что присоединение центральных провинций вознаградит отчасти за неудачу его вожделенного плана. Потому-то он и торопился так с отдачей Ниццы и Савойи; потому он и отдался так всецело вопросу о центральных герцогствах и о Романьях, что видел в этом вопросе возможность возрождения той политической программы, которая была делом всей его жизни и которую он, в первом порыве разочарования, считал окончательно погубленной вероломством союзника. Вернувшись после своего бегства в Швейцарию и сменив Раттацци во главе туринского министерства, он снова принимается за свою федералистскую программу с прежним рвением и настойчивостью.
В центральной Италии он одерживает, хотя, может быть, и не блистательный, но, во всяком случае, полный успех. Правда, здесь ему приходится только пожинать лавры, уже посеянные унитариями. Его агенты, Риказоли в Тоскане, доктор Фарини в Модене и Леонетто Чиприани[347] в Болонье, только потому и добиваются от народонаселения этих местностей решительного голосования в пользу присоединения, что они ведут свою речь не от имени Пьемонта, а от лица объединенной Италии. В то же самое время Кавур возобновляет переговоры с королем Обеих Сицилий. Еще перед войной, тотчас по смерти старого Фердинанда [II], Кавур посылал к его преемнику, Франциску II, своего уполномоченного, графа Сальмура[348], с предложением «заключить дружественный союз двух могущественнейших королевств Итальянского полуострова», «связать в одно стройное федеративное целое разрозненные силы Севера и Юга в интересах будущности Италии».
Первое это посольство не дало и не могло, конечно, дать никаких положительных результатов. В начале 1860 г. Кавур возобновляет ту же самую попытку, отправляя с подобной же инструкцией бывшего пьемонтского посланника в Париже, Вилламарину[349], к неаполитанскому двору. Он ищет в то же время удобного повода завязать подобные же переговоры с Ватиканом.
В таком положении было дело, когда Гарибальди, совершенно неожиданно для всех, и для самого Кавура в особенности, круто повернул итальянское народное дело на унитарную дорогу, вовлекши Виктора-Эммануила в свои геройские замыслы.
II
Как ни странно это может показаться на первый взгляд, но тем не менее мечтатель Гарибальди, с своей полулегендарной марсальской Тысячей, представляет собой, на этот раз, трезвую действительность, так сказать прозу жизни, принарядившуюся, для столь необычайного случая, в красивый наряд смелых волонтеров. Положительный Кавур, со своим вечным прозаическим себе-на-уме, с своим презрением ко всему, выходящему за пределы будничной реальности, является фантазером, утопистом, с большим трудом и энергией преследующим неосуществимую химеру. Жизнь со своей обычной бесцеремонностью не преминула очень скоро оставить его за штатом.
Виктор-Эммануил с тем чутьем, которое не изменяло ему до конца его дней, отворачивается от своего вчерашнего фаворита, чтобы перейти в лагерь того, в ком вся Италия, совершенно основательно, видит теперь своего объединителя и освободителя. Только в глазах недальнозорких доктринеров, Гарибальди может еще и до настоящего времени оставаться счастливым кондотьером, смелым исполнителем чужих замыслов, совершенно не ведавшим, что он творит, и способным только быть слепым орудием в руках более глубокомысленных политиков.
Гарибальди, Виктор-Эммануил, Кавур, как и все выдающиеся исторические имена, в действительности, разумеется, гораздо больше относятся к определенным историческим событиям, чем к живым людям.
Историческая оценка лиц имеет еще очень мало точек соприкосновения с психологической их оценкой. Все исторические деятели были только кстати подвернувшимися исполнителями часто непонятных для них самих исторической необходимости. В этом отношении между ними только и можно установить то существенное различие, что одни из них черпали свое вдохновение из непосредственного общения с живой действительностью, другие же получали его, так сказать, из чужих рук. Но в этом смысле и Гарибальди и Кавур явились бы, в наших глазах, совершенно равнозначащими единицами. Каждый из них настолько интересен для нас, насколько он сумел вместить и сосредоточить в себе того, чем жила лучшая часть современного ему поколения. Таким историческим орудием был Кавур, до критической поры его разрыва с националистической программой, во имя своей федеративной программы. Таким стал Гарибальди с тех пор, как он кстати подхватил народное знамя, вывалившееся из рук его недавнего союзника и покровителя, ставшего внезапно его противником.
План Кавура был химеричен главнейшим образом потому, что он был придуман им самим, а не подслушан им у той народной массы, которой судьбы он брался устраивать. Все вероятия за то, что медовый месяц союза Кавура с националистическими стремлениями Италии кончился бы, после обмена центральных областей на Савойю с Ниццею, даже и в том случае, если бы этот пьемонтский Ришелье и не нашел себе в лице Гарибальди более счастливого преемника.
Италия стремилась к единству, и если бы ее возможно было свернуть с этого пути на иную, быть может, более рациональную федеративную дорогу, то труды вышеупомянутых мыслителей-федералистов сделали бы это гораздо вернее, нежели дипломатические мечтания Кавура. Быть может, скоро наступит то время, когда лучшая часть итальянской нации поймет, что единство, казавшееся in spe[350] крайним разумным пределом всех либеральных стремлений, в сущности вовсе не есть предел, а только переходный этап к иному, новому складу национальных стремлений и требований. Тогда она, с большей пользой для себя, вернется к поучениям Феррари и Катанео, которых она не хотела слушать несколько лет тому назад, в разгар своей унитарной горячки; но и тогда она не извлечет для себя ничего из программы Кавура, имеющей непростительный недостаток для всякой утопии: притязание на свою непогрешимость.
Очевидно, силы Кавура, отдававшегося своей деятельности со всей пылкостью и страстностью южных натур, были уже в это время подорваны слишком продолжительной и неутомимой работой и теми сильными ощущениями, которые вызывали в нем неожиданные перипетии тревожной эпохи 1859 и начала 1860 г. Быть может, в нем уже в это время развивалась болезнь, которая, год спустя, проявилась вдруг с необычайной силой и сломила в несколько дней его могучую организацию. Иначе, при светлом уме, которым он обладал несомненно, он бы легко понял, что вовлечь папу и неаполитанского короля в проектируемый им либеральный союз так же трудно, как насыпать соли на хвост порхающей в саду ласточки.
О чудовищности деспотизма и мракобесия, царствовавших при дворе неаполитанских Бурбонов, было говорено и писано слишком много. Сам Кавур уже на конгрессе в Париже указывал уполномоченным первоклассных держав на неаполитанские порядки, как на язву и позор общеевропейской цивилизации. Король Фердинанд [II], более известный под прозвищем короля-бомбы (прозвище это дано ему неаполитанскими остряками столько же за округлость его фигуры, унаследованной им от французских Бурбонов, от которых он происходил, сколько и за его привычку бомбардировать своих подданных при каждом удобном и неудобном случае), прославился в истории, кроме своей свирепости и невежества, почти невероятного в нашем веке, еще и одним замечательным изречением. Когда, при начале революции 1848 г., его лучшие советники указывали ему на либеральный статут, как на единственное средство прекратить всеобщее брожение умов в его королевстве, он гордо отвечал: «Вы забываете, что я числюсь шефом кавалерийского полка в гвардии императора Николая[351]. Я предпочту закончить свою жизнь кавалерийским полковником в России, чем конституционным королем в Неаполе».
Правда, когда обстоятельства приняли более грозный склад, этот крутой духом, но мягкий телом монарх забыл свою геройскую решимость; но при первой возможности он не замедлил показать, что смотрел на выданную им тогда хартию как на ловушку для простаков, доверившихся присяге этого питомца иезуитов, который не преминул бы сам изобрести остроумную кляузу «безмолвных оговорок» (restriction mentale[352]), если бы он не нашел ее уже готовой в арсенале почтенного братства Лойолы.
Опираясь на австрийские штыки, на швейцарских наемников и на дикие инстинкты лаццарони, которые он холил и воспитывал с нежной заботливостью и любовью, король Фердинанд, со своим министром полиции Дель Карретто[353], служил пугалом для патриотов целой Италии; своим же подданным он внушал такую романическую ненависть, которая возможна только под знойным небом и среди возбуждаещей природы Неаполя. Все его долголетнее правление (с 1830 по 1859 г.) имеет характер борьбы не на жизнь, а на смерть. Обе стороны не гнушались в этой ожесточенной борьбе решительно никакими средствами. В то время, как вожди и члены разбойничьей корпорации Gamorra встречали радушный прием и даже занимали почетные должности в королевском дворце, тюрьмы обеих Сицилий были битком набиты лучшими представителями неаполитанской интеллигенции. Казни патриотов были обыденным делом и отличались возмутительной жестокостью. Прельщая иностранцев сарданапаловской роскошью своего двора и своей немногочисленной, но всесильной аристократии, король Фердинанд, особенно после 1848 г., имел мужество открыто преследовать все, что составляет самую сущность европейской цивилизации. Наука в его владениях считалась предосудительнее воровства. Несколько дозволенных в столице газете обязывались, в качестве передовых статей, печатать биографии католических святых, празднуемых в тот день, и наполнять свои статьи всякого рода благонамеренными нелепостями.
После того как Гарибальди вполне завладел Сицилией и переправился на материк, почти нигде не встречая себе противодействия, мне самому привелось читать в официальной неаполитанской газете утешительное известие, что «разбойник и безбожник Гарибальди, разбитый на голову доблестными войсками геройского майора Боско[354], слоняется в горах как дикий зверь, нигде не находя себе пристанища. Если только он не издохнет с голоду или не будет пристрелен пулей какого-нибудь доброго сицильянца, к которому заведет его нужда, то скоро уже верный неаполитанский народ усладится зрелищем заслуженной казни этого возмутительного злодея».
До тех пор, пока был жив король Фердинанд, не могло быть и речи о примирении южно-итальянского народонаселения с бурбонской династией, которая на вулканической неаполитанской почве переродилась еще хуже, чем в Испании. Но в 1859 г. Фердинанд умер от раны, нанесенной ему молодым фанатиком Аджезилао Милано[355], передав свой престол двадцатилетнему сыну своему Франциску II.
Между положением, в котором в 1860 г. находился юный неаполитанский Бурбон, и тем, в котором Виктор-Эммануил очутился тотчас после Новарской битвы, существовала немалая аналогия, и со стороны Кавура до некоторой степени позволительно было рассчитывать на то, что сходные положения дадут и одинаковые результаты. Франциск II не мог иметь серьезных поводов любить тот порядок, который господствовал во владениях его отца и которого он сам был ближайшей жертвой.
Что же касается неаполитанского народа, то он незлопамятен и, конечно, не перенес бы на неповинного сына ответственности за отца. Мы уже видели, что Кавур, при самом вступлении Франциска на престол, пытается склонить его на путь либеральных преобразований. Год спустя, он возобновляет свою попытку уже тогда, когда надежнейшая опора итальянского деспотизма – австрийская армия – была побеждена, когда представители Франции и Англии при неаполитанском дворе дали понять Франциску II, что продолжение политики его отца было бы, с его стороны, непростительным анахронизмом. Можно без преувеличения сказать, что дальнейшие судьбы Италии, быть может, на несколько десятков лет вперед, зависели от характера, который обнаружит в себе наследник Фердинанда.
В семье последних Бурбонов, как в стаде фараоновых коров, существуют два типа: тучный и тощий, чередующиеся между собой с очень незначительными индивидуальными изменениями. К первому принадлежали во Франции Людовики XVI и XVIII, испанская Изабелла и неаполитанский Фердинанд. Все они лицом и характером отчасти напоминают друг друга: крупные черты, большой мясистый нос, глаза навыкате придают их лицам какую-то мертвящую апатию. Все они отличаются чувственностью, привязанностью к веселому житью, склонному иногда даже переходить в добродушие и юмор. Сам Фердинанд смолоду имел свои минуты благодушных порывов и даже председательствовал на ученом конгрессе в 1846 г., на который, по его распоряжению, в числе прочих светил итальянской интеллигенции, были допущены и те, которых драконовская цензура заставила бежать из неаполитанских владений и искать убежища в Швейцарии или в Тоскане. Даже впоследствии Фердинанд очаровывал своей обходительностью иностранцев и тех из своих верных слуг, которые твердо помнили, что грех воровства или даже убийства может быть отпущен духовником или замолен перед статуей св. Януария, но что грех либерализма – неискупим. Воспитываемые в строгих клерикальных традициях, тучные Бурбоны не отличаются, однако ж, особым религиозным рвением: религия для них служила или орудием власти, как для Людовика XVIII, или же переходила в грубое чувственное суеверие.
Но Франциск II принадлежит к тому тощему бурбонскому типу, которого знаменитейшим представителем во Франции были Карл X, и который, как в моральном, так и в физическом отношении, совершенно противоположен Людовику XVIII. В их сухих, вытянутых физиономиях есть что-то инквизиторское, иезуитское. В их тусклых глазах отражается тупое, автоматическое упорство. Они люди принципов, а не увлечений, и даже самая чувственность в них отличается противоестественным направлением. К этим общим, так сказать, видовым чертам новый неаполитанский король присоединял только одну, чисто личную свою особенность: он был с детства запуган отцом, запуган мачехой, не терпевшей его и мечтавшей оттереть его от престола, запуган своими клерикальными воспитателями. По примеру многих трусливых людей, он не имел настолько нравственной силы, чтобы отстранить от себя вечно тяготевшее над ним пугало даже тогда, когда открылась перед ним фактическая возможность самостоятельности.
С первых же своих шагов на прародительском престоле, Франциск II дал несколько несомненных доказательств тому, что, со смертью его отца, ничто существенно не изменилось в королевстве Обеих Сицилий; что кавуровская мечта о вовлечении юга Италии в задуманную им либеральную конфедерацию так и должна оставаться до конца неосуществимой мечтой.
Со стороны Рима препятствия к осуществлению федеративной программы были еще очевиднее, и Кавур так и скончался, даже не дождавшись случая завести с некогда либеральным папой речь о своих замыслах. Десятки лет могли очень удобно пройти, прежде чем изобретательному уму Кавура и всех итальянских дипломатов, взятых вместе, удалось бы, наконец, создать или усмотреть такую комбинацию, которая открывала бы перед ними возможность, хоть в отдаленном будущем, сломить, наконец, тупое упорство неаполитанских реакционеров. А о том, чтобы заставить Пия IX хоть когда-либо снова вернуться к патриотическому настроению начала своего папствования, вовсе не могло быть и речи.
Из единства Италии впоследствии хотели сделать какой-то новый политический принцип, на котором думали основать целую систему международной политики национальностей. Теоретически эта попытка не выдерживает решительно никакой критики. Национальность никаким образом не может быть возведена в принцип; а еще менее этот quasi-принцип способен внести собою что-нибудь прогрессивное и новое в наши международные отношения. Объединение для Италии было чисто временной необходимостью, единственной возможностью выйти из ее крайне тяжелого политического маразма. Исторические условия итальянской жизни сложились, действительно, так, что здесь истинно прогрессивные и либеральные стремления отлились в национально-унитарную программу.
Но во многих других странах, та же самая форма послужила прикрытием и оболочкой для тенденции совершенно иного рода! Везде и всегда унитаризм естественным путем должен повести к усилению милитаризма и международной нетерпимости. В Италии это неблагоприятное влияние его в значительной степени смягчалось тем, что инициатива объединяющего движения попала в руки не официальной власти, а вольного патриотического кружка. Во всяком случае, соединять непременно в одно политическое тело народы, принадлежащие к одному племени, говорящее одним языком и исповедующие одну веру, также мало логического основания, как и соединять, например, законными семейными узами лица, имеющие волосы или глаза одного цвета. Швейцария нисколько не чувствует себя более несчастной оттого, что ее народы говорят на трех различных языках, исповедуют кальвинизм, цвинглианизм и католичество. В самой Италии неаполитанские Бурбоны изображали собой элемент, ничуть не более чужеземный, чем савойская династия в Пьемонте.
Ill
Гарибальди не был, конечно, ни глубокий политик, ни дипломат. Но многое из того, что непонятно нашим мудрецам, рассуждающим на основании принципов и теоретических данных, в Италии того времени живо чувствовалось самым недальнозорким и необтесанным popolano[356], хотя он, для выражения своих чувств и стремлений, имел в своем распоряжении очень скудный запас политических, полумистических формул, заимствованных им у адептов «Молодой Италии». Для того, чтобы разъяснить подробно неотразимую необходимость и какую-то роковую неизбежность унитарного движения для Италии 1860 г., потребовалось бы несколько страниц, и наша логическая аргументация, по всей вероятности, не была бы даже вполне понятна для южно-итальянского простонародья. Но, тем не менее, самая необходимость этого движения была там понятна каждому без всякой аргументации. И в этом отношении между Гарибальди и итальянской нацией существовало то общение, которое и выдвигает на сцену великих людей, которое очень часто избавляет некоторых избранников от необходимости многое знать и понимать книжно, теоретически.
Но, и с чисто дипломатической точки зрения, марсальская экспедиция была задумана и исполнена безукоризненно. Мы уже видели, что, после Виллафранкского договора, отношения между Пьемонтом и общеитальянской патриотической партией принимают далеко недружелюбный строй. Ожидая ежечасно, что чересчур горячие патриоты наделают ему бед перед лицом общеевропейской дипломатии, Кавур грозит расстреливать мадзинистов, «хуже, чем тедесков». Барон Риказоли хочет запереть Мадзини в своем тосканском замке…
Открывая для патриотических стремлений новый спасительный исход, Гарибальди тем самым уже устранял столкновение, казавшееся неизбежным и во всяком случае грозившее пьемонтскому правительству многими бедами. Излишней своей уступчивостью Пьемонт навлек бы на себя обвинения в революционном азарте; излишней строгостью он бы совершенно погубил свой авторитет в самой Италии, служивший основой для его дальнейших надежд и подвигов. Лавирование между этих двух крайностей приметно парализовало творческие силы Кавура.
Марсальская экспедиция вовсе не была первой в своем роде. Начиная уже с 1844 г., т. е. с самого начала мадзиниевской пропаганды, венецианцы Эмилио и Аттилио Бандиера[357], вместе с Риччотти и Моро, сделали первую попытку вооруженной вылазки в Калабриях. С тех пор подобного рода предприятия повторялись периодически, направляясь, по легко понятной причине, преимущественно в Калабрии или в Сицилию, где воинственный дух жителей представлял для них наиболыне вероятности успеха, где, кроме того, восстания почти не прекращались за все время бурбонского управления. Сицилия в особенности не хотела мириться с неаполитанскими порядками и готова была броситься в объятия всякому освободителю. За два с небольшим года перед высадкой Гарибальди в Марсале, Карло Пизакане, бывший паж короля Фердинанда, с горстью неаполитанских изгнанников (в числе которых были и недавний итальянский министр внутренних дел, барон Джованни Никотера), хитростью овладев почтовым пароходом, на котором они отправились пассажирами, пристали близ Сапри, возле Пиццо, где был расстрелян Мюрат, пытаясь вызвать республиканское восстание в Калабриях[358]. Они большей частью погибли.
Никотера, пользовавшийся особенным покровительством двора, благодаря своим семейным связям, вместе с немногими другими, взамен смертной казни, был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме. Ему было в это время всего около 20 лет. Трагическую судьбу этих юношей воспел Луиджи Меркантини[359] в своей известной «Жнице из Сапри»:
Было их триста, все юношей цвет. Все они пали, их нет!Братья Бандиера были австрийскими морскими офицерами; но никому и в голову не приходило, конечно, делать австрийское правительство ответственными за их подвиги. Гарибальди не состоял с пьемонтским правительством ни в каких официальных связях. Письмо, адресованное им на имя короля, которого он извещал о своих намерениях (этого требовала простая вежливость, с тех пор, как Гарибальди пользовался именем короля для своих планов), могло быть доставлено Виктору-Эммануилу только уже после отплытия экспедиции из пьемонтских пределов.
Кавур, конечно, имел в своем распоряжении эскадру адмирала Персано[360], которому он мог бы приказать преследовать отважных авантюристов. Но маршрута Гарибальди с точностью никто не знал; распоряжение о преследовании не могло быть отдано за отплытием с молниеносной быстротой. Да и во всяком случае, мера эта была бы в высшей степени неполитичной. На пьемонтское правительство никто не возлагал обязанности охранять неаполитанские берега. Нагнав Гарибальди в Мессинском проливе, например, Персано не имел бы даже никакого права действовать против него силой… Короче говоря, в случае удачи, как и неудачи, ответственность за нападение Гарибальди на неаполитанские пределы могла пасть только на него одного, да на ту горсть отважных юношей из лучшей итальянской молодежи всех областей, которые составляли легион любимого вождя, но никак не на пьемонтское правительство.
Легко понять, что неаполитанское правительство, при первом известии об удачной высадке волонтеров в Марсале и их победоносном шествии к столице острова, подняло жалобный вопль и обратилось ко всем европейским правительствам с горькой жалобой на революционные интриги Пьемонта. Понятно также и то, что австрийский кабинет с жаром откликнулся на этот жалобный писк re Bombino[361] и, в свою очередь, стал уверять европейскую дипломатию, что в образе Гарибальди скрывается сам Виктор-Эммануил вместе с Кавуром и что эти ехидные питомцы коммунистических и анархических доктрин не преминут поставить и всю Европу на край революционной пропасти, если только зловредной деятельности их не будет дан заблаговременно спасительный урок соединенными силами всех благонамеренных государств Европы.
Сама Австрия первая готова была бы выступить на поприще обуздания «революционной гидры» и уже готовила к этому походу свои войска, но ее удерживал страх навлечь на себя этим вмешательством новые Мадженто и Сольферино[362]. Но совершенно непонятно, каким образом другие европейские державы, в том числе Франция и Англия, могли придать этим воплям и жалобам хоть какое-нибудь значение? Они, тем не менее, буквально завалили пьемонтский кабинет своими протестами, которые Кавур имел слабость принимать близко к сердцу. Впрочем, он в то же время писал в Англию к сэру Джемсу Гудсону:
«По какому праву обвиняют Сардинию в том, что она не помешала горсти отважных авантюристов напасть на Сицилию? Но ведь у короля неаполитанского есть свой флот, и охрана берегов королевства лежит на его, а не на нашей ответственности. Допустите даже, что мы знали об этой экспедиции; могли ли мы воспрепятствовать сицилийским изгнанникам идти на помощь своим угнетенным братьям, в то время, как в Триесте открыто организуются австрийские и ирландские отряды, отправляемые на помощь папе, которого никто не трогает? Цвет итальянской молодежи стекается отовсюду под знамена Гарибальди. Правительство не может стать наперекор этому национальному движению без того, чтобы не уронить престиж Савойского дома, а вместе с тем и свою будущность. Прать против рожна с нашей стороны значило бы только повергнуть весь полуостров в нескончаемые республиканские смуты, которые пагубно отразились бы на спокойствии целой Европы. Чтобы удержать поток революционных идей, конституционная монархия должна удержать за собой до конца ту нравственную силу, которую ей дает роль, сыгранная ею до сих пор в деле национального освобождения. Чтобы сохранить этот драгоценный клад, мы вынуждены щадить национальные симпатии и увлечения. Правительство с глубокой скорбью смотрит это предприятие, но оно не может остановить его. Мы не содействовали ему ни прямо, ни косвенно и мы точно также не можем открыто противодействовать ему».
Письмо это не официальный документ, а только отрывок из частной, почти дружеской переписки. Впрочем, тон его служит уже ручательством за его искренность. Кавур нередко прибегал в своих дипломатических сношениях к открытой лжи; так, например, в то самое время, когда отдача Савойи и Ниццы была уже решена, он прямо уверял англичан, что между ними и Францией нет никаких переговоров о территориальных уступках. Но он не принадлежал к числу тех пошлых дипломатов, которые считают почти обязанностью своей профессии лгать везде и всегда. В настоящем случае лгать ему не было никакой надобности: юридически в эту первую и наиболее блестящую эпоху гарибальдийского движения, Пьемонт был чист и прав перед лицом общеевропейской дипломатии, как Христос перед жидами. Единственной связью между марсальскими волонтерами и официальным Пьемонтом была живая личность короля, не подлежавшего никакой судебной оценке. Такими образом, на протесты, сыпавшиеся на него градом со всех сторон, Кавур отвечает приблизительно тоже, что он излагал in extenso[363] в вышеприведенном письме к Дж. Гудсону.
Но в политических вопросах важна, к сожалению, не правовая точка зрения. Пьемонтское правительство, совершенно искренно сознавая свою безупречность перед лицом всей Европы, могло тем не менее опасаться, что государства, заинтересованные политическим statu quo, не потерпят затеянного гарибальдийцами на свой страх радикального изменения судеб Италии. Этим объясняется тревожное состояние, которым проникнута и вся деловая переписка и даже некоторые частные письма Кавура за это время. «Мы отданы на жертву неизвестности», – твердит он на всевозможные лады.
Положение, однако ж, было далеко не так грозно, как могло показаться на первый взгляд. В числе государств, всего резче и определеннее высказавших свое неодобрение по поводу нападения гарибальдийцев на Сицилию, едва ли не на первом месте следует поместить Пруссию, которая в своем первом протесте решительно и прямо повела речь о возобновлении Священного Союза. Но она очень скоро поняла, что прямые ее интересы никоим образом не были задеты событиями, совершавшимися или готовившимися на итальянском полуострове. По крайней мере, этот протест ее бесследно канул в Лету и им нечего было особенно смущаться.
В Петербурге князь Горчаков[364] говорил пьемонтскому посланнику: «Если туринский кабинет настолько слаб против революционных стремлений, что вынужден даже уклоняться от исполнения своих международных обязанностей, то другие европейские государства должны принять это во внимание и сообразовать свои отношения к пьемонтскому правительству с этим странным положением. Если бы географическое положение России позволяло это, то император, конечно, оказал бы помощь неаполитанскому королю, хотя бы западные государства и провозгласили принцип невмешательства». Слова эти, без сомнения, показывают, что в России, несмотря на все заверения Кавура, все-таки возлагали на туринский кабинет ответственность за южно-итальянские дела. Но в то же самое время они должны были убедить пьемонтского премьер-министра в том, что невмешательство России обеспечено географическим положением страны.
Весь вопрос сводился, следовательно, к тому, что сделают или что позволят сделать Англия и Франция?
Прямые интересы Англии тоже не могли быть затронуты поддержанием бурбонского правительства в обеих Сицилиях. Даже наоборот: запретительные тарифы, религиозная нетерпимость и вообще замкнутость неаполитанской политики были вовсе не по душе расчетливой и меркантильной Англии. К тому же, со времени уступки Ниццы и Савойи, лондонский кабинет с завистью следил за успехами французского влияния в Италии. Очень скоро обнаружилось, что, при новых усложнениях, единственной заботой Англии был страх, чтобы пьемонтское правительство не сделало Франции каких-нибудь новых территориальных уступок. Кавур был вынужден выдать лорду Джону Росселю формальное письменное обязательство не отдавать Франции никаких земель, кроме тех, которые уже были уступлены ей по договору 24(12) марта. Будучи обеспечен с этой стороны, лорд Дж. Россель поручил английскому посланнику в Вене, лорду Лофтусу, передать венскому кабинету следующие подлинные слова: «Деспотизм и притеснения составляют отличительные черты южно-итальянского управления, тогда как на севере Италии правительство строго держится принципов справедливости и свободы. Рано или поздно, народонаселение обеих Сицилий непременно захочет слиться с своими северными братьями и воспользоваться благом просвещенного пьемонтского управления». С этой стороны, следовательно, пьемонтскому правительству совершенно развязывались руки.
Надо прибавить, что в лондонском Сити мадзиниевская пропаганда делала свое дело не меньше, чем в самой Италии. Гарибальдийское предприятие велось, больше чем наполовину, на деньги богатой английской буржуазии, которая, главнейшим образом из ненависти к папизму, а отчасти из классического пристрастия англичан ко всему эксцентричному, выказывала сочувствие в пользу отважного южно-итальянского предприятия. Не говоря уже об успехе займа, который Гарибальди впоследствии заключил в Лондоне совершенно out of the business way (т. e. вне делового пути), ему со всех сторон Англии присылались богатые приношения припасами, орудием, деньгами.
Со стороны Франции дело представлялось в менее благоприятных чертах. Пример Виллафранки должен был достаточно убедить Кавура в том, что у Наполеона III не было определенной системы внешней политики, которая позволяла бы заранее определить ту роль, которую он примет в данный момент. Император не скрывал своих личных симпатий к делу итальянского освобождения. К тому же, так называемая «наполеоновская традиция» в значительной степени обязывала его содействовать отмене учреждений и постановлений венского конгресса. Но эти соображения представляли, так сказать, романтический элемент в его жизни, и он мог поддаваться ими только в добрую минуту. Кавур тщетно старался закупить его благорасположение уступкой двух итальянских областей: сильный редко ценит дары слабого. К тому же, хорошее впечатление, произведенное на императора французов уступчивостью туринского правительства в этом деле, должно было в сильной степени сглаживаться теми горькими истинами, которые по этому поводу высказывались на его счет и в итальянском парламенте, и в печати. Короче говоря, со стороны Франции все оставалось покрыто густым мраком неизвестности; все зависело от минутного настроения императора, – от того, одержат ли над ним верх клерикальные влияния, поддерживаемые, главнейшим образом, партией императрицы и Валевским, или его собственные славолюбивые и сантиментальные мечты.
Известно, что когда Бог захочет погубить кого-нибудь, то прежде всего отнимет у него разум. Впрочем, когда известное историческое положение вполне назрело, то обыкновенно устраивается так, что все как бы фатально способствует его успеху: друзья и недруги, гениальные мыслители и идиоты. С тех пор, как Гарибальди поставил народное дело Италии на тот путь объединения, на котором оно могло решиться только мечом, успехи или неуспехи его исключительно зависели от невмешательства иностранных государств в борьбу, затеянную на юге. Гарибальди, с идеалистической верой в правоту своего дела, ни на минуту не сомневался в том, что чувство справедливости, которое он считает присущим народным массам, должно было ограждать его предприятия от враждебных влияний извне. Сочувствие, которое он встретил в самых отдаленных углах цивилизованного мира, заставляло его предполагать, что если бы даже какое-нибудь иностранное правительство и решилось воспользоваться своей силой во вред Италии, то оно вызвало бы внутри собственного своего народа целую бурю негодования. Но скептик Кавур должен был смотреть на дело иными глазами и понимать, что, по одному слову или знаку Наполеона III, Австрия готова двинуть в Италию стотысячную армию, с которой, плохо вооруженным и еще плоше экипированным волонтерам, справиться будет нелегко.
Вывести Пьемонт из этого томительного положения неизвестности взялись самые заклятые его враги: папа Пий IX и злополучный преемник неаполитанских Бурбонов, Франциск II.
С тех пор, как обнаружилось первое сближение между Францией и Пьемонтом, при ватиканском дворе, которого, однако ж, никто не трогал и который был достаточно огражден от всяких покушений присутствием французского гарнизона в Чивита-Веккии, водворился по отношению ко Второй империи кислый и озлобленный тон. Папа делает вид, что считает себя отданным без защиты на произвол революционным стремлениям «красной» Италии и пьемонтскому хищничеству. Эти вопли и жалобы святого отца, прежде чем тронуть французского императора, для которого они собственно и предназначались, размягчают сердца легитимистов и клерикалов всей Европы. Новые крестоносцы стекаются в Рим из
Бельгии, из Ирландии, из Австрии, но всего больше из самой Франции, где легитимистская партия, разъедаемая собственным своим ничтожеством, жадно хватается за неожиданную возможность играть хоть и жалкую, но все же политическую роль. Воинственный кардинал де Мерод[365] нападает на несчастную мысль организовать из этой сволочи французских великосветских салонов и немецких игорных домов подобие армии, назначенной будто бы защищать престол св. Петра против каких-то неведомых злоумышленников. В глазах римских прелатов, смысл этой пошлой комедии заключался в том, чтобы показать, так сказать, в лицах французскому правительству: «Вот до какой крайности вы доводите нас тем, что якшаетесь с отлучниками от церкви, с врагами католичества и законности!».
Но действительный смысл этого дела вышел совершенно иной, в особенности же с тех пор, как начальство над папской армией приняли известный французский генерал Ламорисьер[366], один из противников государственного переворота 2 декабря, на старости лет впавший в чувствительный легитимизм: специальная форма размягчения мозга, очень распространенная между выживающими из ума французскими великими людьми[367].
С тех пор как Рим сталь убежищем враждебной наполеоновскому правительству легитимистской партии, политическая роль Франции решительно определилась: считая, что его благонамеренность по отношению к главе католической церкви достаточно обеспечена присутствием в Чивита-Веккии французских солдат, Наполеон III распространяет и на южно-итальянские дела принцип невмешательства, признанный им относительно присоединения Тосканы, Пармы, Модены и Романий. С тем вместе определяется и отношение Кавура к гарибальдийскому движению, которое вступает через это в новый фазис своего развития.
IV
Мало смущаясь дипломатическими соображениями, которые мы только что изложили, Гарибальди делал свое дело, т. е. от Марсалы победоносно шел к Палермо, повсюду встречая восторженный прием.
Неаполитанские войска, по каким-то совершенно своеобразным стратегическим соображениям, постоянно отступали перед ним, расчищая ему дорогу от одной столицы острова к другой, т. е. от Палермо к Мессине, где, по их предвидению, он уже непременно должен был сломить себе шею. Наконец, энергический майор, усомнившийся в основательности генеральских предвидений, решился атаковать его на полпути к Мессинскому проливу, при Мелаццо. Нельзя сказать, чтобы эта импровизированная решимость оказала существенную пользу тому делу, которое он защищал, так как, несмотря на превосходство числа и вооружения, королевские войска все же были разбиты и вынесли из этого поражения только суеверный страх пред красными рубашками.
Боско, кажется, один в целом бурбонском лагере понимал действительное значение гарибальдийского предприятия и угадывал намерение волонтеров идти чрез Калабрии и Пулию к столице. Рассчитывая на то, что мессинская цитадель задержит на время революционные полчища по сю сторону пролива, он спешил переправить свои отборнейшие войска и превосходную артиллерию на материк, чтобы дать отпор в более выгодной для него позиции. Но Гарибальди, минуя Мессинскую крепость, завладел самым городом и нагнал Боско при Реджио, где тот вовсе и не ожидал его. Беспримерный успех гарибальдийского похода объясняется, во-первых, сочувствием, которое Гарибальди встречал в местных жителях, во-вторых, ловко рассчитанной быстротой всех его движений и, наконец, воодушевлением и выправкой его волонтеров, которые впоследствии поддержали свою боевую честь даже против пруссаков во Франции. Не надо забывать, что Гарибальди вовсе не думал завоевывать Неаполитанское королевство, как иногда выражаются про него метафорически: его делом было только изгонять из неаполитанских городов представителей власти, ненавистной местному народонаселению. Это придавало его действиям такую свободу и развязность, при которой он был решительно неуязвим для врага. Так, например, когда, по настоянию генерала Нунцианте[368], из Неаполя были посланы четыре фрегата бомбардировать Палермо, они сожгли почти всю приморскую часть города и могли бы сжечь его дотла, не нанеся своему противнику ни малейшего ущерба, так как гарибальдийцы, усиленные всеми теми добровольцами, которых они могли собрать в Палермо и в окрестностях, давно уже были на дороге в Мессину.
Мы не намерены рассказывать здесь всех небезынтересных перипетий этого героического похода. Заметим только вскользь, что Гарибальди гнал перед собой королевские войска, которые нигде не могли дать ему отпора, ни даже передохнуть, из боязни дать себя опередить и отрезать от столицы, где в это время совершенно теряли голову. Горная местность Калабрии как нельзя лучше способствовала гарибальдийскому движенью. Летучие отряды волонтеров шли горными тропинками, нестесненные излишним обозом, часто над головой регулярной армия, грузно тащившейся по большой дороге с своей превосходной артиллерией, которая, в этом критическом положении, была для нее ненужной и даже стеснительной обузой. В каждом горном проходе устраивалась засада. Каждую ночь, горсть гарибальдийских охотников, с рвением и неустрашимостью школьников во время вакаций, обрушивалась на неприятельский лагерь, производила там весь вред и шум, который только можно было произвести, и со смехом снова скрывалась на неприступные высоты, часто не потеряв ни одного убитого или раненого. Таким образом, без потерь, а напротив того, постоянно подкрепляемый на месте собираемыми новыми партиями, Гарибальди поспел в Неаполь прежде королевских войск, тоже подступавших к столице из Сицилии и из Калабрии.
Между тем, в самом Неаполе юный Франциск проделывал всю ту ненужную канитель, которая или вовсе не имела никакого значения, или даже могла несколько ускорить его падение, но которую почему-то считают как бы обязательной для себя все злополучные тираны, находящиеся в подобном ему положены. Он великодушно даровал своим подданным либеральный статут, который еще два-три месяца тому назад мог бы спасти все дело; распустил значительную часть швейцарских наемников, учредил национальную гвардию и т. п. Ему даже не отвечали, как некогда отцу его в подобном же положении: troppo tardi (слишком поздно).
Известие о присутствии Гарибальди по близости столицы вызвало в самом Неаполе неудержимое волнение. Не только национальная гвардия, составленная большей частью из городской буржуазии, но даже классические лаццарони, привыкшие жить скудными подачками от двора и монастырей, заявили себя решительно против бурбонской династии. Главнокомандующий королевской армией, генерал Нунцианте, решил, что держаться дольше в столице не было никакой возможности. Три неаполитанские крепости, Сант-Эльмо на горе, Кастель-Нуово и Кастель-дель-Ово у моря, устроенные еще испанцами, расположены таким образом, что, совместным действием своих орудий, они легко могут испепелить весь город, но защищать его против нападения извне – они бессильны.
Собрав свое войско и оружие, Франциск II удалился в Капую и Гаэту, где, по мнению того же Нунцианте, следовало ожидать минуты, пока неаполитанцы, падкие на всякую новинку, не охладеют к своему избавителю; пока сами гарибальдийцы, с другой стороны, не развратятся среди роскоши и празднеств неаполитанской жизни, – чтобы потом внезапно напасть на них с трояким преимуществом численности, силы и вооружения. Несколько часов спустя, после полудня, 7 сентября, Гарибальди вступил торжественно и мирно в Неаполь, сопровождаемый своим старшим сыном Менотти, адъютантом Миссори и тремя волонтерами.
Такими образом, знамя с именем Италии и Виктора-Эммануила было водружено на высотах Сант-Эльмо; новый и самый блистательный акт драмы итальянского объединения был доигран без всякого участия в нем Кавура или вообще официальной Италии, которая дала отважным партизанам только одно имя своего популярного короля.
А между тем, мы сказали уже, что, с тех пор, как Наполеон III установил по отношению к неаполитанским делам принцип невмешательства, отношение Кавура к гарибальдийскому предприятию изменяется радикально. До тех пор он совершенно искренно игнорировал его; теперь он освящает его своими признанием. Набор новых волонтеров разрешается в Генуе и Тоскане, с соблюдением только очень немногих формальных ограничений. Вооружение этих волонтеров совершается на счет комитетов национального общества, учрежденного заведомым агентом Кавура, Ла Фариной[369], в видах противодействия «Молодой Италии». Офицеры регулярной пьемонтской армии муштруют этих волонтеров, прикрыв, для приличия, свой военный мундир блузой, пожертвованной флорентийским муниципалитетом. Правда, Гарибальди, потерянный в глуши Калабрии, мог очень удобно не заметить этой перемены в отношениях к нему туринского правительства. Первый из крупных отрядов, собранных и вооруженных с соизволения Кавура, поспевает на место действия уже тогда, когда Неаполь прикрыт унитарным знаменем. Судьбу этой тосканской экспедиции мы сообщили русским читателям уже много лет тому назад, когда рассказываемые здесь события были еще животрепещущей новостью[370].
Кавур начинает даже забегать вперед гарибальдийских начинаний. Так, например, несомненно ему одному Италия обязана тем, что превосходный неаполитанский флот передался под знамя Виктора-Эммануила.
Правда, это случилось уже тогда, когда гарибальдийцы победоносно гнали перед собой Боско в калабрийских горах, где королевские фрегаты и корветы не могли оказать этому храброму и честному бурбонскому офицеру никакой существенной помощи. Вообще это дело темное, и до сих пор еще нельзя с достоверностью сказать, справедлива ли молва, утверждающая, что присоединение неаполитанского флота к унитарному движению обязано пьемонтскому золоту.
Нельзя не признать, что, с тех пор, как Кавур принимает гарибальдийское движение под свое покровительство, он скорее выказывает к предводителю марсальской Тысячи недоверие и даже некоторую зависть, чем искреннюю заботливость об успехе его дела. Отправляясь от того, очень распространенного и в Италии, и за границей мнения, будто Гарибальди был только слепым орудием в руках мадзиниевской партии, Кавур как будто не верит искренности его обращения под знамя конституционной монархии. По крайней мере, тотчас после того, как Палермо был освобожден из-под власти и Гарибальди провозглашен диктатором всей Сицилии, Кавур посылает туда уже помянутого Ла Фарину с тайным поручением добиться от сицилийцев немедленного присоединения к Пьемонту. Ла Фарина повел это дело так неловко, что Гарибальди, решительно ничего не имевший против подобного присоединения, да и вообще мало склонный заниматься подобными дрязгами, оказался, однако же, вынужденным выслать пьемонтского агента вон из сицилийских владений.
Но еще очевиднее двуличность и мелочность Кавура проявляется в другом акте, о котором здесь и следует сказать несколько слов.
Войска, собранные Ламорисьером в папских владениях, будучи усилены несколькими ротами австрийских солдат, посланных под видом волонтеров из Триеста, несмотря на весь свой сбродный и шутовской характер, конечно, давали законный повод Пьемонту обеспечить южную границу вновь присоединенных центрально-итальянских владений. Кавур пользуется этим законным поводом для того, чтобы отправить туда два сильных корпуса под начальством Чальдини и Фанти[371] с эскадрой адмирала Персано. Перед общественным мнением самой Италии, эта мера, – кроме необходимости занять Маркин и Умбрию, где папские швейцарцы чинили всевозможные неистовства, – мотивируется еще будто бы желанием оградить Гарибальди от возможности австрийского вмешательства с севера. Но перед европейской дипломатией Кавур объясняет назначение этой армии необходимостью следить за действиями самого Гарибальди и не допустить его в папские пределы. В своем письме к Персано он высказывается еще категоричнее и без обиняков объясняет почтенному адмиралу, что он не хотел бы допустить Гарибальди овладеть Неаполем.
Кавур, однако же, опоздал с своим планом. Чальдини посылает свой ультиматум папскому правительству в тот самый достопамятный день 7-го сентября, когда уже Гарибальди был провозглашен диктатором обеих Сицилий. Разбить благочестивую рать Ламорисьера при Кастель-фидардо[372] и завладеть Анконой было для пьемонтского генерала делом всего нескольких дней, после чего он направляется к неаполитанской границе.
Нелегко объяснить, каким образом Кавур решается именно в эту критическую минуту на занятие Умбрии и Маркий, которое, по его собственному признанию, грозило немедленным вооруженным вмешательством Австрии. Все европейские державы не только протестовали против этого нового захвата, но даже отозвали из Турина своих послов. На все доводы Кавура, Наполеон III отвечал пьемонтскому агенту, посланному к нему в Шамбери, что сам он согласен продолжать свою политику невмешательства, но что если Австрия вступится наконец с оружием, то он вынужден будет предоставить ей полную свободу действий.
Таким образом, Кавур, делавший вид, будто Гарибальди поставил его в совершенно невозможное положение пред европейской дипломатией, сам добровольно создает себе новые трудности. Опасное дело это счастливо сошло ему с рук, но оно, во всяком случае, показывает, что Кавур в это время тратит свои силы уже не столько на борьбу с иностранной дипломатией и врагами Италии, сколько с самим Гарибальди. В то время, как вождь народных ополчений завладевает целым королевством, официальная Италия боится явиться перед общественным мнением с пустыми руками; она торопливо подхватывает первый подвернувшийся ей клочок, забывая даже для этого случая обычную свою осторожность.
Между тем, Гарибальди в Неаполе находился в самом критическом положении и не мог думать о том, чтобы идти дальше вперед. Франциск II собрал в Гаэте и на Вольтурно до 40 000 превосходно вооруженного войска, в числе которого было несколько батальонов стойких баварских стрелков, составлявших гвардию королевы. Кадры гарибальдийской армии, по спискам генерального штаба, не доходили и до 12 000. Конечно, в людях не было недостатка и число ежедневно являвшихся отовсюду волонтеров легко можно было бы довести до нескольких десятков тысяч. Но их не во что было одеть и нечем было вооружить.
Кавур или действительно не понимал, или просто притворялся, что не понимает сущности гарибальдийского положения. Он, не скрываясь, отдавал приказание Персано пропускать беспрепятственно гарибальдийские транспорты, но армия, тем не менее, была почти на половину без ружей, и целые батальоны ходили босиком. Известный Александр Дюма, убегая от своих парижских кредиторов, оказал гарибальдийскому движению очень существенную услугу тем, что провез на своей фантастической яхте, избавленной от таможенного надзора, несколько тысяч ружей и револьверов, купленных на деньги патриотических комитетов в Марсели[373]. Артиллерии не было вовсе, и самые важные стратегические позиции приходилось укреплять парой допотопных единорогов, брошенных бурбонами в Казерте за негодностью.
Предоставить Неаполь собственным средствам, как он сделал в Палермо, Гарибальди решительно не мог. Одним смелым движением королевские войска могли завладеть фортами и разрушить дотла эту поэтическую столицу. Ровная местность вокруг города, позволявшая регулярной армии пользоваться своими пушками и кавалерией, в высшей степени не благоприятствовала партизанским действиям. Гарибальди счел за лучшее вывести свои войска из Неаполя, чтобы занять возможно выгодные позиции на Вольтурно и, таким образом, не допустить неприятеля до города.
Быть может, он рассчитывал на то, что в критическую минуту Кавур прикажет пьемонтскому флоту занять Неаполь с моря. Таким образом дело было бы спасено; но гарибальдийская армия, растянутая двумя длинными кордонами между столицей и сильной неприятельской крепостью (Капуей), подвергалась опасности окончательного истребления. В это время каждый лишний взвод был важен, так как на гарибальдийской линии целые деревни были заняты двадцатью или тридцатью дурно вооруженными волонтерами, баррикадировавшимися кое-как на скорую руку. А батальоны Чальдини стояли по ту сторону границы праздными зрителями этого странного зрелища!
Неопытность или нерешимость неаполитанского короля главнейшим образом спасла гарибальдийское дело. Нунцианте долго не мог уверить Франциска II, что момент действия уже наступил. Другие советники короля предпочитали ждать, пока неаполитанская жизнь не обнаружит своего деморализующего влияния на гарибальдийскую армию.
Деморализация обнаружилась, однако, гораздо прежде в армии короля, перебежчики из которой являлись все чаще и многочисленнее в гарибальдийскую штаб-квартиру. Скоро большая часть неаполитанских офицеров была заподозрена в измене. По малейшему доносу подозреваемых расстреливали почти без суда или томили в казематах Капуи и Гаэты. Доносчики, в виде поощрения, повышались в следующий чин. Наконец, по настоятельному требованию Нунцианте, грозившего бросить Капую и ехать к Виктору-Эммануилу в Турин, король решился сделать попытку снова завладеть своей столицей.
В последних числах сентября, колонна в 10 000 человек с кавалерией и артиллерией была послана в обход гарибальдийской армии чрез небольшую горную цепь Сант-Анджело, где существовала проездная дорога, вовсе не занятая гарибальдийцами по недостаточности сил. На рассвете 1-го октября, обе гарибальдийские армии были атакованы с фронта. За исключением баварцев и гвардейского драгунского полка, неаполитанские войска неохотно шли в огонь. Чтобы возбудить их мужество, им должны были раздать усиленные порции вина и растолковать, что атака с фронта служит только для того, чтобы занять гарибальдийцев до тех пор, пока подоспеет обходная колонна, долженствующая еще до полудня того же дня поспеть в Казерту и атаковать гарибальдийскую армию с тыла. Но маневр этот решительно не удался. Впоследствии оказалось, что обходная колонна дорогой возмутилась, убила своего генерала и значительной частью разбрелась для грабежа по окрестным деревням. Некоторые ее отряды поспели в Казерту только на следующий день, когда атака с фронта была уже окончательно отбита и королевская армия, деморализованная своим новым постыдным поражением, надолго была бы неспособна возобновить военные действия. Множество оружия и несколько десятков нарезных орудий достались в руки гарибальдийцев в этот достопамятный день. Громадные же их численные потери не имели никакого значения, так как победа прочно установила гарибальдийский авторитет и чуть не все молодое народонаселение Неаполя стремилось теперь под гарибальдийское знамя.
Через несколько дней после этого сражения, батальоны берсальеров и гренадеров Чальдини появились на Вольтурно. Как союзники, они были бы очень драгоценны там еще несколько дней тому назад, когда немного мужества и уменья в бурбонском лагере могли нанести гарибальдийскому делу очень чувствительное поражение; но после победы 1-го октября завоевание или освобождение Неаполя было упрочено, и Гарибальди не нуждался в союзниках на Вольтурно. Впрочем, пьемонтские войска и не появляются там в этой роли: они пришли на смену гарибальдийцам.
Кавур решил, что нельзя дольше откладывать дело забранил в свои руки плодов гарибальдийских побед.
Столкновение с первых же шагов приняло форму очень резкую и желчную. Чальдини говорил тоном генералов, укротителей мятежей. Его прокламации грозили расстрелянием каждому, кто, не нося мундира, будет взят с оружием в руках; а многие из гарибальдийцев, как мы уже выше заметили, не имели даже башмаков, не то что классической красной рубашки. Да и то еще на первый раз могло казаться сомнительным, удостоит ли его пьемонтское превосходительство красную фланелевую рубашку чести признания ее за мундир. В виду неприятельской крепости, освободители Италии двух противоположных лагерей – народного и официального – готовы были уже броситься друг на друга. Нужна была вся уступчивость, свойственная Гарибальди, и все доверие гарибальдийцев к их вождю, чтобы эта первая встреча гарибальдийцев с пьемонтской армией обошлась без кровопролития.
Но это было только прелюдией более томительных испытаний.
Скоро в лагере разнесся слух, что сам король едет на место действия.
V
До сих пор Виктор-Эммануил являлся как бы в роли священного символа или девиза, во имя которого привлекались к одному общему делу столь разнообразные элементы, как Гарибальди и Кавур. Теперь ему приходится выступить примирителем между этими двумя создателями итальянского единства.
Требования Кавура были чрезвычайно категоричны и настойчивы. Гарибальди должен был немедленно отказаться от диктатуры в Неаполе и передать освобожденное им королевство в руки официальной Италии. От него не требовалось, чтобы он сейчас же распустил и обезоружил своих волонтеров, но их уже успели подчинить военному министерству под рубрикой «южного ополчения». Некоторые из высших гарибальдийских офицеров получили соответственные чины в регулярном войске. Из них и из пьемонтских чиновников тотчас же была образована специальная комиссия, которой поручено было заняться устройством дальнейшей судьбы «южного ополчения». Впрочем, правительство не скрывало, что это дальнейшее устройство должно было заключаться в том только, чтобы как можно скорее и безобиднее распустить добровольцев по домам. Тем из них, которые вздумали бы удалиться немедленно и беспрекословно, назначена была даже денежная премия. Сам Гарибальди становился пьемонтским генерал-лейтенантом.
Формальная сторона этого дела для Гарибальди должна была, конечно, представлять очень мало интереса. Но ему нужна была его армия и даже его неаполитанская диктатура для доведения задуманного им предприятия до конца. Конечно, он был совершенно искренен, когда отбрасывал свою республиканскую кокарду и провозглашал Виктора-Эммануила конституционным королем той Италии, которую он брался создать; и он не думал теперь изменять поднятому им самим знамени. Но, как впоследствии он сам говорил депутации работников, посланной к нему на Капреру: «Я хотел Италии, созданной вашими мозолистыми руками, а не уловками и проделками бюрократов и демократов».
Более обстоятельно он излагал свои планы Дж. Элиоту[374], который, от лица английской дипломатии, поучал его умеренности. Ему он признавался, что настоящая его цель была освободить весь юг Италии, до Рима включительно. Дать этим освобожденным провинциям возможность выработать совершенно самостоятельно основы национального статута и условия, на которых они согласны будут слиться с конституционной монархией Виктора-Эммануила. Венецию он оставлял пока в стороне, предоставляя уже объединенному итальянскому королевству взять ее у Австрии в равном бою. Когда ему замечали, что коснуться Рима, значило бы вовлечь Италию в неравную борьбу с целым католичеством и, в особенности, с Францией, то он возражал, что интересы справедливости и свободы стоят того, чтобы из-за них померять свои силы с остатками средневекового невежества, и что даже пасть в подобной борьбе не позорно; что он согласен иметь против себя даже французское правительство, но что французская нация в этой борьбе будет за него.
Кавур разбивал его планы на полдороге. Он забирал неаполитанское королевство, как бы следовавшее ему по праву; он требовал немедленного подчинения всего юга Италии пьемонтскому статуту, пьемонтской бюрократии. Неаполитанскому народонаселению предоставлялось только коротким да или нет ответить на вопрос: желает ли оно присоединиться к конституционной монархии Виктора-Эммануила?
Король личным своим вмешательством думал смягчить это столкновение, но это было с его стороны совершенно излишней заботой. Разногласие было чересчур радикальное, и никаким миротворством ничего поделать было нельзя. Следовало открыто стать на ту или на другую сторону; следовало выбрать, именно в этот момент, между Италией официальной и народной Италией.
«Бросьте Кавура, государь, – просил Гарибальди, – дайте мне одну бригаду и вашего полковника Паллавичино, и я ручаюсь вам за последствия».
Но самая честная девушка в мире может дать только то, что сама имеет. Самый популярный из конституционных европейских королей не мог найти в себе того доверия к народной силе, которого требовал от него Гарибальди в этот решительный момент.
Оставалось или отстаивать свое дело с оружием в руках против непрошенных покровителей, или смириться. Гарибальди выбрал последнее. Он даже сделал больше: он остался в Неаполе ровно настолько, насколько это было необходимо для того, чтобы успокоить волнение умов, сильно возбужденных неожиданным оборотом дела своего освобождения. Затем он внезапно и почти тайком удалился в свою капрерскую пустынь, где мирно доживает теперь свою долголетнюю жизнь.
Два раза с тех пор он пытался снова взять в свои честные руки инициативу итальянского возрождения. Но в политике, как и в любви, однажды утраченная минута не искупается целой вечностью. В лице Виктора-Эммануила, принявшего в 1860 г. из рук сосланного им на добровольное капрерское изгнание неаполитанского диктатора лучшую половину Италии в свое владение, итальянская нация сделала свой окончательный выбор. Тогда перед ней лежали еще две дороги. Она могла, смело заявляя свои вековые стремления и свои неотъемлемые права, торжественно вступить в ряд передовых европейских народов. Драматизм ее положения в том именно и заключался, что уже самым своим появлением на этом поприще она бросала перчатку всем тем мрачным призракам прошлого, исчезновением которых весьма серьезно заинтересована не одна только Италия, но и вся западноевропейская цивилизация. Само собой разумеется, что путь этот был для нее усеян опасностями и терниями. Мрачные призраки не сдались бы без боя, и, быть может, даже временно победили бы в неравной борьбе.
Италия предпочла войти в цикл европейских государств, вежливо извиняясь и расшаркиваясь на обе стороны. Ту борьбу, которую Гарибальди хотел решить одним генеральным сражением, она предпочла растянуть на долгие сроки и изжить по мелочам.
Выбор между двумя этими дорогами был, главным образом, делом темперамента: первый путь более сроден мощной и порывистой организации народного вождя; второй был более с руки осторожной буржуазной душе туринского дипломата. В одном Кавур был безусловно прав, говоря в заседании первого итальянского парламента: «Мы можем выбрать равно ту или другую дорогу, но непростительно было бы сегодня идти по одной, а завтра перескакивать на другую».
Гарибальди нерасчетливо сделал два таких скачка. За первый из них он поплатился раной в ногу, нанесенной ему при Аспромонте тем самым маркизом Паллавичино, которого он просил себе в сотрудники у Виктора-Эммануила два года тому назад; в другой раз, при Ментане, он дал случай французским ружьям Шаспо[375] наделать чудес против горсти почти безоружной итальянской молодежи. Это, по-видимому, убедило его, что в том периоде своего развития, в котором обновленная Италия находится теперь, те немногие великие люди, которые еще уцелели в ней от минувших времен, должны, по необходимости, оставаться за штатом, так как для них нет подходящего дела.
Остальное ее объединение довершилось уже как будто само собой, в силу одного только мудрого правила: имущему дается. Два небольшие оторванные клочка, Рим и Венеция, должны были естественно примкнуть к стройному целому с 22-миллионным народонаселением; и нечего досказывать, каким образом Италия, поражением своих сухопутных сил при Кустозе, а непобедимого Персано – при Лиссе, приобретает выгодной покупкой Венецию, и, наконец, округляет себя приобретением и заповедной цели вековых своих стремлений, т. е. Рима, только через то, что кстати успевает перейти из-под французского покровительства под прусское. Эти цветки выросли просто и естественно из семян, насаженных той официальной и буржуазной Италией, которую мы воплощали в имени Кавура. Цветы эти могут нам казаться недостаточно благоуханными и красивыми для ее классической почвы, но дело не в том…
Войдя тихомолком и с почтительной осмотрительностью в сонм европейских государств, Италия весьма естественно должна была подделаться, сколь возможно полнее и искреннее, под их склад и нравы. Таким образом, хотя ее и следовало бы по праву считать самой юной из европейских наций, но мы уже видим ее зараженной той же старческой немочью, от которой страждет в настоящее время вся остальная Европа. Антагонизм между официальной Италией, сплоченной наскоро и кое-как безопасным, но ненадежным путем временных сделок и компромиссов, и той народной Италией, которая в борьбе за независимость проявила себя в мощном и оригинальном образе Гарибальди, переходит теперь в иные сферы, принимает новые формы. Но он уже глубоко проник во все, так сказать, поры ее национального организма. Борьба не кончена, но она перенеслась на новые поприща и не замедлит, конечно, создать для себя новых бойцов и новых героев.
Уже и теперь легко наметить те вопросы ее внутреннего общественного строя, которые главнейшим образом и всего прежде станут ареной новой борьбы. В числе их вопрос папства и светской реорганизации римско-католической церкви стоит, конечно, на первом плане и всего непосредственнее затрагивает собой не одни только итальянские, но и общеевропейские интересы. Перенесение итальянской столицы в Рим и пресловутые гарантии, данные на скорую руку Виктором-Эммануилом папе, лишенному им светской власти, отнюдь не дают еще этому вопросу его принципиального, окончательного решения, а без решения этого существенного вопроса внутренняя целостность и независимость итальянской нации также немыслимы теперь, как и двадцать лет тому назад, когда слово «Италия», по выражению Меттерниха, было пустым географическим термином.
Клерикальный вопрос для Италии имеет не одно только международное или политическое значение. Он гораздо глубже, чем обыкновенно думают, проникает в самую глубь ее национальной и общественной организации. Стоит только вспомнить, что секуляризация монастырей в южных провинциях вызвала там язву разбойничества, с которой унитарное правительство не может справиться в течение почти двадцати лет. Правда, столичные либералы и унитарии до сих пор не нашли против этой народной язвы иного лекарства, кроме штыков и пуль своих берсальеров и гренадеров, а между тем она непосредственно указывает на ненормальность поземельных отношений, существующих и до сих пор во всей своей средневековой нелепости и безобразии, во многих богато одаренных природой местностях этой страны.
Итальянская народная жизнь слагалась и развивалась целые столетия в стороне от торной общеевропейской колеи, а потому она на каждом шагу представляет такие своеобразности и особенности, которых мы не встретим в других западноевропейских государствах. Жизнь эта должна выработать себе свои самостоятельные формы; эта работа ни в каком случае не может обойтись без мучительных потрясений и значительной затраты народного творчества и энергии. Но она совершенно немыслима в тех узких конституционных рамках, в которые загнала обновленную итальянскую нацию необходимость уступок общеевропейскому влиянию и дипломатии. Достаточно только вспомнить, что всеми этими ненормальностями итальянского внутреннего строя задавлены всего более те темные классы ее народонаселения, которые совершенно неспособны заявлять о своих бедствиях и приискивать исцеления для разъедающих ее зол общим парламентским путем.
А Италия до сих пор еще не пользуется даже правом всеобщей подачи голосов при выборах своих представителей в парламент Дарование ей теперь этого права было бы плохой услугой прогрессу и либерализму, так как, с предоставлением этого права безграмотному сельскому народонаселению, парламент ее наводнился бы клерикальными влияниями…
В этом, как и во многих других вопросах своей внутренней организации, Италия должна наглядно убедить нас в том, что светское значение католического духовенства в настоящее время опирается исключительно на том, что католические попы и монахи одни во всей Западной Европе сумели сблизиться с темными народными массами, узнать их не теоретически и не так, как их знают книжные и трибунные исцелители общественных зол и недугов.
На горизонте Италии много еще грозных туч, могущих разразиться над ней опасными бурями. Но в ее недавнем прошлом мы видим столько светлых зачатков, такой избыток живых деятельных сил, что опасаться за ее будущность не было бы ни малейшего основания.
Бури первой французской империи в самом начале текущего столетия пробудили Италию от ее двухвекового летаргического сна. С тех пор стремление снова примкнуть бодрым и деятельным членом к сонму живых бьет в ней неудержимым ключом, мощно пробивающим свой путь чрез густые слои накопившейся над ним тины и грязи. Стремление это уже перешло чрез несколько последовательных фазисов своего развития, в каждом из них порождая целые плеяды блестящих и даровитых деятелей. Последний из этих фазисов, длившийся целое десятилетие, развился и отжил на наших глазах. Виктор-Эммануил на троне, в парламенте Кавур, и Гарибальди на полях народных битв – были его живым воплощением.
Каждый из них умирал и может спокойно умереть с сознанием не даром прожитой жизни и с верой в то, что благодатная земля, породившая их, найдет в себе силы создать им достойных преемников.
Л. Мечников[376]
Уникальный мемуарный очерк
Лев Мечников был человеком многогранным (ученый, революционер-конспиратор, художник, фотограф, публицист и пр.), общительным, энергичным, знал много языков, любил путешествовать и, разумеется, мог бы написать насыщенные и интересные мемуары. Однако, этого, несмотря на многочисленные пожелания его знакомых, не произошло. Жизненные обстоятельства повернули дело так, что он писал либо о тех событиях, в которых сам принимал участие – «Записки гарибальдийца» (1862)[377]; «Поездка в Испанию» (1869), «Воспоминания о двухлетнем пребывании в Японии» (1883); либо использовал факты собственной биографии при создании беллетристических произведений – «Смелый шаг» (1863), «На всемирном поприще» (1882); либо помещал примеры из собственной жизни в многочисленных очерках, от коротких до внушительных (и это личное присутствие автора в них делает их чтение до сих пор весьма увлекательным) на темы географии, истории, социологии и др.; либо создавал сложные конструкции, как, например, роман «Гарибальдийцы», помещенный в журнале «Дело» под именем Виторио Отолини как, якобы, перевод с итальянского с целью – минуя русскую цензуру рассказать о походе «Тысячи» Дж. Гарибальди в 1860 г.
Причины этого Мечников отрывочно изложил на восьми страницах хранящейся в архиве общей тетради в изящном матерчатом переплете (ГАРФ, ф. 6753, от. 1, ед. хр. 22). Он явно поддался на уговоры и раскрыл тетрадь, чтобы начать писать воспоминания, потому что сразу дал им и название: «Встречное и поперечное», проставил № 1 и дату, 23-е марта 1884…
Однако, сначала он все-таки попытался ответить на простой и естественный вопрос – а зачем? И вот, что получилось.
«С лишком двадцать лет я существовал почти исключительно работою в русских журналах; работою подневольною, из-за куска хлеба. При которой размеры и архитектуру каждой статьи приходится сообразовывать с итогами счетов, подлежащих к уплате не позже следующего месяца. Что еще хуже – работою подцензурною, при которой тщательно надо было гнать безжалостно прочь именно такой оборот, который выражал всего прямее и всего проще мою мысль во всей ее силе и яркости, при которой писать приходилось решительно обо всем, кроме того, о чем чувствовалась потребность писать в данную минуту…
Не могу решить с какого срока, но только очень давно во мне процесс писания вызывает именно то положение, с которым сопряжен для нормальных людей процесс рвоты. Не могу, принимаясь за перо, не ощущать того, что чувствует школьник, отправляясь в скучный класс; да и это непривлекательное само по себе ощущение приправл[ено] еще бывает отвратительнейшим полусознанием того, что кого-то надо надуть, сбить с толку, опутать. Написанная страница становится злейшим моим врагом, и даже с геройскими усилиями над собою, я не всегда могу заставить себя перечитать оконченную статью…
Я утратил способность писать, не зная наперед в каком виде будет напечатана моя работа, не иметь в виду размеров печатной страницы, не связывая со своим писанием арифметически определенного представления и гонорара. Далеко не будучи скупцом, должен, однако, признаться, что я не могу вычеркнуть из написанной статьи длинного слова без того, чтобы во мне не шевельнулось смутное представление нанесенного себе ущерба, как будто я роняю гривенник из кармана….
Потому что я на своем веку исполосовал земной шар вдоль и поперек, от купянского уезда хутора Панасовки до столицы Японского микадо и голландского острова Кюрасао.
Потому что я был знаком, с кем ни встречался только в своих земных странствиях, от генералов Маснсурова и Гарибальди, через бедуинского шейха Абу-Мтапанга и японского гаштета Куки <…> до генерала от географии Элизе Реклю[378] и генералов от революции Бакунина, Кропоткина и пр.
Трудно быть искренним относительно других и рисовать не меньше, как натуральной величины тех многочисленных своих знакомцев, которые по праву могут быть названы героями, так как они несомненно сродни тем лучшим деятелям классической поры, которых имена наши дети долбят в исторических учебниках. Не поручусь, что если бы я знал лично Муция Сцеволу или Регула также близко, как знаю С. М. [Кравчинского] или П. А. [Кропоткина], то и они вызывали бы во мне далеко не лирический восторг и вдохновляли бы не на эпические песнопения. Из этого прямой вывод, что ни в Гомеры, ни даже в Плутархи я решительно не гожусь…».
Объяснения Мечников счел существенными, и продолжать «Встречное и поперечное» не стал.
«Бакунин в Италии в 1864 году» – единственное исключение из его решения, однако и написан был очерк ранее – в конце 1882 – начале 1883 гг. Мечников даже отправил его редактору журнала «Дело» К. М. Станюковичу, скорее для ознакомления, и Станюкович очерк ему вернул – после убийства Александра II в марте 1881 г. рассказывать о Бакунине, о польском восстании вряд ли было уместным.
Опубликован очерк был лишь в журнале «Исторический вестник» в 1897 г. в № 39 Н. Викторовым. Однако это – псевдоним, который принадлежит Владимиру Львовичу Бурцеву (иначе Бурцов; 1862–1942) – русскому революционному демократу, писателю, издателю и публицисту. Широкую известность Бурцев получил в России благодаря активной деятельности по выявлению и разоблачению секретных агентов Департамента полиции, работавших в революционном движении (Е. Ф. Азеф, Р. В. Малиновский и др.). Заголовок очерку так же дал Бурцев, поскольку Мечников его никак не назвал.
В нем очевидные две части.
Первая – характеристика итальянского общества и среды русской эмиграции во Флоренции. Объединение Италии еще не было завершено, Рим оставался столицей Папской области, а центральное положение в Италии по праву заняла Флоренция. Здесь дана характеристика нескольким представителям итальянской и русской культуры, и особое внимание уделено Николаю Ножину и его дискуссиям с Бакуниным.
Вторая – рассказ Мечникова о его поездке к Гарибальди на остров Капреру. Здесь ощущается характерная для Мечникова авантюристическая жилка, хорошо фиксируемая замечательными деталями повествования.
При знакомстве с очерком Мечникова возникает и сожаление. Дело в том, что в самом начале 1870-х гг. Мечников, живший уже в Швейцарии, по заданию Бакунина совершил поездки в Испанию и Францию, где встречался с участниками секций Интернационала, среди которых вел агитацию за переход этих секций на позиции возглавляемого Бакуниным Альянса социалистической демократии. Сам Мечников об этом нигде не упоминал, сведения о поездках либо косвенные, либо отрывочные (например, Протоколы Зорге из Материалов Гаагского конгресса Интернационала 1872 г.). Хотя это уже другая история, однако очень жаль, что содержание этих поездок так и осталось неизвестным. Оно могло бы не только показать подробности сложных отношений между Интернационалом (Маркс) и Альянсом социалистической демократии (Бакунин), но и осветить существенную роль Мечникова в европейской общественно-политической жизни начала 1870-х гг. Пока же она практически неизвестна.
В предваряющем нашу публикацию тексте опущена та его часть, где Бурцев пересказывает биографию Мечникова, изложенную в 1889 г. Элизе Реклю в предисловии к изданной им в Париже книги Мечникова «La civilisation et les Grands Fleuves historiques» («Цивилизация и великие исторические реки»). Сделано это потому, что сведения Реклю недостаточны, во многом ошибочны, а этих ошибок при переписывании исследователями различных, порой с очевидностью недостоверных источников, зачастую неаккуратно, накопилось к сегодняшнему дню и без того много.
М. А. Бакунин в Италии в 1864 году (Из воспоминаний Л. И. Мечникова)
В. К Евдокимов
Одна уже личность такого замечательного человека, каким был Лев Ильич Мечников, придает интерес его воспоминаниям.
Он всегда горячо интересовался и научными и общественными вопросами, энергически вмешивался в события, имел постоянные, тесные сношения со многими видными русскими и иностранными деятелями. Его ценили и уважали, ему доверяли, так что действительно ему пришлось на своем веку видеть много, и на старости было о чем порассказать в своих воспоминаниях.
Существуют ли воспоминания Мечникова, охватывающие всю его жизнь или нет, – я не имею сведений, но в моих руках в настоящее время автограф его воспоминаний о жизни во Флоренции в 1864–1865 гг. Рассказ Мечникова сосредоточивается главным образом около личности Бакунина.
Отношения Мечникова к Бакунину и точка зрения на него лучше всего выражаются удачно выбранным эпиграфом к воспоминаниям:
Орлам случается и ниже кур спускаться, Но курам никогда до облак не подняться.Оговорюсь, что едва ли можно согласиться с некоторыми замечаниями Мечникова и его характеристиками русских и итальянских деятелей, но и тогда, когда приходится не соглашаться с автором воспоминаний, нельзя не признать его глубокого, беспощадного анализа событий и лиц. Вообще, по историческим оценкам, взглядам, литературному таланту, Мечников наиболее подходит к Герцену.
Воспоминания Мечникова я привожу целиком, за исключением немногих строк, касающихся семейных дел некоторых из упоминаемых лиц. <…>[379]
Н. Викторов [В. В. Бурцев]
I
Зимою 1864 г. я получил от Бакунина нижеследующую записку, случайно сохранившуюся в моих бумагах:
«28 янв. Генуя 1864 г.
Сейчас только что вернулся с Капреры, где нашел генерала[380] в полном здравии и готовящегося на новые подвиги. Мы[381] завтра поехали бы во Флоренцию, но дело в том, что в последнем письме из Турина я вас просил нанять нам квартиру только от 27-го. Теперь прошу вас, не можете ли вы нам взять ее от 25-го. Если же это невозможно, то назовите отель дешевый и не слишком отдаленный от вас, в котором мы могли бы остановиться на день или на два… Пожалуйста, отвечайте мне немедленно в Livorno, чем премного обяжете нетерпеливо желающего познакомиться с вами лично. М. Б.»
На письмах мы уже были знакомы давно, отчасти через Герцена, отчасти же через младшего брата Бакунина, Александра[382], незадолго перед тем вернувшегося в Россию из Италии, где он со страстью занимался живописью.
Не помню, как был улажен эпизод с квартирой; но вскоре по получении мною записки Михаил Александрович с Антосей[383] появились у нас.
Его львиная наружность, его живой и умный разговор без рисовки и всякой ходульности, сразу дали, так сказать, плоть и кровь тому несколько отвлеченному сочувствию и той принципиальной преданности, с которыми я заранее относился к нему.
Не утаю, что при первой же встрече во мне проснулось то ощущение отчасти излишней сдержанности, отчасти неловкости, которое пробуждается во мне каждый раз совершенно инстинктивно, когда приходится иметь дело с олимпийцем какого бы то ни было пошиба. Является как будто опасение, что этот необыкновенный человек, как бы ни спускался он осмотрительно и любезно с своего пьедестала, того и гляди пребольно наступит на ногу и сам не заметить этого, – не по желанию придавить, а просто по непривычке ходить по свойственной нам низменной почве. С своей стороны, чувствуешь сразу, что у этих людей есть такой заповедный уголок, в который строго воспрещается вход обычным критическим приемам и отношениям, перед входом в который должно складывать всякий скептицизм, как башмаки у дверей мечети.
При первых моих встречах с Бакуниным, – да и позже, всякий раз, когда нам с ним случалось беседовать без посторонних, – этот жреческий элемент, элемент «перосвященника атеизма и анархии»[384] в нем сказывался очень слабо. Как либеральный и обходительный католический епископ в обществе свободного мыслителя, Михаил Александрович, при встречах со мною, снисходительно прикрывал эту свою сторону; но существование ее угадывалось тем не менее и с первых же шагов установило некоторую грань, за которую не могло перешагнуть наше сближение.
Я знал в общих чертах, что Бакунин в Сибири женился на молодой и восторженной польке, которую я почему-то воображал себе дочерью политического изгнанника, а потому меня нисколько не удивляло присутствие Антоси, казавшейся значительно моложе своих лет, да и в действительности годившейся ему скорее в дочери, чем в жены. Впрочем, эта супружеская чета вовсе не производила того несуразного впечатления, которое обыкновенно испытываешь при виде старика, женатого на молоденькой и хорошенькой женщине, или при чтении псевдо-ученых эротических идиллий Мишле: «La femme», «L’amour» и т. п. В отношениях Бакунина к Антосе не было и тени ничего селадонского, слащавого. К тому же он обладал физиономией, прекрасно пояснявшей известные стихи Пушкина о Мазепе и его крестнице.
Не только первый пух ланит Да русы кудри молодые, — Порой и старца строгий вид, Рубцы чела, власы седые, В воображенье красоты Влагают страстные мечты.На челе Бакунина не было живописных и поэтических рубцов, но оно было своеобразно и осмысленно красиво, наперекор всем правилам классической и селадонской эстетики. Все знали очень хорошо те тяжелые и большие раны, которые он успел понесть в своей долгой и непреклонной борьбе. Сам он никогда не выставлял их напоказ; но тем не менее – или, может быть, именно потому – вокруг него и была привлекательная атмосфера мученичества, выносимого со своеобразной удалью и мощью. Над его картинной и широкой головою замечался ореол бойца, никогда не помышляющего о сдаче…
В Антосе мне не понравились стальные, холодные глазки. Но в общем она обладала такою наружностью, которая объясняла мне вполне удовлетворительно ее роль подруги этого устарелого бойца. Несколько суховатая, с короткими завитыми волосами, Антося по временам казалась очаровательной девочкой, чаще смахивала на мальчика, но женщиной я ее не видал никогда.
При первом знакомстве в ней прежде всего сказывалась полька, т. е. существо, значительно больше русских способное отводить гражданским или политическим мотивам важную роль в своей обыденной и душевной жизни. Сказывались следы католического воспитания, развивающего сдержанную страстность, склонность к отречению от чувственности, или, точнее – к перенесению чувственных возбуждений в спиритуалистическую среду.
II
Бакунины поселились в скромной квартире, далеко от нас, в новой юго-западной части города, в соседстве Cascine[385].
С первых же дней у них закипела чрезвычайно деятельная по своему жизнь. За исключением одного назначенного вечера в неделю, ни мужа, ни жены никогда нельзя было застать дома. Они разъезжали с утра до самой поздней ночи, очень редко вместе, так как у каждого очень скоро оказалась своя сфера деятельности и знакомств.
Кружок русских во Флоренции, – таких, которые могли бы подлежать бакунинскому воздействию, – был очень малочислен, ничтожен, и уходил совершенно на задний план.
Я полагаю, что Бакунин приехал во Флоренцию без определенной программы, потому только, что Италия, будучи в числе немногих, незакрытых ему европейских стран, слыла тогда стоящей на революционном положении. Мне эта почва была хорошо знакома, и я с напряженным любопытством следил за тем, как примется за ее разработку этот маститый организатор и революционер. Сам я давно уже отчаялся разыскать в ней хоть один уголок, пригодный для дорогих нашему сердцу насаждений какого бы то ни было порядка. Флоренция в этом отношении казалась мне менее подходящей резиденцией, чем Неаполь и Милан.
Здесь нет фабричной и промышленной деятельности, которая бы собирала вместе значительные полчища голодных ртов; нет и того труженического пролетариата, который кишмя кишит в маленьких даже городках северной Италии и оттуда разливается на всю западную и среднюю Европу в виде камнетесов, каменщиков и иных батраков, обладающих почти китайской способностью продавать страшные количества своего упорного и умелого труда за такую плату, при которой английский или французский их собрат, если бы не умер с голоду, то покончил бы свои дни самоубийством. Рабочий вопрос во Флоренции находился в это время в совершенно зачаточном состоянии. Год или два тому назад успели здесь возникнуть первые работничьи союзы, избравшие своим почетным председателем, – чтобы не сказать, своим святым патроном, – Гарибальди, который не мог им дать ничего, кроме объединяющего своего имени и от времени до времени лаконических общих мест о любви к отечеству и к свободе. Связи между патриотическим возбуждением и социалистической программой не усматривалось решительно никакой. Работничьи союзы эти довольствовались для отечества: скоплением по грошам небольших сумм, предназначавшихся для новых гарибальдийских походов на Венецию и на Рим; для себя, т. е. для работников, они не видели ничего, кроме Шульце-Деличевских программ.
Земледельческое население Тосканы находится частью в крайне бедственном положении; но оно слишком рассеянно, слишком отрезано от столицы; было бы безумием помышлять о каком-нибудь воздействии на него из Флоренции.
Главой крайней демократической партии был здесь Bepysonne, или, как его фамильярно называли, Беппо Дольфи[386], владелец булочной и макаронной лавки на площади San Lorenzo.
Дольфи было в это время лет под пятьдесят, и он представлял собой довольно интересный и живописный вариант того типа итальянского capo popolo[387], который не переводится под здешним счастливым небом со времен классической борьбы плебеев с патрициями, через Cola di Rienzi и Мазаньелло доходит до Чичероваккио[388] эпохи 1848 г. и затем дробится на множество малоизвестных деятелей, прославившихся каждый в своем кругу во время позднейших политических движений.
С головой олимпийского Юпитера на дюжем, начинающем несколько тяжелеть, теле, со своей типической флорентийскою речью, Дольфи не драпировался в романтический плащ народного вождя, одевался и держал себя джентльменом, хотя и не скрывал, что он только на тридцатом году жизни настолько обдосужился, что стал учиться читать и писать. На массу флорентийского населения он имел неоспоримое и очень сильное влияние, и когда в 1860 г. он во главе немногочисленной депутации явился во дворец великого герцога Леопольда с предложением, не теряя времени, убраться подобру-поздорову из города, то Babbo, то есть «Батюшка», как прозывался венчанный снотворными травами Леопольд, тотчас же приказал запрягать свою придворную карету и мирно уехал в Австрию. Дольфи, однако, не изъявил ни малейшего поползновения воспользоваться властью для себя или для своей партии: он слишком занят был своей лавкой, которую любил, как человек, создавшей собственным своим трудом свое относительно блестящее положение. Он уступил без боя поприще барону Ricasoli, которому не доверял, в котором не любил аристократа и кавуровского прихвостня, но которого он принимал, как неизбежное политическое зло, как Гарибальди принимал Савойский крест и вензель Виктора-Эммануила на знамени своих легионов, составленных главным образом из республиканцев.
Дольфи мало занимался политическими прениями и теориями. Питомец «Молодой Италии», он был крайний республиканец и демократ, назвал своего сына Gugliemo Tell и жертвовал на все патриотические и революционные предприятия довольно крупные деньги, но сам жил очень скромно, в двухтрех комнатах, над лавкой, куда надо было взбираться по узкой деревянное лестнице без перил…
Лестница эта теперь часто трещала и скрипела, словно стеная под тяжестью Бакунина, который был принят флорентийским capo popolo, как родной, не из сочувствия к своим революционным планам, которых Дольфи, по всей вероятности, не знал и даже не способен был бы ценить, но из уважения к его многострадальному прошлому. Для Бакунина Дольфи приказывал своей белокурой, пластической, полуграмотной жене приносить лучшую бутыль самого старого своего Vin Santo[389] или Aleatico Brusco. Для Бакунина он не раз развязывал обсыпанными в муке руками свою туго набитую мошну. Через Дольфи Бакунин скоро был посвящен во все тайны демократического флорентийского кружка и сближен со всеми его наличными корифеями и деятелями.
Случилось, однако же, так, что выдающихся лиц между этими корифеями и деятелями было мало. Вокруг Бакунина, весьма естественно, всего теснее стали группироваться те, у которых своего дела было мало, которых влекло к нему любопытство, если не грязненькое желанье поудить рыбу в той воде, которую Бакунин сильно возмущал везде, где только он ни появлялся. Очень скоро вокруг него составился целый штаб из отставных гарибальдийских волонтеров, из адвокатов, мало занятых судейской практикой, из самых разношерстных лиц без речей, без дела, часто даже без убеждений, – лиц, заменяющих все: и общественное положение, и дела, и убеждения, одними только, не совсем понятными им самим, но очень радикальными вожделениями и стремлениями. Из них никто не знал иностранных языков; а Бакунин только к концу своих дней, да и то с грехом пополам, научился говорить по-итальянски.
III
Совершенно иного рода центр изображал собою венгерский эмигрант граф Пульский[390], вероятно, славянского происхождения. На это предположение, кроме фамилии графа, наводит меня самая его наружность, сильно напоминавшая странствующих по нашим деревням с коробками за спиною цесарцев. Сухой, жилистый, с выдающимся горбатым, гоголевским носом, с заячьей губою, с прямыми волосами, падавшими длинными прядями на воротник его фантастического плаща, в измятой и засаленной венгерской шапочке, Пульский, вероятно, не раз вызывал в душе какого-нибудь сердобольного прохожего желание подать ему милостыню. Тем не менее, он быль страшно богат, кажется, через жену, болезненную и злую на вид еврейку, дочь одного крупного австрийского банкира.
Нумизмат и археолог по призванию, магнат по происхождению, участник крупных финансовых предприятий по семейным связям, Пульский каким-то чудом состоял прикосновенным к всесветной революции и даже был осужден на смерть австрийцами в 1849 г., хотя и не принимал участия в вооруженном восстании. Приговор этот объяснили мне тем, что подпись Пульского красовалась в числе тех, которыми военный министр Мессарош был осужден на повешение.
Роль, которую играл Пульский во временном правительстве венгерского восстания, крайне не ясна. Ему должно было быть всего около двадцати лет в это время. К тому же, он состоял attache при каком-то посольстве и едва успел вернуться в Пешт, когда Венгрия провозгласила свою независимость. Мне говорили, что на Пульского восставшие гонведы и магнаты смотрели, как на шута, и что он, как бы входя в эту роль, решился ни с того, ни с сего, подмахнуть конфирмацию приговора над Мессарошем, чего серьезные члены временного правительства не решались сделать, понимая, что они рискуют в этом деле собственной головою.
Это пояснение, впрочем, исходит из венгерского эмиграционного кружка, враждебного Пульскому, которого соотечественники вообще – за исключением Кошута – почему-то сильно не жаловали.
Несомненно, Пульский не представлял собой ничего, чтобы должно было заинтересовать собой Бакунина. Вскоре, впрочем, он испросил помилование у цезаря и благополучно вернулся на родину еще раньше 1866 г., чем окончательно подорвал свое политическое значение в Венгрии.
Но у Пульского собиралось в определенные дни все, что было выдающегося и заурядного в революционном и псевдореволюционном мире Флоренции. Выдающегося, впрочем, было в это время очень мало; а невыдающееся представляли собою разношерстный сброд, на описание которого не стоит тратить времени. Из эмиграции были налицо только венгерская и польская. Но венгерская, как уже сказано, чуждалась Пульского, хоть и признавала, что он добрый и простой в душе человек. Польская же была почти вся в разброде в повстании, или в Париже, и ей было не до вечеров Пульского и не до Бакунинских неоформившихся еще конспираций.
Из числа обычных посетителей Пульского выдавалась супружеская чета графов Марио. Муж Альберто, белобрысый, несуразный на вид мужчина за тридцать лет, производил впечатление растения, выросшего без солнца. В действительности он был энергическим и чистокровным представителем, вместе с Кампанеллой, истых мадзинистских идей. Пурист и романтический вздыхатель республики, всемирной, единой и нераздельной, он гнушался уступок, на которые шли тогда все действующие отделы итальянской либеральной партии. Вокруг него группировался очень немногочисленный кружок таких же последних могикан, рыцарей и вздыхателей республиканской чистоты, виртуозов конспирации и агитации. Многие из них, как, например, мой бывший бригадир Джованни Никотера, круто свернули потом с тернистого пути и добрались даже до министерских портфелей; другие, в том числе и сам Марио, честно копошатся и до сих пор где-то совершенно в стороне и вдали от русла современной истории, так что их совсем и не видно. Порой они заявляют о себе, изрекая анафему от имени мадзинистского демократического Бога тому крайне материалистическому и злостному направлению, которое приняла революционная агитация в Италии и всюду.
Я и тогда недоумевал и недоумеваю теперь, что могло казаться Бакунину хоть призраком дела в этой своеобразной и чуждой нам среде? Учить их агитации и конспирации значило ковшом лить воду в море, так как самый наивный из них мог смело заткнуть за пояс Михаила Александровича со всем его штабом и причтом…
Жена Марио, англичанка родом, более известная под именем miss White, заслуживала в гораздо большей степени мои симпатии. Правда, я на собственной особе испытал, с каким умением и любовью к делу она исполняла трудную роль главной сестры милосердия в гарибальдийских отрядах. Тогда как для очень многих других итальянских дам эта роль представлялась только заманчивым поводом к авантюристской игре, White Mario не мне одному спасла жизнь или облегчила тяжелые страдания своим заботливым уходом на перевязочных пунктах, или в Казертском госпитале. А теперь, когда эпоха героических войн в Италии прошла, эта же самая miss White издала единственно серьезное описание на итальянском языке нищеты и разврата в Неаполе…
О ней я упоминаю потому, что она была одна из наиболее выдающихся личностей собиравшегося у Пульских кружка. Но у Бакунина я ее никогда не встречал, и между ними не было большой близости[391].
IV
Группа русских во Флоренции, подлежавших бакунинскому воздействию, была, как уже сказано, очень немногочисленна и незнаменательна[392].
Неразлучный мой товарищ, Прянишников[393], только что вернувшийся из Черногории и вскоре вслед за тем уехавший в Россию, по приезде Бакунина взял на себя лично переговорить с братьями Бакунина об устройстве его финансовых дел, которые были тогда в очень жалком положении. Бакунину ежечасно приходилось занимать у старых и новых своих друзей, и хоть его очень часто выставляли за человека бессовестного в личных денежных делах, я знаю несомненно, что он был далеко не чужд самой утонченной деликатности.
Из постоянных жителей Флоренции более других выделялся скульптор Zabello[394], один из красивейших представителей малороссийского чумацкого типа. Бакунин говорил мне впоследствии, что он сразу отличил Забелло, наметил его для каких-то особых целей и возлагал на него самые блестящие надежды за одну только его энергическую и красивую наружность.
Надежды эти, однако ж, не сбылись, и Бакунин признавался, что он сильно разочаровался в Забелло, убедившись еще раз на его примере в старой истине, рекомендующей не полагаться на внешность, бывающую нередко обманчивою… Какие надежды Бакунин возлагал на Забелло, мне осталось неизвестно до сих пор. Замечу, однако, что Забелло был человек, далеко не лишенный энергии и недюжинный. Еще отроком, он сумел выдержать упорную борьбу со степным помещиком отцом, и борьба эта кончилась поражением старого полтавского самодура. Забелло много читал, преимущественно Прудона и Герцена, и умел хорошо переваривать прочитанное. К сожалению, опутанный с одной стороны финансовыми затруднениями, из которых он никогда не выходил, с другой стороны, увлеченный своими успехами в обществе, он слишком рано опустился, осел в каком-то чувственном эгоизме, которому его изящная наружность и его склонный к парадоксам, но блестящий и гибкий ум придавали некоторые чайльд-гарольдовские оттенки. Он был слишком умен, чтобы смириться с ролью, хотя бы и очень блестящего хлыща; но в то же время слишком отчужден в своей мастерской, переполненной женских красот, лепленных из глины, высеченных из мрамора и живых… Всегда недовольный собой и другими, он переходил от одной крайности к другой; то искал развлечений и знакомств, то без всякого повода лез на ссоры; говорил незаслуженные грубости вчерашним своим друзьям; отравлял жизнь своей красивой и чрезвычайно деловитой швейцарке-жене. Повлиять на него было нелегко; но, однажды залучив его себе, Бакунин несомненно приобрел бы в нем совершенно недюжинного пособника.
Дело, однако, приняло совершенно иной оборот. Кто в этом виноват, судить не берусь.
Гораздо безнадежнее Забелло представлялся зять его, известный живописец Н. Н. Ге, человек очень образованный и интересный во многих отношениях; Ге был слишком поглощен своей живописной революцией (он, так сказать, перекладывал Ренана на русские иконописные нравы) и своей семьей[395].
Этими двумя личностями почти исчерпывался русский кружок, о котором я здесь говорю. К нему временно примыкало несколько заезжих молодых и пожилых соотечественников; но и их было очень немного. Самым выдающимся был между ними Ножин[396], юноша лет двадцати двух или трех, но похожий на вид на плюгавого пятнадцатилетнего мальчишку. Бескровный, худой, с заячьим профилем, с серыми глазами на выкате, Ножин походил на неудоучившагося школьника из придурковатых. К тому же в манерах и в одежде он доводил до смешных крайностей замашки модного тогда вывесочного нигилизма.
Не было ничего удивительного, что он слыл за шута или за идиота в лицее, где воспитывался почти одновременно с А. Серно-Соловьевичем[397], Вырубовым[398] и проч. Он и сам говорил, что развиваться начал очень поздно, как нравственно, так и физически. Но зато, вместе с развитием, в нем пробудилась болезненная жажда знания, не того или другого сухого, книжного, но знания всестороннего, полного, которое бы одним лучом озарило ему всю, несколько туманную и незаконченную в деталях, картину общественного преобразования, как-то внезапно зародившуюся в его мозгу.
Окончив лицейский курс, Ножин, к величайшему негодованию матери и отчима своего де-ля-Гарди, отказался от предлагаемой ему очень выгодной по летам и по чину служебной должности. С кротостью мученика он перенес все обрушившиеся на него гонения, объявив скандализированной родне, что жить, как живут они, позорно и преступно, что он скоро покажет и им и всей России, как именно следует жить, и что надо делать; но что для этого ему прежде еще надо немного доучиться…
Едва ли не выгнанный из дому, лишенный всяких средств, он отправился в Ниццу, где стал заниматься эмбриологией и физиологией, перебиваясь кое-как уроками, собирая в то же время материал для всестороннего социологического трактата, пополняя с судорожной торопливостью многочисленные, преимущественно политические пробелы своего воспитания… Вскоре он заболел и был подобран чуть не на улице бывшим своим лицейским товарищем, А. Ф. С-ом[399], владельцем крупных поместий в Бессарабии.
Уступая течению времени, С-т решил тоже заниматься физиологией и готовился держать экзамен в одном из немецких университетов. Но наука упорно не давалась ему, совершенно невыученному, да и органически неспособному к систематическому утруждению баронских своих мозгов. С-т заключил какой-то уговор с Ножиным, по которому брался содержать его два года за границей и потом доставить в Россию; а Ножин должен был за то служить ему не то ментором и руководителем в лабиринте сифоноров и головоногих, не то собирателем материалов для его замышляемой диссертации.
Странная пара эта находилась в это время во Флоренции, причем к симпатичному всем нам Ножину воспылал пламенной нежностью Н.С. Курочкин[400], только что спустивший в рулетку последние свои деньги и проживавший за границей без всяких дел, но с благими пожеланиями, снедаемый внутренне солитером и неустанно грызшей его тоской о приближающемся возвращении на родину.
– Снится мне, – рассказывал он наутро с встревоженной, измятой физиономией, – снится мне, что пееезжаю я гъяницу, беют меня жандаймы, и деют-деют…
Под влиянием Ножина, Курочкин, переменивший на своем веку уже много либеральных шкур, только и бредил что о науке.
– Наука великое дело, – говаривал Бакунин, – но оставим ее тем, кто с ней теснее нас знаком; а то ведь мы с вами, Н.С., учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь…
Столкновения Ножина с Бакуниными представляли в моих глазах большой, правда только психологический, интерес.
Здесь лицом к лицу сталкивались два фанатика, двух довольно отдаленных одно от другого поколений: один сложившийся окончательно, непоколебимый; другой мучительно ищущий, но умеющий при случае с такой же роковой, космической устойчивостью стоять на своем. Оба жаждали всей душой и с одинаковой искренностью всесветного перерождения, коренного изменения вековых устоев и основ общественности и нравственности… Но для Бакунина революция уже успела окончательно отлиться в форму какого-то грандиозного ритуала, уложиться в несколько формул: анархия, отрицание государственности, социализм, – дальше которых он тогда по крайней мере не шел, за которыми он словно предполагал какое-то кабалистическое, супра-натуральное значение. Он был всецело поглощен формальной стороной дела. Ножин самое слово «революция» почти никогда не употреблял. Он всем своим изнывшимся нутром мучительно сознавал, что надо перейти к иным более справедливым основам общественности и нравственности. Он смутно угадывал некоторые из этих новых основ, но сформулировать их не умел, отчасти по замечательному недостатку красноречия, отчасти же просто потому, что многого еще обдумать и уяснить даже самому себе порядком он еще не успел… Ему далее не ясно было – революция или эволюция вернее приведет в этому желанному изменению основ. Он не имел предвзятого расположения ни к той, ни к другой, но в нем была мучительная жажда поскорее узнать этот желанный путь и именно узнать, с научной достоверностью, не оставляя в столь капитальном деле ничего ни на веру, ни на чувство, ни на гадание…
Столкновения между Бакуниным и Ножиным случались каждый раз, когда судьба их сводила вдвоем. Внешние поводы к ним бывали самые разнообразные; но сущность постоянно оставалась одна: Бакунин осуждал книжные научные поползновения, Ножин отстаивал со всей силой своего львиного красноречия политику страстей и на ней основанные революционные и конспирационные приемы. Дело всего чаще кончалось тем, что Бакунин не скрывал презрительного раздражения, уходил от этого «взбалмошного мальчишки»; или же Ножин убегал, красный как рак, не помня себя… А не раз Курочкин или я уводили его домой в нервном припадке…
Заговорив о Ножине, доскажу в немногих словах краткую и печальную его биографию.
Вскоре после встречи с Бакуниным во Флоренции он вернулся в деревню к матери, где сильно заинтересовался участью младшей своей сестры, которую ему удалось при содействии Зайцева[401] увезти из-под крова семьи де-ля-Гарди. Отчим обратился к покровительству III Отделения. Зайцев был посажен в тюрьму; Ножин, от которого отчуралась и сама насильно спасаемая им сестра, как-то уцелел и попал в Петербург, где начал читать публичный курс по социологии. Неподготовленный, нервный, совершенно лишенный способности красно говорить, он потерпел полнейшее fiasco на первой же лекции. Вскоре после того он заболел тифом в квартире Курочкина. Отвезенный потом в госпиталь, он умер к вечеру того же дня[402].
V
Являемся довольно рано на один из обычных Бакунинских вечеров…
Гостиная убрана совершенно по-буржуазному, прилично. Грозный революционер, в черном сюртуке, которому он, однако же, умеет придать живописный, но до неприличия неряшливый вид, мирно играет в дураки со своей Антосей… За фортепиано седой старичок, необыкновенно добродушного вида, сам себе аккомпанирует и птичьим голосом поет с сильным, как бы немецким выговором:
Allons enfants de la Patrie Le jour de gloire est arrive![403]…И смелый вызывающий революционный гимн звучит в его устах какой-то слащавой, сентиментальной песенкой…
Певец, однако же, оказывается не немец, а швед, один из стокгольмских друзей М. А., к тому же состоящий в каком-то, совершенно непонятном мне родстве, свойстве или кумовстве с революцией…
Мало-помалу собираются гости…
Какая смесь одежд и лиц, Племен, наречий, состояний…[404]За исключением очень немногих завсегдатаев, на этих вечерах редко удавалось два раза сряду видеть одно и то же лицо.
Бакунин сам косится на них, предупреждает, что это гости Антоси, или что ему необходимо видать их и якшаться с ними ради успеха какого-то загадочного конспирационного предприятия. На следующей неделе о прежнем корифее нет уже и помина. Хорошо, если он исчез бесследно; но часто случалось, что исчезновению предшествовал более или менее крупный скандал…
Из поляков завсегдатаем был один только Сарнецкий[405], явный агент Жонда[406] во Флоренции, молодой помещик ничтожного вида, содержания еще более ничтожного, прозванный Герценом «телячьим зародышем». Впоследствии он вернулся в свое имение, где-то в Минской или Ковенской губернии, и даже служил по выборам… При нем неразлучно еще очень молодая, всегда не то усталая, не то заспанная, красивая бабенка с видом курицы, которая с кудахтаньем отряхается.
Тут и известная Людмила Ассинг[407], с романтически безобразной наружностью, одна из перезрелых девственниц, племянница Фарнгагена фон Энзе[408], издательница его писем, знавшая лично многих всесветных революционеров сорок восьмого года, считавшаяся сама какой-то косвенной революционной знаменитостью.
Из итальянских своих адъютантов Бакунин сам очень скоро отличил молодого и красивого Андреа Джанелли[409]. Скромный, молчаливый, он казался созданным для нежных ролей. Я знал его давно, еще гарибальдийским волонтером, но никогда не сумел различить в нем ни одной выдающейся черты, кроме разве прекрасной, черной как смоль, густой бороды и классически правильного, матово-бледного лица с задумчивыми, крупными черными глазами.
Благодаря Бакунину, Джанелли внезапно становится героем дня… Во всей Тоскане нет истинного революционера, кроме Джанелли. Приводится в известность, что в 1852 или 1853 г. Джанелли принимал участие в одной из отчаянных экспедиции Ф. Орсини; что сам Орсини передал в своих записках рассказ об этой экспедиции несколько неверно… Джанелли, под руководством Бакунина, печатает свои поправки в рассказу Орсини, бросая комок грязи в тень давно казненного итальянского конспиратора…
В это же самое время и под кровом той же бакунинской квартиры в Via Montebello сердце Людмилы воспаляется страстью к этому итальянскому Руслану, и наш «первосвященник атеизма и анархии» почему-то освящает своим рукоположением, или по крайней мере своим вмешательством, эту сердечную связь.
Но роль героя дня и счастливого обладателя сморщенного тела девицы Ассинг и ее доходов, как и все розы, оказывается далеко не без шипов… Флорентийские кружки, оказывается, глубоко возмущены литературными и нелитературными подвигами Андреа Джанелли, и тот, о котором вчера еще не говорили вовсе, которого все знали просто за доброго малого – становится яблоком раздора, мишенью, в которую сыплют обличениями, обвинениями, вызовами; а наконец и пускают на разных дуэлях две, три пистолетные пули, не считая нескольких сабельных ударов и нескольких уколов рапир…
Не прошло и полугода со времени поселения Михаила Александровича в Via Montebello, и все флорентийские демократы, носившие его чуть не на руках, повертываются к нему спиной…
Все это мелко, жалко, смешно, порою, может быть, грязновато. Но во мне, видевшем всю эту канитель изо дня в день, не закупленном ни за, ни против Михаила Александровича, никакими кумовскими или побочными соображениями, – в итоге все же-таки слагалась непоколебимая уверенность, что в душе этого человека не мелькнуло ни одного мелкого или грязного побуждения.
VI
Последняя ночь карнавала, который в скромной и сдержанной Флоренции далеко не так роскошен и хорош, как в буйном Неаполе, в величавом Риме или в кокетливой Венеции.
Час второй ночи. Я уже лег в постель…
Мы жили в нижнем этаже небольшого дома в художническом квартале Вагbano[410].
В окно раздается неистовый стук, сопровождаемый громким хрипом и криком по-русски: «отворите».
Признав голос Бакунина, жена, не совсем еще раздетая, бежит отворять. В дверях появляется сконфуженная фигура Антоси, закутанной в серый кафтан своего мужа. Одна половина ее курчавой белокурой головы в папильотках. Чрез распахнувшийся кафтан видна рубашка и ночная юбка. А за нею Бакунин во фраке и в цилиндре… Говорят: помогите, беда.
Невольно приходить мысль о ночном аресте или полицейском вторжении. Но дело объясняется более конституционным образом. Михаил Александрович, не знавший отдыха, по своему обыкновению, и эту ночь проводил в каком-то кружке с более или менее политическим оттенком. Антося, вернувшись раньше, стала укладываться спать. Одна в целой квартире, она соскучилась и набоялась до того, что, когда, наконец, заслышала внизу грузные шаги своего мужа, стремительно бросилась ему навстречу, забыв захватить с собою ключ. А флорентийские двери устроены так, что без ключа снаружи войти нельзя, если некому отворить внутри. Бакунины же не держали горничной… Пришлось ночью, в фантастическом костюме, по холоду, отправляться на противоположный конец города, к нам. К счастью, на полпути попалась извозчичья карета.
Квартирка наша была мала, и разместить нежданных гостей было нелегко. Уступив Антосе свое место в кровати жены, я с Бакуниным умостился, как мог, в соседней комнате, на диванах. Скоро раздался такой неистовый храп, что я, в нервном возбуждении, поспешил одеться и прогулял всю ночь, припоминая басню о зайце, решившемся из гостеприимства разделить с ежом свое помещение. К утру диван, на котором спал Бакунин, оказался продавленным…
Этот ночной сюрприз наводит на мысль о другом, случившемся несколько недель спустя.
Около полуночи – звонок. Мы думали, не Ножин ли додумался до какого-нибудь социологического сомнения и пришел оповестить. С ним это случалось не раз, и различия в часах он не соблюдал…
Оказалась совершенно незнакомая высокая фигура, с усами и бакенбардами, русского военного пошиба.
– Позвольте рекомендоваться: я Карпь[411], – сказал он с несколько польским акцентом речи. По-русски говорил он прекрасно и правильно вполне.
– Никогда не слыхал.
– С письмом от Михаила Александровича Бакунина.
В коротенькой записочке Бакунин объяснял, что посланный заслуживает доверия, как и он сам, и что он, Михаил Александрович, от души рекомендует мне его и его дело.
Дело оказалось несколько экстренным.
Для признания польских повстанцев за воюющую сторону, по крайней мере со стороны иностранных держав, требовалось, чтобы польский флаг появился на одном из морей, открытых для французских и английских судов. Попытка в этом роде Лапинского[412] на Балтике не удалась; теперь замышлялся другой, более широкий план на Средиземном и Черном морях. От меня требовалось, чтобы я взял на себя роль посредника между этой польской организацией и Гарибальди. Карпь оказался русский морской офицер, граф Сбышевский[413], бежавший с одного из наших судов, бывших тогда в кругосветном плавании. Кроме этой ночи, я не встречал его никогда, но тут он произвел на меня очень хорошее впечатление.
Мы поехали вместе к Бакунину, который нас ждал у стола, на котором лежало несколько бумаг с гербами и печатями. Он мне рассказал в немногих словах то, что сам он называл «сущность и подробности дела».
Имеется быстрый на ходу пароход, который в скором времени будет доставлен в Мессину. В Марсели он возьмет вперед уже навербованный экипаж и небольшой отряд, который предполагается высадить где-нибудь на нашем черноморском прибрежье. В запасе имеется необходимое оружие и боевые снаряды; но главное ни в каком случае – не этот запасный отряд, от которого едва ожидается и то, что он поддержит сношения повстанцев с заграничными комитетами помимо австро-прусской нашей границы. Со своим легким и быстрым пароходом Карпь будет крейсировать на Средиземном море, вблизи Сицилии и пролива св. Бонифация, пока не выждет пароход Русского общества[414]. Тогда, подняв польский флаг, он нападет на него, завладеет им и положит основание повстанскому флоту. Гарибальди мог дать опытных и удалых моряков и к тому же на своей Капрере или на другом подходящем острове помочь устроить центр и оружейный склад для этих крейсерских операций. Цифры все говорились крупные[415]. Пароход прошел уже Гибралтар и если еще не в Марсели, то не может запоздать туда своим прибытием. В существовании навербованных людей и нужного оружия Михаил Александрович не допускал ни малейшего сомнения с моей стороны, говоря, что у него на все имеются в руках необходимые документы. В правдивости Карпя, в его готовности довести это опасное дело до конца не сомневался и я сам, хотя не имел никакого ручательства за то, кроме его честной и открытой наружности.
– Жаль, – говорил я, – что дело это нельзя обставить несколько солиднее на вид. Гарибальди весьма естественно отнесется скептически к моим голословным показаниям.
– Так вы не хотите ехать?
– Этого я не говорю: я не подряжался никому мешаться только в одни солидные на вид предприятия…
– За это я вас и люблю. Но ехать надо чуть свет. А главное, чтобы никто, особенно Сарнецкий… понимаете: особенно Сарнецкий, ничего об этом не знал…
Мне тут же дали письма к Гарибальди, прибавляя, что суть дела все же придется передать на словах и под большим секретом. Тут же отсчитали денег, не помню сколько, но по моему безденежью такой куш, что я проникся к нему не то страхом, не то уважением. Словно разрывную бомбу или какую-нибудь святыню положили в мой карман… Я знал, что небогатому человеку редко удавалось коснуться польских денег без того, чтобы не прослыть за мошенника…
Направили меня в Геную, где я должен был застать Гарибальди у его зятя, а если нет, то найти почтовый пароход, который доставит меня на Капреру.
Поезд уходил в пятом часу утра. Я едва успел забежать проститься с женою и захватить необходимое белье. С Капреры придется, по всей вероятности, ехать прямо в Мессину.
Погода стояла пасмурная и холодная. Не переставая лил дождь, и обыкновенно красивое Генуэзское прибрежье смотрело уныло и неприветно. Времени было довольно обдумать весь запас фактов, наскоро сообщенных мне Бакуниным.
Осмотрев два паспорта, которыми снабдил меня Бакунин, я легко заметил, что они негодны оба: от одного английского разило подделкой на версту, а другой совершенно не подходил мне по приметам. Впрочем, это меня не смущало, так как со мной была русская половина паспорта жены, служившая мне неоднократные услуги на итальянских таможнях.
– Tedesco?[416] – спрашивает обыкновенно с гордым видом И maresciallo, то есть жандармский служитель, завидя двуглавого орла на листе, который он, развернув, держит перед собою.
– В бумаге все прописано, – отвечаю я.
– Вас как зовут?
– Да в паспорте все обозначено, как следует.
Задашь еще пять-шесть вопросов, на которые постоянно получается один ответ, варьируемый насколько хватает моей изобретательности, блюститель порядка как-то недоверчиво осмотрит бумагу с обеих сторон. Печати, орлы, все как следует. Тем и кончит, что отдаст ее мне, сделав необходимую пометку и сказав успокоительное:
– Va bene[417].
Не сознаться же в самом деле, что он в бумаге этой не смыслит ни аза и не знает даже, на каком языке она писана.
Успокоившись насчет паспорта, я начинаю соображать, что организация нашей флотилии находится в руках двух людей, из которых один, Мазони, неизвестен мне вовсе. Другое имя Baurdon, в итальянском издании Bordone[418], вызывает во мне ряд воспоминаний не очень приятного свойства. Впрочем, это были личные мои воспоминания, которые к делу не идут, и которые я рассказал уже двадцать лет тому назад в «Записках гарибальдийца»[419].
В Геную я приехал вечером с сильной зубной болью. Первый мой визит был здесь к дантисту, который за поздним временем отказался исследовать больной зуб, но дал мне какой-то эликсир, обещая, что, благодаря ему, ночь я во всяком случае проведу спокойно. Была ли то классическая чернильная вода или более хитрая смесь, но эликсир этот нисколько не помешал мне промучиться целую ночь. Ни свет ни заря, я уже снова был у дантиста, ожидая с нетерпением, пока он встанет и позавтракает. Здесь пришлось выдержать целую пытку. Больных зубов оказалось два, и дантист ломал мне их восемь раз, прежде чем убедился, что вырвать их при воспаленном состояли десны нельзя даже при помощи им самим придуманного инструмента.
В припадке нервного исступления я вцепился руками в жирную шею мучителя, вышедшего ко мне в халате, и мы вместе повалились на пол… При помощи пиявок и хлороформа удалось наконец утолить нестерпимую боль, и часам в десяти утра я, шатаясь от перенесенной муки и от двух бессонных ночей, побрел в западное предместье San Pier d’Arena[420], где жил известный гарибальдийский офицер, д-р Ахилл Сакки[421].
От него я узнал, что Гарибальди в Генуе нет уже давно, и что первый пароход отсюда на Капреру уйдет не раньше, как дней через десять, тогда как из Ливорно пароход через Аяччо на Маддалену или Капреру уходит на следующий же день.
В Генуе делать было решительно нечего, и я во всех попыхах должен быль спешить назад, в Ливорно.
Погода продолжала стоять ветреная, холодная и пасмурная. Пассажиров было очень мало; в каютах грязь и нестерпимая вонь от бочонков с солеными анчоусами. Я потребовал себе завтрак на палубу, по которой расхаживала дюжая фигура с калмыцким лицом, в маховой шапке, покуривая из коротенькой трубочки и поплевывая по сторонам.
Пока я спрашивал себя, откуда мне знакомо это широкое, грубое, но некрасивое лицо, с бегающими черными глазками, незнакомец подсел к моему столу, спросив себе рюмку какой-то спиртуозной жидкости.
– Вы едете на Капреру, к старику, по польскому делу? – спросил он меня неожиданно, глядя на меня в упор своими калмыцкими глазками и с сильным гортанным выговором буйного плебейского ливорнского предместья, населенного лодочниками и носильщиками и носящего название Venezia.
– Не знаю, о каком польском деле вы говорите. Я, вероятно, буду и на Капрере, но еду не к Гарибальди, а к полковнику Шандеру Телеки[422], который теперь на Маддалене по своим домашним делам…
Собеседник, по тосканскому обыкновению, выразил сомнение и изумление гортанным звуком gna, причем мохнатые его брови как-то ушли совсем в мохнатую же шапку… Он молча покурил несколько минут и посмотрел по сторонам…
По палубе расхаживал один только пассажир очень характерного вида. Это был несомненно англичанин, подросток лет 18-ти, с улыбающимся лицом, с громадным расстоянием от носа до подбородка. Он был стиснут, как в узкий мешок, в свой серый water-proof, а в руках держал какое-то подобие тирса, с каким изображают вакханок.
Мой собеседник несколько раз внимательно вглядывался в него, потом в меня.
– Я наверно знаю, что с нами едет польский агент по делу о крейсерстве на Черном море. Мне обо всем подробно говорил Сарнисский (Sarniecky). Это, конечно, вы. Вам нечего со мною в прятки играть: я майор Сгараллино[423]…
Имя это мне было хорошо знакомо. Сгараллино, гарибальдийский майор, вышедший из Ливорнской Венеции, был слишком известен, как лихой моряк и вообще удалой молодец на все руки. Не было никакого вероятия, чтобы самозванец присвоил себе здесь это имя. Он говорил громко, не стесняясь, и во всяком случае о моем тайном поручении знал больше, чем я сам. Насколько я мог судить из его слов, Сарнецкий уже вел с ним обстоятельные переговоры по этому делу, и между ними было условлено, что Сгараллино возьмет на себя роль гарибальдийского руководителя замышляемого предприятия. Выбор был вполне удачный, так как Сгараллино не только обладал всеми необходимыми для того нравственными и профессиональными качествами, но еще и Черное, даже и Азовское море, знал очень хорошо, так как часто ходил в наши южные порты на парусных судах за пшеницей.
Странным во всем этом оказалось только то, что Сгараллино являлся уполномоченным от того самого Сарнецкого, от которого Бакунин так настойчиво рекомендовал мне держать все это дело в строжайшем секрете. Ни о Бакунине, ни о Карпе он ни разу не упомянул и, очевидно, считал меня уполномоченным от того же самого Сарнецкого.
Только впоследствии я имел случай убедиться, что ему в свою очередь рекомендовано оказывать мне только очень ограниченное и очень условное доверие…
– Кого здесь обманывают? – спрашивал я самого себя, как дон Basilio в «Севильском цирюльнике»: – или же все это только излишнее усложнение конспирационной игры, могущее печально повлиять на ход дела?
Чтобы выйти из неловкого положения, я поторопился окончить завтрак и стал бродить по палубе, закурив сигару и не без труда поддерживая равновесие при довольно сильной и неровной качке. Сгараллино остался за столом, где подле рюмки появился графинчик, а на моем месте засел с ним один из освободившихся от служебных дел и, по-видимому, хорошо знакомых ему пароходных офицеров.
Английский Митрофанушка мерно шагал за мной со своим жезлом и со своей неизменной улыбкой. Когда пароход внезапно наклонялся на бок, и мы должны были семенить ногами и хвататься за веревки, чтобы не упасть лицом в грязь, которую морская вода в изобилии разлила на скользкой палубе, его серо-бледное лицо с неизмеримым подбородком обращалось ко мне, причем зубатый рот раздвигался до ушей.
– Я очень рад, что вы не страдаете морской болезнью, – сказали он мне по-английски в виде безнадежной попытки хоть с кем-нибудь завязать разговор.
– Покорно вас благодарю… И я тоже…
– О-оо! Вы говорите по-английски.
Затем, словно опасаясь, что неожиданно подвернувшийся собеседник убежит, прежде чем истощится накопившийся у него запас словоохотливости, юноша, с непривычной для англичанина быстротой, стал рассказывать мне, какие бывают качки в Брайтоне. Тут же он сообщил, что едет в качестве делегата от каких-то английских дам, посылающих Гарибальди необычайную виноградную лозу, добытую из каких-то отдаленных стран, для насаждения ее на Капрере. Таким образом объяснялся длинный жезл, или тирс, с которыми юный турист не разлучался во все время путешествия.
VII
К утру следующего дня мы подходили к о-ву Маддалена, при входе в пролив св. Бонифация. Станция эта учреждена единственно для Капреры со времени поселения на ней Гарибальди. Маддалена – ничтожная рыбачья деревушка, населенная одними только женщинами, детьми да дряхлыми стариками. Все зрелое мужское население служит матросами на кораблях или уходит в море на рыбные промысла. Торговли нет никакой; но итальянское правительство учредило тем не менее здесь таможню, при которой постоянно находятся несколько лучших сыщиков, чтобы следить за проезжающими на Капреру. В это время опасались республиканского движения в Сицилии, и бдительность на Маддалене была усилена. Появился какой-то известный своими доблестями maresciallo dei carabinieri (жандармский унтер-офицер), которого проживающие на Капрере юные калабрийцы уже успели выкупать в море, «чтобы охладить», говорили они, «его излишний пыл». Наверное сказать не могу, но имею сильные основания предполагать, что итальянская полиция делилась своими открытиями с иностранными, в том числе и русскою…
– Берегитесь, – предупредил меня Сгараллино, когда пароход стал причаливать: – вас осмотрят основательно.
К пароходу причалила большая барка. В ней я узнал Менотти[424] в числе других, мало знакомых или вовсе мне незнакомых, очень юных гребцов, – заметил женообразное личико мальчика лет шестнадцати с широким довольно ординарным лицом. Оно поражало своей белизной и городским видом среди смуглых лиц и несколько одичалых нарядов и приемов обычных жителей Капреры. Мальчик этот оказался Риччотти, младший сын Гарибальди[425], только что вернувшийся тогда из Англии, где он воспитывался в буржуазной среде и почти разучился говорить по-итальянски.
Барка с Капреры приходит, под предводительством Менотти, к каждому пароходу, являющемуся из Ливорно, чтобы забрать почту и почти всегда случающихся посетителей Гарибальди, прошенных и непрошенных. Расстояния от Маддалены до Капреры при хорошей погоде полтора или два часа.
Прежде чем сойти с парохода, я успел всучить юному англичанину небольшую сумму, с бумагами, которую он уложил в какой-то внутренний карман своего ватерпруфа. Его впрочем пропустили, едва окинув беглым взглядом содержимое его чемоданчика, меня же пробрали до костей. Паспорт жены сослужил мне и здесь свою службу; но пришлось отвечать на длинный ряд вопросов. Я говорил, что имею поручение срисовать Капреру для петербургской иллюстрации, и в подтверждение показывал альбом.
Жизнь Гарибальди на Капрере была описана много раз[426]. От посетителей он не имел отбоя, и крошечный, почти игрушечный дом, с одной стороны похожий на какой-то низкий белый мавзолей, едва мог вмещать обычных жильцов и гостей, из которых небольшая часть приезжала сюда по делу. Эти считались за своих, и с ними не церемонились. Им часто приходилось не доесть, спать кое-как, вповалку, в каждом свободном углу, а то и на каменистой почве, под открытым небом. А лучшие комнаты и удобные постели бывали заняты туристами, преимущественно барынями, стекавшимися сюда отовсюду, всего более, конечно, из Англии, чтобы поглазеть и увезти сувенир. Для этих сувениров иногда разрывался на части цветной платок, который Гарибальди имеет обыкновение носить повязанным через шею.
Я застал Гарибальди сильно осунувшимся, едва ходившим при помощи двух костылей и еще не оправившимся окончательно от раны.
Он, впрочем, все время возился в саду, который решительно не принимался на чистом известняке, кое-как удобренном рыхлой землей, привезенной с итальянского берега. За ним, как собака, бегала ручная овца. Куры самых разнообразных пород рыскали всюду.
В экономическом отношении жизнь Гарибальди в это время была обставлена не благоприятнее, чем когда-нибудь. Никаких вспомоществований ни от правительства, ни от разных обществ он принять не хотел. Старший сын его, Менотти, и несколько молодых гарибальдийцев, состоявших при Гарибальди постоянно, периодически сменяющими одна другую партиями, снабжали всю колонию дичью и рыбой. Вели они совершенно трудовую жизнь рыбаков и охотников. Другие продукты для стола, главным образом рис, мука и т. п., доставлялись по большей части доброхотными дателями, личными друзьями Гарибальди, из Калабрии, Ломбардии и из других итальянских провинций. В это же самое время Гарибальди получал дорогие затейливые подарки от английских, американских и других своих заморских поклонников. Незадолго перед моим приездом ему был подарен целый складной железный дом, который стоял тут же, подле настоящего, но без всякого употребления, так как он оказался совершенно непригодным для житья.
Сам Гарибальди и Менотти свыклись с этой жизнью, но приезд юного Риччотти, воспитанного в Лондоне, изнеженного и слабого здоровьем, вносил в нее некоторый диссонанс.
Для Риччотти здесь все было чуждо и дико; ему на каждом шагу недоставало не только привычных ему развлечений, но даже самых неизбежных, по его мнению, удобств… Чтобы убить время, он стал ездить на охоту и на рыбную ловлю с братом и с товарищами, но там, конечно, более мешал он, чем приносил пользы. Гарибальди, которому никогда не пришло бы в голову бояться за себя или за Менотти, был сам не свой по целым дням, когда Риччотти уезжал в дурную погоду. Бросая тогда свои заботы по хозяйству, старик ковылял на своих костылях по целым часам вдоль морского берега, впиваясь тревожными взорами в туманную даль, прислушиваясь в шуму ветра, следя за малейшими его изменениями… Пролив св. Бонифация опасен в дурную погоду, а их капрерская барка стара уже стара, и охает, и скрипит от малейшей волны… Мечтою нового Цинцинната было завести себе новую лодку; но в этой мечте он признавался только близким своим приятелям, таким же безгрошевникам, как и сам…
Он встретил нас у пристани, пригласил меня тут же присесть с ним на скале, где я ему и передал свои письма, условившись, что подробнее о деле мы переговорим попозже, когда у него выберется свободный час.
В этот день я его увидел только за обедом, где он председательствовал в своем обычном сером poncho поверх красной рубахи, среди очень многочисленной компании, в которой много было вовсе незнакомых мне лиц. Прислуживал Пьетро, долговязый ломбардский мужик, тоже в красной рубахе и в туфлях. Поставив на стол блюдо, он сам садился с гостями, ел и говорил, потом уходил на кухню за следующим, приготовленным им же самим.
Пьетро этот, парень лет тридцати, был совершенно новым для меня лицом. Я узнал, что он появился в гарибальдийских рядах в первый раз во время экспедиции 1862 г., кончившейся печальной стычкой при Аспромонте, и состоял при главном кассире денщиком. Во время аспромонтского погрома, Пьетро исчез, захватив с собою шкатулку, где хранились все деньги экспедиции, тысяч до тридцати… Через много месяцев уже потом он явился на Капреру, прошедши пешком чуть не всю Италию, с истерзанными ногами, без гроша денег, кроме тридцати тысяч, которые и остались в шкатулке нетронутыми, целиком.
За обедом никаких достопамятных разговоров не происходило. Помню только, что речь зашла о целом грузе съестных припасов, присланных в подарок Гарибальди калабрийскими его друзьями. Груз этот был доставлен на пароходе, на котором приехал и я; но его месяца два продержали на таможне в Ливорно, сгноили большую его половину, а за неиспорченную требовали каких-то фантастических пошлин.
– По отношению ко мне этих мелких сошек, – заметил Гарибальди одному из гостей, – я всегда знаю, как по барометру, каков ветер дует на нас в высших правительственных сферах. Два года тому назад, сам таможенный начальник во всех регалиях, высуня язык, притащил бы короб ко мне…
На Капрере пришлось прожить нисколько дней, ожидая обратного парохода в Ливорно. Вся гарибальдийская компания уехала на охоту на сардинский берег. Гарибальди раза два приглашал меня в комнату, которую он называл своим кабинетом, но которой все убранство состояло из простого деревянного стола, двух стульев и полок по стенам…
Разговор о «деле» был покончен в немногих словах. Гарибальди слушал мои слова, как человек, уже знающий сущность дела и не особенно доверяющий ему.
– Лучше Сгараллино вы не найдете; а он берется за это дело. Сноситесь с ним откровенно и смело. Если что понадобится, дайте знать; через него, или прямо…
Охотники возвратились вместе с венгерским полковником Шандором Телеки, который действительно жил на Маддалене, вместе со своим неразлучным Лойошем, напоминавшим очень близко нашего крепостного из степных деревень. И Телеки и Лойош состарились в эмиграции, принимали деятельное участие во всех революционных предприятиях целой Европы; в эпоху с 1848 до 1863 г. живали они в Лондоне с Герценом, на Вайте с Виктором Гюго[427], на Капрере с Гарибальди; а остались все же один трансильванским помещиком, другой его верным крепостным слугою, которого и по зубам бьют, который регулярно в известные сроки пьян, но без которого барин и на всемирном революционном поприще, как дикий помещик Щедрина, давно бы шерстью оброс и был заеден мышами… В самом начале его эмиграционной карьеры, Шандору Телеки случилось, очутившись вовсе без гроша, наняться где-то в Англии поденщиком на каменноугольной копи. Лойош не покинул его здесь и точно также в промежутках между работ набивал барину трубку.
«Oui, Victor Hugo est un grand homme, – острил известный Рибейроль[428], – mais Loyas est un grand peuple»[429].
Я уехал с Капреры, нагруженный каким-то чудовищным паштетом из дичи и калабрийскими конфетами, изображавшими рыцарей и всадников из раззолоченных сушеных фиг. Все это были подарки от разных членов капрерской колонии детям и жене Телеки. На всякой вещи была записочка, от кого и кому именно предназначалась она. Вся цена этому грузу была какой-нибудь медный грош, а на записках красовались имена дорогих итальянскому сердцу героев…
К немалому удивлению, на таможне с меня заломили какую-то баснословную цифру.
– Да я скорее все это брошу в море, чем заплачу хоть половину того, что вы требуете…
– Заплатите большой штраф и подвергнетесь тюремному заключению, – обязательно предостерег меня чиновник.
Я потребовал свидания с директором.
– Ах, Боже мой, – говорил с соболезнованием этот почтенный офицер, – мне самому это очень неприятно; но регламент, служба… Тут еще с этим коробом для генерала у нас неприятность вышла… Я все сделал, что мог; а генерал, наверное, Бог весть что сказал про нас, когда получил половину груза испорченною…
– Я могу удовлетворить вашему любопытству.
И я передал ему слова Гарибальди о регалиях и барометрах.
В Ливорно я застал телеграмму, извещавшую, что Маньяни, благодаря преследованиям марсельской префектуры, должен бросить все дело и скрыться Бог весть куда. Скрылись вместе с ним и около сорока тысяч денег польского фонда, в которых, насколько мне известно, он и до сих пор никакого отчета никому не давал. Он жаловался и на Бордоне, которого довольно прямо обвинял в нечистоплотных проделках…
Впоследствии узналось, что Маньяни точно навербовал в Марсели двух-трех каких-то ласкаров[430], которых нарядил в балетные костюмы и при помощи которых он сам разыгрывал роль оперного пирата в марсельских cafe-chantant. Принимая там от них рапорты и донесения, в обществе разных прелестниц, он бросал им кошелек и поучение:
– Allezl Sauvez vous[431].
Когда префект, наконец, счел нужным заметить ему, что небесполезно было бы ограничить по крайней мере круг зрителей этих представлений, он принял предостережение за преследование и бежал.
Не заставила долго ждать себя депеша от Бордоне, извещавшая, что мошенничество (он так и писал: escroquerie) Маньяни ставит его в невозможность довести взятое им дело до конца; а потому он и отказывается от него вовсе…
Карпя во Флоренции я уже не застал. Он уехал в Мессину, где и его скоро постигло еще более конечное разочарование. Обещанный пароход, правда, оказался налицо. Это был второй по счету: так как один, посланный прежде, был задержан в Гибралтаре за неимением надлежащих бумаг. Пришедший пароход, на легкости и скорости хода которого покоилось все это предприятие, оказался никуда не годною ладьей, которую и на буксире тащить можно было не иначе, как с опаскою…[432]
Вскоре вслед за тем мы переселились на Генуэзский берег, а потом в Милан[433]. Бакунин же, с своей стороны, тоже недолго оставался во Флоренции и направился в Неаполь.
Мы встретились снова на Женевском озере, пять лет спустя…[434] Но флорентийские конспирации, за которые ни я не мог сердиться на Бакунина, ни он на меня, легли каким-то неприятным, несмываемым пятном между нами.
Другие знали Бакунина теснее, стояли к нему ближе в лучший швейцарский период его деятельности. Они могут обрисовать эту грандиозную фигуру в том свете, в котором представлялась она им. Мне же досталась неблагодарная часть узнать Бакунина при невыгодной для него флорентийской обстановке.
Л. Мечников[435]
Послесловие редактора Мечников и другие патриоты Италии
После «Записок гарибальдийца», вышедших в 2016 г., в следующем томе Льва Ильича Мечникова (1838–1888) мы даем галерею исторических портретов. Спустя полтора века исполняется его неосуществленная воля – цельно издать статьи о том великом процессе, который автор-очевидец называл «итальянским движением» и который позднее получил имя Рисорджименто, «Возрождение» (а также «Воскрешение», «Обновление»).
…Юный и авантюристичный россиянин, приехав в 1859 г. в Италию учиться живописи, попал в эпицентр революционных событий: в следующем году он присоединился к гарибальдийской Тысяче, шедшей славным походом на косное королевство Обеих Сицилий. Особое бурление и без того бурлящей итальянской жизни захватило юношу, и он остался тут – правда, не навсегда: его республиканские взгляды и опасные связи пришлись не по вкусу местным властям, и Мечников в 1864 г. был вынужден покинуть Апеннинский полуостров.
Таким образом, он провел в Италии всего пять лет (из 30 лет эмиграции), но провел их в тот момент, что был для нации судьбоносным – после присоединения Юга на повестке дня стало собирание остальных частей раздробленной страны, и в первую очередь – ее стольного (и Вечного) града. Объединительное движение тогда выдвинуло, кроме Гарибальди, ряд других харизматических личностей. Это была пестрая, плохо слаженная группа, состоявшая из монархистов и республиканцев, снобов и демократов, «добрых католиков» и антиклерикалов из тех, кого в Италии называют mangiapreti («пожиратели попов»). Общим у них оставалась действенная любовь к раздробленной и униженной родине, тот чистый патриотизм, который не имел отягчающих смыслов: слово patriota становилось синонимом участника Рисорджименто.
Гениальный и беспокойный ум Льва Мечникова был захвачен итальянским объединительным движением, и он проникается убеждением в необходимости его описать: из русских людей он, в самом деле, был единственным, на это способным. Так возникает серия необыкновенных очерков, написанных современником, и даже участником замечательных событий. Итальянскому делу он не изменял, будучи и в других странах.
Автор, отдававший себе отчет в том, что события на Апеннинах сливаются перед ним в один полноводный поток, задумывает концепцию очерков, изложенную летом 1862 г. в письме к Н. Г. Чернышевскому:
я имею сказать вам следующее: я, кажется, писал уже вам о намерении написать ряд статей об итальянском движении с 1848 г. Статьи след.: 1) Манин [курсив наш. – М. Т.\ – Венеция в 1848 и 9 годах; 2) Мадзини – глава движения и Рим в 1849 г.; 3) Каганес[436] <?> – Ломбардия в 1848 г.; 4) Три высадки – Бандиера, Тункале <? >[437] (эпизоды оч. мало у нас известные) и Гарибальди; 5) Винн. Джиоберти, Пьемонтск. правительство; 6) Цезарь Бальбо, в отношении к итал. единству; 7) Кавур, конституционализм и итальянская народность. Пьемонт в 1848 г.; 8) Неаполь в 1848 г, (министр Трол <? >[438], радикалы, Поерио и пр); 9) Сицилия в 1848 г.; 10) Леопарди и Джиусти; 11) Тосканский триумвират (Гверацци, Монтанелли, Мадзини); 12) Южная Италия в 1862 г. (партия движения и партия застоя)[439].
Однако сама история меняла план публициста. Спустя месяц после этого письма Гарибальди предпринял новую отчаянную высадку на Юге с целью похода на Рим, но был ранен и взят в плен теми же самыми пьемонтцами, под эгиду которых он вверял освобожденные итальянские земли. Его тогдашний клич – «или Рим, или смерть» – все-таки был позднее подхвачен, причем самим пьемонтским монархом (1870 г.). Еще до Рима, в состав нового объединенного королевства вошел регион Венето с Венецией. Уже из Швейцарии, к концу жизни, Мечников наблюдает и осмысляет заключительный триумф Рисорджименто и его венценосного героя, короля Виктора-Эммануила II. К тому времени у автора меняются политические установки, и он отказывается от некоторых грез, владевших им в 1862 г., когда в том же письме к Чернышевскому он заявлял:
Все эти статьи должны составить одно целое и связаны между собою одною общей мыслью: Италии нет спасенья в буржуазно-христианском мире, она должна возродиться, сродниться с новым элементом – славянским, и начать с ним универсальный союз, который затрет все эти незаконные порождения христианского феодализма и мещанства, до того чахлые и не способные к конкретной жизни, что вынуждены прятаться за абстрактную идею государственного величия и какого-то тоже абстрактного общества.
Спустя 16 лет, в 1878 г., сразу после смерти короля-объединителя, завершая свой грандиозный цикл очерков, Мечников представляет читателю новую Италию, спасшуюся именно в «буржуазно-христианском мире», не без «идеи государственного величия» – в той системе, что он прежде, вместе с Бакуниным и Герценом, страстно отвергал во имя анархо-социалистических идей, смешанных со славянофильством.
Теперь перед русским читателем встает невиданная прежде (даже в Италии) монументальная панорама Рисорджименто, отмеченная целостным подходом, редчайшей фактографией, высоким литературным стилем.
* * *
В процессе составления книги мы постарались выявить все фрагменты итальянского эпоса, опубликованные Мечниковым в разных периодических изданиях, под разными псевдонимами и представить их по хронологии материала. К большому сожалению, в этот свод не попали две его важные статьи, отправленные в «Современник», но пропавшие из-за цензурных рогаток, приостановки журнала и ареста Чернышевского в 1862 г.[440]
Одна из них – о братьях-венецианцах Бандьера, зачинателях Рисорджименто, высадившихся в Калабрии в 1844 г. с целью поднятия революции, схваченных и казненных. Она могла бы идеальным образом открыть наш сборник, теперь начинающийся позднее – 1848 годом, правда, тоже с венецианскими героями. Другая утраченная статья – о Мадзини – стала бы фундаментальной для воссоздания облика этого патриота-радикала, вдохновлявшего на жертвенные подвиги, схожие с описанными в романе Э.-Л. Войнич «Овод», популярном в России (и неизвестном в Италии)[441]. Однако пропажа этого очерка компенсируется той настойчивостью, с которой Мечников обращается к фигуре Мадзини – достаточно посмотреть именной указатель.
К галерее Рисорджименто мы добавили еще один текст, стоящий несколько особняком – мемуарный очерк о Бакунине во Флоренции, так как и по эпохе (1864 г.), и некоторым персонажам (в первую очередь, Гарибальди) он все-таки примыкает к основному корпусу.
Подготовка текстов представляла немало трудностей. Автор находился в эмиграции и не мог выверять свои журнальные публикации в
России; редактора и наборщики его рукописей вносили свои ошибки. Характерный пример: немало сил было потрачено на идентификацию персонажа с абсолютно невозможной фамилией – Пфианеллу; в итоге достоверно установлено, что им был Джанелли. Ряд топонимов и имен, вероятно, и сам Мечников фиксировал в искаженном виде, «на слух», и мы постарались их выправить. Кроме того, мы решились на современную транскрипцию итальянских слов (к примеру, теперь Джованни, вместо Джиованни и т. п.) и на отказ от русификации личных имен (Даниеле вместо Даниил и т. п.). Орфография также приведена к современной.
Сам автор не придумал название своему циклу об итальянском движении патриотов. В качестве общего титула мы взяли название первого очерка, хотя считаем нужным лишний раз напомнить, что номинально последним дожем Венеции был Лодовико Манин, сошедший с политической сцены в бесславном 1797 году: Мечников в своей статье о Даниеле Манине, во избежание заблуждения, поставил уточняющий подзаголовок.
Русской публике будет приятно узнать, что благодаря публикаторским и переводческим усилиям профессора Ренато Ризалити, большинство статей нашего сборника уже стали известны публике итальянской («Последний венцианский дож», «Сицилия и г. Криспи», «Гверрацци», «Раттацци», «Капрера», «Аспромонте», «Бакунин в Италии»).
Остается приятная задача поблагодарить людей, оказавших помощь в создании нашей книги. Большой удачей мы считаем привлечение к работе Владимира Евдокимова – биографа и исследователя творчества Мечникова, своими работами фактически вернувшего его имя в обиход российской науки. Для нашего сборника В. Евдокимов подготовил воспоминания о Бакунине, предварив их заметкой. Сицилийскую часть сборника просмотрела и прокомментировала жительница Сицилии журналистка Елена Ослина, которая увлеклась фигурой Мечникова при написании рецензии на его «Записки гарибальдийца»[442].
Михаил Талалай
Милан, март 2017 г.
Примечания
1
Brando (архаичн. итал.) – меч.
(обратно)2
Автор дает русифицированное имя Даниил, которое нами заменено на оригинальное итальянское (Daniele). – Здесь и далее прим. М. Г. Талалая.
(обратно)3
<Община> «тощего народа» – здесь и далее: итал., за исключением особо указанных случаев.
(обратно)4
Совр. общепринятый перевод Maggior Consiglio – Большой Совет, хотя употребляемый Мечниковым перевод «Великий Совет» нам представляется более точным (maggior – старший, важный, главный, высший).
(обратно)5
Марино Фальеро (Faliero, венециан.: Falier;; 1274–1355), 55-й дож Венецианской республики. Его попытка монополизировать власть была жестко пресечена, он был казнен, а его имя внутри Дворца дожей было сбито и заменено латинской надписью: «На этом месте было имя Марино Фальера, обезглавленного за совершенные преступления».
(обратно)6
Филиппо Календарио (Calendario, иначе Calandario) – венецианский архитектор и судостроитель; казнен в 1355 г. как соучастник дожа Фальеро (однако, он не был его зятем).
(обратно)7
Лодовико-Джованни Мании (Manin; 1725–1802) – 120-й и последний венецианский дож.
(обратно)8
Мирный договор между Францией и Австрией, подписанный 18 октября 1797 г. близ городка Сатро Formio.
(обратно)9
Procuratie Vecchie – административное здание («присутственные места») на площади св. Марка, с 50-ми портиками.
(обратно)10
Пьетро Буратти (в оригинале: Бурати) (Buratti; 1772–1832) – итальянский поэт, сын болонского банкира и голландки, родился в Венеции, где решил и остаться, хотя его семья после падения Республики в 1797 г. вернулась в Болонью.
(обратно)11
Ладзарони, иначе лаццарони – неаполитанский плебс, люмпен-пролетариат, со своей ярко выраженной идентичностью (по имени св. Лазаря – покровителя бедных и больных; ер. выражение «петь лазаря»).
(обратно)12
Куплеты П. Буратти приобрели популярность: в разных местностях Италии и в разные эпохи возникали их варианты на злобу дня.
(обратно)13
Разделяй и властвуй (лат.).
(обратно)14
Сильвио Пеллико (Pellico; 1789–1854) – деятель Рисорджименто.
(обратно)15
Piazzetta Sam Marco, часть площади св. Марка, выходящая к Лагуне.
(обратно)16
«Прощай, Сильвио!».
(обратно)17
Алессандро Манцони (Manzoni; 1785–1873) – миланский литератор-патриот, «властитель дум» первой половины XIX в.
(обратно)18
Винченцо Монти (Monti; 1754–1828) – миланский литератор, поклонник Наполеона, однако после его падения – деятельный сторонник австрийского правления.
(обратно)19
Витторе Бензоне, иначе Бенцоне (Benzone; 1779–1822) – литератор-романтик.
(обратно)20
Луиджи Каррер (Carrer; 1801–1850) – венецианский поэт, журналист и издатель.
(обратно)21
Паоло Сарпи (Sarpi; 1552–1623) – венецианский монах, богослов и ученый.
(обратно)22
Джованни-Франческо Сагредо (Sagredo; 1571–1620) – венецианский физик.
(обратно)23
Эммануэле-Антонио Чиконья (Cicogna; 1789–1868) – венецианский филолог-эрудит.
(обратно)24
Все силы вместе (лат.).
(обратно)25
Амилькаре Паулуччи (в оригинале: Паолуччи) (Paulucci delle Roncole; 1773–1845) – итальянский адмирал на австрийской службе.
(обратно)26
Эрцгерцог Фридрих-Фердинанд-Леопольд Габсбург (1821–1847) – командующий австрийским флотом.
(обратно)27
Джованни Маринович (Marinovich; fl848) – венецианский капитан в звании полковника, убит во время антиавстрийского восстания.
(обратно)28
Уго Фосколо (Foscolo; 1778–1827), Никколо Томмазео (Tommaseo; 1802–1874) – итальянские литераторы-патриоты.
(обратно)29
Джузеппе Мадзини (Mazzini; 1805–1872) – мыслитель, публицист, вождь патриотов республиканского толка. Автор употребляет устаревшую транслитерацию Маццини, замененную нами на принятую совр. Мадзини.
(обратно)30
Чиро Менотти (Menotti; 1798–1831) – итальянский патриот; казнен австрийцами.
(обратно)31
Аттилио Бандьера, иначе Бандиера (.Bandiera; 1810–1844), Эмилио Бандьера (1819–1844) – два брата, родом из Венеции, предпринявшие неудачную попытку поднять антибурбонское восстание, были казнены в Калабрии. Л. Мечников посвятил им отдельную статью, посланную Н. Некрасову в «Современник» (принятую в № 3, 1863), но запрещенную цензурой.
(обратно)32
Габриеле Пепе (Рере; 1779–1849) – итальянский патриот.
(обратно)33
О Чезаре Бальбо см. ниже специальный очерк Л. Мечникова.
(обратно)34
Винченцо Джоберти (Gioberti; 1801–1852) – священник, мыслитель, деятель Рисорджименто.
(обратно)35
Устаревшее: хорваты.
(обратно)36
Чезаре Канту (Cantir, 1804–1895) – литератор, историк, политик.
(обратно)37
Карло Каттанео (Cattaneo; 1801–1869) – литератор, политик.
(обратно)38
Джованни-Баттиста Надзари (Nazari; 1791–1871) – политик.
(обратно)39
Да здравствует Пий IX! Смерть немцам!
(обратно)40
Canareggio – один из шести исторических районов Венеции.
(обратно)41
Граф Йозеф Радецкий (1766–1858) – австрийский военачальник и государственный деятель, чешского происхождения.
(обратно)42
Австрийская политическая тюрьма, находившаяся в Брно.
(обратно)43
Густаво Модена (Modena; 1803–1861) – актер и деятель Рисорджименто.
(обратно)44
Итальянизм: poliziotti – полицейские.
(обратно)45
Фанни Черрито (настоящее имя: Francesca Teresa Giuseppa Raffaela Cerrito', 1817–1909) – популярная балерина.
(обратно)46
Граф Алоизий Пальффи (Palffy), венгерского происхождения.
(обратно)47
Итальянизм: facchino – носильщик.
(обратно)48
Простолюдин.
(обратно)49
Генрих-Вильгельм Штиглиц (Stieglitz; 1801–1849) – немецкий поэт-романтик, последние годы жизни провел в Италии, умер в Венеции.
(обратно)50
Cinque Giornate – народное антиавстрийское восстание в Милане, с 18 по 22 марта 1848 г., закончившееся временной победой итальянских патриотов.
(обратно)51
Леоне Грациани (Graziani; 1791–1852) – венецианский военный моряк.
(обратно)52
Да здравствует наш старый св. Марк!
(обратно)53
Фердинанд Зичи (Zichy; 1783–1862) – австрийский государственный деятель, венгерского происхождения. После венецианских событий был приговорен в Вене к пожизненному заключению, затем помилован.
(обратно)54
Прозвание патриотического выступления весной 1282 г. на Сицилии против иноземцев (французов).
(обратно)55
Карл-Альберт Савойский (1798–1849) – король Сардинского королевства, с 1831 г.
(обратно)56
Альфонс де Ламартин (полное имя: Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine', 1790-1869) – французский поэт и политический деятель.
(обратно)57
Альфонсо Ла Мармора (La Marmora', 1804–1878) – политический и военный деятель Рисорджименто; командовал пьемонтской армией в Крымской войне.
(обратно)58
Пьетро Палеокапа (Paleocapa; 1788–1869) – инженер, ученый, политик.
(обратно)59
Карло Поэрио (Poerio; 1803–1867) – политический деятель Рисорджименто.
(обратно)60
Раффаэле де Коза (de Cosa; 1778–1856) – неаполитанский флотоводец.
(обратно)61
Джованни Дурандо (Durando; 1804–1869) – военный деятель Рисорджименто, брат политика Джакомо Дурандо.
(обратно)62
Лаваль Нугент фон Вестмет (1777–1862); Людвиг фон Вельден (1780–1853) (в оригинале: Нуджент и Фельден) – австрийские военачальники.
(обратно)63
Гарибальди; о нем Л. Мечников много рассказывает в своих «Записках гарибальдийца».
(обратно)64
Marghera – селение на материке близ Венеции, в настоящее время часть венецианского муниципального округа.
(обратно)65
«Бог из машины» (лат.); развязка вследствие вмешательства непредвиденного обстоятельства.
(обратно)66
Жюль Бастид (Bastide; 1880–1879) – французский публицист и политик; в 1848 г. министр иностранных дел.
(обратно)67
Генри Пальмерстон (3rd Viscount of Palmerston; 1784–1865) – в описываемое время министр иностранных дел Великобритании.
(обратно)68
Кошут Лайош (Lajos; 1802–1894) – венгерский журналист, юрист, государственный деятель, глава страны в 1848–1849 гг.
(обратно)69
Т. н. перемирие Саласко было заключено между пьемонтцами и австрийцами 9 августа 1848 г. Оно названо не по пьемонтскому селению Саласко (как это у автора), а по имени пьемонтского генерала графа Карло Канера ди Соласко, подписавшего договор.
(обратно)70
Сокрушительное поражение пьемонтцев от австрийцев, ведомых маршалом Радецким, под Новарой 23 марта 1849 г.
(обратно)71
Да здравствует св. Марк! Смерть австрийцам!
(обратно)72
Юлиус-Якоб фон Гайнау (on Haynau; 1786–1853) – австрийский военачальник.
(обратно)73
Chioggia (Кьоджа) – соседний с Венецией лагунный городок.
(обратно)74
Имеется ввиду высадка гарибальдийской экспедиции Тысячи в сицилийском городе Марсала в 1860 г.
(обратно)75
Черт побери! (дословно: Чертово тело!).
(обратно)76
Постановление это следующего содержания: 15 членов Римского Законодательного собрания, – закрытого вооруженной силой, – собравшись на каком-нибудь уголке свободной итальянской территории, имеют право созвать снова Итальянское Законодательное собрание и все постановления этого нового собрания должны быть признаны законными, если одобрены не менее как 50 членами. – Прим, автора.
(обратно)77
Лодовико Паллавичино-Мосси (Pallavicino Mossi\ 1803–1879) – государственный деятель.
(обратно)78
То есть Крымской войны.
(обратно)79
В 1859 г. шла Австро-итало-французская война, известная в Италии как Вторая война за независимость Италии, в Австрии как Сардинская война, во Франции как Итальянская кампания, или Война в Италии – военный конфликт между Францией и Сардинским королевством с одной стороны и Австрийской империей с другой.
(обратно)80
Итальянизм: abbozzatore – подмастерье, готовящий эскизы (abbozzo) для маэстро.
(обратно)81
Кони.
(обратно)82
Беттино Риказоли, но в соответствии с тосканским произношением – Рикасоли, как теперь и принято транслитерировать) (Ricasoli; 1809–1880) – политический деятель (дважды премьер-министр объединенной Италии), после упразднения Великого герцогства Тосканского в 1859 г. – генерал-губернатор Тосканы, назначенный королем Виктором-Эммануилом П.
(обратно)83
Урбано Раттацци (в тексте: Ратацци) (Rattazzi; 1808–1873) – итальянский политик и государственный деятель, дважды избирался премьер-министром Италии.
(обратно)84
Именно так все и произошло при перенесении праха Даниеле Манина в Венецию 22 марта 1868 г. и при его погребении в базилике св. Марка (сначала внутри храма, затем – у северной стены, слева от входа).
(обратно)85
Опубликовано в журнале «Современник», № 3–4, 1862.
(обратно)86
Патриотические движения в герцогствах Модены и Пармы и в центральных провинциях Италии («Романьях»), находившихся в составе Папского государства. Направленные на установление республиканского правления, были подавлены с помощью Австрии. Герцог Моденский Франциск (Франческо) IV казнил вождей движения Чиро Менотти и Винченцо Борелли.
(обратно)87
Джузеппе Феррари (Ferrari; 1811–1876) – философ, историк, политик.
(обратно)88
Джузеппе Джусти (Giusti; 1809–1850), поэт-сатирик; Л. Мечников посвятил ему очерк «О Джузеппе Джусти» (Русское слово, №№ 1 и 3, 1864)
(обратно)89
Джакомо Леопарди (Leopardi', 1798–1837) – поэт-романтик, философ.
(обратно)90
Иначе Гуэррацци (Francesco Domenico Guerrazzi; 1804–1873).
(обратно)91
Гверраци родился в Ливорно (12 августа 1804 г.).
(обратно)92
Карло Бини (Вini; 1806–1842) – литератор, после смерти любимой женщины впал в фатальную депрессию, что вызвало резкую посмертную критику со стороны Гверраци.
(обратно)93
Карло Бини скончался в Карраре, где был по делам семейной торговли.
(обратно)94
«Антология» Дж.-П. Вьёссё, флорентийского либерального деятеля швейцарского происхождения.
(обратно)95
Официальной причиной ссылки была ода Гверраци в честь Козимо Дель Фанте, итальянского офицера, выходца из Ливорно. Поклонник Наполеона, Дель Фанте записался добровольцем во французскую армию и погиб (16 ноября 1812 г.) при ее отступлении из России.
(обратно)96
«Assedio di Firenze» – центральное произведение Гверраци; опубликовано в 1836 г. в Париже под псевдонимом.
(обратно)97
Франсуа-Пьер-Гийом Гизо (Guizot; 1787–1874) – французский историк и политик.
(обратно)98
Виктор Кузен (Cousin; 1792–1867) – французский философ, историк.
(обратно)99
Луи-Филипп Орлеанский, «король французов» с 1830 по 1848 г.
(обратно)100
«Storia di cento anni 1750–1850» – историческое сочинений Ч. Канту, опубликованное в 1851 г.
(обратно)101
Массимо д’Адзелио, иначе д’Азелио (d’Azeglio; 1798–1866) – писатель, художник, государственный деятель.
(обратно)102
«La battaglia di Benevento» – исторический роман, опубликованный в 1827 г., и посвященный итальянской истории XIII в., военно-политическому конфликту между Карлом Анжуйским и Манфредом Швабским (Сицилийским) и итоговой битвой 1266 г.
(обратно)103
«Белые и черные» – драма Гверраци, написанная в середине 1820-х гг.
(обратно)104
«Растрепанная школа» (франц.), поэтическое направление 1820-1830-х гг.
(обратно)105
Пьетро Коллетта (Colletta; 1775–1831), неаполитанский общественный деятель, историк, жил в изгнании в Тоскане.
(обратно)106
Синьория – орган самоуправления.
(обратно)107
Неважно!
(обратно)108
Писатель продолжал участвовать в политической жизни Тосканы, но в последние годы посвятил себя преимущественно литературному труду. Скончался 23 сентября 1873 г. на своей ферме близ г. Чечина.
(обратно)109
Опубликовано в журнале «Современник», №№ 5 и 10, 1864.
(обратно)110
Точная цитата из пьесы:
Анучкин. А как, позвольте узнать, Сицилия… вот вы изволили сказать: Сицилия, – хорошая это земля Сицилия?
Жевакин. А, прекрасная!
(обратно)111
Константин Иванович Арсеньев (1789–1865) – историк и географ; Александр Григорьевич Ободовский (1796–1852) – педагог и географ.
(обратно)112
Остросюжетный роман Жорж Санд, опубликованный в 1847 г.
(обратно)113
Тринакрия – древнегреческое название Сицилии: остров с тремя мысами.
(обратно)114
Марко Мингетти (Minghetti; 1818–1886) – политик и дипломат.
(обратно)115
Франческо Криспи (Crispi; 1818–1901, Неаполь) – политик и государственный деятель сицилийского происхождения, дважды возглавлял кабинет министров Италии.
(обратно)116
Итальянизм: votazione – голосование.
(обратно)117
Алессандро делла Ровере (della Rovere; 1815–1864) – генерал, политик, деятель Рисорджименто, в 1861 г. – наместник короля Виктора-Эммануила II. У автора, по всему тексту, неточно: Делла-Ровера.
(обратно)118
Имеется ввиду итальянское соответствие – moderate? название умеренного политического крыла в объединительном движении.
(обратно)119
Агостино Бертани (Bertani; 1812–1886) – врач и революционер-гарибальдиец, один из организаторов похода Тысячи в 1860 г. (упомянут Мечниковым в «Записках гарибальдийца»).
(обратно)120
В «Записках гарибальдийца» автор приводит свою обстоятельную беседу со священником Арриго Кукурулло; см. издание 2016 г., с. 27–29.
(обратно)121
Имеется ввиду факт передачи Франции Ниццы, родного города Гарибальди, в 1860 г.
(обратно)122
Выражение из басни И. А. Крылова «Тришкин кафтан» (1815).
(обратно)123
Луций Квинкций Цинциннат – римский патриций (V в. до и. э.), военачальник, удалившийся в деревню.
(обратно)124
Св. Розалия – отшельница XII в., жившая близ Палермо и прославленная как небесная покровительница Палермо и всей Сицилии.
(обратно)125
Герой греческих мифов; стал нарицательным именем человека, охотно видящего у себя гостей – после одноименной пьесы Мольера (1668).
(обратно)126
Матвей Николаевич Протопопов (1795–1858) – профессор философии.
(обратно)127
От слова popolo (народ) – здесь: пополаны, представители торгово-ремесленных слоев.
(обратно)128
Итальянизм: vetturino – извозчик.
(обратно)129
Да здравствует единая Италия и Гарибальди! Теперь мы все братья, – дайте мне грош. – Прим, автора.
(обратно)130
Правильнее: аспрингю, в то время как асприно – сорт винограда.
(обратно)131
Т.е. папа римский.
(обратно)132
Мекленбург-Стрелиц – одно из германских герцогств-государств, существовавшее в период с 1701 до 1918 г., с господствующей протестантской религией.
(обратно)133
Джованни-Баттиста Джорджини (Giorgini; 1818–1908) – ученый-юрист, политик.
(обратно)134
Речь идет о брошюре «La Centralizzazione: i decreti di ottobre e le leggi amministrative [Централизация: октябрьские декреты и административные законы]» (Firenze, 1861).
(обратно)135
Крепость в Мессине была построена испанцами на узком полуострове Сан-Ренери для защиты порта и контроля над городом. Гарнизон крепости сдался лишь после длительной осады гарибальдийцами 12 марта 1861 г. После объединения Италии крепость была почти вся разрушена. – Прим. Е. А. Ослиной.
(обратно)136
Теперь преступлено к исполнению. – Прим, редакции журнала «Современная летопись».
(обратно)137
Гвардия охраны.
(обратно)138
Итальянизм: sbirro – полицейский стражник, сыщик (презр.).
(обратно)139
Итальянизм: padrone – хозяин.
(обратно)140
Казимир Лефоше (Lefauchet) и Клод-Этьенн Минье (Minie) – французские оружейники середины XIX в.
(обратно)141
Барон Джачинто Толозано (Tholosano) – адвокат, префект Катании в 1861–1863 гг.
(обратно)142
Имеется в виду премьер-министр Беттино Рикасоли.
(обратно)143
Caltanissetta (Кальтаниссета) – город в центральной Сицилии.
(обратно)144
Совр. Кастелламмаре-дель-Гольфо, город в провинции Трапани, к западу от Палермо. В январе 1862 г. в нем произошло выступление против новых пьемонтских властей, жестоко подавленное правительственным военно-морским десантом.
(обратно)145
В настоящее время – Сад имени Гарибальди, Giardino Garibaldi.
(обратно)146
Опубликовано в журнале «Современная летопись», №№ 4–5, 1862.
(обратно)147
«Политическая литература в Италии» («Дело», №№ 5–6, 1872).
(обратно)148
Марчелло Мальпиги (,Malpighi; 1628–1694) – врач, биолог; Луиджи Гальвани (Galvani; 1737–1798) – врач, физиолог, физик; Алессандро Вольта (Volta; 1745–1827) – физиолог, физик.
(обратно)149
Чезаре Беккариа (Beccaria; 1738–1794) – мыслитель, правовед и общественный деятель.
(обратно)150
В стиле [Александра] Дюма (франц.).
(обратно)151
«Итальянейший».
(обратно)152
Cesare Balbo (Турин, 21.11.1789 – там же, 3.6.1853). У автора дана русифицированная форма имени Cesare – Цезарь, нами измененная на итальянский оригинал.
(обратно)153
Пара (франц.).
(обратно)154
См. записки графа Чезаре Бальбо и некоторые из его предисловий. – Прим, автора.
Вероятно, Л. Мечников имеет ввиду текст «Vita di Cesare Balbo scritta da lui medesimo [Жизнь Чезаре Бальбо, им самим написанная]», вошедший в состав: Della vita е degli scritti del conte Cesare Balbo / a cura di E. Ricotti. Firenze: Le Monnier, 1856.
(обратно)155
Виктор-Эммануил I (1759–1824) – король Сардинского королевства в 1802–1821 гг.
(обратно)156
Карл-Феликс Савойский (1765–1831) – сардинский король в 1821–1831 гг.
(обратно)157
Карл-Альберт Савойский (1798–1849) – сардинский король в 1831–1849 гг.; взошел на трон после смерти своего кузена Карла-Феликса.
(обратно)158
Слышь, дядя, что испанцам нужно? / – Сынок, они уж не хотят, / Чтоб Фердинанд, король недужный, / Их вешал, как слепых котят. / А мы к монахам черным / На выручку спешим / И ядовитым зернам / Взойти у нас дадим… («Новый приказ», пер. Б. Лившица – см. Беранже П.-Ж. Песни. М., Художественная литература, 1976).
(обратно)159
Предисловие к «Итальянской истории», лозанское изд. 1846 г. – Прим. автора.
(обратно)160
В 1821 г. (у автора – неточно: 1820) 23-летний регент Карл-Альберт совершил попытку конституциональных реформ, по типу Испанской конституции 1812 г.
(обратно)161
Битва за форт Трокадеро, близ Кадикса, состоялась в 1823 г., когда французские войска подавили выступление испанских либералов-конституционалистов ради восстановления в Испании абсолютной монархии.
(обратно)162
Св. Тереза Авильская (1515–1582) – испанская монахиня-кармелитка, автор мистических текстов; аббат Фелисите Робер де Ламенне (1782–1854) – французский мыслитель, один из основоположников христианского социализма; Франсуа-Пьер-Гийом Гизо – см. прим. 95.
(обратно)163
Правильно: Porro unum est necesarium – латинский перевод фразы из Евангелия от Луки (10:42), «одно только нужно».
(обратно)164
«Les opinions se decouvrent jusque dans les dates et les virgules». – Прим, автора.
(обратно)165
Предисловие к первому изданию в «Народной энциклопедии» Буонамичи. – Прим, автора.
(обратно)166
Франсуа-Огюст Минье (Mignet; 1796–1884) – французский историк-либерал; Жак-Бенинь Боссюэ, устар. Боссюэт (Bossuet; 1627–1704) – французский проповедник и богослов.
(обратно)167
В битве при Леньяно в 1176 г. Ломбардская лига остановила германскую агрессию.
(обратно)168
Последний довод (лат).
(обратно)169
Анджело Брофферио (Brofferio; 1802–1866) – поэт и общественный деятель; Санторре ди Сантароза (Santarosa; 1783–1825) – революционер-патриот.
(обратно)170
Тем самым (лат.).
(обратно)171
Гл. X, стр. 153, пят. изд. – Прим, автора.
(обратно)172
Si concedano tanti beni ai popoli, che il dominatore straniero perda ogni nerbo, sin che la providenza non conduca il tempo di farbi abbandonare Г Italia compensandolo concquisti sulla Turchia. – Прим, автора.
(обратно)173
Битва 30 апреля 1848 г. близ Вероны между пьемонтцами и австрийцами, закончившаяся победой первых.
(обратно)174
Опубликовано в журнале «Дело», № 12, 1872.
(обратно)175
То есть Сардинского королевства (не острова).
(обратно)176
Парламент Сардинского королевства, действовавший в Турине в 1848–1861 гг.
(обратно)177
Пьер-Диониджи Пинелли (Pinelli; 1804–1852) – пьемонтский политический деятель.
(обратно)178
См. прим, на с. 52.
(обратно)179
Джакомо Дурандо (Durando; 1807–1894) – генерал, политический деятель, брат Джованни Дурандо (см. прим, на с. 44).
(обратно)180
Доменико Буффа (Buffa\ 1818–1858) – пьемонтский писатель и политический деятель.
(обратно)181
Джузеппе Дабормида (Dabormida; 1799–1869) – пьемонтский военный и государственный деятель.
(обратно)182
Клаудио Габриеле де Лоне (de Launay; 1786–1850) – в 1849 г. министр иностранных дел, затем президент совета министров.
(обратно)183
Италия сделает сама.
(обратно)184
Луи-Наполеон Бонапарт, позднее император Наполеон III.
(обратно)185
Джованни Де Фореста (De Foresta; 1799–1872) – адвокат, государственный деятель Сардинского королевства.
(обратно)186
Луиджи-Федерико Менабреа (Menabrea; 1809–1896) – военный инженер, дипломат, политик.
(обратно)187
Перемирие, заключенное в Виллафранке близ Вероны 11 июля 1859 г. в ходе австро-итало-французской войны, после поражения австрийцев в битве под Сольферино.
(обратно)188
Парижские газеты.
(обратно)189
Опубликовано в журнале «Современная летопись», №№ 14 и 16, 1862.
(обратно)190
Итальянизм: forestiero – иностранец, чужеземец.
(обратно)191
Впечатления о поездке на Капреру к Гарибальди (не без ироничных пассажей в отношении его поклонников) автор изложил в своем очерке «М. А. Бакунин в Италии в 1864 году» – см. ниже.
(обратно)192
На неаполитанском Палаццо Ангри водружена мемориальная доска; о пребывании в нем Гарибальди см. «Записки гарибальдийца» Мечникова, издание 2016 г., с. 33–34.
(обратно)193
На Капрере после кончины Гарибальди был учрежден Национальный мемориальный музей.
(обратно)194
Многие биографические сведения о Гарибальди автор изложил в своих «Записках га-
(обратно)195
в оригинале неточно: Беми) (Bassi; 1801–1849) – священник, патриот, участник выступлений против австрийцев.
(обратно)196
Партизан (в испаноязычной традиции).
(обратно)197
Тереза Гарибальди (Монтевидео, 1845 – Капрера, 1903). В 16 лет вышла замуж за гарибальдийца Стефано Канцио.
(обратно)198
Итальянизм: tedesco – немец (здесь имеются в виду австрийцы).
(обратно)199
Одна Италия с Виктором-Эммануилом.
(обратно)200
В предыдущих статьях Мечников употребляет транслитерацию Риказоли, однако Рикасоли – ближе к тосканскому произношению и теперь считается нормой.
(обратно)201
Энрико Чальдини (Cialdini; 1811–1892) – военный и политический деятель Рисорджименто; 22 апреля 1861 г. опубликовал в газете «Gazzetta di Torino» открытое резкокритическое письмо к Гарибальди, получив затем от него взвешенную и убедительную отповедь.
(обратно)202
Более подробно личные впечатления от встреч с Гарибальди автор излагает в «Записках гарибальдийца».
(обратно)203
Идущие на смерть приветствуют тебя (лат.).
(обратно)204
Свободная церковь в свободном государстве.
(обратно)205
Мы не можем (лат.)', начало фразы из Деяний апостолов (4:20) «Мы не можем [не говорить того, что видели и слышали]»; употреблялось папой Пием IX в ответ на призывы отказаться от государственной власти в Папской области ради объединения Италии.
(обратно)206
Шарль-Жан-Мари-Феликс Ла Валетт (La Valette\ 1806–1881), маркиз – французский дипломат; в описываемую эпоху – посол в Папском государстве.
(обратно)207
Пьетро Бастоджи (Bastogi; 1808–1899) – финансист, промышленник, политик.
(обратно)208
Парафраз латинской пословицы: fiat justitia et pereat mundus – правосудие должно совершиться, хотя бы погиб мир.
(обратно)209
Карло Пассалья (Passaglia; 1812–1887) – священник, теолог, общественный деятель, поборник объединения Италия; за призывы к папе отказаться от земной власти был исключен из Ордена Иисуса.
(обратно)210
Франческо Ливерани (Liverani; 1823–1894) – аббат, автор ряда либеральных церковнополитических трактатов.
(обратно)211
«Каков прелат – не велик, но говорит как Марсельеза» (франц.).
(обратно)212
Отстранение от священнических обязанностей (лат).
(обратно)213
Анри-Огюст-Дюверже, маркиз Ларошжаклен (.Larochejaquelein; 1805–1867) – сенатор Франции при Наполеоне III.
(обратно)214
Байокко (baiocco) – мелкая серебряная монета, бывшая в употреблении преимущественно в Папском государстве.
(обратно)215
Вероятно, речь идет об эпиграфе к роману: «Людей страшат не дела, а лишь мнения об этих делах» (хотя фраза приписывается греческому мудрецу Эпиктету).
(обратно)216
Джованни Никотера (Nicotera; 1828–1894), полковник. В объединенной Италии был несколько сроков депутатом парламента, министром внутренних дел. В 1860 г. командовал вспомогательным отрядом гарибальдийцев, который он, согласно замыслу Дж. Мадзини, создавал в Касте ль-Пульни близ Флоренции. В этот отряд в мае 1860 г. вступил Мечников и совершил с ним плавание на Сицилию и оттуда в бухту Сапри, на Аппенинском полуострове.
(обратно)217
Нино Биксио (Bixio; 1821–1873) – генерал, один из сподвижников Гарибальди. Мечников о нем подробно пишет в своих «Записках гарибальдийца».
(обратно)218
Анна Радклиф (Radcliffe; 1764–1823) – английская писательница, родоначальница «готического» романного жанра (в оригинале: Ратклиф).
(обратно)219
Итальянизм: sicario – наемный убийца.
(обратно)220
Кинжал (лат.).
(обратно)221
Rocca Sillana – замок, построенный в XII в. (совр. провинция Пизы).
(обратно)222
Монтечерболи – предместье коммуны Помаранче, на землях которой расположен таж-ке замок Рокка-Силлана.
(обратно)223
Совр. тосканский город Монтеротондо-Марритимо.
(обратно)224
«О природе вещей» (лат.).
(обратно)225
Место такое близ Кум существует, где серою острой / Горы обильно дымят и горячих источников полны (лат) – перевод Ф.А. Петровского.
(обратно)226
Алессандро Маркетти (Marchetti; 1633–1714) – филолог и поэт.
(обратно)227
«Сиенская земля» (франц.), лучший сорт охры.
(обратно)228
Василий Козьмич Шебуев (1777–1855) и Алексей Егорович Егоров (1776–1851) – художники-академисты.
(обратно)229
Луиджи-Карло Фарини (Farini; 1812–1866); Либорио Романо (Romano; 1793–1867) – политические деятели, патриоты.
(обратно)230
Итальянское освободительное общество.
(обратно)231
Федерико Кампанелла (Campanella; 1804–1884) – патриот, последователь Мадзини.
(обратно)232
После речи Кампанеллы. – Прим, автора.
(обратно)233
Опубликовано в журнале «Современник», №№ 3–4, 1862.
(обратно)234
Рим или смерть.
(обратно)235
Дворец, построенный в XIV веке на площади Пьяцца Претория в Палермо.
(обратно)236
Джованни Коррао (Corrao; 1822–1863) – сподвижник Гарибальди; убит неизвестными лицами в родном Палермо.
(обратно)237
Итальянизм: plebiscite* (произносится «плебишито») – плебисцит.
(обратно)238
Ficuzza – селение близ Монреале (в оригинале неточно: Фиккуца).
(обратно)239
Пьер-Карло Боджо (Boggio; 1827–1866) – патриот, журналист, общественный деятель.
(обратно)240
Джорджо-Гвидо Паллавичино-Тривульцио (Pallavicino Trivulzio; 1796–1878) – патриот, государственный деятель.
(обратно)241
По собственной инициативе (лат.).
(обратно)242
Итальянизм: intimazione – предписание.
(обратно)243
Территория у моста Ponte delle Teste mozze («Мост отрубленных голов»), соединяющего две стороны протяженной улицы Палермо Corso dei Mille, расположенный рядом с церковью Madonna del Fiume. – Прим. Е. А. Ослиной.
(обратно)244
Misilmeri’, Piana (degli Albanesi) – соседние селения с Палермо.
(обратно)245
Real Casina di Caccia di Ficuzza – летняя резиденция неаполитанского королевского двора, построенная в 1799 г. для охоты в лесах природного парка Фикуццы. – Прим. Е. А. Ослиной.
(обратно)246
Республиканское правление в Неаполе в 1799 г., свергнувшее короля Фердинанда IV Неаполитанского (он же позднее Фердинанд I, король Обеих Сицилий).
(обратно)247
Джузеппе Бентивенья (Bentivegna), Карло Трасселли (Trasselli), Джузеппе Бадиа (Badia) – офицеры-гарибальдийцы.
(обратно)248
Джузеппе Гуэрцони (Guerzoni; 1835–1886) – гарибальдиец, писатель и биограф Дж. Гарибальди.
(обратно)249
Франческо Пеллиццари (Pellizzari; 1836–1867) – офицер гарибальдийской армии, политик.
(обратно)250
Джузеппе Миссори (Missori; 1829–1911) – генерал-гарибальдиец (родился в Москве в семье итальянских коммерсантов).
(обратно)251
Кавалеристы полка Guide («Вожатые», иначе «Колонновожатые»), основанного Гарибальди в 1859 г. и инкорпорированного в Королевскую армию в 1866 г.
(обратно)252
Клементе-Джузеппе Корте (в тексте: Кортм) (Corte; 1826–1895) – впоследствии генерал, сенатор Итальянского королевства.
(обратно)253
Джачинто Бруццези (Bruzzesi; 1822–1900) – патриот, сподвижник Гарибальди (в тексте неточно: Бруццезе).
(обратно)254
Густаво Фриджерио (Frigerio, или Frigyesi); Энрико Каироли, иначе Кайроли (Cairoli; 1840–1867); Джузеппе Нуволари (Nuvolari; 1820–1897); Джованни Никотера (Nicotera; 1828–1894), Руджеро Мауриджи (Maurigi; 1843–1919); Луиджи-Альфонсо Мичели (Miceli; 1824–1906) – сподвижники Гарибальди, деятельные участники Рисорджименто.
(обратно)255
Энрико Гуасталла (Guastalla; 1826–1903) – гарибальдиец, депутат парламента; Франческо Нулло (Nullo; 1826–1863) – патриот, офицер гарибальдийской армии; Федерико Саломоне (Salomone; 1825–1884) – гарибальдиец, депутат парламента.
(обратно)256
Пьетро-Антонио Рипари (Ripari; 1802–1885) – медик, сподвижник Гарибальди, публицист, государственный деятель; Джузеппе Базиле (Basile; 1830–1867) – хирург, сподвижник Гарибальди; Энрико Альбанезе (Albanese; 1834–1889) – хирург, доктор медицины, возглавлял университетскую клинику в Палермо.
(обратно)257
Из Кварто экспедиция Гарибальди отправилась к Марсале в 1860 г. – Прим, автора.
(обратно)258
Мечников цитирует книгу адъютанта Гарибальди, маркиза Р. Мауриджи «Aspromonte: ricordi storico-militari [Аспромонте: военно-исторические воспоминания]» (1862).
(обратно)259
Corleone, Mezzojuso – селения близ Палермо.
(обратно)260
Сиссо (Кукко) – природное укрытие в лесном массиве Фикуццы (Bosco di Ficuzza) – Прим. Е. А. Ослиной.
(обратно)261
Сицилийское: юноша. Во время экспедиции Тысячи так называли юных сицилийцев, примкнувших к Гарибальди.
(обратно)262
В действительности – униатская конфессия, т. к. православные переселенцы с Балкан, преимущественно, албанцы, признали, в конце концов, юрисдикцию Римского папы с сохранением т. н. восточного обряда.
(обратно)263
Герцог Джулио Бенсо делла Вердура (полный титул: Verdura di San Martino; 1816–1904) – сицилийский аристократ, инженер, государственный деятель.
(обратно)264
Эфизио Куджа (Cugia di Sant’Orsola; 1818–1872) – генерал, политик.
(обратно)265
Джованни Панталео (Pantaleo; 1831–1879) – францисканец-минорит, участник экспедиции Тысячи; в 1864 г. оставил монашеский сан. Мечников подробно о нем пишет в «Записках гарибальдийца» (издание 2016 г., с. 104–105).
(обратно)266
Girgenti – старое название Агридженто, центра совр. одноименной провинции и округа в юго-западной Сицилии (в 2016 г. городу было официально вновь присвоено название Джирдженти).
(обратно)267
Франческо Бидискини (Bidischini; 1835–1907) – офицер гарибальдийской армии.
(обратно)268
Доменико Марко (Marco; 1816–1889) – префект Кальтаниссетты, адвокат, политик.
(обратно)269
Да здравствует король!
(обратно)270
Castrogiovanni – так до 1927 г. назывался г. Энна, расположенный в центральной Сицилии.
(обратно)271
Дон Коррадо (Corrado), князь Нишеми и Кастельнуово, герцог дель Аренелла (1838—1903), позднее сенатор.
(обратно)272
«Герцог Генуэзский».
(обратно)273
Полное название: Piazza Armerina.
(обратно)274
Антонио Мордини (Mordini; 1819–1902); Николо Фабрици (Fabrizi; 1804–1885) – гарибальдийцы, политики.
(обратно)275
Чезаре-Франческо Рикотти-Маньяни (Ricotti Magnani; 1822–1917) – генерал и политик, сенатор.
(обратно)276
Джузеппе Поццолини (Pozzolini; 1831–1863) – военный деятель.
(обратно)277
Да здравствует итальянское войско!
(обратно)278
Джованни-Баттиста Каттабени (в тексте: Каттабене) (Cattabeni) – сподвижник Гарибальди.
(обратно)279
«Грозный».
(обратно)280
Valanidi (Валаниди) – река.
(обратно)281
Элиодоро-Иньяцио Ломбарди (Lombardi; 1834–1894) – литератор, воевал с Гарибальди.
(обратно)282
Карло Эбергардт (Eberhardt; род. в 1823 в Венгрии); Джованни Пароккья (Parrocchia) – офицеры пьемонтской армии, участник Рисорджименто.
(обратно)283
Онофрио Ди Бенедетто (Di Benedetto) – гарибальдиец, член Центрального революционного комитета Палермо.
(обратно)284
Барон Сальваторе ди Сан Малато (San Malato; род. в 1838), в детстве получивший прозвище «Турилло», «наказание Божье».
(обратно)285
Да здравствует Виктор-Эммаунил в Капитолии!
(обратно)286
Раненный Гарибальди был помещен в правительственный военный госпиталь в Специи; после излечения (в котором участвовал и Н. И. Пирогов) ему было дозволено вернуться на Капреру. «Реликвии» Аспромонте – простреленный сапог Гарибальди и извлеченная из раны пуля – хранятся в музее Рисорджименто в римском комплексе Витториано.
(обратно)287
Опубликовано в журнале «Современник», № 6, 1863.
(обратно)288
До вхождения Папского государства в состав объединенной Италии Квиринальский дворец служил одной из резиденций римских пап; после того, как в 1870 г. в Вечный город вошли пьемонтские войска и папа Пий IX затворился в Ватикане, Квиринал был избран резиденцией короля Виктора-Эммануила II (засевшую там швейцарскую гвардию прогнали силой).
(обратно)289
Здесь: учитель. Джузеппе Мадзини, в самом деле являлся непреклонным республиканцем.
(обратно)290
Король-джентльмен – прозвание Виктора-Эммануила II.
(обратно)291
Итальянизмы: principi, duchi – князья (также и принцы), герцоги.
(обратно)292
См. прим. 2 на с. 119.
(обратно)293
В действительности – Франческо (IV), герцог Моденский (1779–1846); Фердинандом звали его отца, скончавшегося в 1806 г.
(обратно)294
В 1821 г. Карл-Альберт примкнул было к заговору либералов, желавших установить конституциональную монархию, однако вскоре переметнулся в консервативный стан.
(обратно)295
Граф Чезаре де Салуццо (в тексте: Солюццо) (de Saluzzo; 1778–1853) был назначен в 1831 г. «гувернантом принцев» – Виктора-Эммануила и его брата Фердинанда.
(обратно)296
Ferula – розга, кнут (лат.); иносказательно: строгий надзор.
(обратно)297
Мария-Аделаида (полное имя: Adelheid Franziska Marie Rainera Elisabeth Clotilde; 1822–1855) – до замужества эрцгерцогиня Австрийская.
(обратно)298
То есть вновь вернуться к либеральным, конституциональным убеждениям.
(обратно)299
В марте 1849 г. войска Карла-Альберта были разбиты войсками маршала Радецкого, что принудило короля к отречению от престола.
(обратно)300
Так называемый Альбертинский статут, учреждавший конституционную монархию, просуществовал в объединенном Итальянском королевстве вплоть до 1947 г. (введение республиканского правления).
(обратно)301
Хвостик, косичка; переносно – консерватор, реакционер, ретроград, по прическе роялистов во время Французской революции 1789 г.
(обратно)302
В настоящее время – Лери-Кавур, предместье городка Трино в восточном Пьемонте.
(обратно)303
О Раттацци см. очерк автора в нашем сборнике.
(обратно)304
Схватка между австрийцами и пьемонтцами в июне 1848 г. близ Виченцы.
(обратно)305
2 декабря 1851 г. Людовик-Наполеон Бонапарт, тогда президент Франции, совершил государственный переворот, в результате которого стал «императором французов», с именем Наполеон III.
(обратно)306
Жан-Жильбер-Виктор Фиален, герцог де Персиньи (1808–1872) – французский государственный деятель, с 1852 г. – министр внутренних дел.
(обратно)307
Джузеппе Сиккарди (Siccardi; 1802–1857) – в 1849–1851 гг. министр юстиции Савойского королевства.
(обратно)308
Церковный форум.
(обратно)309
О Чезаре (в тексте: Цезарь) Бальбо см. очерк Л. Мечникова в нашем сборнике.
(обратно)310
Граф Дженова-Джованни Таон ди Ревель (1817–1910) – военный и государственный деятель, участник Крымской войны.
(обратно)311
См. о нем прим. 1 на с. 133.
(обратно)312
Пьетро Де Росси ди Сантароза (1805–1850) – писатель и политик, двоюродный брат патриота Санторре ди Сантароза (см. прим, на с. 116).
(обратно)313
Итальянизм: polenta – кукурузная каша, мамалыга.
(обратно)314
Монченизио – перевал в Альпах.
(обратно)315
Себастьяно Теккьо (Tecchio; 1807–1886) – родом из Венето, находился в Пьемонте в политической эмиграции, в объединенном королевстве занимал видные государственные посты (президент Сената и пр.).
(обратно)316
Союз.
(обратно)317
Имеется в виду Крымская война.
(обратно)318
Граф Карл-Фердинанд фон Буоль-Шауенштейн (von Buol-Schauenstein; 1797–1865) – австрийский дипломат и политик.
(обратно)319
Граф (с 1856 князь) Алексей Федорович Орлов (1787–1862) – государственный деятель, в 1845–1856 гг. шеф жандаром; за успехи на Парижском конгрессе 1856 г. возведен в княжеское достоинство.
(обратно)320
Граф Александр-Флориан-Жозеф Колонна-Валевский (Colonna Walewski; 1810–1868) – французский политик и дипломат, внебрачный сын Наполеона I.
(обратно)321
Джордж-Уильям-Фредерик-Вильерс, граф Кларендон (1800–1870) – британский государственный деятель и дипломат.
(обратно)322
Уничижительное прозвище короля Обеих Сицилий Фердинанда II (после варварской бомбардировки восставшей Мессины в сентябре 1848 г.).
(обратно)323
Витторио-Эмануэле Тапарелли д’Адзелио, иначе д’Азелио (d’Azelio; 1816–1890) – государственный деятель, племянник и крестник Массимо д’Адзелио (поэтому имел прозвание «Минимо»).
(обратно)324
Фердинанд-Максимилиан-Иосиф Габсбург (1832–1867), в 1857–1859 гг. вице-король Ломбардии-Венеции, с 1864 г. – император Мексики под именем Максимилиана I. Расстрелян республиканскими инсургентами.
(обратно)325
Немцами (tedeschi) в Италии называют и австрийцев.
(обратно)326
Феличе Орсини (Orsini; 1819–1858) – итальянский революционер-карбонарий, казнен во Франции после неудачного покушения на Наполеона III.
(обратно)327
Анри (полное имя: Henri-Godefroi-Bernard-Alphonse), князь Латур д’Овернь (La Tour d’Auvergne) (1823–1871) – политик и дипломат (позднее министр иностранных дел) при Наполеоне III.
(обратно)328
Совр. Plombieres-les-Bains – городок в восточной Франции (Лотарингии).
(обратно)329
Принцесса Клотильда Савойская (Maria Clotilde di Savoia; 1843–1911) в 1859 г. была отдана замуж за Наполеона Жозефа (известного как «принц Наполеон»), сына Жерома Бонапарта, согласно воле ее отца и Наполеона III.
(обратно)330
«Императрица французов» Евгения, урожденная Эухения Палафокс (полное имя: Palafox de Guzman Portocarrero у Kirkpatrick, condesa de Teba; 1826–1920) – испанка no происхождению, ревностная католичка, противница ослабления власти римских пап и в целом итальянского Рисорджименто.
(обратно)331
Шарль-Огюст-Жозеф-Луи, граф (позднее герцог) де Морни (<de Моту; 1811–1865) – французский политический деятель и финансист, единоутробный брат Наполеона III.
(обратно)332
Имеется в виду папа римский.
(обратно)333
Джакомо Медичи (Medici; 1817–1882) – сподвижник Гарибальди, военачальник, политик.
(обратно)334
«История цивилизации в Англии» Генри-Томаса Бокля.
(обратно)335
Австрийский посланник в Париже.
(обратно)336
Провинции Папского государства.
(обратно)337
Т. е. великих герцогов Тосканских, принадлежавших к Лотаринской ветви Габсбургов.
(обратно)338
Герцога Модены звали не Фердинанд, а Франческо (Франциск) V, из рода д’Эсте (1819–1875); в 1859 г. бежал из упраздненного герцогства в Австрию с государственной казной.
(обратно)339
Сэр Джеймс Хадсон (sir Hudson; 1810–1885) – дипломат, италофил, британский посол в Турине в 1852–1863 гг.
(обратно)340
Имеется в виду Ницца.
(обратно)341
Итальянизм: villeggiatura – отдых на природе; дачное времяпровождение.
(обратно)342
Граф Федерико Склопис де Салерано (Sclopis de Salerano, 1798–1878) – юрист и государственный деятель, в 1848 г. министр юстиции.
(обратно)343
См., наир., статью: «Victoire-Emmanuel II» в «Revue de France», февр. 1878 г.; также «Le comte Cavour» par Charle de Mazade [Шарль де Мазад, «Граф Кавур», Париж, 1877]. – Прим, автора.
(обратно)344
Условие без которого нет (лат.); т. е. непременное условие.
(обратно)345
Совр. франц. г. Дюнкерк; в 1662 г. цитадель Дюнкерка была уступлена Англией Франции; английское общественное мнение обвинило канцлера графа Эдуарда Кларендона в коррупции.
(обратно)346
«История государственного интереса» (Париж, 1860).
(обратно)347
Граф Леонетто Чиприани (Cipriani; 1812–1888) – корсиканец по происхождению, деятель итальянского Рисорджименто, в 1859 г. генеральный губернатор Романий.
(обратно)348
Руджеро-Габалеоне, граф Сальмур (Gabaleone di Salmour, 1806–1878) – экономист, политик, сенатор Сардинского королевства и Итальянского королевства.
(обратно)349
Сальваторе-Раймондо-Джанлуиджи Пес, маркиз Вилламарина (Pes, marchese di Villamarina; 1808–1877) – дипломат, сардинский сенатор.
(обратно)350
В чаянии, в надежде (лат.).
(обратно)351
В действительности, Фердинанд II был шефом Невского пехотного полка.
(обратно)352
Дословно: мысленная оговорка (франц.).
(обратно)353
Франческо-Саверио Дель Карретто (в тексте: Делькаретто) (Del Carretto; 1777–1861) – министр полиции при Фердинанде II.
(обратно)354
Фердинандо Беневентано дель Боско (Beneventano del Bosco; 1813–1881) – бурбонский генерал, главный военный организатор сопротивления гарибальдийской Тысяче.
(обратно)355
Аджезилао Милано (в тексте: Миланм) (Milano; 1830–1856) – офицер-республиканец; в 1856 г. ранил Фердинанда II штыком и был казнен; король умер по прошествии более двух лет, однако некоторые полагали, что его смерть наступила в результате ранения, от заражения крови.
(обратно)356
Простолюдин, человек из народа.
(обратно)357
См. о братьях Бандьера прим. 1 на с. 16.
(обратно)358
Иоахим Мюрат был казнен 23 октября 1815 г. по решению военного суда – после пресеченной попытки поднять восстание и вернуть себе неаполитанскую корону.
(обратно)359
Луиджи Меркантини (Mercantini; 1821–1872) – поэт-патриот; ниже цитируется его поэма «La spigolatrice di Sapri» (1858): «Eran trecento, eran giovani e forti / E sono morti!» – один из самых знаменитых стихотворных текстов, посвященных Рисорджименто.
(обратно)360
Карло Пеллион, граф Персано (Pellion di Persano\ 1806–1883) – флотоводец, политик; в 1866 г. в битве при о. Лисса (ныне о. Вис) итальянский флот под его командованием потерпел поражение от австрийского.
(обратно)361
Игра слов: bombino – «бомбочка» (сын «короля-бомбы»), но и аллюзия на «бамбино».
(обратно)362
Битвы, проигранные Австрией в 1859 г.
(обратно)363
Лат.\ полностью, без сокращений.
(обратно)364
Светлейший (с 1871) князь Александр Михайлович Горчаков (1798–1883) – глава российского МИД при Александре II.
(обратно)365
Ксавье де Мерод (de Merode\ 1820–1874) – бельгиец по происхождению, архиепископ, сподвижник (военный министр) Пия IX.
(обратно)366
Кристоф-Луи-Леон Жюшо де Ламорисьер (.Juchault de Lamoriciere\ 1806–1865) – французский дивизионный генерал, в 1849 г. – посланник в России, во время переворота, устроенного будущим императором Наполеоном III, в Париже в ночь на 2 декабря 1851 г. был арестован и выслан; эмигрировал в Папское государство.
(обратно)367
Заметим, что в генералу Ламорисьеру в 1860 г. было 54 года.
(обратно)368
Алессандро Нунцианте, герцог Миньяно (Nunziante di Mignano; 1815–1881) – бурбонский генерал; после победы Гарибальди перешел на сторону Пьемонта.
(обратно)369
Джузеппе Ла Фарина (La Farina; 1815–1863) – пьемонтский политик-патриот, писатель.
(обратно)370
Л. Мечников имеет в виду свои «Записки гарибальдийца».
(обратно)371
Манфредо Фанти (Fanti; 1806–1865) – военный и политический деятель объединенной Италии; участник Крымской войны.
(обратно)372
Castelfidardo – селение в совр. провинции Анконы; битва при Кастельфидардо произошла 18 сентября 1860 г.
(обратно)373
Марсель, французский южный порт, в русских текстах XIX в. – существительное женского рода.
(обратно)374
Генри-Джордж Эллиот (Elliot; 1817–1907) – британской дипломат; посланник в Неаполе при дворе Франциска II, поддержавший, однако, экспедицию Тысячи.
(обратно)375
Игольчатая однозарядная винтовка, разработанная французским оружейником Антуаном Шасспо в 1866 г.
(обратно)376
Опубликовано в журнале «Дело», №№ 3–4, 1878.
(обратно)377
Переизданы издательством «Алетейя» в 2016 г.
(обратно)378
Элизе Реклю, полное имя Жак-Элизе Реклю (Reclus; 1830–1905) – французский географ и историк; анархист. Близкий друг и коллега Мечникова.
(обратно)379
Опущена, как это также разъяснено в нашей преамбуле, краткая биографическая справка, составленная В.В. Бурцевым: она им изложена весьма путано и изобилует ошибками, как и послужившая ей образцом биография Льва Ильича, приведенная Э. Реклю в его предисловии к книге Мечникова «La civilisation et les grandes fleuves historiques» (Париж, 1889). – Здесь и далее прим. В. Е. Евдокимова, за исключением особо указанных.
(обратно)380
Гарибальди. – Прим. автора.
Бакунин ездил к Гарибальди с целью привлечь его к восстанию в Польше; однако к тому моменту итало-польский легион был разбит в битве при Кшикавке (5 мая 1863 г.); давний соратник и друг Гарибальди, Франческо Нулло был при этом убит, многих гарибальдицев, попавших в плен, сослали в Сибирь (амнистированы в 1866 г.). В итоге Гарибальди посчитал опасным и даже вредным дальнейшее участие итальянцев в польском выступлении. – Прим. М. Г. Талалая.
(обратно)381
Бакунин говорит в данном случае о себе и своей жене. – Прим, автора.
(обратно)382
Александр Александрович Бакунин (1821–1908) – участник обороны Севастополя во время Крымской войны, художник круга Н. Н. Ге. По возвращению в Россию – активный земский деятель. Сыграл неизвестную, но решающую роль в образовании супружеского союза Льва Ильича Мечникова и Ольги Ростиславовны Скарятиной во Флоренции в 1862 г.
(обратно)383
Квятковской, на которой Бакунин женился еще в Сибири в 1860 г. – Прим, автора. Антонина (Антося) Квятковская – дочь служившего по найму у золотопромышленника Асташева дворянина Ксаверия Квятковского (из Могилевской губ.) и его жены Юлии Михайловны. Вышла замуж, в 17 лет, за Бакунина в Томске в 1858 г.; после его смерти вышла замуж за итальянского адвоката-анархиста Карло Гамбуцци, от которого еще при жизни первого супруга родила детей, официально записанных как Бакунины: Марию, Софию и Карло. Умерла в Неаполе 2 июня 1887 г. – Прим. М. Г. Талалая.
(обратно)384
Так назвал Букунина известный зоолог Эдуард Клапаред, с которым, нисколько лет спустя, я познакомил Бакунина в Cologny близ Женевы. – Прим, автора.
(обратно)385
Западная периферийная зона Флоренции, на правом берегу Арно (дословно: фермы), в настоящее время городская парковая зона «Кашине». – Прим. М. Г. Талалая.
(обратно)386
Джузеппе Дольфи (1818–1869) – видный флорентийский общественный деятель. Мечников умалчивает о том, что Дольфи был также и одним из вождей итальянского масонства. – Прим. М. Г. Талалая.
(обратно)387
Глава народа.
(обратно)388
Автор перечисляет народных вожаков-бунтарей: римлянин Кола ди Риенци, иначе ди Риенцо (1313–1354); неаполитанец Мазаньелло (1623–1647); римлянин Анджело Брунетти, прозванный Чичеруаккио (1800–1849). – Прим. М. Г. Талалая.
(обратно)389
В оригинале – явная опечатка: Vin Lunto.
(обратно)390
О чем смотри у Герцена в посмертных сочинениях. – Прим. В. В. Бурцева.
Ференц Пульский (Pulszky de Cselfalva et Lubocz; 1814–1897), граф – венгерский общественный деятель, революционер, публицист, один из вождей венгерского масонства. – Прим. М. Г. Талалая.
(обратно)391
См. о ней в «Записках гарибальдийца» Мечникова: «Мисс Уайт, жена маркиза Марио, друг Мадзини, горячая партизанка Гарибальди, принимала с давних пор очень деятельное участие в судьбах родины своего мужа. Она, вместе с графиней делла Торре заведовала госпиталями, и ей исключительно обязаны раненые гарибальдийцы теми немногими удобствами и попечениями, которые они находили во время своей болезни. <…> она с редкой добросовестностью выполняла возложенную ею самой на себя обязанность и никогда не увлекалась самолюбием или завистью до того, чтобы забыть тех, на служение кому она обрекла себя» (изд. 2016 г., с. 75–76).
(обратно)392
Заметим, что о тогдашней русской колонии во Флоренции писали также Модестов в своих воспоминаниях в «Историческом Вестнике» и Ге в «Северном Вестнике» за 1895 г. – Прим. В. В. Бурцева.
(обратно)393
Иван Петрович Прянишников (1841–1909) – русский и французский художник, известность которому принесли батальные и жанровые полотна с обязательным изображением лошадей. Участник гарибальдийского похода 1860 г. и черногорско-турецкой войны 1862 г. После путешествий по России и США осел во Франции, жил в Париже, последние 27 лет жизни – в Провансе.
(обратно)394
Пармен Петрович Забелло (1830–1917), скульптор, жил в Италии с 1854 по 1862 г., в том числе во Флоренции, вместе с семьей Н.Н. Ге, которому приходился шурином.
(обратно)395
Николай Николаевич Ге (1831–1894) – русский художник, пенсионер петербургской Академии художеств. Во Флоренции создал прославившую его картину «Тайная вечеря» (1861–1863).
(обратно)396
Николай Дмитриевич Ножин (1841–1866). Биолог-дарвинист, революционный демократ. По возвращении в Россию – один из руководителей ишутинского народнического кружка. О нем подробно писала Е. Л. Рудницкая, со ссылкой на статью Мечникова, в кн. «Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг.» (М., 1962).
(обратно)397
Александр Александрович Серно-Соловьевич (1838–1869) русский революционер, член I Интернационала, с 1862 г. за границей, в Швейцарии. Напряженные семейнобытовые отношения привели его к душевному расстройству. В 1869 г. покончил с собой.
(обратно)398
Григорий Николаевич Вырубов (1843–1913) – русский и французский философ-позитивист, издатель.
(обратно)399
Александр Федорович Стуарт (1842–1917) – русский естествоиспытатель, общественный деятель. Помогал Мечникову организовать канал доставки нелегальной литературы в Россию в 1863 г.
(обратно)400
Николай Степанович Курочкин (1830–1884) – русский поэт. По образованию врач, участник обороны Севастополя во время Крымской войны, служил корабельным врачом в Русском обшестве пароходства и торговли. Вместе с Мечниковым был в 1858 г. в миссии Б.П. Мансурова на Ближнем Востоке.
(обратно)401
Варфоломей Александрович Зайцев (1842–1882) – нигилист-эмигрант, бакунист, русский литературный деятель.
(обратно)402
Если точнее, то Ножина, уже больного, привез к Курочкину Зайцев. Почти сразу же, по совету докторов, Курочкин поместил Ножина в Мариинскую больницу, где тот и скончался.
(обратно)403
Начальные строки «Марсельезы»: «Сыны Отечества вставайте, / Великий, славный день настал!»
(обратно)404
Цитата из поэмы Пушкина «Братья-разбойники».
(обратно)405
Возможно, Фаддей Сарнецкий – помещик Каменецкого уезда Подольской губернии, сосланный ранее, в декабре 1862 г. в Белозерск, а оттуда переведенный в Нижний Хоперск.
(обратно)406
Жонд народовый – Национальное правительство Польши – так назывались руководящие органы польских восстаний в России в XIX в.
(обратно)407
Роза-Людмила Ассинг (Assing; 1821–1880), немецкая писательница, переводчица, художница. Из-за политических преследований и угрозы тюремного заключения эмигрировала в Италию, во Флоренцию, где и скончалась (в оригинале неточно: Хассинг). – Прим. М. Г. Талалая.
(обратно)408
Карл-Август Фарнхаген фон Энзе (1785–1858) – немецкий писатель и критик.
(обратно)409
В оригинале стоит несуществующая фамилия Пфианеллу, однако, вне сомнений, речь идет об последователе Бакунина Андреа Джанелли, иначе Джианелли (Gianelli); сохранилось, к примеру, письмо Бакунина, посланное паре – Джанелли и Ассинг – из Неаполя в ноябре 1865 г. (Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Aut. Marchesa Campori, Coll. 12). – Прим. M. Г. Талалая.
(обратно)410
Точный адрес: via Barbano, 2.
(обратно)411
В дореволюционной орфографии слово карп писалось как карпь. Изменив твердый знак на мягкий автор тем самым ненавязчиво подчеркивает польский акцент Сбышевского.
(обратно)412
Теофил Лапинский (1827–1886) – польский авантюрист, полковник, известен своим пребыванием на Кавказе, где участвовал в войне горцев против Росси в качестве командира польского отряда (Теффик-бей). В 1863 г. возглавлял неудачную высадку польских инсургентов на литовском побережье России.
(обратно)413
Сбышевский, или Збышевский – морской офицер. Жестоко относился к матросам, практиковал кулачную расправу.
(обратно)414
Русского общества пароходства и торговли, РОПиТ.
(обратно)415
В старой орфографии эта мечниковская фраза несет в себе ироничный оттенок, хотя изменение всего одно: «Цифры все говорились крупньш».
(обратно)416
Немец?
(обратно)417
Хорошо.
(обратно)418
Филипп-Туссен-Жозеф Бордон (Bordone; 1821–1892) – французский врач, гарибальдийский генерал, автор воспоминаний о гарибальдийских походах (Париж, 1873).
(обратно)419
Персонально Бордон в опубликованных «Записках» не упомянут, однако автор в целом негативно обрисовал французских волонтеров; см. издание 2016 г., с. 82–84.
(обратно)420
Современное написание – Sampierdarena; с 1926 г. предместье включено в состав Генуи.
(обратно)421
Акилле Сакки (Sacchi; 1827–1890) – врач, гарибальдиец.
(обратно)422
Шандор Телеки (Teleki; 1821–1902) – венгерский граф, гарибальдиец.
(обратно)423
Андреа Сгараллино (в тексте неточно: Сгареллино) (Sgarallino; 1819–1887) – военный моряк, участник движения Мадзини «Молодая Италия», затем гарибальдиец.
(обратно)424
Менотти Гарибальди (1840–1903) – сын Джузеппе Гарибальди, военный и политический деятель, отличился во время экспедиции Тысячи, когда ему было 20 лет. Мечников писал о нем в «Записках гарибальдийца».
(обратно)425
Риччотти Гарибальди (1847–1924) – деятельный участник военных и политических событий Рисорджименто.
(обратно)426
Ее описал и сам Мечников – см. очерк «Капрера» в нашем сборнике.
(обратно)427
Виктор Гюго жил на острове Гернси в Ла-Манше, а не на Уайте.
(обратно)428
Шарль де Рибейроль (1812–1861) – французский публицист.
(обратно)429
«Да, Виктор Гюго – великий человек, но Лойош – великий народ» (франц.).
(обратно)430
Ласкары (от араб, al-askar, страж) – наемные моряки, по происхождению, преимущественно, азиаты.
(обратно)431
Давайте! Спасайтесь! (франц.)
(обратно)432
Об этой морской экспедиции, приготовлявшейся поляками в Средиземное море, в русской литературе говорилось очень мало. Приведем здесь то, что рассказывает об экспедиции графа Сбышевского Герцен в своих посмертных сочинениях (изд. 1871 г., Женева, с. 220).
«В то самое время, как толпа вооруженных поляков, бездна дорогого купленного оружия и Ward Jackson оставались почетными пленниками на берегу Швеции, собиралась экспедиция, снаряженная белыми; она должна была идти через Гибралтарский пролив. Ее вел граф Сбышевский, брат того, который написал замечательную брошюру “La Pologne et la cause de l’ordre”.
Отличный морской офицер, бывший в русской службе, он ее бросил, когда началось восстание, и теперь вел тайно снаряженный пароход в Черное море. Для переговоров он ездил в Турин, чтобы там секретно видеться с начальником тогдашней оппозиции, и между прочим с Мордини.
На другой день после моего свидания с Сбышевским, – рассказывал мне сам Мордини, – вечером, в палате, министр внутренних дел отвел меня в сторону и сказал: “пожалуйста, будьте осторожнее; у вас вчера был польский эмиссар, который хочет провести пароход через Гибралтарский пролив; как бы дело ни было, да зачем же они прежде болтают?”.
Пароход впрочем и не дошел до берегов Италии: он был захвачен в Кадиксе испанским правительством. По миновании надобности, оба правительства дозволили полякам продать оружие и отпустили пароход!» – Прим, автора.
(обратно)433
Из Милана семья Мечниковых в конце 1864 г. переехала в Женеву.
(обратно)434
В самом начале 1870-х гг. Мечников по заданию Бакунина совершил поездки в Испанию и Францию, где встречался с участниками секций Интернационала, среди которых вел агитацию за переход этих секций на позиции возглавляемого Бакуниным Альянса социалистической демократии.
(обратно)435
Опубликовано в журнале «Исторический вестник», № 39, 1897.
(обратно)436
Быть может, у Мечникова стоит «Карл-Альберт», пьемонтский король, служивший знаменем в патриотическом движении на севере Италии.
(обратно)437
Убеждены, что речь идет о Карло Пизакане (Pisacane) и о его высадке под Неаполем, близ Сапри, в 1857 г.
(обратно)438
Скорей всего, это – Фердинандо Тройя (Тгоуа), ставшим в 1848 г. первым конституциональным министром королевства Обеих Сицилий.
(обратно)439
http://n-g-chemyshevsky.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st251.shtml
(обратно)440
Цитированное выше письмо Мечникова к Чернышевскому писалось в момент, когда последний уже находился под арестом в Петропавловской крепости.
(обратно)441
Статью о Мадзини, двумя частями, Мечников отправил Чернышевскому также уже после ареста редактора «Современника». Об этом герое Рисорджименто см. последнюю монографию: Андронов И. Е. Джузеппе Мадзини: молодые годы. СПб.: Алетейя, 2009.
(обратно)442
См. рецензию на официальном сайте Генерального консульства Российской Федерации в Палермо ().
(обратно)







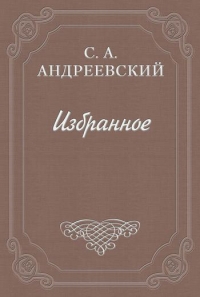

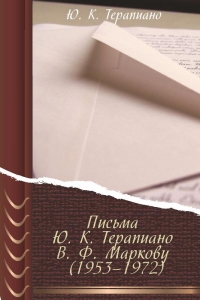
Комментарии к книге «Последний венецианский дож. Итальянское Движение в лицах», Лев Ильич Мечников
Всего 0 комментариев