Ольга Хорошилова Молодые и красивые: Мода двадцатых годов
Фото на обложке и суперобложке:
– Клара Боу, конец 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
– В 1920-е годы веселились на полную катушку, 1926 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Благодарности
Я выражаю благодарность фотографу Ольге Рачковской, предоставившей в мое распоряжение свою обширную библиотеку по истории моды и фотографии 1920-х годов, а также ряд снимков для книги.
Моя глубокая признательность Артему Классену, молодому, но уже весьма опытному коллекционеру, знатоку старинной русской фотографии, который позволил опубликовать интереснейшие снимки В. М. Коваленко из своей коллекции.
Я благодарна сотрудникам «Петербургского центра гендерных проблем», в том числе Ольге Липовской, Марии Ошмянской, Валентине Котогоновой, с которыми я познакомилась в начале 2000-х годов и которые позволили работать с богатой библиотекой центра. Изучение творчества Ромен Брукс и круга Нэтели Барни началось именно с нее.
Сердечно благодарю госпожу Йилдыз Эцевит, профессора кафедры социологии Среднеазиатского Технического университета (Анкара, Турция), и госпожу Асли Даваз, сооснователя Женской библиотеки и информационного центра (Стамбул, Турция), за внимание к моей теме и бесценные материалы, которые они предоставили.
Благодарю историка моды Александра Васильева и художника по костюмам Дмитрия Андреева за предоставленные фотоматериалы, а также доктора исторических наук Галину Ульянову, кандидата исторических наук Олега Чистякова, историка Ирину Жалнину, историка, специалиста по генеалогии Михаила Катина-Ярцева за помощь в атрибуции фотоматериала и прочтении автографов.
Я признательна Яне Милорадовской и Михаилу Стацюку (журнал «Собака. ру»), Марии Кравцовой (журнал «Артгид»), Алексею Минупову (сетевой образовательный проект «Arzamas»), Зинаиде Арсеньевой (газета «Санкт-Петербургские ведомости»), Антону Шевердяеву (Русский музей), Артему Балаеву («ОДА ЕДА») и всем тем, кто оказал информационную поддержку изданию моей книги.
Моя признательность издательству «Этерна» и лично Нине Комаровой, Ирине Кулюкиной и Александру Зарубину за кропотливый труд по подготовке книги к публикации.
Я также благодарна Алисе, Анне, Ольге, Ксении, Ренате, Али и Деборе, невольно вдохновившим меня на эту книгу.
Хочу отдельно выразить большую признательность Дарье Башвиновой, Наталье Белугиной, Асе Домбаян и Андрею Заливако, которые оказали поддержку нашему краудфан-динговому проекту и с чьей помощью стало возможным издание этой книги.
Вместо предисловия
Вы когда-нибудь плакали от красоты? Скажем, от невыразимо трагичного заката, тихого совершенства туманного парка или, совсем банально, от избытка тонких чувств. Признаться, это ощущение было мне незнакомо. Я не понимала, отчего иранские миллионерши плачут на показе моды, провожая глазами девушек-роботов и падших ангелов из стали и кожи. Не могла поверить, что мой знакомый, серьезный историк, разрыдался на пустынной Рокфеллер-плаза, просто наблюдая за грациозной одинокой новогодней парочкой на звонком утреннем катке. И было трудно представить именитую петербургскую даму, рыжую, великолепную, тюдоровскую, плачущей на выставке безвременно ушедшего гения, творца болезненной и жестокой британской красоты.
Но все-таки однажды я чуть не расплакалась. В пустынном вечернем зале дремотной Академии художеств Дебора Турбевилль, всемирно известный фотограф, говорила о моде и стиле двадцатых. Присутствовало три человека, и я среди них была единственной студенткой. Было неловко за Академию и немного обидно за лектора. Размеренно, тихо, с достоинством, но без высокомерия, языком понятным, с мягким щадящим акцентом жителя центрального Нью-Йорка Дебора рассказывала о Ман Рее, Эдварде Стайхене, Нэнси Кунард, Брассае, о левобережном Париже и Верхнем Ист-Сайде. И она медленно, с большим достоинством меняла слайды.
Выпудренная мраморная покатая голова Кики, спящая муза из сна Бранкузи, ее мокро шелковые волосы, отражающие блеск наполированной африканской маски, «черное» и «белое», пойманные в лассо бесконечности. Нэнси Кунард, строгая, лаконичная, тонко породистая, ее месмерические глаза, изысканные запястья и гремящие деревянные первобытные браслеты: флейта и тамтамы. Дамочки в смокингах, неожиданно современные, в макияже, с моноклями и дерзкими ухмылочками завсегдатаев монпарнасских притонов. Такие отлично удавались Брассаю.
Гойнингену-Гюне и Стайхену удавались журнальные красавицы. Все эти ровно загорелые спины, острые плечи, филигранные профили, холодная недвижная грация, изысканные развороты, великолепные позы, эти шелковые волны причесок, переливающиеся атласом вечернего платья и блестками бисера, мерно качающегося на волнах дивной праздничной призрачной ночи, пьяной от шампанского, колких фейерверков, лунного серебра и вечно удивленных фотовспышек.
В этой красоте можно было захлебнуться от слез. Ею захлебывались Фицджеральд и Хемингуэй, Лемпицка и Эйлин Грей, Шанель, Вионне и Ланвен.
Люди двадцатых были чертовски красивы. Они родились в эпоху прекрасных корсетов, их осанку, движения, спины сформировали воронки из каучука и шелка, простеганные правилами светского приличия. Война добавила ароматов – густого сигаретного дыма, терпкого бренди, гашиша, пота и тела. И научила порокам: вдохнула жизнь в красоту. Каучуковые слепки стали людьми двадцатых.
И они были черно-белыми, эти люди. Нереальными, остраненными, холодными. В рамках изысканных фотоснимков, в магическом серебре киноэкранов. Они жили на стеклянных негативах Конде Наста и желатиновых пленках Голливуда. Их смутные отражения таяли в неоне модных витрин Парижа.
Они не верили чувствам, они их не знали. Верили только искусству из стали, ломаным ритмам нью-йоркских проспектов, блюзовой грусти джазовых мэтров, счастью, сверкавшему хромом «паккардов», шелку «Родье» и шкурам гепардов, золоту театров Джорджа и Рэппа, бледным романтикам красного НЭПа, призракам Ланга, Вине и Пабста, глянцевым билдингам офисной касты, железным эпитетам каменной Стайн.
Они не любили любовь. Они любили дизайн.Глава 1 Иконы стиля
«Она никогда не скучала, потому что не была скучной»
Зельда Фицджеральд, «Похвальное слово флапперуНекоторые заслуженные, трудолюбивые, героические, обществом ославленные люди наделены персонажестостью – сложным сочетанием яркой внешности и необычных культурных обстоятельств.
Луиза Брукс в роли Лулу в фильме «Ящик Пандоры»
1929 год. Пресс-фото.
Архив О. А. Хорошиловой
Что бы такие люди ни делали, какими бы талантами ни обладали, персонажестость все затмит, все сведет к нулю.
И часто так случалось, что в истории они оставались благодаря причудам (гигантским ожерельям, пантере на поводке, ночным пирам с обнаженными рабами), или пестрому порочному кругу общения, или тем хитрым предприимчивым друзьям, которые умыкали для своих авангардных эссе и красиво изданных мемуаров эффектные фразочки, эпатажные выходки, страстные, длиной в одну ночь романы – частицы их харизмы. Персонажестость – зло. Но она и благо. Ведь по прошествии десятков лет, временем опыленная, замусоренная исследовательским тленом, эпоха все еще способна говорить за себя дневниками современников, газетными статьями и вот этими яркими образами, персонажами эпохи, превращенными следующими поколениями в иконы стиля.
Зельда и Фрэнсис Скотт Фицджеральды
Начало 1920-х годов.
Фотоархив National Public Radio media, npr. org
Зельда
Пока проворно вороватый черно-белый офисный люд знаками вопроса разбегался по авеню в поисках места для скорого ланча, красивая парочка, он и она, лениво болтала, сидя на крыше пустого такси. Услужливое нью-йоркское солнце старательно полировало их лица, плечи, руки, золотило каштановые укладки, делало беззвучные комплименты их восхитительной молодости, красоте, беспечности. Они белоснежно улыбались. Они сидели на такси, словно на балюстраде Вулфорд-билдинг. Где-то очень высоко, под самым небом, в тиши славы. Весь мир был у их ног.
Такими Скотта и Зельду увидела Дороти Паркер. Даже она, ироничный гностик, сатирик, не могла не остановиться и в полном забытьи несколько минут упоенно наблюдала эту волшебную левитацию небожителей. Затем приблизилась. Небожители нервно обсуждали детскую присыпку и чью-то няньку.
Фицджеральды умели казаться. Это качество было свойственно многим интеллектуалам той эпохи. Они казались персонажами со счастливых рекламных плакатов, наполненных солнцем и дорогими брендами. Безупречная фигура, безупречный язык, идеальная одежда, журнальная внешность. Ледяной лоск стеклянных витрин.
Были и другие картинки – из полицейских хроник. Скотски пьяный Скотт, дико хохоча, запускает хрустальные бокалы в стену пригородного особняка своих присмиревших испуганных друзей. Он же в алкоголическом угаре, без причины разъяренный, наотмашь кулаком бьет в лицо лучшего друга.
Многие запомнили пышный гала-вечер в Сент-Поль де Ванс, на который собрались богачи и божественные прожигатели жизни из Ниццы. Там была и шифоновая Айседора Дункан, мгновенно приковавшая внимание Фицджеральда. Писатель повел себя как рыцарь. Подошел к ее столику и, сообразив нежный комплимент, опустился на колени. И она, поддавшись куртуазной игре, пробежала рукой по его атласным волосам, дотронулась до парфюмированного подбородка и прошептала: «Мой центурион». Этого было достаточно. Зельда, взбодренная хорошей порцией бренди, выбежала вон, перевалилась через мраморную балюстраду и рухнула в лестничный проем. К счастью, отделалась только ушибами.
Публика возмущалась и хмельному публичному купанию Зельды в фонтане на Юнион-сквер. Некоторые, правда, не без удовольствия отметили ее ловкую фигурку, тесно охваченную намокшим шелком.
В начале 1920-х Фицджеральды были первыми флапперами, к концу десятилетия превратились в последних алкоголиков. По причинам разным. Писатель, если верить Хемингуэю, послушно опрокидывал один стакан за другим, лишь бы угодить Зельде, которая зло ревновала мужа к литературе и никак не могла примириться с его ярким талантом.
Зельда пила потому, что не испытывала ни малейшей потребности пить, и потому, что женский алкоголизм считался в хорошем обществе пороком и, следовательно, был главной добродетелью флапперства. Златокудрая бестия знала о нем все. Флапперство было ее особой, личной, упадочной формой дендизма, ее собственностью. Зельда считала себя первым и единственным аутентичным флаппером Америки. И в общем, имела на то право.
Еще на заре своей персиковой юности, в терпкой и жаркой Алабаме, она возненавидела спокойных самодовольных буржуа, воспылала страстью нежной к мускулистым щеголям в облегающих брюках, научилась красиво пить и курила бесподобно, глубоко затягиваясь, пуская смешные колечки. Парни были от нее без ума. Зельда посещала конфузливые дансинги, в которых батистовые девушки покачивались в робком танце с застенчивыми юношами, шептавшими им хорошо затренированный зефирный комплимент. Она выходила в центр, сексуально поводила плечами, цыганисто вибрировала грудью, трясла бедрами и выкидывала ноги не хуже девок с Монпарнаса. Вокруг сразу возникал круг молодцеватых поклонников, а батистовые конкурентки разбегались по домам и до позднего вечера в слезах и растекшихся красках описывали «эту пошлую выскочку, эту чертову Сейр». Такую фамилию она носила до замужества.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд был известным модником.
Он позирует в шерстяной куртке «Норфолк», весьма популярной в тот период
Пресс-фото.
Архив О. А. Хорошиловой
Замужество. Все было как в кино. Он – лейтенант Ф. Скотт Фицджеральд, с точеным лицом и женскими выразительными глазами, стеснительный и улыбчивый, в новенькой литой форме, построенной у престижных Brooks Brothers. Она – игривая кокетка в атласном платье с пышной воздушной юбкой, которая то и дело вздергивается и приоткрывает пару пикантных полноватых ножек. Июль 1918 года, душный клуб где-то в Алабаме, острая шутка Зельды, пунцовые щеки несмелого Скотта, первое объятие, беззвучный поцелуй, диафрагма дрожит и закрывается.
Потом были муки – любви и творчества. Зельда согласилась выйти замуж, но только когда Скотт разбогатеет – она все и всегда называла своими именами. Еще одно свойство истинного флаппера. Фицджеральд быстро и мучительно сочинял роман – для вечности и для Зельды, починяя в дневное время крыши автомобилей. Гениально убедил издателя Скрибнера опубликовать роман «По ту сторону рая», получил щедрый аванс и сделал мисс Сейр официальное предложение, намекнув на блестящее и безбедное будущее супруги известного писателя. Она все хорошо рассчитала и дала согласие. Это был последний раз, когда Зельда производила расчеты. После пышной свадьбы в Нью-Йорке она бросила мещанские привычки и сделалась настоящим, фактическим, убежденным, отпетым флаппером. Единственным в своем роде.
Зельда и Фрэнсис Скотт Фицджеральды в Париже
Середина 1920-х годов.
Фотоархив National Public Radio: media.npr.org
Настало время безудержного веселья. Зельда блистала в полуночных ресторанах «Карлтона» и «Криллона», в хрустальных барах на баснословных вершинах Вулворта и Крайслера, в гарлемских дансингах и на открытых террасах помпезных загородных особняков. Безудержно болтала, шумно хлопала оркестрантам, кричала и по-мальчишески присвистывала, наполнялась искристым шампанским и золотистой музыкой джаза. Посреди зеркального танцпола, сбросив туфли и спустив чулки, отвязно жарила шимми, сверкая голыми коленками, локтями, жемчужным оскалом, убыстрялся безжалостный тамтам, и, уступая ему, эротично задыхалась полногрудая певица, и лица приятно скользили, и улыбки дрожали, плясали, множились и звенели, и обращались в серебристый млечный путь, и шелковистые смокинги мягко касались и вели куда-то, кружили в легком вихре незнакомого танца, все настойчивей, все быстрее, и дансинг ускользал, и в экстазе Зельда рушилась в шипучий бассейн под истошный рев тромбонов и пенные аплодисменты тысячи заливистых месяцев, кружившихся в бархатистом океане звездоглазой нью-йоркской ночи.
Зельда упивалась свободой. «Нужно жить сегодняшним днем и не думать о завтра» – этой глубокомысленной фразой она когда-то украсила свой выпускной альбом. Став миссис Фицджеральд, превратила фразу в кредо. Она жила ночами, пела, пила, шутила, возбуждала мужчин гибким телом и гибким умом, порой рождавшим талантливые афоризмы, любила музыку и шумные компании, изменяла супругу и этим подогревала его творческое воображение. И Скотт остервенело писал, пока Зельда остервенело тратила его гонорары и плясала, плясала.
Днем было тоскливо. Тошнило и звенело в ушах от тишины. Иногда в такие вот пустые часы, пока супруг отлично проводил время среди метафор и литературных красавиц, Зельда тоже писала – невесть какие заметки о светской жизни, рассказы и даже рецепты для домохозяек. Кое-что получалось, кое-что даже публиковали. Но главным ее сочинением (помимо превосходного сценария собственной жизни с зачином, кульминацией и неизбежным печальным финалом) была статья «Похвальное слово флапперу», опубликованная в 1922 году в журнале Metropolitan Magazine. В первом бравурном абзаце Зельда объявила об официальной кончине флаппера – мол, все хотят им быть, и школьницы и продавщицы в магазинах, и своим неумелым копированием загнали этот образ в гроб. Неплохо для зачина. Впрочем, ниже в менее категоричных фразах, бодро и афористично Зельда объяснила суть феномена – делать что хочется, окружать себя не друзьями, но толпой, желательно мужской и вожделеющей, не связывать себя семейными узами и суметь удержаться на плаву, не потонуть в бытовой пошлости. Автор даже набросала портрет, срисованный, конечно, с себя: «Она флиртовала, потому что это было весело, и носила облегающий купальник потому, что имела хорошую фигуру, она красила лицо, потому что не нуждалась в макияже, и никогда не скучала, потому что не была скучной».
«Похвальное слово» Фицджеральд стало для молодежи двадцатых тем, чем «Заветы молодому поколению» Уайльда были для эстетов. Она писала о тех, кто смел перечить общественному вкусу, плевал на буржуазные ценности и жил сегодняшним днем. Неважно, как их при этом называли – «детьми джаза», «флапперами» или «яркими молодыми штучками».
Зельда не останавливалась на достигнутом. Она ежегодно увеличивала процент спиртного в крови и, в общем, соревновалась сама с собой – Скотт давно уже проиграл ей в этой безумной алкогольной гонке. Она все чаще и эффектнее пьянела, выходила из себя от неожиданного, беспричинного гнева и вдруг решала покончить жизнь самоубийством непременно в ту минуту, когда ее авто проносилось над живописнейшим средиземноморским обрывом. Зельда резко пристрастилась к танцу и тренировалась по 18 часов в день с бессмысленным упорством сумасброда. А однажды, снисходительно беседуя с Хемингуэем, которого беспричинно ненавидела, наклонилась к нему и влажно прошептала: «Вам не кажется, что Христу далеко до Эла Джолсона, а?», хихикнула и подмигнула со знанием дела. Так Хемингуэй узнал то, что Скотт старательно скрывал, – Зельда потеряла рассудок.
Клара Боу демонстрирует «Лук Купидона», особый рисунок губ, придуманный Максом Фактором специально для нее
Фотооткрытка, конец 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
В тридцатые она еще кое-что помнила – что замужем, что имеет дочь Скотти, что любит джаз и открытые авто. В сороковые забыла и это, а после смерти Фицджеральда ее уже ничто не связывало с реальностью. Она умерла в 1948 году в больнице для умалишенных.
Боу и «это»
1927 году в лексиконе золотой молодежи появился новый термин «it». Им называли все самое модное, соблазнительно сексуальное, все то, чего вожделели пресыщенные дети джаза и модернизма, – «it dress», «it guy», «it music». Но вначале была «it girl». Этим прозвищем, вернее титулом, награждали вертлявых красоток с точеными фигурками, милыми личиками и внутренней сексуальностью, которую «эти девушки» пускали в ход во время охоты на очередного красавчика с пухлым бумажником и надежной чековой книжкой. Первой it girl была Клара Боу.
Она выдумала себя сама. Говорила, что выросла в трущобах, отец был психом, мать проституткой, все ее братья и сестры умерли во младенчестве, она бросила школу, чтобы помогать родителям, жившим впроголодь, когда же мать узнала, что Клара хочет стать актрисой, она пришла ночью к ее постельке с огромным кухонным ножом и чуть не пустила его в ход. Неплохо для отличной голливудской драмы.
На склоне лет и кинокарьеры Клара страдала шизофренией и жизнь свою описывала в стиле хичкоковского «Психо». Но кое-что все же было правдой. Боу действительно не повезло с семьей, она действительно жила в бедности и мечтала стать актрисой. В семнадцать лет, выиграв киноконкурс, снялась в кинофильме «Над радугой».
Правда, все сцены с ее участием вырезали. Тогда же она сыграла роль Дот Морган в фильме «По морю на кораблях», ее заметили, пригласили в Голливуд и начали предлагать главные роли в любовных комедиях и драмах. Образования у Боу не было никакого, сценарий она читала медленно, по слогам, но так искусно играла лицом, глазами и бедрами, что быстро покорила режиссеров, операторов и зрителей. Ее небрежно-размашистую шевелюру, названную «Боу боб», копировали тогда многие. Макс Фактор придумал игривому рту актрисы новую форму – «Лук Купидона», ловко зашифровав в названии фамилию кинодивы: «Cupid Bow».
В знаменательном для эпохи и судьбоносном для себя 1927 году она снялась в кинофильме «Это» («It»), сыграв роль Бетти Лу Спенс. «Это» был пропагандой в лучших традициях Парамаунта. На протяжении часа зрителей знакомили с новой голливудской иконой стиля – it girl, которую настоятельно рекомендовалось имитировать сразу после просмотра.
Сценарий фильма написала Элинор Глин на основе собственного одноименного эссе, опубликованного в журнале Cosmopolitan. Издание с настойчивостью рекламы несколько раз появляется в кадре. Сейчас эту настойчивость назвали бы product placement.
Элинор Глин, светская львица, автор эссе «Это»
1910-е годы. Библиотека Конгресса (Вашингтон, США)
Бетти Лу Спенс – верткая красотка с мальчишеской острой фигуркой, плоской грудью, милым личиком и чувственно бархатистыми глазами искушенной сердцеедки. Она живет и не знает, что обладает «этим». С «этим» она просыпается в утлой квартирке, которую делит с молодой соседкой, матерью-одиночкой. С «этим» она отправляется на работу в универмаг и без устали торгует текстилем – корчит улыбочки, жеманится, трясет бедрами, играет с клиентами. «Это» в ней замечает Монти, безработный богач, друг владельца универмага. Он как раз прочел в журнале (обложка Cosmopolitan в кадре) об «этом»: «“Это” является своеобразным атрибутом некоторых людей, которым они привлекают противоположный пол. Обладатель “этого” бессознательно владеет непреодолимым сексуальным магнетизмом». Монти озадачен, он как безумный повторяет строки из статьи (обложка Cosmopolitan все настойчивее мелькает в кадре) и, отправившись на поиски «этого», находит его у счастливо бессознательной владелицы – продавщицы Бетти Лу Спенс.
Закручивается интрига. Монти влюбляется в Бетти Лу, которая влюблена во владельца универмага. Однако it girl принимает ухаживания Монти и отправляется с ним поужинать в «Ритц», самый модный и дорогой ресторан Нью-Йорка, колыбель моды и роскоши эпохи джаза. Туда же приезжает владелец универмага со своей невестой. Бетти Лу раскованна, хохотлива и безразлична к тому, что ее маленькое шелковое черное платье и нелепый букет у лифа не гармонируют со спокойным величием интерьеров. Здесь (еще одна рекламная пауза) мягко, с утиной развалочкой, входит сама автор «It» – Элинор Глин. Некрасивая, с презрительной черной ниточкой глаз и щипаных бровей, полногрудая, тестяная, вылепленная лет тридцать назад, еще в эпоху модерна, она медленно и немо вещает о том, что знает лишь в теории. О сексуальном магнетизме, холодном привлекательном безразличии, о том, что «этим» можно завоевать любую красавицу. Говорит, кланяется и выходит из кадра.
Все, что так педантично описала Глин, сделала Бетти Лу. Своими выразительными бархатными глазами, подернутыми влажной пеленой желания (как писали в романах), она беззастенчиво бурила босса и проделала незаживающие раны в его благородном сердце. Она быстро, в такт кинопроектору, хлопала ресницами, открывала немой ротик, в секунду меняла гримасы – от глубокого страдания до несусветной радости, хохотала, показывала коленки и неубедительно стыдливо придерживала разлетающуюся юбку, задержавшись на люке вентиляции. Приемчик, который много лет спустя переняла Мэрилин Монро, еще одна it girl.
В итоге – Бетти Лу на красивой яхте, у ее ног – простреленное бархатными глазами сердце босса, а впереди – серебристый экранный закат и «хеппи-энд».
Клара Боу в фильме «Это»
1927 год.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США)
После премьеры фильма Клара Боу проснулась знаменитой. Теперь не старушка Глин, а она вещала об «it» и о правилах его эксплуатации. И ей верили, как безропотно, немо верят красоте, пусть даже глупой и банальной.
Клара Боу, конечно, не была первой it girl. Она представила яркий собирательный образ всех тех именитых и безымянных, говорливых, быстрых, звонких, тонких и элегантных девушек, с преувеличенной скоростью немого фильма дергавшихся в джазовой лихорадке, менявших авто, как перчатки, и мужчин, как авто, но остававшихся верным своему «it», маленькому секрету большой роскошной экранной жизни.
Безобидный флаппер
«У меня нет конкуренток. Возможно, кроме Клары Боу», – признавалась Коллин Мур. В какой-то степени это была правда. Актрисе многие подражали, но повторить ее мимику, пластику и комичные сценки, которые она без устали разыгрывала перед утомительными жаркими кинолампами, никто не мог. Кроме Клары Боу. Две голливудские звезды не то чтобы открыто враждовали, но остро и зло соперничали за роли и зрительское внимание. В сущности, они играли однотипных персонажей – девушек, склонных к опасным экспериментам с чувствами и чековыми книжками мужчин, любящих приключения и при этом остающихся нежными, невинными созданиями с широко раскрытыми в детском удивлении глазами и пухлыми клубничными губками.
Актриса Коллин Мур
Конец 1910-х годов.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC В2– 5196-10
В Коллин Мур почти не было бульварщины, откровенной, терпкой пошлости, агрессивной сексуальности и ума. Актриса напоминала нарумяненную улыбчивую девушку в шелковых кудряшках с игривой цветной открытки «привет, любимый». Соблазнительная, не более. Возможно, Мур стала бы другой, более порочной, телесной, более парижской, если бы не ее мещанское среднеамериканское происхождение.
Родители, безупречные католики, воспитывали дочь христианскими заповедями и собственным безукоризненным житием. Однако не стали слишком противиться, когда Кэтлин (это ее настоящее имя) решила покорить Голливуд. К счастью, ее дядя, Уолтер Хауи, был известным и очень хитрым журналистом. Первое, что он ей объявил: «Ты, конечно, станешь звездой». И добавил: «Но ты должна преодолеть множество препятствий, суметь привыкнуть к наглым пресс-агентам и нелепым слухам». Дядя внимательно осмотрел Кэтлин и посоветовал избавиться от длинных детских волос («Так уже никто не носит») и простого имени («Такое никто не запомнит»). С родительского благословения имя поменяли на Коллин Мур – ярко, звучно, в модном ирландском стиле. Но волосы решили не трогать – с ними Коллин рассталась только в начале 1920-х.
Уолтер Хауи, прекрасно знавший режиссера Дэвида Гриффита, организовал кинопробы, которые Коллин прошла вполне успешно ив 1917 году сыграла свою первую роль.
Нельзя сказать, чтобы Голливуд с нетерпением ее ждал. Таких, как Мур, порхало по киноцехам великое множество. Актрисе не хватало профессиональных навыков, и она усердно их формировала. Для вестерна «Руки вверх!» упорно тренировалась в конюшне и вскоре превосходно держалась в седле. Для комедийных ролей, сыпавшихся словно из рупора изобилия, она наняла театрального актера и много часов занималась с ним, пока не научилась быстро менять выражение лица, играть глазами, ртом, ощипанными бровями и строить такие мины, от которых приходили в восторг даже маловеры-режиссеры.
В 1923 году она подписала договор со студией First National, которая только что заключила другой контракт – с Семюэлом Хопкинсом Адамсом на экранизацию его популярной повести «Пламенная молодежь» («Flaming Youth»). Мур получила главную роль, рассталась с густыми каштановыми волосами, сделав модную стрижку «боб». Это был ее первый настоящий триумф – кинематографический и светский.
Сюжет скандальный. Патриция растет в неблагополучной с буржуазной точки зрения семье – выпивка, вечеринки, джаз, нескончаемый поток гостей. Она флапперствует вовсю, как, впрочем, и ее родители.
Коллин Мур,
одна из главных икон стиля в США в 1920-е годы
Вниманием девушки завладевает музыкант, на много лет ее старше. Они беспечно болтают, обмениваются игривыми взглядами, затем отправляются на лодочную прогулку, во время которой скрипач делает попытку овладеть Патрицией. Это не входит в ее планы, она бросается в воду, кричит и оказывается в спасительных объятиях отважного мускулистого моряка, в которого по законам голливудского жанра сразу и страстно влюбляется. Молодые люди начинают совместную жизнь – веселую и модно безбрачную.
Публика неистовствовала и голосовала кошельками. Синема были набиты до отказа. Компания First National подсчитывала успех, Мур – количество поклонников и поклонниц. Рецензенты отмечали ее красоту, актерское мастерство и сдержанную пикантность. Она играла роль не падшей девы, но бедного обманутого ребенка с милыми ужимками флаппера. И эта ее безобидность, наивность, ребячество критикам и публике понравились больше всего. Мур сочли абсолютно безопасной для подрастающего американского поколения и свободно пропустили в мир голливудских превосходно отретушированных звезд.
В 1924 году актриса сыграла главную роль своей жизни – Томми Лу в фильме Джона Диллона «Флаппер без изъянов» («The Perfect Flapper»). Сюжет был схожим. На разухабистой вечеринке наивная дебютантка Томми без остановки поглощает дьявольские коктейли, густой замес из пунша, какого-то ядреного алкоголя и ликеров. Много танцует, теряет ощущение реальности и оказывается в придорожном доме один на один с мужем своей подруги. Ничего не происходит, но разыгрывается целая драма, подруга требует развода, Томми Лу всеми силами пытается ее переубедить и одновременно влюбляется в адвоката подруги, который ведет бракоразводный процесс… Заканчивается фильм хеппи-эндом.
И в этой трагикомедии Коллин Мур смогла понравиться строгим американским родителям. Она опять сыграла не роковую соблазнительницу, а несчастную жертву алкоголя и плохих парней. Она просто любит джаз, она просто слишком юна и теряет голову от крепких напитков. С кем не случается. Название фильма стало прозвищем актрисы. Флаппер без изъянов, Коллин Мур, старательно пропагандировала безобидный, умилительно доверчивый полудетский образ девушки-сорванца, совершавшей первые шаги в сложный, грубый мир взрослых. И пожалуй, это был единственный цензурой одобренный образ флаппера, который безбоязненно копировали послушные девочки Нью-Йорка, Техаса и Джорджии.
Девушка в черном шлеме
Она была из бакелита и стали – холодная, эластичная, легкая, скользяще ровная, словно бы спроектированная архитектором-функционалистом, скупо, без излишков. Мягкий точеный профиль, гладкая шея, отшлифованные плечи, длинные руки, литой стан, не мальчишеский, но и не женский, едва заметные бедра, два компактных кулачка вместо груди. На аккуратной головке – черный, идеально отполированный шлем из остриженных волос – стальные нащечники, челка-забрало. Это самая воинственная деталь стройного лаконичного облика Луизы Брукс, если не считать ее черных бархатистых усмешливых глаз, слишком умных для Голливуда и слишком колких для серебристо-матового экрана. Она была Афиной. Своим умом и стальным челом прекрасно вписалась в олимпийскую стилистику ар-деко, стала неоклассической музой художников. Ее выпады и танцевальные па много раз переводил в бронзу и слоновую кость Деметр Чипарус.
В детстве ее окружали книги, родителей она почти не видела. Книги были в кабинетах отца-юриста и матери-пианистки, на чердаке вместо исторического хлама и в подвалах вместо столетнего бургундского. Читала она все подряд, начав с авторов на буквы Z, W, Т, S – тома на стеллажах были расставлены в алфавитном порядке, и до этих букв было легче всего дотянуться. Позже, однако, она дотянулась до Олдоса Хаксли, пока ее сверстницы, хоровые пташки из «Зигфилд Фоллис», щебетали о бульварных романах.
Она была отлично сложена, и мама отдала ее в канзасскую танцевальную школу, откуда Брукс вскоре с позором выгнали за прогулы и плохое поведение. Затем был Нью-Йорк и престижные танцклассы «Шон и Сент-Денис». Там Луиза познакомилась с Мартой Грэм, которая много позже реформирует танец и станет у истоков данс-модерна. Но тогда, в 1919 году, это была застенчивая верткая мышка, не более.
Луиза Брукс демонстрирует «итонскую» стрижку
Фотооткрытка, 1920-е годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Пока ее современницы, Боу к примеру, преодолевали препятствия и размеренно восходили по лестнице успеха, Брукс летела к своей цели со скоростью четырехмоторного «боинга». В 1922 году присоединилась к труппе «Танцоров “Денишона”», в следующем танцевала в бродвейском ревю «Скандалы Джорджа Уайта», в 1925-м выступала в составе «Зигфилд Фоллис», дебютировала в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме «Улица забытых людей», привлекла внимание голливудских продюсеров, подписала пятилетний контракт со студией Paramount. И в мгновение стала звездой.
Брукс убедительно играла флапперов, потому что была флаппером в жизни – отлично танцевала, много пила, оставаясь восхитительно трезвой, гениально соблазняла мужчин и никак не могла вспомнить, сколько же любовников у нее было в те годы: «Кажется, 390 или 430».
Канзасское происхождение не давало ей покоя. Актриса взялась за себя. Сначала мучительно избавлялась от раскатистого пейзанского акцента, который ньюйоркцы презрительно именовали «подсолнуховым». Она наняла продавщицу газированной воды, хорошо разбиравшуюся в столичных диалектальных тонкостях, умевшую объясниться просто, без ужимок. И эти уроки напоминали муки Элизы в кабинете профессора Хиггинса. Через год Брукс уже изъяснялась как коренная жительница северо-востока. Она четко и красиво произносила шипящие, растягивала гласные на британский манер (это было тогда модно), избегала плебейского «р» и свой любимый город называла не иначе как «Нью-Йоок». Она брала уроки хороших манер у ресторанного официанта, у него же узнала премудрости обращения со столовыми приборами. Знакомая, работавшая в универмаге, просвещала ее на предмет модных новинок и советовала, какие наряды по каким случаям надевать. Брукс потом будет очень гордиться этими своими «университетами»: «Меня учили люди из низов, обеспечивавшие благополучие людей на верхах».
Пик ее карьеры – роль Лулу в фильме «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста. Наивная, но талантливо срежиссированная история о современной Олимпии, куртизанки, драматично опустившейся до уличной проститутки, которую окружают гротескные маскароны с полотен Дикса, Гросса и Бекмана. Она с легкостью (вероятно, как в жизни) отдается всем этим персонажам и с нежной поволокой смотрит на расфранченную графиню Гешвитц, как в жизни смотрела на Грету Гарбо, вписавшую Брукс в свой громкий и длинный список любовных побед.
В какой-то степени актриса была диктатором моды. Ее лаконичное тело копировали голливудские старлетки и читательницы журналов Vogue и Harper’s Bazaar. Ее грудь тщательно перерисовывали иллюстраторы для рекламы волшебных диетических снадобий и нежно-розовых каучуковых поясов для уплощения груди и бедер. Ее внешностью женщины грезили и мучили себя. Вглядываясь в принесенные крупноформатные студийные снимки, парикмахеры кроили модницам черные атласные «бобы в стиле Брукс» и густо лакировали их. К концу 1920-х возникла настоящая армия поклонниц в резиновых бандажах и черных хромированных шлемах. Эти верные легионеры весьма забавляли ироничную и умную Лулу.
Луиза Брукс (Лулу) и Алиса Робертс (графиня Гешвитц) в фильме «Ящик Пандоры», 1929
Луиза Брукс в модном джазовом платье, манто и шляпке «клош»
Конец 1920-х годов.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США)
Рекламный плакат фильма «Ящик Пандоры», 1929
Джоконда ар-деко
Нэнси Кунард ненавидела двадцатые: «К черту это время, к черту это глупое десятилетие. Оно было не таким уж великолепным». Ее можно понять. Кунард увлекалась героикой. Считала себя борцом. В юношеские годы отрицала английскую спесь и тот особый тип аристократической morality, золотом вышитый на подоле парадной мантии Вестминстеров, который свел в могилу Оскара Уайльда. Она нарушила все до одного законы приличного европейского общества, вступив в любовную связь с негром и в дружеские отношения с левыми авангардистами Парижа. В 1930-е боролась с испано-итальянским фашизмом, в 1940-е – с германским нацизмом. И до конца дней с переменным успехом сражалась с собственным сумасшествием.
Она боролась громко, яро, всерьез. А стала иконой моды, куклой-актеркой, девушкой с большими браслетами. Ей, конечно, было за что ненавидеть ту эпоху.
Нэнси Кунард, 1930-е годы
Фото с сайта: fashioncityinsider.com
Всему виной была ее персонажестость. Кунард считали одной из самых ярких красавиц ар-деко. Высокий рост аристократки, утонченное лицо, длинные пальцы, неспешные слегка высокомерные движения, безупречный английский язык и в придачу еще четыре, которыми владела в совершенстве, великолепное чувство вкуса, острый ум и фотогеничность. Все задатки иконы стиля.
Но она вряд ли бы стала персонажем, если бы не круг общения. В 1920 году Кунард пересекла Ла-Манш и оказалась в расхлябанном, пахнущем луком и красками Париже. Обзавелась знакомцами и друзьями из мира левобережного искусства и литературы. Ее записная книжка – солидная энциклопедия международного авангарда, осевшего в свободолюбивой столице Франции. И сложно даже сказать, с кем она не дружила в тот период. Харольд Эктон выразился весьма точно: «Она вдохновила (и, возможно, спала) с половиной поэтов и писателей двадцатых».
Кунард связал пылкий роман с Олдосом Хаксли, и писатель сделал ее прообразом Миры из «Шутовского хоровода» и Люси из «Контрапункта». Под разными, порой экзотическими именами Нэнси фигурирует в романах Майкла Арлена, Ивлина Во, Эзры Паунда, Тристана Тцары, Луи Арагона. Ее живописали Оскар Кокошка, Уиндем Льюис, Альваро Гевара.
Ман Рей превратил Кунард в fashion-икону. Он довершил то, что набросала отлично наточенным карандашом природа и расцветили живописцы Левого берега. На его многочисленных снимках, выполненных в двадцатые, Нэнси позирует словно маститая модель – непринужденно и собранно, мягко подчиняясь командам фотографа, с явным интересом участвуя в игре, придуманной мастером. Но Ман Рей лишь конструировал мизансцены, наполнял ателье необходимым антуражем – зеркалами, целлофаном, бархатными драпировками, – вписывал в него модель. Все остальное делала Нэнси – принимала горделивые позы, эротично раскидывалась на диване, опутывала лицо своими лианоподобными руками и бросала в сторону огненный взгляд, которым воспламеняла сердца парижских творцов, работавшие, как известно, на бензине. Вполне естественно жила в бутафорских условиях ателье. И таким же естественным образом оказалась на страницах модных журналов. И стала fashion-иконой.
Нэнси Кунард демонстрирует африканские браслеты, неотъемлемые элементы ее декадентского образа
Конец 1920-х – начало 1930-х годов.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-USZ62-112986
Она была одной из первых в Париже, остригших волосы в «итонский» кружок. И была первой белой, отважившейся примерить стиль «negro». Кунард драпировалась в немыслимые южноафриканские текстили и такой выходила к гостям. Ей шили пальто из шкуры леопарда, которые она накидывала на голое тело и так ходила по улицам. Она обожала тюрбаны из золотистого люрекса, которые украшала брошами и высокими эгретами. И ее трудно было представить без массивных африканских браслетов из слоновой кости, серебра, бакелита и дерева, которые Кунард нанизывала на жилистые запястья, словно цветные кольца на кегли. При любом ее движении браслеты ворковали, переливались плотными звуками, а когда она билась в припадках джаза – стрекотали, гремели трещотками. Ее гигантские серьги, ошейники и первобытные кулоны усердно копировали дизайнеры компании Boucheron. Так Кунард невольно стала автором новой тенденции в ювелирном искусстве ар-деко.
Кунард научила белых любить стиль «negro» и показала, как его следует носить. Но своей главной заслугой в «чертовы двадцатые» она считала пропаганду африканской культуры, музыки, мифологии, стиля жизни. В 1928 году, переехав в Нормандию, основала и возглавила издательство Hours Press, опубликовала памфлет «Чернокожий мужчина и белая леди», описав, между прочим, свой роман с негритянским джазменом Генри Кроудером, а также выпустила антологию африканского искусства и литературы, первую в своем роде в Европе.
Нэнси Кунард за печатным станком. Она обожала стиль garçonne и часто носила строгие жакеты и бабочки
flieh, сот
Но «глупому десятилетию» до этих героических заслуг не было дела. Ему нравились тигровые шкуры, гремящие браслеты и выразительные жирно обведенные глаза Нэнси Кунард, которыми она соблазняла великих современников.
Джазовая Джози
Ее называли «Черной жемчужиной», «Кофейной королевой», «иконой гарлемского Возрождения», а некоторые – «мартышкой». Ко всем эпитетам Джози Бейкер относилась с холодным безразличием звезды. В Америке она научилась не обижаться на глупцов и расистов, расплываться в улыбке перед белолицыми снобами в партере и плясать, не думая о правилах, не зная правил. Бейкер изорвала в клочья рисунок классического танца и показала публике новые приемы – ломаные па, тряскую голую грудь, сумасшедшее верчение каучуковых бедер. Кубизм и порнографию одновременно.
Рекламный плакат мюзикла «Ревю Нэгр». 1925
Частная коллекция
Она была из богом и полицией забытого Сент-Луиса. Туда в 1915–1917 годах часто наведывались привидения в белых колпаках с огненными крестами в руках, куклуксклановцы. Боролись за расовую чистоту, устраивали провокации, жестоко калечили и убивали негров, считая, что лишь так можно избавить великую белую американскую нацию от цветных пятен. Бейкер отлично помнила их одежды, безупречно белоснежные, щегольски накрахмаленные.
С родителями у нее не сложилось. Со школой тоже. В тринадцать лет ее исключили, и Джози оказалась на улице, а вскоре – еще и замужем за каким-то утлым африканским работягой. Потом она вышла замуж во второй раз, чуть более удачно, так как обзавелась простой и звучной фамилией – Бейкер. И с ней уже не расставалась. А с супругом распрощалась в мгновение ока. И вновь оказалась в трущобах, правда ненадолго. Познакомившись с нужными людьми, Джозефина переехала в Нью-Йорк и начала работать в клубе «Плантация» – танцевала, кривлялась, смешила публику и приносила заведению хорошую прибыль. В 1921 году перешла в бродвейское ревю «Shuffle Alone», а в 1924-м устроилась в ревю «The Chocolate Dandies». Уже тогда она выбивалась из общего стройного ритма, ломала танцевальный рисунок, обезьянничала. Бейкер определили в конец хорового хвоста, где она могла дать волю импульсам. Тогда появились ее знаменитые движения – резкий выпад назад ягодицами, присядка разведенными ногами и сумасшедшая пляска зрачков вкруг глазных орбит. В общем, был успех.
А потом была слава. Летом 1925 года она получила приглашение от американки Каролин Дадли Рейган присоединиться к негритянской труппе, спешно собранной для специального парижского «Ревю Нэгр». Взвесив все за и против («за» – платили хорошо, Париж был центром моды и расистов там недолюбливали, «против» – Франция где-то далеко, через океан), она дала согласие. И вскоре уже стояла на пустой и пыльной сцене «Театра Елисейских Полей», слушая четкие и медленные, на ломаном английском, наставления худрука Андре Давена: «Нужно так, нужно вууух, нужно скандаль, vous comprenez». И был скандал.
Джозефина Бейкер в сценическом костюме
2-я половина 1920-х годов. Пресс-фото.
Архив О. А. Хорошиловой
В первый же вечер Джози выпорхнула на сцену в новом костюме – пурпурные страусовые перья, загар и больше ничего. В оркестровой яме музыканты надували резиновые щеки, гоготали кларнеты, дрожали ударные, Бейкер раскручивалась им в такт, сводила и разводила руки, резко выбрасывала тело, трясла накачанными ягодицами, пружинила ногами, ходила ходуном по кругу, строила умопомрачительные жабьи гримасы, и каждому движению вторила ее обнаженная прыткая грудь. Пела Бейкер посредственно – иногда давала петуха, переходила на речитатив и жестоко коверкала все французские слова (за исключением «oui»). Но это было неважно. Публика забыла о бренди и коктейлях, в партере один за другим открывались рты, у кого-то вылетела вставная челюсть, все глазели на Бейкер, ее литые формы и прыгучие соски. Это было откровение даже для переставшего удивляться Парижа. Он уже видел эротический экстаз «Шахеразады» и Нижинского в просвечивающем трико, но то было эстетическое полуобнажение, а это – голая правда, каучуковое тело, лоснящееся, гогочущее, звонкое, призывающее ущипнуть себя, хлопнуть по стальному крупу.
С этим шоу Бейкер отправилась в турне, заехала в Берлин, где познакомилась с Максом Райнхардом, объяснившимся ей в любви, предложившим свою режиссерскую руку и выгодный контракт. Но она не изменила Парижу, хотя оказалась неверна Андре Давену. В 1926 году Бейкер подписала договор с Полем Дервалем из «Фоли Бержер» и придумала новый скандальный номер – «Танец с бананами». Собственно, было все то же – верчение вокруг оси, выпячивание обнаженной груди и ягодиц, дерганье ногами, шпагаты, элементы дикой пляски вуду и глаза, аккуратно собранные в кучку. Но вместо перьев, прикрывавших небольшие части тела, на талии повисла жирная связка эрегированных бананов, которая аппетитно тряслась во время танцев. Парижане, искушенные в любви и эротике, прекрасно поняли этот грубый намек и отвечали грохотом аплодисментов, щедрыми чаевыми.
Публика обожала Бейкер и ее подвижное тело. Она прощала ей ломаный французский, хулиганство и пятнистую Чикиту, плохо воспитанного леопарда, с которым Джози иногда выступала на сцене «Фоли Бержер», и каждый раз он срывался с цепочки, прыгал в оркестровую яму, устраивал жуткий переполох. С Чикитой актриса иногда гуляла по Елисейским Полям, и парижане верно подмечали: «Непонятно, кто из этих двух диких животных ведет другого на поводке».
В 1927 году Бейкер открыла клуб «У Джозефины», куда текли сливки светского общества и модная джазовая молодежь. Тогда же попробовала свои силы в кино и писательстве, сочиняла колонки для модного журнала.
Джозефина Бейкер в фантастическом сценическом костюме
Конец 1920-х годов, flickr.com
Удивительно, с какой легкостью чернокожая Бейкер стала иконой стиля в спесивом белокожем мире, любившем пудриться и вспоминать сомнительные колониальные подвиги предков. Многие восхищались приятным оттенком кофейного тела певицы и пытались воспроизводить его с помощью волшебных тональных кремов. В 1926 году, когда Бейкер гастролировала в Берлине, ее пригласили возглавить жюри в конкурсе, устроенном клубом «Карнавал». В течение безумной ночи певица выбирала из немецких участниц ту, которая была лучше всех раскрашена «под негритянку». Парадокс – пока чернокожие актеры в Нью-Йорке, Париже и Берлине тщательно скрывали свое происхождение под пудрой и тальком, европейские поклонницы Бейкер и джаза старательно имитировали загар, преображаясь в эффектных мулаток. И к их услугам были Поль Пуаре, Макс Фактор, Vivodou и многие другие производители волшебных снадобий.
Подражали не только цвету кожи. Флапперы усердно копировали стрижку Бейкер, ее неповторимый «итонский боб» – твердую корочку из волос и застывшего геля. Некоторые, кому это не удавалось, утверждали, что она бреется налысо и носит искусный парик.
И еще подражали ее сценическому костюму, то есть наготе. В парижских кабаре и берлинских закрытых клубах поклонницы Бейкер устраивали неистовые вуду-пляски – трясли умасленными телесами, поводили ягодицами и грудью, раскидывали ноги под одобрительный гул падшего дворянства и уродцев Новой вещественности.
Негромания не была придумана Бейкер, но, благодаря ей, стала одной из главных тенденций сумасшедших двадцатых. Впрочем, мода так и не смогла перебороть условности общества и закономерности истории. В черный вторник 1929-го родилась белая эпоха тридцатых – время мраморных тиранов, олимпийской неоклассики и каннелированных платьев.
Джозефина Бейкер исполняет свой знаменитый «Танец с бананами»
Фототипия.
2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
В середине 1930-х певица вернулась в США и оказалась ненужной. Здесь цвет кожи все еще определял судьбу человека. Зрители «Зигфилд Фоллис» встретили Бейкер с прохладным презрением, и вскоре ее место заняла безупречно бледнолицая Джипси Роуз Ли. Джози вновь покинула Соединенные Штаты – на сей раз навсегда. Франция стала ее второй родиной.
Егозливая хулиганка изменилась вместе с эпохой, словно бы разом повзрослела. В тридцатые фанатично боролась за права чернокожих. В сороковые присоединилась к Сопротивлению. С удовольствием носила строго элегантную форму офицера французских ВВС. В ней выступала и позировала с солдатами для памятных фронтовых снимков – совсем как Дитрих. Бейкер вполне заслуженно получила Военный крест и орден Почетного легиона. Вертлявая джазовая кукла стала героиней в мундире, при петлицах, звездочках и наградах.
Но все же кофейная нагота шла ей больше.
«Помада»
Эдвард Стайхен прекрасно помнил ту съемку. Он режиссировал мизансцену, пока безымянную модель красили и причесывали под Belle Ёpoque, а мисс Лонг, с короткой мальчишеской стрижкой, в ловком черном платье, корчила рожицы, щебетала и пробовала отбивать чечетку в отзывчивых интерьерах его громадной фотостудии. Много смеялись, дурачились, меняли антураж, Стайхен хотел больше выразительности, теплого света, теплого юмора, Лоис Лонг настаивала на иронии, на жестком карикатурном контрасте и успевала меж делом рассказать два-три скабрезных анекдота из жизни разжиревших горожан.
Обложка журнала New Yorker, для которого писала Лоис Лонг
1928 год.
Архив журнала: newyorker.com
Она обожала мещанскую пошлость, вонзала в ее расхоложенный жирок острые паркеровские перья. Колко иронизировала. Эффект проверяла на приятелях. Стайхен смеялся от души. Эффект удался.
Мизансцену выстроили. Лоис приняла несколько развязную позу, встав возле лаконичного столика с печатной машинкой. Игриво прикусила резиновый кончик карандаша и нагло улыбнулась безымянной модели, изображавшей писательницу-пуританку за унылым столом перед ворохом пыльных сочинений. Получилась карикатура – журналистика вчера и журналистика сегодня, мещане и флапперы, снобизм и скандал. Мисс Лонг осталась очень довольна. Она успела влюбить в себя талантливого фотографа, проверить на нем свое острословие и получила великолепный фотопортрет, черно-белый синопсис ее мыслей и жизни, между которыми мисс Лонг всегда ставила знак равенства. Жила, как думала.
Летом 1925 года ее, недавнюю выпускницу колледжа, начинающего светского хроникера, пригласили на интервью к Харольду Россу, главному редактору журнала New Yorker. Харольд Росс недоверчиво осмотрел мисс Лонг, по-мужски – с ног до головы и обратно, – разочарованно вздохнул, бросил на столик несколько номеров, пробурчал: «Посмотрите. Что вы можете предложить нашему изданию?» Его издание было на грани закрытия, и лишь благодаря жесткой манере убеждать он смог выбить из спонсора, хлебобулочного магната, еще немного денег. Росс искал гениев. Нужно было спасать журнал. «Попробую что-нибудь с этим сделать», – ухмыльнулась мисс Лонг. Они холодно расстались. Но уже через несколько месяцев Харольд Росс грубовато по-свойски хлопал мисс Лонг по спине и усиленно тряс ее хрупкую руку – так выражал свою признательность. «Помада» спасла журнал.
Это был ее псевдоним. Луис Лонг подписывала так еженедельные авторские колонки «Когда ночи дерзки» (позже – «Столик на двоих»), лаконичные отчеты о диких нью-йоркских флапперских ночах в ресторанах, кабаре, чайных клубах и «спикизи». Она в совершенстве владела пером, обладала острым зрением критика, но главное, ее было трудно удивить. Врожденный скептицизм и чувство юмора помогли Лонг стать одним из лучших и самых модных авторов американской светской хроники.
Она умела тусоваться, пить, курить, сохраняя холодный рассудок. «Помада» побывала во всех пафосных местах возле Пятой авеню, отлично проводила время за порцией средиземноморских устриц и русской осетрины, успевая подметить ханжество спесивой публики и ловкие обманы улыбчивых официантов. Она знала все до одного кабаре и закрытые клубы, где валандали ночи пропащие любители виски. Приходилось вызубривать все явки и запоминать все пароли, что не спасало клубы от полицейских рейдов, свидетелем которых «Помаде» посчастливилось быть. «Мы постоянно тренировали память, заучивая новые названия и адреса, новые пароли, потому что некто мистер Бакнер стремился прикрыть все до одного ночные заведения. Частенько этот самый раздраженный мистер Бакнер врывался в шумное привлекательное логово мисс Гинан и увозил ее в полицейском фургоне вместе с другими работавшими здесь людьми <…>. Но она открывала новый клуб и в первую же ночь являлась с ожерельем из амбарных замков (символизировавших количество закрытых полицией заведений. – О. X), говоря, что она наконец-то у себя дома. Она только что подписала новый, 19-летний договор аренды. Эти полицейские рейды были такими забавными. Некоторые напоминали сцены из кино: копы выбивали двери, женщины падали в обморок, а официанты, крича что есть сил, выкидывали бутылки с запрещенным алкоголем в окна».
Ее читали взахлеб, иногда как детектив, иногда как любовную новеллу. Ее шутки были нарасхват, рекомендациям верили безоговорочно. Стоило обмолвиться парой строк, что вот этот новенький бар весьма неплох, а тот ресторан заслуживает особого внимания гурманов, как этот бар и тот ресторан одолевали толпы посетителей. Харольд Росс, конечно, этим пользовался. Иногда он позволял «Помаде» легкую «джинсу», безобидную рекламу заведения, легко закамуфлированную под текст. Впрочем, он в полной мере отражал мнение Лонг. Обманывать читателей никто не хотел.
Актер Рудольф Валентино
Конец 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Чуть позже в New Yorker появилась рубрика «На авеню и вокруг». Ее вела Лоис Лонг, скрываясь под псевдонимом «L. L.». Объясняла смысл происходящего в мире американской и французской моды, советовала, куда отправиться за покупками, где лучшие чулки и запонки, куда завезли новую коллекцию вечерних платьев. Информировала читателей, подспудно рекламируя магазины. В 1927 году ее назначили редактором моды. Лонг проработала в New Yorker до 1970 года. Стала звездой светской журналистики, основательницей американской школы ресторанной и fashion-критики. Но главное, сумела воспитать вкус целого поколения американцев, детей джазовой эпохи.
«Латинский любовник»
Рудольф Валентино не был хорошим актером. Он был хорошим кинолюбовником с шаблонными приемчиками экранного соблазнения – щелочки прицелившихся глаз, дрожащие дуги ноздрей, чуть приоткрытые губы, немного женственные, бантиком, и вот начинает мягко приближаться, пританцовывать вкруг героини, и потом выпад, железные объятия и злые, знойные поцелуи, заставлявшие партнерш двусмысленно выгибать спины и полностью отдаваться чувству. И так много раз, пока режиссер не скомандует «снято».
Он не был красавцем. Невыразительные глаза, длинноватый нос, смуглая кожа, выдававшая его южноитальянское происхождение, какая-то особенная немужская утонченность и вкрадчивые кошачьи движения, и эти странные неамериканские побрякушки – варварские браслеты, легкомысленные цепочки и изысканные восточной работы перстни. Все это провоцировало обидные слухи, но лишь подогревало интерес к экзотическому актеру.
В эдвардианские десятые его сочли бы декадентом, в железобетонные тридцатые не заметили бы вовсе. Валентино повезло оказаться в нужное время в нужном месте. В двадцатые годы публика увлекалась Востоком, солнечными процедурами и женственными мужчинами, компенсируя дефицит мачо обилием резких девушек-garçonnes. Впрочем, уже тогда в Голливуде предпочитали геометрические подбородки и внешность строго элегантную, без причуд. И потому Валентино позволили играть лишь знойных красавцев, пустынных и пустых. В кино «Четыре всадника Апокалипсиса» он чувственно танцевал аргентинское танго и лихо галопировал в костюме гаучо. В фильме «Шейх» предстал в облике сказочно богатого Ахмеда Бен Хассана, влюбленного в белолицую леди Диану. В 1925 году сыграл роль Владимира Дубровского в ленте «Орел», ослепив зрителей царственными бешметами, черкесками, газырями и меховыми шапками в стиле русского императорского конвоя.
Этими ролями он одинаково вдохновлял мужчин и женщин. После «Четырех всадников» денди по обе стороны океана обзавелись смелыми широкими брюками-«гаучо», которые доселе считались признаком гомосексуалов. Ахмед Бен Хассан спровоцировал моду на загорелую кожу и тональные кремы. Макс Фактор, готовя Валентино к этой роли, придумал специальную кинопудру для смягчения слишком яркого южного загара артиста и этим открыл новую страницу в истории косметики. Дубровский, безусловно, добавил популярности казачьему костюму.
Рекламный плакат фильма «Шейх»
1921 год.
Частная коллекция
Но и реальный Рудольф Валентино, шопоголик и щеголь, владелец внушительного гардероба, влиял на внешность современников. Он снял табу на мужские браслеты и аккуратные наручные часики, которыми до «Латинского любовника» баловались в основном подчеркнуто женственные юноши. Его зализанные, густо умащенные вазелином стрижки копировали «Вазелиносы» – последователи стиля актера.
Рудольф Валентино в образе Дубровского в фильме «Орел»
1925 год. Рекламный плакат
Фетровые шляпы-«хомбурги» итальянец носил без шелковой ленты, и такие в середине 1920-х стали популярны среди американских фанатов Голливуда. Валентино любил шик – меховые пальто, кожаные плащи-тренчи, увесистые браслеты (один из них, «рабский», подарила ему Наташа Рамбова) и драгоценные острые мелочи, которыми нашпиговывал себя с фанатичностью истинного южанина.
Рудольф Валентино в роли Ахмеда в фильме «Сын шейха»
1926 год.
Частная коллекция
Валентино был родом из двадцатых. В двадцатых и скончался. Когда производили опись имущества, насчитали 30 костюмов, 10 пальто, 60 пар перчаток, 150 пар носков, 100 галстуков, 60 пар обуви и 109 крахмальных воротничков. Все это в 1926 году ушло с молотка и разошлось на цитаты.
Рудольф Валентино в элегантном дневном костюме
Середина 1920-х годов.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-USZ62-90327
«Ярчайший»
Британская модная пресса двадцатых годов часто и с каким-то патологическим наслаждением описывала сумасшедшие балы и причуды молодых людей, большей частью аристократов, именовавших себя Bright Young Things. Это был своего рода закрытый клуб, в который принимали лишь тех, кто прошел несколько уровней жесткой фильтрации. Проверяли происхождение, генетические и социальные связи, наличие вкуса и чувства юмора, оценивали внешность и придавали большое значение умению перевоплощаться – смело, сразу, в кого угодно. Счастливчики, прошедшие отбор, становились полноправными членами общества и строго соблюдали устав, предписывавший еженощное участие в пьяных поэтических тусовках, театрализованных шоу, фантастических костюмированных балах и десятках других шумных мероприятий, на которые проникали (иногда по предварительной договоренности) любопытные светские хроникеры, тайные снимки которых теперь с наслаждением изучают в музеях и художественных институтах по обе стороны Атлантики.
Bright Young Things обожали декаданс, окружали себя произведениями искусства и сами были произведениями искусства. Так завещал их кумир, Оскар Уайльд.
Одной из самых экстравагантных фигур этого общества был Стивен Теннант, которого за его великолепную жизнь и эпатажную внешность называли «the Brightest», «Ярчайший». Это был отпрыск британского породистого семейства, рафинированный, изящный, тоненький, с золотистыми аккуратно уложенными волосами и кожей оттенка слоновой кости, сквозь которую просвечивали сизые венки, единственное, что отличало его от мраморного эфеба.
Он был бесплотным и бесполым, и эти два аристократических свойства помогали менять маски, убедительно играть роли – Ганнимеда, румынской королевы Марии, вампира полуночной Трансильвании, Очаровательного Принца, пажа, маркизу фарфорового осьмна-дцатого века. Но лучше всего Теннанту удавалась роль произведения искусства – идеальной, безупречной, филигранной, хрисоэлефантинной статуэтки. Статуэт ка красиво и многозначительно безмолвствовала, растянувшись на благородной парче старинного резного ложа. Статуэтка позировала. Все остальные, приглашенные Теннантом в его музеефицированный особняк, должны были приветственно шаркать, кланяться, влажно вздыхать (как это обыкновенно делают коллекционеры на выставках) и сыпать, сыпать комплименты этой ювелирной, искусной, невыразимой, восхитительной, несравненной статуэтке, произведению богов, принцу всех принцев, Стивену Теннанту, «Ярчайшему».
Стивен Теннант 1920-е годы.
Архив музея Школы Дизайна Род-Айленда (RISD)
На этих странных, в кэрролловском стиле смотринах разрешалось хранить молчание лишь Сесилу Битону, фотографу и близкому другу. За него потом со страниц именитых светских журналов говорили эстетские черно-белые снимки, пожалуй, лучшие комплименты, когда-либо высказанные Теннанту. На одних он хрупок и бестелесен – полуобнаженное тело, болезненная худоба, впалая чахоточная грудь, рельефные ключицы, тонкая талия, пикантно приспущенные брюки с обмякшими подтяжками. Гламурная гомоэротика. На других одет с иголочки и застегнут на все пуговицы, неприступен, прекрасен, закрыт и величественен в ладно скроенных, мягко облегающих шерстяных костюмах, шелковых сорочках, при запонках и галстучной булавке. От шаблонного благовоспитанного юноши с лондонской Сэвил-Роу его отличают позолоченные волосы и яркий женский макияж, которым Теннант эпатировал баронетов и соблазнял британских поэтов.
Стивен Теннант в образе прекрасного пастушка.
Позирует в свободной блузе, шелковых кюлотах и чулках в стиле XVIII века, волосы слегка припудрены
pinterest.com
«Ярчайший» был воплощением уайльдианства – саркастичный, любивший афоризмы, в основном собственные, красиво изъяснявшийся, утомленный и порочный, восхитительно молодой, но главное – никогда и ничего не делавший. И это не преувеличение. Теннант буквально ничего не делал. Статуэткой лежал на диване, наблюдая на безупречно белых стенах спальни представление театра теней, срежиссированное Сири Моэм, супругой писателя. Тихонько прогуливался по саду с воркующей стайкой жеманников и забавлялся с ними в маскарадах до чрезвычайности. Правда, кажется, еще он сочинял колонки для светского журнала и состоял в переписке со знатнейшими бонвиванами Британии и континента. Это единственное, что он позволял себе делать.
Когда наивные газетчики спрашивали о планах на весну или лето, «Ярчайший» манерно закатывал глаза и монотонно, в подражание поэтам, декламировал: «Мои планы на эту весну – стать самой красивой райской птицей». Иногда манерники-друзья брали его на автопрогулку. И тогда Теннант просил завязать ему глаза (указывая на кусочек припасенной драгоценной парчи), объясняя желание в типичном для себя стиле: «Вокруг так много красоты, что мое сердце не выдержит. Ах, скорее же, завяжите мне глаза». Следующая картина была достойна пера Ивлина Во – по сельской дороге, поднимая клубы пыли и ревом мотора пробуждая гейнсборовский «ландшафт от серебристого сна, в открытом кабриолете
Изотта-Фраскини» мчат четверо молодых тонких красавцев во фланелевых пиджаках. Громко споря с двигателем и друг с другом, трое описывают сельские красоты (и врут, конечно) вдохновенному четвертому, самому молодому и самому тонкому, с блесткой материей на глазах. Это продолжается, пока четвертый не скомандует: «Довольно». Так же громко, споря и хохоча, четверка выруливает обратно в Уилсфорд Мэнор, родовое имение Теннанта, в башню из слоновой кости.
Будь жив король эстетов, он, безусловно, оценил бы костюмы «Ярчайшего» – шелковые свободные блузы немного в стиле XVII века, двубортные пиджаки и широкие брюки, скроенные на матросский манер, сорочки с жабо, жилеты и тесные шелковые кюлоты. Но юноша мог ходить и запросто – в футбольных пуловерах и фланелевых брюках, но непременно с несколькими массивными серьгами в ушах, в жирном дамском макияже и с алым «луком Купидона» на губах. Он носил «локоны Марселя», ловко подвитые раскаленными щипцами, как завещал Марсель Грато, и покрывал их золотой краской или сбрызгивал сусальной пылью, от чего становился похожим на прекрасного принца из сказочных грез Оскара Уайльда. Впрочем, сейчас он легко сошел бы за модель Эдн Слимана. Современный рекламный юноша от Dior Homme – это верный снимок с «Ярчайшего» в исполнении талантливого Сесила Битона.
Стивен Теннант (первый слева) и другие представители Bright Young Things в маскарадных костюмах во вкусе XVIII века
artblart.com
Мастер Ноэл
Его блистательная карьера началась с носка. Когда Ноэл был маленьким, мама Виолета посетила лондонское представление экзальтированной ясновидящей, которая предсказывала будущее человека по любой его вещи. Мама взяла с собой носок Ноэла и, терпеливо дождавшись своей очереди, передала вещунье. Та начала вдохновенно раскачиваться, потом закатила глаза и затряслась: «Я чувствую, я чувствую, это будет великий, очень великий человек. У него необычайная энергетика». Этих слов Виолете было достаточно, чтобы отдать сына в лондонскую танцевальную академию, откуда, по расчетам мамы, он должен был выйти без пяти минут звездой. Виолета часто, словно молитву, повторяла предсказание ясновидящей. Однако юноша оставался к ее словам равнодушен. Ноэл и так считал себя гением и давно уже разработал план восхитительного блицкрига, стремительного завоевания мирового шоу-бизнеса.
Ноэл Ковард
Конец 1920-х – начало 1930-х годов. Фотоархив: bris.ac.uk
Слава пришла к нему в 1924 году. Ноэл, тогда начинающий актер и драматург, автор нескольких пьес, ласково и спокойно принятых критиками, одетый со вкусом, но без шика, хороший парень, каких в Лондоне много, написал пьесу «Водоворот» и сыграл в ней главную роль. И критика, панибратски хлопавшая Коварда по плечу, дружески и с толикой высокомерия трепавшая по щеке, застыла в том самом немом широкоротом удивлении, которое так хорошо удавалось художникам британского «Панча». Она безмолвствовала, пока публика, ветреная и гибкая, аплодировала «новому гению, новому Уайльду».
В «Водовороте» было много уайльдианства – лондонская high life в дородных дорогих интерьерах, длинные, отточенные монологи с блестками колких афоризмов, декаданс, опиум, дым сигарет и живописно умирающая красота. Но было много нового, что в конце 1920-х назовут «ноэлизмами» – лихо заверченная психологическая драма, слова, полные тайного смысла, откровенные диалоги с интимными подробностями и пороки, все виды пороков современного общества: мать-нимфоманка, ее молодые любовники-жиголо, ищущие удовольствий и быстрых денег, сын-наркоман с неодолимым влечением к юношам. Блистательный скандал, ловко рассчитанный успех, затмивший литературные достоинства пьесы.
Не успела критика опомниться, как Ноэл представил две другие постановки, в которых также сыграл главные роли, – «Падшие ангелы» и «Сенная лихорадка». Обе про жизнь высшего света, далекую от христианских добродетелей, о продажной любви, алкоголизме, наркотиках и застенчивом, ловко замаскированном шуточками, обожании представителей собственного пола. В 1925 году Ковард написал мюзикл «On with the Dance» и представил его в Манчестере и Лондоне. В постановке, между прочим, участвовал Леонид Мясин. И это был колоссальный успех – Ноэла Коварда и продюсера мюзикла, Чарльза Кохрана. Заглавная песня «Бедная маленькая богатая девочка» стала главным хитом двадцатых, гимном флапперов, и бедных и богатых.
Ноэл Ковард и Гертруда Лоуренс в пьесе «Изумленное сердце»
1930-е годы. Фотоархив: bris.ac.uk
Первый триумф драматург встретил как должное. Прошел испытание медными трубами без особых психологических проблем и нервных срывов. Но было другое испытание, посложнее, – фотовспышками. Они заставили перекроить гардероб. Если до «Водоворота» Ноэл обожал красиво одеваться, то после – научился одеваться с лондонским щегольством, с легкой вест-эндовской сумасшедшинкой. До 1924-го он щепетильно подбирал сорочку к костюму, пошетку – к галстуку, галстук – к пиджаку. За два триумфальных года понял наивную нелепость попыток и сделал правилом (ставшим законом целого поколения) надевать что-то, выбивавшееся из общей гаммы и дополнявшее ее одновременно.
Ноэл Ковард и Гертруда Лоуренс в пьесе «Частные жизни»
1930 год. theredlist.com
Щегольская карьера Коварда тоже началась с носков – ярких, цветастых, нагло торчавших из-под классических брюк. Он сделал им отличную рекламу, и такими вскоре обзавелись экстравагантные модники Челси и Сохо.
Фотовспышки преследовали его повсюду, и приходилось с маниакальной тщательностью подбирать костюм и аксессуары, не забывая шокировать папарацци, как этого требовали законы шоу-бизнеса. В 1924 году он совершил ошибку, о которой жалел, кажется, всю жизнь. Для обложки журнала «The Sketch» он решил позировать в шелковой пижаме, одной из тех, которые приобрел сразу после успеха «Водоворота», сделав их весьма популярными в артистических кругах. Уселся на кровати, взял в руку трубку «Эриксона» и непринужденно болтал, пока фотограф наводил объектив. И потом как-то забыл про эту сессию, доверился редактору. И с ужасом обнаружил свой снимок на обложке – на кровати, в пижаме, с телефонной трубкой у накрашенного лица, с щелками вместо глаз (Ковард неудачно моргнул, и это фото сочли лучшим). «Я был похож на китайского фокусника, любителя чувственных наслаждений, находящегося на последней стадии физической и моральной деградации» – так, почти научным языком, драматург отозвался о себе на снимке. Это была первая и, пожалуй, единственная его имиджевая ошибка.
Разносторонне одаренный драматург, «Мастер», как его теперь величали, ввел в моду пестрые шелковые халаты. В одном из них дебютировал в «Водовороте» и потом еще много раз появлялся, атласный и подпоясанный, на сцене и на вечеринках перед гостями. «Эти халаты такие забавные, в них так удобно играть. И эта их мягкость, этот свинг», – Ковард мягко переливал невидимый струящийся шелк из одной руки в другую.
Халат, с шалевым воротником, кушаком, широкими рукавами, он носил с бабочкой из того же материала, поверх белой сорочки для смокинга. Изнеженно-салонный облик дополняли длинный костяной мундштук (еще один «ноэлизм») и глянцевые дорожки на черных, жестко уложенных волосах.
Ноэл Ковард и Лилиана Брейтуэйт
1930-е годы. Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-DIG-ggbain-38534
Еще в начале двадцатых, съездив в рациональную спортивную Америку, Ноэл полюбил яркие водолазки из джерси. И носил их со светлыми фланелевыми брюками и теннисками, а также, в более формальных случаях, с классическими двубортными пиджаками, украшенными бутоньерками. Получалось демократично, но в британском стиле. «Из вечерних газет я узнал, что начал новую моду», – вспоминал Ковард. Отныне все, и денди, и мальчики из хора, носили именно такие водолазки из джерси, иногда весьма смелых цветов.
Ковард никогда не перебарщивал с «ноэлизмами» и не злоупотреблял яркими штучками – помогали его развитое чувство вкуса и врожденный британский common sense. Он тихо любил сдержанные безукоризненные костюмы от Hawes&Curtis и других закройщиков с лондонской Сэвил-Роу, на раутах появлялся в классических смокингах и, в общем, почти не хулиганил и не эпатировал публику, как это делали его друзья, представители Bright Young Things.
Ноэл Ковард
1972 год. en.wikipedia.org
Один из главных «ноэлизмов» Коварда – произношение. Драматург выработал особый, весьма примечательный стиль речи – торопливый, немного в нос, мягкий, как будто слегка смазанный, с твердыми негрубыми «р». Слова «волшебный» и «дорогуша» (русский перевод не передает певучего очарования «marvelous» и «darling»), часто звучавшие в монологах и песенках Коварда, перекочевали в словарь модников, ими бросались прожженные эстеты, американские брокеры и даже школьники. «Я был группой “Битлз” своего времени», – говорил журналистам стареющий драматург, красиво затягивался сигареткой, скрывал насмешку в толстых складках губ. Иронизировал. Знал, что юмор – лучший комплимент уму. А Ковард был чертовски умным.
Певец джаза
Эл Джолсон
Конец 1920-х – начало 1930-х годов. flickr.com
Эла Джолсона любили не только за яркие номера и кинороли, но и за то, что он великолепно вписался в голливудский сценарий американской мечты, пройдя все испытания и став звездой. Он родился в Лифляндии, в семье ортодоксальных иудеев, нуждался, пережил унижения и страх погромов, эмигрировал вместе со своим многочисленным семейством в страну больших возможностей, которыми воспользовался вполне и превратился в «лучшего шоумена планеты», по версии американской прессы.
Эл Джолсон в роли Яши Рафаэльсона в фильме «Певец джаза»
1927 год. Частная коллекция
Эл Джолсон в фильме «Певец джаза»
1927 год. Частная коллекция
Рекламный плакат фильма «Певец джаза», 1927
reghartt. са
А начинал, как многие прославившиеся, на улице – танцевал, пел, обезьянничал, собирая звонкие, но редкие аплодисменты в кепку. От отца, впрочем, получал звонкие и частые затрещины. Папа, суровый бородатый раввин и кантор, смыслом жизни своей и детей считал служение богу. Но бог был глух к его звучным драматичным молитвам – сыновья Харри и Эл изучали не Тору, а глянцевые журналы и грезили о звездной бродвейской карьере. Случались скандалы, и чем больше настаивал отец, тем злее сыновья отстаивали свою мечту. И они не сдались – сначала из семьи ушел Харри, потом Эл. В 1890-е они вместе выступали в Нью-Йорке в театриках и цирках. Затем поссорились и расстались. Выступление Эла увидел продюсер Джейкоб Шуберт и в 1911 году пригласил выступать в нью-йоркском театре «Зимний Сад». Так началась карьера Эла Джолсона.
К началу 1920-х годов он был уже знаменитым бродвейским артистом, звездой мюзиклов «Робинзон Крузо» и «Синдбад», исполнителем душещипательных хитов «Swanee» и «Му Mammy», в его честь антрепренер Шуберт назвал свой новый театр у Центрального парка. Все это обеспечило Джолсону почетное место в академических энциклопедиях по киноискусству. Место в моде ему обеспечили необычный грим и роль в триумфальном «Певце джаза».
Идея выкрасить лицо в черный цвет пришла Джолсону в 1904 году. Есть мнение, что этим он как бы сделал реверанс в сторону старого комедианта Джеймса Дудли. Выпудрившись порошком из жженой пробки, он, сам того не ожидая, изменился – стал наглее, ехиднее, пластичнее, смелее. Стал другим. Не случайно потом он изобрел свое alter ego – чернокожего хитреца Гаса, слугу-негра, который ловко водил за нос белолицых господ под одобрительный хохот бродвейской публики, идеально-безупречно белолицей. В таком амплуа со сцены лучших американских театров Джолсон пропагандировал гарлемскую культуру, язык, поэзию, джаз и блюз. Хотя в его слишком хорошо поставленном голосе не было того сугубо негритянского расслабленного аппетитного драйва, густоты, влажной чувственности. «Я – чернолицый с голосом Гранд-опера», – шутил о себе Джолсон. Выступая в таком гриме, исполняя такую музыку, он приобщил нью-йоркских снобов к негритянской культуре, пропуская ее через спасительный европейский фильтр, через себя. Он научил многих молодых белолицых музыкантов красить лица и расцвечивать выступления гарлемскими нотками.
В 1927 году Эл Джолсон сыграл главную роль в фильме «Певец джаза». Его автор, именитый режиссер Алан Кросланд (снявший, между прочим, кинофильм «Флаппер», еще один бесспорный хит двадцатых), сделал ставку на новые технологии и не прогадал. В своей ленте впервые в истории кинематографа он использовал озвученные синхронные реплики, потому «Певца джаза» называют первым полнозвучным фильмом. Главный его герой – одаренный малый, Яша Рабинович, обожающий музыку, танцы, девушек и Бродвей, бегает в театры, небезуспешно пробует выступать в ресторанах и «спикизи». Но его отец, строгий хазан, против такого недостойного поведения, ибо считает, что мальчик должен стать примерным раввином. Мальчик убегает из семьи, а возвращается много лет спустя известным на всю Америку джазовым исполнителем.
«Певец джаза» – фильм революционный. Он не только про извечный избитый конфликт отцов и детей, он про интеграцию национальных меньшинств, иудеев и африканцев, в американскую культуру. Канторы красиво выводят плаксивые ноты в синагоге, а на сцене Бродвея им подражают их блудные сыновья, и зал сопереживает, зал рыдает. Африканцы в смокингах и смешных моноклях виляют бедрами, экстатично трясутся в припадках священного танца, подражая своим предкам-шаманам. И вместе с ними в первых рядах колышутся волны дородных женских тел, и грузно перекатываются драгоценные сотуары, увесистые капли пота, а девки на галерке визжат, и плещут, и шлют шоколадным танцорам воздушные поцелуи.
Главный герой фильма, выходец из иудейской семьи, красит лицо сажей и убедительно изображает на сцене негритянского певца. Это не только часть биографии Джолсона, скопированная в сценарий, это прекрасная метафора всей джазовой культуры, созданной и сыгранной эмигрантами, с легкостью талантливых артистов менявшими расписные национальные маски.
Аль Капоне
Мафиози Альфонс (Аль) Капоне
Около 1930 года. flickr.com
По всем писаным уголовным и неписаным человеческим законам Альфонс Капоне был плохим парнем. Очень плохим. Подделывал и продавал спиртное, владел сетью подпольных баров «спикизи», занимался сутенерством, соблазнял полицию щедрыми взятками, безжалостно истреблял конкурентов, устраивая им эффектные кровавые бани, держал в страхе честных бизнесменов, а некоторых недовольных отправлял к праотцам, стоял у истоков чикагской мафии и американской организованной преступности. Но моде на это наплевать. Моде претят возвышенные гуманистические категории. Ее интересуют персонажи. Аль Капоне был ярким персонажем, колоритным, страшным, страшно привлекательным, со своим особым элегантным стилем, который позже назовут «гангстерским».
Аль Капоне. Полицейская фотография 1931 год.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-USZ62-123223
Грузный, с плюхающим животом и ногами-тумбами, с детским пухлым лицом и жирными алыми губами, будто вымазанными томатным соусом спагетти, Аль Капоне не умещался в модные силуэты. Он начертил свой собственный – не слишком широкие с мягким покатом плечи, полукруглый абрис костюма, коконом облегавший дородное тело, прямые широковатые брюки и тяжелые Оксфорды с фетровыми гетрами. Капоне, делец и преступник, любил комфорт. Ничто не должно было мешать, когда он, уютно закинув ногу и раскуривая сигару, обсуждал дела с партнерами и когда в сыром тусклом подвале, одетый в безупречный костюм и широкое драповое пальто, методично, один за другим, срезал пальцы приговоренным конкурентам. «Гангстерский» стиль – прежде всего комфорт. Аль Капоне научил своих псов и своих восприемников, «волков» с Уолл-стрит, одеваться максимально удобно. Современный деловой стиль многим обязан чикагскому мафиози.
Аль Капоне в мягком драповом пальто и шляпе, получившей название «борсалино»
Фототипия
Капоне умел носить костюмы. И умел объяснить закройщикам, сдержанно, без агрессии, что он от них хотел. И закройщики, все до одного короли мужской моды, американцы Brooks Brothers и десяток уважаемых неаполитанских стариков, шили ему шикарные шерстяные тройки в тонкую полоску – брюки, жилеты, непременно тесноватые, с атласной спинкой, и двубортные пиджаки с широкими лацканами и пошетом, который Аль непременно украшал пестрым шелковым язычком. С такими костюмами носил галстуки, широкополые фетровые шляпы-«федоры» (предпочитал заказывать их у Borsalino), а также драповые двубортные пальто нараспашку, в том числе и светло-коричневые «поло», моду на которые Капоне нечаянно начал.
И были, конечно, аксессуары, сотни дивных драгоценностей – запонки и бриллиантовые перстни, галстучные зажимы и булавки и знаменитые сигарные гильотинки.
Впрочем, его главный деловой аксессуар, визитная карточка, был подчеркнуто лаконичным и ничего не говорил о вкусах и делах своего хозяина. Скромная надпись гласила: «Альфонс Габриэл Капоне, купля-продажа подержанной мебели».
Глава 2 Модернистки, «мальчишки», флапперы
После войны дышалось особенно легко.
Хотелось развлекаться. Танцевать, выпивать, шалить, ни о чем не думать. Хотелось позировать и вставать в позу, нарушать правила, возмущать моралистов.
Известная американская теннисистка Хелен Уиллс позирует в элегантной шляпке «клош»
Нью-Йорк, 1928 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Черное, к примеру, называть белым. Черный джазовый Гарлем превратили в центр модной тусовки.
Съезжались туда в шикарных «турбо», шелестели шелковыми комплиментами, подмигивали бижутерией, гоготали жирными мехами. И, приняв дозу «нигро мьюзик», мчались на Пятую авеню или в Гринвич, в «Криллон» и «Кафе де Пари», в сумасшедшие клубы на крышах отелей под звонким зеркальным поднебесьем, и там купались в пене шампанского, аплодировали фейерверкам, трясли жемчужной бахромой бедер и атласными локонами дорогой укладки, обжимались с наполированными чернокожими, курили, глотали коктейли, разбрасывали себя на танцполе, растворялись в музыке. И ночь становилась днем.
Во время Первой мировой войны многие женщины встали за станки.
Эта барышня в простом рабочем халате трудится на оружейном заводе 1916–1917 годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Годы перестали быть цифрами в личном деле. Они стали проклятьем времени. Все хотели быть молодыми. «Всем сделалось от роду двадцать шесть. Для тогдашней эпохи и места это был самый правильный возраст», – писала Гертруда Стайн. Двадцать шесть – уже не юность, но еще не молодость. Девственная красивость, граничащая с откровенной сексуальностью, протест – с вульгарностью.
Тогда все было на грани. Девушки гениально перевоплощались в мальчиков, оксфордские юноши, те самые, «яркие молодые штучки», примеряли французские платья с фижмами и седые парики сумасшедших марвейез. Люди двадцатых были половинчатыми. Легко меняли пол. Играли на грани. Пограничье было их местом жительства. «Яркие молодые штучки», «гарсонки» и флапперы, вся эта шумливая дурашливая золотая молодежь кривлялась и дергалась меж вонючих окопов и колючей проволоки, зажатая стальными торсами сверхчеловеков – героев Вердена и героев блицкрига. Серебристый шлейф конфетти обозначил границу между Первой Великой и Второй мировыми. Мир длился всего двадцать лет. И за эти двадцать лет сформировалась новая женщина и новая красота.
Модернистки
Великая война в каком-то очень негуманном смысле была творцом. Одаренным и безумным. Она отнимала – не только лишнее, но и то, что в мирном, буржуазном обществе считали признаками красоты. Она отнимала, и калечила, и создавала невероятные по своей апокалипсической эстетике картины. Оскопленные башни замученных готических соборов в запекшейся бурой магме пожарищ. Немая от ужаса, седая от пепла «ничейная земля», черные остовы жилищ, лунные кратеры гигантских воронок, пустые глазницы войны. Застывшие в позе атаки, в атаке сраженные солдаты с окоченевшим оскалом на восковых лицах и мягко колышущимися волосами, страшными признаками недавно ушедшей жизни.
Война создавала нового человека, отнимая у него данное природой, отпарывала руки, выкорчевывала суставы, крошила кости, разносила черепные коробки, вырывала глаза, взрезала животы, выворачивала совершенное творение Всевышнего наизнанку.
Девушка, пользуясь тем, что мужчины на фронте, безбоязненно курит папиросу
1916–1917 годы.
Архив О. А. Хорошиловой
С войны редко приходили. Счастливчики с войны ковыляли и прихрамывали, менее везучие волочили то, что осталось от ног: осторожно костыляли, слепо ерзали тростями по брусчатке, надсадно скрипели в колясках, громыхали на кое-как сбитых низеньких тележках. Истерзанные, разбитые, совершенно безумные.
Такими с войны возвращались мужчины.
С женщинами война расправилась столь же грубо – лишила их мирной привилегии: легкомысленности. Дамы перестали носить переливающиеся стеклярусом туники, глупые кушачки и рюши, баснословные шляпы с молочными каскадами перьев. Они запретили себе строить дурочку и надувать щечки, кривляться и привередничать, носить грузный макияж и драгоценности. Они стали жесткими, расчетливыми, сухими, легкими – превратились в «femme moderne», в модернисток.
Война усилила ratio, ограничила рацион. Дамы резко сбросили вес. Война отобрала свободное время – женщины остригли волосы, на уход за которыми тратили когда-то часы, встали у заводских станков, сели на мотоциклы вспомогательных армейских частей, чинили авто, возили уголь, тушили пожары, обилечивали пассажиров и в трамвайной сутолоке молодецки давали мужчинам сдачу в обоих смыслах.
Военные вещи, в том числе френчи, гетры и обмотки, стали элементами женского костюма. На этом снимке часть девушек позируют в военных галифе с крагами, одна – в британском офицерском кителе
Линкольн (Великобритания). 1918–1919 годы. Архив О. А. Хорошиловой
Элегантные молодые люди в форме были весьма популярными образами военной эпохи
Открытка, 1917–1918 годы. Архив О. А. Хорошиловой
В России во время Первой мировой войны тоже были дамы, носившие солдатскую и офицерскую форму. Одна из них – Мария Леонтьевна Бочкарёва, основательница 1-го женского батальона смерти
Фототипия с факсимиле, 1918. Архив О. А. Хорошиловой
Карикатура, высмеивающая женщин, эмансипированных войной. Все они курят, а некоторые одеты в мужские полувоенные френчи
Журнал Vogue (London), 1918. Архив О. А. Хорошиловой
Вольноопределяющаяся Мария Станиславовна Борх (псевдоним – Владимир Борх), участница Первой мировой и Гражданской войн, кавалер Георгиевской медали 4-й степени. Одна из тех, кто своей внешностью предвосхитил стиль garçonne 1920-х годов
Фототипия, 1919. Архив О. А. Хорошиловой
Зеркала считали старомодными, красились редко. Курили много, заправски, глубоко затягиваясь, а потом молодецки прибивали окурки в асфальт носком кованого ботинка. Ночей не боялись. Одевшись фривольно, летели на острый призывный свет кафешантанов и кабаков. Там их встречали пышнотелые дамы в жирных свалявшихся мехах, золотых перстнях на красных пальцах и, облизывая маслистыми растушеванными глазами, препровождали истощенных тружениц тыла в стальные требовательные объятья незнакомцев. И порок, умноженный зеркалами, бережливо скрывал плотный бархат сигаретного дыма.
Так забывали о мужьях и войне.
Сабиха Гёкчен, первая турецкая женщина-летчик, любила военные вещи и носила брючные костюмы
Раскрашенная фотография начала 1930-х годов. flickr.com
Мэри Аллен, начальник лондонской Женской вспомогательной полицейской службы. Она предпочитала военные вещи и разбиралась в тонкостях офицерского шика
Фототипия, середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Дамы находили своеобразную прелесть в грубых френчах и шинелях, не могли расстаться с удобными бриджами-галифе и эффектными кожаными крагами. Иногда, чтобы развеяться, устраивали костюмированные вечеринки, на которые являлись мужчинами – в брюках, кепках, мешковатых пиджаках. Шутили, конечно. И этими шутками приближали время перемен – эпоху смокингов и твидовых троек. Обрюченные берлинские фрау, эмансипированные американские спортсменки, стамбульские таксистки, освобожденные Ататюрком, – все они родом из военной травестии.
Модернистки полюбили униформу и тяжко маршировали вдоль пустозвонких улиц. В Англии в начале войны была создана организация «Полиция женщин волонтеров», позже переименованная в «Женскую полицейскую службу». Все ее чины носили настоящую форму: синие мундиры, шинели, фуражки, черные кожаные сапоги, и своей британской офицерской холеностью эпатировали мирных жителей. Женщин в униформе часто путали с мужчинами. Эти конфузы стали темами карикатур. В «Панче», к примеру, опубликовали рисунок – молодые офицеры обсуждают парочку в форменных костюмах, стоящую поодаль. «Слушай, а кто этот хромающий офицер рядом с твоей сестрой?» – «Это моя вторая сестра».
Поэтесса и светская львица Нэтели Клиффорд Барни
1890-е годы. Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-USZ62-77334
Война серьезно покалечила дам. Она лишила их пола. Худые, бледные, безгрудые, коротковолосые и огрубевшие, они бесспорно возглавили бы список жертв Первой мировой, если бы не их независимость патологического характера. За пять лет дамы научились обходиться без мужчин. Они работали ради себя, одевались ради себя и отпустили на волю те прихоти, которые осуждало чопорное довоенное общество. Женщины находили женщин и счастливо жили, забыв о мужчинах. И когда те возвращались с фронта, они не узнавали своих подруг. Их встречали не любовницы, но «камерады», товарищи по оружию, и сдержанно протягивали в приветствии натруженные шершавые руки. «Без груди, без бедер, курят, работают, ругаются и дерутся, как мальчишки», – возмущался современник. «Это femme modern, это главное творение Великой войны!» – объясняли журналы.
Но время лечит. Возможно, и эта рана зарубцевалась бы. И модернистки стали бы довоенными дамами с повадками изнеженных самок. Но вмешались светские обстоятельства и мода. Светские обстоятельства – это опасные и потому столь притягательные клубы, о которых после войны громко шептала лондонская пресса, курлыкали в Латинском квартале и которые навязчиво рекламировали берлинские клубные буклеты. Мода на мальчиковый образ сделала эти затхлые салоны доступными, а их обитательницы, известные интеллектуалки, оказали ему светскую поддержку. «Мальчишки» проникли в литературу, театр, живопись. Вскоре ими заинтересовались в Бабельсберге, Голливуде и мире Высокой моды, увлекавшемся опасной экзотикой. И модернистки стали частью шумного общества флапперов.
Дамы в моноклях
Перед смертью Оскар Уайльд в полубреде умалял привезти ему poison de Paris, парижского яду. Король эстетизма знал о нем все. Poison de Paris – тот особый вид свободы и раскованности Левого берега, который за дорого, порой ценой чьего-то вдохновения или жизни, предлагали местные интеллектуалы заезжим любителям опасных наслаждений. Poison de Paris был гремучей смесью самых высоких философских материй и самых низменных плотских пороков. И трудно было решить, что же из них слаще.
Парижским ядом торговали в Латинском квартале, в сумрачных салонах и закрытых клубах, где бесполые тени свободно входили в духовный и физический контакт, подменяя любовь эффектным маскарадом, травестией высоких чувств. Любить здесь было не модно, но было модно желать.
Об Оскаре Уайльде, травестии и сотне пороков часто поминали в салоне Нэтели Барни, на рю Жакоб. Его завсегдатаи, торговцы парижским ядом, бледные дамы в смокингах и крахмальных воротничках, мужественные и бесстыже безмужние, непринужденно говорили о новых женщинах, военных ранах, о lOHbixgarçonnes, которым посвящали себя и свои тихие таланты. В салоне Барни осмысляли произошедшие перемены, сделали новому женскому идеалу красоты рекламу в среде европейских интеллектуалов. И тем возвели собственную маргинальность в культ.
Нэтели Клиффорд Барни, богатая американка и поэтесса, была известна своими произведениями гораздо меньше, чем интимными похождениями. Впоследствии она признавалась друзьям: «Я не хотела создавать искусство, я хотела превратить собственную жизнь в произведение искусства». И это ей вполне удалось.
На грани веков она открыла салон в парижском предместье Нейи-сюр-Сен, который сразу же стал центром притяжения творческой богемы и ненасытных софисток. Здесь читал свои стихи Кокто, кружилась в экстазе Мата Хари, миниатюрная Колетт и круглый оптимист Поль Пуаре разыгрывали сценки из «Бродяги». Лиана де Пужи, баронесса Клермон-Тоннер, графиня де Ноай танцевали обнаженными, и пухлый десятилетний амур, подвешенный к люстре, разбрасывал красные лепестки роз под чувственные стоны контратенора. «Прекратите это безобразие!» – требовал возмущенный рантье. Он пригрозил полицией. Музы разлетелись испуганными мотыльками. Барни пришлось покинуть Нейи, но уже через несколько месяцев, в апреле 1909 года, она с радостью сообщала подругам: «Я искала и, наконец, нашла жилище между двором и садом, там я стану весталкой маленького Храма дружбы». Ее новый салон на рю Жакоб, 20, просуществовал с 1909 по 1968 год.
Дом № 20 на улице Жакоб.
Здесь с 1909 по 1968 год Нэтели Барни принимала гостей в своем литературном салоне
2014 год. Фотография О. А. Хорошиловой
Здесь было всегда сумрачно. Темные портьеры, темная разностильная антикварная мебель, оттоманские кушетки и ковры, тусклые обои с мерцающими восточными орнаментами и сотни случайных предметов, от хумидоров до надкушенной плитки шоколада, в небрежном художественном беспорядке, повсюду в комнатах. Пахло турецкими сигаретами, интеллектуальной пылью, подгнившими фруктами и сладко надушенной старостью. Вечером, когда собирались гости, хозяйка опускала портьеры, зажигала свечи, ставила опиумные лампы, зеленоватый тягучий дым которых мерно восходил к расписному потолку, змеисто извиваясь, играя удушливыми кольцами в такт шипящих стихов увядавших софисток. Медленно, волнуясь и дрожа, они читали о вздохах таинственных, девах воинственных, страсти и что-то там про лепестки и розы. Словом, про запретную любовь. К ней на рю Жакоб, 20, относились трепетно, считая даром не бога, но богов. И потому иногда шли в Храм дружбы, небольшой аккуратный неоклассический дом с фронтоном и четырьмя ионическими колоннами (его Барни тоже арендовала), и возносили там хвалу небесной любви совсем в стиле греческих жриц. Но там же по соседству, в расхристанном и наглом Латинском квартале о ней ревели другие, бульварные песни, и мяли друг друга в стальных объятьях короткостриженные особы, работницы доков, лавок, парижских издательств. Сафизм уже был достоянием уличной культуры, музыки и полицейских хроник. Но об этом Нэтели Барни ничего не хотела знать. Она ревниво оберегала свою башню из слоновой кости и ее бесплотных и бесполых обитательниц.
Двадцатые были осенью Барни. Далеко то время, когда она, с распущенными волосами, распущенно позировала в мужской сорочке, банте и кюлотах, по-кошачьи развалившись на плюшевой кушетке. Когда она, в ампирных драпировках, рисовой пудре и прическе «Ниппон», обжималась с поэтессой Рене Вивьен для студийного фото, а безымянный автор снимал ее на «кодак» в парке, прекрасно обнаженную, тонкую, сквозящую солнцем и утренним золотом свежего осеннего парка.
В 1926 году Барни исполнилось пятьдесят. Она остригла пегие волосы, почти не носила макияжа и не мучила брови, позволив им вольно и кустисто расти. Впрочем, они добавляли ей привлекательности. Снобизм и привычка говорить через губу легли легкими презрительными морщинами в уголках рта. Возраст заставил скрывать шею и носить сорочки с высоким стоячим воротничком, а либеральные двадцатые позволили открыто заигрывать с мужским стилем, время от времени щеголять слишком правильными костюмами и моноклем на широкой репсовой ленте. Во всем же остальном Барни оставалась самой собой – Амазонкой с отличной фигурой, прямой и упрямой спиной превосходного наездника, лучистыми глазами умной соблазнительницы и вытянутым, немного британским лицом высокомерной викторианки.
Барни была викторианкой. Это выдавали ее слишком плавные движения, размеренность речи, сдержанность безупречно составленных фраз, даже если они касались самых интимных подробностей ее общения с юными любовницами. А их было немало.
Под стать Амазонке были завсегдатаи ее салона – дамы за сорок, леди породистые и леди-полукровки, обладательницы того особого качества, которое англичане именуют «breed» – нечто среднее между безупречной лошадиной красотой и аристократической статью. И все они были чистыми викторианками, высокими, полуживыми, монументальными. Такими их увидела рыжая подвижная Колетт, выглядевшая среди них сомнительной лотрековской клоунессой. Но миссис Барни великодушно открыла ей двери салона, открыв ей ссохшиеся створки собственного сердца.
Эти дамы за сорок носили темные мужеподобные костюмы, вестоны, сюртуки или смокинги, сорочки с жестко накрахмаленными слишком высокими воротниками, отлично скроенные брюки в тонкую полоску или менее опасные на парижских улицах кюлоты. В глазах некоторых поблескивали монокли, символы сексуального раскрепощения и крепкой солидарности с мужчинами. Седые волосы многих были коротко острижены и подбриты на затылке, лица бледны и аскетичны. Они казались тусклыми портретами круга Энгра, по ошибке вынесенными на свет божий из запасников Лувра. Такой облик и стиль, необычный для видавшего разные виды Парижа, иногда привлекал внимание полиции – французские законы с наполеоновских времен запрещали дамам носить брюки, и в двадцатые их никто не отменял. Потому на вечера к Барни приходили (вернее, шмыгали тенями по боковым улицам) в длинных черных манто, скрывая под ними презрение к местным законам и стеснительную любовь к собственному полу. Эти благородные байронические тени приводили с собой подружек, иногда настоящих парижских флапперов – живых, объемных, шумных, непоседливых, раскрывавших глазки и надувавших губки совсем как Луиза Брукс и Клара Боу. К ним картинные тени проявляли влажную, почти материнскую заботу, смакуя их терпеливую и отнюдь не бескорыстную благодарность как предсмертный глоток свежего воздуха.
Викторианская благородная красота тихо умирала вместе с салоном Барни. И чтобы сделать этот процесс невидимым и безболезненным, Амазонка приглашала завсегдатаев с того, то есть мирского, света. Сюда, на рю Жакоб, 20, в уютные старинные апартаменты со скрипучими половицами (танцевать не разрешали из-за риска обрушения перекрытий) приходили лучшие из «потерянных». Жан Кокто, вихрастый, в бархате, с женскими ужимками, вслух наслаждался собственными виршами, считая их гениальными. Эзра Паунд и Барни в два голоса исполняли написанные совместно стихи, много смеялись. Похожий на гигантскую моль Поль Валери зачитывал кое-что из новой прозы, плохо скрывая академическую высокомерность. Марсель Пруст ничего не читал. Придя к Барни за полночь, тихий, прозрачный, выпудренный до смертельной бледности, он несколько часов подряд нашептывал последние светские сплетни, много ломался и посмеивался сухим кашлем в костлявый кулачок.
Гертруда Стайн и Элис Б. Токлас часто наведывались к Нэтели Барни на улицу Жакоб
Пресс-фото, 1920—1930-е годы, pinterest.com
На рю Жакоб бывали Сомерсет Моэм, Скотт Фицджеральд, Андре Жид, Луис Арагон, Тамара Лемпицка, Мари Лорансен, Джанет Фланнер, Сильвия Бич. Несколько раз здесь тепло принимали Джеймса Джойса. В салон наведывались Гертруда Стайн и Элис Б. Токлас, гора Сезанна и птичка Пикассо. Стайн, уютно по-хозяйски развалившись на диване, много говорила, много слушала и молодецки гоготала над стеснительно оброненной пошлой шуткой, такой редкой в этом пристанище весталок. Она единственная, кому Амазонка разрешала столь неприлично громкую реакцию.
Писатель, светский хроникер Джанет Флайнер. Дама отличалась любовью к экстравагантностям
Конец 1920-х – начало 1930-х годов.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-DIG-ppmsca-23769
О салоне Барни знала и, возможно, его посещала поэт Вита Секвилл-Уэст, автор незатейливых стихов и фантастических по дерзости любовных треугольников. Она гениально отбила Виолетту Трефузис у ее сконфуженного супруга, а в конце двадцатых закрутила интригу с замужней Вирджинией Вулф, результатом чего стал роман «Орландо», посвященный Вите. Подобно либертинкам Левого берега, Секвилл-Уэст разбавляла женственный гардероб мужскими вещами. Вулф запомнила ее, высокую и острую, в широкополом сомбреро, твидовом Норфолке, галифе и высоких кожаных гетрах, тесно облегавших ее длинные стройные ноги. Этому стилю поэт оставалась верной до своей смерти.
Уильям Странг. Портрет Виты Секвилл-Уэст, 1918
Музей Келвингроув (Глазго)
Вирджиния Вулф, автор романа «Орландо», посвященного Вите Секвилл-Уэст
1928 год.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-USZ62-111438
Салон Барни с ее опыленными тенями и редкими вспышками гениальной литературы преодолел границы маргинальной культуры благодаря визуальной рекламе, автором которой была Ромен Брукс. Она присутствовала на вечерах номинально, этикета ради, из-за Нэтели Барни, с которой тщетно пыталась создать нечто вроде семьи. Брукс забивалась в какой-нибудь плюшевый дальний угол и оттуда нацеливала на гостей две пугающе светящиеся вампирические точки, которые в быту называли глазами. Ими она, по выражению Робераде Монтескью, «похищала человеческие души». Вполне возможно.
Ромен Брукс. Рената Боргатти за фортепиано
1920 год. Смитсоновский музей американского искусства (Вашингтон)
Брукс выбирала для своих портретов самых странных, эксцентричных и тем притягательных персонажей. В 1920 году для нее позировала пианистка Рената Боргатти, диковинный цветок салона Барни. Это был совершеннейший андрогин, высокий, статный, басовитый, с развитыми мужскими плечами, большими, но по-женски гибкими руками, с копной черных рассыпчатых волос. Боргатти нравилось, когда ее сравнивали с Листом.
Ромен Брукс. Автопортрет 1914 год.
Смитсоновский музей американского искусства (Вашингтон)
Ей нравились мужские костюмы. Она носила белые сорочки, черные сюртуки и галстуки, брюки и шелковые манто в стиле XIX века. И еще монокль.
Брукс была без ума от Боргатти. И чувства свои передала на портрете в своеобразной манере – превратила пианистку в готическую летучую мышь, запустившую когти в черно-белую податливую плоть рояля.
Ромен Брукс.
Автопортрет (в амазонке)
1923 год. Смитсоновский музей американского искусства (Вашингтон)
В 1923 году был написан «Автопортрет». Ромен изобразила себя в амазонке, сделав легкий реверанс в сторону Барни. Костюм слишком мужской – сорочка со свободным «байроническим» воротником, черный сюртук строго по фигуре без признаков груди (впрочем, тогда грудь стремительно покидала женскую моду), серые лайковые перчатки с отворотами, черный затянутый атласом цилиндр с вуалеткой, яркая красная точка в петлице – лента ордена Почетного легиона, полученного в 1920 году. И две месмерические точки глаз в тени цилиндра. Демонический автопортрет. Формула андро-гинности. Икона стиля Левого берега, которую начали копировать многие дамы в моноклях.
Ромен Брукс. Питер (молодая англичанка)
1923–1924 годы. Фототипия 1940—1950-х гг. с оригинального портрета, хранящегося в Смитсоновском музее американского искусства (Вашингтон)
Потом был Питер. Или Пит. Так ее звали близкие друзья. Свое официальное имя Ханна Глюкштайн ненавидела. Фамилию сократила до музыкального «Глюк» и так подписывала работы. Она была известным художником, талантливым, декоративным. Вкусно, в деликатных полутонах описала дивную стерильно геометрическую эпоху британского ар-деко. И одновременно писала портретики, трогательные, с особым, генетическим, мелодичным надрывом. Она понравилась Брукс и близко сошлась с гостеприимной Барни. Питер носила исключительно мужские костюмы, слишком хорошо сшитые, с таким женским щегольством. Обожала широкополые шляпы и макферлейны, норфолки и кожаные гетры. Много курила и стриглась коротко – на итонский манер. Ее неизбежно путали с юношей. И это ей льстило. Но в интерпретации Брукс Питер получилась утонченно женственной в мужской одежде не по размеру, хрупкая фигурка, тонкая шея, ахматовский профиль. «Tres garçonne», – был общий вердикт. Да, это был очень «гарсонистый» образ, который вошел в моду всего через несколько лет. А через пол века портрет «Питер, молодая англичанка» стал элегантной визитной карточкой двадцатых.
Писатель Маргерит Редклиф Холл («Джон»)
Фототипия. Конец 1920-х – начало 1930-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Пожалуй, самым странным цветком в этой дикой салонной оранжерее был Джон. Вернее, Маргерит Редклиф Холл, английская писательница с яркими способностями, не переросшими в талант. Это был, в общем-то, несчастный человек, не сумевший примирить пол внешний, женский, с полом внутренним, абсолютно мужским. Джон одевалась с эдвардианским шиком фешенебельной Сэвил-Роу – белоснежные сорочки с накрахмаленной грудью, безупречные галстуки и шейные платки, вестоны, сюртуки, муаровые смокинги, брюки, иногда юбки. Она носила старинные перстни и монокль на шелковой ленте.
Редклиф Холл эпатировала чопорных британцев своими мужскими костюмами и чрезвычайно короткой «итонской» стрижкой
Фототипия. 1935 год. Архив О. А. Хорошиловой
В салоне Барни ее бесстыже осматривали с ног до головы, поблескивая лорнетками и колкой иронией глаз. Джон мужественно терпела, как делала это всегда. Печальный андрогин, пугающе откровенный, без театральной пудры и ужимок, смущал даже прожженных подруг Барни. Ее исповедальный роман «Колодец одиночества» сочли в салоне слишком честным и потому надуманным. И молча, по-английски, Джона отлучили. Но Брукс продолжала поддерживать связь, не с Редклиф Холл, которую не понимала, а с ее подругой, эксцентричной, немного взъерошенной аристократкой леди Уной Трубридж.
Ромен Брукс. Портрет леди Уны Трубридж 1924 год.
Фототипия 1940—1950-х гг. с оригинального портрета, хранящегося в Смитсоновском музее американского искусства (Вашингтон)
Леди Уна стремительно вышла замуж за орденоносного адмирала, и так же стремительно с ним развелась, и в мгновение ока превратилась в заядлую сафистку, познакомившись с Редклиф Холл, в которую тут же и без памяти влюбилась. В 1924 году Ромен ненадолго приехала в Лондон, чтобы ее запечатлеть.
Обложка мемуаров Уны Трубридж «Жизнь и смерть Редклиф Холл».
Первое издание, Лондон, 1961
Архив О. А. Хорошиловой
Мне всегда нравился этот портрет, хотя современники Брукс называли его карикатурой. В нем есть какая-то особенная холодно-острая поза, лоск и холеная стать, которой славились женщины двадцатых. И еще британская ирония. Сухая мордочка злой мартышки – не карикатура Брукс. Это карикатура самой Трубридж на чопорное общество. Именно так, кривя лицо, сквозь презрительный монокль, рассматривали Джона на улицах и в театрах, и даже в либеральном салоне Нэтели Барни. В то время Трубридж частенько баловалась травестией, чтобы уравновесить слишком мужской стиль Джона. Она с легкостью перевоплощалась в изящного мальчика, надев белую сорочку, черный сюртук, визиточные брюки в полоску, высокий викторианский крават. В глаз ввинчивала тот самый презрительный монокль в золотой оправе. Считала это забавным. Иронизировала – над окружением и немного над собой.
Уна Трубридж
Фототипия. Конец 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Но портретом осталась категорически недовольна. Брукс всегда усиливала скрытые качества моделей. Иронию Трубридж обратила в злую карикатуру и этим выдала свое личное отношение к этой во всех смыслах странной парочке, Уне и Джону.
Либертинок Левого берега изображала не только Ромен Брукс. Их рисовали Кис ван Донген и Мари Лорансен. Им посвящали колкие литературные экзерсисы именитые современники двадцатых. Комптон Макензи, гость салона Барни и других тайных парижских пещер наслаждения, издал повесть «Необычные женщины», едко высмеяв порочных весталок и печальных андрогинов. Книга пользовалась успехом. В 1927 году маргиналы зачитывались сочинением «Третий пол» о квир-культуре Парижа и дамах в моноклях. Его автор (возможно, муж Колетт) скрылся под игривым, несколько пикантным псевдонимом Вилли. Настоящий скандал разразился, когда в Британии издали роман «Колодец одиночества» Редклиф Холл. Дело дошло до суда. И не менее бурную реакцию вызвал роман «Ночной лес» Джуны Барнс, вышедший в 1930-е. Он был про сложные, почти фронтовые отношения писательницы с Тельмой Вуд, американским скульптором. Автор откровенно обо всем рассказала, но запуталась в эпитетах и захлебнулась в эмоциональном словопотоке.
Джуна Барнс, автор романа «Ночной лес»
1930-е годы, wdiy.org
О Барни и Ромен Брукс писали в глянцевых изданиях. В 1923 году о них упоминает влиятельный парижский Vogue, превознося чувство вкуса миссис Брукс, восхваляя ее уистлерианские интерьеры и необычный гардероб. В 1926 году журнал опубликовал большую статью о художнице, признав ее талант и влияние на моду.
Но даже такая смелая светская реклама и судебные разбирательства не могли превратить «необычных женщин» в икон стиля. Шумной, яркой, по-голливудски размашистой моде двадцатых нужна была массовость, бульварный гротеск, скандал самого низкого, бульварного свойства. Все это обеспечили подпольные бары Парижа и Берлина. Барни и ее весталки их презирали, сквозь зубы цедили: «Шуаны, сборище плебеев». Но туда со всей Европы валом валил изголодавшийся послевоенный люд – поглазеть на необычных «фриков природы».
* * *
В сердце вольной ночной левобережной жизни, на бульваре Эдгара Кине, 60, находилось известное заведение «Monocle», на дверях и визитках которого осторожно значилось: «Парижское женское кабаре». Мужчин туда не пускали. В начале двадцатых его открыла знаменитая Лулу де Монпарнасе, кряжистая, коротко стриженная, с грубым лицом рыночной торговки. Нравы здесь были тоже грубые, уличные. Крепко пили, крепко матерились, цикали сквозь зубы на пол, курили, зажав цигарку зубами, ржали, тискали дородных подруг и звонко били мозолистыми ладонями по их терпеливым литым крупам. Барни здесь действительно было нечего делать.
В «Monocle» существовал особый дресс-код – белые сорочки, галстуки, черные смокинги с брюками, лоснящиеся бриолином итонские стрижки, белая гвоздика в петлице и монокли в черной или роговой оправе, на широкой репсовой ленте. Позволяли и менее официальные наряды – к примеру, твидовые тройки. Название и главный атрибут кабаре выбрали умышленно. Если верить писательнице Колетт, в Париже, да и в Берлине тоже, монокль, крепко вставленный в женский глаз, стал главным признаком сексуального раскрепощения и тайным знаком, по которому «необычные дамы» определяли себе подобных на улицах и в кафе. Впрочем, часто узнавали друг друга по взгляду, особому, пронзительно колкому, с искорками злой иронии и острого желания.
Завсегдатаи парижского клуба «Monocle»
Фотография начала 1930-х годов. Частная коллекция
В «Monocle» и других барах, «La Vie Parisienne», основанном известной моделью Сьюзи Солидор, в фешенебельном «Le Boef sur le tois», в берлинских «Chez ma belle-soeur», «Dorian Grey», «Toppkeller» любили устраивать костюмированные вечеринки. И ни в чем себе не отказывали. Приходили на маскарады в подчеркнуто мужских нарядах – засаленных рубахах и комбинезонах работников доков, строгих френчах и фуражках полисменов, черных фуфайках трубочистов, твидовых куртках и кепках разносчиков газет. Были и такие, кто являлся во фраках и глянцевитых цилиндрах викторианских лордов. Но самой любимой была униформа – матросов и солдат. Ее считали очень сексуальной. Она раскрепощала. Крепко сбитые дамы обожали мятые белые морские брюки с пикантным откидным клапаном. Они носили их с матросками и сорочками, закатав рукава и показывая недюжие мускулы со сложной вязью баснословных татуировок. Дополнял мужественный облик французский берет. Так, к примеру, одевались Тельма Вуд и яхтсменка Марион «Джо» Кастеарс.
Тамара Лемпицка. Портрет Сьюзи Солидор
1932 год. Фрагмент
У этих шумных и эпатажных клубных образов была удивительно крепкая связь с театральной травестией. Полисмены и королевские гвардейцы, солдаты и матросы, и викторианские снобы – всех их комично, а порой и весьма талантливо, изображали актрисы-имперсона-торы на сценах варьете и мюзик-холлов по обе стороны Атлантики. Они были настоящими звездами. Британка Веста Тилли играла пажей, юных щеголей и женатых джентльменов. Американке Элле Шилдс удавались роли глупо влюбленных и несчастных светских львов. Хетти Кинг, наиболее талантливая из них, блистательно перевоплощалась в рубаха-парней Ист-Энда, ковбоев, солдат, матросов и джентльменов с неизбежным моноклем в глазу. Она прекрасно копировала мужские ухватки и владела десятком способов вынимать сигарету изо рта.
Дом № 28 по улице Буасси-Дангла. Здесь в 1927–1928 годах располагался знаменитый ночной клуб «Le Boef sur le tois»
2014 год. Фотография О. А. Хорошиловой
Элла Шилдс, актриса-имперсонатор, прообраз Эми Джолли в фильме «Марокко»
Фотооткрытка с автографом. Архив О. А. Хорошиловой
Веста Тилли, знаменитая актриса-травести, игравшая мужские роли
Фотооткрытка, 1910-е годы. Архив О. А. Хорошиловой
В 1920-е годы в мужчин перевоплощались не только актрисы-травести, но и звезды джаза. Джозефина Бейкер иногда выступала во фрачной тройке и цилиндре. Надпись у фотографии гласит: «Смокинг или пиджак? Джозефина Бейкер демонстрирует новую моду»
Фототипия из французского журнала. Конец 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Марлен Дитрих в роли Эми Джолли в фильме «Марокко»
1930 год.
Помимо яркого таланта, было что-то в самой их одежде – идеально скроенной, рафинированной, с тонким портновским шиком. Она смотрелась сексуально, особенно на женственных актрисах. И Кинг это, конечно, понимала. Как понимал это Йозеф Штернберг, переодевший в 1930 году Марлен Дитрих во фрачную тройку и превративший ее в секс-символ всего XX века.
В актрис-травести влюблялись поголовно – мальчики, девочки, мужчины, даже их жены. Сара Уотерс в романе «Бархатные ножки» элегантно описала интригу между устричной торговкой и дамой-травести. Но это лишь плод ее воображения. Все актрисы-имперсонаторы были безупречно, подчеркнуто замужними и громко изменяли супругам с красавцами-актерами и маститыми продюсерами.
Модный образ garçonne в смокинге, с непременными атрибутами – моноклем и мундштуком
Открытка, Франция, 2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Популярность и сексуальная привлекательность дам-травести, особенно после Первой мировой войны, повлияли и на отношение к маргиналкам розовых баров. О них мягче отзывались в прессе, карикатуристы высмеивали их не столь жестоко. Отто Дикс, Тамара Лемпицка, Додо (Дерте Клара Вольф), Ханна Глюкштайн с наслаждением живописали грубую красоту «фриков природы». Гениальный Брассай скользил по влажному ночному Парижу и просачивался в его дурно пахнущие норы, где порок и поза были неразлучны. Он создал первый фотопортрет розового дна, обессмертив клуб «Monocle». Минуя все мыслимые цензурные запреты, Георг Вильхельм Пабст вывел на мировой экран образ печальной графини Августы Гешвитц, безнадежно влюбленной в Лулу (Луиза Брукс). Она одета в сорочку, бабочку и смокинг. В конце 1920-х публика прекрасно понимала, что значил этот наряд, запонки и этот золотой монокль на черной шелковой ленте.
Les Garçonnes
Независимые модницы, упрощенные и уплощенные войной, не хотели быть мужчинами. Пиджаки и брюки с манжетами, ботинки-оксфорды, галстуки и тяжелые перстни, ровные проборы и выбритые затылки – были не для них. Мужское начало «фриков природы» привлекало и пугало одновременно. Открыто имитировать их стиль, о котором во второй половине 1920-х уже много писали и говорили, никто не желал.
Тамара Лемпицка.
Портрет герцогини де ла Салль
1925 год. Частная коллекция. Фрагмент
Светская мода заимствовала позу, горделивую аристократическую осанку, но мужскую внешность «дам с моноклями» подвергла жесткой ретуши, смягчила, вылессировала, залила густым журнальным глянцем. Кое-что выбрала из их гардероба – к примеру, куртки-норфолки и бриджи с кожаными гетрами, галстуки-бабочки и смокинги, которые пришли в моду в 1924 году, и носили их исключительно с юбками. В 1925–1926 годах стали популярны женские монокли, отличавшиеся от мужских лишь ловко инкрустированными драгоценными камнями.
Дамские монокли вошли в моду в середине десятилетия. Особенным шиком считались монокли, украшенные драгоценными камнями.
Такой демонстрирует эффектная дама на снимке
Нью-Йорк, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама прогулочных костюмов в мужском стиле
Журнал Femina, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Модель, демонстрирующая ансамбль с элементами мужского стиля – блузой-сорочкой, галстуком и вязаным жилетом
Журнал Femina, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Дамские монокли.
В центре – монокль из бакелита. Вверху – чрезвычайно модный джазовый монокль, сделанный из зеленого целлулоида.
На его футляре (внизу) отчетливо видна надпись по-немецки: «Небьющийся танцевальный монокль».
Такие предлагали специально фанатам джазовых танцев
1-я половина 1920-х годов. Коллекция О. А. Хорошиловой
Компания О’Rossen предлагала модницам жилеты в «квазимаскулинном стиле».
Журнал Femina, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Компания О’Rossen одной из первых предложила женские смокинги. Их рекламировали самые престижные издания
Журнал Vogue (Paris), 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Модельеры Парижа предлагали дамам костюмы, напоминающие смокинги, а также блузы с воротничком стоечкой
Журнал Femina, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама женского смокинга Дома моды Amy Linker
Журнал Vogue (Paris), 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Аккуратно, подобно талантливому ретушеру, мода совместила получившийся образ с грубоватым военным femme moderne. Проделано это было столь успешно и ловко, что возник любопытный феномен – la garçonne, «мальчишка», асексуальный и притягательный своей бестелесностью, смелый до брутальной агрессии, женственный и живописно утонченный, восхитительный андрогин, пожалуй, лучшее творение моды XX века.
Литературные холостячки
Термин garçonne придумал, как говорят, Жорис-Карл Гюисманс, скромный министерский чиновник с бородкой добропорядочного буржуа и одновременно – нелегальный торговец декадентским парижским ядом, писавший о самых чувственных и опасных наслаждениях. В нескольких своих сочинениях, самое раннее из которых – «Парижские наброски» 1886 года, он упомянул, как бы невзначай, вскользь, девушек, кокетливых и длинноволосых «с юными, еще почти детскими телами». Почти мальчишек.
В 1922 году французский писатель Виктор Маргерит, тоже специалист по части изъянов городского общества и тонкий ценитель прекрасных пороков, издал роман «La Garçonne», который у нас перевели как «Холостячка».
«Холостячка», первое русское издание романа Виктора Маргерита «La Garçonne»
1924 год. Архив О. А. Хорошиловой
Благодаря роману Виктора Маргерита образ девушки-garçonne обрел пикантность, чем воспользовались издатели.
В Париже начал выходить «Альманах гарсон», весьма фривольного содержания
1926 год. Архив О. А. Хорошиловой
Это был скандал. Пресса ревела, члены Французской академии брызгали слюной и обидными эпитетами, из которых «безнравственный» был самым мягким. Члены Совета ордена Почетного легиона торжественно лишили писателя заслуженной награды. И все потому, что Виктор Маргерит подробно, со вкусом и неизбежными сахарными виньетками описал горестную жизнь Моники Лербье, девушки-garçonne.
Моника живет в каком-то странном безвоздушном пространстве, куда изредка просачиваются отголоски Великой войны, хлопки шрапнелей и гудки паровозных составов. Но больше звуков приятных – джазовые синкопы дансингов, уютный смех разомлевшей публики, холодная искристая трель сдвинутых бокалов шампанского, переливчатый шелест шелковых в бисерной росе платьев и еще чьи-то лица, довольные и ласковые, размытые улыбки, полутона поцелуев. В вакуум Моники проскальзывает угреподобный господин Лербье, и она оказывается его женой. И потом начинаются его измены, но тихую полудрему Моники ничто не тревожит. Она беззвучно разочаровывается в супруге и во всех вообще мужчинах, сознание и нравственные устои которых расшатаны войной. Не утерявшая своей чистоты и юности, она увлекается Никеттой, дородной актрисой с гортанным голосом, безупречными ногами и острым языком. Этот холодный и странный роман глухонемой с безразличной длится недолго. Никетта таскает «мальчишку» в дансинги и там мотает ее безвольное обмякшее тело в волнах джазовых пьес. Сладостный дурман девушки испаряется только после встречи с двумя ветеранами Великой войны, один из которых становится ее супругом. «Garçonne» превращается в женщину. Моника просыпается.
Писатель был первым, кто ощутил тонкую связь между независимыми femme moderne и «необычными женщинами» Левого берега Парижа. Моника, своенравная и острая, превращается в garçonne именно во время романа с Никеттой. Она коротко остригает волосы и провоцирует пересуды. «Но как ее меняет эта прическа! – восклицает ее знакомый, критик. – Она теперь стала символом женской независимости – если не силы. В древности Далила, сняв волосы Самсона, лишила его силы. Сегодня же, чтобы сделаться мужественной, она стрижет свои волосы!»
Худая, почти бесплотная, безразличная ко мнению общества, открыто презирающая мужчин и прохладно отвечающая на флирт женщин, Моника Лербье превратилась в литературную икону стиля. Ей стали подражать. К чему писателю были эмалевый орден и муаровая лента, если за его роман публика голосовала кошельками. В июле 1922-го, как только вышла книга, за четыре дня продано 20 тысяч копий. В течение лета – 150 тысяч, к концу 1922 года – 300 тысяч и к концу десятилетия – более миллиона экземпляров[1]. В 1923 году на основе романа Арман дю Плесси снял фильм «La Garçonne», мгновенно запрещенный к показу как несоответствующий моральным нормам. Одним словом, успех книге и новому образу был обеспечен.
«Мальчишки» начали проникать в моду сразу после скандальной публикации романа и к 1926 году прочно в ней укрепились. Тогда же началось массовое переиздание книги Виктора Маргерита.
Тело
Образ garçonne появился в результате гармоничного соединения стиля военной femme moderne, элементов одежды и внешности «дам с моноклями», неоклассики ар-деко, спорта и гламура самой высокой голливудской пробы. Его главные признаки – лаконичность, геометризм, динамика, инфантильная раскованность, моложавость и та особая, бесполая асексуальность, соблазнительнее которой, пожалуй, в двадцатые ничего и не было.
От femme moderne «мальчишки» унаследовали патологическую, туберкулезную худобу. Она молодила, раскрепощала, позволяла чувствовать себя уместной в холодно-стальных, угластых модернистских интерьерах, в строгих бензином пахнущих салонах авто и в авангардном лучизме безжалостного трувильского солнца. Мягких модерном взлелеянных округлостей не существовало. Ни груди, ни бедер, ни покатых плеч. А вместо – выпирающие ключицы, острые локти, треугольники лопаток и едва намеченные теннисом мышцы. И все это – на безупречных картинках Vogue. Жизнь, как обычно, не поспевала. Те лаконичные фигуры, которые Ириб и Бенито выкраивали острыми карандашами за несколько минут, жизнь лепила мучительно долго. Худощавых и тонкокостных было среди женщин начала 1920-х еще совсем немного. Большинство страдало от лишнего веса.
Дамы двигались медленно, осторожно приноравливались к спортивным играм, разглядывали фотографии Сюзанны Ленглен, зависшей между кортом и небом в позе грозного выпада, завидовали ей и усердно искали способы сбросить хотя бы пару-тройку килограммов. В журналах моды появился новый сквозной персонаж: скажем, Франсуаза. Румяная, сдобная, с губками сердечком. Регулярно, раз в квартал, она узнавала, что ее возлюбленный, скажем Пьер, неверен ей и главным образом потому, что она располнела. Франсуаза, расстроенная, плачущая, бежала к подругам за советами. И они щедро ими делились (а читательницы аккуратно их переписывали): «На завтрак – только чашка чая и бутербродик», «Никаких булочек, только черный хлеб», «Баня, милочка, только баня – турецкая, но лучше русская», «Электрическая диета, дорогуша, – электрическая ванна, электрические тренажеры, все электрическое».
Образ бесполой худой гарсон начал проникать в рекламу.
На этом постере модного дома Jane Regny девушки-мальчики демонстрируют шерстяные костюмы для загородных прогулок
Журнал Vogue (Paris), 1928. Архив О. А. Хорошиловой
Так можно было лишиться жизни. Франсуаза в разбитых чувствах мчалась на прием к врачу, месье «Прекрасное здоровье» (так он поименован в Vogue). Месье решителен и прямодушен: «Ванны – да, упражнения – да, но главное – режим. Ваш рот, мадемуазель, вот корень всех бед». Он красноречиво убеждал ее меньше есть, а лучше вообще держать рот на замке, тренироваться, заниматься спортом и делать все то, чего не хочет мадемуазель, но чего требует природа (приравненная Vogue к моде). В конце таких историй бедняжка Франсуаза оказывается в кафе и горько съедает несколько плиток горького шоколада, бутерброды, пару пирожных, запивая их слезами и кофе.
Мисс Рита Пишель, американская танцовщица, упражняется на электрическом тренажере в гимнастическом зале, который открыла Маржори Рорк в Нью-Йорке
1929. Архив О. А. Хорошиловой
Если дамы и господа хотели сбросить вес, но ленились заниматься спортом и гулять, журналы советовали пить волшебные пилюли для похудения
Реклама из журнала La Mode Illustree, 1923. Архив О. А. Хорошиловой
Буте де Монвель, Сесил Битон и некоторые другие светские львы сочиняли подобные истории на злобу дня и сопровождали их дельными рецептами. Тренажерные залы – да, массажные салоны – бесспорно, бани и парные – конечно! И после всех этих процедур – порция таблеток для похудения: «Иодгирин» от профессора Дюшана, таблетки Гальтона от двойного подбородка, «Мексиканский чай» доктора Жаваса, пилюли Танагрские и пилюли Средиземноморские и еще сотня других препаратов на основе небезопасных тиреоидных гормонов.
Реклама корсетов компании Gaine
Журнал Die Dame, 1926.
Архив О. А. Хорошиловой
В начале десятилетия вошли в моду электрические процедуры. Открывались салоны красоты, в которых дам умащали и хорошенько пропаривали – считалось, что это «сжигает жиры». Оздоровительные курорты Швейцарии, Италии и Австрии предлагали сложные курсы для похудания – контрастный душ, массаж простой и массаж с истязаниями, занятия на электротренажерах, банные процедуры, а в качестве приятного бонуса – гул коровьих колокольцев и волшебный вид из окна. На страницах Vogue и Femina публиковали рекламы этих центров и зарисовки из жизни курортников – покорную мадемуазель (в купальном костюме и шапочке) ополаскивают струей холодной воды, втирают в ее размякшее тело целебные масла, под команды грозного инструктора она гнет спину готическим мостиком, а потом самозабвенно покоряет горные склоны, и надпись объясняет ее упорство: «Перед ланчем нужно пройти несколько километров, чтобы сбросить вес».
Когда же диеты и процедуры не помогали, женщины прибегали к средствам более действенным – корсетам, поясам и бандажам из каучука.
Удивительная вещь. Двадцатые годы нам кажутся такими независимыми, своенравными, свободными, раскованными, антимодерновыми. Такими иными. Такими новыми. Это миф. Двадцатые повторяли предшествующие десятилетия, по крайней мере, в вопросах нравственности (гомосексуальные темы, к примеру, были полностью запрещены в кинематографе и подвергались жесткой цензуре в литературе), в отношении к женщине (ее свобода – лишь видимость, непринужденное движение рук, механическое вращение гибкого тела) и даже в области нижнего белья. Корсет? Его носили в 1900-е, но постарались забыть в 1910-е. И он, лоснящийся и каучуковый, воскрес в 1920-е, а вместе с ним и прочие приспособления для истязания плоти человеческой – бандажи и бюстодержатели с каучуковыми вставками. В журналах моды и каталогах нижнего белья стали широко рекламировать чудеса резиновой промышленности, гибриды корсета и пояса для чулок. Назывались они «rubber girdles» (каучуковые пояса). Они крепко охватывали нижнюю часть тела, нивелируя приятно женский, поэтами воспетый переход от талии к волнующим бедрам. Женщины были уже не те. Они не желали волновать.
Каталоги Au Bon Marche предлагали корсеты и пояса на любой вкус
1921 год. Архив О. А. Хорошиловой
В 1921 году модные журналы констатировали: «Теперь каждая корсетная компания производит около сотни разнообразных моделей и каждая – во множестве размеров»[2]. Были пояса «малые» – для миниатюрных девушек (такие легче всего перевоплощались в «гарсонов»), «средние» и «большие» для крупногабаритных дам (их, к примеру, производила с 1921 года американская компания Elastowear). Warner Brothers Corset Company предлагала множество вариантов для разных типов фигур.
Реклама корселетов американской компании Warner
Журнал Die Woche, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама каучуковых поясов Madame X.
1920-е годы. Архив О. А. Хорошиловой
Если в самом начале двадцатых производили пояса с каучуковыми вставками, то примерно в 1924 году, когда вошел в моду стиль «garçonne», появились цельнорезиновые корсеты. Самым востребованным в США был «Madame X» – каучуковый пояс, который не только преображал фигуру, но и помогал женщинам избавиться от лишнего веса. Так, по крайней мере, утверждала реклама. Во Франции аналогичную разработку предлагали под брендом «Доктор Монтей». Стоила она 150 франков. За 40 франков у того же заботливого «доктора» можно было приобрести каучуковые обмотки для ног, которые предлагалось носить один час в день, чтобы подтянуть икры. Существовали даже каучуковые маски для лица и шеи, которые дамы терпеливо носили ради избавления от двойного подбородка.
Миссис Чонси Вудворт идет в пестрой шелковой пижаме на закрытый пижамный завтрак в ресторан «Фламинко». Она не могла не привлечь внимания папарацци
Флорида, 1929. Архив О. А. Хорошиловой
Похожи они были на мартышек в намордниках. Были и резиновые бюсто-держатели – широкие полосы с каучуковыми жилами, которые сдавливали грудь до идеальных мальчишеских пропорций. Их еще называли «бандо» и «улучшителями груди». Большинство бюстодержателей имели штрипки для крепления к корсетному поясу, к которому снизу пристегивались чулки.
Пижамы постепенно превратились в экстравагантный вечерний наряд. Светская львица миссис Варбург на показе моды в универмаге Бонвитт-Теллер
Нью-Йорк, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Такую вот даму, запеленутую в пояса с эффектными прорезиненными стропами, затянутую в маски, перемотанную бандажами, безгрудую и безбедрую, невозможно не сравнить с «пацанкой» Лилу из «Пятого элемента». Кто знает, быть может, Жан Поль Готье, автор этого фантастического костюма, вдохновлялся «гарсонами» эпохи джаза.
Впрочем, те, кто считал штрипки неудобными, имели альтернативу – «корселет», комбинацию из корсета и бюстодержателя с плечевыми лямками и застежками для чулок. В 1921 году его запатентовала американская компания Warner Brothers и успешно продавала по всему миру. В 1926–1927 годах мадам Ферреро изобрела «корзинку Рекамье» для ношения под вечерними смело декольтированными платьями – бюстодержатель с двумя аккуратными чашечками и тонкими сатиновыми лямочками, охватывавшими спину низко и легко. Они были практически незаметны.
Пижама от Марии Новицкой
Журнал Vogue (Paris), 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Помимо корректирующего нижнего белья, модницы обзавелись «гарсонистыми» пижамами. Они тоже были придуманы не в двадцатые. Французские, американские и даже консервативные русские журналы писали о «пижама» (именно так, с фасонистым ударением на последний слог) в начале 1910-х годов. Тогда же изобретательный революционер Поль Пуаре представил дневной и вечерний туалеты, созданные по образу и подобию этих костюмов. Во время Первой мировой femme moderne убедительно оправдали их присутствие в своих гардеробах страхом перед ночными бомбежками и риском оказаться на разрушенной улице в неприличном (то есть женском) ночном белье.
Роскошная пижама из золотого ламе от парижского Дома моды Molyneux
Фотография Поля Одойе. Журнал Vogue (Paris), 1925. Архив О. А. Хорошиловой
В начале двадцатых Шанель, Пуаре и Пату создавали соблазнительные «пижама» из лоснящегося шелка с широченными зуавскими панталонами, собранными у щиколоток, и глянцевыми блузами самых свирепых оттенков, перехваченными змеистыми кушаками. Такие тогда осмеливались надевать лишь избранные garçonnes, «странные персонажи, не мужчины и не женщины»[3], как писал Vogue. Но уже в конце десятилетия у каждой «мальчишки» была как минимум пара пижамных костюмов – вполне строгих, удобных, вполне мужских.
Стрижки
Жесткой редукции «мальчишки» подвергли не только тело, но и волосы. Уже во время Первой мировой дамы придумали разные способы избавиться от длинных волос, отнимавших уйму времени, мешавших работать, а главное, не соответствовавших моде на высокие воротники а-ля Директория и а-ля Бонапарт. Экстремистки, к числу которых относились Коко Шанель и Ирэн Касл, волосы просто остригли, чем, конечно, позабавили мужчин и сильно смутили подружек.
Актриса Барбара Стэнвик рекламирует модную стрижку «боб»
1920-е годы. Архив О. А. Хорошиловой
Актриса и разведчица Ольга Чехова в костюме стиля garçonne и прическе «шингл»
Фотооткрытка с автографом актрисы, 2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Парикмахер Джон Армстронг безжалостно купирует волосы юной модницы, чтобы создать «боб»
Лос-Анджелес, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Прочие femme moderne прибегли к хитрости военного времени – «греческой» ленте, с чьей помощью создавали аккуратные прически, казавшиеся короткими стрижками. Но время шло, женщины менялись, их нравы «портились». Военная необходимость стала необходимостью модной. И все чаще, в столицах и даже захолустных сереньких городишках, появлялись девушки с коротко остриженными волосами, ставшими символом нового времени, новой, сильной женщины. «Длинные волосы символизируют эру тотальной женской беспомощности. Короткая стрижка является символом эры свободы, искренности и прогресса» – так пафосно, типично по-американски, выразилась певица Мери Гарден, объясняя журналистам суть того, что произошло у нее на голове.
Стрижки укорачивались от года к году. В самом начале двадцатых появился «боб», авторами которого, помимо революционерки Шанель, считаются два великих мастера женских преображений – французские парикмахеры Антуан и Рене Рамбо. «Боб» – завивающиеся или подвитые, а иногда хорошенько взбитые локоны чуть ниже мочек ушей, игривая челка и лента в качестве приятного дополнения. Эта почти детская стрижка молодила и усиливала инфантильность тех, кто ее носил. Одним из ранних типов считается «Касл боб», придуманный в 1915 году танцовщицей Ирэн Касл. С 1918 года в прессе публиковали описания «бобов» в стиле Жанны д’Арк (весьма популярной в послевоенный период) и а-ля дети Эдварда.
Модные хроникеры с моноклями в глазу и остро наточенными карандашами устроили настоящую охоту за теми, кто решался появиться с новой стрижкой в светском обществе. Из тихого уголка мягко освещенной ресторанной залы они пристально следили за входящими дамами, участницами раута, и шуршали карандашами в записных книжицах. И потом выходили статьи: «Смелые стрижки парижанок», «Парижская философия новых причесок», «Они остригают волосы, чтобы быть красивыми». И в них – главная сенсация, неоспоримые доказательства, наброски с тех самых вызывающе смелых головок: «Прекрасная мадам Летелье первой решилась укоротить волосы в подражание юношам. Лоб она оставила открытым, волосы подвиты волнами», «Ни у кого нет столько шарма, как у леди Идены Гордон, которая остригла волосы в мальчишеском стиле. На лбу – аккуратная короткая челка». В списке любительниц новой экстравагантности значились также графиня де Мустье, баронесса Гранмазон, маркиза де Шабанн.
Что позволено аристократкам, не позволено горожанкам. Мелкие буржуа, особенно провинциалы, считали короткие волосы признаком распутства и всего самого дурного. Стрижется – значит, не работает, курит, выпивает, гуляет. Значит, ведет аморальный образ жизни. Значит, флаппер! Бывало, родители секли непослушных дочерей, по старинке учили уму-разуму и во гневе таскали их за волосы, вернее за то, что от них осталось. Горожане зажиточные отправлялись в суд – за высшей справедливостью и суровым наказанием. Эти «волосяные» процессы изрядно забавляли публику.
Впрочем, моде не было дела до трудящихся масс. Она следовала за элитой, которая в двадцатые годы отличалась невообразимой пестротой – аристократки, взбалмошные дети банкиров, туманные звезды экранов с туманным прошлым, джазовые «малышки», певички кабаре, безымянные любовницы великих князей. Но все до одной – любительницы моды, эпатажа и сенсаций. Как только вышло и оскандалилось первое издание «La Garçonne», они придумали стрижку «на мальчишеский манер».
Актриса Глейдис Купер со стрижкой «боб»
Фотооткрытка, 1-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Однако сама Моника Лербье, героиня романа, носила не «боб», а вариант «шингла», короткой стрижки, популярной в среде левобережных интеллектуалок и шумных завсегдатаев парижских розовых баров уже в начале двадцатых. Логично, что «шингл» стал частью имиджа Лербье именно во время ее увлечения актрисой Николеттой. «Шингл» или «выпускной боб» – короткая, примерно до мочек ушей, стрижка с аккуратно и тесно уложенными волнами локонов и тщательно выбритой нижней частью затылка. Ее придумал и тысячу раз воплощал на головах голливудских красавиц верткий Антуан. В 1924 году он открыл на престижной Пятой авеню салон, в котором ежедневно выкраивал звездам модные короткие шевелюры. Он даже предлагал особенные карнавальные варианты – «шингл» Афина Паллада – с баснословным ирокезом посередине головы, который должен был напоминать гребень шлема Девы-воительницы.
Луиза Брукс демонстрирует стрижку «итон», ставшую ее визитной карточкой
Фотооткрытка, 1920-е годы. Архив О. А. Хорошиловой
Журналист и светская львица Анна Мария Шварценбах носила одну из самых коротких в Европе «итонских» стрижек
Фототипия. Конец 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Женщины готовы были часами просиживать в парикмахерских салонах, чтобы сформировать причудливые «волны Марселя». Так называлась модная в двадцатые укладка, дополнявшая «боб» и «шингл». Щебечущий парикмахер, кромсая воздух острыми пальцами, едва касаясь головы, ловко скручивал локоны в аппетитные колечки и отправлял их на съедение стальным беззубым щипцам, которые месье Марсель Грато изобрел еще в 1870-е годы и потом долго-долго совершенствовал. Под раскаленным металлом волосы обретали нужную форму. Но перебарщивать с температурой не следовало, иначе их можно было спалить. Поэтому, прежде чем приложить щипцы к локонам, парикмахеры проверяли их бумагой. Если вспыхивала, инструмент остужали. Под пыткой волосы становились послушными, шелковистыми, и результат был восхитителен. Глянцевитые «волны Марселя» тихо колыхались вокруг точеного лица, густым атласом вечернего платья скользили вкруг тела, струились округлыми складками и выплескивались треном на паркетный пол дансинга. Ничто так не гармонировало с мерцающим маревом шелка, как эта волшебная укладка.
Стрижка «итон» нередко попадала на обложки престижных изданий. Обложка журнала Vogue (Paris)
К 1926 году «боб» и «шингл» казались уже недостаточно современными. Пришло время экстремальной почти мужской стрижки «итон», которая вместе со строгими смокингами, высокими воротничками, бабочками и моноклями перекочевала из парижской и берлинской квир-культуры в Высокую моду и оставалась в ней до начала Великой депрессии. Шелковистые локоны укоротили и позволили томно извиваться на макушке. Виски и затылок брили, оставляя уши стеснительно обнаженными. Некоторые дамы, к примеру Джозефина Бейкер, густо заливали «итон» гелем, так что отличить новомодных «garçonnes» от юношей было весьма непросто. Стрижками такого типа баловались Луиза Брукс, Лилли Беатрис, Дора Строева, Бесси Лав, Глейдис Купер.
Костюмы
Под стать скроенным на мужской лад прическам выбирали одежду– удобную, короткую, спортивную. В 1923 году французский Vogue сообщал неутешительные вести с «фронта» моды – началась новая фаза битвы. Дамы сражаются за короткие платья, юбки и кюлоты, но модельеры не сдают позиций, они оборачивают женщин в длинные струящиеся туники и манто. «Кто же победит?» – вопрошал автор статьи. Победили garçonnes. Любовь к спорту стала главным оправданием их откровенно мальчишеских нарядов.
Собираясь на охоту в готические чащи Шварцвальда или безграничные владения какого-нибудь британского герцога, они заказывали у портного, дорого, строго по мерке, удобные и отчасти даже экстравагантные костюмы для верховой езды. Это были черные амазонки, дополненные приземистыми котелками и лакированными сапогами, твидовые норфолки фронтовых расцветок, широченные галифе с аккуратной застежкой под коленкой, резиновые непромокайки. Это были наряды прямиком из эпохи крови и кружева – темно-зеленые, васильковые и мареновые аби с золотым позументом, белые кюлоты и черные треуголки, то, в чем когда-то выезжала на охоту звонкая и пустая Мария Антуанетта, а теперь щеголяли парижские garçonnes – герцогиня де Грамон, герцогиня Шартрская, маркиза де Шасслу-Лоба и десяток других дам со сложно составленными придворными фамилиями.
«Пацанки» наслаждались свободой и колким зимним воздухом Биаррица и Сент-Морица, Шамони и Альтаусзее. Они с визгом неслись на санях и лыжах мимо пыхтящей полнотелой публики, одетые дерзко, по-мальчишески – в разноцветные свитера, палевые, нежно-голубые и персиковые, в плотные куртки-норфолк из добротной английской шерсти, в бриджи-галифе с желтыми крагами или гамашами грубой вязки, в варежках, шарфах и аккуратных шапочках, почти детских, с милым помпоном. А вечером, основательно проголодавшись, скрипели грубыми швейцарскими ботинками по нежному свежему снегу в золотистой помадке вечерних огней, заходили в уютную харчевню, где пахло глинтвейном и сосной, и тянули горячее сырное фондю, краснея от жара, теплого трикотажа и нахальной крепкой шутки, брошенной официантом.
Дамы высшего света в костюмах для верховой езды
Нью-Йорк, 1928.
Архив О. А. Хорошиловой
В городах «мальчишки» тоже вытребовали себе немного свободы. Они заставляли портных укоротить юбки и низ дневных платьев, отчего получили прозвище «femmes deshabille» («разоблаченные женщины»). Но портные яро противились, предупреждали об опасностях, о том, что девушки рискуют здоровьем, что они простынут и не смогут рожать. Ничего не помогало. Garçonnes щеголяли в дневных костюмах, скроенных на манер «дам в моноклях» и берлинских «фриков природы». В 1924 году появились платья-тайеры, сочетавшие женский и мужской типы кроя. Их предлагали в Париже модные дома Bernard, Redfern, Martial et Armand.
Мисс Валери МакКи в жакете и бриджах для верховой езды
Хантингтон, США, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Мисс Эстель Мэнвил позирует художнику Каролю Шейкеру в песочного цвета бриджах и красном рединготе-сюртуке
1927 год. Архив О. А. Хорошиловой
Во второй половине двадцатых журналы сетовали на то, что нынче одежды для мужчин и женщин кроятся по одним лекалам, все носят двубортные пиджаки с пошетами и карманными клапанами, бриджи, гетры, фетровые шляпы, сорочки с накрахмаленной грудью, высокие воротнички и галстуки, а также смокинги (их реклама тогда появилась во многих изданиях). И впредь мужчинам, предупреждали журналы, нужно быть весьма осмотрительными – «старина», с которым хочется пропустить по стаканчику, или тот задиристый «молокосос» с бритым затылком, которого нужно проучить, могут оказаться девушками. Иногда мужчины действительно попадали впросак.
Короткие костюмы и стрижки повлияли на шляпы, которые с 1922 года начали постепенно уменьшаться. Журналисты вновь почуяли дым и порох сраженья. «Широкополые шляпы против клошей! Кто победит?» – вопрошал Vogue. К 1925 году бесполые победили широкополых. Клоши растрезвонили по всему свету о своей сокрушительной победе и аккуратными разноцветными наперстками выстроились в витринах бутиков. Лучшие предлагали в Париже – Сюзанна Тальбо, Ланвен, Мария Гю, Люси Амар, Агнес.
Они были удобными, эти фетровые тесные «колокольцы». Прекрасно держали короткие стрижки, не давая «бобам» и «шинглам» рассыпаться атласными локонами.
Реклама охотничьего костюма для женщин
Журнал Vogue (Paris), 1926. Национальная библиотека Франции
Реклама охотничьего костюма для женщин
Журнал Vogue (Paris), 1926. Национальная библиотека Франции
Костюм для охоты в стиле XVIII века
Журнал Vogue (Paris), 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Костюм в стиле garçonne от Дома моды Jenny
Журнал Femina, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Костюм для горного курорта Шамони от Дома моды Jean Magnin
Журнал Femina, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Варианты костюмов для горнолыжных курортов Дома моды Drecoll
Журнал Femina, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
В них отлично себя чувствовали автолюбительницы – ветер и скорость были клошам нипочем. В них катались на лыжах и велосипедах, роликах и коньках, позировали художникам и щебетали в кафе, красиво раскуривая мундштук и утомленно оценивая мужчин из-под коротких пикантно изогнутых полей.
23-летняя Бетти Симпсон, известная альпинистка, перед путешествием в Европу за новыми рекордами. Она явно предпочитает стиль garçonne и позирует в джемпере, шерстяных брюках и мальчишеской кепке
Нью-Йорк, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Дама выбирает «клоши»
Обложка журнала Vogue (Paris), 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Мадам Денизо в шляпке «клош»
Фотография d’Ora. Журнал Femina, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Луиза Брукс в фетровом «клоше»
2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Модные шляпки «клоши» от Jane Blanchot, Charlotte Truchot,Le Monnier
Журнал Femina, 1925. Архив 0. А. Хорошиловой
Известная американская теннисистка Хелен Уиллс позирует в элегантной шляпке «клош»
Нью-Йорк, 1928.
Архив О. А. Хорошиловой
Модные занятия
Garçonnes обожали сигареты. Не курение, а сигареты. Курение считалось признаком равенства полов, и мужеподобные дамы, за это боровшиеся, устраивали публичное представление – посреди деловой спешащей улицы вытягивали из твидовых бриджей серебряный портсигар с добрый кулак бретонского рыбака, вытаскивали сигарету, хорошенько выстукивали ее, приминали кончик, вставляли в уголок рта и раскуривали, оголив зубы и прищурив глаз – для большего полового равенства. И курили, всей грудью, глубоко затягивались, выдергивали окурок по-мужски, большим и указательным пальцами, жадно смакуя процесс и тот эффект, который производили на окружающих.
Курение стало настолько популярным занятием, что художники моды начали изображать девушек непременно с мундштуками
Журнал Vogue, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Garçonnes не курили и не боролись за смутное равенство смутно различимых полов. Они превратили сигарету в аксессуар, модную необходимость. Ее не курили, а, вставив в костяной или янтарный мундштук превосходной работы, грациозно держали в тонких холеных пальцах и позировали – на жарком восточном диване в переливчатом мареве алжирских шелков, в залах Гран-Пале, пронизанных хрустальными лучами холодного весеннего солнца, на пахнущей бензином и деньгами Пятой авеню, прильнув к зеркальной стали новенького «понтиака», в открытом ресторане на крыше двадцатиэтажной «Пенсильвании», посылая персиковому вечернему Нью-Йорку теплые поцелуи и сизые облачка сладкого дыма.
Сигарета возбуждала воображение, провоцировала целлулоидные галлюцинации де Мейера, Стайхена, Гюне и Ребиндера. Они попадали под ее терпкое очарование и возвели в ранг высокого искусства. Сигарета развязывала язык, придавала значительность случайным жестам, завершала модный образ. Тонкий финальный белый штрих возле остро очерченного рта, глянцевитый «шингл» в легком расфокусе серебристого дыма – и garçonne готова.
Впрочем, не совсем. Еще нужно было уметь водить – мягко и уверенно. Автомобиль тогда ворвался в пору своей шумной безудержной молодости, соблазняя всех на пути – в том числе «мальчишек», обожавших скорость, риск, блеск и визг. Они прекрасно себя чувствовали за рулем тяжело гремящего четырехместного кондюита и элегантного бегливого «Торпедо» с откидным кожаным верхом.
Реклама курительных принадлежностей от компании Mappin&Webb
Журнал Vogue (Paris), 1925. Архив О. А. Хорошиловой
«Гарсонки» кое-что смыслили в починке и порой не боялись давать указания мужчинам-меха-никам: те только посмеивались. Они умели позировать возле авто – горделивая осанка, чуть вздернутый подбородок, широко расставленные краги и острые углы локтей. Они умели позировать в авто – одна рука на руле, другая на дверце, разворот головы на три четверти и уверенная улыбка в фотокамеру. Одевались соответственно, с мужским шиком и женской элегантностью – в шлемы, шарфы, плащи и кожаные куртки, бриджи и кникербокеры, боты на высокой шнуровке или гетры. И не забывали о главных аксессуарах – кожаных перчатках с широкими раструбами а-ля мушкетер, придававшими солидности, серьезности, решительности.
Модели, закуривая, демонстрируют летние ансамбли от Жана Пату
Журнал Femina, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Девушка садится в кабриолет «Фарман»
Vogue (London), 1920. Архив О. А. Хорошиловой
Дама за рулем спортивного авто
Рисунок из журнала Femina 1927 г. Архив О. А. Хорошиловой
Тамара Лемпицка. Автопортрет в зеленом «бугатти»
1929 год. Частная коллекция
Тамара Лемпицка решительно мчит в своем марочном зеленом «бугатти», бросая стальной презрительный взгляд из-под хромированных век. Ее алюминиевую голову с металлической стружкой ресниц и локонов плотно облегает кожаный шлем от Hermès, руки – в палевых перчатках с крагами. Дышит, шипит, бесится стальной змий, серебристо-серый шарф. Это новая Афина, дева разумная и расчетливая, рожденная не зевесовой головой, а ревущим двигателем ревущих двадцатых. Это лучшая метафора эпохи и лучший автопортрет художницы, едва похожий на оригинал. Лемпицка себе польстила до чрезвычайности.
Заигрывая с «мальчишеским» стилем, укорачивая волосы и юбки, garçonnes быстро сокращали расстояние между собой и противоположным полом, к которому испытывали непреодолимое влечение, обострившееся во время Великой войны. Мужчин стало меньше, и за них приходилось биться. И обнаженные икры, спортивная фигура, показная независимость стали козырями в этой игре агрессивного соблазнения. Но главным козырем был макияж. Чем более «мальчишестой» была девушка, тем больше косметики она использовала – красила губы в форме сердечка, выделяла глаза тенями и увеличивала ресницы, которыми учащенно хлопала с кинематографической скоростью Луизы Брукс. И в этом garçonnes напоминали флапперов.
Флапперы
Если garçonne – внешность, то флаппер – это стиль жизни. Чтобы называться флаппером, нужно было знать тонкости joie de vivre, сладкого ничегонеделания. Наслаждаться, тусоваться, соблазнять. Следовало отменно танцевать, разбираться в моде, знать всех наперечет немых звезд кино, курить, не дурея, пить, не пьянея. И быть безразличной – к законам (их нарушали), к морали (ее отрицали), к деньгам (их пускали на ветер).
Девушка Гибсона
Иллюстрация из журнала конца 1890-х годов.
Частная коллекция
Всё еще спорят, когда появилось английское слово flapper. Есть мнение, что оно возникло в 1630-е годы и обозначало начинающую проститутку. Другие полагают, что словечко это начали использовать только в 1890-е годы завсегдатаи публичных домов, имея в виду жриц любви, а также нескладных девушек-подростков. Чуть позже придумали flapper-dress – то есть длинное несуразное платье нимфетки, скрывавшее ее худосочную костлявую фигурку.
После окончания Великой войны garçonne обозначал легкомысленную барышню 15–22 лет, полувзрослую и полуребенка, которая играла в любовь, строила глазки, плясала, в общем, вела светский образ полуночной жизни. Она не знала страха и обожала эксперименты – с мужчинами, алкоголем, длиной юбки и терпением общества.
Флаппер против Гибсона
Флаппер – балованный отпрыск девушки Гибсона, идеала красоты Belle Epoque. Дитя унаследовало от матушки любовь к спорту и развлечениям. Все же остальные ее добродетели отрицало и зло высмеивало.
Девушка Гибсона, рожденная в 1890-е годы, почитала социальную табель о рангах, уважала высокое происхождение. Простолюдинов презирала, негров боялась, полагая, что их место на кухнях и плантациях. Девушка все-таки была американкой. Она умела вести приятные светские беседы и оборачивала бессмыслицу в красивые затейливые фразы с неизбежными атласными бантиками избитых метафор. Она любила приемы и рауты, несколько месяцев приготовляла маскарадный костюм для бала, носила траур строго по форме и принимала солнечные ванны, как советовал Поль Пуаре.
Флапперы казались испорченными дочками девушек Гибсона
Фотография, 1920-е годы. Частная коллекция
«К черту светские условности», – кричали флапперы. Да и какие, к черту, условности после Великой войны, в которой сержанты из рабочих толково командовали детьми банкиров и сахарозаводчиков. Эра демократии (пусть даже условной, комичной) началась в окопах: с разделенного надвое пайка, с писем вслух, с кровавого орущего месива, откуда вытаскивали однополчан, не думая об их социальном происхождении.
Конечно, титулы и родовые приставки никто не отменял, но, во-первых, после 1918 года они резко упали в цене, так как появилось много фальшивых. Фотограф моды Адольф Мейер сделался бароном, танцовщик Серж Лифарь иногда добавлял приставку «де Киефф». Во-вторых, флапперы делили людей не на общественные ранги, а в тусовочном стиле – на «своих» и «чужих». «Своими» считались молодые, яркие и красивые штучки, знавшие толк в джазе, крепком алкоголе и сексе, имевшие деньги (их происхождение никого не интересовало), умевшие изъясняться на «свойском» языке, весьма примечательном. Когда восторгались, говорили: «Bee’s knees!» или «Cat’s pajamas!» («отпад!»). Чужаков, скучно бубнящих моралистов называли «bluenoses» («доходяги»). Особо удавшиеся дикие вечеринки именовали «blow» («улетные»), контрафактный алкоголь – «coffin varnish» («лак для гроба»), опустошенную бутылку– «dead soldier» («мертвый солдат»).
Деликатная конфетная барышня Гибсона держалась с мужчинами на уважительном расстоянии, чтобы они могли оценить ее S-образный изгиб, тонкую талию, картинную утомленность. Флапперы это расстояние свели к нулю. Мужчины, хотя бы и в смокингах, хотя бы и в цилиндрах, были своими парнями – к ним прижимались во время танца, оставляли помадные следы обожанья на крахмальных манишках и парфюмированных шеях, хлопали по плечу, шептали пошлый анекдот и валились в их объятья, сраженные дьявольским коктейлем и пьянящим любовным чувством.
Девушка строгих нравов поучает раскованную флаппер, обнажившую коленки и курящую как паровоз
Нью-Йорк, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Девушки Гибсона выпудривались до белизны, флапперы остервенело красились – подводили брови, оттеняли глаза, удлиняли ресницы, изображали рдеющий румянец, рисовали помадой «луки Купидона», обсыпались блестками. Девушки Гибсона скрывали наготу под слоями кружева и шелков, флапперы выставляли ее напоказ – укорачивали юбки, обнажали руки, коротко стриглись, оголяя длинную шею и рельефные плечи, и вслед за Джозефиной Бейкер выпархивали на танцпол почти нагими – в золотистых сандалиях и связке бананов на талии. Бронзовый загар был не в счет.
Полнотелые мучнистые дамы Прекрасной эпохи интересовались спортом с осторожностью новичков – мягко отбивали ракеткой волан и перекатывали вельветовыми бедрами. Флапперы спортом жили. Они фехтовали, играли в конное поло, лаун-теннис и гольф, носились в гоночных авто, плавали кролем и баттерфляем, летали в аэропланах и летали в дансингах.
Обложка книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Флапперы и философы»
1920 год.
Они стремительно наверстывали упущенное за многие десятилетия. Догоняли мужчин, соблазняли, подчиняли себе и, позабавившись, выбрасывали на обочину современности.
Впрочем, именно мужчины сделали флапперам отличную рекламу. В 1920 году Фрэнсис Скотт Фицджеральд издал сборник рассказов «Флапперы и философы», в которых описал девушек новой формации, обожавших мужчин и мечтавших блистать в обществе. Тогда же режиссер Алан Кросланд снял фильм «Флаппер» о глупенькой, но удачливой Джинджер (Олив Томас), которую за плохое поведение родители отправляют в школу-интернат. Во время прогулок она знакомится и по уши влюбляется в элегантного солидного мужчину (Уильям Карлтон), приобщается к светской жизни, становится жертвой аферы с ограблением и разрабатывает хитроумный план, как выдать преступников полиции. В конце фильма она возвращается в отчий дом, повзрослевшая и раскаявшаяся в ошибках юности. Все в фильме было хорошо, кроме этого моралите в конце.
Даже надев широкополую шляпу, дамы не забывали припудриться и подправить макияж
Журнал Femina, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
В 1923 году в прокат вышла картина «Пылающая молодежь» режиссера Джона Фрэнсиса Диллона. Танцы, сочные поцелуи, щекастые негры-тромбонисты с вращающимися глазами, шампанское, рестораны, веселье и Коллин Мур в главной роли. Кино было обречено на успех. Фицджеральд с очаровательной грустью в голосе признался: «Я был искрой, от которой вспыхнула “Пламенеющая молодежь”, Коллин Мур была факелом». В следующем году Диллона ждал повторный успех с картиной «Идеальный флаппер», главную роль в которой играла та же молодая американская актриса.
Макияж соблазнения
После Великой войны мужчины были в дефиците, и флапперы в романах, кино и жизни сражались за них остервенело. Макияж стал боевой раскраской, главным орудием соблазнения. Приходилось штукатуриться на износ, внимательно, фанатично, не упуская ни одной детали. «Будьте бдительны, на вас пристально смотрят мужские глаза. Заботьтесь о чистоте, красоте и мягкости вашей кожи», – призывала реклама косметических средств Elizabeth Arden. «Люди всё и сразу замечают. Чтобы быть уверенной, используйте больше крема Ingram’s Milkwood», – рекомендовали журналы моды. И женщины подчинялись.
Широкополые шляпы начала двадцатых и клоши с аккуратными полями, надвинутые на самые брови, затемняли глаза, и приходилось их жирно обводить синим или коричневым карандашом, черными щеточками с тушью осторожно расчесывать ресницы, удлиняя их, подрисовывать прилежно выщипанные брови и терпеливо втирать вазелин в опущенные веки, добиваясь их стального нечеловеческого блеска. В послевоенные двадцатые глазами научились стрелять.
Реклама крема Dr. Dralle’s. Журнал Die Dame
1927 год. Архив О. А. Хорошиловой
С пудрой, главным художественным средством живописной Belle Epoque, теперь конкурировали сочные тональные кремы. И если до войны ими пользовались редкие любительницы эпатажа и фанатичные ориенталистки, то в середине двадцатых бронзовая кожа стала признаком спортивного образа жизни, путешествий, солнечной Ривьеры. Тональные кремы округляли загар, придавали ему лоск, журнальную завершенность. Ими пользовались также, когда на побережье Биаррица было плюс двадцать пять и не хотелось мучить ноги упругим жарким шелком – его имитировал крем Dorin, который так и назывался «Шелковые чулки».
Реклама очищающего молочка для кожи
Журнал Vogue (Paris), 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Девушка, красящая губы, была любимым образом художников моды
Обложка журнала Vogue (Paris), 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Губы – суть женщины двадцатых, смертельное оружие флапперов в борьбе за мужчин. Благодаря гениальной и простой придумке Мориса Леви, в женском косметическом арсенале в 1915 году появилась никелированная «гильза» с выдвижной помадой. В 1923 году Джейм Брюс Мейсон запатентовал тюбик с выкручивающимся стержнем и этим открыл новую эпоху в истории косметических средств. Флапперы обожали эти «гильзы» и носили их повсюду, ежечасно подправляя рисунок готовых к соблазнению губ. Клубная ночная жизнь в свете прожекторов заставляла использовать яркие оттенки, чтобы даже в сигаретной мути дансингов оставаться заметными. Флапперы предпочитали малиновый – цвет игривой невинности, амарантовый – оттенок зародившейся страсти, гранатовый – символ первого поцелуя, алый – символ соблазна и бордовый – цвет полной и сокрушительной победы, одержанной над мужчиной.
В 1927 году Фрэнсис Скотт Фицджеральд по контракту с United Artists написал сценарий «Помада». Студентка колледжа ужасно мучается от того, что ее не замечают молодые люди. Ей грустно. Она в полном отчаянии. И вот девушка находит тюбик помады, красит губы и чудесным образом преображается. Мир у ее ног. История слишком волшебная для ироничного Фицджеральда. Неудивительно, что сценарий отклонили. Но в американских глубинках и даже среди столичных флапперов было немало тех, кто верил в спасительную силу никелированного тюбика и утверждался в своей вере, благодаря фильмам на основе таких вот волшебных сценариев.
Фотография, рекламирующая средства для очистки кожи, которые предлагала берлинская компания Frau Elise Bock
Журнал Die Dame. Архив О. А. Хорошиловой
Журналы моды убеждали доверчивых клубных «крошек» в том, что мужчины предпочитают накрашенных, что быть без мейкапа неприлично, что тушь, румяна и чувственный оттенок губной помады способны превратить дурнушку в красавицу и обеспечить ей полный успех «сегодня ночью и вообще всегда». А чтобы продажи косметических средств быстро росли, предприимчивые коммерсанты сформировали женский ударный батальон из немых голливудских звезд. Их аффектированно раскрашенные лица на серебряном экране и глянцевых журнальных разворотах были лучшей рекламой. Флапперы красились под Клару Боу, Луизу Брукс, Джоан Кроуфорд и Коллин Мур.
Королева, цыганка и мистер «профессор»
Пока девушки сражались за мужчин, производители косметических средств зло бились друг с другом. В модной прессе двадцатых любили обсудить очередной виток напряжения в затяжном конфликте между Элизабет Арден и Хеленой Рубинштейн.
Настоящее имя первой было Флоренс Найтингейл Грэм. Мать назвала ее так в честь известной героини Восточной войны, английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл, лечившей и утешавший раненых англичан, зарвавшихся в утлые степи Крымского полуострова. Имя в каком-то смысле определило судьбу мисс Грэм. Она целила психические раны дурнушек и толстушек, утешала грустящих флапперов разноцветными баночками дивно пахнувших кремов, которые не только преображали, но заставляли мужчин преклонять колени и рабски ползти за ловко накрашенной красавицей.
Флоренс Найтингейл Грэм не любила свое военно-романтическое имя. Оно отлично смотрелось в аттестате зрелости, но на страницах журналов моды и баночках с косметикой выглядело смешно, громоздко. В 1911 году для себя и своего салона на Пятой авеню Флоренс выбрала звучное ходкое имя Elizabeth Arden. Первую часть заимствовала у деловой партнерши, Элизабет Хаббард, с которой быстро рассталась. Вторую – из поэмы Теннисона «Энох Арден» и произносила его с ударением на последний слог – по-французски. Имела на это право – в Париже она стажировалась и выведала там несколько косметических секретов, которыми поспешила воспользоваться, вернувшись в Нью-Йорк.
Vogue, Femina, New Yorker и десятки других рейтинговых журналов двадцатых годов регулярно рекламировали продукцию Elizabeth Arden – в особенности «Венецианскую линейку», крем Amoretta и его неизменное дополнение – очищающий лосьон Arden Skin Tonic, разработанный в сотрудничестве с химиком Фабианом Свенсоном.
Арден удавалась роль аристократки. Она говорила неспешно с мягким английским акцентом и превосходно интонировала свои поучительные «спичи» о правилах пользования косметикой. Она называла свои студии салонами, устраивала в них женские посиделки, проводила сеансы гимнастики и светского общения, умела найти общий язык с любым типом городских буржуа. Став в 1920-е годы космически богатой косметической королевой, выбрала для себя истинно аристократическое хобби – скачки, которым посвящала редкие свободные минуты. Впрочем, все, чем бы она ни занималась, служило лишь одной цели – рекламе компании и продукции. Она не продавала кремы и пудру. Она продавала мечту – о голливудской славе, плакатной красоте без полиграфических изъянов, богатстве Гэтсби, хорошем муже, об улетной вечеринке в клубе на 55-й Вест-стрит, где должен был появиться Стив, обещавший первый страстный поцелуй под рыданье сентиментального кларнета.
Элизабет Арден
Фотография Арнольда Гента, 1920-е годы.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-G4085-0363
Элизабет Арден в 1930-е годы
Фотография Алана Фишера.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-USZ62-123247
Арден была тароватым коммерсантом. У нее покупали всё сразу, ведь главным секретом ее стратегии был «whole package» – полный пакет косметического волшебства, успех которого зависел от всех сразу чудодейственных компонентов. Приобретая, скажем, венецианскую цветочную пудру, следовало также потратиться на румяна Venetian Rose Color, с которыми прекрасно сочетались оттенки помады Venetian Arden Lipstick и карандаша для бровей Venetian Eyebrow Pencil. А лучше приобрести все это в элегантном кожаном чемоданчике по специальной цене. Его Арден представила публике в 1925 году.
В свободные часы Элизабет Арден занималась аристократическим видом спорта – верховой ездой
1958 год. Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-DIG-ds-00361
К услугам клиенток были бесчисленные лосьоны, кремы и тоники для очистки, смягчения и омоложения кожи, для загара и от загара. Классическая американская стратегия, рассчитанная на доверчивого потребителя, которых в расцветающих и слегка пьяных Штатах было так много в тот славный потребительский период.
Хелена Рубинштейн, чей офис находился неподалеку, на той же Пятой авеню, только зло фыркала, листая Vogue, и требовала от сотрудников никогда, нигде и ни под каким предлогом не произносить имя Элизабет Арден. Две дамы знали друг о друге всё, но никогда не встречались. В пестро хаотичном стремительном Нью-Йорке это было возможно.
Рубинштейн немного пасовала. Небольшого роста, плотно сбитая, почти квадратная, говорившая по-английски грубовато, с восточноевропейским раскатистым «р», она ощущала внешние преимущества статной красавицы Арден, и тем сильнее было ее желание низложить косметическую королеву. В общем, это была настоящая война. Сражались за клиентов, талантливых химиков и технологов, акционеров и первые места в рейтингах делового успеха.
Рубинштейн отлично понимала Арден и в основу своей империи красоты заложила тот же принцип – продавать мечту. В двадцатые активно расходился ее крем Valaze, увлажнявший и восстанавливавший кожу, благодаря каким-то баснословным карпатским травам, подмешанным в эссенцию. Цыганистая внешность и восточный акцент не оставляли никаких сомнений в сказочном происхождении косметических снадобий.
Дама много выступала, давала интервью и щедро оплачивала рекламу в престижных журналах моды. Это были не просто красивые слоганы с убедительными картинками. Это были развернутые руководства к эксплуатации. «Хелена Рубинштней, гений и признанный мировой специалист в области красоты, разработала технику ухода за вашей кожей», – нарочито громко восклицал американский Vogue и методично перечислял все этапы этого хитроумного и отнюдь не дешевого процесса. Вначале следовало приобрести крем для лица Valaze, который в момент преображал лицо, омолаживал кожу и удалял малейшие признаки усталости. Далее требовалось хорошенько втереть очищающий Valaze Massage Cream, «в особенности рекомендованный для сухой кожи». После серии таких процедур переходили ко второму этапу – очищению и отбеливанию кожи с помощью питательного экстракта Valaze Beautifying Skinfood. И наконец, третья фаза – тонирование лица лосьоном Valaze Skin-Toning. Если одолевали морщины и депрессия, рекомендовалось приобрести крем Valaze Grecianand Wrinkle, впечатление от блистательной внешности усиливала туалетная вода Valaze Liquidine. И вообще всё самое лучшее для красоты – помаду, кремы, пудру, румяна, парфюм – следовало приобретать только у мадам Рубинштейн, на 57-й улице, близ Пятой авеню.
Секрет ее успеха был, конечно, не в баснословных карпатских травах. Скорее всего, трав вообще никаких не было, основа ее кремов – обыкновенный ланолин. Секрет был в подаче продукции. Открывая в 1915 году свой первый косметический салон в Нью-Йорке, Рубинштейн решила не менять свою звучную еврейскую фамилию на более привычную для американского уха. И сделала правильно – с расчетом на успешных клиенток, эмигрировавших в США из Восточной Европы и феноменально здесь разбогатевших.
Хелена Рубинштейн. Фотография Джорджа Майяра Кесслера
1930-е годы.
Архив Института моды и технологии (Нью-Йорк)
Продавая мечту, она внимательно относилась к дизайну упаковки. Флакончики, пудреницы, баночки для крема и трубочки для губной помады выглядели превосходно, в полном соответствии с грезами балованных клиенток и эстетикой американского дородного ар-деко, воплотившего в дизайне идею мирского процветания.
Пока две разъяренные дамы, Арден и Рубинштейн, сражались друг с другом и гениально обманывали потребителей, Макс Фактор без устали сочинял новые формулы косметического успеха. В сравнении с ними он выглядел солидным ученым – профессорские круглые очки, вдумчивые рельефные морщины на широком лбу, аккуратные усики, академическая осанка, лаконичные мягкие движения и немногословность (он едва говорил по-английски). Ему хотелось верить. Женщины восторженно отдавали себя в заботливые холеные руки молчаливого маэстро.
Его настоящее имя – Максимилиан Абрамович Факторович. Он был выходцем из России, где в 1890-е годы начал собственное дело – продавал косметику и парики, которые сам создавал. В 1904 году эмигрировал в США, поселился в Сент-Луисе, но быстро переехал в Лос-Анджелес, поближе к деньгам и славе. Он занимался сразу всем – был официальным дистрибьютором двух европейских производителей театрального грима Лейхнера и Майнора, разрабатывал специальный маложирный эластичный грим для безжалостных киноламп и много-много консультировал – голливудских немых красавиц, режиссеров и художников по свету. В 1918 году представил свое первое масштабное творение – «Цветовую гармонию», набор пудры разнообразных оттенков для всех типов «персональной комплекции» – цвета кожи, глаз, волос.
Хелена Рубинштейн
Конец 1950-х – начало 1960-х годов. Columbian, coni
Новая голливудская богема обожала яркие эффекты и снисходительно относилась к скандалам. В 1920 году Фактор начал открыто использовать полузапретный термин make-up – словечко из лексикона проституток и театральных актрис, между которыми в Прекрасную эпоху ставили знак равенства. Эту общественную дерзость сочли в Голливуде приятной новинкой. Make-up проник в язык кино и позже, очищенный от скверны мирской, занял почетное место в уважаемом и безгрешном словаре Вебстера.
Конфликт между Арден и Рубинштейн заставлял обеих див мчаться вперед, ноздря в ноздрю. Конфликт, произошедший в 1922 году между Фактором и Лейхнером, привел к процветанию первого и полному краху второго. «Профессор» косметики пришел в главный офис своего немецкого партнера, однако вместо теплых объятий и холодной кружечки баварского провел битый час в кожаном кресле приемной, потерял терпение и со словами «Это немыслимо» вышел вон. Стремительно телеграфировав сыну: «Начинай продавать наш макияж», он отправился восвояси, расторгнул договор с Лейхнером и уже через несколько лет произвел переворот в косметике. Сначала разработал 31 оттенок грима в виде жидкого крема и стал выпускать их в узнаваемых фисташковых тюбиках.
Реклама косметических средств Хелены Рубинштейн с указанием цен
Журнал Vogue, 1920. Архив О. А. Хорошиловой
Актриса Мэй Мюррей демонстрирует «губы, ужаленные пчелой»
1920-е годы, flickr.com
Рекламный плакат фильма «Бен-Гур»
1925 год. Частная коллекция
Дуглас Фэрбенкс в фильме «Багдадский вор», 1924
Фотооткрытка. Архив О. А. Хорошиловой
В 1924 году, получив заказ от United Artists, разработал два типа грима для фильма «Багдадский вор». Первый – имитирующий капельки пота, второй – стойкий к потоотделению, специально для прыткого Дугласа Фэрбенкса, самостоятельно выполнявшего все трюки. Далее был оливково-бронзовый макияж для киноленты «Бен-Гур», произведенный в немыслимых количествах – 2700 литров. В 1926 году Фактор совершил настоящий подвиг, изобретя за семь дней влагостойкий макияж для подводных сцен фильма «Маге Nostrum». Это была маленькая революция и крупный деловой успех. За гримом выстроилась длинная очередь из продюсеров театральных шоу, режиссеров и звезд Голливуда. В 1971 году на его основе компания Мах Factor разработала линию водостойкой косметики для ежедневного использования.
Фактора обожали голливудские дивы – за его талант, изобретательность и любезную немногословность. Пока они млели в косметическом кресле, мурлыкали последние слухи и с игривой доверчивостью смотрели на «профессора», он, в сером холщовом почти хирургическом халате и роговых очках, сосредоточенно производил безболезненные манипуляции – бегал ловкими пальчиками по лицу, втирал кремы, водил кисточками. И ничего не говорил, кроме: «ес, мисс», «сори, мисс» и «тури хид дзи райт», что означало «поверните, пожалуйста, голову направо». Английский ему никак не давался.
Вот так вот, сидя в халате перед разомлевшей голливудской звездой Мэй Мюррей, Фактор придумал ее рту чувственный рисунок – верхняя губа слегка увеличена по центру двумя острыми уголками, нижняя – жирно обведена, будто вспухла. Название возникло само собой: «Губы, ужаленные пчелой». Вслед за Мюррей такими порочными ртами, обведенными кроваво-бордовой помадой, обзавелись нью-йоркские флапперы.
Когда Кларе Боу понадобился ротик балованной юной соблазнительницы, Фактор, усадив звезду в косметологическое кресло, стер ее губы густым гримом и, зачерпнув большим пальцем немного помады из именной баночки, поставил три отпечатка, слегка растушевав кисточкой. Так появились главные «губы» десятилетия – «лук Купидона». Название – милая игра слов. «Bow» – это и лук, и фамилия голливудской иконы стиля.
Двадцатые были трамплином Макса Фактора. Свое имя и компанию он утвердил и прославил в следующее десятилетие, предложив, между прочим, макияж для звуковых фильмов и цветной кинопленки. Он создал «Микрометр красоты» – монстроидный аппарат с линейками и винтами для определения лицевых недостатков. Изобретение весьма в стиле гламурных и расистских 1930-х годов.
Арден, Рубинштейн и Фактор – главные, но не единственные бренды индустрии красоты. В 1920-е годы флапперы и просто милые девушки с удовольствием тратились на пудру от Coty и Erasmic, кремы от Vivodou и Hubbard Ayer, драгоценные парфюмы от лучших модельеров. Абсолютными хитами были Chanel № 5, Му Sin и Arpege от Ланвен.
Клара Боурекламирует форму губ «лук Купидона»
Открытка, 2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Теперь никто не стеснялся словечка make-up и никто не боялся краситься. Это делали даже на улицах – за обеденным столиком в бистро, на переднем сиденье «паккарда», в перерывах между теннисными геймами и на приступочках ипподрома, возвышаясь над пупырчатым полем черных котелков, ухающим в азарте скачек.
Каждая истинная флаппер имела маленькую пудреницу, зеркальце и компактные тюбики с помадой, которые пускала в ход, как только на горизонте появлялся статный молодой человек без спутницы. Положив одну обнаженную коленку на другую, достав из ловкого клатча инструменты соблазнения, она без умолку лопотала с подружками, успевая подправить макияж, выровнять тени и подвести «Купидонов лук», а купидонова стрела вместе с острыми искорками прямиком оценивающих глаз летела в сердце молодого человека, с увлечением наблюдавшего эту милую интимную сцену бьютификации.
Реклама косметических средств компании L. Т. Pivet
Журнал Уogue (London), 1920. Архив О. А. Хорошиловой
По сведениям аналитиков конца 1920-х годов, американские компании производили около семи тысяч различных косметических средств, которые ежегодно продавали на 2 миллиона долларов. Около 90 % женщин пудрились, 55 % – накладывали румяна, 73 % принимали «итальянский душ» из парфюмов. И больше половины из них были убежденными флапперами.
Реклама косметических средств Bourjois
Журнал Vogue (Paris), 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Бланк заказа парфюмерной продукции фирмы Coty
1922 год. Архив О. А. Хорошиловой
Костюм соблазнения
Законы гармонии работали даже в то хаотичное время. Если чего-то становилось больше, что-то обязательно уменьшалось. К примеру, одевая лица в макияж, девушки обнажали ноги. В начале двадцатых низ платьев колыхался у лодыжки, но с каждым годом сдавал позиции. В 1923 году французский Vogue, немного ретроманский, чуть снобистский, с заметной печалью констатировал: «Jenny, Chanel, Renee и Molyneux теперь отдают предпочтение коротким платьям… длина утренних и дневных нарядов варьируется от 20 до 22 сантиметров от пола». И тот же Vogue регулярно сообщал читателям об успехах французских модельеров в борьбе с флапперскими юбками и нравами. Поль Пуаре, к примеру, упорно удерживал низ платья и назло всем поветриям моды демонстрировал вечерние туалеты с широкими и длинными юбками, за которые, по словам Джанет Фланнер, он хорошо приплачивал манекенщицам.
Новую опасную длину пропагандировали не только Шанель и Молине. За открытые коленки сражались безымянные девушки по обе стороны океана. В Монреале они организовали лигу «Долой длинные юбки», торжественно поклялись друг другу отстаивать принципы новой красоты и активно призывали представительниц прекрасного пола присоединяться. Но вскоре надобность в призывах отпала. В 1926–1927 годах короткие платья получили официальный статус в моде. Общественные страсти улеглись. И воспылали любовные. И счастливым обладательницам красивых ножек стало невероятно просто добиваться мужского внимания.
Парижская актриса Марсель Рана демонстрирует не только своих породистых собачек, но и смелую укороченную юбку
Журнал Die Dame, 1927.
Архив О. А. Хорошиловой
Впрочем, даже антично прекрасные ноги оголяли редко. Сказывалось воспитание – молодежь двадцатых все-таки родилась в начале века и получала образование в серо-коричневых мшистых пансионах Викторианской эры. Ее нелепейшие правила и придворные условности она презирала. Но ходить по городским улицам с голыми ногами даже отъявленные флапперы считали плохим тоном. И появились шелковые телесного цвета чулки, легко наметившие условную границу между высоким стилем и нравственным декадансом. Такие, однако, отваживались носить только любительницы экстравагантности и эпатажа, то есть шумные нью-йоркские флапперы и лондонские «яркие штучки». Тихие модницы покупали шелковые или вискозные чулки приглушенных оттенков, совпадающих с цветом наряда. Для тусовок, дансингов, модных вечерних променадов и для красивого фото на память любимому выбирали яркие варианты с пестрым орнаментом – геометрические, африканские, древнеегипетские, в стиле французского флорального рококо и с фотопортретом бойфренда (его удивленно озадаченное лицо помещали под коленками). Чулки в сеточку можно было встретить разве что в Гарлеме да в блудливых переулках Монпарнаса, а еще на подмостках кабаре и мюзик-холлов.
Европейские флапперы приехали в Нью-Йорк, чтобы принять участие в конкурсе красоты. Их короткие юбки гарантируют успех
Архив О. А. Хорошиловой
Модели Жана Пату.
Юбки к этому времени стали короче
Журнал Femina, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Все без исключения модницы и флапперы мечтали о бесшовных чулках, но их создали только в 1940-е годы, и потому приходилось мириться с темноватой тонкой вертикальной линией, обозначавшей не только бег строчки, но и вектор движения мужских глаз – от пятки вверх и обратно.
Укороченные юбки позволяли дамам чувствовать себя комфортнее даже под пристальными взглядами мужчин
Реклама одеколона «4711». Журнал Die Dame, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Чулки носили пристегнув к поясу или на горизонтальных подвязках выше колена. Скромницы стыдились их показывать, флапперы – активно демонстрировали и этим спровоцировали моду на расшитые и украшенные полудрагоценными камнями подвязки, скрывать которые было сродни преступлению. Впрочем, иногда они обходились и вовсе без этих галантных крепежей, подворачивая чулки по-детски – над коленками. Получалось смело и забавно и очень в стиле флапперов, пребывавших на грани между отрочеством и молодостью, между общепринятым и скандальным. Самые смелые бравировали спущенными чулками – редко на улицах и гораздо чаще на фотографиях в жанре risque.
В необычайно хваткие деловые двадцатые появилось множество крупных и мелких предприятий, производивших чулки самых фантастических раскрасок и прочности, которую неуклюже сравнивали со сталью – Великая война недавно закончилась и такие окопные эпитеты никого не удивляли. Флапперы попугайчиками щебетали у прилавков британской марки Aristoc, предлагавшей все мыслимые и немыслимые фасоны чулок, в том числе и «эксцентрических цветов». Американки носили продукцию компаний Holeproof Hoisery, Onyx Hosiery, Real Silk. Немки предпочитали отечественные марки, в том числе Bemberg Kunstseidefabrik и Elbeo. Француженки вертели ножками, туго обхваченными цветным шелком Bas Lys, Cid, Academic.
Девушка позирует с подвернутыми чулками. Так тогда делали настоящие флапперы
2-я половина 1920-х годов. flickr.com
Реклама колготок Cid
Журнал Vogue (Paris), 1929. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама туфель компании Hellstern
Фотография d’Ora. Журнал Femina, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Вечерние туфли
Фотография Эдварда Стайхена, 1927.
Фототипия 1920-х годов.
Как только началась мода на чулки, появилась необходимость в обуви, изящной, удобной, на сотни случаев шумной топотливой жизни. Девушки обожали каблуки. Они делали красавиц выше, стройнее, женственнее, своей тонкой щелкающей трелью помогали привлечь внимание к ножкам, словом, стали еще одним оружием в битве за мужчин. Каблучки были тонкие и острые, столбиком и рюмочкой, в стиле мадам Помпадур и Марии Антуанетты. Модными считались каблуки с покрытием из целлулоида, который научились обрабатывать под рог, перламутр, сусальное золото и даже фарфор. Эти каблучки выстукивали модный джазовый граунд-бит на Мэдисон-авеню и Фобур-Сент-Оноре, взлетали по красноковровой лестнице на второй этаж престижных ресторанов и безбоязненно отхватывали головокружительные пируэты в дансингах. Для таких случаев надевали туфли с сатиновой искрой, двуцветные контрастные, золоченые и серебристые, с пестрой вышивкой, росписью в египетском, маньчжурском, арабском стиле, с инкрустацией из бриллиантов и жемчужин. Носочки туфель были преимущественно заостренные, чтобы ноги казались стройнее и длиннее, иногда их выделяли контрастным цветом. Флапперы называли их «berries» («ягодки»), моралистки выражались пространнее: «Идиотические, узкие, негигиеничные туфли на высоких каблуках».
Реклама немецких туфель Salamander
Журнал Die Dame, 1927.
Архив О. А. Хорошиловой
Реклама туфель компаний Hellstern и Perugia
Журнал Femina, 1926 г.
Архив О. А. Хорошиловой
Элегантные туфли 1920-х годов
Фотоархив
Института костюма Киото (Япония).
kci.or.jp
Реклама туфель компании Perugia
Журнал Femina, 1927 г.
Архив О. А. Хорошиловой
Американцы, умевшие не только тратить, но и гениально экономить, ввели в моду накладные элементы, преображавшие обувь. К примеру, вместе с парой незатейливых кожаных или сатиновых туфелек флапперы приобретали огромные, проложенные атласом, короба с блестящими пряжками и накладками для пуговиц из бронзы, меди, серебра, целлулоида. Вместе с ними из магазина уносили бархатные ящики с десятками каблуков, расписных, расшитых, со стразами и драгоценной инкрустацией. Мягкость и женственность туфель была обманчивой. Многие имели секрет – под пяткой была встроена металлическая резьба, а со стороны стопы, под каблуком скрывалась впечатляющая стальная накладка с пазами. Каблук примыкал к заднику словно штык к ружью. Такие туфли – лучшая метафора женщин двадцатых. Легкие, фривольные, глупенькие девушки меняли маски, как каблуки туфель, и тщательно скрывали свой жесткий стальной остов, расчетливость и деловую хватку в карьере и любви.
Эти дамские нарезные расписные «ружья» предлагал в 1920-е Андре Перуджа, гениальный фантазер и ловкий делец. Уже в шестнадцать лет он открыл бутик и ателье в Париже, свел близкое знакомство с акулами французского модного бизнеса и тачал-тачал без остановки малые скульптурные формы – изысканные драгоценные туфли. Они прелестно дополняли тяжелые вечерние наряды Поля Пуаре и острые геометрические ансамбли Мадлен Вионне. Ими восхищались и отмечали многообразие исторических заимствований. Но тогда Перуджа был еще подмастерьем, карьера только начиналась, и опора на старину помогала не совершать ошибок, находить новые интересные решения. Он щедро украшал атласные лодочки шелковыми орнаментами во вкусе французского Средневековья и флорентийского Высокого Возрождения, сыпал стразы на густой фиолетовый бархат мюлей, чтобы получилось глубокое полуночное небо сказочной Персии, овивал сандалии золочеными меандрами, превращал туфли в венецианские маски и украшал их нежное шевро пряжками Короля-Солнце. Он изобрел новую обработку кожи. К примеру, в начале 1920-х предложил вариант «phoque» («тюлень») с имитацией трещинок. Такие предлагал в основном на каждый день и для занятий спортом. Однако самым модным, по мнению Перуджи, были туфли из мягкой кожи оттенка «ню». Такие расходились особенно быстро и попадали в гардеробные комнаты флапперов. Туда же отправлялись десятки экстравагантных лодочек и мюлей от парижских братьев Эльстерн. Братья обожали театральные эффекты – пестрые орнаменты в китайском вкусе, золотную вышивку во вкусе египетском, извивающиеся каблучки в стиле мадам Помпадур, а также античность, ампир, рококо – то есть все самое изящное, игривое с оттенками кафешантанных страстей. У «джазовых крошек» были популярны и другие марки – Fenton Footwear, Pietro Yantorny, Thomas, N. Greco, Ducerf-Scavini.
Типичный нью-йоркский «спикизи»
Конец 1920-х – начало 1930-х годов. flickr.com
Короткие стрижки и юбки, подвернутые или приспущенные чулки, курение в общественных местах и агрессивный макияж – обязательные атрибуты модниц двадцатых. Но чтобы стать настоящими, прожженными, отпетыми флапперами, они должны были уметь пить, тусоваться и блистать в самых модных ночных клубах.
«Говори тихо»
Пили много – нарочито большими глотками, учились красиво ронять ледяную стопку водки прямиком в горло, как делали мускулистые парни в портовых барах. Обожали коктейли из узкобедрых стаканов, умещавших три-четыре вида алкоголя, горьковатый сок, нарезку из фруктов в ледяной пенке. Пили на износ, до одурения с каким-то особым юношеским остервенением, один стакан за другим, галлонами – мутную сомнительную жидкость. Посетительницы закрытых клубов заказывали янтарную «Мэри Пикфорд» – шейк из белого рома, ананасового фреша, гренадина и мараскина и каких-то хитрых сухих трав. Баловались «Смокингом» из джина, вермута и мараскина, «Крутизной» из паленого алкоголя, меда, лимонного сока с апельсиновым жмыхом. Флапперы попроще обходились смесью виски и кока-колы с клубникой.
Сухой закон сделал модными коктейли, все виды коктейлей. Сначала одни парни лихо запретили производить, распространять и потреблять алкоголь, но тут же другие парни, в отлично сшитых костюмах и шляпах-федорах, открыли подпольные цеха и организовали нелегальную продажу паленых напитков. Один из них – Аль Капоне, круглый весельчак и симпатяга, аккуратно отрезавший пальцы конкурентам позолоченной гильотинкой для сигар. Он был самым крупным и наглым бутлегером двадцатых, мафиози с голливудским лоском, королем ночного Чикаго. Ему козыряли высшие чины полиции, и симпатяга Аль их щедро одаривал. То, что лилось из его подпольных цистерн в марочные бутылки, едва напоминало старый добрый джин и виски, и эту дурно пахнущую сивуху приходилось густо разбавлять соками, вермутами, подслащенной водой и кусочками фруктов, чтобы усыпить бдительность клиентов. Впрочем, у них все равно не было выбора.
«Спикизи» после рейда полиции Нью-Йорка
Начало 1930-х гг.
flickr.com
Вход в «Клуб 21»
Нью-Йорк, 2014.
Фотография О. В. Рачковской
«Спикизи» тоже стали популярны благодаря сухому закону. Существовало такое выражение: «Speak easy» («говори тихо»). Официанты гневно бросали его разомлевшим клиентам, слишком громко произносившим запретные заказы в присутствии напряженно подслушивавших копов, смешно уткнувшихся в газеты за соседним столиком. Потом так стали называть подпольные заведения, своего рода закрытые клубы с низкими потолками, входом-тайником и целым набором паролей и сигнальных постукиваний. «Спикизи» могли находиться где угодно, обычно в самых неожиданных местах – за стеной магазина игрушек, в дальней комнатке часовой мастерской и даже за аппаратом в телефонной будке – стоило лишь нажать правильный рычаг и сыграть костяшкой пальца начало флапперского гимна «Ain’t we got fun».
В середине двадцатых, когда был коронован великий Аль и на Манхэттене отплясывали шимми, «спикизи» стали почти открытыми клубами, в которых паленый джин бил в стаканы прямиком из мраморного фонтана, черно-белые лакеи, красиво кружась, разливали хрустальное шампанское и гости, в перьях и конфетти, колыхались волнами под разухабистый «щикаго» джаз. И в такт ему дрожали обрамленные стекла и ложечки в чайных стаканах смирных жильцов верхних этажей. Проклятья и жалобы сыпались на полисменов, но они умели быть мертвецки глухими – тихо шли мимо, крутили дубинками, посвистывали.
Особенно не везло тем, кто жил на 52-й улице Манхэттена. Вокруг дома № 21 с вечера до раннего утра шумели и кричали подозрительно возбужденные девицы, барабанили по отзывчивой улице стальными набойками туфелек, хохотали и падали, а солидные господа, с сигарами, в шляпах, тщетно взывали к их здравомыслию и спешно, кое-как, уминали размякших спутниц в заспанное нерасторопное такси. Это были гости «Клуба 21», самого известного нью-йоркского «спикизи».
Он несколько раз менял адреса и в 1929 году переехал сюда, на 52-ю улицу. Гостей принимали только по звонку, вернее, сложной, переливчатой трели, которую каждый посетитель должен был выжать кнопкой. В полночь предлагали тяжелый ланч, а с четырех и до закрытия – чай. Какой это был чай, знали все, и потому не все отваживались его заказывать. Завсегдатаи цедили менее опасные коктейли и украдкой смаковали чистый марочный коньяк, полагая, что бутлегеры не в состоянии подделать его аромат.
На хозяев клуба, милых добряков Криндлера и Бернса, работали осведомители и местные полицейские, все как один глухие, немые и слепые. Но даже они не спасали от облав. Для таких вот крайних случаев Криндлер и Бернс разработали целую систему введения в заблуждение федеральных агентов. Как только те вбегали в помещение, барные полки с бутылками разом, в цирковом стиле, опрокидывались, тара разбивалась и летела в канализацию по жестяным каналам. Обширный подвал, наполненный породистыми винами, дорогим алкоголем и фирменным клубным «чаем», защищала метровая кирпичная дверь-стена, открыть которую могли только особым длинным тонким ключом (его используют по сей день). Облавы заканчивались полным фиаско – агенты не находили ни грамма алкоголя, а специфический клубный запах в секунду всасывала отличная вентиляция, гордость Криндлера и Бернса.
К бурной алкогольной ночи нью-йоркские флапперы готовились с вечера. Обыкновенно отправлялись в какое-нибудь модное тихонькое заведеньице с легкой сумасшедшинкой. Таких было много в Гринвич Виллидж. К примеру, «Синяя лошадь» – клуб-ресторан с блеклыми подтеками красок, означавшими геометрическую абстракцию, и осоловевшими пучеглазыми рыбами во встроенных аквариумах. Усевшись за крохотным столиком у танцпола, флапперы намеренно небрежно вытряхивали содержимое сумочек – блесткие карандаши помады, пудреницы в эмалированных зигзагах, зеркальца и десяток другой звонко говорливых мелочей. Все так же небрежно, сделав заказ уголком рта, они поправляли макияж широкими, театральными движениями и не переставая качали ножками в спущенных к самим лодыжкам шелковых чулках. Накрасившись всласть и насмотревшись, слали отражению воздушный поцелуй, захлопывали зеркальце и разом сметали приятные звонкости обратно в сумочку. Ели мало, хотя кухня в «Синей лошади» была выше среднего. Пили умеренно – щадящие коктейли или что-то погорячее, чтобы, как говорили, «не глох мотор». Флапперы любили грубый язык автомобильных хайвеев.
Таких заведеньиц, в которых тянули вечер, «подогревая двигатели», в Нью-Йорке было много – «Трокадеро», «Мирадор», «Плантация», «Монмартр», «Рю де ла Пэ». В одном предлагали обжигающую мексиканскую кухню, в другом драматично, убедительно вытаращив глаза, голосили испанские цыганки и лениво тянули ножки фокинские балерины. В третьем загадочный факир с блестящими от клея усами демонстрировал восточные чудеса и, моргнув подведенным глазом, заставлял испариться пухлую пачку долларов – этот трюк в 1929 году гениально и легко повторили финансисты с Уолл-стрит. Такие разные и удивительно похожие один на другой вечерне-ночные клубы. Каждое лето какой-нибудь из них закрывался, но каждую осень появлялись новые. Всем хотелось разнообразия. Сегодня не должно было повторять вчера.
Талулла Бенкхед, одна из представительниц Bright Young Things
1920-е годы. Частная коллекция
Нью-Йорк двадцатых жил ночами. Подмигивал неоновыми стразами, вспыхивал бисером рекламных огней, лоснился черным бриолином авто и шелестел тафтой шершавых улиц. Он перекатывался с одной сумасшедшей вечеринки на другую – из «Петрушки» в полуночное «Американское кабаре» за углом, оттуда в «Пале-Рояль» и «Трокадеро», затем в «Клуб четыреста», гарлемский «Коннорс» и десяток других мест, от которых в памяти оставались подвижные ряды геометрических колен, искры визжащих тромбонов, пляшущие белые улыбки чернокожих официантов, грудной гогот певицы и приятное послевкусие, смесь марочного бренди и вишневой помады какой-то прилипчивой девицы. Город пьянел от чая и ревел от банджо, бился в конвульсиях под гарлемский джаз-банд, рушился в бассейн на сороковом этаже небоскреба, орал от восторга и рыдал от невыразимой трагичной прелести хрупких летних ночей и этого перламутрового нежного манхэттенского неба. Под утро он наблюдал свое безумное взъерошенное отражение в безразличных тусклых водах Гудзона. И почти уже ничего не помнил.
«Молодые яркие штучки»
В Лондоне тоже веселились. Однако там не было флапперов – в грубовато демократическом смысле этого слова. Ночной жизнью там заправляли «яркие молодые штучки», отпрыски аристократических семейств с длинными фамилиями и удлиненными лицами, что в Англии всегда считалось признаком породы. Харольд Эктон был воспитан в Итоне и Оксфорде, там же учился Ивлин Во, сын преуспевающего издателя, сестры Понсонби были дочерьми сэра Фредерика Понсонби, барона Сисонби, а сестры Митфорд, обе писаные красавицы, принадлежали роду Фриман-Митфордов, баронов Ридесдейльских. Брайан Гиннесс носил звучную фамилию пивных магнатов и в официальной переписке именовался бароном. Талантливый фотограф Сесил Битон хвастался своим родством с Мэри Битон, фрейлиной Марии Стюарт (и этой шуткой вводил в заблуждение знатоков генеалогии). Стивен Теннант происходил из крепкошеего клана шотландских аристократов, что не помешало ему стать утонченным декадентом, самой яркой и экзотической из всех лондонских «молодых штучек».
Они все прекрасно знали друг друга, пытались дружить и прелестно проводили время где-нибудь на Холборн-стрит или Тайт-стрит, в старинных частных особняках с садом и бассейном, которые с голливудской быстротой преображались в райские кущи и Посейдоново царство. Демократизм, послевоенная американская новинка, сбила спесь и смягчила шипяще-цокающий диалект выспренних аристократов. На их вечеринки приезжали просто хорошие парни, мускулистые друзья Теннанта и Во, прехорошенькие, будто из витрин универмага, начинающие актриски и склизкие антрепренеры в маслистых моноклях, пообтертые жизнью писатели, требовательные девушки легчайшего поведения с гавкающим кокни и цепкими объятьями, пара-тройка беззубых прожорливых светских хроникеров, пара-тройка городских сумасшедших для разнообразия и, если верить Джеймсу Лаве, какая-то старушка «лет шестидесяти с лишком, с сидевшей на плече мартышкой».
«Яркие молодые штучки» были исконно британской породы, ценили скромный шик и костюмы bespoke и не могли себе позволить пошлых ординарных нарядов.
Известный щеголь Беверли Николс, к примеру, гордился своими «фраками от Лесли и Робертса с Ганновер-стрит, жилетами от Хоуса и Кёртиса с Пикадилли, шелковой шляпой от Л оке с улицы Сейнт-Джеймс, туфлями монаха из Фортнем и Мейсон с Пикадилли, хрустальными и бриллиантовыми запонками от Бушерона с Рю де ла Пэ»[4]. Девушки были одеты от французских модельеров, в ламе, декольте и драпировке, хотя порой среди них ласточками носились расфранченные суфраже и коротко стриженные баронессы в шелковых смокингах.
И никаких отцовских денег не жалели на костюмированные вечеринки, в организации которых «яркие штучки» знали толк. Первые тихо прошелестели в 1926 году, последние, устроенные в 1929 году, прогремели на весь флапперский мир, признавший за молодыми британскими денди первенство в этом жанре развлекательного искусства.
Сначала была «Эдвардианская вечеринка». В 1926 году ее вдохновитель и главный спонсор Стивен Теннант решился на опасный трюк – умопомрачительное перевоплощение с кувырком в довоенное прошлое. На пригласительных билетах значилось: «Приходите в том, как Вы одевались двадцать лет назад». Смело. Ведь почти всем адресатам едва исполнилось двадцать пять, и несложно представить, в чем они явились на вечеринку.
Улюлюкая и причмокивая, верхом на нелепой детской коляске, въехала в гостиную клуба «Горгулья» (снятого для мероприятия) Бренда Дин Пол, в чепце, распашонке, бантах и кружевах. Она родилась девятнадцать лет назад, и такое яркое появление в полной мере соответствовало требованиям Теннанта и метрикам церковной книги. Ее мать, леди Дин Пол, была в S-образном корсете (едва в него влезла), платье от Дусе, карикатурном каскаде из страусовых перьев, который когда-то считался модным, и ротонде из молескина. За руку ее крепко держал старший сын, одетый в матросский костюм и канотье. И так выглядело большинство приглашенных – все как один в коротких итонских курточках и фуражечках, американских платьях с широкими кушаками, слюнявчиках и свивальниках. Они ползали, задорно смеялись, пускали слюни, дрались и стреляли из рогаток. На такое не отважились бы нью-йоркские флапперы, а французские сюрреалисты выглядели бы неубедительно.
Писатель Ивлин Во, биограф «молодых ярких штучек»1920-е годы.
Фотоархив static.guim.co.uk
Тогда же, в незабвенном 1926 году, прошла вечеринка «Питер Пен», светская, сдержанная, даже скучноватая. Блистали три «яркие штучки» – Нэнси и Баба (Диана) Митфорды, а также их верный спутник Сесил Битон, придумавший обеим красоткам сказочные платья. В 1927 году веселились на «Матросской вечеринке» (Литтон Стрейчи, пришедший в полном адмиральском обмундировании, был нарасхват) и на «Вечеринке Хизера Пилкингтона» (костюмы из фольги, шифоновые палантины, платья в серебристых звездах). В июне 1928 года сходили с ума от жары и под вопли негритянского джаза валились в бассейн, визжали и кувыркались в теплой воде и леденцовых пятнах подсветки, и потом столь же резво выпрыгивали, меняли промокшие купальники на другие, ядовитых цветов и фривольных фасонов, курили, крутились на танцполе в обжимку неважно с кем, пели и пили ядреный коктейль неважно из чего. Вечеринка попала в историю клубных двадцатых под названием «Ванна и бутылка».
В 1929 году «яркие штучки» инстинктивно прощались с невыносимо легкими и беззаботными двадцатыми, хотя до Черного четверга было еще достаточно теплых безумных дней. Вечеринки лихорадочно сменяли друг друга, словно отчаянные бегуны на финишной прямой. На «Великих Городских Дионисиях», устроенных Брайаном Ховардом, собрались в костюмах, прикрытых античной наготой, в шлемах и бородах, с трезубцами и шипящими в пышных прическах ужами. Через три недели в особняке Гиннессов черно-белые фрачные тройки поклонялись «Малаховым курганам» и прочим кринолиновым бастионам девятнадцатого века. Но уже через неделю все надели цирковые трико (от Нормана Хартнелла и Вилли Кларксона) и шумно провели июльскую ночь под разухабистую какофонию потешного оркестра. Эта дорогая и пестрая «Цирковая вечеринка» стала кульминацией безбедного и насыщенного ничегонеделания.
Казалось, конфетти не закончится никогда. Но пришли тридцатые – по-армейски дружно, звонко, в ногу. «Яркие и молодые штучки» и «джазовые крошки» потускнели и заметно повзрослели. Кто-то крепко уселся в чиновничье кресло, кто-то на скамью подсудимых. Время стало другим – решительным, бескомпромиссным, черным и белым (костюмы политиков, мундиры SS).
Флапперы вышли вон из моды. На улицах и на плакатах маршировали новые женщины – плечистые, грудастые матери, выкормившие щенков германского рейха. Уже слышался надсадный скрип гусениц и картавое тевтонское тявканье.
Глава 3 Режиссеры стиля. Модельеры
В 1928 году гениальный Кокто, впорхнув в кафе и вкусно затянувшись сигареткой, на лету, на случайном листке набросал сценку.
Жан Кокто.
Габриэль Шанель
Середина 1920-х годов. flickr.com
Условная линия горизонта, буграстый гриб, увенчанный нелепым эгретом, печально удаляется. Он делает прощальный длинный глаз скупой фигурке на первом плане – острые ключицы, уголки расставленных локтей, колечки бижу, дымок. Подпись: «Пуаре уходит, Шанель приходит». Кокто, шутя, нарисовал смену эпох – модерн уступал место модернизму, слоновая кость – бакелиту, горизонталки– «вертикалкам», дамы-грибы – безгрудым неврастеничкам. Пуаре уходил, подбадриваемый Шанель: «Давай-давай». Но он уходил медленно и, кажется, сам не понимал, что прощается с модой.
«Пуаре уходит, Шанель приходит»
1928 год. Фототипия.
Частная коллекция (Германия)
Поль Пуаре за работой в ателье 1926 год.
Фонд А. А. Васильева
Парижский паша
Как и прежде, щедро и царственно, он принимал в своем ателье журналистов. «Месье Пуаре, – сообщал один, – отвечает на вопросы, окруженный баснословной парчой, золотой и серебряной, брокатами и драгоценными шелками, выплескивающимися на пол». «Мы, как и прежде, ощущаем себя в сказочном гареме моды», – восклицал другой. Пуаре стоял среди этого чудного великолепия, словно падишах в гареме, и с комично торжественной миной вещал о творческих планах на ближайшее будущее: «Я ищу чистую линию, мне нужна здоровая порция эклектики, но я не могу пока сформулировать общую тенденцию. Я в поисках. Я еще не знаю, что буду делать». На самом деле отлично знал. Он воскрешал прошлое, которое неумолимо от него ускользало.
Прошлое было великолепным. Сначала грандиозный скандал – в 1906 году супруга Дениза появилась на людях (подумать только, в церкви, перед святым отцом) в наглом узком платье без корсета, названном «Лола Монтес» в честь танцовщицы и авантюристки. Так Пуаре стал ниспровергателем корсетов и сторонником нового, спортивного стиля, высеченного из паросского мрамора античности. И так создал о себе первый миф. Ведь до сих пор говорят: «Пуаре отменил корсеты». Ничего не отменял – он рекомендовал дамам надевать под платья-туники более удобные корсетированные пояса, а молодым красоткам ходить «запросто», как его Дениза.
Жорж Лепап. Иллюстрация из альбома «Вещи Поля Пуаре»
Париж, 1911. Национальная библиотека Франции
В 1908 году выпустил целую коллекцию платьев в стиле Лола Монтес, назвав ее «Директория». Простые удлиненные формы, завышенная линия талии, кушаки и воротники-берты – все соответствовало духу закатной Французской революции. Потом были «Русские сезоны», сдержанное знакомство с талантливыми Дягилевым и Бакстом, в которых Пуаре ощущал не столько союзников, сколь конкурентов – ведь эти дикие русские сумели влюбить парижан в Восток гораздо быстрее, чем он, Поль Пуаре, «Великий». Так его тогда называли. Впрочем, в 1911 году модники (а может, и он сам) придумали другое прозвище – Парижский паша. В тот знаменательный для себя год модельер придумал множество восточных «штук», в том числе юбку-брюки, платье-панталоны, тунику-абажур, а еще тюрбаны, гаремные подушки, гаремные запахи… В том же 1911-м он совершил невообразимое по масштабу турне – показал свои модели в Германии, Австрии, Венгрии, Румынии. Заехал в Россию и увез оттуда не только щедрые подношения и длинные списки заказов, но и чудные вышиванки, сапожки, утварь и скатерти, из которых потом сшил платья (и этим опередил Ламанову на целое десятилетие). Тогда же открыл школу и мастерскую «Мартина», парфюмерную компанию «Розина», пилотный продукт которой, «Весь лес», стал первым в истории парфюмом, созданным на базе модного дома.
Жорж Барбье.
Рисунок вечерних ансамблей Поля Пуаре 1913 год.
Национальная библиотека Франции
Платье-абажур от Поля Пуаре
Фотография, 1912–1913 годы.
Электронная библиотека Кентукки: kyvl. org
Тогда в творчестве Пуаре было много «впервые». Он первым применил способ драпировки текстиля, повторив почти забытый опыт древнегреческих предшественников. Он впервые в истории французской моды организовал масштабный костюмированный бал на восточную тему, назвав его «Тысяча и вторая ночь, или Торжество по-персидски», а также первым пригласил к сотрудничеству авангардных художников – Дюфи, Матисса, Лорансен, Сегонзака, Пикабиа. Он первым среди французских творцов отправился за океан – соблазнять ненасытную и очень податливую американскую публику сказочно дорогими нарядами и тканями. И одним из первых кутюрье ввел в моду национальную экзотику, и так удачно, что стал предвозвестником ар-деко.
«В театре».
Реклама вечернего наряда от Поля Пуаре
Журнал Femina, 1919 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Поль Пуаре всегда считал себя
художником и даже немного занимался живописью
2-я половина 1920-х годов.
Фонд А. А. Васильева
Парадоксально, но эпоха ар-деко не нравилась Пуаре. Он находил ее слишком простой, слишком грубой, городской, слишком во всех смыслах прямолинейной. Мэтр чувствовал, что не поспевает за ее учащенным ритмом, не может двигаться в одну ногу с коваными каблучками спортивных старлеток. Он стремительно набирал вес и терял сноровку, у него развилась одышка. Появилось неизбежное в таких случаях чувство ревности, потому что кто-то делает не хуже, у кого-то получается лучше, изящнее, современнее. На горизонте появились угластые локти и сигаретный дымок паучихи Шанель. Она приближалась, а он удалялся, его прижимали, бесцеремонно выпихивали на обочину современности. И Пуаре начал брюзжать.
В интервью то и дело критиковал – всех, кто его обижал и кто не соответствовал его изощренным представлениям о красоте. «Современные женщины? Но кого вы называете современными женщинами! Этих картонных тощих девиц, безгрудых, с угловатыми плечами. Клетки без птиц! Ульи без пчел!» Он ненавидел стиль garçonne, не понимал, как возможно ходить коротко стриженной, похваляться отсутствием груди и носить вздорные короткие юбки. Пуаре любил античные объемы – звонкие мраморные бедра, упругие перси, покатые плечи. Кроил платья по формам супруги Денизы – до размолвки считая ее идеалом. Он недолюбливал американок, хотя и благосклонно позволял им восхищаться платьями-абажурами и «гаремными» шароварами. Они, на его взгляд, были слишком падки на европейскую моду и слепо верили рекламе, силу которой модельер ощутил, как только ступил на американскую землю.
Ему не нравились коллеги, гнавшиеся за временем (Шанель, к примеру), предлагавшие «платья телефонисток» для прогулок и «купальные костюмы» для большого вечера. Он не понимал философию черного.
«Слишком все сейчас увлекаются этим цветом, – негодовал Парижский паша, – его чересчур много повсюду. Необходимо покончить с этим трауром, наше поколение не должно тащиться на поводу у глупых идей, оно нуждается в разнообразии и веселье».
Еще Пуаре ненавидел байеров, закупщиков дорогих универмагов, хотя благодаря им американцы выучились, наконец, правильно произносить имя мэтра. «От них нет проходу, – бурчал он. – Я уверен, байеры покидают показ, не изменив своего заранее составленного мнения о коллекции. И они готовы продавать лишь модели, похожие на успешно ими проданные в прошлый сезон. Они все смотрят в прошлое». Байеры – все до одного некомпетентны. Таков был приговор Парижского паши.
Он просто не понимал новых правил модного рынка, истинного назначения этих ловкачей. Не понимал и не принимал возможность авторского копирования. Считая каждое платье уникальным произведением искусства (а себя почитая художником), модельер решительно отвергал деликатные советы дельцов сделать модели чуть проще, чуть понятнее, чуть «более для рынка».
«Пуаре никогда не шел на поводу у рынка!» – негодовал мэтр. Действительно, до войны он диктовал свои условия, и бизнес их покорно принимал. Но двадцатые перевернули все с ног на голову – теперь мода зависела от склизких дельцов с рыбьими глазами и ухватками пираний, а творцы, истинные художники, должны были подчиняться правилам этой подводной игры. Сначала Пуаре решил ничего не замечать. Сделался напряженно безразличным, надувал щеки, принимал бонапартовские позы, приближая свое Ватерлоо. И с треском проиграл молчаливую битву. Он был поставлен перед жестким выбором – либо продолжать очаровывать поклонников сказками Востока, баснословными расцветками и расценками, либо упростить язык элитарного искусства. В период Великой войны и сразу после нее модельер лишился многих своих клиентов, и было абсолютно бессмысленно надеяться на поредевшую и поседевшую старую гвардию. И значит, был только второй путь – редукция, как того требовали байеры, как того требовала торопливая джазовая эпоха, жившая на ходу, одевавшаяся впопыхах, бросавшая беглый взгляд на витрины лишь для того, чтобы поправить макияж. Восхищенно рассматривать детали не было времени, да и желания тоже.
Примерка у Поля Пуаре
Фотография Б. Липницкого,1925 год.
Фонд А. А. Васильева
«Русские» сапоги Денизы Пуаре
1913 год. flickr.com
Платье Поля Пуаре с вышивками в народном вкусе
Начало 1920-х годов. Фонд А. А. Васильева
И Пуаре пошел на компромисс – предложил упрощенные авторские копии роскошных туалетов. Повинуясь законам презренного рынка, рекламировал эти компромиссные наряды в лучших модных журналах. В 1917 году он напечатал даже отдельную брошюру, бедненькую, с черно-белыми фотографиями «подлинных копий», подробными описаниями, ценами и грифами модного дома, гарантировавшими аутентичность красоты нового образца, купированной до средних американских стандартов.
Человек импульсивный, по-восточному противоречивый, зависимый, как все творцы, от рынка и клиенток, он неожиданно почувствовал легкое влечение к «ульям без пчел», о которых доселе говорил с презрительной иронией. В начале двадцатых в его коллекциях появились модели для безгрудых «гарсонок» – дневные и вечерние платья с прямо скроенным лифом, бретелями или прямоугольным вырезом, строго элегантные черно-белые пальто, шелковые блузы и прямоугольные сарафаны. Впрочем, он никогда не «оплощал» женщину до листа картона и вместо коротких прямых юбок предлагал непременно полные, со многими складками, собранными у талии. Этим они напоминали знаменитые robe de style Жанны Ланвен.
Поль Пуаре.
Вечерний ансамбль 1928–1929 годы.
Музей Метрополитен (Нью-Йорк)
Но все это были редкие уступки, сделанные Парижским пашой тяжело, с глубоким вздохом, через силу, по контракту для американцев и по принуждению чернобелого усастого Совета директоров, с 1924 года управлявшего его модным домом.
Пуаре обожал театральные эффекты, пыль и пудру сцены, шумные огненные версальские ночи, травестию, маскарад, продуманные драгоценности и бесценное безумство. С картинным достоинством обедневшего идальго он бросал подачки, спортивные коллекции, опрощенные «авторские копии», в сторону хищных негоциантов, продолжая беззастенчиво наслаждаться роскошью своих закатных, своих последних дней.
Он много выдумывал. Народный стиль, которым в начале двадцатых увлекались парижане, Пуаре ловко сочетал с простыми геометрическими формами дневных туалетов. Предлагал платья с широкой пестрой бретонской юбкой, наряды из шелка ecossais («шотландский») и клетчатого бархата, шляпки-клоши с легкими заимствованиями из индейского стиля, ловкие белые сапожки со многими складками, которые справедливо называли «русскими». Их создал по заказу Пуаре сапожник Фаверо еще в 1913 году, и они стали необычайно популярными в двадцатые благодаря Денизе, везде их носившей, а также моде на русских эмигрантов.
Пуаре забавлялся историей. Выискивал в ней что-то порядком забытое и создавал новое – драматичное, придворное, непременно барочное. Так, в 1922-м порадовал Денизу вечерним платьем «Ирудри» – богатым, затейливым, из ломкого ламе. Полуприлегающий лиф, юбка в пол, на бедрах плотный валик, то ли панье, то ли вердугаден. В общем, как всегда у Пуаре, изящное, но витиеватое высказывание на историческую тему – о византийском горячем золоте мозаик, итальянском Возрождении, испанских Габсбургах. Он баловал клиенток платьями-«кринолин» и платьями «Боттичелли», туфлями «Карл X» и «Людовик XV». И конечно же, античностью – сорочками-паллуллами, сорочками-хитонами, балахонистыми пеплосами, ладными туниками с золотыми ресницами амуровых стрел.
И он не мог без Востока. Грузная парча, рыхлый бархат, кровавый шелк, затейливая вышивка в китайском и османском вкусе, рукава-«копыта» и рукава-«пагоды», гомон многоцветья, пышные ароматы. И при этом простой крой, скупой, сверхэкономичный, который Пуаре настойчиво прививал европейской моде еще в десятые.
Зимняя куртка от Поля Пуаре
1926 год. Фонд А. А. Васильева
И конечно, он совсем не мог без маскарадов. Каких только не придумывал. В 1919 году – «Праздник цирка», «Праздник нуворишей» и «Праздник на дне морском». В 1921-м по заказу принцессы Мюрат – «Бал попугаев» в парижской Опере. В 1924-м участвовал в грандиозном «Китайском бале» – его, наряженного мандарином, очень эффектно в тряском паланкине внесли в здание Оперы четыре безмолвных раба.
Поль Пуаре. Пальто в китайском вкусе
Около 1923 года.
Фотография Ричарда Хотона.
Электронный архив Института костюма в Киото. http://www. kci. or.jp/archives/digital_archives
Но, пожалуй, главное, что удалось Пуаре в сложные для него двадцатые, – это грандиозная по размерам и вложенным личным средствам рекламная кампания собственного модного дома. Три шоурума – три баржи, пришвартованные на Сене у моста Александра III. А названия! «Любовь», «Орган», «Наслаждение». Не названия даже – императивы: любите роскошь, внимайте моде, наслаждайтесь ароматами.
На барже «Любовь», расписанной синими гвоздиками, раскинулись райские кущи дизайна – столовая, гостиная и спальня, созданные домом «Мартин». «Наслаждение», вся в расписных алых анемонах, представляла собой парфюмерный бутик, в котором погружались в волшебные плотные и плотские запахи компании «Розин». В ресторане баржи подавали изысканные блюда, в которых Пуаре тоже знал толк – еще в 1919 году он основал и возглавил «Клуб истинных ста», членами которого были самые капризные гурманы Европы. Баржа «Орган» стала плавучей галереей мод. На одной ее сцене, в окружении панно Рауля Дюфи, дефилировали манекенщицы в нарядах от Пуаре, на другой, большей по размеру, устраивали сеансы цветомузыки при помощи необычного органа. При нажатии клавиш на экране появлялись цветные геометрические формы, сродни тем, которыми тогда увлекались декоративные авангардисты и авангардные декораторы.
После шоурумов народ бежал кататься на карусели «Парижская жизнь», устроенной Пуаре по соседству, у набережной Сены. Вместо привычно сказочных зверей их ждали грубоватые уличные персонажи – угластые торговки, зубастый фонарщик, крутобедрая прачка, рекламные получеловеки. Были здесь округлые модницы с коробами покупок, щеголь с моноклем и даже флапперша, демонстративно задравшая юбку, чтобы пристегнуть чулок.
Результат участия в выставке – сотни заметок в модной периодике, тысячи развеселых посетителей и живописное катастрофическое банкротство Поля Пуаре, усугубленное финансовым кризисом 1929 года.
В тридцатые модельер выживал – ютился в домике сторожа и средних отелях, оплаченных щедрыми друзьями, писал и продавал картины, создавал робкие вечерние платья, сумрачные тени богатых нарядов, которыми когда-то славился. Он сочинял книги о финансах, о том, как одевал эпоху, и без устали декламировал басни за обед из трех блюд и милостивый гонорар.
Поль Пуаре на закате своей славы.
Это фото было опубликовано на обложке первого издания воспоминаний модельера «Одевая эпоху»
Фототипия, 1930.
Архив О. А. Хорошиловой
Карусель «Французская жизнь», устроенная Полем Пуаре во время Всемирной выставки в Париже
Фотооткрытка, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Баржи Поля Пуаре, пришвартованные у моста императора Александра III, Париж
Фотооткрытка, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Причина трагического финала, вероятно, в том, что модельер не вписался в сумасшедшие двадцатые и не смог справиться с тридцатыми. Он задержался где-то на границе эпох – между модерном и ар-деко. В первой половине десятых совершал одну революцию задругой, богатырски выпрямил кованую S-образную линию ар-нуво, обогатил и радикально упростил моду. А в двадцатые, лаконичные и спортивные, сделался неповоротливым ретроманом. Он считал себя «благоразумным новатором», но больше напоминал уютного бородатого старика, читавшего терпеливым внукам хорошо знакомые сказки про тысячу и вторую ночь. Пуаре строил гримасы, Пуаре забавлял. Но восточные сказки не привлекали молодых. Они зачитывались другими – сказками Века Джаза.
Мадам
В марте 1934 года в офис Жанны Ланвен на рю Фобур-Сент-Оноре пришли корреспонденты французского Vogue разузнать о планах модельера на предстоящий сезон. Пока один задавал неизбежно банальные вопросы «что вас вдохновило» да «что будет в моде», элегантно небрежный график Карл Эриксон наблюдал за мадам и переводил увиденное в карандаш и цветные мелки. Ланвен в тот день пребывала в хорошем расположении духа и много говорила, несмотря на страшную занятость. Подготовка коллекции в самом разгаре, нужно отсмотреть все выходы. Дивной красоты манекенщицы плыли по ее кабинету, крутились у черного лакированного стола, модельер поправляла складки, манерно взмахивала ухоженными ручками, перебирала пальчиками парфюмированный воздух, журналист писал, график шуршал, девушки ходили, мадам говорила: «Я никогда не обдумываю мои платья. Я просто следую уносящему меня чувству, а технические навыки помогают воплотить это чувство в реальность». Очень красивая фраза, достойная заголовка и мраморного пьедестала. Звучит почти во всех монографиях Ланвен.
Карл Эриксон. Жанна Ланвен за работой
Журнал Vogue (Paris), 1934.
Национальная библиотека Франции
Мадам, конечно, лукавила. Она давно уже не отдавалась порывам чувств – ей шел шестьдесят седьмой год. И художник Эриксон это подметил – на рисунке, опубликованном вместе с романтичным комментарием, престарелая модельер крепко, по-рабочему сидит в кресле и, щуря заметливый глаз, отдергивает шелковую драпировку – совсем по-будничному. Ни крыльев, ни кисеи, ни дуновения сладчайшего чувства.
Жанна Ланвен вообще рано распрощалась с иллюзиями. Кажется, лет в тринадцать, когда отправилась работать девочкой на побегушках в шляпное ателье. Выслушивала нравоучения хозяйки, разносила заказы и усердно экономила на всем, даже на омнибусах – полученную на проезд мелочь складывала в кубышку и что есть сил мчалась по указанному адресу, стараясь не опоздать. Потом перешла к модистке Феликс на рю Фобур-Сент-Оноре, 15, не зная, что через много лет этот дом станет частью ее маленькой империи.
В 1885 году Жанна открыла собственное ателье и через несколько лет, получив кредит, переехала в более просторное помещение на рю Буасси-д’Англа. Дело пошло. А вместе с ним наладилась светская жизнь – Ланвен познакомилась с нужными людьми, имела честь называть театральных звезд на «ты», великолепные парижские демимонденки делились с ней последними слухами, а она с ними – секретами красоты. В 1895 году Жанна вышла замуж за итальянского аристократа и через два года родила дочь Маргариту Мари-Бланш, Марго. Вот тогда, собственно, и возникло чувство – не то, легкозефирное, о котором так красиво рассуждала в старости, а очень личное, теплое, материнское.
Ланвен любила дочь без памяти и посвятила ей первые костюмные экзерсисы. И получилось так удачно, так ловко и свежо, что в 1908 году она запустила детскую линию под собственным именем. Говорят, клиентки, приходившие за новыми шляпками, подмечали симпатичные платья Марго и просили сшить такие же – им, великовозрастным. И Ланвен шила, способствуя проникновению детского стиля в светскую моду Парижа. В 1909 году она открыла свой модный дом. В начале десятых о ней уже писал Vogue, в 1915-м она вместе с первостепенными французскими домами представляла свои творения в Сан-Франциско. Ее уже называли классиком.
Клементина Элена Дюфо. Портрет Жанны Ланвен
1925 год.
Музей декоративного искусства (Париж)
Ланвен обожала драгоценный текстиль, богатую вышивку, усталое мерцанье вечернего бисера, меха, оборки, ленты, золото ар-нуво и небесно-голубой цвет Фра Анджелико. То есть все то, что было погребено под пеплом Первой мировой.
Знатоки спорили, выживет ли Ланвен, такая неспешная, элитарная, модерновая и такая дорогая. Но Ланвен отлично ориентировалась в новых веяниях и превосходно рассчитала свои ходы в сложной партии с послевоенным временем. И выиграла у него – не одно, несколько десятилетий.
Она не делала шумных заявлений, не устраивала революций, экономя силы, и осмеливалась не менять своих вкусов. Мадам все так же любила парчу, атлас, рыхлый бархат, тяжелые с металлическим блеском вышивки, драпировки, объемные складки, легкомысленные ленты, кушаки, русские меха. Но, в отличие от Пуаре, она умела продавать и постоянно делала уступки Веку Джаза, чтобы сохранить неизменным свой элитарный довоенный стиль.
Понимая, что мир живет по американскому правилу «брендирую – значит существую», Ланвен придумала три удачных бренда, три символа ее империи.
В 1919 году представила свое первое robe de style. И в двадцатые ни одна коллекция не обходилась без пары-тройки этих роскошных вечерних «картинных платьев» с облегающим или полуприлегающим лифом, широкой воронкообразной юбкой до щиколоток или в пол. Robes de style – прелестные цитаты из века осьмнадца-того, из моды Помпадур. В них угадываются панье и платья по-французски. Эти мягкие реплики прошлого прекрасно вписывались в современный контекст. Создавая их, Ланвен принимала в расчет Рюльмана, Сю и Мара, Грюо, Дюнана, Дюфи и всех прочих декораторов-истористов, оживлявших в сумасшедшие двадцатые образы легко помешанного рококо. Наряду с их изящными резными столиками, лаковыми кабинетами, фарфоровыми арлекинами и тканями в стиле Жюи, ее «картинные платья» были вполне уместны и прекрасно продавались.
Второй бренд, живущий до сих пор, – «синий Ланвен», особенный нежно-фресковый оттенок голубого, подсмотренный мадам у небесного Фра Анджелико. Он зазвучал в ее коллекциях в самом начале двадцатых, стал основным оттенком ее личных апартаментов, офиса на рю Фобур-Сент-Оноре, театра Дону и многих-многих европейских особняков, декорированных и меблированных от Ланвен. Он звучал и в коллекциях спокойно талантливого Альбера Эльбаза, до недавнего времени креативного директора Lanvin.
Вечернее платье от Жанны Ланвен
1-я половина 1920-х годов.
Электронный архив Института костюма в Киото: kci.or.jp
Жанна Ланвен.
Деталь платья кроя robe de style
1923 г.
Электронный архив музея моды, текстиля и коммерции (Лос-Анджелес, США),
Жанна Ланвен. Платье «Каваллини», 1925 г.
Фото Катерины Джебб. Lanvin Heritage ©
Джильда Грей в вечернем платье от Жанны Ланвен
1924 год. Фотоархив Getty Images
Реклама вечерних ансамблей от Жанны Ланвен
Журнал Femina, 1927 год. Архив О. А. Хорошиловой
Модель в вечернем платье от Жанны Ланвен
Фотография Лоры Албэн Гийо. Журнал Femina, 1925 год. Архив О. А. Хорошиловой
Платья robes de style оказали влияние на маскарадные костюмы. На этом снимке мадемуазель Иза де Рива (слева) демонстрирует платье на панье, навеянное модой XVIII века и творчеством Жанны Ланвен
Журнал Femina, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Герцогиня Роже де Дампьер и мадам Фред Фор в маскарадных robes de style
Журнал Femina, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Третий бренд – гриф. Это была красивая история. В 1907 году мадам готовилась вместе с дочерью к маскараду. Она выдумала сказочные, почти бердслеевские костюмы – длинные готические туники с пелеринами и тиары с модерновым завитком. Они произвели фурор и попали в объектив светского хроникера, запечатлевшего мать и дочь как бы в радостном, детском верчении. Милая фотография. В 1927 году декоратор Арман Альбер Рато создал ее черно-белую лаконичную формулу, и этот рисунок в том же году украсил бутылочки и коробочки парфюма «Arpege», а вскоре попал на грифы платьев, став логотипом модного дома. Он очень красноречив. В этих двух крутящихся фигурках – всё: и модерн, которым так увлекалась мадам, и ее страсть к театру, и, главное, любовь к дочери, с которой началась история империи Lanvin.
Мадам великолепно вела дела. Считая, что роскошными туалетами много не заработать, расширяла ассортимент в угоду новому времени. После войны Европа отстраивалась, появилась необходимость в новых интерьерах, мебели, новом уюте, радующем глаз и экономящем время. В1920 году Ланвен основала линию домашнего декора Decoration, главным художником которой был Рато. Повальное увлечение спортом, настоящая мания, смущало неспешную мадам, но делать нечего, и в 1923 году она запустила линию Lanvin Sport, предлагая удобные, легкие, современные тайеры, теннисные платья и платья пляжные, пуловеры, клоши, шарфы. Через два года – еще две линии – мужскую и нижнего белья, став первым французским модельером, создававшим женскую, детскую и мужскую одежду. С1924года дом Lanvin предлагал парфюмы. Самый ранний – «Му Sin», а самый успешный – «Arpege» (1927 год), автором которого был французский парфюмер Андре Фрейс.
Жанна Ланвен с дочерью в маскарадных костюмах
1907. Фототипия.
Частная коллекция
Сейчас ассортиментную стратегию Ланвен назвали бы lifestyle. А ее империю – концерном. Ведь мадам стремилась производить все и только собственными силами. Она, к примеру, открыла мануфактуру по окраске текстиля, наняла вышивальщиц, которым строго-настрого запрещала болтать вне стен модного дома о том, что создавали внутри. Этим она решила две задачи – ограничила отток финансов и обезопасила себя от угроз промышленного шпионажа, впрочем, ненадолго. Популярность Lanvin на рынке моды подогревала разведчиков, а также бутлегеров, продолжавших выпускать контрафакты, несмотря ни на что. Мадам боролась, но отлично понимала: «Подделывают – значит существую».
Арман Альбер Рато. Рисунок, изображающий Ланвен с дочерью в маскарадных костюмах
Журнал Vogue (Paris), 1928.
Архив О. А. Хорошиловой
«Arpege», один из самых популярных парфюмов модного Дома Lanvin
1927 год. Частная коллекция
Логотип модного Дома Lanvin, решенный в оттенке «синий Ланвен» Архив О. А. Хорошиловой
Мадемуазель
Она обожала мужчин. Жить без них не могла. В общем, с кем не бывает. Это нормально, это еще в начале XX века перестали считать пороком. И всем женщинам это свойственно – в большей или меньшей степени. Но ее обожание было особого рода. Она обожала мужчин глазами, телесный контакт считая приятным последствием. Габриэль обожала мужчин рассматривать, оценивать, очерчивать стройный силуэт заметливыми глазами швеи, отмечать наиболее удавшиеся природе места – литую шею, эполетную бахрому плеч, упругую талию, запряженную в тугой корсет, стальные ягодицы, охваченные тесными бриджами, наполированные воронки икр в черных гетрах. Таких литых хватов-кавалеристов было много в ее родном Сомюре. И юная Габриэль без устали наблюдала, тихонько молодцами восхищаясь. Все в них было идеально, ловко, продумано с каким-то бережливым толковым расчетом. Ничего лишнего.
Она неистово завидовала мужской безгрудости. То, что пииты считали венцом творения, кульминацией женского тела, Шанель яростно ненавидела. Но чтобы ее понять, надо знать, какими в конце 1890-х были дамские груди! Мешки с картошкой, жирные сливки на тестяных корзинках, зобы наглых сытых голубей – так, верно, их называла мадемуазель. И это природное изобилие увеличивали изгибчивые корсеты, и от них грудь росла, колыхалась и клонилась вперед, и скрывавшие ее батистовые оборки, шитье, кружева казались поэтам вкусной пенкой пьянящего напитка, и пенка шипела и скатывалась по тугому стану. И женщина становилась слаще. «Глупые, жирные курицы», – шипела Габриэль.
Габриэль Шанель
Середина 1920-х годов.
flickr.com
Мужчин она обожала, потому что они были из какой-то совсем другой эпохи, возможно будущего. А женщин открыто презирала, потому что они воплощали современность, Прекрасную эпоху («И какой болван ее так назвал!»). Она ненавидела ее за дурной вкус и показное мещанство, за приторность и мерзкие «фру-фру». А еще за то, что в ней не было места таким, как Габриэль, незаконнорожденным детям презренных бедняков с богатым воображением и вселенскими амбициями. Таких нигде не принимали.
Мужчины, к счастью, победили. Прекрасная эпоха скоропостижно скончалась летом 1914 года от прусского апоплексического удара. Настало время литых крупов, стальных шлемов и железных крестов. Бомбы Великой войны разнесли в клочья былую красоту и наивные буржуазные «принсипы». Женщинам позволили работать и зарабатывать, и забыть о своем сомнительном происхождении. Им даже позволили быть немного мужчинами.
Шанель была немного мужчиной. Слов не выбирала, говорила резко, смотрела прямо (на многих фотографиях, в цветнике подружек, только она и глядит бесстрашно в объектив), работала много и делала что хотела. Ее мужчины, ее спонсоры, Бальзан и Кэпел, находили это милым. И ничуть не сопротивлялись, когда Габриэль умыкала из их богатых гардеробов сорочки, воротнички, пиджаки и бриджи. И, закрывшись в комнатке, сочиняла костюмы для себя – довольно мужские. Бальзан и Кэпел находили их соблазнительными.
Так, во время Великой мужской свалки, на деньги мужчин, восхищаясь мужчинами, Шанель выкраивала новый силуэт новой эпохе – прямой и резкий, как она сама, безгрудый и безбедрый, как она сама, силуэт девушки-мальчика, стройной garçonne. Ее собственный силуэт.
Коко Шанель со стрижкой «боб»
1920 год.
Из фонда А. А. Васильева
Классикизирующий стиль Шанель двадцатых сформировал триумвират – безудержная любовь к себе и противоположному полу, демократизм послевоенного общества и экономия времени, которое теперь означало деньги, много денег.
Она сделала модным то, что сама любила, что ей бесспорно шло. Еще в 1910 году рискнула явиться на скачки во всем удобном (то есть немыслимом, мужском) – шерстяной юбке, сорочке с высоким пристяжным воротничком, шелковом галстуке своего любовника Бальсана, широченном пальто с рукавами-реглан из гардероба барона
Фуа и соломенной шляпке, которую смастерила сама. Попробовала – понравилось, и удобство этого костюма и возмущенные взгляды светских дам, тех самых «глупых, жирных куриц». В 1920-е она успешно сторговывала клиенткам гарсонистые сорочки с галстуками или бантами, жакеты и легкие шерстяные пальто, скопированные с аналогичных мужских, романтичные светлые накидки с толстыми перевязями крест-накрест (их присмотрела у неуклюжих девушек-добровольцев YMCA).
В 1910-е она выглядела изящно и женственно в бретонской тельняшке и матросских брюках, в двадцатые в таких позировали грациозные аристократки на золотистых пляжах Ривьеры и Лидо. В 1917-м она одной из первых в Париже сделала «боб» – до неприличия укоротила волосы. И вот в 1924 году французский Vogue признал: «Мадемуазель Шанель, первой начавшая моду на “боб”, еще несколько лет назад объявила, что так будут стричься женщины в будущем. Что ж, современные события подтверждают правоту ее предсказания»[5]. В 1924-м «бобы» и волнистые «шинглы» носили не десятки – тысячи модниц Франции. И с годами их количество росло, и аккуратно остриженные атласные локоны сокращались до колкой итонской щетины на затылках. Шанель не придумала стиль garçonne, она его красиво представила.
В 1921-м модельер создала корсет из популярного каучука и шелка, который мягко облегал грудь и бедра, помогая клиенткам обрести желанные гарсонистые формы, не слишком третируя тело. Его надевали под ловкие полуспортивные платьица прямого силуэта, перехваченные кушаками и украшенные скромными орнаментами.
Увлечение мужчинами диктовало новые фасоны, подсказывало новые коммерческие ходы. Шанель связал недолгий и непылкий роман с великим князем Дмитрием Павловичем, красавцем голубых кровей с точеным лицом и водянистыми глазами, сырыми и невыразительными. «В нем ничего не было, пустота одна», – говорила о нем мадемуазель много лет спустя. Но у него были связи и была ловкая кавалерийская красота, которую обожала Шанель. И он познакомил ее с дикими русскими, стихийными, сложными, яростными номадами. Она увлеклась былинной Русью в сценографии Рериха и Бакста, много читала, вдохновлялась раскатистыми революционными трубами Стравинского и с любопытством разглядывала «бабушек», бронзовых от загара и всполохов Гражданской войны, грубых каркающих беженок из Прикарпатья, Поволжья и дремучих лесов сказочного Лукоморья. В коллекцию 1921 года она ввела блузы-рубашки, туники, платья и манто, изукрашенные тамбурными восточноевропейскими орнаментами. Они понравились клиенткам, и в следующие годы Коко исправно радовала их новыми «бабушкиными» нарядами. Все эти незатейливые, простого кроя блузы, платья и жакеты вышивали смирные скромные мастерицы дома «Китмир», принадлежавшего великой княгине Марии Павловне, сестре великого князя Дмитрия.
Реклама каучукового корсета от Шанель. Журнал Vogue (Paris)
1921 год.
Национальная библиотека Франции
В конце 1910-х Шанель садилась за руль стремительных спортивных авто в платке, смешно подвязав его под подбородком. В двадцатые у нее быстро раскупали палантины с тамбурными народными орнаментами, которые модельер рекомендовала надевать во время автопрогулок, непременно подвязав их «a’lababouchka», то есть как делала сама.
Великий князь Дмитрий Павлович и княгиня Анна Ильинская в Майами
Начало 1930-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
И возможно, если бы не великий князь Дмитрий, не было бы эпохального Chanel № 5. По крайней мере, некоторые современники, близко знавшие мадемуазель, к примеру Мися Серт, считали, что именно он познакомил Шанель с Эрнестом Во, талантливым парфюмером, эмигрантом из России. На чужбине он не оставлял своих светских замашек и «старорежимных» знакомцев, среди которых было немало русских аристократов самого высокого ранга. И еще он не оставлял мысли о том, чтобы повторить тот ни с чем не сравнимый, ледянистый, остро свежий аромат северных русских рек во время обморочного полуночного солнцестояния. Его Бо наблюдал в 1919 году на Кольском полуострове, ожидая, чем закончится эта дикая русская свалка, именуемая Гражданской войной. Белая армия проиграла. Бо эмигрировал во Францию. И там все пытался восстановить этот запах, глуша подступавшую к горлу ностальгию, все-таки Россия была для него, генетического француза, родиной. И в 1920 году он нашел ту самую формулу студеных русских обморочных рек. И ее, среди прочих суровых, мягких, пряных и острых запахов, предложил мадемуазель в 1921 году. Из двадцати четырех пронумерованных вариантов Шанель выбрала семь или восемь, а затем из этих оставшихся – аромат под номером пять. Так и назвали: «Chanel № 5».
Кроме призрачных ноток ностальгии по имперской Родине, Эрнест Бо вложил в него около восьмидесяти других. Настоящая полифония, взрыв звуков, яркая сложная экстравагантная пьеса, достойная Стравинского и Сати. А само название – сухое, резкое, армейское, будто команда, отданная тренером послушному и гибкому гимнасту. В нем сталь и холод Великой войны, циркачество дадаистов, монотонность новой музыки, нового абстрактного искусства, неопластицизм Мондриана и нульформ Малевича. О русском авангарде сложно не вспомнить, рассматривая скупую черно-белую геометричную этикетку. Хотя в этом видится также любовь Шанель и Бо к хорошим выдержанным винам – чем лаконичнее этикетка, тем дороже напиток.
Флакон духов был лишь тенью – стеклянный, геометрический, словно спроектированный архитекто-ром-функционалистом, едва заметный. Внимание покупателей привлекала драгоценная во всех смыслах, медвяно-золотистая жидкость. Прием Прекрасной эпохи. Духи были богатой дамой, а флакон – ее непримечательным супругом, демонстрировавшим свой финансовый достаток роскошным туалетом, шляпой и меховой ротондой своей спутницы. Ассоциация тем более уместная, ведь форму флакона Шанель придумала на основе бутылочек мужских одеколонов, модных в ту самую Belle Epoque.
Парфюм «Chanel № 5»
1921 год.
Частная коллекция
Реклама парфюма «Chanel № 5»
Журнал Vogue, 1921.
Архив О. А. Хорошиловой
Коко Шанель и герцог Вестминстерский на скачках
1924 год.
Фотоархив mydaily.co.uk
Другим серьезным увлечением Шанель был англичанин, герцог Вестминстерский, а для своих – Вендор. Это был статный, дородный аристократ, владелец несметного состояния, десятков домов, нескольких огромных яхт и бесчисленного количества дамских сердец. Вендор был ловелас. Впрочем, это не все его достоинства. Герцог Вестминстерский хорошо и крепко шутил, иногда позволял себе странности (без которых британский аристократ – не аристократ), обожал скачки и морские качки и ни черта не смыслил в искусстве. Англичане до сих пор не могут ему простить позорный поступок – продажу «Мальчика в голубом» Гейнсборо американскому железнодорожному магнату, правда за рекордную сумму. Герцог все-таки смыслил в финансах.
И еще Вендор любил «the real people» – так он называл смышленый плебс, одаренных людей из низов, которые локтями и зубами пробивали себе дорогу в праздные дворцовые интерьеры. К числу «the real people» относилась и Шанель, с которой герцог познакомился зимой 1923/1924 года в Монте-Карло во время длинного расслабленного празднования Рождества и Нового года. Вендор был восхищен происхождением и достижениями Шанель, ее острым языком и спокойной элегантностью. Впрочем, герцога было несложно восхитить и гораздо сложнее удержать. Модельер удерживала его десять лет, сначала пылко любила, потом преданно с ним дружила. И все это время тащила из его гардероба (как некогда у Бальзана и Кэпела) превосходно скроенные костюмы, плотные, добротные, твидовые. В них гуляла по живописному парку Вендора, в них отлично скакала и охотилась на зайца. Герцог такому поведению не удивлялся – он был британским аристократом и эксцентрику принимал и понимал генетически, по праву происхождения. Шотландские клетки и твиды появились в коллекциях Шанель в 1926–1927 годах. Она сделала твид модным, показав щеголихам и портнихам, как его должно кроить и сшивать, чтобы получались дивно элегантные и совсем не грубые прогулочные костюмы, которые и сейчас способны вызвать зависть у искушенных щеголей.
Милый шумный Вендор был демократ. В 1920-е годы все были немного демократы – и коренастые немецкие рабочие в грубых квадратных костюмах, и фарфоровые великие князья в английских тройках, и презрительные тонконосые эстеты Левого берега, иногда полуголые. Народ и фольклор были тогда в моде. Шанель, из самых недр народных, не могла этим обстоятельством не воспользоваться. Она уже давно присматривалась к джерси, такому обыкновенному, такому понятному материалу и такому мужскому – костюмы из джерси носили в начале XX века футболисты, регбисты, атлеты, пловцы, теплое нижнее белье из джерси любили в армии. В 1916 году мадемуазель осчастливила текстильного магната Родье, заказав рулоны джерси, хотя тот и не пытался скрывать недоумения: «Зачем так много, мадемуазель? Мода – не армия». В том же году наряды из этого демократичного текстиля надели французские модницы, подруги Шанель. Vogue эту смелую инновацию приветствовал, по причинам патриотическим. В разгар Великой войны тыловые дамы отвергли тафту и муар ради вот этого спортивно-солдатского скромного материала, проявив солидарность с теми, кто сходил с ума под бомбежками и ждал смерти в окопах Вердена.
За эти три военных года женщины так привыкли к джерси, что уже не смогли от него отказаться. И Шанель стала предлагать им множество вариантов – утренних, дневных, визитных и нарядных. В 1920-е годы она сделала джерси отличную рекламу и стала основоположником дорогой демократичности во французской моде послевоенного периода. Текстиль признали ультрасовременным, а сшитые из него платья «полностью соответствующими требованиям нового времени и обладающими эффектом омолаживания» – так во второй половине 1920-х писали светские журналы.
Демократичными были не только ткани. Кое-что для своих коллекций Шанель находила в прелых армейских цейхгаузах – панталоны с лацбантами, бескозырки, френчи, бриджи и гетры, а кое-что выуживала из сундуков бабушек-беженок и крепко сбитых комодов бретонских рыбаков. Она украшала прогулочные платья ровными рядами пуговиц, словно бы споротых с окопных френчей британских сержантов. С юности обожая морскую романтику, легко превращала воротники-гюйсы матросских рубах в отлетные кокетки черных шелковых платьев. Впрочем, в этом искусстве она не была первой.
Коко умело сочетала несочетаемые элементы, к примеру жемчуг носила с будничными серыми трикотажными платьями, драгоценные меха с пейзанскими вышивками, английские бескозырки с вычурными бижу вместо кокард. И она раскрыла все возможности черного цвета, сделав его самым демократичным, толерантным, элегантным, художественным, самым изысканным, самым взыскательным. Демократом с повадками венценосца.
Модель в твидовом костюме от Chanel
Журнал Vogue (Paris), 1927. Национальная библиотека Франции
Габриэль Шанель демонстрирует ансамбль из джерси
1920-е годы, flickr.com
Габриэль Шанель позирует в костюме из джерси
Фототипия, 1932.
Архив О. А. Хорошиловой
Дневной ансамбль из джерси от Chanel
Журнал Femina, 1925.
Архив О. А. Хорошиловой
Костюм от Шанель (справа) из патриотичного трехцветного джерси
Журнал Femina, 1927.
Архив О. А. Хорошиловой
Легенду о черном платье – вот что действительно придумала Шанель. Ни о каком революционном открытии, смелой инновации и всех прочих эпитетах, которыми награждают ее творение, речи быть не могло. Мадемуазель не изобретала маленького черного платья.
Этот цвет множество раз бывал в моде. В XVI веке им увлекались германские богачи и мадридские иезуиты. В XVII веке его полюбили сытые голландские бюргеры. В рыхлые волны черного бархата погружались бледнолицые романтики 1820-х, а поклонники императрицы Евгении в 1860-е годы опутывали себя паутиной черных «испанских» кружев. К началу нового столетия этот цвет (или, правильнее, нецвет) стал символом буржуазной респектабельности, траура и очень русского, малопонятного философского авангарда.
Но для Шанель это был цвет униформы, унылого сиротского приюта, ее отроческих лет. Такой костюм – черное платье и колготки, белые манжеты и воротник – носили девочки воспитательных домов при монашеских орденах. Он был скромен, вполне удобен, но главное, скрывал происхождение, превращал детей в единую черно-белую массу, девичий полк, признававший только личные заслуги, слово божье и вкрадчивые поучения сухонькой монастырской настоятельницы. Черные платьица были начерно вымаранными строчками в биографиях сирот, границей между прошлым и той жизнью, которая пока только серебрилась и зеленела в узких бойницах серых монастырских приютов.
Шанель долго пыталась забыть о прошлом и в этом, надо сказать, преуспела – биографы до сих пор не знают толком, кто ее отец и как прошло ее детство. Творение мадемуазель стало красивым и лаконичным прощанием с неудобной, постыдной частью жизни. Кроме того, был важен сам цвет. Черный – демократичный, терпеливый, немаркий и многозначительный. Он хорош пасмурным английским днем и уместен в раззолоченных вечерних интерьерах. И в пир, и в мир. То есть имел превосходный продажный потенциал, чем Шанель и воспользовалась.
Дневной ансамбль из темно-синего джерси от Chanel
1928 год.
Институт костюма Киото: kci.or.jp
Принцесса Люсьен-Мюра, которая одной из первых в Париже начала носить маленькие черные платья и, вероятно, вдохновила ими Шанель
Париж, 1926.
Архив О. А. Хорошиловой
Мадемуазель любила повторять известную максиму Микеланджело: «Я беру камень и отсекаю все лишнее». Именно так она часто поступала. Многие ее современники, щеголихи и модельеры, еще в начале двадцатых предложили свои формулы «маленьких черных». В январе 1921 года экстравагантная принцесса Люсьен-Мюра появилась на светской вечеринке в платье из черного джерси с кушаком, украшенным кубистической вышивкой, в черном манто и шляпе, с полей которой вялой декадентской паутиной свисали черные кружева шантильи. Впрочем, у Мюра была конкурентка – мадам Патри, сдержанная, неулыбчивая, странная, всегда в черном шелковом или трикотажном платье, в черной накидке.
Французские модельеры Дреколь, Пату, Дженни тогда предлагали множество «маленьких черных» из атласа, велюра, тафты и бархата. Были платья, украшенные вышивкой или эдаким кушаком, с кружевами, лентами, кистями и черным бисером. Были и построже – почти точные прототипы творения Шанель. К примеру, летом 1923 года зоркий глаз хроникера заприметил среди отдыхающих одну даму в подчеркнуто простом (и потому чрезвычайно модном) платье из черного альпака и шелка с белым воротничком и манжетами. Ее изображение мгновенно попало на страницы Vogue под заголовком: «Благородная простота остается главным правилом элегантности».
Маленькое черное платье от Дома моды Beer, созданное на год раньше творения Шанель
Журнал Femina, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Еще в начале 1920-х годов в прессе публиковали варианты маленьких черных платьев от различных модельеров.
Статья с рисунками в журнале Vogue красноречиво называется: «Черный и белый доминируют в городской моде»
1924 год.
Национальная библиотека Франции
Реклама маленького черного платья от Chanel
Журнал Vogue (Paris), 1926.
Национальная библиотека Франции
Маленькое черное платье от Chanel
Около 1927 года.
Институт костюма Киото: kci. or.jp
Габриэль все это видела и все это учитывала. Отмечая явные промахи и нелепые ошибки, она скрыто любовалась удачными лаконичными вариантами, сочиненными ее коллегами, и тихонько работала над своим. Ее маленькое черное платье из крепдешина, оживленное ловкими геометрическими плиссировками, бижу и перчатками, появилось в октябрьском номере журнала Vogue, без восклицаний и жирных рекламных заголовков, тихо, скромно, как подобает «благородной простоте».
И революции не произошло. И Шанель в одночасье не стала главным модельером XX века. Она просто изобрела легко запоминающуюся формулу, своего рода недлинный гениальный стих, легко рифмовавшийся с любыми обстоятельствами, любыми оттенками настроения. Она отсекла все лишнее, вычурное, ненужное, дав черному цвету относительную свободу самовыражения, мягко сдерживая его лесками дешевых бус у горловины и хваткими деревянными браслетами у манжет.
Сцена из балета «Синий экспресс»
1924 г.
Библиотека Конгресса (США)
Лыжные костюмы от Chanel
Журнал Vogue (Paris), 1923. Национальная библиотека Франции
Костюмы для балета «Синий экспресс», созданные Коко Шанель
1924 год.
Музей Виктории и Альберта (Лондон): vam.ac.uk
Успех формулы Шанель не только в ее нарочитой простоте, но и в той настойчивости, с которой мадемуазель рекламировала платье в течение двадцатых и напоминала клиенткам о «маленьком черном» в гламурные серебристо-белые тридцатые. Были Пату, Дреколь, Вионне, Ланвен. Но запомнили именно Шанель. Ее платье даже назвали «униформой всех женщин с хорошим вкусом». Вполне уместный комплимент, если учитывать истинное происхождение мадемуазель и ее «маленького черного».
И вполне логично, что она, знавшая, что и как «отсекать» до благороднейшей элегантности, взялась за проектирование удобных, рациональных спортивных костюмов для княгинь, безымянных богачек и сверхлюдей стальных двадцатых годов. Трикотажные платья-рубашки и кардиганы, жакеты-свитера и полупальто из джерси для активного отдыха Шанель представила еще во второй половине 1910-х годов. Жарким венецианским летом 1920 года она удивила добропорядочных курортников, расхоложенно наблюдавших купание детей из черно-белых полотняных домиков, своим новым дерзким костюмом – широкой с мужского плеча блузой и широкими матросскими панталонами, в которых она, развязано покачиваясь, дефилировала по золотой отмели Лидо. Аристократки, ее окружавшие, поспешили сделать то же самое.
Шанель создавала не только простые дневные наряды, но и роскошные вечерние платья, одно из которых демонстрирует модель на этой фотографии
Журнал Femina, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Шанель с приятельницей на яхте 1935 год.
1835 год. Частная коллекция
Зимой 1923 года на страницах французского Vogue появились конфетные парижанки, кокетничавшие на фоне сахарных Швейцарских Альп. Проворная рука художника одела их в спортивные кардиганы от Шанель нежнейших кондитерских оттенков – миндалевого, нежно-розового и крем-брюле, в меховые шапочки и шерстяные лыжные шлемы. В жизни эта удобная и лаконичная форма выглядела не так аппетитно, даже грубовато, однако критики и клиентки Шанель признали ее вполне элегантной и подходящей для мерзлых швейцарских курортов.
Мадемуазель никогда не отказывала дамам со связями, особенно тем, к которым испытывала сердечную предрасположенность. К примеру, восхищалась княгиней и писательницей Мартой Бибеску, угадывая в ней общие черты характера – своеволие, упрямство, любовь к мистификациям. Эта огненная румынская особа жила в учащенном ритме двадцатых, лихо водила авто, великолепно материлась и обожала воздухоплавание. Если верить Акселу Мадсену, специально для нее Шанель разработала целый авиационный гардероб, о котором Бибеску гораздо позже с ностальгией вспоминала в интервью.
Спорт стал главной темой костюмов, сочиненных мадемуазель для балета «Синий экспресс». Он был представлен публике в 1924 году в серой бетонной громаде – Театре Елисейских Полей. Костюмы получились эффектными, но слишком жизненными для сверхусловностей балета и неудобными для поддержек, фуэте и все еще неизбежных подбрасываний.
Говорят, Шанель ненавидела излишества. Говорят, любила простоту и комфорт. Все так. Но еще в юности, в унизительном приюте, Габриэль овладела искусством двуличия, научилась гадливо угождать и приторно льстить.
Жан Пату 2-я половина 1920-х годов.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), номер: LC-DIG-ggbain-37636
В двадцатые она умела обожать роскошь, к примеру превращать тривиальное дневное платье в лифу с рукавами пагод и пестрыми пламенеющими цветами, «очень японскими» по мнению критиков. Она творила прекрасные излишки, опутывала рыхлый вечерний бархат золотой орнаментальной паутиной, примиряла девственный сатин с порочными кружевными розами в серебристой росе из драгоценного ламе, сбрызгивала атлас молочным бисером и абсентовыми жемчужинами, утяжеляла бальные манто жирным песцом или соболем, который так шел львицам и другим светским хищницам Парижа и Нью-Йорка. На светском рауте, подробно описанном в журнале моды, мадам Жак Порель присутствовала в вечернем манто от Шанель из серебристого ламе, остро искрившегося при вспышках фотокамер. Мадемуазель Сорель шелестела бланшевыми лепестками шикарного шелкового платья, и в этом шелесте слышался хохот игривой флейты и серебристые пиццикато «Виденья розы». Флоральный костюм Нижинского продолжал вдохновлять Габриэль через десять лет после скандальной премьеры.
В 1923 году мадемуазель позволяла визитным платьям приятно облегать бедра, когда доминировал жесткий прямой силуэт (критики сочли это смелым). Она выпускала моделей в опасных манто из серебряного и розового ламе, отороченных искусственным мехом, и клиентки, принявшие картинные позы в ее мягких старинных креслах, находили это «немного слишком». Шанель могла с легкостью перевоплощаться в любителя пышного историзма и в этом качестве творить роскошные манто из зеленого велюра, «отделанные коричневым мехом и золотым галуном, заимствованными, вероятно, из эпохи Людовика XV», как отмечал остроглазый Vogue.
Но тот же Vogue в 1954 году крайне прохладно оценил новую коллекцию мадемуазель, а другие издания открыто посмеялись над ее строгими черно-белыми костюмами из букле, гениальными предвидениями искусства и моды шестидесятых. «Дураки», – фыркнула Шанель. Она едва скрывала обиду. Ведь эти геометрические костюмы-аскеты были ее первым, очень личным, сдержанным, резковатым, сквозь курительный мундштук, признанием в любви – авангарду, спорту, двадцатым, то есть себе самой.
Месье американец
По духу, по той особой, азартно деловой хватке, которой провидение когда-то одарило первых бруклинских колонистов, он был истинным американцем, настоящим манхэттенцем, зверем бизнеса. Хотя говорил по-английски плохо, грассировал и смешно, очень по-французски, надувал щеки, когда спорил.
Сюзанна Ленглен (вторая справа) в костюме от Жана Пату. Снята во время первого чемпионата по теннису среди профессионалов
Нью-Йорк, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Жан Пату нежно любил Америку, вернее ту ее часть, в которой никогда не спали, в которой скупцы считали прибыль, а напомаженные брокеры с красными от бессонницы глазами ежесекундно прикладывались к раскаленным рожкам Эриксонов, кричали что-то о быках, медведях, воздушных ямах. И плакали иногда. Жан Пату обожал Америку за вот эту ее бесчеловечную жизнь, в которой простые смертные были только средством рекламной стратегии, а бесконечный звон монет и телефонов означал международное признание.
Он жил эдаким Волком с Уолл-стрит – много, до одури работал, выпускал одну коллекцию за другой, придумывал новые рекламные ходы (некоторые просто-таки гениальные), много вертелся среди нужных людей, красиво жил и красиво льстил, носился по шоссе на великолепных турбо, пуская пыль в глаза конкурентам и очарованным клиентам, и ежедневно, по многу часов разговаривал с персоналом, старательно описывал свои идеи, рисовал баснословные картины будущих коллекций, а персонал качал головами и напряженно думал, как же это все воплотить в жизнь.
Пату не умел шить, не слишком разбирался в математических тонкостях кроя и часто, в шутку, конечно, хвастался, что ножницы для него – это холодное оружие, он знает, кого ими проткнуть, но совсем не понимает, как ими резать шелк. И в этом он тоже был американцем – не знал как, но знал что и умел доступно объяснить замыслы сотрудникам, внушить уверенность в успех. «We can do it», – иногда переходил на английский, для большей убедительности. И сотрудники кивали головами, верили, что смогут. Они боготворили Пату, не в пример своим коллегам из Chanel, которые недолюбливали мадемуазель за резкость и скопидомство. Впрочем, мадемуазель плохо знала по-английски и громкие американские лозунги презирала.
Вечерние наряды от Жана Пату
Журнал Femina, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Пату был американцем еще и потому, что фанатично пропагандировал спортивный стиль, изобретал костюмы для плавания, автогонок, путешествий на самолете и корабле. В 1920 году разработал форму для теннисистки Сюзанны Ленглен, предугадав развитие этого вида одежды на многие десятилетия. Он вводил спортивные элементы в дневные и даже вечерние ансамбли и тем самым оказался у истоков современного диффузного стиля. Он обожал комфорт, почитал джерси выше атласа, американок – выше француженок (в рекламных, конечно, целях).
Он отлично разбирался в оттенках – первое, чему научился у отца, владельца кожевенной компании, знавшего все премудрости окрашивания материала в нужный тон. И он полюбил меха, страсть эту унаследовав у дяди, продавца диковинных шкурок. Едва выучившись, решил открыть свое дело, но пришлось ждать еще лет десять, приспосабливаясь к деловым хитростям и правилам той немного наивной тароватой эпохи. Наконец, в 1912 году в Париже Пату открыл Дом моды Maison Parry и занялся продвижением относительно нового для французской столицы le style sportif. В 1914 году, получив впечатляющий заказ от американского партнера, избавившись от излишней скромности, он основал дом моды под своим именем. Сорок мастериц сели за расчеты и швейные машинки, показ был запланирован на лето 1914 года, но какого-то сербского болвана угораздило застрелить австрийского эрцгерцога, началась катавасия, и немцы как-то резко, сразу перемахнули через Бельгию и оказались под Парижем. Пату отправили подальше от кровавой драмы – в Турцию, вместе с полком французских зуавов. Правда, и там вскоре началась война.
Осенние наряды от Жана Пату
Журнал Femina, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
В 1919 году он вернулся в Париж и в армейском темпе наверстал упущенные четыре года. Теперь он точно понимал, что хочет французского барочного люкса и спортивной молодости, которая после войны резко выросла в цене.
В двадцатые Пату работал в двух направлениях – сочинял безупречные выходы для красивой вечерней жизни и униформу для активного отдыха. Первое, в общем, скучно соответствовало тому, что рекомендовали модные журналы и что стандартно выпускали парижские кутюрье. Дневные платья прямого силуэта, из хлопка, крепа, тонкой шерсти, оживленные вертлявыми воланами, мягкими драпировками и вышивками в русском стиле, легкие прогулочные пальто из джерси и элегантные накидки… У Ланвен и Молине были не хуже. Вечерние ансамбли, из шелка, атласа и парчи, со стразами и бисером, с бахромой и меховой опушкой – изысканные, понятные, очень журнальные, хорошо всем известные. Впрочем, Пату кое-что изобрел. В 1922 году стал украшать вечерние платья элегантными сложными драпировками вместо кушаков, «чтобы их не могли скопировать». В 1926 году предложил любопытный вариант накидки – длинные далматики из богатых тканей, с вышивками и искорками страз. Но все это были приятные нюансы – не более.
Свой истинно американский талант Пату раскрыл, работая над спортивной линией, обеспечившей ему международный успех и длинный список завистников и конкурентов, который возглавила мадемуазель Шанель. Она лучше всех понимала Пату и больше всех его ненавидела.
Рисунок вечернего манто от Жана Пату
Журнал Femina, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Дневной костюм и манто от Жана Пату
Журнал Femina, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Она громко негодовала, когда он посмел (да, да, именно так), когда он посмел сшить из шерстяного джерси милые скромные платьица для дневной сутолоки, да еще с морским воротником, да еще с полосками, скопированными с купальных костюмов. Мадемуазель монополизировала джерси и матросский стиль в середине 1910-х и с трудом перенесла заслуженный успех Пату. А он, как бы в отместку, предложил клиенткам «новый синий» – наряды из джерси глубокого сине-фиолетового оттенка морской формы. Он стал одним из главных хитов моды двадцатых.
Французу вполне удавались платья из тонкого кашемира – полуспортивные, со слегка заниженной линией талии, V-образным вырезом горловины. Хорошо расходились его деловые тайеры, костюмы для загородных прогулок, пальто-пыльники и пальто для путешествий.
Маленькое черное платье от Жана Пату, созданное за год до аналогичного платья Шанель
Журнал Femina, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Прогулочный кашемировый ансамбль от Жана Пату
Журнал Femina, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Вечернее бархатное манто от Жана Пату
Журнал Femina, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Рисунок дам, танцующих джаз в платьях от Жана Пату
Журнал Femina, 1928. Архив О. А. Хорошиловой
Лаконичные, логичные, комфортные, сдержанно элегантные вещи, которые, возможно, не появились, если бы не четыре года войны, проведенные в удобной и ноской полевой форме. Она многому научила капитана Пату – даже сочетанию оттенков. В дневных нарядах и спортивных коллекциях доминировали нежно-коричневый, сероватый, зеленый, оливковый, бежевый – цвета Великой войны.
Кубизм и прочая геометрическая абстракция, к которой европейцы успели привыкнуть в начале двадцатых, вдохновляла модельера, подсказывала новые рисунки. С 1924 года в его коллекциях появились трикотажные свитера с забавными пестрыми зигзагами, ромбами и косицами, а затем – юбки, блузы, манто, шляпки и сумочки. Целый спортивно-авангардный комплект. Теперь его наряды можно было купить не только в Париже, но в Довиле и Биаррице, курортных городках, где открыто восхищались развитыми плечами, атлетическими икрами и звонкими угластыми «гарсонками», стремительно терявшими вес и путавшими пол. И модельер, хотя испытывал неодолимое влечение к покатым плечам и роскошным бедрам, тенденцию эту развивал. Стиль garçonne обязан своим появлением Пату не меньше, чем Шанель.
Реклама бутика Жана Пату Le Coin des Sports
Журнал Vogue (Paris), 1926. Национальная библиотека Франции
Спортивные костюмы от Жана Пату
Журнал Femina, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Костюмы для гольфа ансамбль от Жана Пату
Журнал Femina, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Трикотажный купальный от Жана Пату
1929 год. Институт моды и технологии (Нью-Йорк)
Пляжные костюмы от Жана Пату
Журнал Уogue (Paris), 1925. Архив О. А. Хорошиловой
В 1925 году француз вновь оказался на первых страницах модной прессы, открыв на базе парижского модного дома бутик Le Coin des Sports («Уголок спорта»). Там, в солнцем сквозящих интерьерах, посетителей встречала стальная английская виконтесса, леди Янцен, и холодно предлагала новинки – костюмы для гонок, костюмы для яхтенного спорта, для тенниса, гольфа, верховой езды, а также (уже доверительным шепотом) – юбки длиной до колена. Такие все еще считали опасными. В этом же бутике можно было приобрести спортивное снаряжение и «ничевочинки» (так называл их Пату) – шарфы, запонки, записные книжки. Современный total look рождался в бутике «Уголок спорта».
Брючные костюмы для морских курортов от Жана Пату
1931 год. Частная коллекция
К концу двадцатых француз наслаждался славой и великолепно обставленной жизнью. В бутики валом валили фанаты спорта, скачек и шимми, на Пату работали тысяча закройщиков и швей, сотни представителей в Европе и Америке разносили вести о его новых ни с чем не сравнимых коллекциях. Но ничего этого не было, если бы не реклама. Его любимая Америка выросла на громких лозунгах и заманчивых предложениях. Там знали, как заставить поверить, как соблазнить. Пату тоже знал. И он начал с себя – без особого желания, просто потому, что так нужно.
Луиза Брукс в платье от Жана Пату
1929 год. Частная коллекция
Модельеру приходилось работать лицом и внешностью. Те удобные вещи, утлые, незаметные, которые любил, сданы старьевщикам. Пату, с одобрения своей ассистентки Эльзы Максвелл, обзавелся отличными американскими костюмами, парой смокингов и парой фраков (в них был похож на звезду немецкого кино), хрустящими сорочками, шелковыми галстуками, запонками, тростями, перстнями, нежно-серыми шляпами-хомбургами и фетровыми гетрами им в тон. «Теперь клиентки тебе поверят», – кивнула Эльза. Для пущей убедительности он нанял лучших во Франции дизайнеров, Андре Мара и Луи Сю, превративших интерьеры его модного дома в приятный меланж барокко и нежного ар-деко.
Расфранченный модельер – прекрасная реклама, но не единственная. Пату нанял лучших графиков, среди прочих Бернара Буте де Монвеля, чтобы иллюстрации в Vogue мягко соблазняли читательниц. Он красиво приглашал редакторов и журналистов, среди прочих Эдну Вулман-Чейз, на специально организованные пресс-показы – за день до официальной демонстрации коллекции. В спокойной обстановке критики провожали глазами моделей, одну за другой, а потом с блокнотиками и карандашиками бежали к маэстро за пространными комментариями. Трюки с пресс-показами актуальны до сих пор.
Понимая, что процветание дома обеспечивают беспечные нью-йоркские богачки, Пату ринулся в США, наладил контакты с поставщиками и льстил, бессовестно льстил американкам, превозносил их фигурки, ножки, аккуратные коленки (на которые обращал профессиональное внимание не меньше, чем Шанель). Его гениальный коммерческий ход – конкурс моделей, который он провел в США в 1924 году, пригласив в жюри Эдну Вулман-Чейз и Эдварда Стайхена. Задача – набрать шесть манекенщиц для представления коллекции в Париже. Цель – сделать шумную рекламу конкурсу и дому Patou, привлечь американскую клиентуру. Сработало. Конкурс удался, француз забрал в столицу Франции шесть вертлявых флапперов и разразился в прессе словопотоком о красоте американской нации и женской ее половины в особенности. Рекламы ради, он много работал со звездами Голливуда – Глорией Свенсон, Полой Негри, Мэри Пикфорд, Констанс Беннет. Но шедевры ему удавались только для Луизы Брукс. Француз был от нее без ума, он драпировал ее в муар и бархат, обсыпал стразами и влажными комплиментами (говорят, у них был пылкий, но краткий роман). Для фильма «Ящик Пандоры» придумал платья из золотого ламе, в котором хитрая Лулу лакомилась целлулоидными мужскими сердцами.
Ему пришелся по душе плакатный стиль заокеанской рекламы. Принцип «чем виднее, тем лучше» модельер применил, разрабатывая логотип для спортивной линии. На свитерах, блузах, шляпках и платочках в 1924 году появилась отчетливо заметная аббревиатура jp – начальные буквы имени и фамилии модельера.
В конце двадцатых Пату отлично знали не только модницы. Он состоял в доброй дюжине закрытых клубов и дружил с ласковыми антрепренерами, считавшими его присутствие на вечеринках залогом успеха. Он даже попробовал себя в клубном бизнесе, открыв в 1922 году «Сад моей сестрички», самое элегантное парижское заведение, по мнению Аниты Лус. Приятная и богатая публика не спасла клуб от быстрого финансового краха – это, пожалуй, единственное, что Пату не удалось.
Его знали звезды кино и театра, политическая элита и зажиточные коллекционеры мировых сокровищ. Он был на «ты» со случайными партнерами по бриджу и мог битые часы проводить перед рулеткой, безразлично наблюдая, как стремительно тает его капитал. Говорили, что он проигрывал больше, чем кто бы то ни было во Франции. Еще у него была страсть к авангарду. И ее он утолял регулярно, покупая современное искусство и наполняя абстрактными образами свои коллекции – кубистические свитера в стиле Брака и Гриса такие же хиты двадцатого века, как трикотажные обманки Скиапарелли.
Триумф Chanel № 5 заставил Пату выпускать парфюмы. И если творение мадемуазель отвечало вкусам немногочисленных сказочно богатых любителей новой холодной эстетики, Пату сделал ставку на игривых и глупеньких женщин, которых обожал. В 1925 году он предложил три запаха для трех цветов волос: Amour Amour – для брюнеток, Que sais-je? – для блондинок и Adieu Sagesse – для рыжих. Автором всех трех был Анри Альмера, именитый грасский парфюмер. На первом этаже бутика модельер открыл парфюм-бар, где специально обученный ассистент по желанию смешивал разные оттенки, готовя индивидуальные духи для клиенток.
Жан Пату позирует в прекрасно скроенном костюме и щегольской шляпе
2-я половина 1920-х годов.
Библиотека Конгресса (Вашингтон, США)
Самым успешным ароматом Пату был Joy. Когда мастер вместе с Эльзой Максвелл приехал в лабораторию Анри Альмера, он даже не знал, с чего начать. Парфюмер терпеливо и молчаливо наблюдал дикий вихрь рук и фантазии модельера, тщетно пытавшегося объяснить необъяснимое – идею и аромат: «Хотелось бы чего-то легкого, цветочного, терпкого, телесного и еще, знаете, такого неуловимого – запаха, то есть как бы непахнущего, незапаха, что ли…» – «Незнамо какого запаха», – помогла Эльза.
Месье Альмера, все так же сдержанно и молча, выставил ряд флакончиков. Стали пробовать. «Не подходит. Не подходит. Нет. Не этот. И этот тоже. Нет. Нет. Нет». – «Ну знаете, – у Альмера, наконец, сдали нервы, – если вы забракуете и вот этот аромат, я закрою дело и отправлюсь пасти коз!» Как только Пату поднес пробник к носу, он выпалил: «Наконец-то! Эврика! Это то, что надо». – «Еще бы, – парировал Альмера, – это самый дорогой аромат из всех, мною созданных. Боюсь, он не для продажи – его никто не купит. Он слишком дорогой». Эльза Максвелл, подробно описавшая эту сцену в своих записках, отмечала, что было достаточно лишь двух слов – «дорого» и «не для продажи», чтобы модельер сразу и на все согласился.
Это был действительно уникальный парфюм – и по цене, и по составу. В каждой его унции содержался экстракт из 10 600 цветков жасмина и 336 болгарских роз. Название для него Пату и Максвелл выбрали подходящее, оптимистично-денежное и англоязычное – Joy (Радость), с расчетом на американских клиенток. Чтобы их раззадорить, Пату решил отправлять им вместе с заказами бесплатные пробники – в знак благодарности за верность модному дому. Но в черном 1929 году, когда радости очень не хватало, француз наладил заокеанскую продажу парфюма. Многие не смогли покупать дорогие платья и компенсировали это дорогими духами. Эксперимент Пату 1929–1930 годов теперь является правилом выживания многих домов Высокой моды.
В двадцатые годы Жан Пату пропагандировал спорт, создавал удобные, лаконичные женские костюмы с элементами мужского стиля, а также форму для известных спортсменок. Вероятно, так о нем написали бы в энциклопедиях, навсегда связав его имя с эпохой джаза и мускулов. Однако неусидчивый француз смог перепрыгнуть самого себя. Он сформулировал собственное «модное предвидение» (обязательное для попадания в шорт-лист гениев двадцатого века). В 1929 году мэтр представил весьма смелую зимнюю коллекцию, сочиненную «от противного». Все еще носили платья длиной чуть ниже колена, а белый не считали основным для вечеров. И модельер предложил спортивные костюмы с юбками по щиколотку и белые струящиеся вечерние платья в пол. И пока манекенщицы медленно ходили по демонстрационному залу, Пату нервно курил за кулисами – боялся, что журналисты и клиенты не поймут его замысла. Но Жорж Бернар, директор дома моды, прибежал с воодушевляющими известиями: «Дамы в зале одергивают юбки, кажется, им неудобно, что они такие короткие». Это был успех. Белые длинные платья легко миновали границу десятилетий и стали символом серебристых тридцатых, женственных, сексуальных, голливудских.
Карл Эриксон. Жан Пату за работой.
Модельер одним из первых в конце 1920-х годов предложил белые платья длиной в пол
Журнал Vogue (Paris), 1934. Архив О. А. Хорошиловой
«Госпожа Евклид»
Когда сотрудница парижского музея моды осторожно выдвинула ящик запасника и, отбросив нежную кальку, начала трепетно, с дрожью в голосе восхвалять то, что там лежало, мне было сложно ее понять. Нечто крепдешиновое, изрядно полинявшее, сморщенное, в неровностях, защипах и оборвышах хрупкого текстиля. Бесформенная тряпица, хоть и породистая. Такое впечатление неизбежно производят творения Мадлен Вионне, покоящиеся с миром в белых саркофагах стерильных музеев. Они вовсе не должны были попадать сюда, в обитель кабинетных знаний и девичьего благонравия. Ее платья не для хранилищ и ящиков. Модельер придумывала их для тела и создавала на теле, женском, звонком, спортивном, находящемся в вечных поисках вечного двигателя.
Парфюм Жана Пату «Joy»
1930 год. Частная коллекция
Мадлен обожала танцы, хотя редко бывала в дансингах. С удовольствием и даже завистью наблюдала за аккуратными парочками, с механической предсказуемостью кукол вертевшимися по залу. И боготворила Айседору. Белая, дебелая, обернутая в невообразимый хитон, Дункан плясала эдакой весталкой, подпрыгивала, выпрастывала руки, играла с шарфом, юлила по кругу и верила в то, что может воспарить на фидиевский фриз бессмертных. Мадлен восхищали ее обнаженные ноги, драпированные наряды, колышущееся тело, свободное от корсета и правил буржуазного приличия. И она решила это повторить в коллекциях. Сначала наивно, по-ученически – просто заимствуя внешние детали. Предложила своему боссу, Жаку Дусе, выпускать манекенщиц босыми, чтобы они двигались естественнее. Кутюрье идею поддержал, потому что сам был от Дункан без ума. Тогда же, в 1907-м, Мадлен придумала более свободные, обманчиво простые интерьерные и дневные платья из хлопка и крепдешина, которые мягко подчеркивали природную красоту стройного спортивного тела. Но большинство клиенток идею Вионне не поняли и не приняли, решив, что им предлагают какие-то странные, очень непристойные балахоны. В них тучные дамы Прекрасной эпохи выглядели действительно неприлично. Потому первые реформированные опыты модельера оценили только молодые актрисы. Лантельм – одна из них.
Мадлен Вионне за работой с деревянным манекеном
1916 год. Фонд А. А. Васильева
Айседора Дункан, которой так восхищалась Мадлен Вионне
1904 год. Частная коллекция
Идея освободить женское тело, дать ему возможность говорить за себя не оставляла Вионне. Думая о Дункан, вольных танцах и эмансипации, она всерьез занялась историей костюма, решив найти в ней ключи к будущим открытиям. Ее увлек Восток, восхищали оригами и широкие персидские халаты, ей нравилась японская идея «ма» – уважительный промежуток между телом и материалом, она многое узнала об искусстве оборачивания. Вионне пробовала интерпретировать кое-какие элементы кимоно, еще работая у «Сестер Калло». В начале 1910-х, вооруженная знаниями и ориентальным успехом Поля Пуаре, стала экспериментировать смелее – сначала у Жака Дусе, потом самостоятельно, на базе собственного ателье, открытого в 1912 году на рю де Риволи. К примеру, предлагала широкие чайные платья и наряды для интерьера с широкими проймами. В них следовало оборачиваться, словно в халаты.
Когда началась Великая война, Мадлен переехала в Рим и открыла для себя живую, объемную, тактильную античность. Она исходила все археологические раскопы, посетила десятки мшистых храмов, завороженно рассматривала желто-розовые черепки в музеях, напряженно думая, как все это применить. Фидий и Скопас во множестве поздних реплик подсказали новые варианты платьев и композиции драпировок, периптеры и моноптеры спровоцировали интерес к математике. Вионне села за расчеты.
Логотип модного Дома Мадлен Вионне
1920-е годы.
Музей декоративного искусства (Париж)
Она твердо уверовала в высшие законы античной гармонии, основанные на развитом чувстве вкуса и безжалостной евклидовой геометрии. Она также верила в пластические возможности текстиля, еще не раскрытые европейскими мастерами, и рискнула кроить платья по косой, чтобы ткани мягко и красиво оборачивали тело, вторили его движениям. Это был ее главный вклад в моду XX века, ведь ранее этот способ применяли только для небольших элементов и отделки.
Вионне повезло – ее идея оказалась своевременной. После окончания Первой мировой дамы продолжали восхищаться Древней Грецией, корсеты уходили в прошлое, классикизирующие драпировки оставались в моде. С 1918 года крупные французские текстильные предприятия стали предлагать более тонкие, эластичные и, что особенно важно, широкие ткани, из которых получались восхитительные драпированные туники, скроенные по косой.
Одним из самых известных творений Вионне стало «платье-платок», представленное в 1919 году и затем много раз повторенное. Оно было сшито из четырех прямоугольных полотнищ (по два спереди и сзади), собранных на плечах, подобно хитону. Никакой отделки, лишь тонкий кушак, акцентирующий талию, и конечно же аккуратные дивной красоты складки, достойные руки Фидия. Это был безусловный художественный успех. Платье оживало вместе с телом, которое оно скрывало. Складки следовали движениям и даже «редактировали» их – смягчали, округляли, доводили до скульптурного совершенства.
Вионне, с молодости интересовавшаяся экспериментальной реформированной одеждой, предложила свой вариант – рациональный, лаконичный и одновременно изысканно художественный. Его нельзя назвать репликой античного костюма, но с ним есть много общего. И это общее подметил и красиво обыграл Георгий Гойнинген-Гюне на знаменитом снимке 1931 года – модель парит, зефир тревожит складки, взвивается дугою палантин. Это уже было – когда-то на метопах Парфенона и позже на полотнах Боттичелли. Похожие нимфы и богини, живо и со вкусом написанные художником Жоржем де Фёром, украсили стены Дома моды Madeleine Vionnet. И если какая-нибудь балованная заказчица неуверенно спрашивала, как же она будет выглядеть в полувоздушном платье, модельер указывала ей на одну из нимф: «Именно так, мадам».
Желая, чтобы ткани выражали сами себя, она избегала тяжелых гарнировок. Предпочитала узоры из складок-защипов, иногда весьма затейливые, напоминавшие оригами, легкие украшения в форме бутонов роз, не брезговала бисером, который Альбер Лесаж кропотливо нашивал специально придуманным способом, чтобы не разрушить архаичную архитектонику полупрозрачных драпировок.
Много размышляя над особенностями взаимодействия тела и материала, Вионне разработала метод, ставший ее визитной карточкой, – создавала платья непосредственно нателе, без предварительных подготовок и лекал. В общем, поступала как скульптор, не как модельер. Она часто потом говорила, что начинала работу над новым платьем, толком не представляя, каким оно получится.
Платье-платок от Мадлен Вионне на манекене 1919–1920 годы.
Музей декоративного искусства (Париж)
Просто брала кусок текстиля, раскраивала его по косой и распределяла сначала на манекене, а после на клиентке – собирала, подшивала, закрепляла, затягивала, в общем, вдохновенно лепила. Впрочем, часто увлекалась, и довольные дамы, купив десяток платьев, через неделю возвращались с кислыми лицами – они не помнили, как точно надевать и носить творения Вионне. Модельеру приходилось начинать сначала.
В редких интервью она представала эдакой легкой мечтательницей, зефирной дамочкой, «создающей платья во снах». Красиво рассуждала об античности, мраморных телах, драпировках и вдохновении, часто ее посещающем. Казалось, она живет на облаке и питается гиацинтами. Однако Вионне была совсем не такой. Она очень хорошо умела считать, разбиралась в бухгалтерии и, работая над очередным шедевром, составляла сложнейшие математические пропорции, отчего получила прозвище «Евклид моды».
Мадлен здраво оценивала свои финансовые возможности, редко рисковала и упорно, яро, изо всех сил боролась с плагиатом, судилась громко, оповещая об этом прессу. Но приговоры не отпугивали бутлегеров. Зимой 1921 года она решилась на крайние меры. Практически во всех модных журналах вышла большая, составленная по законам юридического жанра, статья о новых способах защиты от подделок, внедренных модельером. «Отныне, – сообщал L’Officiel, – творения Мадлен Вионне будут снабжены двойной авторской подписью. Каждое платье, покидающее стены ее модного дома, будет иметь на себе: ее автограф, специальный номер, копию отпечатка пальца Мадлен Вионне. Таким образом, каждому покупателю в любой части земного шара будет легко проверить аутентичность купленного наряда. При возникновении сомнений и вопросов покупатель может отпороть гриф и отправить его по адресу 220–222 рю де Риволи, Париж, Дом моды Madeleine Vionnet. Просим также приложить следующее: имя и адрес покупателя, имя и адрес продавца, дату, когда куплено платье. Будет проведена проверка и сообщено о результатах»[6].
Георгий Гойнинген-Гюне. Платье от Мадлен Вионне
1931 год.
Платье из крепа от Мадлен Вионне
1921 год. Фонд А. А. Васильева
Платье-платок от Мадлен Вионне в разложенном виде
1925 год. Институт костюма Киото: kci.or.jp
Дневное платье от Мадлен Вионне
1925 год. Институт костюма Киото: kci.or.jp
Платье прямого силуэта от Мадлен Вионне
1920-е годы.
Музей декоративного искусства (Париж)
Любопытно, что при этом Вионне не отказывалась от авторизованных копий. L’Officiel упоминает мадам Еву Боэкс, которая по договоренности с кутюрье создавала не менее трех реплик ее платьев на базе мастерской, расположенной на парижской улице Кастильоне, 14. Каждая авторизованная копия имела гриф с подписью Евы Боэкс, индивидуальным номером, надписью «Licence Madeleine Vionnet’s» и ее отпечатком пальца.
Кутюрье шла в ногу с рекламным временем. С1924 года снабжала модели монограммой «MV», открыла филиал в Биаррице, наладила продажу платьев в США через ритейлера Хиксона и филиал Vionnet New York, запустила парфюмерную линию, называя ароматы в авангардном стиле – буквами. Она разрабатывала спортивные костюмы, в том числе для тенниса и авто. Иллюстрации для нее создавали лучшие художники, к примеру Тайя. Самые известные актрисы, в том числе Джозефина Бейкер и Глория Свенсон, позировали в ее вечерних нарядах.
Гриф модного Дома Мадлен Вионне с росписью и отпечатком пальца модельера
Институт костюма Киото: kci.or.jp
Вечернее платье «Henriette»
1923 год.
Институт костюма Киото: kci.or.jp
Эльза Скиапарелли в джемпере с белым бантом
1932 год. Фонд А. А. Васильева
И даже после Второй мировой войны о Вионне не забывали. В 1948 году Жак Фат посвятил ей костюмированный бал «Голливуд 1925». Серьезное изучение творчества модельера началось в семидесятые годы после того, как она передала свой обширный архив в Объединение костюмного искусства, ныне Музей моды и текстиля. Там покоятся ее письма, фотографии, книги с образцами, ее любимые деревянные манекены и немые обездвиженные платья, которые так восхищают трепетных хранителей, но почти ничего не говорят о своем великолепном светском прошлом.
Скиап
Двадцатые были ее юностью. Эльзу Скиапарелли только начинали узнавать и с трудом произносили итальянское имя, путаясь в согласных. «Можно просто Скиап», – помогала модельер. В те стройные предзакатные годы Века Джаза она делала первые робкие шаги в мир Высокой моды и потому особенно радушно, с южным гостеприимством привечала клиенток. Следовало производить хорошее впечатление, сладко улыбаться и стараться не спорить. Скиапарелли отлично понимала законы бизнеса.
Она понимала, что нужно находиться в тренде, быть медийной, что слишком смелые эксперименты, о которых ей грезилось, станут уместны лишь тогда, когда ее раскатистое имя начнут произносить запросто, без запинок. Пока она была «просто Скиап», молодым подающим надежды модельером, которую нежно обжимал толстяк Пуаре и почти не замечала звездная Шанель, не видя в «итальянской девочке» конкурентки.
Джемпер «Cravat»
1927 год.
Музей Виктории и Альберта (Лондон): collections, vam. ас. uk
Эльза Скиапарелли в джемпере с белым бантом
1928 год. Фонд А. А. Васильева
Эльза не умела шить, но, как многие современники, мечтала создавать необычное. Общий язык с работодателями нашла не сразу. «Переполняемая сумасшедшими идеями, я связалась с Домом Магги Руф. Любезный господин, чрезвычайно обходительный, объявил, что мне лучше заняться разведением картофеля, чем пытаться делать платья, у меня нет ни таланта, ни умения»[7]. В 1925 году ей удалось пристроиться в менее взыскательный Maison Lambal, который вскоре закрылся по финансовым причинам. И пришлось начинать собственное дело – с нуля.
Помог случай. В 1927 году подруга, только что приехавшая из Америки, забежала ее навестить, одетая в необычный свитер: «Связан вручную, а смотрится солидно. Он был решительно некрасив по форме и цвету; эластичен, но не растягивался, как другие вязаные вещи. “Где вы это купили?” – спросила я. “Это? Дело в том, что одна женщина…” “Одна женщина” оказалась армянской крестьянкой, замужней. Я отправилась к ней»[8].
Эльза подбирала самые простые французские слова, по-итальянски жестикулировала, выпучивала глаза и широко раскрывала рот, совсем как учитель иностранного языка – и все для того, чтобы растолковать диковатой, смущенной и сморщенной армянке ее задачу. Но та ничего не поняла. Первый свитер вовсе не получился. Второй вышел грубым. И после очередных внятных объяснений и жестов армянка сделала третий, который Скиапарелли признала сенсационным.
Эльза Скиапарелли
1950-е годы.
Фонд А. А. Васильева
Связанный вручную, плотный, не тяжелый, полуприлегающий, технически простой, такой же, как тысячи других, аккуратными рядами висевшие в универмагах Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Сенсационность была в приеме. Эльза придумала узор с эффектом trompe-l’oeil – белые в матросском стиле «воротник», «манжеты» и галстук-бант казались объемными из-за мягкой полутени. Модельер справедливо ожидала успеха. Во-первых, ей удалось разработать лаконичную черно-белую формулу, сродни «маленькому черному» Шанель. Сейчас ее бы назвали брендообразующей. Во-вторых, Скиап попала в тенденцию – тогда простые вязаные свитера были в большой моде, как и матросские воротники. И наконец, она использовала чисто художественный прием «обман зрения», превратила простой джемпер в произведение авангардного искусства, близкородственное сюрреалистским полотнам.
Реклама джемпера Эльзы Скиапарелли в журнале Vogue (Paris)
1927 год. Национальная библиотека Франции
Она поспешила известить мир о новорожденном шедевре: «Убежденная, что выгляжу почти сенсационно, я смело облачилась в него, отправилась на званый вечер – и произвела фурор. Все женщины немедленно захотели его иметь и обрушились на меня как ястребы. Та, чей заказ я приняла первым, была байером из Нью-Йорка и работала на Стросса, она заказала сорок свитеров и сорок юбок»[9].
Вскоре почти вся армянская диаспора Парижа работала на Скиапарелли. Свитера уходили влет, и модельер решила подстегнуть азарт клиенток, придумав с десяток других «обманок»: «За шарфом с большим бантом последовали шарфики, повязанные вокруг шеи, мужские галстуки ярких расцветок, шарфы, повязанные вокруг бедер»[10]. Так Скиап описала первую трикотажную коллекцию, созданную в январе – феврале 1927 года. Успех позволил ей открыть ателье на рю де ла Пэ, 4, и начать, наконец, собственное дело.
Удивительное качество Скиапарелли – умение совмещать гимнастические прыжки под купол цирка с размеренным бегом по горизонтали. После сенсационных «обманок» были несколько лет спокойных, выдержанных коллекций – для спорта, отдыха, работы и вечера.
Джемперыс геометрическим орнаментом от Эльзы Скиапарелли
Журнал Vogue (Paris), 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Костюмы для трансатлантических перелетов от Эльзы Скиапарелли
Журнал Vogue (Paris), 1928. Архив О. А. Хорошиловой
В 1928–1929 годах представила пальто и жакеты из твида, весьма удачные, а также пальто из драпа, манто из каракульчи и черного ягненка, которые сама с великим удовольствием носила. Модельеру, мало понимавшей в спорте и почти не увлекавшейся активным отдыхом, прекрасно удавались ансамбли для плавания, пляжа и, особенно, трансатлантических перелетов. Макинтоши, юбки, шлемы, прелестные жакеты из прорезиненного крепа с диагональной застежкой понравились известным дамам-авиаторам Эми Джонсон и Амелии Эрхарт. Эти наряды, а также элегантные пижамы она представила в 1929 году в Нью-Йорке в магазине Stewart & Co.
Спортивные костюмы от Эльзы Скиапарелли
Журнал Vogue (Paris), 1929.
Национальная библиотека Франции
Свитера с «обманками», спортивные и технически несложные наряды отлично продавались в Европе и в Соединенных Штатах, благодаря чему Эльза смогла благополучно пережить 1929 год, Великую депрессию, сохранить модный дом, но главное, найти себя в странном быстро повзрослевшем мире тридцатых годов. Ушли легкость и девичья наивность. «Просто Скиап» преобразилась в монументальную готическую Эльзу Скиапарелли, развлекавшую публику продолжительными сеансами шоковой терапии – платьями-омарами, шляпами-туфлями и шляпами-чернильницами.
Глава 4 Двадцатые в костюме
«С каждым днем я становлюсь все лучше и лучше.
Эту фразу повторяйте каждый час», – советовали журналы мод. «Мы становимся всё лучше и лучше», – хором голосили послушные девушки в кабинетах красоты.
Княгиня Ирина и князь Феликс Юсуповы
Начало 1930-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
«Все лучше и лучите», – эхом отзывались машинистки из офисного поднебесья. «Лучше и лучше, все лучше и лучше», – пели в дансингах, на улицах, в кафе. И становилось лучше. По-другому и быть не могло.
Пессимизм закончился в сентябре девятнадцатого, когда тысячи демобилизованных парней в оливково-серой форме хмельным победным маршем прошагали по центральным улицам Нью-Йорка. Они были счастливы, что уцелели в Великой свалке народов или попросту не успели до нее добраться.
И теперь ощущали, что здесь, на шатких и солнечных Мэдисон-сквер, Шестой, Пятой, Седьмой авеню, жизнь налаживается, становится все лучше и лучше.
В 1920-е годы веселились на полную катушку. И джаз был одним из способов поддерживать хорошее настроение
1926 год.
Архив О. А. Хорошиловой
В отличие от понурых граждан советской республики, жители двадцатых годов не верили в светлое будущее. Они в нем жили. Двадцатые были эрой оптимизма с высоким коэффициентом рыночной надежности, обеспеченной банками по обе стороны океана. В оптимизм, словно в рентабельное предприятие, выстроенное на голливудском фундаменте, спешили вкладывать средства и ожидали скорой отдачи финансисты, режиссеры, художники, редакторы, модельеры. Все больше фильмов заканчивалось хеппи-эндом, все меньше в прессе было печальных новостей, мужчины богатели и заметно расширялись, женщины худели и становились прекраснее с каждым днем. Искусство и дизайн обеспечивали роскошь и комфорт, индустрия развлечений – насыщенность светской жизни. Магазины преображали покупателей, всемирные выставки развивали их хороший вкус, гимнастические залы взбивали мышцы. Кабинеты красоты, сделавшиеся модной необходимостью, доводили до совершенства то, что не удалось природе, – удаляли животы, уплощали груди, вытягивали шеи, выщипывали брови, корректировали губы, увеличивали глаза и ресницы, стригли и подвивали волосы, рисовали, кромсали, утягивали – делали из дурнушек галатей.
Все вдруг уверовали в исправительную силу спорта. Обзавелись гантельками и резиновыми «коррекционными» шарами, лыжами и коньками, теннисными ракетками и целым гардеробом костюмов для плавания, гимнастики, гольфа, поло, горных лыж, бега, автомобильных гонок. Не имеющие силы духа обретали силу тела с помощью электрических тренажеров и каучуковых корсетов. И если положить рядом два снимка – громоздкой дамы Belle Epoque и улыбчивой девушки Art Deco, – нетрудно заметить, какой колоссальный спортивный рывок сделали двадцатые по беговой дорожке современности.
Флиртующая сладкая парочка 1920-х годов
Раскрашенная фотооткрытка. Архив О. А. Хорошиловой
Оптимизм, умноженный лучистой красотой зеркального отражения, развил уверенность в себе, расковал желания и чувства. Флиртовало целое поколение – калеки-ветераны и флапперы, гостиничные мальчики и дамы-викторианки, юркие официанты курортных ресторанов и монолитные спортсменки. Амурными грезами захлебывались в ресторанах, дансингах и бассейнах фешенебельных гостиниц.
Любовь была повсюду, ее хватало всем. Но тем, кто был броско одет – сногсшибательно, как флапперы, обворожительно, как британские аристократки, или вызывающе роскошно, как американские богачки, – таким любви доставалось чуть больше. Умение обратить на себя внимание стало залогом успеха в личной и светской жизни.
Двадцатые культивировали молодость. Всем хотелось быть свежими, загорелыми, звонкими. Молодежь громко заявила о себе университетскими клубами и ассоциациями, развязными манерами и разгульным поведением, музыкой, алкоголем, безудержной половой жизнью, то есть всем модным. Не в шестидесятые, а именно в двадцатые появился феномен молодежной культуры, вдохновлявшей артистов, писателей, режиссеров, композиторов, кутюрье. Шанель и Пату посвящали юности восхитительные коллекции, модники посвящали ей жизни, стараясь, во что бы то ни стало, обмануть время.
Спорт и культ молодости поторапливали мир. Скорости росли. Пешеходы проворнее перебегали улицы, увиливая от быстрых автомобилей, в дансингах тряслись под учащенный ритм африканских барабанов, с горных склонов мчались на лыжах нового скоростного типа, а в небе шумно соревновались друг с другом стальные бипланы. Модельеры не отставали. Они изобретали костюмы, один ловчее другого, чтобы ничто не мешало активно бежать по жизни, работать, крутиться, везде успевать. Дневная одежда стала удобнее, проще. Кое-что ее авторы заимствовали из спорта, кое-что из военного обмундирования, в которое успели влюбиться еще в Великую войну.
Умели работать, умели отдыхать. После Первой мировой отменили ограничительные законы и началась настоящая текстильная оргия. Парча, бархат, расшитый золотом и серебром, сказочный атлас прямиком из Поднебесной с райскими птицами и какаду из пестрого шелка, дамаст, тафта, газ. А какие меха – песец, куница, рысь, русский медведь, оцелот, зебра, ягуар и даже обезьянки – для манто, сорти-де-баль и платьев grande soiree. Вечер был самым главным событием в светском ежедневнике двадцатых, и для него ничего не жалели. Стали популярны длинные трены, барочные драпировки, тюники и платья robe de style с воронкообразными юбками, автором которых была Жанна Ланвен.
Мужчины тоже приняли участие в текстильной оргии. В 1924 году студенты Оксфорда надели широченные фланелевые брюки с манжетами, названные «Оксфордские мешки» (Oxford bags). Тенденцию подхватили студенты американской Лиги плюща, а вслед за ними все остальные юноши Старого и Нового Света.
Никто не пытался запретить такие штаны и такие роскошные вечерние платья – просто потому, что текстильная оргия способствовала развитию легкой промышленности, обогащению компаний, домов моды и в итоге влияла на общий уровень достатка, добавляя красок и лоска эпохе «просперити».
Миссис Хендерсон и Дечизде Мачадо на открытии казино «Central Park», Нью-Йорк
1929 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Спорт и секс формировали новую телесность. В начале двадцатых девушки еще стыдливо прятали все то, что даровала им природа. Они носили мешковатые костюмы и мешковатые платья, блузки с жабо и жакеты с воланами, широкополые шляпы и панамы, затенявшие игривый блеск глаз. Но вскоре им на смену пришла, вернее пришел, garçonne, девочка-мальчик с плоской грудью, стройными ногами, бесполым телом гуттаперчевого акробата. Длина юбок сократилась, оголились шея и руки, одежды стало меньше, и она висела на худосочных «гарсонках», словно на вешалках. «Мальчишки» не желали быть объектами мужского желания и купировали все то, что могло его возбудить, – грудь и бедра надежно скрывали каучуковые корсеты и пояса, плечи – драгоценные меха или матросский воротник. Части тела оставались видны, но самого тела будто бы не было под пестрым авангардным текстилем.
Белое вечернее декольтированное платье от Жана Пату
Журнал Femina, 1928.
Архив О. А. Хорошиловой
К 1928 году острые бесполые фигурки и отвислые костюмы надоели. Словно предвидя экономический кризис (а любой масштабный кризис возрождает традиционные ценности), девушки одамились. Они стали самолюбивы, независимы, властны, прекрасно знали цену себе и своим первоклассным нарядам, они переняли у «гарсонок» умение разоблачаться, не краснея. Но делали это не ради себя, а ради мужчин. Женщина эпохи экономического кризиса стала объектом, великолепным и развращенным.
Декольте обрушилось в конце двадцатых. Длинные вечерние платья, сшитые по диагонали, выгодно подчеркивали грудь, мягко облегали бедра, увеличивали рост, возводили даму на пьедестал. Мода, и особенно вечерние туалеты, стала телоцентричной. Черный более не волновал. Самыми популярными цветами grande soiree стали пастельные (телесных оттенков) и белый (цвет античных богинь).
Натали Палей в вечернем платье от Люсьена Делонга
Журнал Femina, 1928.
Архив О. А. Хорошиловой
В двадцатые годы больше исключений, чем правил. Царствовал плюрализм – в политике, общественной жизни, экономике, искусстве, моде. Царили многостилье и многоцветье. Демократы сражались с ультраправыми, чернокожие с куклуксклановцами, уродцы Новой вещественности с суперменами новой фигуративности, ориентализм с античностью, пуризм с роскошью, Шанель с Пуаре.
Актриса Глория Свенсон в роскошном вечернем платье
Фотооткрытка,1929.
Архив О. А. Хорошиловой
Нижнее белье
Бо́льшую часть двадцатых годов девушки боролись с лишним весом и чрезмерной женственностью. В моде были стройные мальчишеские фигурки, сформировать которые помогали не только спортивные игры, жестокие электрические тренажеры, но и нижнее белье корректирующего характера, представленное в двух вариантах – корсетом и комплектом из бра и пояса. Корсет (иногда называемый «корселет» и «пояс-корсет») шили из сатинового батиста, тика или трико телесного цвета со вставками из каучука. Он закрывал тело от груди до бедер, уплощал все выдающиеся части и нивелировал талию, если такая вообще имелась. Надев его, девушка превращалась в эдакий супрематический прямоугольник, на котором прямые платья с авангардными геометрическими узорами смотрелись великолепно.
Бюстодержатель
2-я половина 1920-х годов. Институт костюма в Киото: kci.or.jp
Комплект из бра и пояса многие считали удобнее, в нем не было жарко, и он не мешал движению. Бра напоминали по форме чашечки, которые рекламировали журналы моды еще в 1910-е годы. Однако целью этих «бюстодержателей» было оставаться незаметными под вечерним платьем со смелым декольте и сделать грудь максимально плоской с минимальным уроном здоровью. Пояс или, как его еще называли, корсет для бедер в целом был аналогичен нижней части корсета и тоже имел вертикальные подвязки для пристегивания чулок.
Двадцатые испытывали нежную будуарную любовь к нижнему белью и этим так напоминали предвоенную эпоху. Как и прежде, красивые резные комоды хранили массу сорочек, рубашек, чепцов – разнообразных видов и названий. Комбинации с юбочками, комбинации с кюлотами, дневные рубашечки из нансука, перкаля, нежные шмиз для вечерних платьев из батиста, атласа, креп-сатина и крепдешина телесного, нежно-розового, шафранового, всех нежно-цветочных оттенков и, конечно, традиционного белого. Они украшались кружевами, фестончиками, «венской шашечкой», прошивками и тонкими поясками а-ля маршал, подвязывавшимися под самой грудью.
Ночные рубашки тоже поражали разнообразием стилей – батистовые шмизы а-ля Мария Антуанетта, короткие прямого силуэта с бахромой в духе модного джаза, косоворотки а-ля рюсс из оранжевого броше с высоким стоячим воротником и большими пуговицами. Шелковые пеньюары предлагали в стиле кимоно, античных пеплосов и палулл, а платья для интерьеров – в китайском и османском вкусе. Ночные комплекты (парюры) включали рубашки, панталончики и платья-«роб» в едином стиле и цвете. Для путешествий рекомендовали ночные комплекты из рубашки-«шмиз», сорочки и панталон. С середины двадцатых ни одна модница не могла обойтись без дюжины шелковых пижам – в тихих притушенных интерьерах и средь базарно шумящих курортников. Некоторые, правда, осмеливались появляться в них на вечеринках.
Реклама разнообразных вариантов нижнего белья
Каталог Au Bon Marche, 1927–1928 годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Реклама нижнего мужского белья и шерстяных фуфаек
Каталог Au Bon Marche, 1920–1921 годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Реклама детского белья и костюмов
Каталог Au Bon Marche, 1927–1928 годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Мужское белье было куда практичнее, но менее разнообразно. В специализированных магазинах и огромных торговых центрах приобретали дневные и ночные сорочки, кальсоны длинные и короткие из мадаполама, зефира, хлопка-«теннис», поплина и фланели, пристяжные воротнички, вестоны и халаты для дома, пижамы и фуфайки-жилеты. Там же продавали корсеты, которые мужчины охотно носили. Любимой интерьерной одеждой утонченных шелковых модников были китайские халаты с эдакими аляповатыми птицами и драконами, вышитыми на спинке, рукавах и передних полочках. В таком, к примеру, щеголяет скрипач Пауль Кёрнер, герой фильма «Не такой как все» (1919). Более традиционным домашним нарядом была сорочка с бабочкой, халат или куртка с шалевым воротником и жирными бранденбургами и мягкие кожаные туфли.
Детские бельевые комплекты напоминали те, которые дарили новорожденным в начале века, – свивальники, длинные батистовые и шелковые рубашечки, чепцы, хлопчатобумажные блузки, кюлотики и кальсоны, фуфайки из фланели и трикотажа. Нижнее белье юношей и девушек было похоже на взрослое.
Повседневная одежда
Зимой предпочитали кутаться в меха, иногда просто для того, чтобы пустить искристую пыль в глаза. Модой двадцатых заправляли буржуа, новые богачи, которые, в отличие от аристократов, любили громко заявить о себе. Меха, даже теплой южнофранцузской осенью, были таким заявлением. Шумные американские магнаты обожали шубы из русского медведя, канадского волка и американского скунса. Врожденно утонченные французы и британцы предпочитали благородные нетяжелые меха куницы, песца, каракульчи.
Шубы из меха енота были очень популярны, особенно в США
1929 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Даже теплой весной дамы не отказывали себе в удовольствии пройтись в шубках
Брюссель, середина 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Бельгийские модницы в зимних шубках и шляпах-«клош»
Середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Миссис Роберт Стэнфилд, жена сенатора, и ее дочь Барбара делают предрождественский шопинг. Обе одеты в элегантные меховые манто.
Вашингтон 1924 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Юная флаппер в шубке, отороченной мехом кролика
Середина 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Весной и летом наряжались в платья с вышивками в народном стиле и аппликациями, с кушаком или нешироким кожаным поясом с пряжкой. Носили прогулочные костюмы – блузу и юбку из саржи, джерси, поплина, креп-сатина, крепдешина. Правила хорошего тона (сложно поверить, но в двадцатые были такие правила) строго регламентировали длину женских нарядов. В начале двадцатых юбки доходили до середины икры, к 1926 году стали до колен, а иногда короче. В 1928–1929 годах подол резко опустился, волшебным образом предвосхитив траекторию движения биржевых котировок.
Тренд середины 1920-х годов – гетры-«чулки» из меха ондатры, которые прекрасно дополняли зимний наряд
Париж, 1926.
Архив О. А. Хорошиловой
Осенние прогулочные ансамбли включали манто из твида, драпа, военного сукна, кожи диковинных рептилий и эффектного каучука. Многие носили «непромокайки» – пальто из габардина песочно-оливкового оттенка, которыми торговали Burberry, Aquasqutum, Jane Regny. В более теплое время дамы надевали легкие однобортные или двубортные пальто из кашемира, самой популярной ткани для прогулочных нарядов.
Актриса и модельер Элеонора Вудраф в легком пальто с пелериной и шляпке-«клош»
Нью-Йорк, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама дождевиков Jane Regny
Журнал Femina, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Прогулочные наряды из кашемира для дамы и девочки
Обложка журнала La Mode Illustree, 1923. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама плащей Burberry
Журнал Femina, 1928. Архив О. А. Хорошиловой
Летние прогулочные платья с модной вышивкой в народном стиле
Обложка журнала La Mode Illustree, 1923. Архив О. А. Хорошиловой
Летние ансамбли в пейзанском вкусе
Обложка журнала La Mode Illustree, 1923. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама одежды из кожи немецкой компании Leineweber
Середина 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Почти все десятилетие существовало и другое правило – чем жарче сезон, тем светлее ткани. К морю, в Биарриц и на Род-Айленд, отправлялись почти во всем белом. Прелестные ансамбли для морских курортов предлагали Коко Шанель, Жан Пату, дома моды Jenny, Worth, Premet, Cheruit, Lenief, James, Jane Regny, Redfern, Chantal.
Великий князь Кирилл Владимирович в костюме для загородных прогулок
1922 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Великий князь Александр Михайлович, известный щеголь и англоман
Париж, конец 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Мужские костюмы, как и прежде, оставались достаточно консервативными. Силуэты – прилегающие и полуприлегающие. Слегка изменилась линия талии – если в начале десятилетия она была завышенной, то к середине двадцатых обрела свое естественное местоположение. Пиджаки стали заметно короче тех, что носили в период Великой войны. В моду вошли «оксфордские мешки» – широкие брюки записных щеголей. Классический комплект мужской повседневной одежды включал: сорочку с манжетами для запонок, шерстяную тройку, плащ-пальто или пальто-«честерфильд», шляпу-«хомбург» или котелок, галстук с булавкой или бабочку, запонки, перчатки, ботинки-«оксфорды» и трость. Стремительно развивающийся спорт сформировал комплекты для гольфа, катания на яхте, гимнастики, пляжного волейбола. Подражая звездным теннисистам, щеголи Ниццы и Канн дефилировали вдоль побережья в белых костюмах, отражая жаркое южное солнце и лучистые улыбки.
Различные варианты одежды для мужчин
Каталог Au Bon Marche, Париж, 1920–1921 годы. Архив О. А. Хорошиловой
Повседневные и спортивные костюмы, а также аксессуары предлагали Жан Пату, Томас Дейвис, Жанна Ланвен, дома моды Barclay, Kuppenheimer, Hawes & Curtis, Jane Regny, универмаги Saks, Au Bon Marche, London Shop.
Младенцев в тот период одевали по старинке – во все белое и кружевное. Детей от одного до трех лет – в распашные костюмчики из хлопка и шерсти с отложными воротниками и большими пуговицами. Панамы отчасти повторяли форму модных клошей. Очень популярным оставался морской стиль – тельняшки, матроски, трикотажные носочки в полоску и бескозырки. Одежда детей семи лет и старше все больше напоминала взрослую, хотя кроилась заметно шире и была гораздо короче.
Реклама компании Kuppenheimer
2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Ботинки-«оксфорды»
1920-е годы. Частная коллекция (США)
В 1920-е годы сохранялась традиция одевать детей в белое
Бретань, 1929. Архив О. А. Хорошиловой
Несмотря на тяжелую жизнь в послевоенной Германии, мама с дочкой стараются одеваться элегантно
Берлин, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Очаровательный малыш в шерстяном костюмчике в окружении любящих родителей
Раскрашенная фотооткрытка. Середина 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Вечерние туалеты
Они стали универсальными, и в этом их главное отличие. Если в десятые годы вечерние платья подчинялись строгому ранжиру: для праздничных ужинов, официальных визитов, театров, раутов и балов, то теперь их придумывали такими, чтобы девушки одинаково великолепно смотрелись в партере Гранд-опера и шумном дансинге «Le Boeuf sur le Toit». Универсальность – результат влияния демократичного городского стиля, а также новой деловой жизни, в которой не хватало времени на многоактные переодевания. Из фешенебельного ресторана мчались в театр, оттуда в бар, затем в казино и ночной клуб. Чтобы женщина выглядела везде по-новому, модельеры придумали вуали и накидки, которые превращались из кушаков в эффектные трены вечерних платьев. Одежда-трансформер – еще один термин в сложном словаре культуры двадцатых.
Дама в вечернем туалете входит в фешенебельный ресторан.
Рисунок неизвестного русского художника-эмигранта на меню, принадлежавшем Павлу Жабе.
Среди автографов, украшающих меню, росписи графини Анны Федоровны Коковцевой, Якова Савича и других представителей русской эмиграции
Париж, середина 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Вечерние туалеты шили непременно из дорогих тканей – это правило оставалось незыблемым. Парча, дамаст, ламе, жаккард, атлас, бархат – краткий список тех волшебных материй, которые портнихи превращали в блистательные наряды. Декорировали платья бисером, пайетками, бахромой, аппликациями и вышивками, а также мехом экзотических животных. Длина оставалась почти неизменной – самые короткие доходили до середины голени. Такие, обычно украшенные стразами или шелковой бахромой, предлагали модные дома Drecoll, belong, Lenief, Chantal, Worth. Их охотно покупали «джазовые крошки», для которых вечер был неполным без отличной встряски на танцполе под рев золотого оркестра.
Хол Файф. Портрет красавицы и светской львицы Маргарет Элизабет Сангстер, редактора модного женского журнала Smart Set
1929 год. Архив О. А. Хорошиловой
Впрочем, многие предпочитали платья в пол с отстегивающимся треном, которым играли, поднимаясь по лестнице парижской Оперы, и отстегивали в авто перед выходом в дансинг. Вечерние наряды отличались также обилием драпировок и газовых тюников, в особенности платья типа robes de style, с широкими юбками в подражание XVIII веку. Роскошные туалеты по роскошным ценам предлагали Поль Пуаре, Жак Дусе, Жанна Ланвен, Люсьен Лелонг, Мадлен Вионне, Норман Хартнелл, Эдуар Молине, модные дома Worth, Martial et Armand.
Вечером мужчины были черно-белыми: сорочка с пластроном, белый или черный жилет, облегающий фрак, тесноватый смокинг, брюки, лаковые туфли или аккуратные ботинки-«оксфорды», атласный цилиндр (с фраком) и ловкий котелок (со смокингом), белая бутоньерка в петлице и крупный перстень на мизинце. Достаток владельца определяли качество ткани и безупречный крой костюма, которым славились парижский Barclay, лондонский Hawes & Curtis, чикагский Kuppenheimer.
Реклама вечерних ансамблей от Дома моды Chantal
Обложка журнала La Mode Illustree, 1923. Архив О. А. Хорошиловой
Дама в вечернем наряде
Обложка журнала La Mode Illustree, 1923. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама вечерних ансамблей от Дома моды Chantal
Журнал Femina, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Борис Липницкий. Портрет композитора Сергея Прокофьева во фрачной тройке
1924 год. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама вечерних ансамблей от Дома моды Redfern
Журнал Femina, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Стили в костюме
Историзм
Европейская мода всегда была ретроманкой. В эпоху Ренессанса копировала Античность. Во времена барокко – эпоху Ренессанса. Восемнадцатый век возвел в культ неоклассику, а век девятнадцатый прославил «неокесаря»-императора. Романтизм 1820-х воспевал готику и Возрождение, эклектика 1860-1880-х похвалялась энциклопедическими знаниями в истории культуры всех времен и народов. Модерн увлекался первобытным искусством, мифами, Востоком и немного Античностью. Словом, не было такого периода, когда бы не вспоминали историю. Потому неудивительно, что Европа двадцатых годов бредила прекрасным прошлым. Это ее многовековая привычка.
Другая причина ретромании – война. Люди зверски от нее устали. Чтобы забыть об окопных ужасах, художники, дизайнеры, архитекторы вновь бросились с головой в перламутровый океан истории, из глубин которого, словно ныряльщики, доставали редкостные жемчужины забытых знаний.
Дама в неоклассическом наряде
Журнал Femina, 1919.
Архив О. А. Хорошиловой
Причудливым прошлым увлеклись еще и потому, что жесткий нечеловечный стеклянно-стальной модернизм вызывал у многих отторжение. Эти звонкие линии, белые стены, холодных оттенков холодная мебель, левитирующая в безвоздушном пространстве стерильных лабораторий, в которых почему-то рекомендовалось жить, – все это резко противоречило традиционному европейскому представлению о комфорте, тучной мебели, турецких альковах, персидских коврах, тяжелых портьерах и сусальной пыли, красиво переливавшейся в густом парфюмированном воздухе гостиных Второй империи. Вальтеру Гропиусу и Ле Корбюзье противостояли Эмиль-Жак Рюльман, Жан Дюнан, Пьер Легрэн, представители роскошного салонного французского ар-деко, под обаяние которого попали многие парижские модельеры. И даже сам Ле Корбюзье иногда поддавался его искусу.
Французское ар-деко – собранье пестрых глав из истории и современности. Были здесь цитаты из Античности, Ренессанса, рококо, ампира, ар-нуво, ощущалось влияние современных функционалистов, германских строителей Веймарской республики. Оно доминировало на Всемирной выставке 1925 года и почти все десятилетие правило парижской модой. Популярность французского ар-деко была связана не только с его роскошью и многообразием идейных решений. Оно подстегивало покупателей, вытягивало из них большие деньги и тем самым способствовало развитию люксовых дизайнерских марок, домов моды, текстильных предприятий. Оно обеспечивало Франции прибыль. Не это ли главная причина ретромании, ведь финансовый успех ценили в двадцатые превыше всего.
Платье– «стола» от Дома моды Lucile
Журнал Vogue, 1921.
Национальная библиотека Франции
Модельеры, влюбленные в историю, черпали вдохновение в разных эпохах, но чаще – в Античности, Средневековье, эпохе развращенных Людовиков.
Сразу после окончания Великой войны модные журналы заговорили о древнегреческой классике. Почему? Потому что она лаконичная, практичная, романтичная, а главное, недорогая в исполнении. «Мода никогда не была такой простой, как сейчас. Модная простота – это простота линий», – отмечал Gazette du Bon Ton.
Классика олицетворяла новую эпоху: легкую (муслин, батист), радостную (белый цвет), здоровую (пояса и кушаки вместо корсетов). В 1919–1921 годах у европейских модниц было еще недостаточно средств для готических сюрко из рыхлого бархата и византийских плащей из золотого ламе. Обходились пока дешевой и элегантной историей, классицизмом и ампиром, которые дамы так хорошо помнили по началу десятых годов – балы у Пуаре, приемы у Ноай…
Нижнее белье, ночные сорочки, матине и накидки предлагали в стиле древнегреческих хитонов и пеплосов. В этом особенно преуспел Поль Пуаре, который сочинял для своей супруги Денизы и прочих избранных ночные ансамбли из хитона-пончо и гофрированных шортиков, нежные туники амазонок, закрывавшие только одно плечо.
Платье Delphos от Мариано Фортуни
Журнал Vogue, 1924.
Национальная библиотека Франции
Вечернее платье в античном вкусе от Liberty&Co.
1924 год. Институт костюма Киото: kci.or.jp
С 1921 года отредактированные античные образцы стали нарядными и вечерними туалетами. Модный дом Parry приятно удивил элегантным платьем «Гипатия», посвященным известной женщине-ученому, преподававшей в Александрии. Оно было сшито из ткани с набивным узором, имитировавшим древнеегипетские рельефы. Дом моды Lucile представил несколько «чайных» платьев в стиле древнеримских стол, верхних туник с недлинными рукавами. В 1923 году Дом Dorat рекламировал нарядное платье «Искушение», низ которого был украшен вышивкой по мотивам басни Эзопа «Лиса и виноград». Из набивного фая Поль Пуаре сочинил в 1922–1923 годах монументальное платье-пеплос, а в 1926-м из фантастического шелка Bianchini-Ferier он создал накидку «Амфитрита». Жанна Ланвен показала вечернюю тунику «Весталка» из шелкового муслина, расшитую серебряным стеклярусом и дополненную шелковым треном бирюзового цвета. К ней полагались диадема из серебряных листьев и туфельки из серебристого шелка. В 1923 году модный дом Beer рекламировал модель «Эвридика» – полуприлегающее расшитое бисером вечернее платье. И конечно, невозможно не вспомнить те изумительные слепки, которые ловко и легко снимала мадам Вионне с божественных черепков Фидия. Ее белые полу-воздушные хитоны стали главными хитами классикизирующих двадцатых.
Обложка журнала Vogue, рекламирующая ансамбль белого цвета
1928 год. Национальная библиотека Франции
Модель в вечернем наряде и жемчужном сотуаре
Журнал Уogue (Paris), 1921. Архив О. А. Хорошиловой
Белый в тот период прочно ассоциировался с Древней Грецией и потому доминировал в спортивном костюме. Одежда этого цвета прекрасно смотрелась на загорелом, хорошо сложенном теле, ставшем символом модной Античности. Белый жемчуг считали лучшим дополнением темных вечерних и нарядных дневных туалетов, памятуя о том, как его любили патрицианки закатной Римской империи. Одной из самых известных парижских компаний, предлагавших жемчужные сотуары, была Tecla.
Шляпа «Паллада», напоминающая шлем Афины
Журнал Vogue (Paris), 1921.
Национальная библиотека Франции
Модель, рекламирующая шляпу в стиле античного шлема от Madame Agnes
1926 год. Частная коллекция (Франция)
Шелковые бандажи и ленты, которыми украшали свои стриженые головки «джазовые крошки», тоже родом из Античности. Потому их часто называли «греческими». Были модны шляпы-клоши, напоминавшие спартанские шлемы. В одном из них светская львица Сесиль Сорель позировала для журнала Vogue. Назывался он «Паллада» и, возможно, был создан Сюзанной Тальбо.
Древнегреческая античность с ее обостренным чувством геометрии и лаконичной красоты ощущается в холодных творениях архитекторов-функционалистов, скупых и стильных интерьерах ар-деко, в гигантских небоскребах, новых александрийских маяках, сигналивших всему миру о рождении империи денег и удовольствий. По-античному лаконичны творения Шанель. Ее маленькое черное платье – гимн простоте. Это «храм в антах» моды XX века.
Помимо классики увлекались христианским Средневековьем и интернациональной готикой, пестрые витражи и затейливая вязь которой были исцеляющим средством, прописанным щеголям от постфронтовой депрессии. Модельеры считали Византию, Бургундию и ренессансную Флоренцию замечательными источниками заработка, ведь они требовали дорогих текстилей и роскошной отделки. На январском показе 1921 года Дом моды Lucile представил вечерние туалеты, многие из которых, по мнению Vogue, «отсылали ко временам Данте и Медичи», а одно, особенно помпезное, манто-«футляр» из расшитого серебром бархата «понравилось бы самой Беатриче». В тот вечер было много шелков, ламе и мехов. Все остались довольны и разошлись за полночь.
Коко Шанель в маленьком черном платье
1930-е годы, flickr.com
Графиня де Бомон в золотой сетке во вкусе Возрождения
Журнал Vogue (Paris), 1925. Национальная библиотека Франции
Платье в стиле раннего Средневековья
Журнал La Mode Illustree, 1923. Архив О. А. Хорошиловой
Платьев византийском вкусе
Журнал La Mode Illustree, 1923. Архив О. А. Хорошиловой
Платье с рукавами фонариками в стиле Высокого Возрождения
Журнал La Mode Illustree, 1923. Архив О. А. Хорошиловой
В 1923 году Vogue опубликовал большую статью о значении Средневековья в современной моде, отметив, что его популярность достигла пика. «Влияние его явно ощутимо в большинстве нынешних туалетов», – сообщал журнал и как бы в доказательство приводил изумительные наряды графини де Зогеб, маркизы Казати, мадам Лимантур, графини Жанны де Роан. Отметили и смелый контрастный туалет герцогини де Грамон, сочиненный Полем Пуаре и состоявший из черной бархатной куртки и тонкой кружевной юбки, усеянной жемчужинами. Костюм сочли «вполне достойным самой Изабеллы Баварской».
Шляпное ателье Nathalie в 1921 году создало для светской львицы Луизы Трезель головной убор в стиле готического нидерландского чепца-«бегина» XV века. Придумка тут же попала на страницы влиятельного Vogue. Вероятно, этот и подобные пока еще весьма робкие эксперименты с историей подтолкнули щеголих и творцов к более смелым решениям. В 1923 году сразу две светские львицы, маркиза Казати и мадам Лимантур, предстали на рождественских балах в баснословных эненах, длинных затянутых газовой вуалью колпаках, которыми в начале XV века бургундские аристократки испытывали христианское терпение сумрачных монахов. В 1929 году, незадолго до знаменательного биржевого краха, виконты де Ноай организовали костюмированный бал, посвященный новым материалам. Среди прочих были замечены графиня де Гейнерон и мадемуазель Эймон де Фосиньи-Люсанж в сказочных нарядах бургундских принцесс – сюрко с металлизированными воротниками и манжетами, а также высоких драпированных эненах. «Бал материй» был последним в череде грандиозных маскарадов двадцатых годов, его последним мечтательным вздохом.
В 1922–1923 годах все увлеклись монументальным златопарчовым Константинополем с подачи русских эмигрантов, привезших в Париж, Нью-Йорк и Берлин частицы богатой романовской культуры, взлелеянной медвяными лучами вечерней византийской империи.
Третьим источником вдохновения модельеров двадцатых годов были рубенсовское барокко и французский декаданс Луи XV. Без них не обходился ни один костюмированный бал второй половины XIX – начала XX века, и послевоенное поколение тусовщиков продолжило эту прелестную традицию.
Мадам де Лимантур в роскошном энене
Журнал Vogue (Paris), 1923. Национальная библиотека Франции
Графиня де Гейнерон и мадемуазель Эймон де Фосиньи-Люсанж в нарядах бургундских принцесс
Журнал Vogue (Paris), 1929. Национальная библиотека Франции
Участницы «Бала цветов» в костюмах, навеянных поздним готическим Средневековьем
Журнал Femina, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
В 1923 году Дом моды Beer предложил вечернее платье «Рембрандт» – длинное, прямого силуэта, перехваченное ниже талии кушаком, с отлетной кокеткой на спинке. Единственное, что роднило его с эпохой великого живописца, – это украшенные серебряной вышивкой манжеты, напоминавшие краги мушкетерских перчаток. Кстати, в тот период в моду вошли и сами перчатки а-ля мушкетер – в них дамы управляли авто. В том же году Жан Пату придумал восхитительное нарядное платье для актрисы Леоноры Хьюз. Сшитое из черного бархата с широким отложным воротником-«раба» и манжетами из дорогого венецианского кружева, оно напоминало дублеты фламандских буржуа и английских аристократов кисти Ван Дейка. Собственно, творение Пату и было примером новой волны «вандей-кинга» – стиля, возникшего еще в XVIII столетии как бы в подражание художнику и его образам.
Но, пожалуй, самым востребованным среди всех исторических костюмов была венецианская баута целиком либо отдельные ее части. И в этом двадцатые лишь следовали прошлому. В январе 1921 года в нью-йоркском отеле «Ритц-Карлтон» устроили блистательный «Венецианский бал», подстегнувший интерес светской публики к фантомам и маскам столицы карнавалов.
Реклама текстиля Versailles для маскарадных костюмов в стиле XVIII века
Журнал Femina, 1928. Архив О. А. Хорошиловой
Увлечение XVIII веком способствовало популярности аккуратных причесок а-ля пастушка во вкусе французского рококо
Журнал Femina, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Участники «Венецианского бала» в отеле «Ритц-Карлтон»
Нью-Йорк, 1921. Национальная библиотека Франции
Актриса Алиса Дализия в венецианской бауте
Журнал Vogue (Paris), 1921. Национальная библиотека Франции
В 1923 году Vogue опубликовал большую статью о влиянии кринолинов XIX века на современную моду
Vogue (Paris), 1923. Национальная библиотека Франции
Жанна Ланвен заново открыла XVIII век. В 1919 году она представила праздничное платье с юбкой столь широкой, что носить его рекомендовалось с кринолином. Модельер сочинила замечательный наряд, смешав две эпохи – восемнадцатое столетие, которое искренне любила, и время Великой войны. В конце 1914 – начале 1915 года дамы вновь надели кринолины – легче и проще тех, которыми прославились 1850-е годы. Их называли «военными». Ланвен расширила юбку, утяжелила ее воланами и драпировками – получилось robe de style или, как его называли англичане, picture dress (то есть живописное платье). И второй термин в каком-то смысле точнее – ведь новые творения Ланвен действительно напоминали наряды, в которых маркизы и герцогини середины XVIII столетия терпеливо позировали Буше и Ротари. Увлечение robe de style началось в 1920–1921 годах. Vogue сообщал: «Такие платья пока не самые популярные, они пользуются спросом среди тех девушек, которые желают нас соблазнить. Я сам видел одну такую в “Ритце”.
Это была очень симпатичная молодая блондинка, одетая в облегающий корсаж и пышную юбку с тремя воланами тафты. Перед корсажа был украшен жабо из старинных валансьенских кружев»[11]. Пик популярности платьев пришелся на 1923–1925 годы. Вслед за кутюрье подобные образцы предложили Поль Пуаре, Жан Пату, Жак Дусе, Мадлен Вионне, дома моды Lucile, Beer.
Платья на кринолинах предлагали невестам
Обложка журнала Vogue (Paris), 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Вероятно, именно robe de style Ланвен возродило угасший интерес к пышным испано-цыганским юбкам, а также инфантам Веласкеса, платья которых не давали покоя многим парижским кутюрье. Но их баснословные творения все же несравнимы с оригиналами, монументальными парчовыми латами иезуитского благонравия.
Во время всеобщего увлечения robe de style некоторые обратились и к более современным вариантам – платьям на кринолинах времен Второй империи. Они стали мелькать на светских раутах и маскарадах, в газетах и журналах, их создавали Пуаре и Лелонг, Редферн и Пату. На пике увлечения кринолинами некоторые вспомнили и про турнюры. К примеру, Дом моды Georgette в 1923 году рекламировал платье из коричневого фая с подхватом и драпировкой сзади, имитирующей юбку на турнюре.
Творения Ланвен и многочисленных ее последователей оставались актуальными до конца десятилетия. Кризис 1929 года подвел лишь промежуточный итог. «Живописные платья» и кринолины промелькнули в начале тридцатых, а после Второй мировой молодой Диор возродил их под брендом new look.
Национальная экзотика
Древний Египет
«Говард, видите что-нибудь?» – «Чудесные… волшебные вещи», – чуть слышно, по слогам произнес археолог Картер. Было трудно говорить. Он задыхался от тысячелетней пыли, клубившейся в тесном тусклом коридорчике гробницы, и от счастья. Он глядел сквозь пробитое отверстие в смутную бездну, и неверный огонь свечи хаотично вылавливал из нее детали, фантастические. Белый оскал каких-то зверей, облые мраморные голени статуй, покатые бока сосудов, капюшоны кобр, какие-то колеса, сундуки и что-то особенно отзывчивое, колкое, золотое. Картер стоял перед главным открытием своей жизни – пока еще запечатанной гробницей фараона Тутанхамона. В первую комнату, Переднюю, археолог и его команда проникли 26 ноября 1922 года. В феврале следующего года вскрыли, наконец, Погребальную камеру. В мае найденные сокровища упаковали и отправили в Каир. Началось их изучение. Впрочем, научные результаты публику не интересовали. Главное: «Открыта гробница Тутанхамона!» Об этом Европа и Америка узнали из газет в ноябре 1922 года. Первых нечетких снимков и сочных описаний было достаточно. Египтомания начала свой путь из Каира в Европу.
Фрагменты погруженной в песок Атлантиды фараонов контрабандой проникали в светскую моду раньше – сразу после Египетского похода Наполеона. И вспышками возникали там и тут, на раутах и в маскарадах почти весь XIX век. Горячая египетская экзотика, навеянная балетом «Клеопатра» в сценографии Бакста, наполняла театры и подиумы перед Великой войной. В 1921 году, как бы предвидя зарождающуюся в недрах запечатанных гробниц египтоманию, Vogue опубликовал статью о баснословной эпохе в современной моде, оживив текст иллюстрациями из коллекции дома Madeleine et Madeleine: «Это прямого силуэта платье, покрытое тюлем, усеянным гагатом, отсылает ко временам весьма далеким, возможно к Египту… А полоски, ниспадающие с платья, образуют два трена и заканчиваются большими цветками лотоса, которые своей декоративностью напоминают лаконичные и яркие рельефы Карнакского храма»[12].
Реклама ансамблей из золотого ламе
Журнал Vogue, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
И как только газеты сообщили об открытии гробницы Тутанхамона, каждый из прославленных модельеров, предчувствуя коммерческий успех, отозвался блесткими нарядами. Пуаре, Дусе, Ланвен, Дреколь, Пату, Лелонг, модные дома Cheruit, Worth, Jenny, Martial et Armand, Redfern, Premet сочинили стройные платья модного прямого силуэта из драгоценной металлизированной парчи с узорами, словно скопированными с рельефов фараоновых гробниц. Возможно, именно древнеегипетская культура всколыхнула интерес к золотому ламе, которое тогда стали предлагать текстильные компании Rodier и Maurice Lefranc & Cie.
«Египетскими» назвали платья с плиссировкой, расходящейся от центра талии к низу. Этот вид отделки был, скорее всего, заимствован у североафриканских статуэток эпохи эллинизма, хотя и сами жесткие плиссировки, ставшие весьма популярными в 1922–1923 годах, были родом из Древнего Египта. Появилось множество подражаний головным уборам «усх» и парикам «ибес». К примеру, в 1924 году Сюзанна Тальбо предложила стилизованный под «усх» капюшон в качестве дополнительного элемента для автомобильного трикотажного платья-свитера. Стилистика Древней Ассирии тоже стала актуальной, благодаря всеобщему увлечению эпохой фараонов. В 1923 году Дом Worth представил лаконичное вечернее платье из черного муслина, верх которого украшали аппликации из посеребренной кожи – мчащиеся колесницы с ассирийским царем и лучниками.
Были сумочки, портмоне и визитницы с иероглифами, были мощные золотые колье, огромные серьги и браслеты, скопированные с тех, что обнаружил Картер. Вошли в моду маслянистые округлые и сладкие ароматы, напоминавшие о великих временах Амарны.
Кажется, что манеру подводить брови, удлиняя их к кончикам глаз, флапперы подглядели у египетских бюстов. А косметологи, накладывая омолаживающие маски, обматывали лица красавиц ровно так, как это делали слуги, готовящие тело фараона к вечной загробной жизни.
Вильям Картер.
Портрет египтолога Говарда Картера
1924 год. Институт Гриффита, Оксфордский университет
Мадемуазель Барден рекламирует шляпу в древнеегипетском вкусе от Madeleine
Журнал Vogue (Paris), 1923.
Национальная библиотека Франции
Автомобильный шлем в древнеегипетском стиле
Журнал Vogue (Paris), 1926.
Национальная библиотека Франции
Вечернее платье от Дома моды Worth (на рисунке – слева) с вышитыми ассирийскими колесницами
Журнал Vogue (Paris), 1926.
Национальная библиотека Франции
Ридикюль с вышивками в стиле Древнего Египта
Журнал La Mode Illustree, 1923. Архив О. А. Хорошиловой
Платье в стиле Древнего Египта от Мадлен Вионне
Институт костюма Киото: kci.or.jp
Пола Негри демонстрирует длинные брови в египетском стиле
1928 год. Архив О. А. Хорошиловой
Дамы в летних прогулочных нарядах посещают раскопки в Египте
Журнал Vogue (Paris), 1923. Национальная библиотека Франции
Реклама «Рено»
Журнал Vogue (Paris), 1923. Национальная библиотека Франции
Египет был повсюду. Даже в рекламе. Художники Vogue изображали дамочек в летних нарядах от Пату посреди раскопок, а услужливый археолог в колониальном шлеме преподносил им алебастровый сосуд. Сверхскоростные «паккард», «рено» и «бугатти» мчали к подножию пирамид, поднимая клубы графитной пыли. Модный дом LouiseBoulanger предлагал чудесные наряды из парчи и обещал флапперам скорое превращение в египетских мумий. Тогда все мечтали быть на них похожими.
Реклама Дома моды LouiseBoulanger
Журнал Femina, 1926.
Архив О. А. Хорошиловой
Восток
С ним парижских щеголих познакомил Наполеон Бонапарт, совершив дерзкий и быстрый налет на Египет в 1798 году. Помимо редкостных рукописей, золота и расписных осколков древней цивилизации он привез дамам Франции пестрые смирнские шали, наказав строго-настрого не покупать кашмирские у англичан. А после были французский Алжирский поход, русские персидско-кавказские войны, Крымская кампания, Русско-турецкая война, и всё это время в Европе и России носили фески и черкески, зуавки и куртки-«казакки» с выложенными сутажом турецкими узорами. Даже баловались шароварами, а одна экзотическая дама, Амелия Блумер, и вовсе объявила их главными элементами повседневного женского гардероба. Впрочем, до брюк им было еще далеко. Япония, медленно, с восточной игривостью, открывавшая личико западным негоциантам, а также императорский Китай обратили внимание модниц на баснословные дальневосточные костюмы и украшения, а Китайский поход и Русско-японская война их интерес укрепили.
К началу XX века европейский костюм уже основательно напитан восточными мотивами. Но все эти курточки, кофточки, фески и пояса были детским маскарадом в сравнении с тем буйством восточных страстей и красок, которые выплеснул на сцену парижского «Шатле» импульсивный Леон Бакст. Сказать, что это был скандал – значит не сказать ничего. Это был оглушительный успех, взрыв театра изнутри, безумный и такой русский переворот традиционных ценностей с ног на голову. Публика, сдавленная корсетами и правилами приличия, вдруг вспомнила о своих первобытных корнях, а также о том, что Пуаре нечто подобное предлагал еще несколько месяцев назад. Его коллекцию смели в момент, и началась новая волна ориентализма, которая в 1914-м разбилась о стальной пирс Великой войны.
Реформированный костюмот Амелии Блумер, навеянный османским Востоком
1850-е годы. Архив О. А. Хорошиловой
Но как только черно-белые усастые политики вывели свои имена под Версальским мирным договором, Восток вновь овладел Европой. В театрах рукоплескали Морису Жесту и его богатой балетной постановке «Мекка» в сотрудничестве с Михаилом Фокиным, пересказывали картины пышного нью-йоркского маскарада «Персидский праздник», а модники примеряли новые сказочные наряды. В 1921 году Дом Babani представил роскошное неглиже «Назиад», созданное под влиянием персидских сказок и костюмов: «Оно сшито из тонкого розового шелка, украшено вышивками в персидском вкусе, два его рукава с перепонками напоминают крылья бабочки»[13], – сообщал французский Vogue. В 1923 году Дом Calvayrac, специализировавшийся на нижнем белье, предложил свободное интерьерное платье «Персидский шах» из тонкой белой шерсти и красно-черного крепа – «марокэн». В нем действительно было кое-что от гаремного стиля.
Миссис Чарльз Фарнум в костюме турецкой принцессы и Нельсон Мейси в костюме французского генерала на балу в отеле «Астор»
Нью-Йорк, 1928. Архив О. А. Хорошиловой
Светская львица мисс Маргарита Тримбл в костюме «Гарем» на «Арабском маскараде» в отеле «Астор»
Нью-Йорк, 1928. Архив О. А. Хорошиловой
Постановка Мориса Жеста «Мекка»
Журнал Vogue (Paris), 1920.
Национальная библиотека Франции
Востоком наполнял свои коллекции Парижский паша. В 1922 году он создал нарядное платье, соединив несоединимое – элементы костюмов Великих Моголов, великих османов, интернациональной готики и французского фолка. Получилось ярко, но лаконично. Чувство меры ему не всегда изменяло. Для певицы Вашингтон-Стивенс кутюрье придумал концертное платье из черного шелка и золотной парчи – аккуратный парафраз китайского искусства, пропущенного сквозь фильтр югендстиля. Вообще, в те нервно эклектичные годы ориентальная тема, столь любимая Пуаре, звучала в его коллекциях чаще других. Многие вечерние платья 1924–1927 годов он создал на основе костюмов Ближнего и Среднего Востока, индийских мужских кафтанов и женских саронгов. Он соединял индейские головные уборы с пылающей короной Жар-птицы, чтобы получился клош «Звуки» (1920), а французский фовизм умножал на индийские вышивки, чтобы получились дивные туфельки «Бал» (1924). Он был настоящим восточным фокусником, этот парижанин Пуаре.
Эскизы костюмов Джеймса Рейнолдса для танцевального номера «Самовар», который с успехом исполнялся в бродвейском ревю «Гринвич Виллидж Фоллис». В костюмах, помимо русских, ощутимы кавказские и персидские ноты
Журнал Vogue (Paris), 1920.
Национальная библиотека Франции
Неодолимое влечение к Востоку испытывали многие звезды подиума. Жан Пату, такой лаконичный, спортивный, сдержанный, в 1923–1924 годах создал прогулочный костюм «Арабеск» в затейливых ближневосточных узорах, нарядный ансамбль «Кабул» и фантастически роскошное парчовое платье «Шахеразада». Восток звучит в коллекциях домов моды Premet, Dorat, Myrbor, Martial et Armand, Madeleine et Madeleine.
Реклама шляпки-«клош» с вуалеткой
Журнал Femina, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
В начале двадцатых вошли в моду вуали, имитировавшие чадру, а вернее, ту ее часть, которая закрывала голову и лицо женщин Востока. О них вспомнили не только потому, что увлекались ориентализмом. После войны косметическая промышленность восстанавливалась медленно, и то, что предлагали производители, могли позволить не все дамы. Газовые, батистовые, кружевные вуали стали прекрасным и дешевым выходом. Они скрывали морщины, мешки под глазами, нездоровую бледность лица и одновременно окутывали женщину пеленой загадок. Такие предлагали модельеры Сюзанна Тальбо, Жанна Ланвен, Мария Ги.
Модели в шляпах и вуалях в восточном стиле
Журнал Vogue (London), 1922. Архив О. А. Хорошиловой
Актриса Лотте Лоринг позирует в сатиновом платье и шляпке с вуалью
Журнал Die Dame, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Тюрбаны оказались тоже весьма кстати. Во-первых, они прекрасно гармонировали с индо-османскими вечерними туалетами, а, во-вторых, своей формой соответствовали моде на шляпки-«клоши» и широкие ленты-бандажи. Их заказывали у Поля Пуаре, Тальбо или обращались в демократичные ателье, к примеру G. Claux, предлагавшее «тюрбаны и некоторые другие идеи для практичной куафюры».
Тканями для псевдовосточных нарядов торговали дома Rodier, Bianchini-Ferier, Е. Meyer. В архивах до сих пор хранятся книги с образцами их баснословных текстилей. Это настоящие энциклопедии «колониальных» орнаментов и цветов.
Как восточный костюм немыслим без тканей, так и восточный образ незавершен без парфюма. Сладкие телесные «гаремные» запахи покупали у Пуаре – «Аладдин», «Китайская ночь», «Магараджа». Широкий ассортимент ароматов Ближнего и Дальнего Востока предлагала компания Babani – «Сайгон», «Даймо», «Цветы Аннама».
Реклама текстиля в восточном вкусе от компании Е. Меуег&Со
Середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама парфюмерии Babani
Журнал Femina, 1923.
Архив О. А. Хорошиловой
«Дикая» Россия
О ней Париж узнал в благословенном 1813 году. Она предстала перед ним в разухабистой казачьей суконномеховой форме. Многие тогда отметили первобытную живописную дикость «донцов-молодцов», вислоусых смуглых бородачей с пьяной искрой в черных глазах и звонкими золотыми сережками. Потом, конечно, с «дикой» Россией познакомились ближе – во время Восточной войны. Англичане и французы увезли с Крымского полуострова теплые вязаные балаклавы, вышитые блузы, странную смесь балканского и греческого стилей, и память о протяжных, за душу хватающих малоросских песнях. После Русско-турецкой войны, за которой следила, кажется, вся Европа, румынские, болгарские, карпатские народные мотивы проникли в искусство, музыку, интерьеры и костюм. В десятые годы «дикая» Русь ревела и грузно плясала под грозные медные трубы и барабаны Стравинского, Жар-птицей металась по сцене Гранд-опера, ослепляла желтым шелковым пламенем горячих половецких плясок. После окончания Первой мировой и Гражданской русский стиль вместе с тысячами эмигрантов покинул Родину, осел на чужбине и добавил «дикого» колорита в мозаичное панно двадцатых.
Бельгийская королева Елизавета (справа) в нарядном платье с вышивкой в русском стиле
Фототипия, 1923. Архив О. А. Хорошиловой
Русские дамы, с громкими фамилиями, ветвистыми родословными, хорошо образованные и почти не работавшие в чудесное расхоложенное имперское время, были прекрасными мастерицами. Рукоделию их обучали дома, в институтах благородных девиц и гимназиях. Они ловко вышивали крестом, бисером, плели кружева и сочиняли прелестные шляпки. И они превосходно объяснялись на иностранных языках, умели себя держать. И все эти навыки, то единственное, что осталось у них в наследство от потонувшей империи, русские дамы успешно использовали. Они открывали «увруары», кустарные мастерские, распределяя работы мастерицам на дом, возглавляли благотворительные пансионы, руководили швейными, кружевными, шляпными ателье. И все ими созданное выставляли на благотворительных аукционах или специализированных кустарных выставках. Неудивительно, что именно тогда, в 1921–1922 годах, коллекции большинства парижских домов моды наполнились восточноевропейскими мотивами. Стали весьма популярны прогулочные костюмы, дневные платья, пальто, нарядные блузки, расшитые «a’la russe».
Великая княжна Мария Павловна за работой в «Китмир»
Конец 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Многие из них действительно были русскими – их создавали эмигрантки, работавшие в доме вышивки «Китмир», который основала и возглавила великая княжна Мария Павловна, внучка Александра II. Фамилия, связи и яркий предпринимательский талант весьма помогли. В 1921 году через своего брата, великого князя Дмитрия, она познакомилась с Шанель и подписала с ней эксклюзивный договор. Это был первый шаг к признанию. «Успех вышивок превысил все мои ожидания, – вспоминала Мария Павловна, – я была полностью им поглощена. Но я определенно недооценила собственные силы и силы тех нескольких мастериц, которые составляли нашу студию вышивки. Заказы поступали без конца, и я не могла в срок исполнить их, так как нас было всего трое или четверо. Несколько недель мы работали почти без отдыха, в особенности я и моя свекровь (княгиня Софья Сергеевна Путятина. – О.Х)»[14].
Е. Шуматов.
Портрет великой княжны Марии Павловны
Фототипия, 1930. Архив О. А. Хорошиловой
Но трудности были преодолены, Мария Павловна набрала новых работниц, о «Китмире» заговорили в Париже, Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. В модных журналах появилась реклама, рисунки, фотографии моделей, положительные рецензии критиков. И лишь в 1928 году Мария Павловна вынуждена была продать свое дело, так как русские промыслы и вышивки почти уже не интересовали публику, уставшую от пестрой этнографии.
Впрочем, «Китмир» – лишь один из многих примеров успеха русских эмигрантов на поприще европейской моды и стиля. Хорошо продавались превосходные дневные и вечерние наряды от «Итеб», «Поль Каре», «Мария Новицкая», «Тао», «Арданс»[15]. Принадлежавший француженке «Мырбор» прославился своим сотрудничеством с русскими художниками, в частности Натальей Гончаровой.
Великая княжна Мария Павловна в блузе, вышитой в «Китмире»
2-я половина 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
В этом доме № 7 на улице Монтень располагался дом вышивки «Китмир»
Фотография О. А. Хорошиловой, 2014.
Королева Румынии с дочерьми в вышитых платьях в крестьянском стиле
1920-е годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Великая княжна Мария Павловна на борту лайнера «Париж», держащего курс на Нью-Йорк
1932 год. Архив О. А. Хорошиловой
Образцы вышивок, созданных в «Китмире»
1920-е годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Титульная страница воспоминаний великой княжны Марии Павловны с ее автографом
Нью-Йорк, 1931.
Архив О. А. Хорошиловой
Основательницы и хозяйки Дома моды «Тао», слева направо: княгиня Мария Сергеевна Трубецкая, княгиня Любовь Петровна Оболенская и Мария Митрофановна Анненкова
Париж, 2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама Дома моды «Итеб»
Журнал Vogue (Paris), 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Княгиня Ирина Александровна Юсупова в Нью-Йорке
Начало 1930-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Княгиня Ирина Александровна Юсупова в вечернем наряде от «Ирфе»
Париж, начало 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама модного Дома «Ирфе»
Журнал Vogue (Paris), 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Княгиня Ирина Александровна Юсупова
Конец 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Одним из самых популярных был Дом моды «Ирфе», основанный князем Феликсом Юсуповым и его красавицей женой, великой княжной Ириной Александровной. Было много заказов, много клиентов, и не последнюю роль в успехе сыграла личность Феликса. Первостепенные модницы Европы и Америки наведывались сюда, прежде всего, чтобы увидеть «того самого русского принца, убившего Распутина». Опьяненные его обаянием и русскими историями, они оставляли в «Ирфе» свои сердца и свои состояния.
Княгиня Ирина и князь Феликс Юсуповы
Начало 1930-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама модного Дома «Ирфе»
Благодаря русским эмигрантам в моду вошли меха, особенно в сочетании с шелками, вышиванки, шляпки-«кокошники» и пестрые платки в павловопосадском стиле, которые завязывали под подбородком «a’la babouchka», каракулевые токи, черкески, кникер-бокеры-шаровары. Поль Пуаре, влюбившийся в «дикую» Россию во время своего знаменательного турне 1911 года, сделал популярными «русские» сапожки, белые со многими складками.
Манекенщица Вера Ашби (Шумурун) в свадебном кокошнике работы Дома моды «Молино»
Париж, 1922.
Фонд А. А. Васильева
Манекенщица княгиня Мери Эрнстова, урожденная княжна Шервашидзе
Париж, 1929.
Фонд А. А. Васильева
И конечно, двадцатые немыслимы без русских манекенщиц и фотомоделей, обладавших тонкой акварельной красотой, которую так старательно формировали природа и генетика многие-многие столетия и которая теперь почти не встречается в России.
Джаз и «негро»
Африканская культура флиртовала с европейской модой задолго до Века Джаза. Алжир, куда так стремились французы еще во времена Бонапарта, подчинился им в 1830 году. В интерьерах и костюме стали актуальны североафриканские мотивы, орнаменты, вышивки. В честь зуавов, смуглых воинов, вставших под ружье французского монарха, назвали куртки и шаровары. Африкой бредили художники, гашишисты и поэты-символисты. Увлечение Древним Египтом, балет «Клеопатра» в сценографии Бакста, стремительное развитие пароходных компаний и ежегодные потоки туристов в Каир и Гизу упрочили присутствие Африки в «белой» культуре эпохи модерна.
Еще на заре стального века в Соединенных Штатах баловались блюзом. Продвинутые чикагцы легко отличали одну регтайм-тему от другой, кое-что слышали о Скотте Джоплине, местном чернокожем пианисте, очень эффектном. Но даже они мало знали о коренной джазовой культуре, о мощных новоорлеанской и чикагской школах, которые отсиживались в подполье до 1917 года.
Джаз, как многое другое в США, начался с рекламы. В феврале 1917 года компания Victor Talking Machine записала сочные вещи ансамбля The Original Dixieland Jazz Band. Пластинки разошлись вмиг. И неважно, что композиции были приглаженными и слишком стройными, неважно, что джаз-банд состоял из «белых» музыкантов. Главное было сделано – джаз сыгран, записан, раскуплен. В новый, обещающий стать прибыльным, бизнес включились другие компании. Отличную рекламу негритянской музыкальной культуре сделала Okeh Records – раскрутила «коренных» исполнителей, в том числе неподражаемую Меми Смит, познакомила американцев с лучшими подпольными хитами ударных чернокожих джаз-бандов и доказала всему прогрессивному человечеству, что блюз – это веселая музыка. Знаменитый рекламный призыв – «Хочешь быть счастливым, покупай блюз» – стал главным слоганом Века Джаза.
Издатели звукозаписывающих компаний быстрее других почувствовали приближение перемен. «Белое» общество желало веселиться. Его либеральная часть плевала на традиции и светские правила, такие старомодные, такие нелепые в новом послевоенном мире. К черту границы, к черту различия. Пусть белое смешается с черным. Да здравствует хаос, да здравствует новый мир и новый человек! Люди, вновь родившиеся в 1919 году, были эмпириками. Ни во что не верили. Познавали мир на ощупь, кожей, устами, телом, чувствительными подушечками пальцев. Им было всё разрешено. Запреты и условности остались в 1914 году. Им хотелось хорошей клубной встряски после встряски траншейной. И джаз им помог. В нем было столько природного, хтонического, сексуального буйства, и в нем был блюз – извечная непонятная душевная тоска, равнозвучная «белому» послевоенному сплину. Он был сложным, противоречивым, черно-белым – джаз был таким же, как двадцатые годы.
Это было время Меми Смит, Перри Бредфорда, Луи Армстронга, Кида Ори, Джо «Кинга» Оливера. Это была эпоха звукозаписывающих компаний, радиостанций, дансингов и ярких музыкально-танцевальных ревю.
Если джаз официально появился на свет в 1917 году, то годом рождения негритянских джазовых шоу принято считать 1920-й, а местом – Филадельфию. Там произошла судьбоносная встреча четырех афроамериканских парней – композитора Нобла Сиссла, пианиста Юби Блейка, артиста Флурноя Миллера и либреттиста Обри Лайлса. Они присутствовали на заседаниях Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и, явно увлеченные идеей продвижения афроамериканской культуры, задумали некое театрально-музыкальное шоу в бродвейском духе с забавной историей и крепкими джазовыми хитами. Средства на постановку с трудом, но выискали, и в мае 1921 года мюзикл «Shuffle Along» был впервые представлен на сцене нью-йоркского театра Daly’s, что на 63-й улице. Публике понравилось всё – костюмы и гримасы, негры, вымазанные для убедительности черной краской, варварская пляска с резкими выпадами и пьяным шатанием, песни с откровенно сексуальным контекстом и хор шестнадцатилетних «крошек» в атласных фраках и цилиндрах. Раззадоренные пунцовые зрители покидали театр, как задумали авторы – напевая запомнившиеся мелодии. И вскоре им захотелось сюда еще.
Композитор Нобл Сиссл
1950-е годы.
Библиотека Конгресса (Вашингтон), номер: LC-USZ62-131764
То, что происходило вблизи театра Daly’s за полчаса до шоу, журналисты называли «пробками начала спектакля». Сюда, на 63-ю улицу, в хромированных глянцевитых без устали гудящих автомобилях, отражающих бег неоновой рекламы, стремился весь фешенебельный Нью-Йорк, в том числе богатые продюсеры, охотившиеся за талантливыми безымянными актерами. «Shuffle Along» превратился в компактную фабрику бродвейских звезд. В нем дебютировали Джозефина Бейкер, Аделаида Холл и Пол Робсон, главные шоумены джазовых двадцатых.
Нобл Сиссл и Юби Блейк времени не теряли. В 1924 году сочинили новый хит – мюзикл «Chocolate Dandies». Тогда же прогремели другие афроамериканские постановки – «Honey», «Runnin’ Wild» и «Dover Street to Dixie». В 1925 году в парижском Театре на Елисейских Полях впервые давали мюзикл «Revue negre», кульминацией которого стали дикие пляски почти обнаженной Джозефины Бейкер. Всеобщее экстатическое увлечение новыми негритянскими ритмами, наконец-то обретшими свободу после стольких лет подполья, повлияло на колорит и стилистику клубов, в которых звучал разухабистый, порой грубоватый, но родной, настоящий негритянский джаз.
И лучшие клубы находились в Нью-Йорке.
Жирно отмеченные на его глянцевых night life картах, они роились красными точками у Гарлема и южнее – у Верхнего Ист-Сайда, Центрального парка, возле престижных западных пятидесятых улиц. Самые крутые (американцы именовали их tough clubs) были закрытыми. Туда попадали по специальным пригласительным или через знакомых – по рекомендациям. Отправлялись в эти заведения, как стемнеет, в закрытых авто, в полном молчании, будто ехали грабить банк. Машины вместе с водителями предусмотрительно оставляли на соседних улицах, чтобы не привлекать внимания полисменов, и, достучав каблучками до нужного дома, тихонько скреблись в дверь (а иногда выстукивали условленный ритм), шмыгали в тусклый предбанник, закамуфлированный под табачную или книжную лавку. Там ждал вышибала – громадный цветной с выпученными от страха или собственной значительности глазами, которыми несколько раз без стеснения проводил по гостям, хорошенько сканируя. «Пальто и шляпы сюда», – командовал он. Разоблачились. «Платим за вход». Заплатили. «Следуйте за ним», – вышибала указывал на юркого улыбчивого негритенка-проводника. Сначала вниз по узкому сырому коридору, чуть не задевая макушкой единственную унылую лампочку, вверченную в потолок. Потом вперед до маслистой облапанной портьеры, за ней – нелегальный бар, эдакое чистилище. Смутное, вонючее, душное. Здесь очищали кошельки гостей и хорошенько «чистили» их на предмет неблагонадежности. «Кругом все тряслось, – вспоминала Лоис Лонг, – раздавались чьи-то крики, потолок и стены вибрировали от музыки, доносившейся откуда-то сверху, и ей в такт вибрировали наши стаканы, наполненные черт знает чем»[16].
Не сказать, что в баре было приятно – испачканные стены, заплеванный липкий пол в ошметках еды и бумаги, густо обсаженные невесть откуда взявшимися насекомыми картонные абажуры над облитыми пойлом столами и крайне недружелюбные чернокожие бармены, зыркавшие на гостей, бросавшие им рюмки с напитками и бесстыдно обманывавшие со сдачей. Но таковы правила чистилища – заказывай невозможный алкоголь, делай вид, что пьешь, и молчи. Только так можно было попасть выше – в клуб.
Реклама негритянских джазовых ансамблей
Журнал Vogue (Paris), 1926.
Национальная библиотека Франции
Рекламная листовка мюзикла «Runnin’ Wild»
Середина 1920-х годов. Частная коллекция
Немой кивок менеджера мальчишке-проводнику означал, что нужно встать и двигаться вверх по дрянной липкой лестнице. Зал, куда попадали гости, был на удивление маленьким – груда столиков с одной стороны, сценка – с другой, посередине тесный танцпол, какие-то комнатки по бокам, отделенные драпировками, пара-тройка прожекторов и полное отсутствие окон и кислорода. Всюду люд – дамочки в платьях и дамочки в брюках, юркие девочки в чем-то жемчужном, вальяжные толстяки в жарких тройках, тихо оплывающие в кожаных креслах, какие-то гангстеры во влажных рубашках и почему-то в шляпах нервно покусывают сигары и громко шлепают танцующих мимо негритянок, снуют туда-сюда чернокожие в майках, вкусно лоснятся от духоты и щедрых чаевых. Гогот, визг, пот и грудные звуки животного удовольствия висят в тяжелом воздухе, и хлопковый сутаж сигаретных дымков прошивает плотный воздух, словно ватное одеяло.
Девушка в круговороте джазовой ночи
Рисунок из журнала Femina, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
На джазовой вечеринке
Рисунок из журнала Vogue (London), 1922.
Архив О. А. Хорошиловой
Вдруг какое-то оживление, стаканы зазвучали веселее, общий одобрительный гул – откуда-то сбоку, из-за плотной пелены дыма появляется белое пятно, еще одно и еще, и ловко минуя столики, с короткими остановками, плывут к сцене. Осветитель, уже порядочно обмякший, как-то неуверенно навел прожектора в место белесой туманности. И лишь тогда все ясно увидели чернокожих джазменов в белых тройках и белых ботинках. Быстро по привычке расселись, приободрились шуткой. Концерт начался. Впрочем, он мало напоминал те фешенебельные, в оперном золоте и бархате, в цветных электрических лучах, тихие тактичные концерты, которыми славились «Ритц-Карлтон», дансинг «Роузленд», театр «Либерти». Здесь истошно били цимбалы, зверино ревел саксофон и вспотевший трубач, вытирая бритую голову и золотой раструб, вдруг вставал и пел, пел и рыдал, и снова вытирал лицо, и его сценический плач вновь накрывала золотая волна горячего африканского джаза. Публика ревела вместе с оркестром, и клубная полутьма оживала и хаотично двигала буграми влажных склеенных тел. Иногда звучали выстрелы, означавшие, что кто-то ошибся партнершей. Попадали редко. Пули впечатывались в стены клуба свинцовыми знаками качества – значит, здесь все свои и вечер вполне удался. Потом как-то добирались до авто, бросали последние доллары всегда трезвому умнице-провожатому и тряслись на заднем сиденье, полностью доверившись всё понимающему водителю. И так постигали джаз.
Подобных закрытых клубов было немало. В Нью-Йорке самым модным считался Cotton Club, которым владел известный гангстер Оуни Медден. Там выступал Дюк Эллингтон. Чикагские тусовщики шумно и пьяно проводили время в Sunset Cafe, принадлежавшем Аль Капоне. Там иногда играл Луи Армстронг.
Ни одна модная вечеринка не обходилась без чернокожего исполнителя. Лондонские антрепренеры боролись за Лесли Хатчинсона, «Хатча», звезду кабаре, которому посвящали свои капиталы и свои сердца первые бледнолицые аристократки Британии – Таллула Бенкхед и Эдвина Маунтбаттен. Парижские владельцы кабаре переманивали щедрыми гонорарами джазмена Генри Кроудера, а красавицы свободного Левого берега пытались переманить его у Нэнси Кунард, но, кажется, безуспешно.
Интерес к джазу подогревали не только кабаре и клубы. Более пятисот радиостанций по всем Соединенным Штатам транслировали хиты и новые оркестровые записи. Когда не могли пригласить джазменов, просто включали приемники и танцевали под скрипы и шорохи блюзовых радиоволн. И танцевали особенно – по-джазовому.
Дороти Себастиан, Джоан Кроуфорд и Анита Пейдж исполняют горячий джазовый танец
Конец 1920-х годов.
Частная коллекция
Ломаные ритмы и необычный для традиционной «белой» музыки свинг дали начало данс-культуре, азы которой фанаты джаза постигали в специальных школах или на вечеринках.
Джаз овладевает Парижем
Карикатура из журнала Femina,
1927. Архив О. А. Хорошиловой
Генри Кроудер. На его плечах видны руки с африканскими браслетами, принадлежащие Нэнси Кунард
Конец 1920-х годов.
Центр Жоржа Помпиду (Париж)
В 1925 году все вдруг заболели чарльстоном, забавным и очень сексуальным, скопированным с подвижных негритянских старлеток из мюзиклов. Танец назвали в честь города Южной Каролины и одноименной песни, звучавшей в «Runnin’ Wild». Вечеринки обычно начинались с «плоского» чарльстона – коленки вместе, коленки врозь, ногу вправо, а потом влево. В общем, как в старшем классе элитной школы. Основательно подзарядившись коктейлями, переходили ко второй его части, сочиненной, кажется, специально для алкоголически бодрого состояния. Ограничений не было. Девушки вольно разбрасывали ноги, бешено крутили руками, закидывали стриженую голову и содрогались всем телом, красиво взбивая бисер и бахрому короткого джазового платья. Мужчины, особенно во фраках, выглядели рядом с этими «джазовыми крошками» чопорными директорами консерваторий.
В 1926–1927 годах в моду ворвался парный блэк-боттом, название которого официально переводят как «черное дно». Но bottom на клубном сленге тех лет означал седалище человека, а в совокупности с цветом становился дружеским эвфемизмом, означавшим афроамериканца. Танец обыкновенно исполнялся парами и напоминал чарльстон, хотя дамы чаще и активнее крутили бедрами и разбрасывались бахромой платьев. Но блэк-боттом не выходил за рамки светского приличия. Острые геометрические движения – шаг вправо, притоп, шаг влево, назад и снова вперед – напоминали танец двух хорошо смазанных ножниц.
Модель демонстрирует ослепительное вечерне-танцевальное платье
Журнал Femina, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Мадам Безансон-Вагнер в джазовом платье от Дома моды Drecoll
Журнал Femina, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Модель в ансамбле для безумных джазовых вечеринок
Журнал Femina, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Стилем «негро» и джазом, кажется, бредили все – продюсеры, интеллектуалы, звезды кино, журналисты, политики, художники и любители прекрасного. В 1922 году в Париже прошла выставка французского колониального искусства, и зрители увидели, многие впервые, маски, текстили, скульптуру, утварь африканских племен. Коллекционеры и арт-дилеры зачитывались книгой Карла Эйнштейна «Негритянская пластика», вышедшей в 1915 году и ставшей хитом в двадцатые. В Европе и США складывались крупные собрания африканского искусства. Интерьеры режиссировали в стиле «афро»…
Джазомания проникла в костюм. Кутюрье, не сговариваясь, одновременно усекли низ платьев, отхватили рукава, рассекли декольте, словом, сделали одежду максимально удобной для ночных экстатических плясок. В 1925–1926 годах, когда африканская культура наполнила клубы, дансинги, светские журналы и головы тех, кто их читал, вечерние наряды резко сократились. Они обнажали больше, чем скрывали. И производителям нижнего белья не оставалось ничего другого, как подчиниться. Сорочки теперь шили из более тонких тканей и ровно такими, чтобы даже в алкоголических припадках чарльстона их не было видно.
Иллюстрация, объясняющая, как танцевать блэк-боттом
Журнал Vogue (Paris), 1927. Национальная библиотека Франции
Уже в 1923 году обозреватели моды четко разделяли платья на вечерние и вечерне-танцевальные. Первые шили длинными, с драпировками и царственными тренами и всей сопутствующей елочной мишурой, вторые, легкие и полуприлегающие, обыкновенно не имели рукавов, отличались смелым декольте, ловко закамуфлированным тюлем телесного цвета, и держались на бретельках и честном слове девушек не обнажаться окончательно. Низ платьев редко опускался ниже колен и чаще их не достигал. Для большего удобства (чарльстон и блэк-боттом требовали максимального раскрепощения) юбки шили с плиссировками, которые позволяли женщинам молодецки закидывать ноги и даже давать ими отпор слишком прилипчивым джентльменам.
Модницам хотелось быть видными даже в дымной смутной сутолоке ночных клубов. И они заблистали бисером, стразами, фальшивыми жемчужинами, металлизированными тканями, ярко и остро отзывавшимися на свет прожекторов. И если девушки гибко и легко исполняли сложнейшие трюки негритянского танца, они становились королевами вечеринки, ГойнингенТюне и Ребиндер снимали их для светской хроники. А потом «джазовые крошки» выискивали свои личики в фотоотчетах модных журналов и визжали от восторга узнавания. Так делают и сейчас. Все-таки мы очень похожи на людей двадцатых.
Резкие и резвые танцы, выпады, прыжки, верчение бедрами удавались женщинам в платьях с длинной бахромой, шелковой или бисерной. Получалось эффектно – туфельки барабанят ломаный ритм, руки летят в одну сторону, бахрома в другую, сверкают коленки, бусы, глаза, и всё быстро хаотично вертится. Некоторые афроманки, насмотревшись книг о негритянской культуре и ревю о Гарлеме, являлись в дансинги одетыми в платья со страусовыми перьями. И если они правильно трясли бедрами, так, как это делала Джозефина Бейкер, то преображались в жриц вуду и такими производили приятное впечатление на белое, но изрядно раскрасневшееся общество, возбужденное напитками и этими «непристойными» танцами.
Юная тусовщица Элис Моррис в танцевальном вечернем платье
Нью-Йорк, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Джазовое платье, расшитое стеклярусом и пайетками
1927 год. Национальная галерея Виктории
Платье, вышитое стеклярусом и бисером
1927 год. Частная коллекция. Фотография с сайта: materialcultures.com
Джазовое платье из коллекции Бетти Колкер
2-я половина 1920-х годов.
Музей искусства в Цинциннати (США)
Реклама крема для депиляции Dr. Mylius
Журнал Die Dame, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Укоротившиеся юбки и джазовые танцы требовали максимально ухоженных ног, которые с таким удовольствием разглядывали мужчины в клубах. Производители предложили женщинам быстрый способ избавления от волос – электрические эпиляторы. Один из них рекламирует Бетти Андерсон (справа) на косметическом шоу в Нью-Йорке
1926 год. Архив О. А. Хорошиловой
Модница в танцевальном платье
Середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Джаз и стиль «негро» повлияли на текстиль. В моду вошли пестрые ромбы, овалы, треугольники, спирали, то есть вся та исконная геометрия, которой славились национальные африканские ткани. Синкопированный ритм переводили в ломаные авангардные линии художники Рауль Дюфи и Соня Делоне. А джазовый свинг пытались изображать дизайнеры рекламы. Лучший пример – свингующий на страницах журналов Дом моды Люсьена Лелонга. Популярность Африки вывела на подиум диких зверей и дикие шкуры. Многие, к примеру Джози Бейкер и маркиза Казати, обзавелись пантерами, оцелотами и прыгучими обезьянками. Самыми модными стали шубы из шкур тигров, львов, зебр и леопардов, которые предлагала среди прочих меховая компания Н. D. Porter & Cie. Звезды Бродвея и Голливуда предпочитали автомобильные пальто из кожи рептилий от Alpina.
Шкуры диких, в том числе африканских, животных предлагала компания Н. G. Porter
Реклама из журнала Vogue (Paris), 1927.
Национальная библиотека Франции
Реклама Дома моды Люсьена Лелонга в свингующем стиле
Журнал Vogue (Paris), 1926. Национальная библиотека Франции
Реклама компании Alpina, поставлявшей кожу рептилий
1926 год. Архив О. А. Хорошиловой
Джазовые туфли 1920-е годы.
Коллекция Музея Виктории и Альберта: vam.ac.uk
Появились джазовые туфли – на приземистом каблуке и с обязательными перепонками, благодаря которым они не спадали с ног во время танцев. Все стремились обзавестись украшениями в африканском стиле – громоздкими звонкими браслетами (моду на которые начала Нэнси Кунард), тяжелыми круглыми или треугольными серьгами, которые предлагала компания Cartier.
Певица и танцовщица Шугар Марсель в манто из шкуры леопарда
Нью-Йорк, конец 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Глава 5 Спорт и мода
Мир устал сидеть в окопах. Пять лет одно и то же. Стылая скользкая жижа под ногами, дождь, визжащие комья крыс, кислый запах прелых шинелей, бесконечные ломаные коридоры серых траншей из кошмаров Отто Дикса.
Джон Хеннесси на Уимблдонском турнире 1925 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Черствый дерн, мертвые поля, ядовитый туман, исцарапанный стальной проволокой, и постоянные, ежедневные, ежеминутные обстрелы, надсадный вой шрапнелей, разрывы, вопли, стон, брань, ужас. Целых пять лет. Без перемен. На Западном фронте. Весной 1919 года началось, как пишут историки, возвращение к мирному сосуществованию. Это означало восторженную суматоху, хмельное головокружение, безудержное вселенское веселье в искрах, цветах и конфетти, которые щедро разбрасывала новая, мирная жизнь, увлекавшая победителей в еще более радостное, беззаботное будущее, в серебро и роскошь двадцатых.
Весенне-летние ансамбли для средиземноморских курортов
Журнал Femina, 1927.
Архив О. А. Хорошиловой
После пяти окопных лет всем как-то сразу захотелось путешествовать, глазеть на фасады мира, устав от его трепаной мундирной подкладки, дразнить мускулы, испытывать жилы, проверять свои чувства на прочность, ведь кругом было столько красоты, что легко сойти с ума.
Дальние расстояния не пугали, карты покупали самые точные. Составляли маршруты вместе с услужливыми туроператорами. И ехали, ничего не боясь, почти не ощущая границы между штатами и землями, легко перемахивая через горы, озера, моря. И даже Атлантика не казалась преградой – ее пересекали на цеппелиновых дирижаблях и великолепных черно-белых лайнерах, напоминавших расфранченных министров Его Величества.
Путешественники двадцатых могли дать фору кабинетным ученым. Они знали, когда ждать муссонов в Индокитае, как звучат древние ледники Гриндельвальда, умели забраться в заснувший вулкан Аризоны и отлично выкупаться в тропическом водопаде. Они помнили все до одной баркаролы сицилийских матросов, могли живо описать цветение сакуры в изумрудно-мшистом Киото и сочно пересказывали уморительный торг с беззубым шоколадным бербером, продавцом сомнительных перстней фараона.
Двадцатые были веком не только сверхскоростей, но и сверхчеловеков. Спорт стал необходимостью. Тело опускали в сероводородные кадки и подставляли испепеляющему солнцу, трясли на электрических тренажерах и взбивали на боксерских рингах, растягивали в гимнастических залах, подбрасывали на батутах, скручивали, выгибали, мучили массажами. Супергерой Великой войны был одет в стальные латы. Супермен двадцатых имел стальную мускулатуру. И лучше держал удар. Словно бы его готовили не к матчам и дансингам, а к новой военной сверхагрессии…
Прогулки и путешествия
Врачи советовали больше гулять на свежем воздухе, за городом и подальше – на спокойных европейских курортах. Их наставления публиковали светские журналы вперемежку с рекламой оздоровительных комплексов в Тукете, Довиле, Биаррице, Женеве, Бад-Гастайне и сопровождали подробными рисунками нарядов для неспешных, но долгих променадов.
Летом – легкие светлые платья, простые и с волнами драпировок, блузы и юбки, светлые кашемировые с затейливой вышивкой жакеты с отложным воротником и удобными карманами, шляпы-сомбреро или шляпы-«клош». К этому комплекту художники добавляли обычно три-четыре варианта косыночек с марокканским узором, перчатки, мягкие туфли и ботиночки, скопированные с мужских «Оксфордов».
Весенне-летние ансамблидля средиземноморских курортов
Журнал Femina, 1927.
Архив О. А. Хорошиловой
Для осени рекомендовали удобные и простые вещи из шерсти – удлиненные жакеты, юбки, кардиганы с меховой горжеткой, манто, каучуковые макинтоши и габардиновые «непромокайки» от Burberry, перчатки и массивные трости, моду на которые еще в начале двадцатых ввели маркиза Казати и герцогиня Сфорца. Зимой на курорты отправлялись в драповых манто на меху, каракульчовых шубках или широких пальто из шотландского пледа.
Плащи-непромокайки
Каталог Au Bon Marche, 1920–1921 годы. Архив О. А. Хорошиловой
Актриса немого кино русская эмигрантка Наталья Кованько в демисезонном наряде для путешествий
Калифорния, 1926.
Архив О. А. Хорошиловой
Hermès и Louis Vouitton предлагали разнообразные аксессуары – от маленьких сумочек-конвертов до саквояжей. Они же были главными поставщиками кофров и чемоданов для дальних вояжей.
Американские дети на капоте семейного авто
1927 год. Архив О. А. Хорошиловой
Любительницы больших скоростей перед «фордом»
Середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Даже самые дорогие автомобили часто ломались
2-я половина 1920-х годов. Библиотека Конгресса (Вашингтон),
номер: LC-DIG-ggbain-33505
Автомобили
В американских и европейских семейных альбомах, почти во всех, есть такие снимки – разомлевшие от солнца, достатка и счастья дамы и господа сидят на подножке дородного олдтаймера, дети на крыльцах, собака в окне. Автомобиль был предметом одушевленным, практически членом семьи, его без устали мыли, полировали, лелеяли, бесконечно ремонтировали – он часто капризничал и ломался. И с ним, возле него, в нем любили фотографироваться.
Реклама модели «Скиф-торпедо» компании Анри Лабурдета
Середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама марки «Опель»
1926 год. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама марки «Рено»
1926 год. Архив О. А. Хорошиловой
Писатель и светская львица Анна Мария Шварценбах за рулем авто
Конец 1920-х годов. flickr.com
В модных журналах часто публиковали рисунки дам, ездящих и чинящих автомобили. Мужчины, однако, считали их карикатурами
Журнал Femina, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Позирование на подножке авто – пожалуй, самый удобный вид его эксплуатации. Машина сложно поддавалась дрессировке, часто не слушалась руля, разбивала вдребезги дороги, саквояжи и нервы шоферов. В 1927 году правительство Соединенных Штатов внедрило новую программу реконструкции трасс. Их укрепили и расширили. Теперь ездить стало не так опасно, количество аварий уменьшилось. Но неудобства оставались.
Реклама марки «Виллис-Найт»
1928 год. flickr.com
Вуали и шляпкидля автомобильных прогулок
Журнал La Mode Illustree, 1923. Архив О. А. Хорошиловой
Женщины обожали авто. Наверное, больше мужчин. Ведь оно было символом двойного освобождения – от условностей географических и половых. Крепко давя носочком туфельки на газ, а каблучком – на присмиревшего мужа, дама лихо вела свою жизнь по отлично асфальтированному идеально ровному шоссе своей мечты навстречу золотому рассвету новой эры, и в его забрезживших лучах отлично читалось: «Покупайте Renault Sport – быстрее аэроплана!»
К примеру, до конца двадцатых большинство авто имели тканевый откидной верх, который не спасал от ливней, холода и дикой жары Дикого Запада. Однако инженеры придумали специальные грелки для ног и охладители воздуха, что сделало путешествие комфортнее. С багажом тоже было непросто. Его крепили сзади к полочке каучуковыми стропами или складывали в специальный отсек. Но от любого сильного толчка багаж неистово прыгал, издавая мучительные высокие ноты бьющегося стекла, а иногда отстегивался и валился на дорогу.
Но всё было нипочем. Скромный потрепанный «Форд Т» и роскошный лазоревый «паккард» давали ни с чем не сравнимое чувство свободы, которую так высоко ценили, особенно в Америке. Нью-йоркские «светские цыгане», великие гэтсби и другие тусовщики рычащей толпой мчали на Род-Айленд, жители Запада с удовольствием вертелись по серпантину океанского побережья, а парижские «шофёз» (так называли фанатичных дам за рулем) мчали в Канны и Монако, прожигали бензин и жизнь.
Женщина влияла на оформление и «начинку» автомобилей. Стальные корпуса преобразились: вместо скучного мужского черного – практически весь спектр оттенков. Авто подбирали под цвет модной помады или резинового редингота или недавно купленного авангардного пальто. Учитывали и то, куда едет дама: «Для поездки по городу нет ничего более подходящего темной окраски, – комментировал французский Vogue, – синий прусский, синий королевский, глубокий зеленый, темно-коричневый… За город лучше всего отправиться в авто природных оттенков: светло-зеленом, желтом, маисовом, древесного цвета и так далее»[17]. Тем, кому хотелось выделиться во что бы то ни стало, предлагали «бугатти» и «ситроен» в пестрых ромбах, квадратах и молниях – эксклюзивные образцы по проектам модельера Сони Делоне.
Костюмы для авто
Журнал Vogue (Paris), 1918. Архив О. А. Хорошиловой
Обивка – с ней нельзя было ошибиться. Интерьеры авто для путешествий затягивали добротной кожей, лучше свиной. Городские машины обивали изнутри дорогим шелком теплых оттенков, чтобы капризная шофёз чувствовала себя как дома. Дизайнеры той поры вообще стремились превратить авто в будуар на колесах. Здесь было всё для красивой светской жизни – модный клуб для одной, максимум двоих. Небольшой выдвижной бар с ловкими хрустальными бокалами для шампанского, ликеров и коньяков, отделение для канапе и льда, милые рожки для цветов, ящички для парфюмерии, которой дамы пытались перебить пролетарский запах солярки, место для перчаток, платков, записной книжки и почтовых открыток, электрической зажигалки, дорожных карт, шляпок, грелки для ног, а также «милые тайники, занимающие почетное место в будуаре хорошенькой парижанки». Самыми вместительными считались в первой половине двадцатых американские авто, к примеру, компаний National, Reo, Apperson, Cole. Удобными, вместительными и относительно безопасными багажными отделениями славились машины La Fayette.
Журналы настоятельно рекомендовали не жалеть средств и вещей, чтобы произвести надлежащий эффект на светское общество, особенно если машина была открытой. Зимой дамы надевали шубы и меховые манто, чтобы не промерзнуть. Осенью предпочитали наряды из плотного английского твида, драпа, сукна. Весной – легкие жакеты и накидки, теплые блейзеры, плащи из габардина. Летом – что-то нежаркое, из льна, хлопка, фланели.
Почти в каждом номере Vogue публиковали подробные описания тех костюмов, в которых были замечены аристократки и старлетки за рулем своих «рено», «паккардов» и «хорьхов». Мисс Эльси де Вульф видели в элегантном черном шевиотовом пальто, отороченном мехом, мадам Гонзалес Морено – в светло-сером полушубке из дивной каракульчи, герцогиню Валломброзу – в черном драповом манто с отделкой из белки.
Самым главным атрибутом «шофёз» были вещи из кожи и каучука, перекочевавшие в их богатый гардероб из цейхгаузов военных шоферов Великой войны. Носили плащи типа «макинтош», однобортные или двубортные, с ремнями и отлетными кокетками, и высокими воротниками, защищавшими от неизбежного ветра, любили также кожаные и каучуковые жакеты чуть ниже бедер и юбки до середины щиколотки (иногда вместо них носили кожаные или шерстяные бриджи). И конечно, к такому наряду полагались аксессуары – перчатки с крагами а-ля мушкетер, шарфы из меха, трикотажа или кожи, а также короткие горжеты, застегивавшиеся на шее кнопками или булавкой, автомобильные шлемы с массивными очками, каскетки, береты или шляпки с вуалеткой, которые прекрасно удавались Hermès и Сюзанне Тальбо.
Реклама женского костюма для автомобиля от Deux Claudine
Журнал Уogue (Paris), 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама мыла Kaloderma, которое рекомендовалось использовать любителям езды в открытых авто
Журнал Die Dame, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Путешествия в авто были настолько популярны, что некоторые модели повседневных костюмов даже получили названия известных марок машин. К примеру, дом Aviotty в 1923 году представил пальто «Fiat» из плотной шерсти с лаконичным геометрическим орнаментом.
Автомобили не только повлияли на моду. Они изменили нравы. Сознательные девушки-эмансипе получали водительские права и становились таксистами, одевались по-мужски, но вели машины аккуратно и почти не матерились. Флапперы, особенно американские, облюбовали задние сиденья, на которых, словно в кинотеатре, неистово целовались с парнями. Back seat (заднее сиденье) стало одним из символов культуры двадцатых, таким же, как и подножка автомобиля для семейного фото в альбом.
Певица Ханна Вальска (слева) и баронесса Фредерикс в кожаных манто для прогулок в автомобиле
1928 год. Архив О. А. Хорошиловой
Муаммер Ханим, первая турецкая женщина-таксист. Она одевалась по-мужски и водила «форд» в центральной части Стамбула.
На втором плане снимка отчетливо видна мечеть Айя-София
1930 год. Архив О. А. Хорошиловой
Самолеты
Этот вид туризма только набирал обороты. Еще боялись летать. Аппараты еще были примитивны. Но всем мечталось о поднебесье. Всем хотелось гигантских трансатлантических перелетов – и кругленьким туроператорам, и профессиональным пилотам с молодецкими квадратными подбородками, и дамам-эмансипе, стремившимся поскорее променять свои шестицилиндровые «бентли» и «рено» на ревущих трехмоторных монстров.
«Современные женщины бьются не только за миллионеров, но и за молодых красавцев пилотов», – сообщал Vogue. Пилоты действительно были в моде. В газетах – портреты красавчика с арктическими глазами Чарльза Линдберга, впервые пересекшего Атлантику, лейтенанта Джеймса Дулиттла, совершившего отчаянный континентальный перелет за 24 часа, улыбчивого француза Жана Мермоза, парившего над тихой сиреневой ночью Южной Америки. В модных журналах публиковали снимки женщин-пилотов – Амелии Эрхарт, совершившей трансатлантический перелет в 1928 году, русской эмигрантки Любови Галанчиковой, замечательно управлявшей трехмоторным «Фоккером», красавицы Рут Элдер, тщетно пытавшейся в 1927 году перелететь Атлантику, первой женщины-пилота Турции Сабихи Гёкчен. Тогда много писали и о любителях – отчаянной семейной паре виконтов де Сибур, облетевших вокруг света за десять месяцев, эксцентричной шестидесятилетней герцогине Бедфордской, начавшей заниматься авиаспортом, чтобы избавиться от утомительного звона в ушах.
Успехи и даже трагические случаи волновали воображение, возбуждали пересуды и провоцировали тенденции в моде. Профессиональные костюмы пилотов, сформировавшиеся еще в период Великой войны, появлялись на страницах Vogue и других изданий редко – авиаторов среди читательниц почти не было. Но много писали о костюмах для пассажиров, путешествующих, скажем, из Парижа в Лондон по воздуху. Самыми популярными были шерстяные теплые двойки – жакеты и юбки (или бриджи), поверх которых рекомендовалось надевать специальный авиационный плащ или манто из прорезиненного кашемира. Были и варианты, сродни автомобильным – длинные кожаные или каучуковые куртки с пухлыми карманами и ремнем, галифе с кожаными гетрами. Неизменные аксессуары – авиационный шлем с очками, плотные перчатки с раструбами и компактные геометрические саквояжи для всего самого необходимого. Эти костюмы предлагали многие известные кутюрье – Поль Пуаре, Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, Жан Пату.
Женщина-пилот Амелия Эрхарт
Конец 1920-х годов. Смитсоновский музей авиации и космонавтики (Вашингтон)
Авиатор Чарльз
Линдберг Фотооткрытка, flickr.com
Но даже те, кто не летал, хотели быть немного авиаторами. В середине двадцатых многие щеголихи обзавелись аккуратной шляпкой, напоминавшей головной убор пилотов, с пришитым воротничком, собиравшимся на две вздержки. Благодаря этой придумке, шея оставалась в тепле. В прорезиненных шлемах и двубортных плащах песочного оттенка, очень эффектных, не только тряслись над Марной и Энфилдом, но и красиво вели престижные авто. В тот период авиация определяла порог скоростей и в технике, и в моде.
Женщина-пилот Матильда Муассан
1920-е годы. Смитсоновский музей авиации и космонавтики (Вашингтон)
Реклама текстиля Lessur для спорта
Журнал Femina, 1928. Архив О. А. Хорошиловой
Сабиха Гёкчен, первая турецкая женщина-летчик
Фооткрытка, начало 1930-х годов.
Архив женской библиотеки и информационного центра (Стамбул)
Американский пилот-любитель Джек Фанчер в авиационном костюме
Нью-Йорк, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Верховая езда и охота
Эмансипация женщин началась с широко расставленных ног. Раньше, до Великой войны, им строго-настрого запрещали так стоять и так ходить. Только шажочек к шажочку, только семенящей походкой, приятно покачивая ватными бедрами. Поль Пуаре, до комичного консервативный в вопросах пола, изобрел модные кандалы – «хромые» юбки приличия. Хотел удержать ускоряющихся женщин. Не вышло. Мужчины отправились на фронт, и женщины быстро разучились семенить. Сбросили атласные воронки, надели укороченные юбки-колокольцы. В рабочих мешковатых брюках они маршировали на заводы, вставали к станкам. И на лошадях сидели по-мужски – в бриджах, крагах и сапогах. Одной из первых такую эмансипированную манеру опробовала Шанель. В мужской сорочке с галстуком, галифе и гетрах, она легко правила жеребцом горячих кровей и одновременно его хозяином – Бальсаном, жеребцом кровей голубых. Сидеть так, расставив ноги, было гораздо удобнее и безопаснее. Это понимали мужчины, хоть и не показывали вида. Оливковые бриджи с широкими «ушами» и теснейшими трубочками застежек тогда, в 1916–1918 годах, примерили многие аристократки, художницы, демимонденки и прочие эмансипе, восхищенные новым, окопным стилем. В них гуляли, путешествовали, даже водили авто, но ездить верхом отваживались единицы.
Модель демонстрирует костюм для верховой езды, основанный на аналогичном мужском
Журнал Vogue (Paris), 1926.
Архив О. А. Хорошиловой
Лишь в начале двадцатых все попривыкли к дамам во френчах и дамам в моноклях. Женские седла закинули на чердаки особняков. Теперь господа старались не удивляться лихо мчащимся, летящим, стриженым, стройным garçonnes, сильно охватившим обутыми в гетры ногами бока стального скакуна. Благодаря Шанель, Пату и влиятельному Vogue, уже никто не протестовал против блуз со стоячим воротничком, вязаных жилеток, твидовых курток-норфолк или длинных, почти до колена, жакетов, кожаных краг и тяжелых ботинок. В таком наряде женщины двадцатых охотились или просто наслаждались свежей осенней прогулкой. При более интимных обстоятельствах, в узком кругу наездниц, вместо шерстяного жакета надевали толстые свитера.
Не стоит, однако, думать, что старинные амазонки исчезли. Ретроградки придумали обновленный вариант – плотную шерстяную юбку по щиколотку, длинный приталенный жакет с широкими расходящимися полами, высокие кавалерийские сапоги-«веллингтоны». Поклонники этого стиля периодически устраивали конкурсы красоты среди наездниц, а журналы Vogue и La Liberte ежегодно проводили соревнования самых элегантных амазонок. В 1926 году первого приза удостоили мадам Рене Дорвилль, чье фото в исполнении Гойнингена-Гюне сразу же попало на страницы модной прессы.
В костюмах для традиционных видов охоты, к примеру псовых, новинок появлялось меньше. Дамы надевали блузки, пикейные жилеты, длинные синие или красные куртки с бархатными манжетами и воротниками, юбки-амазонки и ботфорты. Головы украшали милые треуголки как бы в память о легкомысленной Марии Антуанетте, известной любительнице пострелять. Иногда носили буржуазные котелки, которые стали частью женского охотничьего костюма еще в десятые годы.
Немецкие аристократки в вязаных свитерах, беретах и бриджах для верховой езды
Германия, 1928. Архив О. А. Хорошиловой
Головной убор для охоты
Журнал Vogue (Paris), середина 1920-х годов. Национальная библиотека Франции
Мадам Рене Дорвилль, лауреат конкурса «Лучшая амазонка»
Журнал Vogue (Paris), 1926.Национальная библиотека Франции
На фоне эмансипированных девушек мужчины выглядели престарелыми консерваторами. Костюмы красивого старинного парфорса практически не изменились, одежда для верховой езды сильно напоминала довоенную – твидовые пиджаки, бриджи или кникербокеры, кепки или котелки, гетры или ботфорты.
Джордж Сент-Джордж (справа) в костюме для верховой езды. Дамы левее, госпожа Винмилл и госпожа Бедфорд, напряженно наблюдают за скачками в шерстяных прогулочных костюмах
1929 год. Архив О. А. Хорошиловой
Летние виды спорта
В приятные жаркие месяцы никто не расслаблялся. Модники фанатично били ракеткой по мячу, подкидывали увесистые гирьки, развивали мышцы, усердно, по расписанию, потели и худели, ходили с клюшкой по зеленым газонам, совершали гимнастические пируэты на аккуратно выстриженном лоне природы, и все это ради стройной журнальной фигуры, которая для многих так и осталась безупречно журнальной.
Модельеры трудились ради модников – выдумывали, смешивали, кроили и без устали продавали костюмы для спортивных экзерсисов. Но даже им было сложно определить, в чем, к примеру, отличие теннисного костюма от теннисной формы. В двадцатые спорт и мода стали неразделимы.
Плавание и пляжный стиль
«Солнце, солнце» – так называлась рубрика журнала Vogue, выходившая обыкновенно с февраля по май. Она была адресована богатым прожигателям жизни, готовившимся к весенне-летнему средиземноморскому сезону. Журналисты сообщали о новинках – пляжах, отелях, открытых спортивных авто, о том, в какие азартные игры будут играть и какие наряды носить. Впрочем, одежды надевали все меньше – не мешали солнцу делать свою полезную работу. Загар теперь считали признаком финансового благополучия, бронзового олимпийского здоровья. Лежали на солнце часами, соревнуясь кто кого, и вечером сравнивали результаты, совсем как теперь, прислоняясь горячими руками, вытягивая ноги.
Летний оздоровительный туризм – изобретение Века Джаза. Тысячи компаний Старого и Нового Света рекламировали впечатлительные варианты, как потратить курортные, такие легкие, деньги. В сущности, предлагали одно – комфортное путешествие до побережья («божественные виды – только из наших вагонов!»), уютные отели с заботливо разостланными перед входом пляжами, тенты, кабинки, бары, солнце и чистейшее море или океан. К услугам отдыхающих были парикмахерские, салоны красоты, теннисные корты, тренажеры, велосипеды, байдарки, яхты, прибрежные рестораны и рестораны на горных вершинах, музыкальные павильоны, дансинги, ночные клубы.
Любое спокойное, от ветров защищенное место, с живописными горами, пологим спуском и узкой полоской гальки называлось морским курортом. Но самых главных, самых модных, было два – Французская Ривьера и американский Род-Айленд.
Море и песок
На Ривьеру, в лазоревые Канны, Фрежюс, Антибы, отправлялись непременно в «Голубом экспрессе» – великолепном вальяжном сине-золотом составе с гербами, номерами, двуязычными надписями, означавшими максимальный комфорт по максимальной цене. Он выходил из Кале, делал большую остановку в Париже и шел прямиком на юг Франции. В авантажных спальных вагонах тихо покачивались грузные тела министров и президентов, генералов и негоциантов, и тех немногих счастливцев из русских эмигрантов, которые сумели встроиться в ритм европейской жизни. Ухая и шумно отдуваясь, экспресс останавливался в Ницце и Ментоне, выдыхая белый пар и белых пассажиров, успевших переодеться и не успевших загореть.
«Голубой экспресс» Фотооткрытка.
Частная коллекция (Франция)
Ривьера встречала влажным закатом и влажными запахами, хвойными, сладкими, каштановыми, кафешантанными. Утром будила морским прибоем, перекатным гоготом лавочников и округлым боем колоколов, звучащих здесь, у моря, как-то телеснее, свежее.
До десяти часов пляжи пустовали. И было приятно наблюдать тихий отдых самой Ривьеры перед новым суматошным днем. Ленивое солнце лениво забавлялось с игривым молодым морем, ласкало, щекотало чешую, и море отзывалось хохотливыми вспышками колкого серебра – так, уже вечером, будут отзываться на джазовую щекотку стразовые платья модниц. Волнистая бирюза старательно взбивала пену у махровых дорожек песочно-серых пляжей. За кронами платанов, словно стеснительные полуобнаженные отдыхающие, прятались беззвучные дома и отели. Они робко принимали солнечные ванны и будто стыдились своего нежно-персикового загара, слишком мягкого в этом царстве олимпийской бронзы и оливковых мускул. Чуть поодаль, у скал бодрые белые яхты стрекотали голыми мачтами, и этот стрекот звучал бегом минутных стрелок, настойчиво приближавших начало курортного дня.
Побережье Биаррица
Фотооткрытка. 1910-е годы. Архив О. А. Хорошиловой
Олимпийцы пробуждались. Их ждали поздний завтрак, поздние утренние газеты (ради курортников новости научились запаздывать) и хорошо прогретые пляжи, куда постояльцы отелей тянулись часам к одиннадцати, заполняя побережье черно-синими купальниками, полосатыми зонтами и грубоватым ором, в котором солировали американские раскатистые «р». Деловые люди Нового Света обожали старинную Ривьеру и ехали сюда с большой охотой, несмотря на долгий и дорогой путь. Хотелось быть ближе к моде – Ницце, Парижу и франко-английской аристократии, перед которой бронзовеющие бонзы Нью-Йорка все еще пасовали.
В Соединенных Штатах тоже была своя Ривьера – Род-Айленд, и ее центр, Бейлис-Бич. В начале двадцатых здесь отдыхала американская элита – старинные северо-восточные семьи, чопорные и неспешные, настоящие британцы среди быстрых и говорливых соотечественников. Они почти не загорали, валандали время в полотняных кибитках. Дамы иногда разоблачались в деревянных домиках и плавали подальше от мужских глаз, смешно ухватившись за спасительный канат. К концу двадцатых, однако, мизансцена поменялась. Женщин с черепашьими повадками и шеями поубавилось. Бронзовых тел стало больше. По мягкому песку бегали старлетки и флапперы, стройные, в облегающих трико, визжали, кувыркались и делали пляжные фигуры – становились паровозиком и переливали ногами в стиле канкана, или складывались в гигантскую морскую звезду, или ходили гуськом по отмели, и море настегивало пеной, и все смеялись. Потом этими снимками заполняли курортные альбомы и с влажными вздохами перелистывали их под треск рождественского камина.
Модная американская публика совершает променад вдоль побережья
Род-Айленд, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Паулина Манни и Кетлин Риттер возле своей спортивной машины
Палм-Бич, 1929. Архив О. А. Хорошиловой
Температуры на Бейлис-Бич были умеренными, сравни ривьерским. Те же, кого не пугало острое безжалостное солнце, мчали на юг – в Палм-Бич, где пальмы были зонтами, а пляжный канкан почитали невинной забавой. Где упивались коктейлями, негритянским джазом и курортными романами, прячась в бархатных складках глубокой южной ночи. Как бы в подражание Ницце и Каннам, американский архитектор Эддисон Митцнер выстроил здесь молочно-персиковые особняки с мавританскими арками, итальянскими окнами и классическими колоннами, отчего курорт стали называть «Венецианским городом». Свобода, здесь царившая, усиливала сходство с царством дожей.
Курортные костюмы
И все-таки дети джаза немного напоминали своих родителей. Особенно в любви к нарядам. В Ниццу или Ньюпорт они везли увесистые кофры, набитые «переменами по случаю» – точно так же, как их предки на заре увлечения солнцем и морем. Две-три недели на курорте предполагали десяток комплектов с возможными дополнениями. Позднее курортное утро девушки и дамы встречали в легких хлопковых платьях, широкополых шляпах и теннисках. Некоторые набрасывали шелковые или льняные капоты с пелериной и крученым кушаком. Господа совершали утренний променад в легких брючных двойках и канотье.
Ансамбли для средиземноморских курортов
Журнал Femina, 1925. Архив О. А. Хорошиловой
Пляжные ансамбли
Журнал Femina, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
После легкого завтрака – пляж и новая перемена костюмов. Все надевали купальники, тапочки, каучуковые или трикотажные шапочки и проводили в них два-три часа – до ланча. Хорошенько искупавшись, девушки повязывали головы сатиновыми лентами, косынками или шелковыми палантинами, накидывали пляжные пеньюары, халатики с капюшонами (sortie de bain) или рединготы с короткими рукавчиками. Некоторые предпочитали более короткие спортивные туники из пестрой тафты, крепа или трикотажа, часто с геометрическим узором. В конце двадцатых популярными стали пляжные пижамы от Марии Новицкой и Жана Пату.
После ланча – сиеста, озвученная богатырским мужским храпом и жарким девичьим хихиканьем под тряскими тентами. В выборе послеполуденных нарядов никто не ограничивал. Юноши ходили в сорочках, майках или просто белых шортах, оттенявших свежий загар, солидные господа оборачивались в махровые халаты, не забыв вставить в глаз монокль. Дамы опять надевали платья – легче и шире, почти балахоны. Хохотливые флапперы резвились в купальниках и пляжных накидках или «гарсонили» в мальчишеских блузках, шортах или широких юбках-брюках, панамах, а некоторые, к примеру принцесса Фосиньи-Люсанж, щеголяли в белых ловких шапочках американских матросов – они только-только входили в моду.
Тем, кому и сиеста была нипочем, отправлялись кататься на яхтах. Среди друзей особо не церемонились – сидели в купальниках и халатах. Для официальных встреч и аккуратных светских тусовок выбирали особые костюмы, много раз запечатленные в немых фильмах: мужчины – в сорочках, синих двубортных блейзерах с медными пуговицами, белых фланелевых брюках с манжетами, фуражках и теннисках, девушки – в крепдешиновых по колено платьях с поясками, синих трикотажных кардиганах или двубортных блейзерах, скопированных с мужских, в клошах и даже перчатках.
Легкие полуспортивные наряды для южнофранцузских курортов
Журнал Vogue (Paris), 1924. Архив О. А. Хорошиловой
В четыре-пять часов – еще одна порция мягкого солнца, после – ужин в вечерних не слишком длинных платьях, костюмах-смокингах. Пара коктейлей в Иден Рок, партия в баккара в Жюан-ле-Пен, верчение рулетки и верчение бедрами в ночных кабаре Канн. Спортивный стиль мягко повлиял на весьма консервативные вечерние костюмы. В 1924 году Дом моды Martial et Armand предложил трансформер – стоило только развязать и набросить на плечи скрученный у талии палантин, как платье превращалось из прелестного послеполуденного в богатое вечернее.
С роскошью на курортах не перебарщивали. Самым ценным украшением, помимо бриллиантового ожерелья, считали ровный шоколадный загар, а главным костюмом – купальник. Он менялся вместе с нравами. В начале десятилетия дамы и девушки послушно носили громоздкие «американские» комплекты, состоявшие из балахонов и штанов-блумерсов, доставшихся в наследство от Прекрасной эпохи. Более нелепых нарядов на курортах двадцатых сложно вообразить. Странные, с воланами и складками полудевичьи платья, дополненные воротниками-бертами и тяжелыми тюниками, надевали поверх раздувающихся штанов-парашютов, доходивших до колен. Головы покрывали чепцами с оборками в стиле Кейт Гринавей. И такими рюшевыми припевочками бежали купаться – плавать в этих нарядах было невозможно. Впрочем, плавать и не разрешали, считая это занятие недостойным благовоспитанных девушек.
Реклама пляжных пижам от Марии Новицкой
Журнал Femina, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Костюмы для прогулок на яхте от Jane Regny
Журнал Femina, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Модницы на пляже в специальных костюмах и накидках
Журнал Vogue (Paris), 1921 Архив О. А. Хорошиловой
Костюмы для регат от Jane Regny
Журнал Vogue (Paris), 1928 Архив О. А. Хорошиловой
Модели в купальниках на фоне кабинки для переодевания
Журнал Femina, 1924.
Архив О. А. Хорошиловой
Реклама купальных костюмов
Журнал Femina, 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Шумная немецкая молодежь в купальниках и халатах
Конец 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Модель в шапочке для плавания
Журнал Vogue (Paris), 1929. Национальная библиотека Франции
Ситуация изменилась в середине двадцатых, когда Гертруда Эдерле, американская пловчиха с литыми формами немецкой скульптуры, взяла золото на летних Олимпийских играх. Соединенные Штаты ликовали, а вместе с ними ликовали женщины по обе стороны океана, которые теперь, вооруженные примером самоотверженной пловчихи, не боялись плавать «по-мужски». Ликовали и модельеры – женщины-победительницы потребовали новых костюмов. Появились «майо» – трикотажные майки, скопированные с мужских, и шерстяные шортики-«кюлоты», обтягивавшие бедра. Купальные платья и блумерсы носили теперь разве что маленькие девочки и дебелые дурнушки, засидевшиеся в девках.
Туфли для плавания от компании Hood Rubber Со.
1920-е годы.
Архив Dance Store Company: blog, dancestore.com
Богатые буржуа наслаждаются солнцем на пляже. На девушке справа заметны красные пляжные тапочки
1927–1928 годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Дама позирует в купальнике и пляжном халате
1928 год. Архив О. А. Хорошиловой
Спортивная пара рассекает океан на водных лыжах 1927 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Девушка в плавательном костюмеи водных лыжах
Конец 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Было огромное множество вариантов этих новых ловких «майо» – с узкой горловиной и стыдливыми крыльцами, длинные до колен и опасно короткие, с орнаментами и без, и почти борцовские, с лямками и глубоким вырезом. В конце двадцатых пляжными хитами стали цельные трикотажные купальники с «кюлотами» и тоненькими бретельками, благодаря которым спина загорала ровно, и потом девушки с удовольствием хвастались ею, надев белое вечернее платье с роскошным вырезом.
Немецкие бюргеры в купальниках весело проводят время на побережье
Середина 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Все модные дома и компании спортивной одежды разработали свои «неповторимые» варианты. В первостепенных светских журналах рекламировали купальные комплекты от Жана Пату, Марии Новицкой, Эльзы Скиапарелли, Дома Hermès, американской компании Jantzen. Полный комплект пляжных нарядов и аксессуаров, включая шапочки, туфельки и зонты, предлагала французская авангардистка Соня Делоне.
На пляже много забавлялись. Мужчины с плохо маскируемым наслаждением оглядывали щуплых девиц в трико, без устали бегавших за волнами и друг за другом. Их грузные, давно вышедшие из моды жены делали вид, что заняты разговором с соседкой. Сухонькие старички, богомолами сложившись в шезлонге, сухо курили сухой табачок, перемигивая глазками, не замечая бесновавшихся вокруг внуков.
Модные картинки, плоские, резко вычерченные, с бистровыми телами в гуашевых майках и шортиках, журнально бежали (углы пяток – углы колен) вдоль пенного прибоя, быстрыми штрихами прыгали в морскую пучину, вытягивались в ударе над волейбольной сеткой, витрувианскими людьми да Винчи катались в белых стальных центрифугах, развивая гибкость графичного стана, и в полном соответствии с мизансценами Vogue чертили границу меж небом и морем на скоростных водных лыжах. «И вскоре никто уже не понимал, какой час, какой день недели, и никто не хотел верить, что лето когда-нибудь закончится, что придет время прощаться с этим раем обнаженных тел и ног», – захлебывался восхищенный Vogue.
Теннис
Пожалуй, самый популярный вид спорта двадцатых. Элегантный, острый, двуполый. Было много звезд-мужчин, но модным его сделала женщина. Сюзанна Ленглен, ровесница двадцатого века, в юности легко выигрывала чемпионаты. Во время Великой войны продолжала оттачивать мастерство, готовясь к решительной схватке с мужским обществом и консервативным временем. Она поняла, что надо не играть, а выступать – придумывать эффектные жесты, повороты, костюмы, вдохновлять публику. Сюзанна готовилась к первому после войны Уимблдону, словно актриса к судьбоносной роли. И вышла на корт преображенной – гибкой, прыгучей, каучуковой. Взяла золото, одолев конкурентку, Доротею Чемберс, на глазах у тысяч черно-белых зрителей и королевской четы. Сенсацией стал и ее костюм – белое трикотажное коротковатое плиссированное платье, белые чулки и льняная панама. Во время матча Ленглен выдавала невообразимые кульбиты, выпрастывала жилистые ноги и руки, высоко подпрыгивала, красиво отогнув носочек, и по-балетному зависала, и вместе с ней подпрыгивала и зависала лучистым белым солнцем юбка, обнажая закатанные по-флапперски чулки, нескромные резиновые подвязки, мосластые колени. «Какой кошмар, какой скандал», – возмущались британские тучные леди и шумно покидали партер, волоча за собой изумленных мужей, довольных игрой и костюмом.
Сюзанна Ленглен на теннисном корте
1920-е годы, gallica.fr
На летних Олимпийских играх 1920 года Ленглен выступала в форме от Жана Пату – тот же белый легкий трикотаж, но талия заметно ниже, а плиссированная юбка заметно короче. Вместо пухлой панамы Сюзанна выбрала шелковую ленту, красиво обернув ею голову. Такие носили еще в 1918–1919 годах парижские щеголихи, называя их «повязками раненых», как бы в память о Великой войне. После олимпийского триумфа бандажи поголовно переименовали в «Ленглен» и «Теннис».
На тех играх она завоевала два золота и несметное количество поклонниц. Она все смелее сокращала длину платьев, и фанатки повторяли за ней. Флапперские юбки (по колено) образца 1926–1927 годов – это в том числе заслуга Ленглен. Сюзанна определяла даже форму сумок. В 1927 году компания Maison Goyard разработала для нее длинный кожаный саквояж для двух ракеток. Мгновенно такими же обзавелись щеголихи – и не важно, что в них лежала только помада.
Сенсационные победы Ленглен 1920 года были также триумфом Жана Пату, автора ее формы. Он сделал блестящую рекламу своим спортивным костюмам и хорошо продавал легкие белые шерстяные платья с плиссированным низом, а также свитера, кардиганы, жилетки, чулки и бандажи в Париже, Нью-Йорке, ас 1925 года в Биаррице, Довиле, Каннах. Своим теннисным успехом он подтолкнул других. Весенне-летние ансамбли в теннисном стиле предлагали также Шанель, Вионне, Лелонг, Скиапарелли, дома Drecoll, Amy Linker, Le Grand Maison de Blanc, Chantal. Французский модельер Луи О’Россен специально для звездной американской теннисистки Хелен Уиллс создал костюм-двойку – блузу с матросским воротником и плиссированную юбку. Спортсменка по собственному почину дополнила форму мальчишеской шапочкой с козырьком. Но Жан Пату никому не хотел уступать первенство в спортивной моде и 1927 году переманил теннисистку, которая отныне появлялась на кортах в его творениях. Специально для полуприлегающих теннисных туник с заниженной линией талии компания J. Roussel разработала каучуковые пояса для бедер, удобные, не мешавшие выпрастывать ноги в ленгленовской манере. Стоили такие от 150 до 250 франков.
В платьях Сюзанны Ленглен, подвернув, как она, чулки, играли в лаун-теннис профессиональные спортсменки и любительницы красивых эффектов. Ее наряды прекрасно вписались в стилистику середины – второй половины двадцатых. Без этих голых коленок, гофре, бандажей и флапперских гольфов сложно себе представить капризных «фешионист» Парижа, Берлина, Нью-Йорка.
Мужчины играли в теннис, надев сорочку с закатанными рукавами, фланелевые брюки с высоким поясом и манжетами, широкий «атлетический» ремень, теннисные туфли и хлопковый или фланелевый вестон, а также вязаный свитер. В 1926 году Рене Лакост продемонстрировал новинку. Он появился на корте в белой сорочке с короткими рукавами и отложным воротником, легкой, удобной, элегантной, прекрасно смотревшейся на его спортивном загорелом теле. Ее назвали «поло». В 1933 году после завершения теннисной карьеры Лакост наладил производство и продажу своих изобретений. Каждую сорочку украшал вышитый зеленый крокодил – прозвище спортсмена, ставшее логотипом его компании и одним из узнаваемых символов большого тенниса.
Сюзанна Ленгленв элегантном трикотажном костюме
2-я половина 1920-х годов. Библиотека Конгресса (Вашингтон), номер: LC-DIG-ggbain-32873
Молодые любители тенниса
Франция, середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Немецкая теннисистка демонстрирует последние тенденции спортивной моды.
На голове – повязка в стиле Сюзанны Ленглен
Конец 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Группа модников в теннисных костюмах от Chantal
Журнал Vogue (Paris), 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Джон Хеннесси на Уимблдонском турнире
1925 год. Архив О. А. Хорошиловой
Известная американская теннисистка Хелен Уиллс в костюме от модельера Луи О’Россена
1928 год. Архив О. А. Хорошиловой
Солидный горожанин в классическом теннисном костюме – сорочке, вязаном джемпере и фланелевых брюках
Бельгия, середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Гольф
Британская по происхождению игра стала популярной благодаря предприимчивым канадцам. В 1870-х годах в Монреале открылся первый профессиональный клуб, среди учредителей и членов которого было немало выходцев из семей шотландских эмигрантов. В 1882 году первый гольф-клуб появился в США, в Бруклине.
Джон Сент-Илье Лендер.
Портрет принца Уэльского Эдварда в свитере, связанном на острове Фэр-Айл
1925 год. Музей Лидса
Принц Уэльский Эдвард позирует в куртке-«норфолк» и бриджах-«кникербокерах»
1928 год. Архив О. А. Хорошиловой
И почти сразу неспешные упитанные игроки обзавелись формой, сочетавшей элементы охотничьего и велосипедного костюмов. В начале XX века среднестатистический гольфист был одет в нежаркую сорочку, вязаный жилет, пиджак или Норфолк, твидовую кепку, широкие кникербокеры, трикотажные гольфы и твердоносые основательные «оксфорды» с перфорацией. Добавим к этому упругое лоснящееся красноватое лицо, щеточку рыжеватых усов, подстриженных на английский манер, монокль и легкое презрение в распяленном глазу.
Этот костюм и облик оставались неизменными до середины двадцатых, когда их ловко отредактировал принц Уэльский Эдвард, тоненький смазливый наследник трона, который позже променял старуху-империю на разведенную даму средних лет. В 1922 году на чемпионате, устроенном британским гольф-клубом Сент-Эндрюс, он появился в свитере, связанном фермерами с шотландского острова Фэр-Айл. И конечно, произвел фурор.
Реклама обуви для гольфа от Perugia
Журнал Femina, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Берлинские модники играют в гольф
Журнал Die Dame, 1926. Архив О. А. Хорошиловой
Девушка, играющая в гольф
Обложка журнала Mode Pratique. Архив О. А. Хорошиловой
Никто не ожидал от принца, щеголя до кончиков наполированных ногтей, такого резкого выпада в сторону народности. Но Эдвард прекрасно разбирался в моде и понимал, что настает время «фолка», грубоватых деревенских орнаментов, вышивок, вязаных и валяных вещиц. Только-только в моду входили русский, балканский, африканский, индейский, арабский стили. Эдвард добавил в национальную палитру ар-деко шотландские элементы. Помимо свитеров с Фэр-Айла он ввел в обновленный костюм для гольфа шерстяные куртки-дублеты и килты шотландских горцев, а также аргайльские носки, которые носили с кникербокерами, ставшими в середине двадцатых заметно шире и длиннее. Стоит ли говорить, что после своего знаменательного появления на корте кустарное производство Шотландии вышло, наконец, из кризиса.
Костюмы для игры в гольф от Люсьена Лелонга и Джейн Реньи
Журнал Femina, 1927.
Архив О. А. Хорошиловой
Реклама трикотажа от Kodier для костюмов для гольфа
Журнал Femina, 1925.
Архив О. А. Хорошиловой
Дамы тоже играли в гольф. Предпочитали свитера или пуловеры с блузами, вязаные жилетки, а также трикотажные платья с отложным белым воротничком и узким пояском. Некоторые появлялись в кникербокерах, но лишь получив разрешение от администрации клуба. Летом носили комплекты, похожие на теннисные, – белые блузки и юбки-плиссе с хлопковыми белыми или темно-синими блейзерами. Головные уборы соответствовали светской моде – шляпки-клоши, панамы, а также белые или цветные банданы, которыми тогда же обзавелись теннисистки и любительницы солнечных ванн. Комплекты для гольфа предлагали Жан Пату, Мадлен Вионне, Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, французские модные дома Hermès, Amy-Linker, Eres, Jane Regny, американские компании Golflex, Bradley, Fleisher Yarn.
Зимние виды спорта
«Есть виды спорта для хорошей и плохой погоды, для жары и для холодов, но помните, дамы, заниматься ими нужно всегда грациозно», – предупреждал Vogue. Легко сказать! Зима была самым неграциозным временем года – промозглые дожди, слякоть, ледяные ветры или вдруг тихие ватные хлопья снега, мокро облеплявшие автомобили, одежду, шляпы, лица. По центральным расхлябанным улицам первостепенных столиц моды катились звонкие проклятья шоферов, истошно ревели клаксоны, грязь разлеталась из-под шин, пешеходы шарахались в стороны, увязая в жиже неграциозной, вечно простуженной, мокроносой зимы.
На это время любители спорта перебирались в горные районы, где чистый снег, чистый воздух и здоровый крепкий бодрящий холод. Там, во французских и швейцарских Альпах, на обновленных зимних курортах господа с возможностями и красивыми дамами осторожно катались на горных лыжах, коньках, санях, постигали азы скиджоринга.
Самыми модными считались местечки Шамони и Сент-Мориц. Первый в 1924 году принимал зимние Олимпийские игры, а в следующем сезоне его одолевали шерстяные толпы разноязыких туристов. Сент-Мориц прославился впечатляющими гонками на тобоганах. Он был чрезвычайно популярен среди континентальной аристократии, звезд кино и кутюрье, спешивших показать свой товар и на других посмотреть, ведь кругом было столько новых тенденций, неожиданных костюмных решений – только лови.
Французская пара в костюмах для катания на коньках
1-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Бельгийцы на катке.
Обращает внимание необычная трикотажная юбка-брюки, в которой дама чувствует себя вполне удобно
1-я половина 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Кто-то из щеголей еще в начале двадцатых обзавелся толстыми норвежскими свитерами и кардиганами с развеселыми народными узорами. В 1926–1927 годах они стали must have, появились в коллекциях многих парижских модельеров. Британский Vogue по этому поводу заметил: «Грациозные парижанки вдруг превратились в лапландских крестьянок, имеющих странную прихоть покупать шляпки у Каролин Ребу». Конечно, скандинавский стиль был моден не только в костюме. Эпоха ар-деко, обожавшая экзотику во всех ее дико народных проявлениях, кое-что выбирала для себя из древней североевропейской утвари, одежды, декоративного искусства, она мягко вплетала руны в пестрые авангардные узоры, а легенды о нибелунгах гениально соединяла с черно-белой экспрессивной эстетикой немецкого кинематографа.
Костюмы для зимних видов спорта в целом были однотипными, моду диктовал лыжный стиль. Надевали все самое удобное, теплое и по возможности элегантное. Мужчины носили вязаные толстые свитера поверх плотных (иногда нескольких) сорочек, хорошенько обматывали шею колючими шарфами, желательно в тон свитеру, натягивали галифе с толстыми вязаными носками в узорах – скандинавских или кельтских. На голове – кепка, фетровая слегка помятая тирольская шляпа или финская шапка.
Французское семейство на отдыхе в Швейцарии
1920-е годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Девушки в костюмах для конькобежного спорта
Архив О. А. Хорошиловой
Женские наряды почти не отличались от мужских. Горнолыжные курорты были одними из тех волшебных мест, далеких от земных условностей, где разрешалось носить удобные вещи в убыток половым различиям. Кардиганы и свитера с воротником-руликом, удобные суконные куртки с карманами и пристяжной пелериной, твидовые жакеты, отороченные мехом, пестрые пуловеры, длинные жилеты из трикотажа или меха. Но самое главное – здесь, в Альпах, никто не запрещал дамам носить галифе, кникербокеры, трикотажные лыжные шаровары. Было разрешено почти все. Vogue подбадривал щеголих: «Забудьте о юбках, пока вы среди гор. Носите бриджи!» Тем, кто не хотел превращаться в мужественную garçonne, модельеры, в том числе Шанель и Скиапарелли, предлагали спасительные варианты – юбки-брюки.
Примерно в 1928 году вошел в моду темно-синий лыжный «норвежский» костюм, замечательный пример стиля унисекс. Он состоял из габардиновой куртки с карманами и застежкой, спрятанной под планку, брюк, сужающихся к лодыжке, и бретонского берета. Его с большим удовольствием носили и в тридцатые годы.
Модники на курорте Сент-Мориц
Рисунок из журнала Femina, 1927.
Архив О. А. Хорошиловой
Глава 6 Искусство и мода
Пожалуй, никогда мода не была так созвучна искусству. Авангард словно бы придумали специально для жесткого неуютного ар-деко, для прямых силуэтов, структурных фактур, безгрудых геометрических барышень.
Барон Адольф де Мейер.
Реклама для компании Elizabeth Arden
1927 год. Фототипия.
Частная коллекция
Художники парижской школы, Соня Делоне и Рауль Дюфи, сочиняли пестрые набойки – ломаные линии, угластые синкопы, ромбы, спирали, вертящиеся сферы. А потом изысканные репортеры снимали моделей, задрапированных в эти подвижные абстрактные полотна. Иллюстрации Эрте, Жоржа Лепапа, Андре Марти все еще доминировали в журналах, но стиль определяли фотографы – барон де Мейер, Эдвард Стайхен, Георгий Гойнинген-Гюне, элегантные питомцы авангардной парижской школы, которых прославила Америка.
Соня Делоне в своей парижской мастерской на бульваре Мальзерб
1925 год. Национальная библиотека Франции
Абстрактный мир элегантных вещей
Соня Делоне – русская парижанка, гениальная художница и знаменитая модница, превратившая текстиль в палитру, а костюм – в произведение авангардной живописи. Она стала одним из создателей и идеологов арт-моды парижской школы, философом и дизайнером новой цветовой абстракции.
Творчество этой амазонки авангарда обычно называют симультанным, акцентируя его связь с цветовой философией и живописью Робера Делоне. Художница действительно увлекалась теорией супруга, в особенности идеей создавать формы с помощью колористических контрастов. Но свою арт-моду сформировала на базе разнообразных пластических систем парижской школы.
В 1912 году, впечатленная теориями и работами Робера Делоне, художница решила создавать абстрактные цветовые композиции. Затем разработала симультанные костюмы, представленные на вечеринке в танцевальном холле Bai Bullier весной 1913 года. Гийом Аполлинер был ими восхищен: «У этих мастеров так много идей <…>. Фиолетовый костюм, длинная фиолетово-зеленая мантия и под жакетом – облегающая туника, разделенная на яркие цветовые зоны <…>, розовый “антик”, желто-оранжевый, синий “натье”, алый и так далее – все это на кусочках материала, и притом шерсть, тафта, тюль, фланель, струящийся шелк противопоставлены друг другу»[18].
Вероятно, именно эти яркие симультанные наряды спровоцировали интерес итальянских футуристов к авангардному костюму. Известно, что на той вечеринке присутствовал Джино Северини, любитель джазовых танцев. Он был столь поражен симультанным дефиле, устроенным Делоне, что на следующий же день послал в Милан телеграмму-молнию. Блез Сандрар вспоминал: «Великая каланча (Дж. Северини. – О. X.) незамедлительно телеграфировал в Милан об увиденной одежде, в частности о деталях симультанного платья мадам Сони Делоне. Он был настоящим разведчиком. По Милану мгновенно разнеслась новость о костюмах супругов Делоне и их футуристском перформансе»[19].
Показательно, что до этого момента авангардную одежду создавал только Джакомо Балла (совместно с супругой Элизой). После телеграммы Северини в среде футуристов заметно оживился интерес к проектированию авангардных костюмов. Дискутировать о взаимовлиянии искусства и моды начали Томазо Маринетти, Фортунато Деперо (он стал разрабатывать проекты футуристских костюмов), Вольт (Винченцо Фани) и Тулио Крали. Можно предположить, что именно симультанные костюмы подтолкнули Балла написать ряд манифестов, посвященных моде. В них были отражены основные философские и формообразующие принципы футуристической одежды[20].
Робер Делоне
Фотография 1960-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
В 1920 году, вернувшись во Францию из Испании, где они жили с 1914 года, Делоне оказались в новой художнической среде. Фовизм, кубизм, экспрессионизм теперь считались уделом скучных стариков. В авангардном фаворе был дадаизм – агрессивное, эпатажное, ироничное искусство молодых циников, подранков Великой войны.
С поэтами-дадаистами Делоне познакомились сразу после переезда в Париж. Особенно тесно они общались с Тристаном Тцарой, Филиппом Супо, Луи Арагоном, которые в феврале того же года начали издавать журнал «Литература». На его страницах, помимо стихотворений, критических заметок и анонсов художественных событий, публиковались манифесты дадаизма, большинство которых написал Тцара.
Делоне приглашали авангардистов к себе в мастерскую. По четвергам устраивали вечера поэзии, на которых бывали самые известные деятели парижского искусства– Супо, Бретон, Арагон, Голь. Замысловатый верлибр, пьянящий ритм и цветность их стихов вдохновили Соню Делоне, и она создала арт-объекты – «Холст-поэму», «Занавесь-поэму» и «платья-поэмы».
«Холст-поэма» был посвящен Маяковскому, посещавшему дадаистские журфиксы Делоне. Ему определенно нравилась живопись Робера. В эссе «Семидневный смотр французской живописи» 1923 года он отмечал: «Делоне – весь противоположность Пикассо. Он – симультанист. Он ищет возможность писать картины, давая форму не исканием тяжестей и объемов, а только расцветкой <…>. Он весь, даже спина, даже руки, в лихорадочном искании»[21].
Соня Делоне.
«Холст-поэма»
Фототипия 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
«Холст-поэма» был разделен на четыре цветовые зоны. В центре – круг, на котором Соня вывела известные и любимые ей строки: «В 140 солнц закат пылал.
Светить всегда! Светить везде! До дней последних донца. Светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца». Ниже, за пределами круга поместила подпись: «В. Маяковский». К «Холсту-поэме» привинтили дверную ручку и прикрепили его к внешней стороне двери, превратив холст в дадаистский реди-мейд. Маяковский писал: «Он (Робер Делоне. – О. X.) разрешает вспышки своего энтузиазма раскрашиванием дверей собственного ателье. Тоже кусок жизни»[22]. До кончины Сони Делоне в 1979 году эта работа хранилась на даче художников. Настоящее местонахождение холста, к сожалению, неизвестно.
Одновременно с «Холстом-поэмой» Соня Делоне создала «Занавесь-поэму», вдохновленную Филиппом Супо. Она восхищалась его романтичными, печальными и свободными стихами, которые решила перенести на поверхность роскошной бархатной занавеси в 1922 году. Вышила строки из стихотворений, а на стороне, обращенной к входной двери, – два слова: «Bonjour» и «Bonsoir». В зависимости от времени суток художница открывала одну или другую часть занавеси и таким образом приветствовала гостей. Рене Кревель в эссе «Визит к Соне Делоне» отмечал: «Хозяин дома (Робер Делоне. – О. X.) приглашал каждого гостя написать стихотворение на стенах его мастерской, а также посмотреть на занавесь из серого крепдешина [23], на котором его супруга Соня Делоне так изящно вышила арабесками импульсивное творение Филиппа Супо со всем его юмором и поэтичностью»[24]. Иногда в праздничные и веселые вечера художница снимала занавесь и дефилировала в ней по студии, словно в манто.
Вероятно, идею «Занавеси-поэмы» подсказал испанский поэт-авангардист Рамон Гомеш де ла Серна, прославившийся серией коротких стихов «Грегуэриас». Один из них он написал на веере – в самом начале 1920-х годов. Соня знала Гомеша и, быть может, видела его расписной веер.
Эта работа стала попыткой Делоне перенести поэзию из двухмерного в трехмерное пространство. Следующим шагом было превращение самих поэтических строф в трехмерные арт-объекты. Художница приступила к проектированию «платьев-поэм», одежд и произведений авангардного искусства одновременно, объединив симультанизм и дадаистскую поэзию.
В 1923 году Делоне разработала проект платья по мотивам четверостишья Тцары «Веер кружится в моем сердце». Силуэт и фасон в целом соответствовали моде начала двадцатых– свободный силуэт, низкая линия талии, практически горизонтальная линия ворота. Оно должно было быть сшито из разноцветных конусообразных лоскутов темных и светлых оттенков, чередовавшихся и образовывавших некий четкий, быстрый ритм. Платье как бы визуализировало четверостишье Тцары – кружение веера, шипение змеи, описанное поэтом, мастерски передано определенным расположением строф. Слово «веер» большими буквами выписано на правом рукаве, и таким образом при движении руки «веер» как бы раскрывался и закрывался. Строфа «Цветок холода / Змея химической нежности» по-змеиному извивалась на подоле. На лацкане левого рукава художница поместила имя: «Тристан Тцара».
Соня Делоне.
Проект платья-поэмы
1922 год. Частная коллекция
В мае 1922 года Делоне получила от поэта письмо с посвящением: «Рука ангела проскользнула / В корзину, глаз фрукта. Он арестовывает колеса таксомотора / И кружащийся гироскоп человеческого сердца». Впечатленная, она разработала проект платья свободного прямого силуэта. На лифе размещались симультанные диски (черно-бело-зеленый и охристо-серый), акцентировавшие линию груди. Подол был трактован в сером, коричневом, черном и белом цветах. Строфы Тцары художница разместила на подоле – они скользят от линии талии по диагонали.
Еще одним интересным примером «платьев-поэм» является неосуществленный проект «Эта вечная женщина» (1922–1923 годы), названный так по первым строкам стиха Арагона. Делоне выбрала прямой силуэт и контрастное цветовое сочетание. Строчка «Эта вечная женщина» разбита на три части. «Эта» помещена на обшлаге правого рукава, «вечная» – на линии талии, «женщина» – на обшлаге левого рукава.
В среде исследователей идут споры о том, какие именно «платья-поэмы» были сшиты. Большинство авторов утверждают, что они остались только на бумаге[25]. Однако слова самого Робера Делоне свидетельствуют об обратном: «Она (Соня. – О. X) вместе с Тцарой и Супо создавала платья-поэмы, ставшие настоящей сенсацией – поэзия была вдохновенно орнаментирована и адаптирована к реальности, кроме того, спровоцировала интерес к одежде, как к чему-то сложному, непредсказуемому, следующему новым законам»[26]. Клер Голль в эссе «Симультанная одежда» (1924 год) упоминает один из костюмов: «Но по вечерам она (Соня Делоне. – О. X.) носит плащ, достойный луны и рожденный поэмой; так как Соня Делоне использовала геометрические формы алфавита в качестве неожиданного орнамента, поэтому теперь вместо того, чтобы говорить: “Платье – это поэма”, мы можем сказать: “Поэма – это платье” <…>. Иногда тот, кто носит ее одежды, может узнать в строчках, вышитых на них, свои стихи»[27]. Диана Бриланд упоминает два жилета, созданных «по эскизам Луи Арагона и расшитых его двумя короткими поэмами Соней Делоне»[28]. Их местонахождение, впрочем, она не указывает.
Обложка эссе Пита Мондриана «Неопластицизм»
1920 год.
Национальная библиотека Франции
Одновременно с увлечением дадаизмом Соня Делоне заинтересовалась произведениями Пита Мондриана. В интервью Артуру Коэну она сообщала: «Я всегда старалась быть в курсе того, что происходило в живописи – как до, так и после войны (имеется в виду Вторая мировая война. – О. X). Я всегда хотела знать, что делали другие, для того чтобы учиться у них»[29]. Так, в 1910-е годы она «училась» у своего супруга – создавала полотна и костюмы в стиле симультанизма. 1920-й стал годом знакомства с дадаистами, поэзия которых вдохновила художницу на создание «занавеси-поэмы» и «платьев-поэм». В начале двадцатых она пристрастилась к холодным абстракциям Мондриана.
Мастер приехал в Париж в 1919 году и продолжил работу в области беспредметного искусства. В 1920 году пришел к духовным абстрактным формам, основанным на вертикальных и горизонтальных линиях и оживленным скупыми вкраплениями чистого цвета, и таким образом стал у истоков неопластицизма. Голландский аскет рисовал универсальную картину мира, лишенную трагедии (то есть всего спонтанного, случайного, хаотичного) и наполненную «чистой красотой», которая, «освобожденная от трагического, предстает перед нами более глубокой и раскрывает ощущение свободы»[30]. С 1920 по 1922 год, живя в Париже, он написал 38 неопластических работ, часть которых в 1922 и 1923 годах выставил Леоне Розенберг в своей парижской галерее «De l’Effort Modern». Он же в 1920-м издал на свои деньги эссе Мондриана «Неопластицизм». Соня Делоне могла познакомиться с работами художника в период с 1921 по 1923 год именно в галерее Розенберга.
Соня Делоне.
Проект платья. Деталь
1922–1923 годы. Частная коллекция
Строгость, выверенность, лаконичность и геометризм неопластических композиций пришлись художнице по вкусу: «Я всегда интересовалась тем, что происходит вокруг. И заметила полотна Мондриана, потому что мне нравились квадраты. Я начала использовать квадраты в своем дизайнерском творчестве, в то время как Делоне продолжал писать круги» [31].
Есть мнение, что к строгим, геометрическим формам и лаконичной цветовой палитре Делоне пришла под влиянием текстиля русских конструктивистов, с которым познакомилась в 1925 году на Всемирной выставке. Однако эту точку зрения опровергают сами работы художницы. Четкие геометрические формы, выполненные тремя-четырьмя основными цветами, появились на ее проектах уже в начале 1920-х годов, то есть за несколько лет до Всемирной выставки и как раз в то время, когда Мондриан начал активно выставляться в Париже. Свидетельство самой художницы, приведенное выше, также не оставляет сомнений в том, что не русские конструктивисты, а голландский абстракционист повлиял на произведения Делоне.
Ее текстильные проекты 1921–1924 годов в значительной степени отличаются от симультанных экспериментов 1910-х. В костюмах для Bai Bullier преобладали конусы, окружности, дуги и неправильные треугольники, словно бы разбросанные по поверхности ткани. Композиции имели хаотичный характер. Орнаменты текстиля 1922–1924 годов, напротив, четки, геометр ичны, составлены из прямоугольников, зигзагов, квадратов, ромбов. Несмотря на преобладание строгих геометрических форм, текстильные рисунки не кажутся сухими благодаря ярким цветам и контрастам, а также вибрирующей, живой поверхности вышивок.
Влияние Мондриана не ограничилось орнаментами. Под воздействием его полотен художница сократила количество цветов. К примеру, эскиз вечернего платья 1922 года был выполнен в черно-белой гамме. До этого момента художница почти не использовала этого сочетания.
Соня Делоне. Образцы текстиля
1924–1926 годы. Частная коллекция
Прямые цитаты полотен Мондриана можно встретить и на эскизах Делоне 1923 года. Весьма показателен «Проект платья». Широкий декоративный бордюр оранжевой туники составлен из равных прямоугольников черного, синего, красного и белого цветов. Этот же рисунок повторен на шляпке-«клош». Вероятно, художница использовала мотивы полотен Мондриана: «Композиция красного, желтого, синего и черного» (1921 год), «Композиция красного, желтого и синего» (1921 год), «Композиция желтого, синего и красного» (1921 год). Рисунок, аналогичный «Проекту платья», присутствует на эскизе «Жакет» 1923 года. Впрочем, Делоне несколько расширила колористическую гамму и добавила коричневый и оранжевый цвета. «Эскиз платья» также напоминает минималистские полотна Мондриана. Коктейльное платье, придуманное Делоне, составлено из квадратов черного, красного и белого цветов.
Манекенщицы в нарядах от Сони Делоне на Всемирной выставке в Париже в 1925 году
Фототипия.
Архив О. А. Хорошиловой
Автомобильный костюм от Сони Делоне
Обложка журнала Vogue (Paris), 1926.
Национальная библиотека Франции
В своем эссе «Влияние живописи на модный дизайн»[32] Делоне отметила: «Мы находимся только в начале нашего исследования новых цветовых взаимодействий, в которых еще так много загадочного и которые лежат в основе современного видения. Можно обогащать и развивать эти исследования, быть может, другие продолжат начатую работу. Невозможно лишь одно – повернуть назад»[33]. Делоне всегда следовала этому принципу. Она не поворачивала назад, не пересматривала своих идей, не возвращалась к уже завершенным проектам и постоянно раздвигала рамки «новой живописной реальности», созданной совместно с Робером Делоне. Творчество Делоне – это не только симультанизм, но и дадаизм, неопластицизм, полистилистизм Рауля Дюфи. Это настоящий сгусток авангардных идей, взращенных на плодородной парижской почве в десятые – двадцатые годы.
Платье от Сони Делоне
Середина 1920-х годов.
Музей Галлиера (Париж), номер: GAL 1970.58.31
Высокое искусство ткани
Проектирование текстиля и костюмов, иллюстрация мод, подготовка маскарадов – все эти сферы деятельности известного французского художника Рауля Дюфи были связаны с изобразительным искусством. Его работы, созданные на базе «Маленькой фабрики» Поля Пуаре, а затем в сотрудничестве с компанией Bianchini-Ferier, оказали существенное влияние на искусство ткани и культуру праздника XX века. Именно Дюфи, а отнюдь не Соня Делоне, стал основоположником направления оп-арт в текстиле. Рисунки для тканей, его графика и живопись нашли отражение в работах дизайнеров, живописцев, кутюрье 1920-1930-х годов. Они остаются популярными до сих пор.
В начале 1910-х годов Дюфи прославился удивительно лапидарными текстильными рисунками, разработанными для Поля Пуаре. Эти проекты хорошо знал Шарль Бьянкини, богатый фабрикант, совладелец текстильной компании Bianchini-Ferier. В 1912 году, остро чувствуя назревающие перемены в дизайне, он решил перекупить художника – предложил ему сотрудничество с возможностью продолжить смелые эксперименты, посулил хороший гонорар. Дюфи принял предложение, стал «главным рисовальщиком» и должен был каждую неделю представлять новые проекты. В течение более десятка лет мастер определял имидж компании, ее стиль и существенно увеличил популярность Bianchini-Ferier. Ткани, которые он разработал, получили название турнонских («Toiles de Tournon»).
Новоявленный «главный рисовальщик» был чрезвычайно активен в работе. Он так увлекся новым интересным делом, что примерно до 1914 года ничем другим не занимался. После подписания контракта заперся в своей мастерской на Импасс де Гельма, возле парижской площади Пигаль, и непрерывно работал над проектами.
Контракт не предусматривал постоянного присутствия Дюфи в Лионе, потому каждую неделю он приезжал к Бьянкини с новыми рисунками. «Шелковый король», в отличие от Пуаре, относился к искусству исключительно как к средству повышения прибыли и эскизы Дюфи рассматривал с точки зрения их потенциального коммерческого успеха. Бьянкини внимательно знакомился с кроками, делал на них карандашные пометки, обсуждал форму и цвет. Затем отбирал лучшие образцы, которые лично подписывал, и ставил регистрационный номер.
Дюфи черпал вдохновение в ярком, красочном текстиле Востока. Большая коллекция турецких, японских, китайских шелков, парчи, дамастов, атласов находилась в лионском Музее тканей, куда мастер часто наведывался. Там были представлены фрагменты коптского текстиля с фигурками кроликов, ястребов, пегасов в квадратных и овальных медальонах, а также великолепные персидские образцы со сценами охоты. Кроме того, Дюфи мог посещать парижские музей Гимэ и музей Чернуши, в которых хранились азиатские ткани.
В конце 1910-х годов на его кроках появилась гвоздика – цветок, характерный для персидских и турецких тканей XVI–XVII веков. Примерно в начале 1920-х годов художник включил в цветочные композиции изображения кроликов, часто встречающихся не только на коптских, но и на китайских средневековых тканях. Лошади и скачки появляются на набивных тканях Дюфи с 1917 года. Один из самых известных образцов – это текстиль «Морские коньки и раковины», проект которого Дюфи разработал в 1923–1924 годах. Синяя поверхность ткани украшена вышитыми серебристо-серыми волнами и китами, темно-голубыми раковинами и набивными красными фигурками лошадей. Округлое туловище, короткие копытца и толстая шея – они весьма напоминают персидские изображения. Но, быть может, они были вдохновлены красными конями экспрессиониста Франца Марка, с живописью которого Дюфи был знаком. Этот образец так понравился Пуаре, что уже в следующем, 1925 году модельер создал из него роскошную накидку «Морские коньки и раковины». О ее красоте сейчас можно судить по сохранившейся фотографии Роже Виолле 1925 года.
Дюфи включил фигурки лошадей также в композицию крупноформатного льняного панно «Манекенщицы Пуаре на скачках» (1924–1925 годы), украшавшей баржу кутюрье во время Всемирной выставки 1925 года. На первом плане изображены позирующие модели. На втором – в изумрудной зелени словно бы парят легкие изящные лошадки, напоминающие «морских коньков» с дамаста Дюфи.
Реклама ткани Рауля Дюфи
Журнал Art, Gout, Beaute.
Конец 1910-х годов. Национальная библиотека Франции
Реклама ткани «Джунгли» от Рауля Дюфи
Журнал Art, Gout, Beaute. Конец 1910-х годов.
Национальная библиотека Франции
Рауль Дюфи. Реклама парфюма «Toute la foret» от Поля Пуаре
1911 год. Фототипия. Архив О. А. Хорошиловой
Мастер разрабатывал и абстрактные геометрические композиции. Квадраты, прямоугольники, ромбы и ломаные линии – в них был первобытный, экстатический ритм, столь восхищавший художника. Окружности, безликие, «беззвучные», почти не встречаются на его эскизах. Гуашь «Синкопированный ритм» 1918 года – один из первых примеров абстрактного направления в текстильном искусстве Дюфи. Небольшие яркие разнонаправленные прямоугольники придают композиции задорный ломаный ритм. На листе «Диагонали» изображены розовые и голубые полосы, пересекающиеся на белом фоне. На «Эскизе» пересекаются широкие и узкие разноцветные полосы. Абстрактные оранжево-синие фигуры «Зигзагообразного мотива» (1918–1919 годы) напоминают рисунки камуфляжных тканей. «Квадратная композиция» (1918–1924 годы) представляет разноцветные полосы, составленные из небольших квадратов черного, красного, голубого и желтого цветов.
В 1918 году Дюфи пришел к открытию оптических эффектов в текстиле. До сих пор в искусствоведческой литературе бытует легенда о том, что оп-арт предвосхитила Соня Делоне в первой половине двадцатых годов. Художница, действительно, создала целую серию чернобелых проектов и образцов с оптическим эффектом. Однако Дюфи стал разрабатывать аналогичные эскизы уже в 1918–1919 годах, часть которых хранится в музее компании Bianchini-Ferier. Они представляют собой разделенные черными линиями квадраты с кругами внутри (к примеру, «Точечный дизайн» 1919 года). На проекте «Геометрический дизайн» (1919 год) изображены чередующиеся черные и белые полосы с резкими загибами в нескольких местах, напоминающими помехи на телеэкране. Тем самым именно Дюфи, а отнюдь не Делоне, стал первооткрывателем оп-арта в текстиле.
Художник одним из первых обратился к народным африканским тканям. Его интерес, вероятно, был связан с «Национальной Колониальной выставкой», прошедшей в 1922 году в Марселе. На ней были представлены скульптура и прикладное искусство Алжира, Марокко, Кении. Африканские мотивы Дюфи можно разделить на два типа – фигуративный и абстрактно-геометрический. К первому относятся ткань «Африканские слоны» (1919 год) с набивными фигурками оранжевых слонов на черном фоне, шелковый шарф «Слоны» (1922–1924 годы), композиция которого составлена из черных фигур слонов на бледно-шафрановом фоне. Ко второму типу относятся такие образцы текстиля, как «Спираль» (начало 1920-х годов) и «Розовые квадраты на белом фоне» (1920-е годы).
Рауль Дюфи. Портрет мадам Дюфи. Супруга художника позирует в платье, сшитом из текстиля, который он спроектировал
1930 год. Музей Массена (Ницца)
На пике всеобщего увлечения тканями с абстрактными рисунками Бьянкини предложил Дюфи возвратиться к теме «Бестиария». Несмотря на то что иллюстрации были созданы десять лет назад (а мода менялась очень быстро), Бьянкини нашел их весьма актуальными. Пейзанская грубость, крепость, лаконичность и милая наивность соответствовали моде ар-деко. Графические образы, как надеялся «Шелковый король», могли отлично смотреться на платьях. Фабрикант попросил Дюфи создать на основе «Бестиария» эскизы для тканей. Впервые изображения этих экспериментов художника появились на страницах Gazette du Bon Ton летом 1920 года.
Реклама текстиля Bianchini-Ferier, спроектированного Раулем Дюфи
Журнал Femina, 1927.
Архив О. А. Хорошиловой
Следовательно, Бьянкини сделал заказ Дюфи в конце 1919 – начале 1920 года. Платья, ткани для которых создал Дюфи, были из коллекции Поля Пуаре. Несмотря на то что художник прекратил сотрудничать с «Парижским пашой», Пуаре продолжал восхищаться текстильными творениями Дюфи и с удовольствием заказывал их у Бьянкини. На цветных фотографиях (все еще редких для журналов мод 1920-х) были представлены пять моделей Пуаре – сатиновые платья и накидки с узнаваемыми ахроматическими рисунками Дюфи. Среди текстильных проектов, созданных мастером в начале 1920-х по мотивам «Бестиария», был и крайне динамичный эскиз «Морские раковины и веера» (1921 год), своей резкостью, ритмичностью и энергией напоминавший полотна итальянских футуристов. Лесли Джексон пишет, что эскиз был реализован[34].
Светская жизнь, казино, скачки, показы мод также были темами текстильных проектов. Положение обязывало. Работая на компанию Bianchini-Ferier, Дюфи должен был следить за тенденциями в моде, знать вкусы светского общества. И со своей задачей справлялся великолепно.
После окончания Великой войны вновь стал чрезвычайно популярен лаун-теннис. Существовала специальная форма – сорочка и свободные брюки для мужчин, джемпер с плиссированной юбкой миди для женщин. В 1918 году Дюфи создал эскиз, изображающий игру в теннис. На первом плане юноша с ракеткой ожидает подачу девушки, изображенной на втором плане за сеткой. Их одежда, скрупулезно переданная художником, полностью соответствует спортивной моде того времени.
Когда стал популярен джаз, мастер создал эскиз «Джазовый концерт» (начало 1920-х), на котором изобразил светскую музыкальную вечеринку – дам в модных вечерних платьях и господ в белых жилетах и черных фраках.
Жизнь аристократов и мода стали темой масштабных панно, украшавших баржу «Орган» Поля Пуаре во время Всемирной выставки декоративного искусства 1925 года. Были разработаны проекты четырнадцати текстильных панно (или, как он сам называл их, «гобеленов»), каждое размером 11,5 м2. Они не только рекламировали костюмы, но и представляли «жизнь по Пуаре». До художника никто не создавал «рекламных гобеленов» – для целей пропаганды модных товаров использовали банальные бумажные плакаты. Тем самым серия панно Дюфи стала первой в своем роде текстильной look-book, альбомом, рекламировавшим костюмы и аксессуары.
Слава Дюфи росла. В 1927 году Бьянкини поставил Елисейскому дворцу, резиденции президента Франции, сотни метров ткани для оформления интерьеров. Лионский магнат ликовал, предвкушал новые заказы, подсчитывал будущую прибыль. Однако у Дюфи были иные планы. С середины 1920-х годов к мастеру возвращалась слава живописца. О нем стали много писать критики. Были опубликованы первые монографии. К тому же после знакомства с Хосе Артигасом мастер занялся керамикой и в течение 1920-х и 1930-х годов создал 109 ваз и 60 «комнатных садов». Количество заказов росло, времени для тканей почти не оставалось. Дюфи принял решение прекратить сотрудничество с Бьянкини. Его очередной контракт истекал в 1928 году, и продлевать его художник не захотел.
Последней его текстильной работой стала серия эскизов для американской фирмы Onondaga. Впрочем, результаты художника не устроили. Фирма находилась в Нью-Йорке, а Дюфи работал во Франции и не мог должным образом контролировать весь процесс набивки тканей. В 1933-м он разорвал контракт, сославшись на неудовлетворительное качество продукции и дефицит времени. Его работа в области моды длилась в общей сложности 24 года.
«Барон»
Именно так, в кавычках. Барон Адольф Гейн де Мейер – красивая фикция. Он не имел ни титула, ни благородной приставки «де». Не был ни Адольфом – его настоящее имя Адольфус, ни Гейном – его сочинила гадалка. Но все-таки был Мейером – по отцу. И это редкий правдивый факт колдовской биографии мэтра, представленной им в обворожительном расфокусе магической фотокамеры.
Барон Адольф де Мейер.
Автопортрет.
Фрагмент 1920-е годы. flickr.com
Известно, что в 1868 году Адольфус Мейер появился на свет. Впрочем, «появился на свет» – неподходящее словосочетание. Он старательно избегал прямого солнечного света реальности, контрастов, крупных планов, молчал, скрывал и утаивал факты, уничтожил добрую половину своих негативов и этим хорошо насолил историкам фотографии. Итак, Адольфус Мейер родился в 1868 году, но когда точно и где, неизвестно. То ли первого, а то ли третьего сентября, в Париже, а может быть, в Дрездене или где-то в Австрии. Отец был то ли немцем, то ли иудеем, мать – то ли шотландкой, то ли англичанкой.
Барон Адольф де Мейер.
Портрет Гертруды Вандербильт Уитни в костюме от Леона Бакста
1914 год. Библиотека Конгресса (Вашингтон), номер: LC-USZC2-6127
Благодаря архивам Альфреда Штиглица, близко знавшего мастера, установлено, что в 1880-е Мейер учился в Берлине, остался под большим впечатлением от «Юбилейной фотографической экспозиции» 1889 года, начал серьезно заниматься фотоискусством, участвовал в выставках, публиковал снимки в престижном венском Photographische Blätter. И если верить де Мейеру (а верить ему стоит с величайшей осторожностью), в 1894 году он познакомился со своей будущей супругой Ольгой Альбертой Караччоло: «Я впервые увидел ее в Париже, на великолепном скакуне, но по-настоящему влюбился и женился позже, в Лондоне. Это была судьба». И это была отличная пара загадочному де Мейеру.
Барон Адольф де Мейер.
Портрет Гертруды Вандербильт Уитни в костюме от Леона Бакста
1914 год. Фототипия из журнала Vogue (New York).
Частная коллекция
Биография Ольги Альберты Караччоло столь же восхитительно неясная. По происхождению – португалка, итальянка, француженка, американка или англичанка. Мать – дочь дипломата, отец – неаполитанский дворянин. Но слухи, пережившие Ольгу, утверждают, что она незаконнорожденная дочь принца Уэльского, будущего короля Эдварда VII. Официально принц был ее крестным отцом. Она вела бурную светскую жизнь, занималась спортом, обожала верховую езду и фехтование, держала салон, писала стихи, позировала лучшим портретистам – Бланшу, Сардженту, Уистлеру. Говорят, через своего именитого крестного она вытребовала для Адольфа баронство и приставку «де», чтобы вместе с ним присутствовать на коронации Эдварда. Вполне возможно, что это правда.
Барон Адольф де Мейер. Портрет Гертруды Кезебир
1910-е годы. Библиотека Конгресса (Вашингтон), номер: LC-USZC2-5944
Парочка не скучала. В своем лондонском особняке организовали салон, где принимали блистательных аристократов и творческую богему, в венецианском палаццо Бальби-Валье устраивали костюмированные балы. Де Мейер без устали фотографировал знаменитостей, политиков, художников, звезд театра, в том числе Нижинского, став в конце 1900-х одним из самых востребованных светских портретистов. В 1914 году супружеская чета резко, в одночасье погрузилась на паром и уплыла в Нью-Йорк. Они не могли дольше оставаться в предвоенной Европе, ведь там упорно ходили слухи, что Адольф и Ольга шпионят в пользу Германии. Их неожиданное бегство это мнение упрочило.
Американский магнат Конде Наст с нетерпением ждал прибытия парома. И как только де Мейеры сошли на берег и устроились в гостинице, он мгновенно позвонил Адольфу и затараторил в трубку: «Нужны серии снимков моделей в вечерних нарядах, фотография Чарли Чаплина и еще комментарии, а лучше – заметки, знаете, такие легкие, светского характера». Наст и новый редактор Vogue Эдна Чейз не скупились на заказы, понимая, что имеют дело с выдающимся мастером, который еще год назад выполнил для Vogue превосходные фотопортреты Гертруды Вандербильт Уитни в костюме от Леона Бакста. К тому же де Мейер обладал парижским светским флером (очень востребованным в Нью-Йорке) и умел неплохо излагать мысли на бумаге. Словом, он вмиг сделался обозревателем моды, тонко, со вкусом и британским юмором описывал вечеринки, концерты и наряды. Вскоре получил должность штатного сотрудника и титул гениального фотографа моды.
Красота на снимках де Мейера затянута в жесткий корсет ар-нуво. Она медлительна, полнотела и породиста. У нее безупречно выпудренное лицо, длинная шея и чуть вздернутый подбородок. Она торжественно, с толикой презрения смотрит в объектив, окруженная подобострастными комплиментами фотографа и золотым ореолом магического света, который источает алюминиевый прожектор, спрятанный за спиной. В ней есть что-то от Климта и Мухи, от Штиглица и Гертруды Кезебир и кое-что от придворных фотографических красавиц. В ней есть поза и стать. И почти нет деталей. Красота де Мейера – это смутная красота близорукого впечатления, для которого факты губительны. Мастер избегал подробностей, конкретики, резких контрастов и максимального приближения. Между ним и моделями (как между ним и обществом) всегда существовало уважительное расстояние, заполненное недосказанностью, мистификацией, загадками и слухами, пудрой и пылью ателье. Свое абсолютно живописное, импрессионистское «впечатление» де Мейер создавал мучительно долго, выискивая подходящие технические приемы. Он набрасывал на объектив газовую вуаль, которая распыляла детали, и с 1903 года смотрел на красиво умирающий осенний мир сквозь линзы Пинкертона-Смита. И мир умирал от периферии к центру, истаивал, рассеивался льдинками серебра.
Барон Адольф де Мейер.
Портрет Коко Шанель
Harper’s Bazaar, 1923.
Национальная библиотека Франции
Всё это было хорошо для портретов прославленных себялюбцев – актрис, желавших скрыть возраст, политиков, желавших скрыть правду, величавых правителей, желавших скрыть собственную пустячность. Но моде двадцатых годов этот эффект чужд. Мода – это коммерция, соблазн, сотни восхитительных деталей, возбуждающих желание купить во что бы то ни стало и всецело обладать. Де Мейер это, конечно, понимал. Но меняться не хотел, объясняя журналистам: «Одежда затмевает красоту. Увы. И не кажется ли вам, что гораздо приятнее слышать “Какая красивая женщина”, чем “Какое красивое платье”». С ним вынужденно соглашались. Де Мейер снимал, Vogue и Vanity Fair печатали. Долорес, любимая модель мастера, отчаянно ему позировала, красиво раскрывая полупрозрачный павлиний трен на фоне прожектора.
Барон Адольф де Мейер.
Портрет модели в модной пижаме
Harper’s Bazaar, конец 1920-х годов. Фототипия. Частная коллекция
В 1922 году, соблазненный солидным гонораром, барон перешел в Harper’s Bazaar на должность главного фотографа и колумниста европейского отдела. Впрочем, эти офисные перемены, переезды почти не отразились на стиле снимков. Де Мейер упрямо оставался подслеповатым, глуховатым, странноватым эстетом, не замечая буянивших вокруг сумасшедших двадцатых. Он продолжал восхищаться гнутыми линиями модерна и внимать благородной тишине пыльно парчовых салонов. Только получше закрыл окна и плотнее задвинул шторы.
Барон Адольф де Мейер.
Портрет из журнала Harper’s Bazaar
Начало 1920-х годов. flickr.com
Барон Адольф де Мейер.
Реклама для компании Elizabeth Arden
1927 год. Фототипия.
Частная коллекция
В 1926 году маэстро разразился нежданным панегириком в адрес современной моды, такой быстрой, живой, лаконичной, контрастной. Было даже удивительно, что дифирамбы ей пел тот самый де Мейер, эстет, обожавший ретро и картинные позы. Вслед за словами последовали действия. Мастер попробовал изменить стиль – мягко, жалея себя. В 1927 году представил серию рекламных снимков для Элизабет Арден – головы манекенщиц в белых бандажах, белые лица, белые руки, ярко накрашенные глаза и губы, жирно нарисованные брови. Барон выразился весьма конкретно, рекламно, показав преображающий эффект чудесных косметических снадобий. Но все-таки сумел сохранить дистанцию между образом и зрителем. Его манекенщицы, в странных бандажах, в пугающей раскраске, похожи на сюрреалистских манекенов, смотрящих на потребителей стеклянными глазами совершенных произведений искусства. Эта яркая авангардная серия – самый удачный модный проект барона двадцатых годов. А проектом всей его жизни считается «школа де Мейера». О ней заговорили с подачи Сесила Битона, изящного бонвивана, фотографа высоких лиц и высокой моды. Он признал влияние мастера на свои работы, а также поименовал основных «учеников школы», среди которых Эдвард Стайхен, Георгий Гойнинген-Гюне, Хорст. П. Хорст и он сам. Они все были больны тонкой пронзительной женской красотой, умели принимать позы и смотрели на мир по-демейеровски – немного вздернув подбородок.
Прямо о моде
Суть свободнее, мисс Хьюз. Так. Разворот на меня, голову прямее. И губы. Губы разомкните. Будто хотите меня поцеловать. Больше страсти, прошу вас», – Эдвард Стайхен, только что подписавший контракт с Conde Nast, волновался, как мальчишка. Нужно было отснять дамские шляпки для апрельского Vogue. Пустячная, в общем, работа. Но хотелось большего – искусства, позы, красоты. В светлой гостиной он нашел подходящий уголок у окна, отвернул портьеры, впустил рассеянный свет заспавшегося Нью-Йорка и стал ждать. Леонора Хьюз слегка опоздала, так было положено начинающим звездам по этикету.
Эдвард Стайхен.
Автопортрет.
Фрагмент
1929 год
Послушно простучав в указанное место, приняла стандартную позу. Стайхен подошел к фотоаппарату. Потом к танцовщице – поправил шляпу, извинившись, ловко взбил полувоздушные оборки ее декольте. «Отлично. Теперь руки», – он обожал тонкие гибкие женские руки (их обессмертил позже). «Левую – на бок. Отлично. Вторую сюда, на талию, и пальцы – будто дотрагиваетесь до арфы. Превосходно». И теперь главное – Стайхен хотел заставить Хьюз соблазнить фотоаппарат. Но это Хьюз умела без подсказок. Она четыре года успешно проделывала это на сцене, за что получила титул сердцеедки и право ставить автографы на собственном улыбчивом личике почтового формата. Приоткрыв по просьбе мастера красиво накрашенный рот и хитро прищурив в немом соблазнении глаза, она мгновенно влюбила в себя фотоаппарат и того, кто за ним стоял. Стайхен был чрезвычайно отзывчив на свежую женскую журнальную красоту. Фотосессия удалась.
Эдвард Стайхен.
Портрет Леоноры Хьюз
Фототипия из журнала Vogue (New York), 1923.
Частная коллекция
Теперь ее мало кто помнит. Ее затмил величественный гламур второй половины двадцатых. Но именно эти очаровательные утренние образы определили границу в творчестве Стайхена между его сумрачно-утонченным пиктореализмом и «прямой» fashion-фотографией, родоначальником которой он стал.
Стайхен не верил в то, что когда-нибудь сделается баловнем моды, вертким карикатурным улыбчивым щеголем, вечно стрекочущим затвором. Истинные художники света, Штиглиц к примеру, таких парней презирали: «Прислужники бомонда». Мэтр внушил своему лучшему ученику, Стайхену, стойкое к ним отвращение и погрузил его в кофейную муть призрачного фотографического мира, научив наслаждаться растекающимися, дрожащими неверными образами, похожими на вечерние отражения парижских сновидений в мерцающем абсенте Сены. С 1908 года Эдвард работал для Штиглица в столице Франции – следил за бурной художественной жизнью и отбирал лучшее из молодого зубастого авангарда для нью-йоркской галереи «291», которая активно знакомила Соединенные Штаты с прогрессивным искусством Европы. Стайхен много снимал – особенно удавались портреты монументальных современников, в один голос называвших его великим художником, но учитель, Штиглиц, превзошел их в щедрых эпитетах, наградив ученика звучным титулом «величайшего из ныне живущих портретистов».
Эдвард Стайхен.
Модели в платьях от Поля Пуаре
Фототипия из журнала Art et Decoration, 1911.
Архив О. А. Хорошиловой
Но, в отличие от Штиглица, Стайхен не был резко против коммерции. К примеру, по заказу Поля Пуаре в 1911 году отснял рекламную фотосессию моделей для журнала Art et Decoration. Полноватые грации в платьях-туниках, шляпах и тюрбанах бесшумно и отвлеченно блуждали в мерцающем мареве серебристого света. Красиво, стильно и весьма неконкретно, но то была эпоха модерна, и снимки пришлись модельеру и публике по душе.
Эдвард Стайхен.
Портрет Огюста Родена
1900–1903 годы.
Институт искусств Миннеаполиса
Стайхен, впрочем, начинал уставать от салонного марева и декаданса. В 1915 году сделал несколько неожиданно четких снимков лотосов – белые объемные лепестки, с нежными хорошо видными прожилками, купаются в серебристо-серой тени над черной бездной. Это первые примеры «прямой» фотографии в творчестве Стайхена. А потом началась война, был стремительный бег из Парижа в Нью-Йорк. Батистовая вуаль, закрывавшая объектив его фотоаппарата, растворилась. В 1917 мастер отправился на фронт в составе авиационного корпуса фотографов. Он видел и четко фиксировал горящие деревни и развороченные траншеи, позиции неприятеля, огневые точки. Требовалось вглядываться и смотреть в оба. Стайхен старался и вполне заслуженно получил от французского правительства орден Почетного легиона.
Эдвард Стайхен.
Портрет княгини Ирины Александровны Юсуповой. Фрагмент
Фототипия из журнала Vanity Fair, 1924. flickr.com
Война закончилась, он уволился из армии и вновь уехал во Францию, в местечко Вуланжи, как говорил, «для отдыха и семейного счастья». Не было ни того ни другого. С 1919 по 1922 год без устали искал себя, отказался от пиктореализма, пробовал новые ракурсы, но получалось плохо. В 1921 году драматично расстался с супругой. Без сил, без семьи, без стабильного заработка, сорокалетний фотограф решил вернуться в Соединенные Штаты, где, как ему казалось, легче найти работу. Стайхена еще помнили ценители прекрасного, галеристы и редакторы журналов. Стоило попробовать. Как раз в это самое время Vogue громко со скандалом покинул его главный fashion-арбитр Адольф де Мейер, и Эдвард обратился прямиком к Фрэнку Крауниншилду, редактору Vanity Fair. Встретились, помянули былое и ударили по рукам. Стайхена назначили главным фотографом журнала с правом публиковать снимки в Vogue, также принадлежавшем концерну Conde Nast.
Так бывает только в кино – талантливый молодой человек легко, по щелчку пальца и затвора, создает один гениальный снимок за другим, довольный редактор (непременно в подтяжках, с жирной сигарой в зубах) потирает руки, публика рукоплещет и мир падает к его ногам. В жизни было не так. Стайхен боялся, как мальчишка, камеры, редакторов, моделей, себя, а еще он боялся тени де Мейера, преследовавшей его, словно призрак из фильмов Мурнау. И он поддался этому страху настолько, что первые фотосессии вышли очень похожими на элегантные сепии великого предшественника. Но, к счастью, амбиции перебороли неуверенность. В апреле 1923-го Стайхен превосходно отснял Леонору Хьюз в рекламных шляпках, открыв «прямую» фотографию в моде. И не случайно, что к этому первому серьезному творческому прорыву была причастна кинозвезда.
Кино сформировало Стайхена. Возможно, эти влажные и смелые взгляды, эти свежие, приоткрытые для поцелуя «уста Купидона» он подсмотрел в «синема», преобразив экранную откровенность в фотографическую «прямоту». Голливудские крупные планы определяли стиль Стайхена с середины двадцатых. Он режиссировал мизансцены, словно кадры фильма. На чудном снимке «В царстве неглиже» 1926 года две улыбчивые модели полулежат на кушетке, перебрасываются колкостями и одновременно стараются соблазнить фотографа, чье незримое присутствие здесь явно ощущается. Гарбо и Гилберт на снимке 1928 года замерли в подготовленных красивых позах, будто ждут хлопушки и призывного «начали». Красивая модель в пижаме от Molyneux заигрывает с кем-то невидимым, кажется, еще секунду – и камера последует за ее взглядом. Голова Полы Негри в тюрбане из ламе повисла в абстрактной мути – словно это не фото, а рекламный киноплакат. Стайхен в авангардно режиссерском стиле выхватывал из жизни детали, заставляя зрителей восхищаться чьими-то ножками в джазовых туфлях и пляжных сандалиях, перстнями, серьгами, дымом сигарет и длинными тенями стройных египетских кошек из неснятых снов Говарда Картера.
Эдвард Стайхен.
Портрет Марион Морхауз в платье от Cheruit
1927 год. Архив аукционного дома Phillips, лот 158.
Номер: edwardsteichenny040210158
Со временем мизансцены усложнились, мастер пригласил на работу нескольких ассистентов – визажистов, стилистов, осветителей. То, что происходило в ателье во время работы, напоминало съемочную площадку киностудии. Стайхен командовал убедительно – не хуже Гриффита и Пабста. Есть и другое, что роднит его с кино. Мастер обладал абсолютно режиссерским талантом делать из моделей звезд. Так было, к примеру, с Марион Морхауз, стройной, банально красивой девушкой с чувственным ртом и лучистыми глазами, каких на Манхэттене было тогда много. Стайхен ее обожал и снимал бесконечно – в дневных и вечерних туалетах, модных пижамах и неглиже, в строгих рединготах и фланелевых блейзерах. И в конце двадцатых Морхауз стала супермоделью – первой в истории fashion-бизнеса.
Но фотограф добивался и обратного эффекта. Приходившая к нему беспорочная, превосходно отретушированная, сиятельная звезда экрана покидала студию запросто – Глорией, Анной, Гретой. Стайхен делал их доступнее. Актриса Сильвия Сидни просто лежит и откровенно смотрит в глаз объектива, не стесняясь его слишком близкого присутствия. Актриса Гертруда Лоуренс делает Стайхену длинный глаз, игриво прикрыв другой черным веером. Режиссер Йозеф Штернберг тонет в мыслях, в кресле и черном пиджаке – позирует только его сигаретка. Пианист Владимир Горовиц с боязливой осторожностью выглядывает из-за крышки рояля – и в этом весь Горовиц. Стайхен тонко намекал на бесспорно земное происхождение звезд мизансценой, крупными планами, жестами и ловким сочетанием света искусственного, голливудского, и света естественного, прямиком из реальности.
У Стайхена было превосходное чувство формы, обострившееся под влиянием парижской школы. Он умел фотографировать кубистический текстиль и даже сочинял абстрактный орнамент – раскидывал, к примеру, спички, жал на затвор, обрабатывал получившиеся снимки до абстракции и отправлял в компанию Stehli Silks Corporation, которая превращала их в восхитительные набойки. Стайхен знал, как совместить абстракции с гибким женским телом, чтобы получились спокойные, информативные рекламные фотографии высокохудожественного, почти авангардного, качества. Гениальность Стайхена как раз заключалась в том, что он умел балансировать на грани между сладкой рекламой, салонной красивостью и резким прямолинейным новым искусством.
«Glamour boy»
Пока месье Боше сыпал громкими фразами и жестикулировал, Эдна Чейз, редактор журнала Vogue, внимательно рассматривала Георгия ГойнингенаТюне, тихо им восхищаясь. «Такие правильные черты. Лицо вытянутое, почти британское. Холодные северные глаза, тонкий нос, длинные холеные руки. Движется плавно, с достоинством. Спокойный, красиво уверенный. Этот русский – настоящий аристократ. Со связями. Он вполне подойдет». «И вы, кажется, умеете рисовать, не так ли», – спросила из вежливости. «Да, да, он хорошо… он отлично рисует», – захлебывался месье Боше. Быстро пробежав глазами по эскизам, ладным, стройным, не без таланта, Эдна Чейз подытожила: «Господин Гюне, вы приняты».
Фотограф потом много раз вспоминал эту встречу. Говорил, что именно тогда, в 1925 году, получил «первую настоящую работу». И добавлял: «Чейз заинтересовалась мной потому, что я знал всех самых красивых девушек Парижа». Гюне действительно был бонвиваном, завсегдатаем дансингов и вечеринок. «Glamour boy» – так себя называл. Но Чейз увидела в нем не просто тусовщика, а породистого тусовщика с развитым чувством красоты. У Георгия оно было абсолютным, генетическим.
Он родился в 1900 году в Петербурге, «самом аристократическом городе мира». Отец, Федор (Бартольд) Федорович, бывший блистательный кавалергард, состоял шталмейстером при дворе и занимался покупкой великолепных скакунов для царских забав. Мать, Анна Георгиевна, была дочерью посланника Соединенных Штатов в России. Родители вели светский образ жизни – балы, приемы, праздничные обеды, Большие выходы. Иногда брали с собой сына. Георгий отлично помнил терпкий запах «Кельнской воды» и нежный сладковатый аромат пудры, звенящий рождественский мороз и леденцовые дворцы в золотом морозном крошеве, наполированный паркет Зимнего, умножавший вдвое роскошь вельмож и жар тысяч свечей. Георгий восторженно замирал, когда мимо него, послушного мальчика в бархатном костюмчике, шуршали сказочные платья из серебряного глазета, золотой парчи, малинового бархата. А потом в полусне он все считал жемчужины на их подолах, которые вкусно перекатывались, летели на пол, разливались заманчивой млечной пеленой. И Георгий засыпал.
Сесил Битон.
Портрет Георгия Гойнингена-Гюне
Фототипия, 1930-е годы.
Архив О. А. Хорошиловой
В 1910 году он поступил в Александровский лицей. Учился не бог весть как. Очень любил путешествовать, часто сопровождал родителей в поездках по Германии, Франции, Италии. И понял, что Европа нравится больше – Петербург казался тусклым, морозным, режимным городом, да к тому же в 1914-м получил раскатистое имя Петроград – какое-то уличное, булыжное. Для Первой мировой Георгий был слишком юн. Он переехал вместе с матерью в удобную тихую Ялту, куда в 1917 году пришли вести о революции. Гюне поспешно эмигрировали в Англию. Но и там не суждено было осесть. Родители подались во Францию, а Георгий в 1918 году в составе британского экспедиционного корпуса отправился на белый Юг России в качестве военного переводчика. Были бои, мытарства по городам, стычки с Махно, вши и тиф, Новороссийск и бегство в Константинополь. В 1921 году он приехал к родителям на французскую Ривьеру, но вскоре перебрался в Париж в поисках хоть какого-нибудь заработка.
Георгию повезло. Его сестра Елизавета в 1922 году открыла Дом моды Yteb, быстро получивший известность и начавший приносить доход. Она попросила делать для нее рисунки моделей. Сначала получалось скверно. Карандаш не слушался, фигуры выходили деревянными. Гюне записался в художественные студии «Ла Гранд Шомьер» и «Коларосси», кое-что понял о строении тела и драпировках, приноровился копировать слепки и скелеты. Андре Лот, знакомый авангардист, научил его чувствовать форму, не бояться ракурсов. Полученных знаний и навыка вполне хватило, чтобы рисовать для Yteb.
Впрочем, это не было единственной работой. Георгий много выходил в свет, прекрасно понимая, что художник моды должен находиться среди расфранченных господ и очаровательных бархатистых старлеток. И ему среди них нравилось. Превосходные внешние данные, связь с русским двором усилили к нему интерес. Гюне постепенно оказался в центре внимания, сделался своим парнем и даже открыточно заигрывал с модницами, хотя женская красота его почти не волновала.
Офицер лейб-гвардии Кавалергардского полка барон Бартольд фон Гойнинген-Гюне, отец Георгия
Конец 1890-х годов.
Частная коллекция
Тогда он стал тренировать память. «Удивительно, как легко человек может запомнить сотни деталей, при желании», – вспоминал Гюне через много лет. Приходил, к примеру, в клуб «Le Boeuf sur le Toit» или на маскарад в Гранд-опера, красиво пил, общался, делал изящные комплименты и внимательно разглядывал наряды. Через два часа в своей мастерской он зарисовывал увиденное – почти точь-в-точь. Вероятно, с помощью оперной певицы Кэтлин Говард познакомился с ее сестрой, Марджори, редактором журнала Harper’s Bazaar, которая начала публиковать его графику. «Glamour boy» Гюне превратился в художника моды.
В том же 1925 году он стал работать для Vogue. Помимо иллюстраций готовил задники и помогал ставить свет для фотосессий, в общем, не без удовольствия. И тут ему еще раз очень повезло – не пришел на съемки фотограф. Его тщетно ждали битых два часа – ассистенты за прожекторами, модели в гриме на стульях. Тишина. Фотографа нет. Гойнинген-Гюне, набравшись смелости, предложил себя на замену, уверив редактора, что сделает съемку не хуже исчезнувшего мэтра. Сделал. Снимки понравились. Так Гюне стал fashion-фотографом Vogue.
В интервью, много позже, он говорил, что хотел освободить женщин, сделать их естественнее в кадре: «Моделям приходилось позировать для широкоформатных камер 8x10, с которыми управляться было сложно, съемка отнимала много времени, и в результате модели получались такими, словно позировали не для фото, а для портрета. Я хотел, во что бы то ни стало, освободиться из этих технических оков, сделать fashion-фотографию более жизненной. Я попробовал ввести нескольких персонажей в кадр, но даже так они напоминали восковые фигуры. Я экспериментировал несколько лет»[35]. Если точнее, с 1926 по 1927 год. В мастерской Гюне росли стопки интересных и очень неудачных снимков (слишком резкий ракурс, слишком яркий свет, слишком размашистые движения моделей), а на книжных полках его гостиной выстраивались белыми корешками свежие номера Vogue с его фотографиями – правильными, милыми, красивыми и совершенно неинтересными. Дама сидит, дама стоит, дама в полоборота с собачкой и дама с собачкой в профиль, парфюмы, сервизы, парчовые туфли, кое-что от Стайхена и очень много от барона де Мейера.
Георгий Гойнинген – Гюне.
Мисс Алисия в купальном костюме от Жана Пату
Журнал Vogue (Paris), 1928.
Частная коллекция
Георгий Гойнинген – Гюне.
Модели в купальных костюмах
Журнал Vogue (Paris), 1929.
Частная коллекция
Георгий Гойнинген – Гюне.
Купальные костюмы от Эльзы Скиапарелли
Журнал Vogue (Paris), 1928.Частная коллекция
Прорыв случился в 1927 году. Для июльского номера Гюне сделал несколько снимков моделей в купальных костюмах Марии Новицкой. Здесь еще нет резкого светового контраста и диагональных плоскостей, но Георгий решился использовать птичью перспективу и придумал интересную компоновку тел – они движутся шипящей змейкой (слухов, пляжного жеманства, пошлых шуточек) из нижнего левого в правый верхний угол. Свежо, звучно, жарко, пляжно, и сложно поверить, что группа лежит под беспощадными прожекторами парижской фотостудии. В том же году Георгий сделал несколько очень живых ироничных снимков Джозефины Бейкер. Здесь впервые появилась резкая контрастная диагональ, подведшая итог ученическим поискам. С нее начался зрелый период Гойнингена-Гюне, мэтра фотографии.
Георгий Гойнинген-Гюне. Герцогиня Арманд де Николаи
Журнал Vogue (Paris), 1928. Архив О. А. Хорошиловой
Георгий Гойнинген-Гюне.
Дама в пальто от Мадлен Вионне
Журнал Vogue (Paris), 1928. Архив О. А. Хорошиловой
В 1928 году Георгий снимал моделей в трикотажных купальных костюмах от Жана Пату. Смело завалил линию горизонта, кинул спортсменке гимнастические кольца, на которых она, казалось, вот-вот вылетит из кадра прямиком в голубой бассейн. Вторая пловчиха, в купальнике от Жанны Ланвен, кажется, только что приземлилась. В декабрьском номере опубликовали милые живые снимки лыжников. Один особенно удачный – молодые люди и девушки в вязаных свитерах от Скиапарелли и Реньи танцуют в какой-то швейцарской таверне. Будто это не фото, а стоп-кадр из немого фильма. Гюне, как и его учитель Стайхен, обожал кино.
Георгий Гойнинген-Гюне.
Модели в лыжных костюмах
Журнал Vogue (Paris), 1928. Национальная библиотека Франции
Мастер, однако, не отказывался от статичных композиций и напряженно позирующих моделей, особенно когда снимал вечерние и бальные наряды, которые сами подсказывали это решение. Но в историю моды Гойнинген-Гюне вошел именно благодаря своим спортивным ракурсным снимкам, геометрическим композициям, задорно выпрыгивающим из кадра моделям и той крепкой литой парочке со стрижеными затылками, которая, красиво напрягая мускулы, наблюдает стальной рассвет тридцатых.
В предвоенные годы Георгий продолжал много работать. Добившись успеха в Vogue, перешел в Harper’s Bazaar под крыло талантливого Алексея Бродовича. Слава, признание, первые полосы глянца. Чего же боле? Но Гюне не был счастлив: «Высокий стиль мертв». Окончательно уверовав в это, мастер покинул Harper’s Bazaar в 1945 году. Во время своего прощального визита в редакцию он случайно, практически в дверях, столкнулся с молодым стеснительным очкариком Ричардом Аведоном. Очкарик эмоционально всплеснул руками, восторженно засверкал стеклами и осыпал мэтра комплиментами, добавив, что его недавно взяли на работу в журнал и он абсолютно счастлив. Гюне вздохнул, покачал головой: «Слишком поздно, молодой человек. Слишком поздно. Высокая мода умерла». Поклонился и вышел. Так разошлись две эпохи fashion-фотографии.
Георгий Гойнинген-Гюне.
Хорст П. Хорст и девушка-модель демонстрируют плавательные костюмы от компании Izod
1930 год. Фототипия, flickr.com
Глава 7 Двадцатые без двадцатых. НЭП
Россия могла бы стать центром мирового дизайна. Все для этого было. Фабрики и заводы, старые, отобранные у «буржуев», но станки на ходу – только обновить.
Владимир Маяковский в элегантном шерстяном костюме
1920-е годы.
Склады, набитые мехами, шелками, кожей, шерстью, льном. Грамотные рабочие, доставшиеся нагловатой республике от старых буржуазных времен, ценивших качество, выверт, искусность детали. Были инженеры-технологи, в пенсне и роговых очках, с ворохом превосходно рассчитанных проектов в головах-портфелях. И художники, романтики и неврастеники, слышавшие музыку сфер и умевшие ее воплотить в красках, дереве, металле. И космос был виден из каждого подвального окошка их мастерских.
Жители Петрограда стоят в очереди за дровами
Около 1918 года.
Архив О. А. Хорошиловой
Но Россия, тяжело и грубо покончив с одной войной, развязала другую, гражданскую – сначала на фронтах внешних, а потом на внутреннем – партийном, идеологическом. Битва шла с переменным успехом и окончилась в 1929 году, который назвали «Великим переломом» – костей, жизней, судеб самой страны.
Только восемь лет длился НЭП. Он имел мало общего с глянцевитой упитанной американской «просперити» и европейскими «les annees folles», пахнувшими пудрой, телом, гашишем. НЭП был торговой бурей перед лагерным затишьем, анастетиком интеллигенции, пенициллином большевиков, мечтавших оздоровить рубль и наполнить казну перед долгожданной казнью инакомыслия.
Россия могла бы стать центром дизайна. Здесь могли появиться свои форды, голдвин-майеры и максы факторы, джаз-банды, дансинги и кутюрье. Но было всего восемь лет – рождение и раннее детство в шелковых пеленках НЭПа, первые звуки и первые неуверенные шаги в высокое искусство красивой жизни. Двадцатые были в проекте, в генетике их романтиков-творцов, которым Россия не дала вырасти. Растоптала эксцентрический театр, задушила авангард, затянула экспериментальное киноискусство грубым армейским поясом пропаганды.
Парадокс, но именно благодаря этим детским годам Россия вошла в историю современной культуры. Она потрясла мир не крупнокалиберными орудиями, а талантливым, хоть и наивным, искусством. Пеленки впервые победили знамена.
На улицах Петрограда.
Гражданин на первом плане одет в довоенное пальто и фуражку
Около 1918 года. Архив О. А. Хорошиловой
«Позолоченная бедность»
Петрограде даже летом было очень холодно. Люди зябли, едва передвигали ноги. Шамкали по желтым улицам, словно дистрофики по коридору мертвецкой. Экономная власть их списала в расход без патронов – дала возможность умереть самим, тихо, незаметно истлеть папиросной бумагой под холодным военным солнцем.
Невский, когда-то бойкий и расфранченный, опустел и опустился. Здесь, на проспекте 25 Октября, бесстыже испражнялись и мочились. Прели горы мусора и дымными облаками роились над падшими клячами мухи. Здесь надсадно задувал колкий ветер, смешивая золу пожарищ с пылью фекалий и клочками газетных фраз. Новости никого не интересовали. Город был в блокаде. Он умирал.
Желто-серые дома, облупившиеся, побитые, оплеванные хмельными революционными пулями, виновато сутулились, стесняясь нищей своей наготы. Оконные стекла исчезли одновременно с пенсне. Пустые рамы затыкали какой-то рванью. И дома покрывались синесерыми нарывами. Сбита лепка, медные ручки, вообще все осанисто-имперское. Парадные намертво заколочены. Пользовались черным ходом. Двери никто не закрывал, они хлопали от ветра и пустоты – замки давно сорваны, дворники истреблены в классовом порядке, после великих князей и городовых.
Люди пухли от голода, а советская канцелярия именовала это «сидением на классовом пайке». Пайков придумали четыре вида. Самый большой получали рабочие, которые, впрочем, тоже недоедали. Самый мизерный, «голодный», предназначался для нетрудового элемента и являл собой изощреннейшую китайскую пытку – еду для голодного умирания. Но эти, приговоренные, быстро научились выживать – занимались «пайколовством». «Я получал общий гражданский, так называемый голодный паек, – вспоминал Юрий Анненков. – Затем “ученый” паек, в качестве профессора Академии художеств. Кроме того, я получал “милицейский” паек за то, что организовал культурно-просветительскую студию для милиционеров… Я получал еще “усиленный паек Балтфлота”, просто так, за дружбу с моряками, и, наконец, самый щедрый паек “матери, кормящей грудью” за то, что читал акушеркам лекции по истории скульптуры». Прибавим к этому списку здоровое чувство юмора, паек, выданный Анненкову природой, который спасал его много раз в России и на чужбине.
Рабочие получали самый большой паек и одевались заметно лучше. На многих – кожаные куртки периода Первой мировой войны
Около 1919 года.
Архив О. А. Хорошиловой
Счастливцы-собиратели из «бывших» плелись на рынки и там обменивали годами накопленное за корку хлеба, ложку масла, крупу, картофель. Так исчезали бесценные коллекции искусства. Великолепные библиотеки гибли в огне – петроградцы боролись с холодом, согреваясь прожорливыми буржуйками. Жгли все подряд – романы, журналы, стихи, раритетные издания, автографы. Повезло юристам и общественным деятелям – их библиотеки хранили многотомные собрания законов Российской империи, которые хорошо и долго горели. В годы беззакония согревались законами.
Юрий Анненков.
Автопортрет
1953 год. Фототипия 1950-х годов.
Люди не мылись, потому что застыл водопровод и лопнули трубы. Техническую желтую жидкость нужно было носить ведрами, но сил не хватало. Нечистоты выливали из окон. Петербург погружался в темное средневековье, которого не знал генетически. Электричество пропало в 1918 году, а в следующем закончился керосин, желтым светом изредка всхлипывали по углам газовые фонари. Автомобили тоже исчезли – не было бензина. Но и лошадей почти не осталось – одни пали, других растерзали голодные горожане. Без удобств, без света, без звука, без времени. Сутулясь от холода и непроходящей усталости, люди потерянно бродили черными запятыми по опустелым строчкам петроградских улиц. Насыщенная сложносоставная «старорежимная» жизнь выцвела, исчезла, оставив после себя лишь эти беззвучные знаки препинания, ничего не объяснявшие, ничего не значившие. Мертвые иероглифы мертвого языка.
Советская модница, возможно жена или подруга комиссара, в эффектном платье. Волосы тщательно уложены
1920 год. Архив О. А. Хорошиловой
И в этом безвременье, на дне вонючей выгребной ямы Петрограда, находились такие, кто согревался мыслями о прекрасном, воплощая собой афоризм Уайльда: «Мы все погрязли в болоте, но некоторые из нас смотрят на звезды». Поэты продолжали разговаривать с дистрофичными музами, писатели перебивались рассказами на злобу дня и упорно сочиняли в стол для вечности. Корней Чуковский, один из лучших переводчиков Уайльда, работал на износ, чтобы окончательно не сгинуть в болоте. И все пытались одеваться, пытались выглядеть по-светски. «Во мне, как в очень многих теперь, проснулась “гордость бедности” – правда, “позолоченной бедности”. Ведь мы все еще прекрасно одеты и живем в больших барских квартирах»[36], – утешала себя Ирина Одоевцева.
Впрочем, «прекрасно одеты» значило совсем не то, что в былые времена. Петроградские интеллектуалы и бонвиваны 1918–1920 годов придумали какой-то невообразимый сумасшедший гротескный костюм из всего, что еще оставалось в их шкафах и сундуках. Смело соединяли несоединимое, новое с заношенным до дыр, вечер с неглиже, зиму с летом, военное с гражданским. «Перелицованное ватное пальто, зеленая шапка “мономаховского” фасона, валенки, сшитые на заказ у вдовы какого-то бывшего министра, из куска бобрика (кажется, когда-то у кого-то лежавшего в будуаре), на медных пуговицах, споротых с чьего-то мундира» – так одевалась зимой Нина Берберова.
Ирина Одоевцева выходила на улицу в демисезонном пальто военных лет, в непременной шляпке – девичьей, соломенной, родом из Прекрасной эпохи – и белых бальных перчатках: «Их у меня было множество – целые коробки и мешки почти новых, длинных бальных перчаток моей матери, сохранявшихся годами аккуратно, “на всякий случай”. И вот, действительно, дождавшихся “случая”»[37]. Дамы донашивали то, в чем провожали на фронт Великой войны братьев и мужей. «А вдруг в Европе за это время юбки длинные или носят воланы. Мы ведь остановились в 1916 году – на моде 1916 года»[38], -спрашивала Ахматова у Чуковского, а тот лишь смущенно плечами пожимал. Некоторые вытаскивали из нафталина «хромые» юбки Пуаре, а в юбках на «кринолинах», популярных в 1915–1917 годах, и серых валенках отправлялись в театр. Проклиная бедность, шили нарядные платья из занавесок, а из драпировок – шубы, и не думали, что через несколько лет Соня Делоне и Эльза Скиапарелли сделают то же самое в авангардной и свободной Европе.
Модница Лиля Брик
1923–1924 годы. Фототипия.
Архив О. А. Хорошиловой
Лиля Брик одна из немногих в Петрограде позволяла себе новые вещи и экстравагантности – не из бедности, а исключительно из прихоти. Она купила «веселья ради» пару красных чулок и расхаживала в них по дому, «когда никто не видит», впрочем, иногда по дому она любила расхаживать обнаженной.
Мужчины одевались тогда еще необычнее. «Самцы наряднее и эффектнее самок», – горько шутила Одоевцева. На весь мерзлый Петроград прославился своим костюмом Владимир Пяст – в минус двадцать он скорехонько бегал, одетый в легкий плащ-«непромокайку», канотье и светлые клетчатые брюки, переименованные друзьями в «двустопные пясты». Мандельштама тоже часто видели в «макферлане» и канотье не по сезону, но в Киеве он позволял себе больше – вышагивал по Крещатику в дареной шубе с воротником из обезьянки и невероятной шапке, обшитой дамской горжеткой.
Эстет из эстетов Михаил Кузмин сделался похожим на запыленную фарфоровую фигурку маркиза, забытую в разграбленной антикварной лавке: «Под полосатыми брюками ярко-зеленые носки и стоптанные лакированные туфли… В помятой, закапанной визитке, в каком-то бархатном гоголевском жилете “в глазки и лапки”. Должно быть, и все остальные триста шестьдесят четыре вроде него… Стекла пенсне Кузмина, нетвердо сидящие на его носике и поблескивающие при каждом движении головы… Я замечаю, что его глаза обведены широкими, черными, как тушь, кругами, и губы густо кроваво-красно накрашены»[39]. Кузмин в ту блокаду был единственным, кто осмелился носить эксцентрический макияж. Но после 1921 года такой художественной раскраской эпатировали советских граждан нервные юноши-гашишисты.
Осип Мандельштам
Начало 1920-х годов. Частная коллекция
Владислав Ходасевич щеголял в длиннейшей шубе своего брата-адвоката и френче из перелицованного фрака. Георгий Иванов выделялся из шутовской толпы серьезных творцов своим слегка надменным буржуазным стилем – темно-синим отлично скроенным костюмом и свежайшей сорочкой, «белой дореволюционной белизной» (Ирина Одоевцева). Николай Гумилев примерял пейзанство и напоминал финского лесоруба в меховой дохе и ушастой шапке. Блок тоже бросил эстетские манерки и ходил в помятом пиджаке поверх толстой просторабочей фуфайки, которую в дни праздничные менял на белый шерстяной свитер.
«Обувь берлинская, шляпы римские, костюмчики московские, старенькие, совсем не по моде», – отзывался Юрий Анненков об одежде современников и собственном гардеробе. Художник, хотя и донашивал спокойные городские тройки, придумал себе блесткий аксессуар – монокль, который носил в любое время суток и при любом политическом строе. И после, оказавшись за границей, блистал им на Монпарнасе и холмах Голливуда.
Владимир Пяст
Фототипия портрета Юрия Анненкова.
1920-е годы.
Юрий Анненков в Голливуде.
В правом глазу заметен монокль, визитная карточка художника
1950-е годы. Частная коллекция
Театральная молодежь не отставала от мэтров. Ирина Одоевцева: «Многие студисты и актеры и художники безудержно рядятся в какие-то необычные тулупы, зеленые охотничьи куртки, френчи, сшитые из красных бархатных портьер, и фантастические галифе. Не говоря уже о разноцветных обмотках и невероятно высоких и лохматых папахах. И где только они добывают весь этот маскарадный реквизит?»
Некоторые добывали «маскарадный реквизит» в армейских цейхгаузах, где еще в Великую войну скопилось несметное количество тканей, сукна, кожаных курток, галифе и защитного цвета рубах. Правда, доступ в эти заповедные склады был строго ограничен – там копошились партийцы и сытые граждане с волшебными пропусками. Выходили они из цейхгаузов без пяти минут наркомами – одетые добротно, ловко, с иголочки. Этим щеголям придумали даже кличку – «кожаные куртки». «Комендант Наркомпроса товарищ Ган – весьма колоритная фигура, – отзывалась Наталия Сац, – коренастый, одетый во все кожаное, с кобурой на поясе»[40].
Комиссары Гражданской войны в различных видах форменного костюма.
Их стиль стал одним из самых популярных в России эпохи военного коммунизма
Около 1919 года. Архив О. А. Хорошиловой
«Комиссарский» шик, надо сказать, оказывал на граждан магическое влияние и часто заменял их владельцам пропуска. Об этой народной слабости к «силовым» эффектным костюмам знали не только служащие, но и смекалистые интеллектуалы, к примеру Николай Оцуп. Поэт любил наряжаться с партийным шиком, когда нужно было выбить какую-нибудь бумажку, льготу или билет. Ирина Одоевцева приводит такую забавную историю: «У подъезда я встретила Николая Оцупа, румяного, улыбающегося, белозубого, в ярко-желтых высоких сапогах, с таким же ярко-желтым портфелем, в суконной, ловкой поддевке, с серым каракулевым воротником и серой каракулевой шапке.
Вся эта амуниция досталась ему из Шведского Красного Креста, где когда-то служил его теперь эмигрировавший старший брат. Она придает ему такой нагловатый комиссарский вид, что “хвостящиеся” перед кооперативом граждане безропотно и боязливо уступают ему очередь, как власть имущему.
В прошлое воскресенье мне и самой удалось воспользоваться магической силой портфеля и желтых сапог. Мы с Мандельштамом и Оцупом проходили мимо цирка Чинизелли, осаждаемого толпой желающих попасть на дневное представление <…>.
– А почему бы и нам в цирк сейчас не пойти? – предлагает Оцуп. – Хотите? Я это мигом устрою.
Служащий в солдатской шинели, которую он, вероятно, раздобыл на одном из петроградских военных складов
1921 год. Архив О. А. Хорошиловой
Чета Ермаковых в костюмах военного времени.
На даме – платье кроя 1913–1914 годов На мужчине – фронтовой френч. Петроград
1919 год. Архив О. А. Хорошиловой
Служащий в военном френче, галифе и фуражке
1921 год. Архив О. А. Хорошиловой
Военные френчи продолжали быть актуальными и после окончания Первой мировой войны. Этот тип одежды стал весьма моден среди рабочей интеллигенции советской республики
1919–1920 годы.
Архив О. А. Хорошиловой
– Что вы, что вы, Николай Авдеевич. Это невозможно, – испуганно протестует Мандельштам. – По такому холоду да в очереди мерзнуть. И ведь “толпа-многоножка” уже все билеты разобрала. В другой раз. Весной. Когда теплее будет.
Но Оцуп, не слушая Мандельштама, уже размахивает, как саблей, своим желтым портфелем, прокладывая дорогу в толпе, и пробирается к кассе, увлекая нас за собой <…>.
– Вот что, товарищ кассир, – говорит он отрывисто командирским, не терпящим возражений, тоном. – Схлопочите-ка нам ложу. Хотим ваших лошадок и клоунов поглядеть. Товарищ Троцкий шибко хвалил…
Эффект полный.
Через пять минут мы, с трудом разыскав прячущегося за чужими спинами перепуганного Мандельштама, уже сидели в ложе, куда нас провели с поклонами…»[41]
У «кожаных курток» были спутницы – их секретарши, молодые смазливые барышни с неоконченным средним, что, впрочем, не мешало им заведовать делами своих глянцевито-кожаных начальников. Они были авторами «секретарского шика», подразумевавшего красивые ткани, платья в парижском вкусе с вышивкой и вечерним декольте, теплые элегантные пальто с обязательным меховым воротником или горжеткой, шляпки-клош и полный перебор с макияжем. Корней Чуковский таких презирал: «У его (Бориса Каплуна. – О. X.) дверей сидит барышня – секретарша, типичная комиссариатская тварь: тупая, самомнительная, с тем же тяготением к барству, шику, high life у. Ногти у нее лощеные, на столе цветы, шубка с мягким ласковым большим воротником, и говорит она так: “Представьте, какой ужас, – моя портниха…”»[42].
Лев Лунин, командир 2-го эскадрона 1-го Отдельного конного полка, в рабочем кабинете. На нем военная шинель и фуражка
Петроград. Февраль 1919 года.
Неплохо одевались военные, служившие в императорской армии и перешедшие на сторону красных. Они донашивали прочные вещи превосходного качества – шинели и полушубки, толстые шерстяные бриджи и галифе из равентуха, «шведские» кожаные куртки, фуражки, папахи, финские шапки, валенки и бурки. Появилась традиция вещами награждать. К примеру, Михаил Павлович, преподаватель Военной академии РККА, получил из «собственных рук» Николая Подвойского папаху и кожаную куртку, «по тем временам весьма ценные и полезные подарки» [43]. С ними он позже отправился на фронт.
Впрочем, и военные и «кожанки» щеголяли в своей фатоватой одежде неуверенно. Вечером и ночью, а иногда и днем в Петрограде орудовали банды налетчиков. Снимали шубы, костюмы, срывали шапки, безжалостно били и резали пешеходов. Когда шли пешком и без сопровождения, надевали что-нибудь похуже, чтобы не привлекать внимания.
Рисковали и беспартийные щеголи. Слишком красивый «старорежимный» костюм или котелок мог заинтересовать не только налетчиков, но и властей предержащих. Бородка, пенсне, профессорское пальто с каракулевым воротником – все это считали признаками «буржуев», которых без разбора и отдыха шлепали у стен Петропавловской крепости развеселые солдаты и краснощекие краснофлотцы. В ров у равелина можно было угодить просто за банальную серую фетровую шляпу или трусливо дрожащее пенсне.
Красный командир Лев Лунин в шинели времен Первой мировой войны
Павловск, март 1918 года.
Архив О. А. Хорошиловой
Дама, одетая с «секретарским шиком»
Петроград. 1920–1921 годы. Архив О. А. Хорошиловой
Молодые советские декаденты в маскарадных костюмах
Петроград. Около 1921 года. Архив О. А. Хорошиловой
То, в чем боялись выходить на улицы, надевали в маскарад. Костюмированные балы по хорошей старорежимной привычке устраивали в январе как бы в память об отмененном Рождестве. Являлись в лучшем, то есть в том, что не износилось и выглядело прилично. Получался хаос, простительный в маскараде, но без хлопушек, задорного конфетти, всполохов цвета и огненной шутки. Владислав Ходасевич присутствовал на костюмированном балу 1920 года в Институте истории искусств: «Помню: в огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади – скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург – налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале»[44].
В начале 1920-х было непросто найти хорошие маскарадные костюмы. Поэтому в дело шли любые предметы – в том числе шторы и трубы граммофонов
Петроград. Около 1921 года. Архив О. А. Хорошиловой
Любитель восточной эксцентрики в пестром маскарадном костюме, раздобыть который в послевоенном Петрограде было не так просто
Фотография В. М. Коваленко, 1920-е годы.
Коллекция А. А. Классена (Санкт-Петербург)
В январе 1921 года исхудавшие интеллигенты организовали костюмированный бал в Доме искусств, на который особо смелые или более благополучные пришли в тематических нарядах – Юрий Юркун и Ольга Арбенина изображали фарфоровых пастушка и пастушку, Лариса Рейснер, супруга командующего Балтфлотом, явилась Ниной из лермонтовского «Маскарада», Мандельштам был немецким романтиком (коричневый сюртук, оранжевый жилет, сорочка с жабо, жирно подведенные глаза), Одоевцева – дамой Прекрасной эпохи в материнском золотисто-парчовом платье, длинных перчатках и с райской птичкой на голове.
Но главным денди бала признали Николая Гумилева, надевшего, подумать только, черный фрачный костюм, белоснежную сорочку с высоким и очень высокомерным воротничком, какие носили в начале 1910-х.
Скромные модницы советской России за самоваром
Москва, 1921–1922 годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Артист Всеволод Александрович Блюменталь – Тамарин в отлично скроенном костюме и наручных часах, весьма модных в послевоенное время
2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Казалось, он явился прямиком из тех благополучных позолоченных придворных лет, будто не было блокады, разгрома Юденича, совдепа и разрухи. Англоман Гумилев позволил себе иронию в лучших британских традициях – не словом, а костюмом. И это эффектное офраченное беспамятство ему вскоре припомнили в застенках ЧК.
Москве эпохи военного коммунизма жилось вольготнее. Ее новый столичный статус, правительство, в ней жившее, оберегали город от вымирания. Ей не грозили блокада и голод, хотя люди недоедали и ходили в лохмотьях. Наряды москвичей были столь же эклектичными, как «отрепье» петроградцев. Илья Эренбург вспоминал: «Все были одеты чрезвычайно своеобразно. Модницы щеголяли в вылинявших солдатских шинелях и зеленых шляпках, сделанных из ломберного сукна. На платья шли бордовые гардины, оживляемые супрематическими квадратами или треугольниками, вырезанными из покрышек рваных кресел. Художник И. М. Рабинович прогуливался в полушубке изумрудного цвета. Есенин время от времени напяливал на голову блестящий цилиндр»[45].
Москвичи, также как петроградцы, надевали в театр валенки – потому, что ничего другого не было, да и топили скверно, сидеть было холодно. В 1919 году Наталия Сац пришла в Большой театр в таком наряде: «Платье на мне было красное шелковое, с огромным старомодным воротником из кружев, который я купила по случаю у бывшей петербургской барыни. На ногах новые валенки на сороковой номер – меньших в магазине не было, а у меня пропадал ордер. Я их надела потому, что ботинки окончательно сносились, а валенки были новые, но, конечно, падали с ног»[46].
Илья Эренбург
1920-е годы, flickr.com
В новой столице занимались «пайколовством» и умоляли наркомов об автографах – не на память, а сугубо в целях пропитания. С одеждой то же. Бывало, сознательные граждане, тщетно просидев битый день перед закрытым кабинетом чиновника, отлавливали его на улице и выпрашивали чудотворную бумажку. «До парадного за Анатолием Васильевичем (Луначарским. – О.Х.) идет приехавший откуда-то издалека писатель, по дороге к нему подходит женщина в бушлате. “Товарищ Луначарский, я уже несколько дней ловлю вас. Мне нужно, чтобы вы помогли мне достать ордер на галоши”. Мы у Троицких ворот, Луначарский прикладывает к кремлевской стене заявление и пишет в левом углу: “Поддерживаю. Луначарский”»[47], – вспоминала Наталия Сац. Любопытно, что в послевоенной Москве дамы ходили в мужских морских бушлатах, а некоторые, побогаче – в кожаных куртках.
Нарком просвещения РСФСР Анатолий Васильевич Луначарский
Фототипия 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Илья Эренбург живо описал, как он ходил по инстанциям и выбивал себе пару брюк – его единственные расползлись до зияющего неприличия. Сначала один московский влиятельный друг выдал ему записку на имя председателя Моссовета, которого в шутку именовали «лорд-мэром Москвы»:
«Я понимал, что у него уйма дел, и стеснялся. Он был чрезвычайно любезен, говорил о литературе, спрашивал, какие у меня творческие планы. Ну как здесь было заговорить о штанах? Наконец, набравшись храбрости и воспользовавшись паузой, я в отчаянии выпалил: “Кстати, мне совершенно необходимы брюки…”
“Лорд-мэр” смутился: он внимательно меня оглядел: “Да вам не только костюм нужен, а и зимнее пальто…” Он дал мне записку к заведующему одним из отделов МПО; на записке было сказано лаконично: “Одеть т. Оренбурга”.
На следующее утро, встав пораньше, я пошел в МПО (эти буквы не имеют ничего общего с противовоздушной обороной, обозначали они “Московское потребительское общество” – ведомство, которому было поручено снабжать население продовольствием и одеждой). С легкомыслием баловня судьбы я спросил: “Где здесь выдают ордера на одежду?” Кто-то мне показал длиннейший хвост на Мясницкой.
Было очень холодно; и, стоя в очереди, я малодушно забыл про брюки – мечтал о теплом зимнем пальто. Под вечер я приблизился к заветной двери. Но тут приключилось нечто непредвиденное. Ко мне подошла молодая женщина, повязанная теплым платком, и возмущенно завизжала: “Нахал какой! Я здесь с пяти утра стою, а он только пришел – и на мое место…” Она навалилась на меня, а весила она немало; я сопротивлялся, но безуспешно – она меня вытеснила из очереди. Я обратился к людям, стоявшим позади: “Товарищи, вы ведь видели, что я весь день стою…” Люди были голодные, усталые, безучастные; никто меня не поддержал. Я понял, что справедливости не дождаться, отошел на несколько шагов, разбежался и с ходу вытолкнул самозванку из очереди. Люди продолжали равнодушно молчать: они явно предпочитали нейтралитет. А женщина преспокойно ушла и начала искать уязвимое место в длиннущей очереди.
Наконец я вошел в кабинет заведующего, который, прочитав записку, сказал: “У нас, товарищ, мало одежды. Выбирайте – пальто или костюм”. Выбрать было очень трудно; замерзший, я готов был попросить пальто, но вдруг вспомнил унижения предшествующих месяцев и крикнул: “Брюки! Костюм!..” Мне выдали соответствующий ордер.
Я пошел в указанный распределитель; там мужских костюмов не оказалось, мне предложили взамен дамский или же плащ. Я, разумеется, отказался, и меня направили в другой распределитель, где мне показали костюм, сшитый, видимо, на карлика и поэтому уцелевший с царских времен. Наконец в распределителе на углу Петровки и Кузнецкого я нашел костюм по росту, надел брюки и почувствовал себя человеком»[48].
Рабочие Главмеха разбирают старорежимные богатства, принадлежавшие именитому купцу Соломону Ильичу Раскину, торговавшему меховыми изделиями в Москве.
Фотография сделана в Гостином дворе.
Место съемки определено доктором исторических наук Г. Н. Ульяновой
Около 1919 года.
Архив О. А. Хорошиловой
«Всюду деньги, деньги, деньги»
В марте 1921 года началась весна – Гражданская война грохотала уже где-то очень далеко, блокада Петрограда закончилась, объявили о завершении периода «военного коммунизма» и начале эры новой экономической политики. Занялись мелким предпринимательством, вновь журналы запестрели объявлениями о частном пошиве костюмов, распродажах, парфюмерных лавках, магазинах нижнего белья, о школах танцев и чудесных клиниках, в которых эффективно и быстро лечили сифилис. Жизнь налаживалась.
Стало легче в бытовом плане. Неимущие из неимущих, творческая интеллигенция покупала ношеную одежду на складах и в магазинах, оповещавших об очередной распродаже через газеты. Теплые вещи и ткани доставляла в Россию АРА (Американская администрация помощи). Чуковский, к примеру, отрыл в «хламе, который прислан американскими студентами для русских студентов», приличные брюки, пиджак, шарф и пальто с меховым воротником. С 1922 года он изредка пользовался услугами частных портных, к примеру Слонимского, которому отдавал вещи в починку, а также заказывал новые. У него шили костюмы художник Исаак Бродский и хирург Иван Греков[49]. Все трое, не раздумывая, поручились за портного в 1926 году, когда он по ложному обвинению угодил за решетку.
Лояльные партии писатели отправлялись за границу, откуда привозили волшебные вещи и вещицы. «Был у Сейфуллиной (у писателя Лидии Николаевны Сейфуллиной. – О. X.). Она сегодня приехала из-за границы. Мужу привезла: костюм, шахматы, пишущую машинку, себе – множество платьев – из Варшавы, из Парижа, из Праги» [50], – записал Корней Чуковский.
Рабочие в ватниках разбирают экспроприированный недавно склад ситцев
Около 1920 года.
Архив О. А. Хорошиловой
К середине двадцатых в среде творческой интеллигенции появились, наконец, свои щеголи, нового рокочаще-городского формата – Владимир Маяковский и Илья Эренбург (и тот и другой часто бывали за границей), Юрий Анненков («маленький, изящный, шикарно одетый, в ботиночках, с перстнями, в котиковой шапочке»[51]), Михаил Зощенко («кожаный желтый шоферской картуз, легкий дождевой плащ»[52]).
Продуктовая лавка эпохи раннего НЭПа
Москва. 1921–1922 годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Владимир Маяковский в элегантном шерстяном костюме
1920-е годы, flickr.com
Тороватые нэпманы стали главными конкурентами «кожаных курток» по части щегольства. Одевались с вывертом, с искрой и чувства меры не знали. Обожали эффектные френчи с пухлыми накладными карманами, бриджи с широкими «ушами», ботинки с каблуками и высоченной шнуровкой, доставшиеся в наследство от военных времен. Продолжали носить и английского типа куртки-«норфолки», вошедшие в моду еще до Великой войны, а также «художественные куртки», скопированные с толстовок. В 1922 году Эмилий Миндлин предложил новый вариант, гибрид «Норфолка» и толстовки, в своей статье «О прямой, об эволюции пиджака и о стиле РСФСР»[53]. Эта модель, по мнению автора, примиряет горизонталь с вертикалью, а современность с античностью (воротник новой «толстовки» предлагалось выкраивать в форме перевернутого фронтона греческого храма).
Советские нэпманы
Фотография В. М. Коваленко, 1930.
Коллекция А. А. Классена (Санкт-Петербург)
Молодой нэпман в элегантном костюме и модной кепке
Конец 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
В. М. Коваленко.
Автопортрет в образе нэпмана.
На фотографе – пиджак-«Норфолк», кепка и стильные галифе
Пальто нэпманы носили ладные, с меховыми воротниками, но особо щегольскими считались толстые суконные тужурки с карманами и отложным воротником из лисицы, волка, каракульчи. Были очень модны английские плащи-«непромокайки», куртки из плотной брезентовой ткани (такую носил, к примеру, Владимир Маяковский), клетчатые кепи, желтые военные гетры, а также мягкие кожаные портфели, теперь – признак не бюрократа, но делового человека.
Нэпманствующие интеллигенты
2-я половина 1920-х годов. Ленинград.
Архив О. А. Хорошиловой
«Денди-комсомольцы и боты-“шимми”»
Карикатура на советских нэпманов. Журнал «Смена», 1926.
Архив О. А. Хорошиловой
Актеры, изображающие нэпманов в антифашистском спектакле
Фотография В. М. Коваленко, 1920-е годы. Коллекция А. А. Классена (Санкт-Петербург)
Классические советские нэпманы, возможно торговцы.
Он – в костюме-тройке, она – в бархатном халате, переделанном в прогулочное манто.
Ленинград, 2-я половина 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Петроградское издательство В. Д. Горюнова выпустило даже открытку с изображением типичного нэпмана – карикатурный толстячок с профилем Луначарского покидает кафе и маслисто улыбается своему бессовестно красивому быстро приближающемуся будущему. Образы отпетых нэпманов удавались и Вячеславу Коваленко, ленинградскому фотографу, творчество которого было открыто совсем недавно[54].
Нэпманши от своих спутников не отставали. Покупали лучшие ткани и шили одежду у лучших портних из «бывших», которых было еще достаточно в Петрограде и Москве. Некоторые везли вещи из-за границы, пытались соответствовать длинно вырисованным журнальным моделям, но всегда перегибали, перебарщивали с декольте, длиной платья, гримом. Ирина Одоевцева видела их на центральных улицах Петрограда: «Я столкнулась с одной из таких “нэпманш”, кутавшейся в мех, шуршащей шелками, дышащей духами, с бледным до голубизны лицом, кроваво-красными губами и удлиненно подведенными глазами – новый тип женщины в революционном Петербурге» [55]. В Москве их было хоть отбавляй: «Какие-то девушки с сильно подведенными глазами, в фантастических платьях и шляпах»[56].
Корней Чуковский, ненавидевший мещанскую пошлость, которую нэпманши олицетворяли, отзывался о них резче: «Елисавета Ив. Некрасова, пошлячка, изумительно законченная, стала говорить за обедом: “Ах, как бы я хотела быть мадам Лор!” – “Почему?” – “Очень богатая. Хочу быть богатой. Только в богатстве счастье. Мне уже давно хочется иметь палантин – из куницы”. Говорит – и не стыдится <…>, ныне пошли наивные и первозданные пошлячки, которые даже и не подозревают, что надо стыдиться… Нужно еще пять поколений, чтобы вот этакая Елисавета Ивановна дошла до человеческого облика. Вдруг на тех самых местах, где вчера еще сидели интеллигентные женщины, – курносая мещанка в завитушках – с душою блондинки и куриным умом!»[57]
Молодые модницы демонстрируют популярную стрижку «боб»
1924 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Изящнее одевались прикормленные партией писательницы, звезды театров и пока не запрещенной эстрады, жены политработников и великолепные светские тусовщицы, помнившие детские корсетики начала века и бальные туники предреволюционной поры. Помнившие изысканную красоту. Такие знали чувство меры и превосходно отличали истинное искусство кроя от пошлой подделки. Таких обслуживали дорогие портные – частным образом, на квартирах. С проголодавшимся удовольствием они сочно резали драгоценный текстиль и шили строго по меркам, терпеливо выслушивая «еще бы вот это и там немного». Казалось, что не было ни революции, ни Гражданской, дамы все такие же нахально требовательные, ухоженные, лессированные, великолепные.
Эффектная советская модница в меховом пальто и валенках, имитирующих боты на высокой шнуровке
Фотография В. М. Коваленко, 1929.
Коллекция А. А. Классена (Санкт-Петербург)
Лучшие портные работали в Москве. Их дореволюционные петроградские конкуренты, обшивавшие двор, покинули страну в 1917–1920 годах, те же, кто оставался, не имели возможности работать в полную силу таланта – не хватало средств, да и клиентов, сровни московским, тоже было наперечет.
Считалось престижным заказывать костюмы у москвички Надежды Ламановой. Несмотря на свое неблагополучное с большевистской точки зрения прошлое, она продолжала активно работать – частным образом и образом государственным, курируя создание моделей при подсекции «Игла» и возглавляя «Мастерские современного костюма» при художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса. У нее «одевалась» почти вся культурно-партийная Москва – актрисы Александра Хохлова и Анель Судакевич, Мария Андреева, жена Горького, и Эльза Триоле, будущая жена Луи Арагона. Лиля Брик отплясывала в ламановских творениях шимми и фокстрот, по улицам ходила в очаровательных шляпках-клошах и демонстрировала «народные» платья от «мамы Нади» в игривой антинародной манере – слегка обнажив пухлое плечико. В ее записной книжке значились и другие добротные фамилии добротных портных. Однако Брик не всегда была ими довольна. В письме 1924 года, адресованном Маяковскому, она жаловалась, что ей скверно сшили шубу: «Не так положили ворс, и когда я в первый раз надела ее, то вызвала в трамвае бурные восторги своими голыми коленками, а домой пришла в платье, обернутом как кашне вокруг шеи! Опять приходится переделывать»[58].
Гитара была неизменной спутницей советских нэпманш
Середина 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Советская щеголиха в модной шляпке-«клош»
2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Нэпманша в модной диадеме и жемчужном сотуаре. Волосы коротко острижены в стиле «итон»
Середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Большинство баснословно изысканных нарядов Брик доставала за границей, там же покупала косметику, и своим умело раскрашенным личиком и всей своей художественной раскованностью соблазняла мужчин без устали. Под ее чары попал, правда ненадолго, и мой двоюродный дед, искусствовед Николай Пунин, ценитель лессированной женской красоты. О Лиле Юрьевне он отзывался с влажной чувственностью: «Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения; у нее торжественные глаза; есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками».
Когда Брик находилась в Москве, а Маяковский в Париже, она с кошачьим мурлыканьем выпрашивала у него «вещичек»: «Скажи Эличке (Эльзе Триоле. – О.Х.), чтоб купила мне побольше таких чулок, как я дала тебе на образец, и пары три абсолютно блестящих, в том смысле, чтобы здорово блестели и тоже не слишком светлых.
Заведующие складами при Петроградском союзе рабочих потребительских обществ. Обращают внимание хорошо скроенные костюмы и белоснежные сорочки, столь редкие в Петрограде тех лет
1919–1920 годы. Архив О. А. Хорошиловой
Купи еще штуки 3 др. р [азных] р [азмеров?]». Она выпрашивала у поэта «автомобильчик Фордик», но получила машину не хуже – «Реношку». Маяковский купил его в Берлине в 1928 году.
К услугам Бриков, московских артисток и нэпманш было множество столичных ателье, мастерских и магазинов. Лучшие (и дорогие) корсеты покупали в «Мастерской Базловой» на углу Большой Никитской и Газетного переулка. В 1922 году корсетный пояс стоил там от 800 рублей, подвязки – от 200 рублей, бюстодержатели – от 350 рублей. Корсеты и нижнее белье можно было заказать в «Ателье А. И. Феногеновой» в Леонтьевском переулке, 13. Платья, костюмы, манто, а также «заказы на полное приданое» принимали в магазине «Дамский мир» (Космодемьянский переулок, 6), в ателье Е. М. Тригубова (Большая Дмитровка, 7, кв. 51). Верхнее женское платье предлагали «Ателье Ян Чейка» в Леонтьевском переулке, 24 (в рекламе сообщалось, что пошив производится под наблюдением Яна Августовича Аугуста), меховыми вещами торговал И. Наместников (Кузнецкий переулок, 3).
Мужское белье покупали в «Жокей-клубе» (Столешников переулок, 7), готовую одежду предлагал магазин «Эсперо» (угол Большой Дмитровки и Салтыковского переулка), костюмы шили в мастерской «Л. Бинуто» (Малый Чернышевский переулок, 9), у А. И. Куприанова (Малая Бронная, 27), который обещал исполнять заказы «быстро и аккуратно по новейшим журналам Парижа и Лондона, изящный крой, цены умеренные».
Леля и Нина Усачевы на курорте в Кисловодске
1929 год. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама ателье «Плиссе» А. Тушнова
Москва, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Реклама корсетов 3. И. Базловой
Москва, 1929. Архив О. А. Хорошиловой
Множество частных ателье открылись на Петровке – «Модельный дом А. И. Гребень» (дом № 7), «Товарищество Ямпольский» (дом № 4), мастерская дамской верхней одежды «А. П. Хаспеков» (дом № 5), магазин дамских шляп «Жофрен» (дом № 16), магазин шляп, шапок и меховых изделий «Дерби» (дом № 16), магазин «Liberty» и «Кожаные изделия П. В. Грязнов, Д. Ф. Бойков и К°» (в Пассаже, бывшем Солодовникова).
«Шикарную дамскую и мужскую обувь художественного исполнения» покупали у Шмелева на Тверской, 41, в магазине «Товарищества Ф. И. Колесникова» (Покровка 23/25). Товарищество «Н. В. Золотарский и Кº» предлагало парфюмерию «качества довоенного времени». Эта ходкая формулировка часто встречается в объявлениях эпохи НЭПа – «довоенного качества» были шубы, галоши, пенсне, панталоны. Тогда тихо скучали по «старорежимной» красоте, царскому качеству, и коммерсанты бессовестно этим пользовались.
В Москве почти одновременно с Парижем и Нью-Йорком открылись косметологические кабинеты, в которых опытные врачи, словно пекари, массировали, шлепали и взбивали тестяные лица, плечи, руки, лепили из грубозамешанных нэпманш дам большого кремлевского света. Были, к примеру, известны косметологические салоны О. В. Бессмертновой на Арбате, М. К. Федоровской и С. И. Златоперовой на Петровке.
Магазинный бум начал беспокоить власти. Сотни богатых дамочек с радостью несли деньги частным лицам, минуя государственные кассы. И никто, даже парни в кожанках, не мог помешать нэпманшам наслаждаться буржуазными изысками мелкого предпринимательства. Советское государство в первый и, пожалуй, последний раз сделало попытку стать законным и равным конкурентом частному бизнесу. Оно предложило альтернативу – государственное ателье с хорошей технологической базой, профессиональными конструкторами и целым штатом известных художников, готовых экспериментировать и воспитывать вкусы столичного НЭПа.
Ателье мод
Все это кажется маловероятным. Похоже на какую-то добрую партийную сказку. Была девочка, Оля Сеничева, внучка шахтера, дочь металлурга, умница-красавица, отличница и без пяти минут комсомолка. И вот в пятнадцать безумных лет она, отвергнув романы, грезы и косы (которые безжалостно срезала), поступила на работу ответственным секретарем управления театров Московского отдела народного образования. И, действительно, была очень ответственной. Присутствовала на собраниях, диспутах и встречах именитых артистов, режиссеров, политиков. Познакомилась с Маяковским, Кончаловским, Луначарским. В 1921 году ее, шестнадцатилетнюю, назначили организатором выставки общей и кустарной промышленности в рамках III конгресса Коминтерна. Она владела двумя иностранными языками (как сама утверждала) и, верно, имела крепкую партийную протекцию, помогшую занять такую серьезную не по годам должность. Работы был непочатый край: «Ни мебели, ни декоративных материалов, – вспоминала Ольга Дмитриевна. – Так, знаете, что мы придумали? Обтянули скамейки холстом и по нему нашили аппликации из красного шелка в виде шестеренок – положение было спасено»[59]. За свой самоотверженный выставочно-организационный труд она получила отрез добротного домотканого холста, из которого тут же заказала милое демисезонное пальто. Воодушевленная успехом и первым признанием партийцев, Сеничева отправилась на прием к Павлу Романовичу Трифонову, члену правления Москвошвея – было это, скорее всего, ранней осенью 1921 года.
Он посмотрел на нее с ухмылочкой и недоверием, но Ольга горделиво предъявила алый пропуск участника выставки, и чиновник сразу же принял серьезный вид. Она предложила Трифонову организовать ни больше ни меньше Центр женского костюма – государственную альтернативу частным «нэпманским» ателье и портновским мастерским. Ничего подобного в Москве тогда не существовало. В 1919 году в состав Москвошвея входили четырнадцать предприятий, только три из которых занимались пошивом гражданского платья, весьма дурного качества. К 1921 году их количество увеличилось, но уровень производства оставался низким. Потому модная и богатая публика предпочитала нести деньги частникам, которые и работали быстрее, и шили лучше. Государство этим довольно не было, но администрация Москвошвей пока не знала, что именно предпринять. И в этот самый момент в кабинете партработника появилась Оля Сеничева с горящими глазами и грандиозным проектом. Появилась в нужное время, в нужном месте.
Ольга Сеничева в костюме и шляпе от «Ателье мод»
Начало 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Ядром Центра женского костюма[60] предполагалось сделать Ателье мод. «При его создании исходили, прежде всего, из необходимости разработки образцов костюма, соответствующего новому облику трудового человека»[61], – поясняла Ольга Дмитриевна. Это означало, что в нем планировалось создавать в равных пропорциях цивильную женскую одежду и разнообразные виды униформы, в том числе рабочую и военную. Масспошив здесь решили сочетать с индпошивом, который выполняли технологи вместе с именитыми художниками. Это было ново и, пожалуй, даже смело: «К работе в Ателье мод предполагалось привлечь известных русских художников, что было принципиально новым для швейной промышленности. Таким образом, Ателье мод, руководимое специалистами-художниками, ставило своей основной целью разработку моделей массовой одежды с учетом прогрессивного направления современной моды и национальных особенностей лучших образцов русского искусства для производства на предприятиях Москвошвея»[62].
Идея прекрасная, наполеоническая. Ателье мод как средоточие всего нового в искусстве и костюме. Непритязательная удобная повседневная одежда, высококачественная форма производятся массово, наряды для джазовых вечеринок и нэпмановских разгульных ночей шьются индивидуально, с художественным вывертом, с искрой. Народ одевается, щеголи фасонят, государство богатеет, частные портные терпят убытки, потому что сознательные граждане несут средства, минуя нэпманов, в государственную организацию – Ателье мод при Москвошвее. Все довольны, все славят мудрое правительство.
Товарищ Трифонов, конечно, идею эту горячо поддержал, но сказал, что средств нет, и предложил вариант в духе НЭПа – Москвошвей перечисляет средства только на покупку оборудования, предоставляет помещение на Петровке, 12, с баулами нереализованного дорогого текстиля, конфискованного во время революции у крупных мануфактурщиков, сотрудники делают ремонт на собственные деньги и через полтора-два года возвращают Москвошвею полученные в кредит средства. При успехе предприятия Ателье мод получает 30 % прибыли, а до момента выплаты кредита живет на «минимальный аванс».
Шестнадцатилетняя девушка с радостью согласилась, дала клятву все вернуть до копейки и оправдать возложенное на нее доверие руководящих товарищей. Себе в компаньоны она пригласила Надежду Ламанову, опытного стратега и модельера с необходимыми связями. Коль скоро Трифонов жертвовал Ателье горы драгоценного текстиля, решили сначала нашить превосходных вечерних нарядов и продать их московским нэпманшам чуть дешевле, чем предлагали частные ателье по соседству. Полученными деньгами расплачивались за кредит, а оставшуюся сумму пускали на организацию качественного массового пошива, не забывая основательно вложиться в рекламу, которую тогда вновь стали считать двигателем торговли. В общем, расчет был верным.
Проект стильного платья, состоящего из трех частей. Разработан для «Ателье мод»
Журнал «Ателье», 1923.
Архив О. А. Хорошиловой
Место также выбрали подходящее. Петровка и в дореволюционные времена, и в начале расцвета НЭПа была центром московской моды. Здесь работали десятки портновских мастерских и магазинов. Сюда ежедневно стекались богачки со всей красной столицы. Сеничева и Ламанова надеялись отбить клиентов у частников – рекламой и высоким качеством одежды на заказ.
Начался ремонт. В короткие сроки бывшую столовую на первом этаже превратили в Ателье с демонстрационным пространством и витринами. Обивку для мебели и портьеры выкроили из парчи, подпорченной во время долгого складирования в сырых подвалах. Тесную комнатку в третьем этаже переоборудовали под конструкторское бюро. Сеничева, как обещала Трифонову, привлекла к работе лучших русских художников – Веру Мухину, Александру Экстер, Евгению Прибыльскую. Их проекты моделей должна была доводить до ума и технологически редактировать Анна Никольская, глава экспериментальной мастерской на Кузнецком Мосту, 13. Небольшим коллективом энтузиастов-бессребреников принялись за подготовку первой коллекции. Нужно было успеть к открытию Ателье. «Целыми днями, забывая об обеде и ужине, художники увлеченно работали, создавая современные формы костюма. Разрабатывали новые силуэты, делали наколки на манекенах, спорили, переделывали работу и снова обсуждали ее и спорили. Спали иногда тут же на полу, на кроличьих шкурках, поступивших со складов бывших владельцев»[63], – вспоминала Ольга Дмитриевна.
Судя по ее интервью и воспоминаниям, процесс работы Ателье мод выглядел примерно так – художники сочиняли проекты и создавали эскизы моделей, которые попадали на стол Анны Никольской, дообрабатывавшей их технологически. Затем полностью готовые проекты переправляли на две швейные фабрики, обслуживавшие Ателье мод. К сожалению, Сеничева-Кащенко ничего не пишет о том, насколько получившиеся костюмы и платья соответствовали проектам. Часто так бывало, не только в красной России, но и в благословенной Европе, что сшитая модель серьезно отличалась от художественной задумки. Так, вероятно, было и в Ателье мод, учитывая низкий уровень оборудования и подготовки рабочих швейных предприятий.
Коллекцию закончили в срок. Назначили день и время ее официального представления. Но просто распахнуть двери, встретить почетных гостей, рассадить их и показать наряды не захотели. Теперь сложно сказать, кому именно принадлежала идея громкой, в нью-йоркском стиле, рекламы Ателье – Надежде Ламановой или Ольге Сеничевой, или, быть может, ее заместителю и будущему мужу Борису Кащенко. Но идея – проста и гениальна. Придумали талантливый рекламный трюк с легкой ноткой скандала. «Нужно было позаботиться о рекламе, – вспоминала Ольга Дмитриевна. – Большое внимание уделили оформлению витрин. Когда плотно задернутые шторы, наконец, раздвинулись, в витринах прохожие увидели манекенщиц, демонстрировавших созданные модели»[64]. «В одной витрине они были одеты в выходные туалеты, а в другой манекенщицы демонстрировали простые платья из русского холста с вышивкой. Так состоялось открытие Ателье мод.
Вера Мухина. Проект эстрадного платья из жесткой тафты.
Основные линии этого проекта были использованы скульптором позже в создании знаменитой вазы из стекла «Астра». Разработан для «Ателье мод»
Журнал «Ателье», 1923.
Архив О. А. Хорошиловой
Мгновенно перед витринами образовалась огромная толпа, движение по Петровке, Столешникову, Кузнецкому остановилось. Не прошло и двадцати минут, как, с трудом пробившись через толпу, в Ателье появился начальник московской милиции. Он был очень взволнован и требовал немедленно прекратить демонстрацию мод. Закрыли занавеси. Народ не расходился. Спорили – живые были женщины на витринах или куклы… Повесили табличку: “Демонстрации больше не будет”, – стоят… Еще потом целую неделю народ не отходил от витрин: а вдруг снова что-нибудь покажут»[65].
После публичного представления Ателье прошла его «закрытая» презентация, на которую пригласили только звезд театра и влиятельных партийных лиц, в том числе Анатолия Луначарского. Ольга Сеничева оставила описание и этого события: «1922 год. Ателье моды распахнуло свои двери. Дом № 12 на Петровке ярко освещен. У подъезда – швейцар в форме, разработанной художниками-модельерами. Красив демонстрационный зал. Трудно поверить, что совсем недавно здесь было холодное, неотапливаемое помещение с нестрогаными столами и скамьями, с разбитыми и замазанными штукатуркой окнами. Блестит парча драпировок и обивки мебели. В зале много артистов, среди них – А. В. Нежданова. Заиграл оркестр под управлением популярного в то время Ф. Криша. На сцену выходят известные актрисы в созданных в Ателье модных туалетах. Среди них солистка Большого театра А. Тихонова, артистки театра оперетты К. Новикова, Р. Лазарева, эстрадные танцовщицы и другие. Показ мод превратился в своеобразный концерт. Присутствующие награждали аплодисментами почти каждую модель. В сценках-миниатюрах участвовали штатные манекенщицы. Позднее демонстрации мод регулярно стали проходить в форме концертов»[66].
Привлечение к участию в показе звезд театра и оперы – замечательный рекламный ход. Среди них были потенциальные клиентки Ателье, богатые балованные дамы, превосходно разбиравшиеся в моде. Рассчитывали на то, что актрисы, опробовав платья на подиуме и сорвав аплодисменты, непременно закажут себе такие же, чтобы произвести аналогичный фурор на раутах и вечеринках. Пресса замечательно среагировала на громкие имена и мгновенно разнесла известия об Ателье. Важно и то, что Сеничева и ее сотрудницы шли нога в ногу с парижскими модельерами Жаном Пату, Коко Шанель, Жанной Ланвен, которые устраивали похожие дефиле с участием звезд, под музыку камерных оркестров, в присутствии именитых гостей.
Кадр из первой «Кино-хроники мод»
1923 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Выдумке сотрудников Ателье мод не было предела. За короткий период они сочинили столько новых рекламных ходов, что, безусловно, опередили свое время на многие десятилетия. Вдохновленные успешным концертным показом, Сеничева и компания организовали еще несколько подобных дефиле на разных модных площадках Москвы, в том числе в дансингах, местах сосредоточения нэпманов и богатых иностранцев. «Лучшие танцы были тогда в ресторане “Эрмитаж”. Туда мы направляли наших манекенщиц демонстрировать модели. Манекенщицы сидели за столиками с нашей эмблемой, они себе что-нибудь там заказывали, их приглашали танцевать… А когда в зал входила я, конферансье Алексеев провозглашал: “Прошу туш! Прибыла директриса Ателье мод!”»[67]. И начинался показ. Сложно сказать, знала ли Ольга Сеничева о театрализованных дефиле Поля Пуаре и о том, как его модели непринужденно скользили меж дамами и господами во время скачек в Лоншане (с такими же номерками и журнальными улыбочками). В любом случае, для красной Москвы этот любопытный театрализовано-танцевальный опыт был первым и практически равным Парижу.
Обложка журнала «Ателье»
1923 г. Российская государственная библиотека: leninka.ru
Сеничеву, как и Пуаре, интересовали ипподромы как возможные места публичной демонстрации коллекций. В июне 1923 года Ателье мод устроило бега на московском ипподроме с одновременным представлением нарядов. Впрочем, инициатива исходила от Комиссии ВЦИК по улучшению жизни детей, предложившей Ателье с помощью забегов помочь собрать деньги на нужды маленьких беспризорников и сирот. «Комиссия предоставила нам по этому случаю застоявшихся в своих конюшнях бывших царских лошадей, – вспоминала Сеничева-Кащенко. – Мы пригласили известных актрис, специально сшили им роскошные туалеты. Я же для контраста выбрала себе скромный наряд – черное платье с большим красным воротником и черный кокошничек. Дамы расселись по экипажам, и кавалькада двинулась по Ленинградскому шоссе к бегам. Люди с удивлением смотрели на это великолепие и не верили своим глазам… На ипподроме завсегдатаи бегов делали ставки на наши экипажи. Состоялось два заезда. Знаете, как страшно было!.. Коляски для бегов не приспособлены, лошади обезумели от долгого безделья… Сидишь, вцепившись в сиденье, и вдруг рядом возникает страшная лошадиная морда, глаза горят, на губах пена – это нас настигает чей-то экипаж… Но в обоих заездах я пришла первой! После этого дня Ателье передало Комиссии ВЦИК по улучшению жизни детей большую сумму денег»[68].
Артистка Антонина Васильевна Нежданова демонстрирует шляпу и ансамбль «Ателье мод» для первой «Кино-хроники мод»
1923 год. Архив О. А. Хорошиловой
Помимо громких публичных показов Ателье рекламировало свою продукцию всеми другими возможными способами – с помощью кино, журналов, выставок.
Сразу после шумного открытия запустили «Кинохронику мод», призванную не только рекламировать новые коллекции Ателье, но и просвещать зрителей, развивать их чувство вкуса, повышать уровень знаний в области дизайна и моды. «Нужно было доказать, – пишет Ольга Дмитриевна, – что красивый удобный костюм помогает формированию нового облика трудящегося человека, а такие вещи, как галстуки, шляпы, вовсе не обязательно являются символами мещанства»[69]. Сеничева запланировала целую серию фильмов, посвященных жизни и работе Ателье. Но, вероятно, удалось снять лишь один, автором которого был Эдуард Тиссэ, в будущем известный советский оператор. В кадре появлялась актриса Антонина Васильевна Нежданова, медленно, с достоинством дамы Прекрасной эпохи, ходила и плавно поворачивалась, демонстрируя все прелести и ракурсы новых нарядов от Ателье мод.
«Кино-хроника» – первый пример кинорекламы моды в большевистской России. Но, к сожалению, члены правления «Москвошвея» это начинание не поддержали. И уникальный опыт развития не получил.
Ольга Сеничева, фонтанировавшая идеями, весьма здравыми, пришла к идее выпускать журнал, который бы не только освещал события в области моды, искусства и легкой промышленности, но и рекламировал продукцию самого Ателье мод. Именно поэтому его назвали «Ателье», чтобы напоминать читателям, где им следует покупать лучшие «индивидуальные костюмы». Рекламным целям отвечал и весьма значительный по тем временам тираж – 2000 экземпляров, рассчитанный не только на профессионалов, но и потенциальных клиентов мастерской, главным образом, столичных обывателей, смыслящих в искусстве, комфортной и красивой жизни.
Ольга Сеничева, ставшая главным редактором, планировала публиковать рисунки, фотографии, проекты текстиля и костюма лучших авангардных художников советской России. Писать для издания пригласили самых утонченных ценителей прекрасного, самых острых критиков, самых модных эссеистов. Бодрые новости «короткой строкой» должны были сочетаться с пространными панегириками картавцев-символистов, пестрые полуабстракции романтиков советского авангарда с черно-белыми фотографиями моделей. В списке авторов – что ни имя, то эпоха: Александр Бенуа, Александра Экстер, Вера Мухина, Анна Ахматова, Евгений Замятин, Юрий Анненков, Кузьма Петров-Водкин, Александр Головин… «Ателье» мог бы стать русским «Art, gout, beaute», он мог бы даже создать новый жанр в русской модной журналистике. Но вышел всего лишь один номер. Проект неожиданно свернули. Не только потому, что его содержание не во всем соответствовало политической идеологии и в адрес издания сыпались критические отзывы партийцев и прикормленных журналистов. Оно, прежде всего, не соответствовало целям самого Ателье мод. «Москвошвея» ждала от него массовой одежды, удобной, экономичной, понятной «простому трудовому человеку». И вдруг – богато иллюстрированный журнал, мелованная бумага, цветные рисунки, манто в китайском вкусе, эстрадное платье в парижском вкусе, странные авангардные балахоны, какой-то конструктивизм, какой-то эстетизм. Буржуйство на рабочий кредит, бесформенное безобразие – таков был приговор партийцев.
Более успешной оказалась реклама на экспозициях. Весной 1923 года художники Ателье приняли участие в Первой Всероссийской художественной промышленной выставке. Надежда Ламанова и Евгения Прибыльская выставили ансамбли в народном вкусе, отвечавшие «актуальной демократической моде», Вера Мухина и Александра Экстер – конструктивистские комплекты с яркими узорами в стиле геометрической абстракции. Ателье получило аттестат первой степени: «а) за удачные красочные и силуэтные достижения, за обнаруженное в выставленных моделях тонкое понимание взаимоотношений между живой фигурой, материалом и художественной формой; б) за привлечение высококвалифицированных художественных сил к делу поисков нового современного костюма»[70]. Пресса дружно поддержала решение комиссии позитивными откликами и статьями. Все это добавило популярности Ателье.
Отменно работало и «сарафанное радио». Артистки расщебетали по всей Москве о проекте Сеничевой и Ламановой, о превосходных нарядах, весьма дорогих, а также о возможности получить на них скидку (еще один рекламный трюк Ателье). И клиентки поспешили на Петровку, 12. «Недостатка в заказчиках не было, – комментировала Ольга Дмитриевна. – Несмотря на сравнительно высокую стоимость, платья, пальто, костюмы, сшитые здесь, были дешевле и изящнее, чем у частных портных»[71].
Спрос на платья, особенно театральные и вечерние, рос, гриф «Ателье мод Москвошвей» признали модным, и щеголихи спешили им похвастаться, среди них была и Наталия Сац. В Германии она блистала в платье от Ателье: «Я очень хорошо помню. Это платье из шелковой чесучи, с длинными, широкими рукавами, подбитыми красным шелком, было сделано по эскизу знаменитой художницы А. А. Экстер и украшено шелковыми вышивками в русском стиле. Когда данцигские “сенаторши” немного привыкли ко мне и обступили меня, раздался вопрос жены их “главы”: “Это платье вы купили в Париже?” – “Нет, в Москве”. – “В каком модном доме можно там с таким вкусом одеться?” – “В Москвошвее”. В то время это звучало сенсацией»[72].
Итак, первая задача решена – Ателье раскручено, драгоценный текстиль реализован, нашиты и хорошо продаются платья, в Москве только и разговоров что о Петровке, 12. И неважно, что кредит погашен не полностью, что в «Москвошвее» появились недоброжелатели, что художников тянет в космическую абстракцию… Задача вторая – масспошив для советских граждан и форма для трудящихся. Казалось бы, чего проще. Есть стандарты, есть правила рабочей и военной одежды. Конструкторы, технологи, художники, машины – все готово. Но работа не задалась – алгебра не хотела мириться с гармонией.
Художники мечтали об искусстве, о новых реформированных костюмах, скроенных по лекалам старика-эстета Морриса, но технологи упорно тянули обратно в реальность, в унылые три измерения. Такие конфликты не раз происходили в истории арт-моды, достаточно вспомнить, как ругали проекты Бакста сотрудники Дома Paquin и едва понимали друг друга Дюфи и мастера «Маленькой фабрики» Пуаре. Но случай с Ателье иного порядка. Это был партийный проект, организованный под крылом «Москвошвея», ожидавшего вовсе не «левых» экспериментов «левых» художников, а качественной и простой массовой одежды.
Конфликты художников с технологами мягко упоминает Ольга Сеничева, лукаво умалчивая об их реальных масштабах: «А. Экстер участвовала в художественных выставках, как представитель кубизма, В. Мухина также находилась под влиянием западного авангардистского искусства.
Александра Экстер.
Проекты костюмов. Журнал «Ателье»
1923 год.
Архив О. А. Хорошиловой
В связи с этим между художниками и организаторами Ателье мод, которые отстаивали четкие реалистические позиции, нередко возникали серьезные разногласия»[73]. Возникли они и с заказчиками. К примеру, работницам московских фабрик Ателье предложило комбинезоны, и работницы хором их отвергли, ссылаясь на то, что женщине в брюках неприлично. На Петровке, 12, действительно забыли, что заводские цеха – не цеха Мейерхольда, что скуластые, мосластые пролетарки – не Брик и Рейснер, они не понимают новых веяний в прозодежде. Им были нужны просто платья и просто халаты – банальные, трудовые, немаркие. Другие проекты сотрудников Ателье мод оказались более успешными – в частности, образцы различных видов рабочей одежды и пионерского костюма.
Вокруг Ателье сгущались тучи. Многие осуждали его явный уклон «влево», а также особую слишком свободную художественную атмосферу. К тому же предприятие никак не могло освободиться от долгов, и даже богатые заказчицы не спасали. В 1925 году Сеничеву сняли с должности директора, штат сотрудников резко сократили, превратив творческую лабораторию на Петровке в унылую мастерскую стандартно мыслящих безымянных портных.
Ольга Сеничева подозрительно резко, возможно под влиянием партийцев, оставила моду, закончила вуз и стала безобидным переводчиком.
Надежда Ламанова упорно продолжала работать, ценнейший многолетний опыт сводила в схемы, таблицы, звучные девизы. В своей известной программной статье она емко объяснила принципы создания костюма: «Для чего, для кого, из чего, и все это синтезируется в “как” (форма)». Следовало учитывать индивидуальные особенности человека (его стиль), общественные условия (стиль эпохи), утилитарное название проектируемой одежды и свойства материала, из которого она будет сшита. Ламанова не забывала о «художественных элементах» костюма, которые, впрочем, должны были отвечать потребностям общества, экономическим условиям и техническому уровню производства.
Ламанова и Прибыльская активно пропагандировали народный стиль, предлагая дневные и нарядные платья с «русской» вышивкой, а также ансамбли из кустарных тканей и крестьянских полотенец. Некоторые особенно удачные варианты она представила на Всемирной выставке в Париже в 1925 году и была удостоена Гран-при за современные платья с народным орнаментом. Тогда же вместе с Верой Мухиной приняла участие в проекте журнала «Красная нива» – цветном иллюстрированном приложении «Искусство в быту» для портних-любитель-ниц. Эскизы простых и эффектных платьев, костюмов, пальто дополняли небольшие тексты о том, как все это сшить в домашних условиях. Некоторые идеи Ламановой ушли в народ – и крупные предприятия, и даже небольшие кустарные мастерские создавали наряды с русскими вышивками и аппликациями в крестьянском вкусе.
Надежда Ламанова.
Проекты головных уборов.
Цветное иллюстрированное приложение «Искусство в быту»
1925 год. Национальная публичная библиотека (Нью-Йорк)
Надежда Ламанова.
Спортивный костюм и спортивная юбка-штаны.
Цветное иллюстрированное приложение «Искусство в быту».
1925 год.
Национальная публичная библиотека (Нью-Йорк)
Надежда Ламанова.
Кафтан из двух владимирских полотенец.
Цветное иллюстрированное приложение «Искусство в быту» 1925 год.
Национальная публичная библиотека (Нью-Йорк)
Надежда Ламанова.
Домашнее платье из головного платка. Цветное иллюстрированное приложение «Искусство в быту».
1925 год.
Национальная публичная библиотека (Нью-Йорк)
Арт-мода по-советски
В общем, чистейшей воды эксперимент, лабораторный опыт, не более. Даже несмотря на то, что авангардисты старались для народа, большого тиража, массового признания. Они составляли хвостатые формулы, рисовали проекты, предрекали будущую победу целесообразности и функционализма над мировым мещанством. Они уже слышали отдаленный стрекот швейных машин и приближающуюся кованую поступь тысяч рабочих в унифицированной ладной прозодежде. Но отрицая моду, художники создавали моду. Опыты их приятно парадоксальны.
Им всем хотелось простоты, удобства, здоровых пропорций, грубой пролетарской правды. Родченко клял Париж – его парфюмированные многословные улицы, выпудренный истомчивый декаданс, его безгрудых бесполых женщин с чувственно обведенными жирной помадой ртами, с бритыми затылками и шелковистыми ногами в телесного цвета вискозе. Родченко клял изыски и люкс. Осуждал рабское преклонение перед модой, предлагал относиться к ней «по-товарищески» – «уметь смеяться и разговаривать с вещами». Он мечтал о массовой универсальной одежде на каждый день, для каждого гражданина. Но прославился проектом в высшей степени индивидуальным – рабочим костюмом из шерсти и кожи со множеством удобных (и красивых) накладных карманов. Сшитый дома, на швейной машинке «Зингер», он стал единственным в своем роде образцом прозодежды для художника. И Родченко в нем работал редко – все больше позировал для фото.
Александр Родченко позирует в индивидуальном рабочем костюме, сшитом Варварой Степановой
Фототипия, 1920–1930-е годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Варвара Степанова, соавтор этого произведения, также размышляла на тему удобного массового платья. Она много и хорошо теоретизировала, понятно излагала мысли, придумывала термины и давала им развернутые определения. В 1923 году в журнале «Леф» вышла ее статья, до сих пор широко цитируемая: «Костюм сегодняшнего дня – прозодежда»[74]. Она объяснила, зачем она нужна («это платье рабочего») и как ее создавать («от функции к системе покроя», «индивидуализируется в зависимости от профессии»), она предложила рассматривать спецодежду как отдельный подвид прозодежды, главная цель которой – защита носителя от внешних воздействий (к примеру, огня, пыли, крови). В той же статье предложила определение спортодежды: «Особый вид костюма. Ее основные черты: минимум одежды, несложность одевания и ношения, особая значимость цветового эффекта для выделения отдельных спортсменов и спортивных групп».
Проект рабочего костюма для Александра Родченко
Начало 1920-х годов.
В общем, художница ясно и убедительно описала много лет назад и не ею прописанные истины. Трудовой костюм всегда зависел от функции и специфики труда – в этом нет ничего нового. Это логично. И кожаные куртки рабочих-балтийцев, и комбинезоны американских механиков (которые во время Первой мировой безропотно надели рабочие женщины) появились благодаря специфике их труда. Спецодежда, костюмы пожарных и хирургов, о которых писала Степанова, была известна в России дореволюционной, и новые технологии, которые неизбежно должны были появиться в России большевистской, подсказали бы новые формы и обеспечили лучшее качество. Спортодежда сформировалась к началу XX века, и многие ее виды (в том числе для футбола, бейсбола, волейбола, хоккея) шили в «клубных» цветах как раз для того, чтобы отличать «своих» от «чужих».
Варвара Степанова.
Проекты спортивной одежды
1923 год.
Национальная публичная библиотека (Нью-Йорк)
Впрочем, статья Степановой была не чистой теорией, а руководством к действию. Художница стремилась сделать свои проекты массовыми. Кое-какие идеи и элементы экспериментальных образцов, действительно, попали в масспошив – к примеру, застежки-молнии. Татьяна Стриженова указывает еще комбинезоны[75], однако, во-первых, художники «Ателье» почти одновременно предлагали Москвошвею эти проекты, во-вторых, был хорошо известен американский опыт и фото рабочих в комбинезонах иногда публиковались в советской печати. Было множество источников для заимствования.
Безусловной ошибкой Степановой стали ее проекты спортивной формы. Как рисунки они гениальны, ярки, остры, абстрактны. Но чтобы добиться задуманного геометрического эффекта, следовало хорошенько накрахмалить текстиль до состояния лат. По полю бегали бы не футболисты, а рыцари в готических таббарах. Ткани, однако, предполагались мягкие, удобные и нежаркие. И как только их соединили бы в спортивные костюмы, исчезли бы острота и авангардная жесткость, геометрическая абстракция повисла бы унылыми красно-белыми тряпицами. Взяв за основу реальные костюмы (в похожей пестрой форме бились друг с другом хоккеисты и футболисты Европы и Америки), Степанова довела их до абстрактного совершенства и этим лишила свои проекты бытового советского будущего. Зато обеспечила им будущее в искусстве. Не это ли, в конце концов, главное для художника.
Проекты одежды Александры Экстердля ее статьи «Простота и практичность в одежде»
Журнал «Красная нива», 1923.
Частная коллекция
Александра Экстер одновременно с Поповой пыталась примирить искусство с бытом. Художница работала, в сущности, в двух костюмных жанрах – создавала эскизы театральных геометрических нарядных платьев и разрабатывала проекты понятной удобной и здоровой повседневной одежды. Экстер считала целесообразность базой такого костюма, изучала свойства материала и всегда их учитывала. В этом она была гораздо ближе Ламановой, нежели Поповой. Свою статью «Простота и практичность в одежде» 1923 года[76] она проиллюстрировала проектами платьев и костюмов, отвечавшими и целесообразности, и тенденциям, описанным в рекламных каталогах европейских универмагов тех лет. В них много «здорового» бытового потенциала, который, несомненно, Экстер развила, если бы не эмигрировала во Францию.
Варвара Степанова. Проекты текстиля
1920-е годы.
В 1923 году обе художницы с азартом истинных авангардисток приняли предложение руководства Первой ситценабивной фабрики разработать новые образцы текстиля. Это был настоящий вызов, и это был бы настоящий прорыв. Но Степанова и Попова не смогли найти с руководством и гражданами советской республики общего эстетического языка. Чрезвычайно обрадованные представившейся возможностью, они объявили войну ситцевым «цветочкам» и решили высвободить абстракцию из оков живописи, разлить ее по бессонным хаотичным городским улицам и площадям, дать ей возможность расти, множиться, свободно развиваться. Они ошарашили работников пестрыми проектами – скупые геометрические формы, черные, белые и красные, свободно проникают друг в друга и вибрируют в ритмах – джаза, марша, Стравинского и Сати. Вместе с ними Степанова и Попова старательно проработали проекты платьев и костюмов для каждого варианта набойки. Когда администрация попривыкла к авангардной пестроте и осторожно запустила проекты в производство, оказалось, что граждане не готовы покупать эти малопонятные яркие текстили. Им хотелось «цветочков» и веселого ситчика.
Авангардисткам явно не повезло со временем и страной. Как раз в те годы в Париже Рауль Дюфи изобретал жесткие геометрические проекты для текстильной фабрики Бьянкини-Ферье, а художница Соня Делоне готовила модному миру симультанную бомбу. Да и люди в Париже были другие – они привыкли ничему не удивляться и мягко, с великодушным интересом воспринимали все оголтело революционное и отчаянно пошлое. В советской республике люди выживали – тщетно выкарабкивались из бедности, одевались как могли, а редкие щеголи «от сохи» регулярно выслушивали в свой адрес нарекания – от соратников-комсомольцев, журналистов и советских обывателей, таких же, как они, детей сумрачных рабочих бараков. И почти никто из них не понимал абстрактное искусство.
Впрочем, несмотря на то что художницы прекратили сотрудничество с ситценабивной фабрикой уже в 1924 году, у них возник круг молодых последователей, в основном из студентов Вхутеина и Московского текстильного института. С одобрения старших товарищей из АХРРа и при поддержке партии они начали проектировать сверхинформативный агиттекстиль, каждый значок, шестеренка и задастая крестьянка которого означали мощь молодого советского государства и предчувствие скорой победы коммунизма. Полагали, что одежда из этих пестрословых материй будет вызывать у их носителей и всех вообще острое желание работать, вступать в партию и всеми силами приближать светлое будущее.
Не вышло. Часто повторенные советские символы обратились в какофонию и обесценились, лозунги превратились в чудно звучащую монотонную бессмыслицу. Получилась опасная антиагитация. Это поняли партработники и свернули производство текстиля в начале тридцатых. Но опыт не был забыт – похожие ткани создавали в период Второй мировой войны в США, Европе и даже Японии. А в шестидесятые Энди Уорхол прославился шелкографическими портретами с агиттекстильным эффектом – принтовал один за другим лица звезд, а получались кислотные абстракции. В каком-то смысле молодые советские художники предвосхитили американский поп-арт.
Владимир Татлин
Пресс-фото конца 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Борис Кустодиев.
«Праздничный день в деревне».
Рисунок для обложки журнала «Красная панорама». Художник изобразил счастливых советских крестьянок в платьях из веселого конструктивистского текстиля в стиле Варвары Степановой
1928 год. Архив О. А. Хорошиловой
Столь же неудачными были попытки Владимира Татлина внедрить в массовое производство идею «нормаль одежды» – то есть универсальной повседневной одежды, целесообразной, удобной, легко трансформируемой в зависимости от климата и времени суток. К примеру, для пальто, сшитого из непромокаемого материала, он предложил две отстегиваемые подкладки – фланелевую для осени и меховую (баранью) для зимы, которые «прикрепляются к непромокаемому верху (чехлу) специальным шкертом»[77]. Татлин, безусловно, учитывал сложные экономические обстоятельства и придумал пальто, составленное из трех заменяемых частей, «каждая из них по износу может быть заменена новой». В статье он подробно описал этот проект и, между прочим, сообщил, что оно, а также костюмы «выполнены совместно с трестом Ленинградодежды» [78].
Улыбчивая парочка советских рабочих
2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Пожалуй, это самые яркие эксперименты в художественной лаборатории большевистской России. В них было много надуманного, но была масса здравых идей с хорошим коммерческим потенциалом. Авангардисты, и это их безусловный плюс, твердо ощущали городскую брусчатку под ногами, учитывали специфику времени, места и менталитета советских граждан. Но, к несчастью, красная арт-мода, интересная, по-юношески максималистская, в чем-то наивная, повторила судьбу русского авангарда, грубо пришпоренного на бегу.
Рабочая молодежь в спортивных костюмах. Обращают внимание трикотажные юбки-бриджи на девушках. Такими крепкими и здоровыми, по мнению партии, должны были быть все молодые люди советской республики
1926 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Нэпманский джаз-банд
Середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Костюмы и нравы
Счастливцы, росшие в корсетах, по всем правилам хорошего тона, оставили Россию в первой половине двадцатых. Их «принсипы» пришлись Парижу впору. Нравы новой России определяли бескорсетники – бойкие пролетарские молодцы с инстинктами животного свойства. Уважение к человеку они потеряли во время Первой мировой и Гражданской. К трупам привыкли. Религию осознать не успели – ее отменила революция, а новых стальных заповедей большевики еще не выковали – были заняты борьбой за власть и о нравах особо не думали. НЭП, рожденный в горячке 192 Нода, лишь раззадорил дикие инстинкты. Ночные кабаре, наркотики, алкоголь, железные мускулы и маузеры сделали доступными те виды плотского удовольствия, о которых до 1914 года поминали лишь в церковных анафемах, а во время войны под страхом расстрела практиковали самые отчаянные «фраеры».
О любви никто не говорил. Ее не знали. Общение сводилось к банальному «удовлетворению биологических половых потребностей», как писали врачи. Они же на страницах комсомольской прессы говорили о вреде такого типа «общения», о том, что оно приводит к трудовому бессилию и нежелательной беременности партнерш, что оно связано с «пользованием услугами проституции и опасностью венерического заражения». Не помогало.
Эксцентрические ленинградские декаденты в модных костюмах и макияже. Автор снимка, В. М. Коваленко, позирует справа с коробком спичек
1930 год. Коллекция А. А. Классена (Санкт-Петербург)
Пролетарий тек в кабаре, ночные клубы и на частные квартиры для интимных встреч, хотя власти периодически устраивали облавы, а в Петрограде еще в 1919 году организовали трудовую колонию для «злостных проституток»[79]. Начальнику Петроградской милиции И. С. Серову не оставалось ничего другого, как просто признать факт: «Все более или менее оживленные улицы города в вечерние и ночные часы кишат женщинами, откровенно торгующими своим телом и обращающими на себя внимание своим вызывающим поведением»[80].
Большинство молодых людей из пролетариев начинали половую жизнь в раннем возрасте, что также беспокоило врачей: «Анкета, произведенная в 1922 г. в Москве, в Свердловском университете, где большинство студентов – рабочие и крестьяне, показала печальную картину: больше 40 % всех юношей познали половую жизнь в возрасте 16 лет. Неустойчивость и даже распущенность в половом отношении проникла и в школу второй ступени»[81]. Предлагали единственный возможный выход – «распространение спорта в рядах рабочей молодежи». Это было в середине двадцатых. В 1929-м, в год кончины НЭПа, уличенных в «распущенности» молодых людей просто выкидывали из комсомола. Такой подход оказался более действенным. В России самые острые вопросы традиционно решали запугиванием.
Наркотиками тоже увлекались с раннего возраста. Их привозили китайцы, в большом количестве осевшие в Петрограде, а также выходцы из недавно сформированных среднеазиатских республик. Опиум, гашиш, кокаин и морфий предлагали специальные люди, «толкачи», в клубах, кафе и кабаре.
Но все это – лишь одна, темная, сторона контрастного НЭПа. Относительная свобода нравов, как это часто бывает, тождественна относительной свободе искусства и костюма. До середины двадцатых художники все еще верили в светлое авангардное будущее советской России и всеми силами его приближали. Процветала культура кабаре, режиссеры экспериментировали с пластикой и терпением властей, выводили на сцену полуобнаженных джазовых танцовщиц, хрупких нимф в лоскутках Айседоры, нагловатых травести, забавлявших зрителей уличными шуточками и волшебным перевоплощением.
Тогда любили перевоплощаться, и костюм стал маскарадной декларацией о вполне серьезных намерениях. О чем лишь мечтали до революции, воплотили в двадцатые. Дамы, к примеру, стали мужчинами. Точнее – заменили их на производстве, ответственных постах, считавшихся доселе прерогативой сильного пола. Они превращались в рабочих, монтажников, шахтеров, водителей, бойцов, председателей колхозов (при этом одна дама даже изменила свой юридический пол для убедительности[82]). Женщины надели форму. Но отнюдь не впервые. Еще в 1868 году русским телеграфисткам присвоили специальный костюм, а позже многие девушки, работавшие в ведомствах, с удовольствием форсили в тужурках чиновников с петлицами и фуражках. Некоторые «эмансипе» заказывали себе выпускную гимназическую или университетскую форму, хотя позировали в ней только в фотоателье для памятного снимка и на вечеринках – в шутку как бы. Россиянки всегда любили форму и себя в ней.
Еще до Первой мировой войны
русские девушки любили наряжаться в форму.
Барышня позирует в хорошо сшитой тужурке и фуражке универсанта
Конец 1900-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Девушка слева убедительно играет роль студента императорского университета
Начало 1910-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
В начале двадцатых, надев рубахи, шинели и красноармейские шлемы, они «удалили» свой пол, скрыли ненужные привлекательные формы под грубым военным сукном, приравняли себя к мужчинам, стали им «товарищами». Форма была их «силовой одеждой», как много позже ею станут строгие офисные костюмы деловых дам-«яппи».
Журналисты спешили поздравить общественность с рождением новой советской фемины: «У нас быстро начинает сформировываться и развиваться новый тип женщины, самостоятельной, крепкой физически… Ставится вопрос даже об активном участии женщины в качестве бойца… Пойдем рано утром из центра на московскую окраину, где около 8 утра атакуют трамвайные вагоны сотни рабочих и работниц “АМО”, “Динамо” и др. заводов. Здесь трудно разобрать, кто принадлежит к слабому полу, а кто к сильному. Бывает, что девушка-комсомолка, энергично работая локтями, оттесняет от трамвая двух-трех замешкавшихся парней. Вагон тронулся, но она уже висит на подножке и, по-видимому, чувствует себя вполне удобно»[83]. Девушки и правда тогда были героические.
Герой Гражданской войны, наводчица пулемета 35-го кавалерийского полка Павлина Кузнецова.
Короткая стрижка и красноармейская форма делают ее почти неотличимой от мужчины. Художник Л. Котляр
Открытка, 1960-е годы. Архив О. А. Хорошиловой
Однако такие нравились не всем. В «Смене» часто публиковали письма рабочих, критиковавших мужественных ударниц: «Мы кожанку любим, а вот часто бывает так, что под кожанкой скрывается комсомолка, перенявшая от ребят ругань, “удаль молодецкую”. Не чураемся мы комсомолок, работаем и гуляем вместе с ними, а вот есть такие девчата, что хотят быть “стопроцентными парнями” и позаимствовали у парней уменье отборно материться. Вот в Самаре весной проводили бытовую анкету среди комсомолок. Был вопрос: “Ругаетесь ли вы матом?” Из 161 комсомолки, заполнившей анкету, 121 комсомолка скромно ответила одним словом: “Да”. Такого “равноправия” мы не желаем и против него восстаем единодушно»[84].
Любопытно, что даже прожженные матершинницы и «стопроцентные парни» не рисковали (или не хотели) носить брюки. В этом они были близки женщинам Века Джаза, своим зарубежным современницам, которые позволяли себе разве что бриджи с гетрами, когда занимались конным спортом, и атласные шаровары с пижамами, когда занимались флиртом. Но смокинги надевали только с юбками.
Отсутствие в России женщин в брюках можно объяснить, во-первых, традициями – страна была на 80 % крестьянской и «баб в портах» здесь не любили и не понимали, а, во-вторых, строгие брючные костюмы считали чем-то чуждым, западным, близкородственным фашизму. Женщин в форме советская пресса превозносила, а женщин в цивильных мужских тройках бранила последними словами. Характерный сюжет опубликовала «Смена». Над фотографией закуривающих коротко стриженных девушек в брюках и пиджаках помещен красноречивый комментарий: «Студентки известнейшего американского университета в Колумбии ввели новую моду – мужские костюмы. Таким образом, женское неравноправие абсолютно устранено, и милые буржуазные дочурки массами записываются в боевые фашистские отряды для нападения на рабочих»[85].
Цивильный мужской костюм приравняли к фашизму. Это отрезвляло. Это останавливало мужественных дам в их экспериментах. И даже те из них, кто предпочитал откровенно маскулинный стиль – блузы с отложными воротниками, галстуки со стальными штангами, запонки, строгие однобортные жакеты, кто коротко стригся и брил затылки, – даже такие никогда не надевали брюк. Нет их и на фотографиях той поры. Страх пересилил желание.
Но что не позволено обывателю, было допустимо в театре. Искусство травести, хорошо знакомое русской публике до революции, тихо вернулось на сцены кабаре. Оно совсем не походило на травести-постановки Парижа, Берлина и Лондона. Это была скромная, почти любительская пародия. Режиссер-экспериментатор Николай Фореггер поставил танец «Будбег» (название означало: «Бег конницы Буденного»). Его исполняла Лидия Семенова в костюме красноармейца, которая много позже так описывала представление: «[Я] была похожа на юношу-бойца. Быстрый по темпу танец был пронизан пафосом боя. Пригнувшись к седлу, юноша несся на горячем коне, рубил шашкой лозу, наносил удары врагу… Кончался номер ударно: после стремительного верчения юноша припадал на одно колено, целился и стрелял вдогонку врагу. После выстрела нэпманская публика приходила в панику, думая, что начинается очередная облава на спекулянтов»[86].
Александра Павловна Богат, командир разведки 21-го кавалерийского полка 1-й конной армии.
Во время и после Гражданской войны она ходила в кавалерийской форме, предпочитая юбке стильные галифе
Фототипия 1927 года. Архив О. А. Хорошиловой
Образ девушки-комсомолки в кожанке и красной косынке часто встречался в прессе
Обложка журнала «Смена», 1924. Архив О. А. Хорошиловой
Чуть более парижским по стилю и смелым по исполнению был танец апашей, популярное в ранних советских кабаре и мюзик-холлах представление. Она, апашка, уличная проститутка, которую крутит в небрежном танце апаш, уличный хулиган и сутенер. Он эффектно одет, с толикой грязной романтики – несвежая сорочка, мятый пиджак, брюки-клеш, шарф и кепка. Такой образ был хорошо понятен советской публике. Похожие крутые парни сидели в зрительном зале, «терли» дела в кабаках и грабили прохожих в темных подворотнях. Иногда апашей играли женщины. На основе этого танца М. И. Загорская сделала номер «Песни улиц», с которым выступала на сцене московского мюзик-холла в 1924 году. Она исполняла партию апаша, одетая в соответствующий костюм. Журнал «Зрелища» назвал ее «лучшей в этом жанре»[87].
Карикатура на современных маскулинизированных девушек
Журнал «Смена», 1928. Архив О. А. Хорошиловой
Советские модницы не решались носить брюки, однако некоторые позволяли себе бриджи-галифе, отправляясь на загородную прогулку
Фотография В. М. Коваленко, 1929.
Коллекция А. А. Классена (Санкт-Петербург)
Образ апаша проник и в костюмную моду. Женщинам было недостаточно чувствовать себя бойцами и рабочими, им захотелось примерить маску хулиганов, таких свободных, раскрепощенных, очень сексуальных. Короткие волосы они убирали под кепки с широким козырьком, грудь камуфлировали под мешковатыми пиджаками, туго затягивали широкий кожаный ремень, но вместо апаши-стых клешей надевали юбки. Апаш стал нашим, рабочим ответом буржуазному стилю garçonne.
В Европе и Америке женщины «омужествлялись», пока некоторые мужчины феминизировались. В советской России было много мужеподобных дам, но женственных мужчин наперечет. К их числу принадлежали, к примеру, молодые эксцентричные нэпманы-театралы, а также отпетые гашишисты. Борис Арватов набросал портрет одного из них: «У талантливого мальчика были подведены глаза, накрашены губы и напудрена вся физиономия»[88]. Александр Абрамов поддерживал коллегу: «Ведь были и будут томные юноши с подведенными ресницами. И они, ведущие тайное знакомство с кокаином и теорией Уайльда, скажут мне – это же не эротика, а вы – дурак» [89].
Барышня в сорочке, галстуке, жакете и юбке. Волосы острижены под «боб»
1927 год. Архив О. А. Хорошиловой
Вполне вероятно, что в нэпманских кабаре выступали «женские имперсонаторы» – актеры-травести, бесподобно перевоплощавшиеся в красивейших женщин. Однако есть лишь косвенные факты, это подтверждающие. Многие оставшиеся в советской России прошли Первую мировую и побывали в военных лагерях. Некоторые вполне могли участвовать в лагерных постановках, в которых женские роли также играли мужчины, порой весьма искусно, с ужимками и кокетством, в прекрасном гриме и нарядных платьях. Снимков с этими сценами множество. Опыт лагерной травестии пригодился актерам, да и послевоенные огрубевшие зрители были вполне подготовлены к такого рода представлениям.
Короткие стрижки «боб» стали весьма популярны среди нэпманок и комсомолок. На этом снимке девушка демонстрирует модную стрижку и почти мужской костюм – сорочку, галстук и пальто с меховым воротником
Ленинград, конец 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
НЭП имел крепкие связи с веймарской культурой. Художники, режиссеры, писатели и танцовщики бывали в Берлине, столице кабаре и театральной травестии. Тогда на всю Европу гремел клуб «Эльдорадо» и самые яркие его звезды – Ханс Лехари и Ханзи Штурм (известный также как «мисс Эльдорадо»). Они вполне могли воодушевлять русских актеров на подобные перевоплощения.
Девушка, одетая в стиле «апаш»
Начало 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Валентина Дружинина, одетая в стиле «апаш». Сигарета – непременное дополнение образа
Середина 1920-х годов. Архив
Эффектная дама, возможно актриса, в образе апаша
Ташкент, 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Наконец, о существовании имперсонаторов и частных клубов, в которых они выступали, говорят сохранившиеся снимки. На одном, находящемся в Центральном Государственном архиве Санкт-Петербурга, запечатлены участники свадебного травести-бала, устроенного 15 января 1921 года. Фотография была подшита к уголовному делу и использовалась как улика против задержанных участников костюмированной травести-вечеринки. Снимок, скорее всего, был сделан в профессиональном ателье, о чем говорит характерный фотографический «задник». Подробнее об этом вечере, а также о травести-культуре и моде Петрограда 1920-хчитайте на стр. 386–393. Забавные, шумные и очень раскрепощенные молодые люди собирались в основном на частных квартирах и в небольших клубах, куда вход посторонним был заказан, что, впрочем, не мешало милиции устраивать облавы.
Судя по недавно найденной фотографии, молодые люди разыгрывали сценки из любовной истории апаша и апашки, что еще раз подтверждает популярность этого сюжета в России двадцатых годов.
Возможно, некоторые кабаре давали открытые, публичные травести-представления. Если это и так, они прекратились в 1923–1924 годах, когда Совнарком учредил Главный комитет по контролю за репертуаром при Главлите и местных органах, который строго следил за моральным содержанием представлений, а «зрелища всякого рода вне театральных помещений» запретил. В середине двадцатых власти наконец принялись за оздоровление нравов, вооруженные ленинской цитатой: «В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма». И начали укреплять и завершать.
«Танец апашей», исполняемый на театральной сцене
Середина 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Заключительная сцена «Танца апашей».
Главные образы, сутенер и проститутка, позируют в центре
Середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Русские травести
Конец 1910-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Два молодых человека изображают сценку «Танец апашей»
Москва, начало 1920-х годов.
Архив О. А. Хорошиловой
Театр в немецком лагере военнопленных. Все женские роли исполняют мужчины. Они прекрасно одеты и аккуратно накрашены
1918 год. Архив О. А. Хорошиловой
Ханс Лехари, один из самых известных травести Германии эпохи Веймарской республики
1920-е годы.
Архив О. А. Хорошиловой
Участники инсценированной мужской свадьбы 15 января 1921 года на частной квартире по улице Симеоновской, дом 6.
Сидят слева направо: Евгений Киселев, Федор Полуянов, Лев Савицкий, Александр Мишель, Иван Греков, князь Георгий Авалов.
Стоят слева направо: Георгий Халоппанен, Григорий Васильев (?), пятый слева – Петр Абол, левее – Феликс Фелингер и Генрих Хайнц,
Автор снимка – матрос Афанасий Шаур. Атрибуция О. А. Хорошиловой. ЦГА СПб
«Дело о вечеринке»
Об этой истории я впервые прочла в книге Дана Хили[90]. Аккуратно и обильно цитируя статью академика Бехтерева, автор описал мужскую свадьбу, произошедшую в январе 1921 года в Петрограде, в квартире милиционера Александра Мишеля, на которой присутствовали военные, «частью переодетые в женское платье». Затем один московский историк описала ту же вечеринку, сообщив, что нашла некие архивы, связанные с тем событием. Однако ни точных ссылок, ни даже местоположения документов она не указала.
Заинтригованная этой необычной историей, – вечеринка, травести-шоу военморов и красноармейцев, и все это в мерзлом послевоенном Петрограде начала двадцатых, – я попыталась разыскать сочинения Бехтерева и сами документы. Первое было несложно. Академик по-военному объективно и подробно описал эту забавную историю в статье[91]: 95 человек, большинство красноармейцы, матросы и милиционеры, собрались по приглашению некоего «агента Ш.» (матроса Шаура) на частной квартире (улица Симеоновская, дом 6) с целью принять участие в костюмированном представлении с переодеванием. «Агент Ш.» сообщил об этом в угрозыск, нагрянула милиция, и все 95 человек отправились в кутузку для дознания.
Отыскать документы, не зная даже города, где они хранятся, оказалось не так просто. Впрочем, скрупулезный академик Бехтерев в статье сообщил фамилии начальника уголовного розыска и судей, расследовавших это дело. После упорных поисков в архивах Москвы, Выборга и Петербурга пухлая архивная папка была, наконец, найдена. А в ней – более сотни документов, биографии 95 арестованных и около десятка интереснейших тем: ранние советские гей-клубы и «плешки», квартирные вечеринки, балетные номера с переодеваниями, инсценированные мужские свадьбы, шпионы и даже контрреволюционный военный заговор.
Вечера у «Мамули»
Еще во время Первой мировой войны в Петрограде возникло некое общество или салон, членами которого были мужчины, питавшие интерес к музыке, поэзии и представителям собственного пола. Его основал Михаил Павлович Бычков. До революции он состоял в Департаменте общих дел Министерства народного просвещения и к 1917 году дослужился до коллежского советника. Отлично музицировал, водил короткое знакомство с артистами, устраивал у себя на квартире театральные и музыкальные понедельники, приглашая певцов, поэтов, музыкантов, в общем, творческую богему. После революции Бычков тоже не унывал, сделался большой шишкой – занимал пост начальника финансово-счетной части Петроснаба Главлесом. Живя в доме № 21 по Зоологическому переулку, в барских просторных апартаментах, он продолжал держать салон, но приглашал лишь избранных.
Завсегдатаем вечеров в Зоологическом был князь Георгий Авалов, бывший танцовщик, а в советское время – тихонький контролер 2-й государственной типографии. К Михаилу Павловичу часто наведывались актеры Сергей Милашевич и Николай Петров, а также Владимир Пономарев, именитый танцовщик, премьер Мариинского театра, бывший участник дягилевских «Сезонов». Дорогими гостями Бычкова были поэт Евгений Геркен-Баратынский и (по косвенным данным) поэт Михаил Кузмин.
На журфиксы к Бычкову приходили и милые молодые люди из «простых». Так друзья Михаила Павловича называли выходцев из низших сословий, себя же именовали «аристократами». «Простые» были в основном красноармейцами и матросами, грубоватые, но не чуждые искусству. Они называли хозяина квартиры «Мамулей» за рачительность, хлебосольство и влажную заботу о молодёжи. «Вербовали» этих молодцов по месту их службы – обычно в театрах при военных частях. Травести-представлениями славился театр при 2-м Запасном инженерном батальоне, в котором работали некоторые «аристократы». В перерывах они подходили к наиболее приглянувшимся бойцам и приглашали их на «частные вечёры», в том числе к «Мамуле»-Бычкову.
«Люлк», «Фру-фру» и другие светские дамы
Бычков любил потчевать публику галантными номерами, для чего приглашал к себе артистов-«аристократов» – Льва Савицкого, Федора Полуянова, Евгения Киселева, и некоторых «простых». Все они ловко перевоплощались в женщин, сами придумывали номера, неплохо танцевали. Савицкий и Полуянов хорошо имитировали женские голоса, их номера пользовались популярностью не только у «бычковцев», но и среди красноармейцев. Артисты безбоязненно выступали на сцене клуба 2-го Запасного инженерного батальона и, видимо, имели там большой успех.
Эти ранние петроградские травести, жившие в глухое, сумрачное, жутковатое, послевоенное время, – явление удивительное, любопытнейшее.
Одним из самых востребованных среди «аристократов» был Лев Савицкий, 22-летний молодой человек из петербургской дворянской семьи. Учился в кадетском корпусе, в 1917 году окончил ускоренно Николаевское Инженерное училище и как специалист по автомобильному делу был зачислен в третье отделение 1-й Запасной автомобильной роты. Затем служил в Москве на Центральном автомобильном складе, потом в Череповце и в июле 1919 года был переведен в Петроград во 2-й Запасной инженерный батальон на должность заведующего классами школы. Все свободное время посвящал танцам, быстро выучился балетным па (вероятно, имел базовую подготовку в юности), начал танцевать в платьях. Выступал на частных вечерах, а также на сцене батальонного клуба. Сценическим именем Льва было «Люлю»[92].
Его близкий друг и сценический партнер, красноармеец Евгений Киселев, по кличке «Фру-фру», также происходил из дворян петербургской губернии. Родился в 1890-м, в 1900–1901 годах учился в престижной гимназии Карла Мая, которую к тому времени окончили Дмитрий Философов и Константин Сомов. Затем обучение в Императорском училище правоведения и служба в канцелярии Ведомства учреждений императрицы
Марии. За семь лет на чиновничьем поприще он не продвинулся. Тихо числился бумагомаракой и вел свободный образ жизни, общаясь с творческой богемой, к которой всегда испытывал слабость. Возможно, тогда же Киселев попробовал себя в новом амплуа – переодевался в дамские наряды, надевал парики, пудрился и убедительно исполнял женские опереточные партии в кафе и частных клубах. Это, впрочем, не помешало ему жениться и завести ребенка[93].
Еще одной звездой петроградской травестии был Федор Полуянов, частый гость на вечерах Бычкова. Родился в 1893 году. Во время Первой мировой он находился вместе с матерью в Петрограде, по вечерам подрабатывал, танцуя в женских нарядах в кинематографах и клубах. Есть сведения, что он также выступал на сцене театра «Кривое зеркало»[94]. После революции устроился артистом культпросвета 2-го Запасного инженерного батальона, в котором также числились Савицкий и Киселев. В репертуаре Полуянова были и мужские роли. Иногда в клубе батальона и на вечерах он вдохновенно играл древнегреческого Икара.
Матросы в юбках, бойцы в помаде
Были среди первых травести и выходцы из низов – так называемые «простые», которые, однако, заливались девичьими трелями не хуже дворянских отпрысков. Романсы хорошо удавались Григорию Васильеву, красноармейцу 10-го батальона артиллерии воздушной обороны Петрограда. Боец умел носить платья, хорошо имитировал женские голоса, за что и получил прозвище «Вяльцева»[95]. Георгий Халоппанен, 34-летний женатый снабженец, служивший в петроградских топливных органах, не пел. Он просто рядился в женщин, иногда являлся в бархатном драматично– красном платье с жабо и парике во вкусе Натальи Гончаровой странного яростно рыжего цвета. Для пущего сходства с пушкинской дамой он все время раскрывал свой лорнетик и оглядывал понравившихся гостей. Выглядело это комично, и гости, хохоча, выскальзывали из поля зрения «пиковой дамы».
Владимир Конверский также входил в это общество «простых» травести. Известно о нем лишь то, что он родился в 1886 году и был судим «за спекуляцию кондитерскими изделиями»[96]. Еще во время Первой мировой выступал в женских платьях, исполняя жгучие цыганские романсы, и после революции продолжал успешную концертную деятельность под именем «Валентины Сладкой»[97].
Военмор Иосиф Дубинский, служивший в штабе Балтийского флота, отличался особой скрупулезностью в выборе женских костюмов, подбирал платья и аксессуары всегда с большим вкусом, отчего получил кличку «Парижанка» – «за умение хорошо и красиво одеться»[98].
Дениса Нестеренко именовали «Диной»[99]. Этот молодой и юркий приказчик мануфактурной лавки действительно был похож на девушку. Иногда участвовал в камерных травести-номерах. Впрочем, главное его артистическое достижение – роль невесты на свадьбе, инсценированной 18 декабря 1920 года на квартире у Георгия Андреева, начальника отдела личного состава Петроградского торгового порта. Сам хозяин квартиры убедительно сыграл роль жениха.
Одним из самых ярких травести из «простых» был Иван Греков, крепыш, здоровяк, матрос-хлебопек 2-го Балтийского флотского экипажа, а по совместительству – женский имперсонатор по прозвищу «Фи-фи». В начале революции Греков отправился на костюмированную вечеринку в Калашниковскую биржу и познакомился там с красноармейцем Григорием «Вяльцевой» Васильевым. Тот ввел матроса в круг любителей травестии и помог ему получить ангажемент.
Греков был нарасхват – частные квартиры, в том числе у Бычкова, богемные кафе, даже красноармейский клуб, в котором он выступал в женском амплуа. Бойцам РККА номера нравились. Но некоторые хорошие знакомые отзывались о Грекове негативно: «Много кривляется, производит впечатление очень странного человека»[100]. Сам артист, несмотря на бурные вечерненочные развлечения, в любви и жизни разочаровался, о чем сделал следователю соответствующее признание: «Разными связями я перестал интересоваться еще полгода назад. Ко всему стал относиться апатически. В настоящее время увлекаюсь лишь туалетами»[101].
Платья для мужчин
Туалетами (в безобидно костюмном смысле) увлекались многие имперсонаторы. Готовили наряды тщательно, ревностно. У Льва Савицкого, Евгения Киселева, Федора Полуянова был десяток превосходных женских костюмов, парики, а также балетные пачки и пуанты, возможно сшитые на заказ у частных портных.
Работавшие в театрах умыкали из мастерских вышедшие из моды «хромые» юбки, сарафаны боярышень, кокошники и пуфы. К примеру, Петр Марцевич Абол, парикмахер Мариинского театра, достал для вечеринки на Симеоновской улице два отличных белых парика во вкусе Марии Антуанетты. Один надел сам, другой предложил своему другу, Феликсу Фелингеру. Платье, однако, Петр Марцевич позаимствовал у соседки, актрисы Егоровой. Она же дала на прокат костюм Пьеро, который надел немец Генрих Хайнц, отправляясь с Аболем и Фелингером на «свадьбу» Шаура.
Другие, к примеру Иван Греков и молодой военмор Иосиф Дубинский, покупали или брали напрокат наряды у Александра Васильевича Лейферта. Это был один из самых известных и уважаемых мастеров сценического и маскарадного костюма, чей торговый дом «Братья А. и Л. Лейферты» на улице Караванной, 18, работал с лучшими театрами императорского Петербурга и заграничными труппами. Практически все лучшие столичные семьи заказывали у него наряды для маскарадов.
Русский театр в немецком лагере военнопленных в Кенигсбруке.
Все роли исполняют мужчины – русские солдаты и офицеры. Некоторые представители советской травести-культуры прошли подобные лагеря
Фотооткрытка, 1917–1918 годы. Архив
О. А. Хорошиловой
После революции магазин Лейфертов национализировали, однако Александр Васильевич оставался при деле и продолжал сдавать костюмы напрокат. В своих показаниях Иван Греков говорит о том, что Лейферт устраивал у себя костюмированные рождественские вечера, как это было принято в старом-добром Санкт-Петербурге[102]. Именно туда, на маскарад к Лейферту, держал свой путь матрос Греков, но на беду встретил знакомого красноармейца Василия Афанасьева, позвавшего его на свадебный вечер в квартиру на Симеонов-ской улице, где их повязала милиция вместе с прочими гостями.
Некоторые завсегдатаи костюмированных вечеринок не могли себе позволить дорогого Лейферта и шли за женскими театральными платьями в пролетарский Народный дом. Здесь подрабатывали некоторые члены «бычковской организации», к примеру артист Николай Петров и пианист Иосиф Юрман. Мастерские при доме были бедны, костюмы незамысловаты, материалы грубы. Но зато они оставляли свободу для выдумки и ничем непобедимой русской смекалки. Этим пользовались не только тихие любители травестии, но и художники-авангардисты. Валентина Ходасевич вспоминала: «Было две возможности в смысле костюмов: подбирать костюмы в национализированных костюмерных мастерских фирмы “Лейферт” (они роскошны по материалам, но безвкусны) или шить новые костюмы в мастерских Народного дома из брезента, холста, бязи и миткаля. Все делалось из этих четырех простейших материалов: фраки, бальные туалеты, головные уборы, обувь и парики. Я убедилась тогда, что “ограничения” в театре очень полезны и обостряют выдумку при условии, что художник этому хозяин»[103].
Вещдок № 877
К делу о вечеринке подшиты два снимка. Они не датированы, лица, на них запечатленные, не названы. Ни места съемки, ни автора. Ничего. Из документов понятно лишь то, что они с 1921 года хранились в Регистрационном Дактилоскопическом бюро и в Учебном отделе Севзапкино. В октябре 1922 года их затребовал народный следователь, ведший дело о вечеринке. При этом охарактеризовал их так: «Фотографии гомесексуалистов (sic), снятых во время обряда свадьбы»[104].
Но какая свадьба имелась в виду? С 1919 по январь 1920 года в Петрограде было сыграно несколько. И самые громкие среди них две – 18 декабря 1920 года на квартире у военмора Андреева и 15 января 1921 года на Симеоновской улице, во время которой произошла милицейская облава.
К счастью, удалось найти небольшое упоминание об этих снимках в допросном листе Федора Полуянова. Он опознал восемь человек – среди них лишь трое участвовали в свадьбе 18 декабря, и не названы главные виновники торжества, «невеста» Нестеренко и «жених» Андреев, которых Полуянов знал. Следовательно, оба снимка были сделаны 15 января 1921 года во время свадьбы Льва Савицкого и матроса Шаура. После кропотливой сверки 98 показаний с лицами и костюмами на фото удалось установить большинство позирующих, в том числе и молодого усача в центре группы, одетого во фронтовую бекешу, – это хозяин квартиры милиционер Александр Мишель.
Автором же снимка может быть лишь один человек – подводник, верный коммунист Афанасий Фирсович Шаур. Именно он под предлогом «свадьбы» собрал на квартире по улице Симеоновской девяносто пять человек, представителей квир-культуры Петрограда. И цель его была отнюдь не разоблачить травестию. Он вознамерился раскрыть крупный контрреволюционный военный заговор.
Но это – уже другая детективная история.
«Необычная свадьба», или Как подводник Шаур разоблачал контрреволюцию
В январе 1921 года в сводках уголовного розыска появились странные сообщения. На частной квартире милиционера Мишеля арестовано 95 человек, среди них – военные, «переодетые в женское». Как выяснилось, они шумно и пьяно отмечали свадьбу. Там были посаженые мать и отец, свидетели, балерины, гимнастки, цыгане – и все до одного мужчины. Невесту изображал красноармеец Савицкий, жениха – матрос Шаур, названный в милицейских сводках «нашим агентом Ш.».
Об этой странной свадьбе потом много писали – юристы, врачи, журналисты. Академик Бехтерев составил даже целый трактат.
Но вечеринка с переодеваниями в этом деле не главное. Организатор мероприятия, матрос и коммунист Афанасий Фирсович Шаур, задался благородной целью раскрыть, ни больше ни меньше, контрреволюционный заговор среди петроградских военных. Он придумал эту свадьбу, чтобы вместе с угрозыском повязать сразу всех «заговорщиков». В 1920 году подобных Шауру славных и честных парней было много. Каждый выискивал агентов «белой разведки» и «германских шпионов». Эти бравые парни фабриковали одно дело за другим – о епископе Палладии, о Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева, о лицеистах… Но дело, которое придумал матрос, обернулось скверным анекдотом.
Пинкертон в тельняшке
Об этом горе-детективе кое-что известно. Родился в 1890 году в Витебской губернии. Окончил приходскую школу. В начале Первой мировой войны числился в 1-й Кадровой роте 2-го Балтийского флотского экипажа, с июня 1915 года служил на подводных лодках «Акула» и «Барс». В 1916 году состоял монтером и старшим шофером в гараже Морского Главного штаба, жил в Петрограде. В конце 1916 или начале 1917 года, если верить его показаниям, отправился на фронт, попал в плен к австрийцам (в других документах – «попал в плен к белым»), возвратился в Петроград, был арестован, но выпущен, благодаря помощи хорошего знакомого, барона Шиллинга.
В 1918 году Шаур записался военмором на подводную лодку «Вепрь» и в 1920 году вступил в партию. Служил хорошо, нареканий не имел. В общем, неплохой среднестатистический матрос. Но Шаур любил детективы и был карьеристом. Заболев, как и многие тогда, идеей борьбы с контрреволюционерами, он начал активно их выискивать: в экипаже, матросских клубах, на частных квартирах. И ему невероятно повезло – он их быстро нашел.
«Бычковская организация»
Еще во время Первой мировой войны Шаур коротко познакомился с неким бароном Шиллингом, стал часто бывать у него на квартире (проспект Володарского, 60). Посещал и литературно-музыкальные вечера Михаила Бычкова (Зоологический переулок, 4). Устраивались там и вечера с переодеваниями. Артисты, приглашенные хозяином, переоблачались в балерин, гимнасток и циркачек, даже изображали хождение по канату. Собирались на такие шоу по 20–25 человек, исключительно мужчины и почти все военные. Обращались друг к другу не по именам, а по кличкам, как это делали шпионы или агенты. И матрос Шаур понял, что это и есть настоящая контрреволюция, отлично замаскированная под театральное представление.
Верный партиец Шаур решил «внедриться в бычковскую организацию, желая точнее узнать ее цели». Сначала он просто принимал приглашения и ходил на частные вечера – к Георгию «Жоржику» Суворову на Английский проспект, к бывшему монаху на Васильевский остров, где «пили много спирту», в Павловск «к каким-то двум милиционерам».
Но только на встречах у военмора Георгия Андреева (улица Офицерская, 10) Шаур понял, что ошибается. Вечеринки устраивались не с целью антибольшевистского переворота. «Бычковская организация» и «ее сочлены» затягивали невинных красноармейцев в аморальную мужскую среду, угощали алкоголем, показывали травестийные представления и этим хотели медленно разложить военные кадры изнутри, расшатать «нравственные устои коммунистической молодежи».
Понял это Шаур потому, что и к Бычкову, и к Андрееву приходили все новые красноармейцы, краснофлотцы и милиционеры сводно-боевых отрядов. «Их наберется более 2000 человек», – доносил матрос. Он установил и «главарей» группировки – Михаила Бычкова, барона Шиллинга, князя Георгия Авалова, бывших правоведов Бориса Каминского и Евгения Киселева, артиста Сергея Милашевича, поэта Евгения Геркена-Баратынского. Появление таких имен в списке Шаура логично – почти все дворяне, один аристократ, два правоведа (они, как лицеисты, считались социально опасными элементами), а также весьма известные в Петрограде богемные личности.
Поэт Евгений Геркен-Баратынский, член «организации Бычкова»
Снимок из личного дела. Конец 1900-х гг.
Национальный архив Республики Татарстан
Затем Пинкертон в тельняшке устроил несколько вечеринок у себя на квартире (16-я линия Васильевского Острова, дом 5), «чтобы лучше войти в их общество». Первая прошла 6 декабря 1920 года. Собралось около семидесяти человек, в том числе Бычков. В тот же вечер Шаур отправил заявление в Особый отдел угрозыска с просьбой организовать облаву. Реакции не последовало. 13 декабря – новая вечеринка у Шаура и новый запрос в угрозыск. И вновь никакой реакции. 20 декабря 1920 года Шаур лично пришел в угрозыск и написал развернутое донесение о том, что «бычковцы» ведут подрывную работу среди военной молодежи и нужно их обезвредить. Он пообещал собрать в одном месте сразу всех «сочленов банды». И угрозыск, наконец, дал добро.
Одна свадьба и девяносто пять арестантов
Но как привлечь стольких людей? Посулить веселую вечеринку? Такие устраивал не только Шаур. Концерты с артистами-травести тоже никого не удивляли. Матрос опять рискнул и объявил, что организует костюмированный вечер со свадьбой: он будет женихом, а танцовщик Лев Савицкий – невестой в платье и фате.
Устроить вечер решили в просторной квартире милиционера Александра Мишеля, свободно вмещавшую сотню человек.
Слухи о готовящейся свадьбе разнеслись по Петрограду. Агенты Шаура (среди которых был и военмор Михаил Паньшин, слушатель политического института) рыскали по адресам и приглашали всех на вечер. Ничего не подозревавший об облаве Лев Савицкий придумал сценарий действа вместе с Евгением Киселевым. Оба профессионально танцевали и были известными в богемном Петрограде актерами-травести. После сбора гостей, около 10 часов вечера в небольшой комнате должен был состояться обряд венчания с танцевальными элементами из первого действия балета «Жизель». Посаженым отцом выбрали Александра Мишеля, посаженой матерью – князя Георгия Авалова. Последний должен был благословить молодоженов хлебом и солью. Затем процессия перемещалась в большое зало, где пару поздравляли, после чего Лев Савицкий переодевался в другой костюм, исполнял два балетных номера. Вечер заканчивался общими танцами и попойкой.
Идея и сценарий всем понравились до чрезвычайности. Вечеринки с переодеваниями устраивались многими, но свадьба была разыграна лишь однажды, в декабре 1920 года на квартире у военмора Андреева. О ней потом много судачили в петроградских притонах и клубах.
И вот наступило 15 января 1921 года. Вечером на квартире Александра Мишеля в доме № б по Симеоновской улице собрались десятки гостей. Начался обряд венчания. Все шло по сценарию. Выход в зал, поздравления, поцелуи, фотоснимки на память. И вдруг – свистки, крики «стой», лязг затворов. Облава. В квартиру ворвались милиционеры. Начальник угрозыска Крамер занес в протокол: «Прибыли в указанную квартиру, застали 95 человек, частично переодетых в женское».
Шаур и последователи
И, кажется, вот он – звездный час под вод ника-детектива. Милиция прибыла вовремя, схватили почти сотню человек, большей частью военных, среди задержанных и главари организации, в том числе Бычков. Но горе-детектив просчитался – не учел, что именно будут говорить задержанные на допросах о нем самом.
Открылись прелюбопытные подробности, что Шаур был больше, чем просто другом Шиллинга, что он был завсегдатаем частных мужских притонов, посещал всем известные злачные места, бани на Бассейной и на Кирочной улицах, на Знаменской площади, Собачий садик за цирком Ченизелли, Летний сад… Обвинения сыпались ото всех. Из «агента» Шаур превратился в обвиняемого. Его отпустили, но с подпиской о невыезде, что не помешало ему собрать вещи и выехать в Тифлис, где след его простыл.
Следствие тем временем продолжалось. Допросы и очные ставки, вторичные допросы. Провели даже медицинское освидетельствование при участии Владимира Михайловича Бехтерева. Академик сказал, как отрезал: «Они не преступники, они психически больные». Признаков заговора следователи не обнаружили, хотя изрядно старались. Уголовной статьи за переодевание в женские платья не существовало, и в ноябре 1923 года дело было закрыто.
Но дело Шаура продолжало жить! В 1930 году сотрудники ленинградского представительства ОГПУ зафиксировали несколько случаев аморального поведения среди молодых военных. Началась тотальная слежка. Зазвучали разговоры о контрреволюции и заговоре с целью разложить Красную армию изнутри. Новые шауры расползлись по частным квартирам, публичным местам встреч и пивным. К 1933 году собралась внушительная пачка донесений. Оказалось, что в Ленинграде действует целая сеть «иностранных агентов», тлетворно влияющих на мораль и нравственность Красной армии. Летом 1933 года начались аресты. И это уже были другие аресты и другие допросы – в стиле человеколюбивых тридцатых годов.
С августа по ноябрь 1933 года взяли 175 человек. Среди них были и участники милой анекдотичной свадьбы 1921 года – Михаил Бычков, Евгений Геркен-Баратынский, Николай Петров, Александр Мишель… Многие получили десять лет исправительно-трудовых лагерей. Тогда это казалось огромным сроком, каким-то сверхжестоким наказанием. Никто и не знал, что это лишь начало масштабной сталинской операции по искоренению инакомыслия и будут наказания и пострашнее.
Под мягким контролем
Во второй половине двадцатых НЭП все еще кружил головы и выдувал из карманов наличные. Люди азартно бегали по улицам, шумно роились у входов в универмаги, носами липли к витринам с накрашенными вертящимися манекенами, будто живыми. Парикмахеры стрекотали сталью, брадобреи лязгали золингенами, автомобили спорили клаксонами с кучерами, кучера нахлестывали ротозеев, булочники орали про «румяные только из печки», постовые свистели, трамваи звенели, люди бегали, швыряли деньгами. Напрасно старались газетчики. Из всех последних новостей граждан интересовала лишь одна – НЭП пока разрешен. И нужно успеть, нужно урвать свое.
Еще разрешалось быть модным. Журналы сыпали сочными описаниями парижских пальто, тайеров, платьев и шляп: «Носят костюмы английского покроя, смокинги, костюмы “фэнтези”, с костюмами спортивного жанра одевают замшевые жилеты, многие весенние платья застегиваются на спине, необходимо отметить маленькую сенсацию – на парижских шляпах начали появляться (хотя и робко) давно забытые “эспри”»[105].
Читательницы старательно заучивали модные советы: «Обычно блондинкам к лицу зеленый, лиловый, синий, белый, красный цвет. Брюнеткам – яркие цвета: зеленые теплых оттенков, золотистые и табачные. Шатенкам – больше всего серо-розовые, серо-голубые и все неопределенные цвета»[106]. Нэпманшам, которые не могли себе позволить остромодные пальто из леопарда, рекомендовали хитрый прием: «Леопардовый мех очень искусно выделывается из кроличьих шкурок. Предварительно шкурка выделывается, и на готовую шкур icy с обрезанным ровно ворсом накладывают кожаный трафарет с узором из шкуры леопарда. Окраска производится анилиновыми красками и дает поразительные результаты – полную иллюзию леопардовой шкуры. Для этого выбирают кроличьи шкурки с натурально-песочной и желтоватой окраской. Вполне возможно приготовить такой леопардовый мех дома, при некотором умении рисовать и сноровке»[107].
Весенние моды на страницах «Женского журнала»
1927 год. Архив О. А. Хорошиловой
Рисунок элегантных демисезонных нарядов
«Женский журнал», 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Рисунки весенне-летних нарядов.
Правое платье решено в русском крестьянском вкусе
«Женский журнал», 1929. Архив О. А. Хорошиловой
Рисунки летних ансамблей
«Женский журнал», 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Все еще работали мюзик-холлы, дансинги, бары. Еще жарили фокстрот и «ту степь», хотя не так задорно и шумно – сказались новые ограничительные законы 1923–1924 годов. «Вечорки», «кинишка», «танцульки» – этими модными словечками сыпали в середине двадцатых не только нэпманы. Их полюбили комсомольцы, молодая гвардия стареющих ленинцев. Рабочие юноши и стриженые «девчата» все реже заходили в читальни и все меньше времени посвящали трудам великих кормчих октября. Они шли развлекаться в клубы – не комсомольские, не театральные, а самые настоящие – прожженные, джазовые, ночные. «Рабочий огонек» потускнел, и в глазах вспыхивали нездоровые искорки беспричинного буржуазного веселья. В середине двадцатых молодежь начала забывать о своем великом предназначении. Она научилась не стесняться зеркал, ловко прихорашивалась и пудрилась, думала о вещах и выдумывала вещи.
Пара рабочих, одетых «под нэпманов»
Середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Среди рабочих были те, кто хотел и мог одеваться лучше. Такие готовы были голодать ради твидового костюма или новой клетчатой кепки-«нэпманки». Рупор комсомола журнал «Смена» рапортовал о злостных нарушениях большевистской этики заводским молодняком. «Появился какой-то ложный стыд за плохую или простую, не модную одежду. У всех стремление быть одетым не только прилично, но так, как одеваются в городе, в центре. Однажды на вопрос “почему вы не пойдете в 1-е Госкино посмотреть “Броненосец Потемкин”, парни ответили: “Ехать в город, в кино, значит, надо быть одетым не хуже других. Там, небось, все шикарно разодеты…” Среди девчат увлечение одеждой тоже переходит границы. Одалживают друг у друга платья, чтобы пойти на вечору и т. д. “Хоть в чужом, зато в моде”»1.
Красивый костюм, щегольские брюки, кепки или ботинки, конечно, вызывали во многих традиционно русское, неискоренимое никакими политическими строями, всепобеждающее чувство острейшей зависти. О фертах, их нарядах и манерах летели в комсомольские ячейки доносы, написанные вкусно, живо, от всего сердца (их замечательно копировал Зощенко). Но и кляузники, и редакторы, публиковавшие их простосердечные сочинения, признавали силовой эффект английских кепи и до блеска начищенных ботинок. «В самом деле, разве вам не приходилось наблюдать, как брюки “додо” делают человека секретарем треста, как роговые очки придают человеку вес и активность или как ботинки “шимми” соединяют любящие сердца?» – спрашивал журнал «Смена» и получал горячую поддержку со стороны безымянных комсомольцев.
Доносы летели в ячейки, журналисты строчили фельетоны, собрания рабочей молодежи разносили щеголей в пух и прах. «Недостойными комсомольца» признаны твидовые и шевиотовые костюмы, серые и синие, узкие с манжетами брюки-«додо», белые до неприличия сорочки с ловкими клетчатыми галстуками, остроносые мягкие туфли-«шимми» для исполнения одноименного танца, кепки, трости, монокли и прочая нэпманская мишура. Но мода и НЭП продолжали соблазнять комсомольцев лоском новых тканей, изяществом кроя, обманчивым богатством столичной клубной жизни.
Две комсомолки нарядились в стиле garçonne.
Их невысокий финансовый достаток выдают мешковатые жакеты и юбки
2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Комсомольцы не отставали от старших товарищей и тоже пытались «вырядиться», особенно когда шли в фотоателье
2-я половина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Среди комсомолок тоже были «неправильные» – следившие за внешностью, пудрившиеся и красившиеся, щебетавшие в парикмахерских и форсившие в платьях, простеньких, но сшитых с большим вкусом. Любопытно, что в журналах 1925–1927 годов рабочим модницам еще давали возможность оправдаться: «Что ж вы нас ругаете? Да если я буду не по моде одета, то со мной ребята гулять не пойдут». И некоторые мужчины были с девушками солидарны. «Парень, все равно, беспартийный или комсомолец, ни за что не пойдет гулять с девушкой, которая просто одета. Чем больше она одета по моде, в “телесные чулки” и пр., тем больше у такой девушки “кавалеров”»[108], – объяснял Арон Залкинд.
Впрочем, увещевания известного психиатра не помогали – сознательное общество продолжало критиковать модниц, особенно старались женщины-ударницы. «Среди девчат, по-моему, слишком большое увлечение “культурничеством”: теперь если ходишь в кожаной куртке, девчата фыркают. Я стриженая – так это теперь у девчат не в почете. Они увлекаются прическами и фильдеперсовыми чулками»[109], – писала комсомолка А. Теняева, работница 20-й типографии «Красный Пролетарий». Сама того не ведая, она отметила важный процесс – послевоенную феминизацию женской моды, о чем тогда уже писали советские журналы, ссылаясь на европейские издания: «Что самое характерное в парижских весенних моделях? Это некоторое отступление (оно уже намечено зимой) от стиля “омужествления”»[110], – сообщала Парижанка, специальный корреспондент «Женского журнала».
Небогатая рабочая женщина позирует в плохо сшитом нарядном платье в стиле «флаппер»
Середина 1920-х годов. Архив О. А. Хорошиловой
Художник В. Белкин. Портрет комсомолки. Девушка одета скромно, но со вкусом и в соответствии с тенденциями моды
Журнал «Красная панорама», 1928.
Архив О. А. Хорошиловой
Кукрыниксы.
Едкая карикатура на флапперов «Женский журнал», 1929. Архив О. А. Хорошиловой
«Стриженые», в самом деле, не вдохновляли, «кожанки», револьверы и даже красные платки вызывали ужас и провоцировали полное исчезновение любовного чувства у мужчин. Им хотелось стройных ног, коротких (по колено) юбок, волнистых причесок и волнующих ртов в сладкой вишневой помаде. Городские комсомолки слепо, на ощупь, двигались вслед за «буржуазными» модами. Ведь в Европе и Америке уже в 1925 году юбки стали короче, губы ярче, чулки выпускали во многих оттенках, в том числе и опасного, телесного, цвета.
Но погоня красных щеголих за модными тенденциями Парижа напоминала трудный бег с препятствиями – фельетоны они легко оставили позади, справились и с нескладными письмами кляузниц, но главное препятствие, идеологические установки, преодолеть не смогли. Чем ближе к концу двадцатых, тем жестче становились меры борьбы с «модничеством» среди рабочей молодежи. По распоряжению партийцев издания публиковали обличительные статьи, глупые (и потому неэффективные) карикатуры, придумывали обидные прозвища. Модников именовали филонами (вменяя им тунеядство), пыжиками (считая их высокомерными), лаковыми (пеняя на любовь к начищенной обуви) и хозяйчиками (за мещанскую привычку копить материальные блага). Рабочих, форсивших в брюках, скроенных на манер морских клешей, называли «старая морячка» и «клешник».
Комсомолок, пользовавшихся косметикой и носивших модную одежду, называли «пудреными», «крашеными» и «лакированными». Характерный диалог приведен в рассказе «Фильдеперсовые чулки» – партийка просит супруга купить ей модные вещи: «“Мне нужны не только чулки, мне нужно шелковое платье. Не могу же я в театр ходить в шерстяном. В туфлях со сбитыми каблуками я похожа на матрешку”. Чаговец подавил нарастающее раздражение усилием воли: “Стыдно тебе, Клавдия. Ведь ты же была в партии. Как ты можешь так рассуждать. Ты стала рассуждать, как баба”» [111].
Преданная заветам коммунизма женщина не могла думать о моде, о явлении пустячном, малодостойном и потому временном. Девушкам рекомендовали носить простые платья, скромные драповые пальто или кожаные куртки, стричься коротко и голову покрывать красным платком. Впрочем, стилю «фабричница», от которого даже некоторые партийцы начали уставать, в 1928 году была предложена альтернатива – «юнгштурм», военизированная форма воинственного комсомола, состоявшая из широкой рубашки с застежкой по центру до груди, отложным воротником и накладными карманами, юбки для девушки и шаровар для юноши, а также эффектной фуражки с широким козырьком и подбородочным ремнем. Название костюма произошло от немецкого Roter Jungsturm («Красный Юнгштурм»), немецкой коммунистической молодежной организации, с которой у комсомольцев в те годы существовала крепкая идеологическая связь.
Одетая в «юнгштурм» пролетарская молодежь как бы объявила войну мелкобуржуазным пережиткам, к которым в конце двадцатых причислили и НЭП. Критика щегольства ужесточилась. Журналисты передовиц брызгали слюной: «Штукатурить физиономию, мазать губы и брови, прыскаться острыми духами, одевать чулки пофасонистее, сапоги обязательно с ударным блеском – это уже заскок за границу мещанства»1. Среди правильных рабочих девушек стал популярен стих «Лакированная», строчки из которого они с удовольствием цитировали на собраниях обличительно-воспитательного характера. Сюжет банален – Нюра, молодая особа с претензией на бонтон, работница мастерской, влюбляется в «него» – ответственного секретаря (отсекра) ячейки. И перед приходом к нему на заседание бюро она «наводит марафет»:
И он вызывает ее на бюро. Ах, она даже чуть не забыла о пудре. Краску она только чуть наносит, Больше нельзя – это против мод. Теперь надо мушку поставить на носик, И она не женщина, а «бомонд»! Надо ж, как следует быть на бюро, Для того, чтобы встретиться с «душкой». (Если парни «под мухой» бывают порой, — То девушки часто «под мушкой».) Да, чулочки еще, они точно кружево: Шелковисты, прозрачны, легки. Добавим, что Нюра не кушала Неделю за эти чулки. Но, вот, зеркалам улыбнувшись игриво, Она покидает родную епархию, А на бюро коллектива Не входит она, а впархивает…Идеальная комсомолка должна была выглядеть так – ситцевое платье, кожаная куртка и красная косынка на голове
Обложка журнала «Смена», 1927. Архив О. А. Хорошиловой
Молодой комсомолец в юнгштурмовке
1928 год. Архив О. А. Хорошиловой
Но отсекр, честный труженик, верный комсомолец, не поддается соблазну. И на очередном собрании обрушивает на Нюру камнепад обвинений:
Комсомолка Глыбова Нюра! Вы обвиняетесь в том, что подобно лахудре, От ботинок до головы в пудре. Потом еще добавленье внесу, Вы каждый день на фокстроте, А потом, почему эта грязь на носу, Не сотрете? Лучше бы Нюру ударил гром бы. Слезы у Нюры вот-вот польются. И она вылетает с бюро, как бомба, Красная, как революция.В 1929 году редакторы комсомольских журналов уже не растрачивались на мягкие шуточки и фельетоны. Они публиковали фотографии щеголей и модниц с гавкающими лозунгами: «Таким не по пути с коммуной», «Прочь из комсомола». А с обложек и первых страниц изданий на читателей глядели пронзительно острые злые щелки нового вождя советского государства. Он уже расправился с главными своими конкурентами и в 1928 году приступил к ликвидации НЭПа. В 1931-м частная торговля запрещена. Закрылись негосударственные рестораны и кабаре, портновские мастерские и кабинеты красоты, магазины белья и текстильные лавки. Прекратил существование журнал «Искусство одеваться», признанный идеологически ошибочным и лишенный государственной поддержки. Советская мода перестала быть модной. Она стала средством сталинской пропаганды.
Юные комсомолки изучают ткацкое дело на предприятии.
В 1930-е годы многие из них будут шить форму для Красной армии
1929 год. Архив О. А. Хорошиловой
Комсомольцы в юнгштурмовках приветствуют 16-й партийный съезд
Фотография В. М. Коваленко, 1930.
Коллекция А. А. Классена (Санкт-Петербург)
Фабричницы вышивают красное знамя.
Теперь они трудятся не для модной промышленности, а для партии
Обложка «Женского журнала», 1927.
Архив О. А. Хорошиловой
Заключение
Внуки обожают дедов и часто их повторяют. Это р) доказал Грегор Мендель задолго до Века Джаза.
Шестидесятые были внуками двадцатых. Они красиво сходили с ума от послевоенной «просперити», свинговали не хуже дедушек в душных прокуренных клубах, тряслись в припадках африканского танца, глотали таблетки, наивно верили в свободную любовь и мир без войны.
Модель Твигги.
Икона стиля 1960-х годов.
Национальная библиотека Франции
Молодой тусовщик Ив Сен-Лоран сшил шестидесятым джазовый гардероб. В 1965 году показал, как можно носить авангардные полотна двадцатых. Его «Мондриан» сделал революцию в моде, хотя голландский художник, в честь которого названо платье, не мог бы и помыслить о такой необычной трактовке своего тихо помешанного мертвецки холодного неопластицизма. Потом был год 1966-й и первый женский смокинг – реверанс кутюрье в сторону платинового ар-деко, картавящего под Дитрих. В следующем была новая версия «афро» – мини-платья из ракушек, деревянных бусин, бисера и рафии. В таких отлично бы смотрелась Нэнси Кунард. Ее деревянные браслеты Сен-Лоран аккуратно скопировал для этой коллекции.
Мини-платья, символ шестидесятых, – внуки тех самых коротких джазовых туник, сводивших с ума потерянное поколение, Хемингуэя и Фицджеральда. Их авторами были Мери Куант и Андре Курреж, а главным пропагандистом – Твигги, угластая сухопарая модель с детским личиком и мальчишеской стрижкой. Тогда в моду опять вошли «бобы», «шинглы» и короткие «итоны», доведенные до алгебраического совершенства парикмахером Видалом Сассуном, вдохновленным конечно же Луизой Брукс. Флапперы конца двадцатых носили родофановые платья от Скиапарелли, свингетки конца шестидесятых дефилировали в алюминиевых туниках от Пако Рабанна. Тогда же бурной джазовой эре придумали, наконец, искусствоведческий термин – ар-деко.
Роберт Редфорд в роли Джея Гэтсби в фильме «Великий Гэтсби», костюмы к которому разработал модельер Ральф Лорен
Фотореклама фильма. 1970-е годы.
Частная коллекция (США)
Шестидесятые двадцатыми жили, семидесятые их осознавали – холодным рассудком, на почтительном расстоянии. Исследователи шуршали архивами Вионне и Шанель – поверяли бумажными фактами великую мифологию прошлого. Музеи скупали гардеробы в бозе почивших флапперов – так появились крупные собрания моды двадцатых. В 1974-м Ральф Лорен сочинил костюмы к фильму «Великий Гэтсби».
Ив Сен-Лоран.
Платье из «Африканской коллекции» 1967 год.
Институт костюма в Киото
Ив Сен-Лоран.
Платье «Мондриан» 1965 год.
Институт костюма в Киото
Отрывки из клипа Джорджа Майкла «Spinning the Wheel» (1997), демонстрирующие различные образы клубной культуры 1920-х годов
Реклама коллекции Джорджио Армани, выполненной в стиле garçonne. Черно-белая эстетика съемки подчеркивает близость коллекции образам американских флапперов и европейских модернисток конца 1920-х годов 1992 год.
Архив О. А. Хорошиловой
Влияние модернисток Левого берега Парижа 1920-х годов ощущается в коллекции Ральфа Лорена
1992 год. Архив О. А. Хорошиловой
Это была осознанная историческая реконструкция – не «внука», но беспристрастного исследователя. Правда, модельер не обошелся без современности. Каждый наряд Дейзи и Гэтсби напоминал о максимализме семидесятых – уголки воротничков немного острее, плечи пиджаков немного шире, платья немного свободнее тех, что носили в начале двадцатых.
Минимализм и депрессия первой половины девяностых вернули ар-деко в моду. Джил Сандер, Донна Каран, Хельмут Ланг, Джорджио Армани, Карл Лагерфельд вывели на подиум анемичных безгрудых коротко стриженных garçonnes, которые так напоминали современных бесполых бледнолицых рейверш, сумрачными тенями шмыгавших по техно-клубам Лондона и Берлина. И практически все десятилетие двадцатыми бредили клипмейкеры. Лучший пример – видео Джорджа Майкла «Spinning the Wheel», снятое Воганом Арнеллом и Антейей Бентон. В туманном чикагском спикизи, под терпкий негритянский джаз мафиози и гарсонки ар-деко обжимаются с платиновыми красавицами тридцатых.
Образ garçonne был чрезвычайно моден среди рейверов 1990-х годов, что отражено в рекламной кампании ботинок Dr. Martens
1996 год. Архив О. А. Хорошиловой
Безудержно эклектичные двухтысячные сделали возможным присутствие на одном подиуме стройных модников пятидесятых, фиалковых герцогинь девятисотых, ковбоев семидесятых, мускулистых гэтсби и хрупких «ярких молодых штучек» ар-деко. Двадцатые особенно удались тогда Джорджио Армани и Альберте Феретти.
Баз Лурман был автором новой волны увлечения эпохой джаза, самой сильной за последние двадцать лет. В начале января 2011 года в интервью он обмолвился, что готовит новую бомбу – экранизацию «Великого Гэтсби». Этого было достаточно. В сентябре Фрида Джаннини (Gucci) показала коллекцию 2012 года, посвященную «ДНК ар-деко» – Луизе Брукс, Нэнси Кунард и Ман Рею, фотографировавшему обеих звезд. Тогда же компания Marchesa представила свой вариант двадцатых, навеянный образами нью-йоркских флапперов – металл, джаз, пух и перья. В феврале 2012 года, когда Баз Лурман приступил к съемкам фильма, Ральф Лорен прогремел коллекцией, полностью посвященной роману Фицджеральда и одновременно всем основным трендам моды Века Джаза. Здесь были твидовые костюмы в стиле «принц Уэльский», норфолки и бриджи, вязаные свитера, каучуковые плащи, шубы из леопарда, смокинги из рыхлого бархата. И было много брюк. В этом Лорен пошел против истории ради современных обрюченных и расфранченных эмансипе.
Актриса Анна Зайкова.
Проект «Осталась тень в немом кино…».
Фотографы Маргарита Боруздина и Евгений Селеннов, художник по костюмам Дмитрий Андреев
2015 год. Снимок предоставлен Дмитрием Андреевым
Актриса Анна Зайкова.
Проект «Осталась тень в немом кино…».
Фотографы Маргарита Боруздина и Евгений Селеннов, художник по костюмам Дмитрий Андреев
2015 год.
Снимок предоставлен Дмитрием Андреевым
Майская премьера фильма «Великий Гэтсби» отозвалась грандиозными вечеринками в США, Европе, Азии, а также серией выставок, посвященных работе Кэтрин Мартин и модельера Миуччи Прада над костюмами к лурмановскому фильму. В 2014 году Мартин получила за этот кинопроект «Оскара».
Российской культуре гэтсбиевость свойственна. Она полуулыбкой мелькает в строгих коллекциях Татьяны Котеговой и поэтичных экзерсисах Татьяны Парфёновой. В исполнении Стаса Лопаткина обретает мягкий британский акцент. Эпохе джаза посвящены хореографическое шоу Константина Меладзе «Great Gatsby», 3D-мюзикл Януша Юзефовича «Пола Негри», костюмные выставки, а также изумительный фотопроект «Осталась тень в немом кино…», авторы которого воссоздали образы немых кинодив и модных персонажей Века Джаза.
Коллекция Ральфа Лорена весна – лето 2012 года, посвященная роману «Великий Гэтсби»
flickr.com
Двадцатые банально красивы. О них сложно не сочинять. Они провоцируют на ответ тех, кто болен салонной, высокомерной, утомленной, безумно женственной, серебристо фотографической красотой двадцатых. И эта книга – развернутый к ней комментарий. Мое неловкое многословное признание в любви.
Актриса Ольга Погодина.
Проект «Осталась тень в немом кино…».
Фотографы Маргарита Боруздина и Евгений Селеннов, художник по костюмам Дмитрий Андреев
2015 год. Снимок предоставлен Дмитрием Андреевым
Рекламный плакат фильма «Великий Гэтсби» База Лурмана
2013 год.
Словарь специальных терминов
«Абажур» – юбка, введенная в моду Полем Пуаре, по форме напоминающая абажур
Аби (кафтан) – разновидность верхней мужской одежды, распространенной в XVIII веке
Балаклава – трикотажный шлем с прорезями для лица или глаз
Бандаж – перевязь
Бандана – перевязь для головы или косынка Баута – венецианский маскарадный костюм, а также его главная часть – маска
Блейзер – пиджак (жакет) спортивного покроя, заимствованный из военно-морской формы
Блумерсы – короткие и широкие женские бриджи для занятий спортом
Бранденбург – застежка из шнура или позумента с кисточкой и петлей
Бриджи – разновидность коротких (по колено или ниже) брюк
Броше – штофная ткань сложного переплетения Бутоньерка – украшение петлицы в виде искусственного или настоящего цветка
Веллингтоны – высокие сапоги с кожаными голенищами, с задникоми и головкой из прочных водонепроницаемых материалов
Вестон – разновидность куртки-пиджака Гамаши – вязаные, кожаные или войлочные голенища, защищающие обувь и закрывающие ноги от ступни до колен
Гарнировка – отделка
Гетры – вязаные или кожаные голенища, защищающие ноги от холода и непогоды
Жаккард – дорогая крупноузорчатая гладкая ткань Зефир – бельевая хлопчатобумажная ткань Ибес – парик из конского волоса, распространенный в Древнем Египте
Клош – шляпа в форме колокольчика Кникербокеры – короткие, по колено, штаны, род бриджей
Краги – см. Гетры
Кринолин – льняная юбка на конском волосе или металлическая «клетка», поддерживающая верхнюю юбку и придающая ей необходимую форму
Кюлоты – короткие, длиной до колена, облегающие штаны
Лацбант – центральная часть переда брюк, пристегивающаяся на пуговицы
Лацкан – отворот на куртке, жакете, пиджаке Мадаполам – разновидность тяжелого коленкора Норфолк – тип шерстяной охотничьей куртки с защипами на спинке и шерстяным поясом
«Оксфордские мешки» – широкие, иногда слегка расширяющиеся книзу брюки, введенные в моду студентами Оксфордского университета
Паллулла – разновидность древнегреческого платья девушек с драпировкой на одном плече
Пеплос – вид древнегреческого женского платья Поплин – двусторонняя одноцветная шелковая ткань
Рукав-пагода – рукав воронкообразной формы, напоминающий крыши пагод в Азии
«Синий Ланвен» (Lanvin bleu) – насыщенный синий цвет, введенный в моду Жанной Ланвен
Скиджоринг – вид ездового спорта, в котором лыжник передвигается по трассе с помощью собачьей упряжки или впряженной лошади
Сюрко – разновидность нарядной верхней одежды эпохи Средневековья
Тайер – женский городской костюм, состоявший из блузы (сорочки), жакета и юбки
Тиара – разновидность украшения для головы Усх – вариант головного убора фараонов Древнего Египта
Федора – фетровая шляпа с мягкой тульей и неширокими полями
Френч – разновидность военной одежды с накладными карманами
Хитон – мужская и женская одежда, распространенная на территории Древней Греции
Хомбург – фетровая шляпа с тульей и жесткими слегка отогнутыми полями
Честерфильд – разновидность мужского пальто с отложным воротником и неширокими лацканами
Энен – головной убор конусообразной формы, модный в Бургундии в XV веке
Grande soiree (фр.) – большой вечер, особый тип мероприятия, на который следует приходить в роскошных вечерних нарядах
Joie de vivre (фр.) – радость жизни Robe de style – вид нарядного платья, созданный Жанной Ланвен, главная особенность которого – расширяющаяся юбка, напоминающая образцы середины XVIII века
Избранная библиография
Монографии, выставочные каталоги, статьи
Васильев А. А. Красота в изгнании. – М.: Слово/ Slovo, 2012.-480 с.
Военная академия за пять лет, 1918–1923: сборник. – М., 1923.-411 с.
Кащенко О. Д., Козлова Т. В. Покупателю об одежде и моде. – М.: Экономика, 1986. – 159 с.
Одоевцева И. В. На берегах Невы. – М.: Художественная литература, 1989. – 334 с.
Сац Н. И. Жизнь – явление полосатое. – М.: Новости, 1991. – 588 с.
Скиапарелли Э. Моя шокирующая жизнь. – М.: Этерна, 2008. – 336 с.
Стриженова Т. Из истории советского костюма. – М.: Советский художник, 1972. – 110 с.
Хили Д. Гомосексуальное влечение в революционной России. – М.: НИЦ «Ладомир», 2008. – 620 с.
Ходасевич В. Ф. Некрополь. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 320 с.
Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929 гг. – М.: Советский писатель, 1991. – 544 с.
Шереметьевская Н. Е. Танец на эстраде XX. – М.: Искусство, 1985. – 414 с.
Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь: Избранные фрагменты. – М.: Вагриус, 2006. – 699 с.
Яров С., Балашов Е. и др. Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. – M.-СПб.: Центрполиграф, 2013. – 543 с.
Классен А. А. Фотограф-художник Вячеслав Коваленко / Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования, № 1 (январь-февраль) 2015. – С. 58–73.
Adlington L. Great War Fashion: Tales from the History Wardrobe. – The History Press, 2014. – 248 p.
Aveline F. Chanel Perfume (Memoirs). – Assouline Publishing, 2004. – 80 p.
Baker J.-C., Chase Ch. Josephine: The Hungry Heart. -Cooper Square Press, 2001. – 592 p.
Bard Ch. Les Garçonnes: Modes et fantasmes des Annees folles. – Paris: Flammarion, 1998. – 159 p.
Baron S. Sonia Delaunay the Life of an Artist. – Norton, 1995.-208 p.
Bartlett D. FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism. – The MIT Press, 2010. – 344 p.
Basten F. E. Max Factor: The Man Who Changed the Faces of the World. – Arcade Publishing, 2012. – 184 p.
Bates V. Jazz Age Fashion: Dressed to Kill. – Rizzoli, 2013.-288 p.
Beaton C., Ross J. Beaton In Vogue. – C.N. Potter, 1986.-240 p.
Beaton C., Vickers H. Cecil Beaton – Portraits and Profiles. – Frances Lincoln, 2014. – 272 p.
Blackman C. 100 Years of Fashion. – Laurence King Publishing, 2012.-400 p.
Brandau R., de Meyer A. De Meyer. – Knopf: distributed by Random House, 1976. – 50 p.
Brandow T., Ewing W. A. Edward Steichen: In High Fashion – The Conde Nast Years, 1923–1937. – W. W. Norton 8c Company, 2008. – 288 p.
Albrecht D. Cecil Beaton: The New York Years. – Skira Rizzoli, 2011. – 240 p.
Chadwick W. Amazons in the Drawing Room: The Art of Romaine Brooks. – University of California Press, 2000. -
128 p.
Charles-Roux E. Chanel and Her World. – Vendome Press, 2005. – 384 p.
Chisholm A. Nancy Cunard: A biography. – Knopf, 1979.-366 p.
Cline S. Radclyffe Hall: A Woman Called John. -Overlook TP, 1999. – 434 p.
Codori J. Colleen Moore: A Biography of the Silent Film Star. – McFarland, 2012. – 302 p.
Coudert Th. Cafe Society: Socialites, Patrons, and Artists 1920–1960. – Flammarion, 2010. – 320 p.
Coward N. Future Indefinite (Biography and Autobiography). – Bloomsbury Methuen Drama, 2004. – 368 p.
DamaseJ. Sonia Delaunay: Fashion and Fabrics. – Harry N Abrams, 1991. – 176 p.
Doan L. Fashioning Sapphism. – Columbia University Press, 2001.-288 p.
Ehrenkranz A., de Meyer A. A Singular Elegance: The Photographs of Baron Adolph de Meyer. – Chronicle Books, 1994. -128 p.
Etherington-Smith M. Patou. – St. Martin’s Press, 1983.-143 p.
Ewing W. A. Eye for Elegance: George Hoyningen-Huene. – International Center of Photography, 1980. – 62 p.
Ewing W. A. Photographic Art of Hoyningen-Huene. -Rizzoli, 1986. – 248 p.
Fiell Ch., Dirix E. Fashion Sourcebook – 1920s. -Carlton Books Ltd, 2014. – 576 p.
Fitch N. R. Sylvia Beach and the Lost Generation: A History of Literary Paris in the Twenties and Thirties. – W. W. Norton 8c Company, 1985. – 448 p.
Fitoussi M. Helena Rubinstein: The Woman Who Invented Beauty. – Gallic Books, 2014. – 404 p.
Fitzgerald Z. A Collected writings. – University Alabama Press, 1997. – 512 p.
Flanner (Genet) J. Paris Was Yesterday, 1925–1939. -Mariner Books, 1988. – 264 p.
Ford H, Cunard N. Negro: An Anthology. – Bloomsbury Academic, 1996. – 496 p.
FornerisJ. Raoul Dufy 1877–1953: Exhibition Catalogue, Kunsthaus Wien, May – Sept. 1996. – Art Books Inti Ltd, 1996.– 228 p.
Fowler Th. A. Z: A Novel of Zelda Fitzgerald. – St. Martin’s Press, 2013. – 384 p.
Golbin P. Madeleine Vionnet. – Rizzoli, 2009. – 304 p.
Goldman H. Jolson: The Legend Comes to Life. -Oxford University Press, 1988. – 448 p.
Gordon L. Nancy Cunard: Heiress, Muse, Political Idealist. – Columbia University Press, 2007. – 504 p.
Green M. Children of the Sun: A Narrative of Decadence in England After 1918. – Axios Press, 2008. – 548 p.
Grossiord S., Asakura M., Beaulieu M. Les annees folles 1919–1929. – Paris Musees, 2007. – 327 p.
Hartshorn, Foresta M. Man Ray: In Fashion. – University of Washington Press, 1991. – 96 p.
Hernandez G. Classic Beauty: The History of Makeup. -Schiffer Publishing, Ltd, 2011. – 224 p.
Hoar Ph. Serious Pleasures: The Life of Stephen Tennant. – Hamish Hamilton, 1990. – 463 p.
Hoar Ph. Noel Coward: A Biography. – University of Chicago Press, 1998. – 622 p.
Jules-Rosette B. Josephine Baker in Art and Life: The Icon and the Image. – University of Illinois Press, 2007. – 368 p.
Kirke В. Madeleine Vionnet. – Chronicle Books, 2012. -244 p.
Klein M. Helena Rubinstein: Beauty Is Power. – Jewish Museum, 2014. – 168 p.
Koda H., Bolton A. Poiret. – Metropolitan Museum of Art, 2007. – 224 p.
Koda H., Bolton A. Schiaparelli 8c Prada: Impossible Conversations. – Metropolitan Museum of Art, 2012. – 324 p.
Langley S. Roaring 20s Fashions: Jazz. – Schiffer Publishing, 2005. – 248 p.
Laubner E. Fashions of the Roaring ‘20s (A Schiffer Book for Collectors). – Schiffer Pub Ltd, 1996. – 200 p.
Leider E. Dark Lover: The Life and Death of Rudolph Valentino. – Farrar, Straus and Giroux, 2003. – 592 p.
Lewis A. A. Miss Elizabeth Arden. – Coward, McCann 8c Geoghegan, inc., 1972. – 320 p.
Lussier S. Art Deco Fashion. – Bulhnch, 2003. – 96 p.
Mackrell J. Flappers: Six Women of a Dangerous Generation – Sarah Crichton Books, 2014. – 512 p.
Madsen A. Chanel: A Woman of her Own. – Holt Paperbacks, 1991. – 400 p.
Madsen A. Sonia Delaunay: Artist of the Lost Generation. – Mcgraw-Hill, 1989. – 357 p.
Maloney A. Bright Young Things: A Modern Guide to the Roaring Twenties. – Potter Style, 2013.-128 p.
Margueritte V. La Garçonne. – Paris: Flammarion, 1922.-311 p.
McClendon A. Fashion and Jazz: Dress, Identity and Subcultural Improvisation (Dress, Body, Culture). -Bloomsbury Academic, 2015. – 216 p.
Merceron D. Elbaz A. Lanvin. – Rizzoli, 2007. – 370 p.
Milford N. Zelda: A Biography. – Harper Perennial Modern Classics6 2011. – 464 p.
Oberhrst R. A1 Jolson: You Ain’t Heard Nothin’ Yet! – Book Sales Inc, 1981. – 341 p.
Paris B. Louise Brooks: A Biography. – Univ Of Minnesota Press, 2000. – 624 p.
Избранная библиография
Picardie J. Coco Chanel: The Legend and the Life. – It Books, 2011.-352 p.
Poiret P. En Habillant l’Epoque. – Grasset and Fasquelle, 1998. – 244 p.
Poiret P. King of Fashion: The Autobiography of Paul Poiret. – Victoria Sc Albert Museum, 2009. – 216 p.
Polle E. Jean Patou: A Fashionable Life. – Flammarion, 2013. -280 p.
Salazar L. Fashion v Sport. – V Sc A Publishing, 2008. – 128 p.
Schoenberg R. Mr. Capone: The Real and Complete Story of A1 Capone. – William Morrow Paperbacks, 1993. -504 p.
Secrest M. Between Me and Life: A Biography of Romaine Brooks. – Doubleday, 1974. – 432 p.
Secrest M. Elsa Schiaparelli: A Biography. – Knopf, 2014. -400 p.
Sonia Delaunay: Art into Fashion. – George Braziller Inc., 1987.-104 p.
Souhami D. Gluck. – George Weidenfeld Sc Nicolson Ltd, 2000. – 352 p.
Souhami D. Wild Girls: Paris, Sappho, and Art: The Lives and Loves of Natalie Barney and Romaine Brooks. – St. Martin’s Press, 2005. – 240 p.
Stenn D. Clara Bow: Runnin’ Wild. – Cooper Square Press, 2000. – 400 p.
Stern R. Against Fashion: Clothing as Art, 1850–1930. -The MIT Press, 2005. – 368 p.
Tamagne F. A History of Homosexuality in Europe: Berlin, London, Paris 1919–1939, Vol. 1–2. – Algora Publishing, 2004.-490 p.
Taylor D. J. Bright Young People: The Lost Generation of London’s Jazz Age. – Farrar, Straus and Giroux, 2010. – 384 p.
Terhune T. Valentino The Unforgotten – AuthorHouse, 2007.-152 p.
Tourlonias A. Raoul Duly, Г oeuvre en soie: Logique d’un oeuvre ornemental industriel. – Barthelemy, 1998. -157 p.
Troubridge U. The life and death of Radclyffe Hall. -Hammond, Hammond, 1961. – 189 p.
Turudich D. Art Deco Hair: Hairstyles from the 1920s Sc 1930s (Vintage Living). – Streamline Press, 2013. – 300 p.
Waters S. Tipping the Velvet: A Novel. – Riverhead, 2000.– 484 p.
Woodhead L. War Paint: Madame Helena Rubinstein and Miss Elizabeth Arden, Their Lives, Their Times, Their Rivalry. – Wiley, 2004. – 528 p.
Zeits J. Flapper: A Madcap Story of Sex, Style, Celebrity, and the Women Who Made America Modern. – NY: Broadway Books, 2007. – 352 p.
Цитируемые периодические издания 1920-х годов:
«Смена» (1924–1930)
«Молодая гвардия» (1923–1930)
«Работница» (1920–1929)
«Красная нива» (1923–1930)
«Красная панорама» (1923–1930)
«Ателье» (1923)
«Четыре сезона» (1927–1929)
«Женский журнал» (1927–1930)
Vogue, New York (1920–1930)
Vogue, Paris (1920–1930)
Vogue, London (1920–1930)
Femina (1920–1930)
The New Yorker (1925–1930)
Harper’s Bazaar, New York (1921–1930)
Vanity Fair (1920–1930)
La Gazette du Bon Ton (1920–1925)
Примечания
1
Roberts, Mare Louise. Civilization without sexes. Reconstructing Gender in postwar France, 1917–1927. – University of Chicago Press, Chicago&London. – P. 47–48.
(обратно)2
Fields, J. An Intimate Affair: Women, Lingerie and Sexuality. − University of California Press, 2007. − P. 65.
(обратно)3
On recoit a toute heure du jour/ Vogue, Paris. – 1923, 1 января. – P. 43.
(обратно)4
Taylor D. J. Bright Young People: The Lost Generation of London's Jazz Age. − Farrar, Straus and Giroux, 2010. – P. 122
(обратно)5
La Coiffure/ Vogue Paris, 1924, № 12. – P. 14.
(обратно)6
New Years gifts for Counterfi ghters/ L’Offi ciel, 1921, № 5. – P. 15.
(обратно)7
Скиапарелли Э. Моя шокирующая жизнь. – М.: Этерна, 2008. – С. 72.
(обратно)8
Там же.
(обратно)9
Скиапарелли Э. Моя шокирующая жизнь. – М.: Этерна, 2008. – С. 74.
(обратно)10
Там же.
(обратно)11
La Parisienne revient par moment a Paris/ Vogue Paris, 1921, № 2. – P. 18.
(обратно)12
Vogue Paris, 1921, № 2. – Р. 13.
(обратно)13
Vogue Paris, 1921, № 2. – Р. 9.
(обратно)14
Marie, grand duchess of Russia. A Princess in Exile. – NY: The Viking Press, 1932. -P. 179.
(обратно)15
Деятельность этих и многих других домов моды прекрасно описана Александром Васильевым в его немеркнущей «Красоте в изгнании».
(обратно)16
L. L. The toughest dump in town/ New Yorker, 1925,12th September. – P. 14.
(обратно)17
Pour voyager luxueusement/ Vogue Paris, 1923, № 28. – P. 34.
(обратно)18
Apollinaire G. A Seated Woman (1914) // New Art of Color. – NY, 1978.-P. 179–180.
(обратно)19
Cendrars В. Le Lotissement du ciel. – Paris, 1949. – P. 20.
(обратно)20
Cm.: Balia G. II vestito – manifesto futurista. – Milan. 1914 – 20 Mai;
(обратно)21
Balia G. II vestito antineutrale: manifesto futurista. – Milano, 1914. – 11 Settembre.
(обратно)22
Маяковский В. В. Семидневный смотр французской живописи // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений в 13 т. – М., 1955. -1961.-С. 247.
(обратно)23
Р. Кревель ошибается – занавесь была бархатной.
(обратно)24
Crevel R. A Visit to Sonia Delaunay // New Art of Color. – NY, 1978. – P. 185–186.
(обратно)25
См.: DamaseJ. Sonia Delaunay: Fashion and Fabrics. – Lnd, 1997, 176 p.; New Art of Color. – NY, 1978, 257 p.; Buckberrough Sh. Sonia Delaunay. – Washington, 1989, 125 p.
(обратно)26
Robert Delaunay de Sonia Delaunay. – Машинописная биография С. Делоне, написанная Р. Делоне. – Париж, Центр Помпиду, Библиотека Кандинского, Фонд Р. и С. Делоне.
(обратно)27
Goll С. Simultanische Kleider // Bilder Courier. – Berlin, 1924. – April.
(обратно)28
Morano E. Sonia Delaunay: Art into Fashion. – NY, 199. – P. 16.
(обратно)29
Cohen A. Interview with Sonia Delaunay //New Art of Color. – NY, 1978.-P. 216.
(обратно)30
Мондриан П. Цит. по: Хофман В. Основы современного искусства. – СПб., 2004.-С. 338.
(обратно)31
Cohen A. Op. cit. Р. 216.
(обратно)32
Cohen A. Op. cit. P. 216.
(обратно)33
Ibid.
(обратно)34
Jackson L. Twentieth-century pattern design. – Princeton, 2002. – P. 49.
(обратно)35
Hoyningen-Huene, G. Interview. The Oral History Program. – Машинописный текст интервью. 1967 г., Архив Университета Калифорнии (Лос-Анджелес). – С. 15.
(обратно)36
Одоевцева И. В. На берегах Невы. – М.: Художественная литература, 1989.-С. 105.
(обратно)37
Там же. С. 44.
(обратно)38
Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929 гг. – М.: Советский писатель, 1991.-С. 139.
(обратно)39
Одоевцева И. В. На берегах Невы. – М.: Художественная литература, 1989. – С. 100–101.
(обратно)40
Сац Н. И. Жизнь – явление полосатое. – М.: Новости, 1991. – С. 120.
(обратно)41
Одоевцева И. В. На берегах Невы. – М.: Художественная литература, 1989.-С. 196–198.
(обратно)42
Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929 гг. – М.: Советский писатель, 1991.-С. 136.
(обратно)43
Военная академия за пять лет, 1918–1923: сборник. – М., 1923. – С. 45.
(обратно)44
Ходасевич В. Ф. Некрополь. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – С. 131.
(обратно)45
Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь: Избранные фрагменты. – М.: Вагриус, 2006. – С. 166.
(обратно)46
Сац Н. И. Жизнь – явление полосатое. – М.: Новости, 1991. – С. 106.
(обратно)47
Там же. С. 109, 110.
(обратно)48
Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь: Избранные фрагменты. – М.: Вагриус, 2006.-С. 164, 165.
(обратно)49
Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929 гг. – М.: Советский писатель, 1991.-С. 385.
(обратно)50
Там же. С. 400.
(обратно)51
Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929 гг. – М.: Советский писатель, 1991.-С. 189.
(обратно)52
Там же. С. 415.
(обратно)53
Миндлин Э. О прямой, об эволюции пиджака и о стиле РСФСР / Зрелища, 1922, № 8. – С. 10, 11.
(обратно)54
См.: Классен А. А. Фотограф-художник Вячеслав Коваленко/ Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования, № 1 (январь-февраль) 2015.-С. 58–73.
(обратно)55
Одоевцева И. В. На берегах Невы. – М.: Художественная литература, 1989. – С. 244.
(обратно)56
Там же. С. 248.
(обратно)57
Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929 гг. – М.: Советский писатель, 1991. – С. 280, 281.
(обратно)58
Брик Л. Ю. Пристрастные рассказы:
(обратно)59
В. Берендеев. Туш в честь директрисы. Интервью с О. Д. Сеничевой-Кащенко / Юность, № 9, 1976. – С. 108.
(обратно)60
В некоторых источниках фигурирует как «Центр становления женского костюма».
(обратно)61
Кащенко О. Д., Козлова Т. В. Покупателю об одежде и моде. – М.: Экономика, 1986. – С. 39.
(обратно)62
Там же.
(обратно)63
Кащенко О. Д., Козлова Т. В. Покупателю об одежде и моде. – М.: Экономика, 1986. – С. 41.
(обратно)64
Там же. С. 42.
(обратно)65
В. Берендеев. Туш в честь директрисы. Интервью с О. Д. Сеничевой-Кащенко / Юность, № 9, 1976. – С. 108.
(обратно)66
Кащенко О. Д., Козлова Т. В. Покупателю об одежде и моде. – М.: Экономика, 1986. − С. 42.
(обратно)67
В. Берендеев. Туш в честь директрисы. Интервью с О. Д. Сеничевой-Кащенко / Юность, № 9, 1976. – С. 108.
(обратно)68
В. Берендеев. Туш в честь директрисы. Интервью с О. Д. Сеничевой-Кащенко / Юность, № 9, 1976. – С. 108.
(обратно)69
Кащенко О. Д., Козлова Т. В. Покупателю об одежде и моде. – М.: Экономика, 1986. − С. 45.
(обратно)70
Ателье, № 1, 1923. -С. 48.
(обратно)71
Кащенко О. Д., Козлова Т. В. Покупателю об одежде и моде. – М.:
(обратно)72
Экономика, 1986. – С. 47.
(обратно)73
Кащенко О. Д., Козлова Т. В. Покупателю об одежде и моде. – М.: Экономика, 1986. − С. 45.
(обратно)74
Варст (В. Ф. Степанова). Костюм сегодняшнего дня – прозодежда / Фототипия, 1920 1930-е годы. ЛЕФ, 1923, № 2. – С. 65, 66. Архив О. А. Хорошиловой
(обратно)75
Стриженова Т. Из истории советского костюма. – М.: Советский художник, 1972. – С. 84.
(обратно)76
Экстер А. А. Простота и практичность в одежде / Красная нива, 1923, № 21.-С. 31.
(обратно)77
Новый быт/ Красная панорама, 1924, № 23.
(обратно)78
Там же.
(обратно)79
Яров С., Балашов Е. и др. Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. – М, – СПб.: Центрполиграф, 2013. – С. 141.
(обратно)80
Там же.
(обратно)81
Василевский Л., врач. Комсомол, физкультура и половой вопрос/ Смена, 1926, № 3. – С. 1.
(обратно)82
См. об этом: Хили Д. Гомосексуальное влечение в революционной России. – М.: НИЦ «Ладомир», 2008. – С. 216, 217.
(обратно)83
Бархаш Л. Физкультурницы советской страны/ Смена, 1929, № 5. -С. 6.
(обратно)84
Кожанка и комсомолка/ Смена, 1927, № 2. – С. 12.
(обратно)85
Еще «моды»/ Смена, 1929, № 20. – С. 17.
(обратно)86
Цит. по: Шереметьевская Н. Е. Танец на эстраде ХХ. – М.: Искусство, 1985.
(дата обращения: 15.10.2014).
(обратно)87
Зрелища, 1924, № 17. – С. 5.
(обратно)88
Арватов Б. Квалифицированный человек, или Гашиш в уборной/ Зрелища, 1922, № 7. – С. 14.
(обратно)89
Абрамов А. Эротика или порнография/ Зрелища, 1923, № 41. – С. 4.
(обратно)90
Healey D. Homosexual Desire in Revolutionary Russia. The Regulation of Sexual and Gender Dissent– University of Chicago Press, 2001.
(обратно)91
Бехтерев В. M. О половом извращении как особой установке половых рефлексов // Половой вопрос в школе и в жизни. Л.: Изд-во Брокгауз и Ефрон, 1925. – С. 166–180.
(обратно)92
ЦГА СПб. Ф. 52. Оп. 5. Д. 923. Л. 85.
(обратно)93
Там же. Л. 90.
(обратно)94
Актеры театра «Кривое зеркало»: (дата последнего обращения: 19.10.2015)
(обратно)95
ЦГА СПб. Ф. 52. Оп. 5. Д. 923. Л. 124.
(обратно)96
ЦГА СПб. Ф. 52. Оп. 5. Д. 923. Л. 106.
(обратно)97
Там же. Л. 148.
(обратно)98
Там же. Л. 158.
(обратно)99
Там же. Л. 123.
(обратно)100
Там же. Л. 143.
(обратно)101
ЦГА СПб. Ф. 52. Оп. 5. Д. 923. Л. 109.
(обратно)102
ЦГА СПб. Ф. 52. Оп. 5. Д. 923. Л. 108.
(обратно)103
Ходасевич В. М. Портреты словами. Очерки – М.: Галарт, 1995. -С. 159.
(обратно)104
ЦГА СПб. Ф. 52. Оп. 5. Д. 923. Л. 185.
(обратно)105
Моды за границей/ Женский журнал, 1927, № 2. – С. 25.
(обратно)106
Выбор фасона и материала/ Женский журнал, 1927, № 7. – С. 29.
(обратно)107
Леопардовый мех/ Женский журнал, 1927, № 8. – С. 33.
(обратно)108
Залкинд А. Б. Ответ на анкету/ Смена, 1926, № 5. – С. 17.
(обратно)109
О быте (анкета «Смены»)/ Смена, 1926, № 7. – С. 14.
(обратно)110
Парижанка. Хроника моды/ Женский журнал, 1927, № 2. – С. 25.
(обратно)111
Ветлугин С. Фильдеперсовые чулки/ Женский журнал, 1927, № 5. -С. 12.
(обратно)



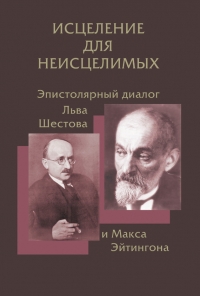



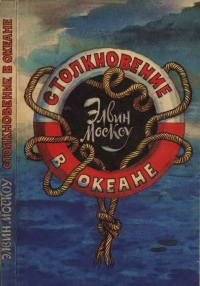




Комментарии к книге «Молодые и красивые. Мода двадцатых годов», Ольга Андреевна Хорошилова
Всего 0 комментариев