Ирина Врубель-Голубкина Разговоры в зеркале
© Гробман И., сост., интервью, 2014,
© Кантор-Казовская Л., предисл., 2014,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2014
Разговоры в зеркале
Ирина Врубель-Голубкина
Эта книга состоит из бесед, проведенных и записанных Ириной Врубель-Голубкиной. Автор с 1971 года живет в Израиле и сегодня является главным редактором литературно-художественного журнала «Зеркало», в силу чего в центре аналитического внимания Ирины Врубель-Голубкиной находятся вопросы современной литературы и искусства. Однако публикуемые здесь беседы предполагают не охват и описание этого массива, а совершенно другой тип рефлексии. За ее текстами стоит противоположная интенция – не «охват», а «отбор». Как критик, старающийся повлиять на течение и качество художественного процесса, она исходит из посылки, что не все, что удобно вписывается в поток сегодняшнего дискурса, являет собой что-то новое по сути, не все, что претендует на новизну, содержит в себе истинный «прорыв» и свободу, не все, по видимости радикальное, является противоположностью конформизму. Более того, часто истинное новаторство пребывает незамеченным в силу своей сложности для современников и может быть по-настоящему оценено и возвращено в художественный процесс в более подходящий для этого момент. Таким образом, «современное» искусство, которое интересует Врубель-Голубкину, – понятие, построенное на более обязывающих критериях. Это не хронологическое, а качественное определение, под которым подразумевается открытая в будущее цепь действительно инновационных художественных явлений и событий.
Вторая важная особенность текстов Врубель-Голубкиной – это то, что литература и искусство рассматриваются ею не как параллельные сферы деятельности, а как единое, общее пространство. Это логично, поскольку, как уже было сказано, больше всего ее интересуют не специфические особенности каждого из искусств, а подлинный творческий импульс. Этот импульс она определяет в любой сфере, и он для нее реален, как своего рода вещество, или «ископаемое», грамм которого может насытить людей на долгие времена. Главным образом идея ее бесед возникла из желания записать тех, кто был причастен к процессам создания нового, понять, как и из какого человеческого материала появляется новая система и свежий голос, услышать об этом от первого лица. Именно поэтому она часто обращается к 1960-м годам – поворотному периоду в искусстве второй половины ХХ века, открытиями которого до сих пор питается «актуальный» художественный процесс. Художник и поэт Михаил Гробман в одной из публикуемых здесь бесед сравнил мировое искусство 1960-х годов с детенышем опасной змеи, к настоящему времени выросшей в великолепного «боа-констриктора», одно движение колец которого приводит в страх и восхищение весь мир. Этот образ дает неплохое представление о соотношении «современного» и «актуального». Для Врубель-Голубкиной, как и для ее собеседников, также несомненно, что где-то глубоко в расплывшейся массе актуального прослушивается сердце современного, и читатель бесед невольно перенимает ощущение, что революционные 1960-е годы и сегодняшний день обладают общим кровообращением.
Беседы Врубель-Голубкиной с русскими поэтами 1960-х годов, теми, кто тогда «сотворил» новую художественную систему из ничего: Станиславом Красовицким и Валентином Хромовым, Геннадием Айги и Всеволодом Некрасовым – показывают, что инновативный импульс – это то, что не устаревает, а обгоняет свое время. Условия для его восприятия созревают так медленно, что многое из того, о чем говорят эти поэты, не могло быть тогда воспринято и оценено. Сегодня их свидетельства, собранные Врубель-Голубкиной, звучат как откровение: они обрисовывают целую поэтическую систему, в истории русской литературы пока еще по-настоящему не отрефлексированную. В этой системе культивируется чутье к свежему звуковому рисунку, синкопированию, паузе, разрушению механического повторения в построении ритма; разрабатываются закономерности и соответствия, действующие не в смежных строках, а на более крупных дистанциях. Поразительно, что эта система напоминает принципы минимализма в западном абстрактном изобразительном искусстве, возникнув почти синхронно с ним. В частности, выстраиваемая в стихе «решетка», как ее называет Красовицкий, буквально соответствует решеткам, выделенным Розалинд Краусс в качестве главного композиционного принципа абстрактного искусства, переходящего от минимализма к концептуализму[1]. Задав этим поэтам правильно поставленные вопросы и собрав их свидетельства вместе, Врубель-Голубкина подводит нас к мысли, что по способу мышления это было настоящее «современное искусство», хотя речь идет не о живописи, а о поэзии. Свойственная Врубель-Голубкиной тенденция сближать литературные и художественные импульсы, несомненно, тоже происходит из того же времени и той же среды, к которой она в юности сама принадлежала. Близость поэтического и изобразительного мышления, в силу которой поэт Айги признается, что наибольшее влияние на него оказал художник Малевич, была в те годы частью манеры видеть мир, частью тогдашнего художественного «хабитуса». Если же искать истоки этого явления, то их можно найти в визуально-вербальном симбиозе, характерном для русского авангарда, который в то же время был «классикой» мирового модернизма.
Интерес к предшественникам современной ситуации в искусстве также отразился в книге Врубель-Голубкиной. Ей удалось поговорить с последними живыми свидетелями футуризма и акмеизма, которые дают особенную картину процессов и отношений в этой среде. Основное в их разговорах с ней – не бесстрастные факты, а именно страсти, воскрешающие сложные моменты, сомнения, моральные и эстетические дилеммы, сопровождавшие прежнюю литературную и художественную жизнь. Со временем настоящее, живое ощущение процесса, как очаг воспаления, кальцинируется, и потомки потребляют лишь его омертвевшие формы, а именно: литературные и художественные «приличия», системы предпочтений, как будто бы «само собой» разумеющиеся и не подлежащие пересмотру. Публикуемые беседы расправляются с отвердевшими «культурными приличиями» и разного рода «джентльменскими наборами» иногда вполне бесцеремонно.
Вместе с материалами, посвященными прежним годам, в книге опубликован ряд бесед на темы сегодняшнего дня, составленных и записанных в 1990 – 2000-е годы. Общая проблематика этих материалов – критическое рассмотрение того спектра художественных перспектив, внутри которых художник, наделенный способностью к творческому преобразованию, сегодня прокладывает и обосновывает свою индивидуальную траекторию. В этом ключе свое представление об устройстве современной художественной жизни и о своей позиции в этом профессиональном и творческом мире излагает в беседе с Врубель-Голубкиной Илья Кабаков. Прогнозы и анализы социальных, экономических и геополитических ситуаций, связанных с искусством, сделанные в этих беседах, сами уже стали частью истории, их интересно перечитывать и оценивать с точки зрения того, насколько они были верны, и сегодня мы уже знаем, кто из участников диалога был прав. Не так обстоит дело с чисто художественными вопросами. В 1990 – 2000-е годы простые понятийные оппозиции, еще действовавшие на исходе «классического» модернизма, перестали существовать. В постмодернистской теории инновативная художественная интенция была подвергнута деконструкции как своего рода миф; искусство и литература, настроенные на рефлексирующее повторение, оперирующие многослойным вербальным языком и референциями к другим произведениям и текстам, вышли в пространство актуального. Эта смена парадигмы вызывает массу новых вопросов. Как ориентироваться на этом поле умножающихся игроков, на чем строить свой отбор и концепцию творчества? Не создаются ли здесь особенно комфортные условия для консервативной или подражательной художественной ментальности, а также для разного рода прагматизма? Существует ли в «постсовременности» современное искусство в уже упомянутом выше смысле? И чем отличается постмодернизм и концептуализм в России от его западных прототипов? Что такое еврейская идентификация в искусстве? Плодотворно ли постоянное возвращение соц-арта в новое обращение? Этим проблемам уделяется немалое внимание на страницах книги. Поразительно, но окончательная ясность в этой области так и не наступила, и интерес ко всему этому спектру художественных дилемм, как и само вопрошание, не устарели.
Лёля Кантор-Казовская22 мая 2012 г., ИерусалимЧасть 1
«Будущее уже настало»
Беседа с Н.И. Харджиевым
Это интервью было взято мной у Николая Ивановича Харджиева в январе 1991 года в холодной Москве, за три года до его отъезда на Запад. Он и его жена – скульптор Лидия Васильевна Чага – жили тогда в маленькой, убогой квартирке, переполненной уникальными картинами и документами, в страшных бытовых условиях, в полной изоляции и постоянном страхе перед ограблением и убийством. Я приехала в Москву после 20-летнего отсутствия, мы не виделись много лет, и в теплоте этой встречи возникло ощущение ускользающего времени. Разговор становился все более насыщенным, возникла потребность записать все это. Мы встречались почти неделю ежедневно, и получилось интервью, сохранившее, как мне кажется, неповторимую интонацию Харджиева – последнего представителя русской авангардной культуры начала ХХ века, друга и собеседника великих. В этом интервью Харджиев выступает не как академический, равнодушный историк, а как активный участник жизни тех лет, и эти годы продолжают жить в нем со всеми харджиевскими симпатиями, привязанностями и неприятиями. Харджиев погружает нас в аутентичную атмосферу той уже далекой эпохи, сухие кости классиков в его рассказе обрастают жилами и мясом.
И.В. – Г.: Николай Иванович! Вы сейчас издали книгу о Федотове – вы футурист и друг футуристов. Что вас привело к этой книге?
Н.Х.: Это тема давняя – Федотов. Он был для меня всегда новатором. Это явление исключительное для XIX века, особенно его поздние вещи. Не случайно Ларионов любил федотовского «Анкора», вещь по живописи совершенно удивительную. Я когда-то обратил внимание, что «Казармы» Ларионова – это перевернутый «Анкор». У Федотова горячий, теплый колорит казармы и холодное, зимнее окно в глубине. А у Ларионова вся казарма в прозрачном голубом и квадрат печки – огонь. Я уверен, что для Ларионова стимулом была казарма Федотова. Ларионов сам признавался, что он любит Федотова, а Ларионов – мой самый любимый живописец на свете, такого после Сезанна не было нигде. Это великий живописец, невероятный, явление исключительное, до сих пор не оцененное в полной мере. О Федотове было написано много глупостей, его биография была несовершенной. Я начал изучать материалы, в результате мне удалось заполнить белые пятна в его биографии. Это единственная достоверная биография Федотова. Были попытки уже после меня, некоторые пытались что-то делать, недавно вышла книга такого Кузнецова, но без ссылок на меня. То есть там общая ссылка есть, но в тексте он ни одной ссылки на меня не дает. У меня была когда-то ранняя попытка биографии Федотова, эта – вторая, я ее довел до полного понимания. И хотя в этом издании очень много опечаток и искажений, я все равно очень доволен, что книга вышла.
И.В. – Г.: Николай Иванович, какую литературу вы любили в молодости?
Н.Х.: Я всегда любил поэзию. Как-то поэты ко мне всегда испытывали доверие, всегда сопутствовали мне – начиная с моего раннего друга Багрицкого, которого как поэта я не очень ценю. Но потом я был, можно сказать, лично знаком со всей русской поэзией. Мою восьмиметровую комнату в Марьиной Роще Ахматова называла убежищем поэтов. С Багрицким я познакомился, когда был еще совсем мальчишкой. Это было в Одессе. Я был студентом юридического факультета Института народного хозяйства, почему-то в мое время в Одессе не было филологического. Томашевский тоже окончил юридический факультет.
И.В. – Г.: Там была большая литературная среда?
Н.Х.: Не Бог весть какая, но были какие-то люди. Но главным образом я общался с Багрицким, пока он не уехал в Москву. Багрицкий знал наизусть всю русскую поэзию. Может, это и мешало ему как поэту. Он был человек, безусловно, талантливый, но второстепенный. У него есть отдельные хорошие строки, но главное в нем была одержимость поэзией. Мы зачитывали друг друга стихами. Потом я встретил такого же маньяка русского стиха – это был Святополк-Мирский, который умер в жестокой ссылке. Он иногда приходил ко мне, и мы не столько говорили, сколько зачитывали насмерть друг друга стихами.
И.В. – Г.: А вы когда-нибудь писали стихи?
Н.Х.: Только шуточные, никогда поэтом себя не считал. Крученых, который любил всякие домашние жанры, заставлял меня писать, и я ему их написал массу. Он их собрал, назвал «Крученыхиада» и без моего ведома сдал в архив. Я его очень ругал за это.
И.В. – Г.: Когда вы переехали из Одессы в Москву?
Н.Х.: В конце 20-х годов. Я поехал в Ленинград, а потом в Москву. Одно время я даже хотел обосноваться в Ленинграде. В 1928 году Эйхенбаум привел меня в Институт истории искусств на вечер ОБЭРИУ – там Хармс выступал, и Введенский, и Заболоцкий. И с Малевичем я там встретился, он жил при этом институте и пришел на вечер. Тогда же я познакомился с Нарбутом, он бывал у меня в Марьиной Роще, с Зенкевичем. С Ахматовой я познакомился в 30-х годах. Чурилин у меня бывал, Петников. Хармс приехал один раз, Введенский у меня ночевал и много бывал – это были друзья. Бывало очень много народу, и все это происходило в Марьиной Роще, в восьмиметровой комнатке.
С Крученыхом я познакомился тоже в конце 20-х, потом лет сорок дружили. Он человек был замечательный, очень талантливый. Очень сложный, очень странный, с большими дефектами – но, конечно, личность. Он мне сам говорил, что в его жизни было очень много страшного.
И.В. – Г.: А когда вы познакомились с Мандельштамом?
Н.Х.: Тоже в 1928 году и с ним, и с ней. Я жил одно время в Кунцеве у Багрицкого, и Мандельштам пришел туда с Зенкевичем. Потом он пригласил меня и Багрицкого к юмористу и шаржисту Адуеву. Там уже была Надежда Яковлевна. Потом мы так или иначе встречались. Он читал мне и Борису Лапину только что написанное «Путешествие в Армению», и Лапин сравнил эту вещь с Плинием, я помню, Мандельштаму очень понравилось. Лапин был талантливый поэт и прозаик. Он перестал писать стихи, что очень огорчило Аксенова, – он был в группе поздних «центрофугистов». Аксенов говорил: «Вот, он занялся этой этнографической прозой и оставил поэзию». Аксенов порицал его за это.
И.В. – Г.: Это были круги, к которым политика и советская власть не имели отношения, или там были какие-то политические надежды?
Н.Х.: Это было все вне политики. Какое-то время Багрицкий пытался заниматься политикой, но это вызывало смех. Нарбут был членом партии, но уже тогда был полуразжалован. Большой поэт был и авантюрист, к сожалению.
И.В. – Г.: Встречи и работа с какими людьми оказали на вас наибольшее влияние?
Н.Х.: На меня наибольшее влияние оказывали художники, а не поэты и филологи. Больше всего в понимании искусства я обязан Малевичу. С Татлиным я тоже очень дружил, причем скрывал это от Малевича. Они были врагами, и мне приходилось скрывать от каждого из них то, что я общаюсь с другим. К счастью, один из них жил в Москве, a другой – в Ленинграде. Татлин был человеком с чудовищным характером – маньяк, боялся, что у него украдут какие-нибудь профессиональные секреты. Однажды во время войны с Финляндией ко мне в Марьину Рощу приехала Ахматова. Квартира была коммунальная, она у меня жила, я в коридор выселился. Позвонил Татлин, и я сказал ему, что у меня Анна Андреевна, может быть, он нам покажет работы? Он нас пригласил к себе. Было затемнение, и мы в жуткую ночь, без электричества, в страшной грязи и слякоти добрались до Масловки. Я сначала поднялся в его мастерскую. Она находилась на последнем этаже, последняя дверь, чтобы мимо никто не проходил. Стучу – нет ответа. Анну Андреевну я оставил внизу, спустился, говорю: «Он, наверное, в квартире». Тогда я поднялся на шестой этаж, его квартира была в том же дворе, – тоже нет ответа. Я был в ярости, и мы поехали домой. Потом я решил, что он, вероятно, подумал, что Ахматова подсмотрит его профессиональные тайны. Я с ним прекратил знакомство. Кроме того, мы еще с ним работали над «Делом» Сухово-Кобылина. Он сделал один рисунок «Зал суда». Я не люблю театр, но чувствую его. Я сказал ему, что на рисунке скучно стоит стол, все будут видеть только спины. – «Поставьте его по диагонали, как у Тинторетто». Он так и сделал, а потом уверовал в мои неслыханные способности. Я ему сказал: «Ну что вы, я же не занимался театром, вот Леонид Петрович Гроссман, он выпустил книгу и писал статьи по театру, и он будет очень хорошим консультантом». Через два дня звонок: «Что ты мне такое говно посоветовал?» Я говорю: «Как вам не стыдно, он уважаемый человек, профессор, во всяком случае не заслуживает такого отношения». – «Нет, он мне не нужен, плохой ты человек, не хочешь мне помогать». Мне пришлось расшифровывать ему символику «Дела», там ведь Варавин – исчадье ада, разбойник Варрава, которого выпустили вместо Христа. Работал с ним довольно долго. Он мне обещал, что со мной тоже заключат договор. Но, когда пришла комиссия и я там был, он про меня ничего не сказал. Я ушел и прекратил с ним знакомство.
Проходит полгода – он лукавая бестия был, как дети, хитрец был дьявольский, – звонок по телефону – меня. Я чудно узнал этот голосок: «Говорит Т-а-а-тлин», – я молчу, тогда он произносит фразу: «Ну, знаешь, у тебя тоже характер». Я рассмеялся. Таким образом ссора прекратилась.
И.В. – Г.: Он завидовал Малевичу?
Н.Х.: Он его ненавидел лютой ненавистью и в какой-то мере завидовал. Они никак не могли поделить корону. Они оба были кандидатами на место директора Института художественной культуры. Малевич сказал: «Будь ты директором». Татлин: «Ну, если ты предлагаешь, тут что-то неладное». И отказался, хотя сам очень хотел быть там директором. Там всегда была распря, пока тот не уехал в Киев. Когда Малевич умер, его тело привезли кремировать в Москву. Татлин все-таки пошел посмотреть на мертвого. Посмотрел и сказал: «Притворяется».
И.В. – Г.: Когда вы познакомились с Малевичем?
Н.Х.: В 1928 году на вечере ОБЭРИУ. Тогда я со всеми познакомился – с Хармсом, с Введенским. Там был Труфанов, старый заумник, который оказал на обэриутов некоторое влияние. Пожилой человек, калека, горбатый, нелепой наружности, но любопытный человек. Вагинов присутствовал, но, по-моему, ничего не читал. Институт был практически ликвидирован, но еще там оставались вечера, последние вздохи этого института. Я был с Эйхенбаумом. И Малевич сидел там – очень важный. Он там жил, во дворе этого института, другой вход со двора этого знаменитого дома Мятлева.
И.В. – Г.: Вечер был интересный? Кто там читал?
Н.Х.: Все обэриуты: и Заболоцкий, и Хармс, и Введенский.
И.В. – Г.: Какие были у Малевича взаимоотношения с Богом?
Н.Х.: Конечно, у Малевича мистический элемент присутствует. Когда Ленина повесили вместо иконы, он сказал, что этому месту пустым оставаться нельзя. Еще он говорил: «Чем отличается моя беспредметность от их искусства?» – и сам отвечал: «Духовным содержанием, которого у них нет!» А Крученых говорил: «Бог – тайна, а не ноль. Не ноль, а тайна».
И.В. – Г.: О чем вы говорили в последние годы с Малевичем?
Н.Х.: На разные темы были разговоры, но, как всегда, об искусстве. Из русских художников он и Татлин больше всего любили Ларионова. Хотя они ссорились с ним, все ссорились. Малевич тоже поссорился с Ларионовым. Тем не менее они оба соглашались, что Ларионов – уникальный живописец. Я считаю, что после Сезанна такого живописца не было.
И.В. – Г.: Кто из поэтов был ближе всего Малевичу?
Н.Х.: Он все-таки Крученыха больше всего ценил. Он говорил Хлебникову: «Вы не заумник, вы умник». Нет, он очень ценил Хлебникова, но Крученыха считал параллельным себе – беспредметник и заумник.
И.В. – Г.: Как Малевич относился к тому, что происходило в 30-е годы?
Н.Х.: Хотя он очень бедствовал, но по натуре он был оптимист. Он пытался что-то делать, какие-то архитектурные проекты, какой-то соцгородок. И это где-то даже полуодобрялось, но из этого ничего не выходило. Он был очень волевой и настойчивый, хотя уже был болен тогда. Проект соцгородка он сделал на основе своих архитектонов. Даже хотел заняться утилитарной архитектурой, что не соответствовало его установкам. Он мне даже однажды сказал, что готов принять социалистический реализм, только с одной поправкой: чтобы это был художественный реализм.
И.В. – Г.: Что он имел в виду?
Н.Х.: Чтобы это было искусство. Он был готов даже сюжетную вещь сделать. Но тогда искусство было отдано людям не искусства, и поправка Малевича на «художественный соцреализм» не была приемлема. Это была куча бездарностей, рисовавших по фотографиям тематические картины.
И.В. – Г.: В 30-е годы атмосфера постоянного давления со стороны властей и ощущение «закрытия искусства» не заставили Малевича и Татлина сблизиться между собой?
Н.Х.: Татлин продолжал ненавидеть его жуткой ненавистью, а Малевич относился к нему как-то иронически. Они никак не могли поделить корону. Татлин все-таки как-то приспосабливался – в театре работал, оформлял спектакли. Он не гнушался никакими пьесами, пусть даже преуспевающего автора, лишь бы была работа. Оформил более 30 спектаклей и получил «заслуженного». А Малевич, когда еще закрыли Институт художественной культуры, был уже вполне «прокаженный». Он бездействовал, но ученики к нему приходили, и он по-прежнему был очень влиятельный. Но когда он умер и его хоронили любимые ученики Суетин, Рождественский и другие, так на их лицах была и некоторая радость освобождения, потому что он все-таки их очень держал. Его присутствие изменяло их жизнь и биографию. Они, конечно, очень горевали, но они были уже не дети, и это была свобода от него. На его похоронах было очень много народу, ученики руководили церемонией. Гроб, сделанный Суетиным, был доставлен из Ленинграда в Москву, потом была кремация, похороны. Могилу потом потеряли, хотя рядом жили родственники. Мы как-то поехали с Рождественским, хотели найти, но там уже не было никаких примет, никаких ориентиров. Мы прошли мимо дома и думали, что там живут другие люди. А потом дочь Уна, жившая тогда на Кавказе, написала, что там продолжают жить ее родичи. Значит, родственники не могли сохранить могилу, которая была в пятидесяти метрах от дома. Хоть бы камень положили, когда деревянный куб разрушился.
У меня есть с ним фотография, как раз в Немчиновке, в том доме, где жили родственники.
И.В. – Г.: Общества Малевича еще никто не устроил?
Н.Х.: Не знаю, не дай Бог, это ему не к лицу – какие-то посторонние люди будут спекулировать его именем. Я вообще ненавижу такие общества – Мандельштама, Хлебникова… Все это спекуляция, это люди, которые устраивают собственные дела, они мечтают объездить весь свет, я к этим почтительным учреждениям отношусь с большим презрением, эти люди не нуждаются в такой поддержке. Вытащите кого-нибудь неизвестного и поддерживайте.
И.В. – Г.: А как Малевич общался со своими учениками? Это была коммуна? Близкие отношения?
Н.Х.: Нет, нет. Они к нему приходили, он читал им лекции. В Витебске обстановка была цеховая, они ежедневно общались в школе, он их учил. Но в Ленинграде это уже было не так. Он жил в этой ужасной квартире, они приходили общаться с ним. Но они уже сами были с усами, всему, чему надо, научились в Витебске. Больше всех Малевич ценил Суетина: у них было духовное родство. Чашник – верный малевичеанец, неплохой художник, очень близкий, но более подражательный. Суетин оригинальнее. Он прошел через супрематизм и пришел к очень своеобразным вещам. Как бы абстрактные фигуры с овалами, идущие от иконы. У него была изумительная серия слонов и в живописной трактовке, и в супрематической. Это все пропало, жены растащили. В 20-х годах он делал скульптуро-живопись с рельефами. Замечательный рисовальщик, человек с диапазоном, уверенный в том, что он делает, но запутавшийся в личных делах.
Он был любимым учеником, и Малевич о нем страшно заботился. Искал ему врачей. Мой друг Суетин был психопат, невыносимый человек с миллионом личных историй. Он меня этим изводил, приезжал ко мне на ночь, не давал спать, рассказывал об очередной трагедии. Когда он уже лежал в больнице, я пришел навещать его с рождественскими подарками. Меня не пускали, но я дал взятку, и его привели к нам в маленькую гостиную. Он подошел ко мне, потерся так и сказал виноватым голосом: «Ну, теперь я буду заниматься только искусством». А ему уже было пора умирать, уже было поздно.
Юдин был очень талантливым человеком. Он был далек от супрематизма, делал живописные вещи на кубистической основе. Он был очень образован, замечательный знаток различных систем в искусстве. Умница был необыкновенный, знал невероятно материал современного искусства. Он погиб на войне, через две недели его уже не было. Малевич не заставлял их всех быть супрематистами, он у каждого находил те элементы, которые тот должен развивать, чтобы быть самостоятельным художником.
Нина Коган была сначала ученицей Шагала в Витебске, а потом, как все, перебежала к Малевичу. Я познакомился с ней у Малевича в Ленинграде. Она общалась с Малевичем и с Митуричем, больше склоняясь к Малевичу. У нее была улыбка блаженной – мишугене, юродивая, но вообще святая женщина. Бескорыстная, бессребреница, несчастная душа, кожа и кости, бегала везде как сумасшедшая, устраивала дела. Она потом вышла замуж за сумасшедшего, голодного художника Борисова. Она его пожалела, но что она могла ему дать? Это была пара нищих того времени, деятельных и преданных искусству. Он был любопытный художник и делал интересные обложки, но ничего, кроме обложек, не умел делать, страшно бедствовал и всех ненавидел. Борисов сделал обложки к стихам Хлебникова и к «Доскам судьбы». Шрифты – нарисованные, не как у Лисицкого, который пользовался наборными элементами. Митурич насчет его обложки к «Доскам судьбы» говорил, что этой хорошей обложке не хватает прозрачности. У меня сохранился экземпляр, где он навел штриховку, чтобы возникла прозрачность. Я его не знал, он был странный человек, а у нее на лице всегда была радостная улыбка, словно ей известны какие-то тайны искусства. Я ей у Малевича сказал какую-то гадость по поводу издания Хлебникова, но она не сдавалась и продолжала блаженно улыбаться. Она умерла от голода во время блокады, да и он, наверно, тоже.
И.В. – Г.: Я видела в каталогах и на выставках довольно много работ Нины Коган. Как они попали на Запад?
Н.Х.: Наверно, были распроданы. В таком случае среди них должно быть много работ Борисова. У меня сохранилось очень много писем Коган, очень интересных. У меня вообще архив невероятный. Что будет с этим, мы оба с Лидией Васильевной в ужасе, они ждут моей смерти.
И.В. – Г.: Это очень серьезная проблема. Все, о чем мы говорили. Я поговорю, но не знаю, какими будут результаты.
Н.Х.: Поговорите. К сожалению, меня уже вытаскивать поздно, по-моему, трудно. Лидия Васильевна еще как-то.
И.В. – Г.: Куда Лидия Васильевна без вас?
Н.Х.: Поговорите, все объяснив, как есть: возраст, в каком мы виде и катастрофу, что десятки акул ждут моей смерти. Если чудо возможно, так я тогда сдамся.
И.В. – Г.: Я поговорю.
Н.Х.: Если это реально.
И.В. – Г.: Процент евреев в художественно-литературной среде был тогда очень велик?
– Конечно, почти все ученики Малевича были евреями. Кроме нескольких, таких как Санников, Носков. Они очень способные были и исчезли неизвестно куда. Так у нас исчезали люди, ничего не оставалось. Посмотрите на эту знаменитую фотографию из художественной школы в Витебске с Пэном посередине (он был хороший художник, пленерист, он не был академиком. Бедный старик – его потом убили, такой кроткий, симпатичный еврей). Все на этой фотографии – евреи, вот Нина Коган, как всегда, блаженно улыбается. Только одна Ермолаева здесь русская, аристократка, у них было громадное поместье. Она была чудная женщина, ее потом расстреляли за религиозные убеждения, так хромую и повели на расстрел.
И.В. – Г.: Это был самый интернациональный период русского искусства?
Н.Х.: Ну, Малевичу вообще было наплевать – он никаких национальностей не признавал. Ему было важно – художник или не художник. Жена его, мать Уны, Рафалович, была еврейка или полуеврейка. Мы с Лидией Васильевной считаем, что в Дмитрии Исидоровиче Митрохине есть еврейская кровь. Он ведь из кантонистов. Его дедушка с отцовской стороны был кантонистом. В нем есть такая настойчивость, трудоспособность и не свойственная русским волевая дисциплина. Вообще на эту тему никто тогда не задумывался, у меня гимназические приятели были евреи, никто на это тогда не обращал внимания. У Александра Бенуа были предки евреи – какой-то портняжка, они скрывали, конечно, но предок его был французский еврей, я это где-то прочел.
Да, когда к Малевичу перебежали от Шагала все эти еврейские мальчики, ну, Суетин был, правда, дворянин, скандал был на весь Витебск. Ида мне сама рассказывала, что отец ненавидел Малевича и был зол на нее за то, что Малевич ей нравится. У Шагала характер был дай Боже. Малевич был все-таки относительно с юмором, а этот был страшно злопамятный. Он из-за этого в Париж уехал, что в результате оказалось ему на руку. Все равно он не мог простить Малевичу Витебска. Но Малевич был не виноват – все ученики сами сразу к нему перешли. Да и чему их мог научить Шагал – он был совсем не учитель. Они подражали его летающим евреям. Даже Лисицкий был сначала под влиянием Шагала. Но Малевич его оценил сразу. Он извлек из Лисицкого его архитектурную основу и предложил ему заняться объемным супрематизмом. Сам он делал опыты в этом направлении, но по-настоящему этим почти не занимался. В идиотской статье Хан-Магамедова написано, что это Лисицкий на него повлиял. Ничего подобного, это он дал эту задачу Лисицкому. Сам он попробовал, но этим не занимался. Его самого плоскостные формы вполне устраивали, они у него работали как объемные, движение света давало эту иллюзию. А Лисицкий был изумительный график, феноменальный, и колоризировал он очень умело, хотя и не был живописцем. Жена Пуни (Ксения Богуславская, художница) здесь была и сказала мне, что Лисицкий большой мастер архитектурной светописи. Эти его построения очень интересны. В Париже издали недавно плохой каталог Лисицкого – не понимают. А в здешнем – миллиард ошибок. Я исправил ошибки на имеющемся у меня экземпляре, он весь исчерчен моими пометками. В статье Немировской написано, что моя статья является предисловием к статье Лисицкого, – наоборот, его статья была приложением к моей. Ранних, шагаловских, живописных работ Лисицкого здесь почти не сохранилось, он ведь уехал за границу. Уехал он еще из-за того, что влюбился в художницу Хентову. Она выставлялась с «Миром искусства» и в других местах. Невероятно красивая женщина – ослепительная блондинка, еврейка без национальных признаков. Она была модница, прекрасно одевалась, вся в мехах, не знаю, откуда брала средства. У меня есть фотография – она вся в мехах стоит около работы Лисицкого. Это было в Германии, примерно во время выпуска «Веши». Она бы и сейчас была прелестна – такие белокурые локоны. Он был в нее безумно влюблен, а она к нему совершенно равнодушна, может быть, только ценила как художника. Она сама была художницей. Он из-за нее стрелялся, прострелил себе легкое и потом из-за этого болел всю жизнь. Об этом никто не знает, мне это рассказала жена Лисицкого Софья Кюпперс. Хентову трудно было представить женой Лисицкого, он маленький, а она шикарная женщина. Я с Лисицким встретился только один раз. У нее здесь остался брат, журналист, писал под псевдонимом Генри, человек темный и, вероятно, стукач.
Тогда люди были другие, о Маяковском написала очень хорошие воспоминания жена художника-лефовца, кажется, Нивицкого, истеричка, но что-то в ней было. Он ей страшно изменял, и она пожаловалась Маяковскому, считая, что это влияние ЛЕФа и Бриков. На что Маяковский сказал: «Старомодные мы, Лиля, с тобой люди».
И.В. – Г.: Николай Иванович! Что такое «искусство 20-х годов»?
Н.Х.: Это такой же миф, как поэзия Серебряного века. Никакого искусства 20-х годов не было. Это было искусство дореволюционное, все течения уже были созданы. Просто были еще живы художники-новаторы, они еще были не старые в момент революции. Пунин был изокомиссаром и покровительствовал левым. Он мне говорил, что про него написали тогда: «“Честные и старые интеллигенты перешли на сторону революции”, – а мне (Пунину) тогда было 29 лет». Все, что было сделано, было создано до революции, даже последнее, супрематизм, был уже в 15 году. В начале 20-х годов они еще могли что-то делать, а когда кончилась Гражданская война, их сразу прекратили.
И.В. – Г.: Но всех этих людей привлекала возможность социального преобразования мира?
Н.Х.: Но в России это все не состоялось. Нет, конечно, футуристы в быту хотели все изменить, но это же была утопия. Малевич вначале пытался заниматься оформлением, но тогда было не до этого, Россия издыхала с голоду, он сам издыхал с голоду в Витебске. Организовать жизнь по законам искусства – это нереально. Правда, на Западе есть целые города и кварталы левой архитектуры. Но для кого это? – Корбюзье строил виллы для богатых людей. Градостроительство изменилось, но жизни это не изменило. Я давно говорил, что любая социальная формация на Западе ближе к тому, что мы считаем социализмом. Индивидуум стал гораздо более свободным и защищенным, но никакой феерии в жизни создать все-таки не удалось.
Кроме того, к авангардистам обратились, потому что монументальные работы, оформление улиц, не могли быть выполнены старыми методами. Это могли только левые сделать, поэтому они и были мобилизованы. Правда, известная альтмановская площадь была оформлена очень плохо. Он просто забил площадь декорациями и бутафорией. Художник Альтман, по моему мнению, малоинтересный, раздутый, не живописец, довольно скучный график.
И.В. – Г.: Вы считаете, что русские художники были оторваны от общего мирового процесса?
Н.Х.: Искусство было интернациональным, как никогда, но все-таки национальный акцент был. Был русский примитив, на Западе это не так принято. Вот Ларионов – это примитив, лубок, икона. Так, как вывеску оценили в России, ее нигде не оценили.
И.В. – Г.: Почему был такой рывок в русском искусстве?
Н.Х.: Поиски национальных истоков, корней. Ларионов первый понял важность народного искусства и примитива. До него этого не воспринимали как искусство, описывали просто, как Ровинский, ничего в этом не понимая, не воспринимая это как искусство.
И.В. – Г.: Я сейчас посмотрела иконы в Третьяковке – это не примитив, а интеллектуальное искусство высокого класса.
Н.Х.: Нет, это не примитив, но это монументальные и в общем упрощенные формы. Икона невероятно монументальна. Русские идут от греков, но все-таки создали свою икону, которая очень отличается от греческой и гораздо выше ее. Это тот случай, когда ученики превзошли учителей, но и учителя были недурные.
И.В. – Г.: Вы считаете, что примитив и лубок, войдя в интеллектуальное искусство, и создали этот прорыв начала века?
Н.Х.: И расчистка икон очень повлияла. Чекрыгин был совершенно помешан на «Троице» Рублева. Он говорил, что там такой голубой, которого не было в мировом искусстве. Икона и примитив изменили западное влияние, это столкнулось с кубизмом и в результате появилось новое русское искусство, не эпигонское, а своеобразное. Малевич мне как-то сказал: «Ну, пусть я и слабее Пикассо, но фактура у меня русская». А оказался не слабее! Сейчас он вообще идет номером первым в мировом искусстве. У него был и гонор, но в то же время и какая-то скромность, он цену себе знал. Это был уже новый язык искусства, и новые системы в искусстве были интернациональные. Малевич сейчас в Париже имел громадный успех, несмотря что он не живописец, Маркаде привез мне огромный каталог с огромным количеством ошибок. А Филонов провалился.
И.В. – Г.: Вы видели книгу Джона Болта о Филонове?
Н.Х.: Не видел и не хочу видеть. Это не уровень. Болт был филологом, потом начал очень быстро и плохо работать, замарал все русское новое искусство. У него был такой меценат Лобанов-Ростовский, который в искусстве ничего не понимал, собирал театральные эскизы, а теперь собирается их продать, то есть это было не коллекционирование, а бизнес.
И.В. – Г.: Был ли какой-то комплекс неполноценности у русских художников по отношению к западным?
Н.Х.: Ну, Малевич и Ларионов прекрасно знали себе цену, ничуть себя не принижали. Даже Гончарова себе цену знала, ей, конечно, до Ларионова далеко, но как женщина она феноменальна, и Розанова знала себе цену, великолепно была уверена в том, что делает, большая художница. Остальные дамы были уже не то – Попова, Удальцова, Степанова – куда им! Попова очень жесткая.
И.В. – Г.: А Родченко?
Н.Х.: Вообще дрянь и ничтожество полное. Нуль. Он появился в 1916 году, когда все уже состоялось, даже супрематизм. Попова и Удальцова все-таки появились в 1913-м, Розанова в 1911 году. А он пришел на все готовое и ничего не понял. Он ненавидел всех и всем завидовал. Дрянь был человек невероятная. Малевич и Татлин относились к нему с иронией и презрительно – он для них был комической фигурой. Лисицкий о нем ничего не высказывал, но тоже относился к нему презрительно, а Родченко ему страшно завидовал и ненавидел. Родченко сделал Маяковскому кучу чертежных обложек, а Лисицкий сделал одну (вторая плохая) для «Голоса» – разве у Родченко есть что-то подобное? Малевич сделал белый квадрат на белом фоне, а этот сразу черный квадрат на черном фоне – это сажа, сапоги. Когда он начал заниматься фотографией и фотомонтажом, на Западе уже были замечательные мастера – Ман Рей и др. Лисицкий уже следовал за Ман Реем, но не хуже. То художники были, а у этого фотографии – сверху, снизу – просто ерунда. Я считаю, что такого художника не было. Его раздули у нас и на аукционах. Семья его всячески раздувает – дочь, муж дочери. Внук, искусствовед под фамилией Лаврентьев, восхищается дедушкой – это семейная лавочка.
И.В. – Г.: Каково место Филонова в русском искусстве?
Н.Х.: Он не живописец, поэтому и провалился в Париже. Лисицкий тоже не живописец, но его космические построения заставили парижан отнестись к нему милостиво. А Филонов для них, наверно, что-то немецкое – экспрессионизм. Он феноменальный рисовальщик – невероятный. У него была такая маленькая работа, два мальчика в Гренобле, он потом ее раскрасил и испортил. Он вообще раскрашивал, он считал: главное – нарисовать, остальное приложится. Там были изображены два маленьких заморыша с чахоточными ножками. Гольбейн так бы не нарисовал. Он был маньяк, безумное существо, считал, что главное нарисовать, остальное все приложится.
И.В. – Г.: Вы с ним общались?
Н.Х.: Он даже написал обо мне в своем дневнике, о том, как мы с ним разговаривали. Я помню, последняя встреча была очень страшная. Его жену разбил паралич, она не выносила света. Они жили в общежитии на Макартовке. Мы стояли в коридоре и разговаривали, и вдруг она закричала диким голосом, и он пошел к ней. И, представляете, он умер от голода в блокаду, а она пережила его. Он сам себя изнурил голодом. Его жена была старше его на 25 лет – рыжеватая, милая, опрятная и очень гостеприимная женщина. Я пришел к ним, она спекла какой-то пирожок к чаю. Филонов сидит, не ест. Я ему говорю: «Павел Николаевич, что же вы?» – а он: «Я не хочу сбиваться с режима». Кроме того, была клюква с сахаром, она тогда стоила очень дешево и считалась немыслимым витамином. Он сказал: «Никому не говорите, что это целебная штука. Сразу все расхватают» – какой благоразумный! А у него на табак и на черный хлеб только и было – так он и жил. Сам был похож на своих персонажей: руки костистые, глаза маниакальные, очень слабый такой, волевое, одержимое существо. Сумасшедший, безумный маньяк. У него был один рисунок, почти беспредметный, колесообразные формы и конструкции. Даже невероятно, что человеческая рука такое могла сделать.
Филонов ценил Крученыха, хотя он был ему чужой. Крученых заказал ему рисунки к Хлебникову, и Хлебникову эти рисунки очень понравились. Вообще Филонов был любимым художником Хлебникова. Он написал портрет Хлебникова, и этот портрет пропал. Он, вероятно, отвез его семье в Астрахань, а там не ценили нового искусства. Семья Хлебникова все время жаловалась, что ему каждый месяц надо посылать деньги. Жуткая семья была, ничего не понимали, не ценили его, ни с каким Рембо не сравнить. Было такое его стихотворение, у меня полный текст выписан, рукопись, которую я видел у Митурича, он мне показывал, пропала. А он мог только писать. Это был такой вулкан, этот небывалый гений с того света, сравнивать с ним кого-нибудь просто смешно, человек с космическим сознанием.
И.В. – Г.: А как возник Филонов?
Н.Х.: Он учился в Академии художеств и был там чужой совершенно. Совершил долгое путешествие по Европе – пешком, денег у него не было. Был во многих музеях. Ранние его вещи были странные, символические, сновидческие. Рисовал он в Академии так, что старик Чистяков обратил на него внимание. Он у него не учился, но тот приходил в его класс и спрашивал: «Что нарисовал этот сумасшедший Гольбейн?» Его работы были в Русском музее, а потом их отдали сестрам. У них были две маленькие комнаты, а работы огромные, накрученные на валики. Ходить там было негде, а музей брать не хочет. Тогда я пошел на страшную аферу. Я сговорился с ЦГАЛИ, чтобы они забрали все вещи, и они согласились. Тогда я пришел в администрацию Русского музея и сказал: «Через день работы уедут в Москву. Как это глупо, художник всю жизнь был связан с Ленинградом. Почему его надо отдавать в архив, где его заморозят, никто его никогда не увидит, а потом вам же это отдадут на хранение». В общем, я их уговорил, и работы не уехали в Москву. Я взял несколько вещей, устроил выставку в музее Маяковского, а потом вернул. У него были две сестры. Старшая, хорошая, умерла, и осталась страшная дрянь и ханжа Евдокия Николаевна. Она написала потом воспоминания, где обо мне нет ни одного слова. Но у меня есть ее письмо, где она пишет, что я смог устроить выставку тогда, а она думала, что выставку Павла Николаевича удастся устроить только через 50 лет.
Потом часть вещей эта сестра продала иностранцам и Костаки – эта чудная, верная сестра. В Финляндию должны были быть вывезены 15 вещей, которые могли быть куплены только у нее. Картины разрезали на мелкие части, чтобы потом склеить. Но их накрыли, и это не удалось. Я сказал Евдокии Николаевне, что она торговка и дрянь, и она меня круто возненавидела.
И.В. – Г.: Николай Иванович, вы считаете Кандинского русским художником?
Н.Х.: Немецкий, абсолютно ничего общего не имеющий с русским искусством. Его ранние лубки мог нарисовать только иностранец, с полным непониманием. Но это ранние вещи, а как живописец он сформировался в Германии под влиянием Шёнберга. Это музыкальная стихия, аморфная, а русское искусство конструктивно. Поздний Кандинский конструктивен, но он потерял себя, он хорош именно музыкальный, аморфный. Кандинские были поляки и Россию ненавидели. Он родился здесь, и мать его была русская. Но дома разговаривали по-немецки – лепет его был немецкий. Недаром он уехал в Германию еще в XIX веке. Он был там главой общества художников, а потом, после «Blaue Reiter», стал совсем сверхгенералом. А в Россию он приехал во время Первой мировой войны, а потом застрял надолго в Швеции. Он не хотел оставаться в Германии, которая воевала с его родиной. Он был благороднейшим человеком. Но здесь он был абсолютно чужой, и все левые совсем не замечали его присутствия. У него не было здесь учеников. Он был здесь иностранец. Малевич мне про него кисло сказал: «Да, но он все-таки беспредметник». Больше того, он первый беспредметник был, но он ведь весь вылез из фовизма, через кубизм он не прошел, поэтому он не конструктивен и не имеет ничего общего с русским искусством. Возьмите кусок живописи фовизма (Ван Донгена, раннего Брака, кого хотите), отрешитесь от предмета, и вы увидите, что все эти яркие контрастные гаммы Кандинского, вся эта цветовая система идет от фовизма.
И.В. – Г.: Николай Иванович, художник, эмигрируя, обычно сразу порывает с Россией?
Н.Х.: Кого вы имеете в виду?
И.В. – Г.: Архипенко, Сутина, Габо, Певзнера.
Н.Х.: Архипенко не эмигрировал, он уехал в 1908 году во Францию и там натурализовался. И вообще, скульптор, кубист международный, какие у него могут быть национальные признаки? До отъезда из России он был в дружеских отношениях с Малевичем. Они сдружились в Киеве, Архипенко ведь был украинцем. Сохранилась открытка Архипенки, присланная им Малевичу из-за границы, с изображением его ранней скульптуры – Адам и Ева, стоящие у дерева. Я думаю, потом переписка прекратилась, но эта открытка – очень дружеская, даже с обращением на ты, а ведь Архипенко был моложе Малевича – была послана по следам свежей дружбы. Потом эта переписка прекратилась, но, когда он уехал, он сразу написал Малевичу.
Сутин уехал отсюда совсем молодым, он там стал художником, и это большой живописец.
Габо – полная бездарность, нуль, а Певзнер талантливый живописец и конструктор. Недаром он натурализовался во Франции, а Габо – он для америкашек. Они уехали в начале революции. Габо был деляга, художник-дилетант, все его конструкции похожи на математические машины в политехническом музее – это не искусство. Он в подметки брату не годится, а сам обвинял Певзнера в плагиате. Живопись Певзнера, его полые, вогнутые, ребристые формы тогда уже были сделаны, кроме того, был уже Архипенко, и кубизм был.
И.В. – Г.: Но это русское искусство?
Н.Х.: Нет, это не русское искусство. В Певзнере еще что-то было, кое-где мелькал ранний Врубель. У них был брат Алексей, который теперь умер. Он был со мной в хороших отношениях.
Алексей Борисович, странный человек, которого Габо заставил написать книгу о себе и о Певзнере, и там он обвиняет Певзнера в плагиате. Я говорю ему: «Алексей Борисович, как вы можете обвинять одного вашего брата в плагиате у другого, как вам не стыдно? Я противник Габо, для меня художник только Певзнер». Он немножко сгладил, но все-таки оставил пакость! Он забрал из России за границу все оставшиеся здесь работы Певзнера.
Здесь всех ждала веревка, но, как сказала Ахматова, настоящему поэту нужен воздух бедствий.
И.В. – Г.: А вы встречались с Ларионовым?
Н.Х.: Нет, я с ним не виделся, они уехали отсюда в 1915 году и никогда после сюда не приезжали. Но он узнал о моем существовании еще в 1957 году, прочел какую-то мою работу, включил мою статью в свой каталог. Он прислал мне с Лилей Брик свои каталоги с милыми надписями, на одном даже собачку нарисовал. И еще они передали мне каталоги Натальи Сергеевны, она тогда еще была жива.
Лиля ему сказала, что я считаю его самым великим художником в мире. Я устроил выставку через год после его смерти, немножко не дотянул.
И.В. – Г.: Вы дружили с Лилей Брик?
Н.Х.: Да, до тех пор, пока Катанян нас не поссорил. Он меня возненавидел, грубо говоря, может, чему-то завидовал глупо невероятно и пошло. Вообще он был альфонс, дрянь абсолютная. Он нас поссорил с Лилей. Я считаю, она сделала ошибку: жена цезаря не должна выходить замуж за его дворника.
И.В. – Г.: Николай Иванович, выставки, которые вы организовали в музее Маяковского, явились одним из самых важных факторов новой культуры 60-х годов. Два главных фактора, повлиявших на развитие нового русского искусства, – это фестиваль, когда привезли новое западное искусство, и эти ваши выставки.
Н.Х.: Они были заблаговременные и провидческие. Тогда это искусство было под запретом, и это был риск. Последнюю выставку (Шагал, Розанова, Якулов, Татлин, Родченко – музей меня заставил включить его в выставку из-за Маяковского) запретили. Выставка уже была повешена, и ее не разрешили открыть. Пришла комиссия из МК, меня чуть не арестовали. Это была провокация директорши, она устроила выставку наверху и сказала, что провалится пол, поставила милиционера и никого не пускала.
И.В. – Г.: Но все-таки она была единственной, которая согласилась делать эти выставки?
Н.Х.: Потом уже только делала вид. Когда была выставка Ларионова, она была в отпуску, и выставка продолжалась целых семь дней.
Эти выставки были открытием всей этой культуры. Была выставка Матюшина с Филоновым, Татлин с Малевичем, Гуро с Эндером, Ларионов, две выставки Чекрыгина.
И.В. – Г.: Как вам это удалось?
Н.Х.: Силой убежденности. Нашаманил. Из Третьяковки я попросил восемнадцать вещей Ларионова, две самых левых, их не дали. В Третьяковке меня ненавидели, они же своим сотрудникам этих вещей не показывали, это же все из фондов. Они дали мне 16 вещей, я хотел было позвонить в Министерство культуры, а потом решил – черт с ним, они могут вообще все отменить. На эти выставки из других городов приезжали. У меня же сохранилась книга отзывов. После закрытия выставки Ларионова мне звонят из «Правды»: «Мы получили массу писем из провинции от людей, которые хотят видеть эту выставку. Может, вы ее продлите?» Я сказал: «Я ее продлю на три дня, и вы еще получите письма». – «Так что же делать?» – «А введите работы Ларионова в экспозицию Третьяковской галереи».
У меня уже выработалось шестое чувство. На выставке Ларионова я пришел в музей в восемь часов утра, снял все работы, всю выставку повалил на пол. Проходит час, и является комиссия из МК. Я говорю: «Выставка уже снята, ничего особенного не было». Показываю несколько работ, они стоят с кислыми лицами – все-таки опоздали, не увидели выставку на стенах.
И.В. – Г.: А как вам удалось получить работы Ларионова из запасников Третьяковки?
Н.Х.: Тогда приехала вдова Ларионова. Министерство культуры обещало ей устроить выставку Ларионова. Она пришла ко мне и сказала, что то, что я собираюсь устроить маленькую выставку Ларионова, может помешать устройству ее выставки. Я ей сказал, что моя камерная выставка не может никому помешать, и она успокоилась. А выставку ей не устроили. Она собиралась подарить работы Гончаровой, которую страшно ненавидела. После отказа делать выставку она была страшно разъярена и решила ничего не дарить. Тогда я позвонил в Министерство культуры и сказал, что если они мне дадут работы из фонда и я устрою выставку, то вдова Ларионова подарит им работы. Фурцевой тогда не было, был какой-то то ли Попов, то ли Петров, и он дал разрешение. Когда я пришел отбирать из фондов работы, у них глаза вылезли, они их своим сотрудникам не показывают. Ругали меня не только в спину, но и в лицо даже. А я взял и показал шестнадцать прекрасных холстов Ларионова. А вдова подарила Третьяковке «Четырех святителей» Гончаровой, натюрморт и еще что-то. Они на мне хорошо заработали. А потом она подарила кучу пастелей Гончаровой музею Пушкина, и они даже устроили выставку – это были ее ранние реалистические пастели, хорошие, но ничего левого там не было.
О всех этих выставках писали за границей. Были изданы пригласительные билеты, каталогов тогда издать было невозможно. Во всех библиографиях Ларионова указывается выставка в музее Маяковского и отмечено – без каталога. На выставке Филонова был посол Израиля Харэль, был посол Канады, вообще приходили послы и дипломаты. Нина Кандинская приехала в Москву и позвонила мне. Я очень растерялся, и она сказала, что я, наверно, думаю, что меня разыгрывают, и пригласила меня в гостиницу, пить кофе. Я сказал, что не могу, демонтирую выставку, и она приехала на выставку Филонова, и ей очень понравилось.
И.В. – Г.: Не было художника в Москве, который не видел бы эту выставку. Все было, кроме каталога.
Н.Х.: Ну, каталогов тогда делать не разрешали, но были напечатаны приглашения
И.В. – Г.: Николай Иванович, что для вас сейчас самое главное в искусстве XX века?
Н.Х.: Величайший Хлебников – это такое уникальное явление, равного которому нет в литературе ни одного народа, такие поэты рождаются раз в тысячу лет. В искусстве одного назвать невозможно, как живописца я больше всего люблю Ларионова. Малевич, конечно, цветописец. Татлин все-таки вышел из искусства, в живописи он не может состязаться с Ларионовым, все-таки не дотягивал. У него одна вещь висела в квартире – «Яблоневый сад» Ларионова. Он мне говорил: «Видишь?» – «Вижу». Ну, конечно, Ларионов, Татлин, Малевич – главная тройка русская.
И.В. – Г.: Николай Иванович, а как вы пришли к Хлебникову?
Н.Х.: Я был лефовец, был связан с футуристами. Хлебников был для нас первым номером. Потом он очень плохо издан был. Я был занят текстологией, мне хотелось перевести его на русский язык. Он так искажен в пятитомнике, что там нет ни одного правильного текста. Моя цель была собрать неизданные тексты и дать установку для будущего полного собрания сочинений, которое, кстати, до сих пор не издано. Вышел сейчас толстый том – это ужасный хлам, чудовищная работа. Там такой Парнис, этот аферист вовлек в эту историю все-таки лингвиста Григорьева, который опозорил себя, потому что это чудовищное издание вышло через много лет после пятитомника Степанова, но через столько лет надо было приступить к изданию во всеоружии, умея и имея возможность исправить все ошибки Степанова. А они их повторили. Они пишут в предисловии, что это дело будущего. Но сейчас, через шестьдесят лет после издания, будущее уже настало. Так что это спекуляция на юбилее. К юбилею, кроме этого тома, вышло еще несколько мелких книжек Хлебникова, все они никуда не годятся. Это все спекуляция.
И.В. – Г.: Почему это происходит?
Н.Х.: Это требует адской текстологической работы, кроме меня ее никто не в силах сделать. Я работаю над этим много лет, но мне не дали возможности издать. Издательства не шли на мои условия, хотели издать что-то для читателя, а я хотел, чтобы вся моя текстологическая работа была видна. У меня готова вся хлебниковская текстология. Вы видите все эти папки – это все хлебниковская текстология. Не установлены правильные тексты, текстологическая работа требует громадного знания материала. Но я боюсь, что мне не суждено это увидеть изданным. «Хлебников, он такой сложный, в нем есть всё», – сказал мне Мандельштам, прощаясь, когда он уезжал от меня в последний дом отдыха, где его арестовали. Я ему тогда дал почитать том Хлебникова. Потом, в 60-х годах, мне попалась книга Веберна о Бахе, где он сказал: «В Бахе есть всё». Это, конечно, разобщено во времени, но правильно.
И.В. – Г.: Тогда были такие духовные величины, как Хлебников, Маяковский, Пастернак. Как произошло, что взяли Ахматову, эту прекрасную эстетическую камерную поэтессу, и канонизировали ее?
Н.Х.: Но она все-таки большой поэт, хотя я ее не люблю. Когда мы с ней познакомились и подружились, она мне сказала: «Я всегда мечтала дружить с человеком, который не любит моих стихов».
А потом эта наша любовь к классикам, юбилярное литературоведение, канонизация – это возникло только в наше время, раньше такого не было. Наука тоже подгоняется. Юбилеи, симпозиумы, книги издаются. Создают такой Олимп культуры. И характерно то, что это в период страшного одичания, – раньше так с культурой не возились. А Мандельштам – камерный поэт, его называют великим не по чину. Он гениальный человек, но не великий поэт. Признак великого поэта – диапазон, которым Мандельштам не обладал. Хлебников и Маяковский – вот великие поэты.
И.В. – Г.: Но канонизировали именно Мандельштама?
Н.Х.: Да. Называют великим поэтом совершенно не по чину, я бы сказал. Он гениальный человек был, но поэт камерный, мало написавший, вроде Тютчева. Уже Фет больше написал. Американцы сделали из него Брокгауза и Ефрона, четыре тома, пять томов и тут хотят это воспроизводить – он весь помещается в одном не очень большом томе.
Я вообще против учреждения обществ памяти Малевича, Хлебникова, Мандельштама и других – это спекуляция, учредители хотят объездить мир, а Малевич и Хлебников обойдутся без них, их прославлять не надо.
И.В. – Г.: Вы долго общались с Мандельштамом?
Н.Х.: О да, он потом жил у меня довольно долго в Марьиной Роще. Мы с 1928 года много общались, но так как у меня эта история с этой мадамой произошла довольно мерзкая, то я ничего не хочу об этом говорить на магнитофон, это для меня тема не очень приятная.
И.В. – Г.: Как повлияла на современную русскую литературу и культуру реанимация произведений и авторов, которые исчезли насильственным путем или ушли в эмиграцию?
Н.Х.: Что значит возвратить? Для чего возвращать – чтобы ознакомиться? Та интеллигенция, которая как-то выжила, и так все знала. В этом массовом возвращении есть какая-то глупость – в каждой пошлой статье, например, теперь цитируют Бердяева, которого после этого читать можно перестать. А Бахтин, без которого ни одна глупейшая статья теперь не обходится. Набокова у нас раздули без всякой пропорции. Он ничего общего с Россией не имеет, в послесловии к «Приглашению на казнь» он ругает русский язык. Зачем ругать свой родной язык, чтобы возвеличивать чужой? В том же послесловии он говорит, что он не читал Кафку (значит, читал), только до Кафки ему, как до неба, тот великий, а вы прочтите стихи Набокова – это же графомания и бездарность. Конец «Приглашения на казнь» Набоков украл у Платонова из «Епифанских шлюзов», там с гомосексуализмом и вообще. Но это и у Платонова плохо, портит ему всю вещь, вот Набоков и полакомился.
И.В. – Г.: Каково место Платонова в современной литературе?
Н.Х.: Ну, его знали и раньше. Я эту прозу читать не могу, там слишком много суемудрия, «естественного мыслителя» слишком много. Но человек он был замечательный и мудрый. Я виделся с ним только один раз у своего приятеля писателя Фраермана. Платонов пришел туда, они вместе какую-то халтурную пьеску написали. Ему нечего было есть, он был в полном загоне. Мы перекинулись несколькими словами, и вдруг он сказал: «Давайте выставим Рувима и будем с вами водку пить». Он открыл дверь и вытолкнул на площадку Рувима, который ушел. Мы пили водку и разговаривали о Евангелии. Он мне сказал, что хочет написать рассказ о мальчике-абиссинце, предке Пушкина. Когда его увозили, то сестра этого Ганнибала долго плыла за кораблем – такая черная русалка, – это его поразило. А я ему сказал, что об этом же Тынянов хотел написать, он очень удивился – такое совпадение. О Платонове всегда легенды рассказывали. Мне он очень понравился, человек он был очень незаурядный. Я был свидетелем одной сцены в редакции журнала «Литературный критик», который тогда был либеральным, и Платонов писал для него статьи под псевдонимом Человеков. Был такой мутный аферист Дмитриев, принадлежал даже к молодым опоязовцам, собирал, кажется, автографы, потом был в ссылке одно время, потом сгинул, исчез, как привидение. Так Дмитриев рассказал, что он встретил Платонова и тот ему жаловался, что не может писать, что его не печатают, и это было рассказано в присутствии Платонова, который вышел в другую комнату и сказал, что он никогда не видел этого человека и не знаком с ним, и того с позором выгнали.
И.В. – Г.: А вы работали с Крученых?
Н.Х.: Мы дружили сорок лет, бесконечно ссорились и не могли расстаться друг с другом. Очень дружили.
В Италии вышел сборник, где я напечатал воспоминания приятельницы Крученыха Ольги Николаевны Ситницкой. Она передала мне свои воспоминания, чтобы я когда-нибудь их напечатал. Она умерла, и вот я их опубликовал, немножко подредактировав. Там была такая скоропись, я кое-что расшифровал, но они остались неприкосновенны. В предисловии я вскользь пишу о своей дружбе с Крученыхом. Это дневник очень интересный, охватывающий целое двадцатилетие, даже двадцать пять лет. Там и письма ее, и стихи. Ситницкая была поэтессой, даже Пастернак ей что-то милое сказал. У нее был роман с Крученыхом, потом кончился, но это не испортило их отношений. И она до конца жизни ему помогала. Жила она в ужасных условиях, в какой-то деревне под Москвой у своей бывшей домработницы. Я хотел, чтобы Крученых ее прописал у себя, оформил с ней брак, но он не соглашался, так как был очень суеверен. Она была христианка, почитательница Федорова, которого я терпеть не могу. Ее отец был федоровцем, кроме того, они дружили с поэтом Горностаевым, который под разными псевдонимами (Остромиров и др.) писал о Федорове. Я этого Остромирова знал хорошо, меня с ним еще Багрицкий познакомил. Он был потом репрессирован и погиб в ссылке, не знаю, умер своей или не своей смертью. Она была очень хорошая женщина – эта Ольга Николаевна. И вот мне удалось его в Италии на русском напечатать, я хотел дать ее фотографию, но там не было иллюстраций.
И.В. – Г.: Николай Иванович, как вы относитесь к Библии?
Н.Х.: Я читал ее очень давно – это потрясающая вещь. У меня был разговор с Берковским о Гете, и я ему написал в ответ, что библейцы писали лучше Гете.
На меня всегда особенно действовал Экклезиаст.
И.В. – Г.: Вы никогда не приближались к религии?
Н.Х.: У меня была странная история, когда я был студентом. В соборе одесском служил митрополит, князь Ухтомский, и около него носил посох отец Сергий, монах, с которым я не был знаком. У меня с ним был общий знакомый Югов – очень плохой, мерзкий писатель, националист и сволочь, я с ним прекратил всякое знакомство. Я пришел в собор, у меня было очень плохое настроение, и вдруг Сергий подошел ко мне и поклонился, не будучи знаком, – это меня поразило, и я долго был под влиянием этого события. Потом этот Сергий стал безбожником, отрекся от религии. Вот такой был религиозный казус в моей жизни.
И.В. – Г.: Как так получилось, что все пророки остались, а такие люди, как Бунин, Горький, Ходасевич, уехали?
Н.Х.: Ну, вот Ахматова могла уехать и не уехала. Настоящему поэту нужен воздух бедствий, из-за этого она прокляла эмиграцию. Она принципиально не хотела уезжать, у нее стихи есть об этом. А Флоренский даже служил им, он работал в Госплане. Он ездил с Дзержинским в одной машине, и тот отворачивался, когда этот крестился на церкви. Он был, кроме того, удивительный математик, но они его не пощадили, расстреляли такого умного человека, который им служил, потому что принципиально не хотел покидать родины.
И.В. – Г.: Что происходит в сегодняшней России с литературоведением?
Н.Х.: Люди работают, и очень хорошо. Наука никогда не пропадала. Она видоизменялась, с оглядкой на цензуру, то да се, а вообще филологи есть очень хорошие и талантливые.
И.В. – Г.: Что вы думаете о будущем культуры вообще и русской в частности? Или начало XX века закрыло на долгие годы возможность второго взрыва культуры?
Н.Х.: Во всяком случае, второго такого расцвета быть не может. Сейчас кое-кто пытается назвать начало века Серебряным веком русской поэзии. Это миф, выдумка, очень глупая. Это определение принадлежит поэту-символисту Пясту, который применил это к поэтам второй половины XIX века – Фофанов и другие. Это был упадок поэзии, до символизма, после 60-х годов. Были, конечно, явления замечательные, как Случевский, но пушкинский и некрасовский – разночинский – периоды поэзии были сильнее. Он и придумал название: серебряный – это все-таки не золотой. Потом это подхватил Сергей Маковский, который выпустил свои воспоминания в эмиграции. И так как сам он был поэт второстепенный, то перенес это на поэзию XX века, которая была самым настоящим золотым веком русской поэзии начиная с символистов, акмеистов, футуристов и обэриутов, которые состоялись невероятно каким образом, – неслыханный, небывалый расцвет русской поэзии, которого не было даже во времена Пушкина.
И.В. – Г.: В чем невероятность появления обэриутов?
Н.Х.: Осуществилось целое важное течение в русской культуре, а ведь их никто не печатал, самиздата не было, никаких распространений рукописных не было. Кроме Олейникова, самого неинтересного из них, потому что он все-таки юморист, хотя Л. Гинзбург его переоценивала. Он ходил в списках – «Муха» и все такое; прелестные стихи, но он не обэриут был. А они реализовались, несмотря ни на что. Введенский халтурил в детской литературе: ужасные книжки писал, хороших очень мало. Был картежник, игрок, ему нужны были деньги, и он дико халтурил, но не в поэзии. А Хармс, кажется, написал всего шесть детских книг и очень хороших – он не любил этого, но не мог писать плохо. Маршак придумал издавать своего рода комиксы – пересказывать классиков для детей, как, например, Рабле – зачем детям Рабле? Но Заболоцкий пересказал и Рабле и книжку такую выпустил. Маршак был делец и никакой не поэт, и все это чепуха. И вот Хармсу предложили пересказать «Дон Кихота». Я жил тогда у Хармса, он должен был пойти заключить договор. Мы договорились после этого встретиться, чтобы пойти обедать. Я спрашиваю у него: «Ну как, заключили договор?» Он отвечает: «Нет». – «Почему?» – «Знаете, на Сервантеса рука не поднимается».
И.В. – Г.: А что за человек был Хармс?
Н.Х.: Ослепительный! Непредсказуемый волшебник. Я видел многих замечательных людей, но он у меня на первом месте. Он был сама поэзия.
И.В. – Г.: Вы читали воспоминания Е. Шварца?
Н.Х.: Абсолютно не интересно. Евгений Львович был дурак, пошлятина, буржуазный господин. Я вам расскажу про него историю. Он дружил с Олейниковым, они вместе в «Детгизе» работали. Но Олейников над ним всегда издевался, дружески. И вот приехала какая-то актриса, которая пригласила к себе в номер гостиницы Олейникова, Хармса и меня. Олейников говорит: «Надо Шварца прихватить». Евгений Львович был очень польщен – для нас это было чепухой, а он очень любил все такое, он очень хотел пойти с нами в гостиницу. По дороге Олейников нам говорит: «Молчите и не говорите ни слова». У нас все время были разные мистификации, весь этот алогизм был перенесен на быт. Это была бытовая фантастика – с утра до вечера: дразнили, мистифицировали, иногда разговаривали за выдуманных людей. Так вот, приходим, выходит Евгений Львович, на одной щеке еще не смытая мыльная пена. Олейников говорит: «Евгений Львович! Мы никуда не идем, все перенесено». Он даже поперхнулся! «Вы сами куда-то собрались?» Он: «Да, то есть нет, то есть да!» Мы идем обратно, оставив совсем обалделого Шварца, а Хармс начинает разыгрывать Олейникова, уступать ему на каждой площадке дорогу и называть Надеждой Петровной – тот сам был болезненно самолюбив и не любил, когда над ним подтрунивают.
Шварцы были ужасные вещелюбы, собирали фарфор, всякую рухлядь. Хармс очень бедствовал, почти ничего не зарабатывал. Его тетка принесла ему сундучок, который раньше принадлежал ее мужу, бывшему капитану дальнего плавания. Там было много китайских и японских вещей, аметисты в серебре – целый сундучок. И вот к нему пришел Шварц с женой, а он набил мне всем этим карманы и говорит: «Вот видите, тетушка подарила мне, а я подарил это Николаю Ивановичу». А те бесились – по логике, он им должен был что-нибудь подарить; довел их до белого каления.
Сам он был человек бескорыстный, настоящий инопланетянин. Такие люди, как Хармс, рождаются очень редко. Введенский тоже был замечательный человек. Его «Элегия» – это гениальное, эпохальное произведение. Он был непутевый, распутник, безобразник, никогда не смеялся, улыбался только.
И.В. – Г.: А Заболоцкий?
Н.Х.: Ну, Заболоцкий был другой, более рассудительный. Потом их альянс как-то распался. Я помню, он пригласил нас – Хармса, Олейникова и меня – на свое тридцатилетие. А у него была жена, та, которая осталась его вдовой, хотя и бросила его незадолго до того, как он вернулся из лагеря. Она была тогда совсем молоденькая и страшно крикливая – мы ее все ненавидели. Он ее куда-то отослал и устроил такой мальчишник. В доме была только водка и красная икра. Но, когда мы проходили мимо коммерческого магазина, Олейников сказал: «Вот хорошо бы нас на ночь сюда». И мы, напившись, спорили об искусстве. Хармс нарочно называл скучнейшего немецкого художника XIX века (сейчас не помню какого) лучшим художником мира, уверял, что он гений. Все это закончилось дракой. Мы швыряли друг в друга подушками, а потом этот спор об искусстве решили закончить в Русском музее. Утром, после бессонной ночи мы пошли туда, смотрели там Федотова, художников первой половины XIX века. Там был смежный зал с огромным дворцовым зеркалом. Кто-то сказал: «Боже мой, что за страшные рожи!» Я ответил: «Это мы».
И.В. – Г.: Николай Иванович, кто был для обэриутов «главными» поэтами в русской поэзии?
Н.Х.: Главное было – отрицание всей предшествующей поэзии. Они ведь были совсем другие – это алогизмы и вообще совершенно другая система. Хлебникова они, конечно, ценили, некоторые бурлескные вещи вроде «Шамана и Венеры», «Маркизу Дэзес». Я сказал Ввведенскому: «Вы аристократического происхождения, вы происходите от “Маркизы Дэзес”», он сказал: «Да».
Но ближе им был все-таки Крученых, они его очень почитали, особенно Введенский. Он знал, что я дружу с Крученыхом, и попросил его с ним познакомить, сам не отваживался прийти к нему. И вот весной 1936 (?) года мы пошли с ним к Крученыху. Крученых знал, что есть такие обэриуты, но вел себя очень важно, что ему было не свойственно. Но странно, что такой наглец и орел-мужчина, как Введенский, вел себя как школьник. Я был потрясен, не мог понять, что с ним случилось. Введенский прочел не помню какое, но очень хорошее свое стихотворение. А потом Крученых прочел великолепное стихотворение девочки пяти или семи лет и сказал: «А ведь это лучше, чем ваши стихи». И вообще он был малоконтактен. Потом мы ушли, и Введенский сказал мне грустным голосом: «А ведь он прав, стихи девочки лучше, чем мои». Надо знать гордеца Введенского, чтобы оценить все это.
И.В. – Г.: Николай Иванович, за вами не появилось следующее поколение? Потом была пустыня?
Н.Х.: Абсолютная пустыня и в ней отдельные отшельники! Были небездарные люди, в конце концов, что такое искусство? – что рубль, что пятак – были бы настоящие! Пятаки были, их презирать не нужно, но погоды они не делали. Это не было новым течением, а в XX веке все приходило течениями. Были отдельные способные люди.
И.В. – Г.: Распался круг?
Н.Х.: Да ничего не было – был Союз писателей, просто служащие, бюрократизм пронизал все и вся. Оглядки, цензура, да и сами занимались цензурой. Только бы не проглядеть. Талантливые люди были менее талантливы, чем могли быть.
И.В. – Г.: А в шестидесятые годы появившееся новое послесталинское поколение имело что-то общее с вашим по культуре и по таланту?
Н.Х.: Мне кажется, ничего крупного по-настоящему не было, явления не было. Того не переплюнули. Конечно, были люди, которые имели отношение к прошлому и что-то пытались сделать. Были все-таки талантливые люди. Но такого количества стихопишущих графоманов, как в России, нет нигде, и это совершенно часто затемняет картину.
И.В. – Г.: То есть в шестидесятые годы ничего нового не появилось?
Н.Х.: Ничего равноценного тому, что было. Недаром возник такой культ Малевича. Новые должны были отрицать и Малевича, и Татлина – гнать их к чертовой матери! Моя дружба с Хармсом окончательно закрепилась, когда мы были у моего друга Вольпе в квартире Чуковского. Сначала мне в другой комнате Маршак морочил голову, потом мы вышли, и Вольпе мне с возмущением говорит: «Вот Даниил Иванович утверждает, что Блок никуда не годится!» Вольпе занимался символизмом, обожал Блока. Я говорю: «Так что ж вас удивляет? Не отрицая, ничего нового создать нельзя». И Хармс мне подмигнул одним глазом. Так началась дружба.
И.В. – Г.: Так вы считаете, что не только не произошло взрыва, но они взяли на вооружение то, что произошло в начале века, и это окончательно их нивелировало?
Н.Х.: Конечно, но, с другой стороны, это понятно: многого не знали, жажда узнать – в этом ничего плохого нет. Не стали большими поэтами, зато появился целый слой грамотных людей. Ведь вот обэриутов мало знали в их время. Это ведь редчайший случай – реализовалось целое течение, не напечатав (кроме Олейникова) ни одной строчки.
И.В. – Г.: Но на следующие поколения именно обэриуты оказали самое большое влияние?
Н.Х.: Потому что они были последним великим течением, а потом, наше время такое дыр-бул-щирное, что система обэриутов – это эпохальная тенденция. Установка дана, ключ ко времени. А еще раньше – Крученых. Это еще Гиппиус поняла, хотя и ненавидела, и в 17 году написала: «Есть формула – дыр-бул-щир»!
Январь 1991 г., Москва «Зеркало» № 131, 1995 г.На фоне всех ревизий века
Беседа с Эммой Герштейн
Ирина Врубель-Голубкина: Эмма! Во время наших долгих бесед с Николаем Ивановичем Харджиевым в Москве (за два года до их с Лидией Васильевной Чагой трагического отъезда в Амстердам, который сперва планировался как отъезд к нам в Израиль) Н.И., полностью доверяя мне, все же требовал выключить магнитофон и не записывать его рассказ об отношениях с Н.Я. Мандельштам и в связи с этим – с А.А. Ахматовой. Он говорил об этом как о самом ужасном событии в своей жизни. Был узкий круг ближайших людей: Николай Иванович, Анна Андреевна, вы, Надежда Яковлевна и сам Мандельштам, пока он был жив; Николай Иванович был самым преданным служителем этого храма, куда входили друзья и гении начала века, в том числе Хлебников, Малевич, Ларионов. Что же привело Николая Ивановича к полному одиночеству?
Эмма Герштейн: Хорошо, будем говорить об отношениях Н.Я. с Харджиевым. Он упоминался, существовал как ближайший друг, которому она писала, что знакомых много, а родных – только один. Она у него была, когда умер Мандельштам, и описывает как святое, как он за ней ухаживал, как он умел это делать тактично, когда она лежала, пораженная горем. И вот это все стало разрушаться. Чем, почему? Во-первых, она не знала, что ее так повысит в ранге диссидентское общество. А с этим не шутят. Во-вторых, она ему, естественно, поручила издание первого посмертного собрания стихотворений Мандельштама. Заранее было известно, что в нашем советском издательстве полностью он не может быть опубликован. Если кто-то может это сделать, то другой кандидатуры в то время даже в голову не приходило, потому что у Николая Ивановича абсолютный слух на стихи, потому что в последние дни в Москве они у него жили, потому что Осип Эмильевич уезжал от него в этот последний санаторий. И Н.Я. хотела только одного: когда она не могла жить в Москве, чтобы Н.И. или я к ней приезжали. Мы этого делать не могли, нам не позволяли обстоятельства, да и она сама приезжала в Москву. Я ее звала к себе, была переписка, были отношения, с Харджиевым очень горячая переписка, со мной очень ровная – Эмма, Эммочка, своя, и все. Какие тут могут быть счеты. Я была первая, которой она надиктовала это противосталинское стихотворение; что мне еще завоевывать, что я своя в доску – дело решенное.
Ссоры начались, когда приехал по обмену как переводчик из Америки Кларенс Браун. Как говорят, он ничего из себя не представлял как филолог; был учеником Якобсона, славист, перевел «Египетскую марку», написал о ней и на год поехал по обмену в Москву. Естественно, явился к Надежде Яковлевне. И был еще один просто болтун, поляк Ришард Пшибыльский. И они очень заинтересовали Н.Я. Она была, с одной стороны, очень расчетливая и скрытная, с чудесной памятью. Оказывается, она настолько была цинична, что могла десятилетиями помнить, как она меня обманула. Например, у меня была книга Шпенглера «Закат Европы», она вышла в 1923 году, я ее купила. Она имела для меня огромное значение, но, конечно, не такое, какое бы имела для настоящего образованного философа, историка и т. д. Я не доросла до таких вещей, мне не было 20 лет. Потом я подружилась с ее братом, Евгением Яковлевичем Хазиным, по Надиному очень большому содействию. И как-то он у меня взял Шпенглера, я не могла ему отказать. Потом книгу взяли Надя и Осип Эмильевич, потом они мне сказали, что это все мне показалось, моей книги у них нет. Так у меня украли книгу, а она была вся с моими подчеркиваниями. Особенно старалась Надя – зачем? И уверяли, прямо смотря в глаза, смеясь надо мной; вообще это русская история – взяли и не отдали книгу. Прошло десять лет, была война, и немцы пришли в Тверь, где жила Надя, и ее эвакуировали оттуда и очень далеко – она была в Казахстане, потом она была в Ташкенте, и через два года после окончания войны она появилась в Москве. И тут она мне сказала: «Ну, вашего Шпенглера сожгли немцы», – она прекрасно помнила, что десять лет держала мою книгу, которая мне тогда нужна была как воздух. Это характеристика ее памяти. Потом было другое. У меня в «Мемуарах» написано, как меня не пригласил Осип Эмильевич на чтение «Разговора о Данте» у Евгения Яковлевича. Демонстративно. И когда уже Осипа арестовали, Надя мне говорит: «Какое счастье, что вы не были тогда у Жени». Потому что все, что там происходило, было известно. Я потом очень удивилась, потому что записать, что говорили Пастернак, Шкловский и Мандельштам об этом первозданном трактате, – это труд непосильный. А тогда не было стенограмм, подслушивающих аппаратов. Но она так сказала, что «это ваше счастье», и запомнила все, что там было. И запомнила, потому что меня не пригласили специально, демонстративно: Елене Михайловне – жене Хазина – очень хотелось, чтобы у нее в доме был салон: Осипу надо где-то читать, она может пригласить Пастернака и Шкловского – но звать меня? Хотя я себя прекрасно вела бы, в разговорах не участвовала бы – куда там, когда такие тузы! Но было принято решение: Эмму мы не позовем. Но так как Осип Эмильевич – это Осип Эмильевич, во-первых, он мог мне сказать, и Надя могла мне сказать: «Эмма, Осипу нужно устроить чтение», и в конце концов Женя предлагает, Е.М. хочет – все близкие люди, – а я совсем не рвалась, я не должна была участвовать, только сидеть и слушать. Но так было неинтересно, особенно Осипу, он сказал, что его с Еленой Михайловной связывают узы крови. Почему с невесткой узы крови, а как с первой женой Евгения Яковлевича? Смешно, но так было, и это в характере Мандельштама. И Надя все эти истории очень хорошо помнила.
Затем – Харджиев работает долго, медленно, потому что он ищет текст, – ведь это первое издание. А представить публике первое издание – для Харджиева, каким мы его знаем с вами, – это была очень тяжелая задача. Во-первых, потому что Орлов не любил Мандельштама лично, он его как поэта не ценил. Собиралась вся редколлегия этого издания, писали друг другу: можно ли печатать, нельзя печатать, сколько печатать и т. д. Между тем к Н.Я. все время подъезжает Браун, она полюбила этих людей. Они ее соблазняли всем тем, чем соблазнял Запад нашу деревню в те глухие времена. Причем это было даже мило и трогательно. Оказывается, сковородки не надо мыть, а есть такое вещество, которое ей дал Браун, – чистит посуду мгновенно, как приятно. Наконец, он написал своей жене, что живет в общежитии МГУ и там ужасно холодно, и та прислала ему плед, и он подарил Наде американский плед. Самым элементарным образом ей все это импонировало. Потом приезжал Вадим Андреев с женой, и они привезли Наде ярко-красный, мягкий махровый халат – опять это чудо, все балуют, и при этом какие разговоры. Она вместе с тем была очень откровенна, была у нее потребность, чтобы кто-то сидел рядом и слушал о том, что ее волнует, но не ее подлые замыслы. Она говорила мне: «Я скучаю по Брауну, я больше не могу без него». Потом был Морозов, мальчик-античник, там, в университете, была целая порода литературоведческая, которая занималась античностью, – это была высшая категория, все-таки там можно было что-то сделать. Но он был со странностями. Обожал Николая Ивановича. И вот этот Морозов составлял библиографию раннего Мандельштама 10-х годов. Н.И. знал, что он ничего не знает, и давал ему с удовольствием материалы: свои записи, свои карточки, свои записочки, тот переписывает это в картотеку и отдает Н.Я. – это такой симбиоз, и он все перенес туда.
Теперь я дойду до сути.
Н.Я., она постепенно в Брауна влюбилась как в личность, он ее все время уговаривал, что тут не печатают Мандельштама, а Орлов ненавидит Мандельштама и поэтому все время придирался к тексту: зачем это, зачем то – и это длилось 15 лет. Браун сказал: «Зачем вы будете возиться с ними, когда в Нью-Йорке с удовольствием напечатают по вашим спискам». Она про себя подумала, что это гораздо лучше. Поэтому здесь надо всеми силами компрометировать советское издание. Поэтому она и писала эти свои жгучие прокламации, антисоветские. Она считала, что это очень поможет. А Саша Морозов, который очень скользкий человек по природе… Николай Иванович давал ему материалы для картотеки, которую тот составлял, а знал-то все Н.И., всю подноготную. А тот картотеку передавал Наде, а она отдавала Брауну, а он пересылал в Нью-Йорк. Глеб Струве написал Наде, появилась связь какая-то, что он хочет обеспечить Аню Каминскую, так называемую внучку Ахматовой, которую Ахматова страшно любила, бывает любовь старухи к девочке, которая вот-вот станет девушкой. Надька тотчас же написала, что ту не надо обеспечивать. Она дрянь, и ее мать дрянь, это поправило все дела. Так что Аня Каминская тут не получила ничего. Они с матерью до сих пор живут на ахматовское.
И.В. – Г.: Почему же Н.Я. ругала это издание Струве?
Э.Г. Уже можно было. Они уже ей абсолютно стали не нужны. Ее книгу перевели на все языки, она стала очень богатой, очень сильно разбогатела. Она очень была откровенна, она говорила: «А я сейчас хочу денег». Цинична была. «Я хочу денег, и я считаю, что нужно платить». Потом она стала бояться меня как держателя правды. Это уже было в 60-х годах, когда она прославилась. А Кларенс Браун ее соблазняет: что вы будете здесь канителиться, они будут разбирать каждое стихотворение и обсуждать, печатать его или не печатать. Там же есть Глеб Струве и Филиппов, они же вам издадут трехтомник, все собрание сочинений, только дайте ваши списки. И она начинает исподволь компрометировать себя. Так бы еще напечатали Осипа, но когда она ведет так себя демонстративно антисоветски, то они все больше и больше пугаются.
И.В. – Г.: То есть того, что Надежда Яковлевна общается с иностранцами?
Э.Г.: Нет, этого недостаточно, слишком примитивно, она уже выпускает самиздат. Так что печатать Мандельштама все эти просвещенные Твардовские боятся. А ее трогать опасно, потому что с Мандельштамом двусмысленное положение, потому что он погиб в сталинском лагере. Короче говоря, она препятствовала выходу этой книги. Харджиев посвятил текстологии Мандельштама пятнадцать лет, а она упрекала Н.И., что он медлит. Браун был гораздо интереснее без текстологии, и вообще, что это за текстология, какое-то буквоедство. И ей уже надо освободиться от Харджиева. И вот, пожалуйста, Харджиев редактирует ее список. Причем у них полное согласие. Она умела внушить, что они неразделимое: что Надежда Мандельштам, что Осип – это же она писала под его диктовку. И Николай Иванович стал иногда редактировать ее списки. И он решил, что записанные при жизни Осипа Надины списки будут называться автографами, – так Н.И. ей доверял.
И.В. – Г.: Если это ее рукой написано под его диктовку?
Э.Г.: Да, если машинистка печатает, то это одно и то же.
И.В. – Г.: Но Мандельштам потом брал и читал?
Э.Г.: Я сама писала под его диктовку. Он говорил: «Прочтите мне», а потом подписывал. А я однажды сделала ошибку, а он даже не заметил.
И.В. – Г.: Какую, грамматическую?
Э.Г.: Нет, текстовую. Неправильно услышала, а он не заметил. Но это уже другая история.
А вот, например, у нее написано: «вехи дальнего обоза». Николай Иванович говорит: «Нет, не “вехи обоза”, а “дальние вехи для обоза” – вот смысл: не могут быть “вехи обоза”. Вехи – это указатель дороги для обоза, а поэтическим языком это делается так: “вехи дальние обоза”». Как он посмел усомниться в ее списке, а потом, через много лет после ссоры, я видела ее рукой написанный текст харджиевский. Это так и печатается, потому что вехи обоза не могут быть, а в американском трехтомнике напечатано «вехи… обоза» – по ее списку. Второе, очень хорошее стихотворение О.Э. о Сталине, но такое покаянное:
Средь народного шума и спеха На вокзалах и площадяхДальше там написано:
В говорливые дебри вокзала В ожиданье у мощной рекиН.И.: исправляет: «на вокзалах и пристанях» – они ездили, и там везде портреты Сталина, и вот они садятся на пароход на пристани, там не может быть по-другому, и звук «площадь» – это же сливается одно с другим. Как, опять он ее исправил! Она начинает его ненавидеть, он начинает ей мешать – как, она уже не Бог! Но она ему поручила, и он делает так, как надо. Но в это время у нее появились апологеты, последователи, которые повторяют все, что она говорит. Третье, стихотворение Андрею Белому:
Он дирижировал кавказскими горами И машучи вступал на тесных Альп тропы, И озираючись, пугливыми шагами Шел через разговор бесчисленной толпы.У меня неразборчиво написан список. Н.И., мастер читать Мандельштама, читает:
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.Вот ей бы только соглашаться и благодарить, но она уже не может уступить, она потеряет все. Харджиев, оказывается, ее поправляет. Нет, этого быть не может, и они уже ссорятся. А Брауну все равно: во-первых, он русский язык так хорошо не знает, поди разбери – «через – чуя»; во-вторых, она начинает уже всякое на Харджиева клепать.
И.В. – Г.: Кому?
Э.Г.: Мне, окружающим – всем, и Анне Андреевне тоже: «Он, мол, никогда ахматовской поэзии не любил, все Хлебников, Хлебников». А он был влюблен в ее стихи. Она поэт хороший, он ее признавал, но, конечно, она не Хлебников – нет, этого он не уступит, но зато он в нее влюблен. Но Наде надо было все испортить. Она объявляет, что он специально все задерживает, она требует скорей, а он, видите ли, такая архивная крыса, корпит над этим – а надо сдавать в печать! А там не берут, они уже испуганы Наденькой, она только и радуется этому. Потом оказывается, что есть очень много списков, все плохие. Все эти великие литературоведы никак не могут правильно прочитать.
И.В. – Г.: Списки, которые вышли от Н.Я. и потом распространились?
Э.Г.: От нее, а потом уже искаженные.
И.В. – Г.: То есть списки со списков?
Э.Г.: Главный источник – ее списки. А есть, что и по памяти писали. При этом был один эпизод, в котором она была, может, более права, чем я. Это было еще до «вех дальнего обоза». Я ей сказала: «Вот сейчас будет юбилей Петрарки в советской поэзии». У советских была такая манера: когда дело идет о мировом имени один раз в столетие, тогда уж они вытягивают своих лучших переводчиков и иллюстраторов. До этого, например, Фаворский сидел много лет в подвале, а на юбилей вдруг дают иллюстрировать книгу Фаворскому и т. д. Я говорю Н.Я.: «Вот вы покажите, как Мандельштам переводил Петрарку, они не знают, в каком году он умер и где, когда, – это другое поколение. Дайте Петрарку». – «Нет». Потом идет «Чапаев». Великолепное стихотворение:
От сырой простыни говорящая, — Знать, нашелся на рыб звукопас — Надвигалась картина звучащая На меня, и на всех, и на вас.И т. д. И конец там такой:
Измеряй меня, край, перекраивай, — Чуден жар прикрепленной земли! — Захлестнулась винтовка Чапаева — Помоги, развяжи, раздели!Это живая душа, понимаете?
Я говорю: «Дайте “Чапаева”, они услышат, что Мандельштам за поэт». – «Нет, надо Мандельштама давать целиком».
И.В. – Г. То есть надо давать его как лидера антисоветчины.
Э.Г.: Никогда не был. Он, конечно, замечал многое, чего нельзя принять. Но он ни за что не хотел отказаться от идей революции, потому что он был еврей, потому что он ненавидел мещанское общество и потому что он желал обновления и в науке, и в поэзии. Он никогда не хотел вернуться в царский режим. У меня в «Мемуарах» это есть, но я там ничего не объясняла. Он говорил: «Я там ничего не оставил», и это было совершенно искренне. В этом отношении он был, как все. Но не критиковать то, что он видел, он не мог.
И.В. – Г.: Это была интеллигентская невозможность жить в той ситуации?
Э.Г.: Нет, он был проницательнее и пронзительнее и критиковал очень хорошо, убедительно, остроумно, так что это была борьба за новое, за обновленное, и когда была революция, то было ощущение обновления, а то, что Ленин приехал в немецком запломбированном вагоне, ему тогда готовы были простить.
Затем Надя, будучи по существу безграмотной, считала – пусть будет плохим текст, когда-нибудь это станет на место. Для Осипа Эмильевича сказать, что поставили не то слово, – убить человека. В его стихи поставили не то слово! Но она считала, что главное – это сделать Мандельштаму имя, и она распространяла эти списки. В журналах стали появляться публикации и статьи о Мандельштаме: Эткинд, Нагибин, кто угодно – но тексты они путали. Хотя Эткинд, специалист по формальной критике, в поэзии тоже считался очень выдающимся, но зря.
Н.Я. на это пошла сознательно. Н.И. был совсем другого мнения, он считал, что если у Эренбурга сохранился альбом, в который он вклеивал какие-то бродячие тексты Мандельштама, которые совершенно не соответствовали настоящим, структуре стихов Мандельштама, то эти списки надо рвать, уничтожать, чтобы они не множились. Это была его позиция. И сказать, что «он нарушил ватиканский список», – это громкие, ничего не означающие слова. Надо рвать и уничтожать, чтобы у Эренбурга это не хранилось как святыня. Вот тут уж и пошли обвинения. А Мандельштам все не выходит – он пятнадцать лет не выходил.
И тогда Наденька решила забрать у Николая Ивановича мандельштамовский архив. Она уже поняла, что это не та «линия», где ее «назначение» – как она любила говорить. Надо было Н.И. обвинить. А пришло уже совершенно другое поколение, и в нем растерялся даже Николай Иванович, потому что он привык к тому, что или он не печатает совсем, или каждая его публикация воспринимается определенным (может быть, не руководящим) кругом людей, которые дорожат тем, что он делает, ценят, понимают и с удовольствием печатают. И вдруг это все исчезло, распылилось. Он сделал замечательную публикацию в «Декоративном искусстве» о Петре Бромирском – скульпторе, о котором все забыли, потому что он умер рано от тифа. Никто не знал, кто такой Бромирский, но потом оказалось, через пять минут после публикации Н.И., что никто не думал его забывать, все о нем все знали и все его цитируют без Харджиева. Он к таким номерам не привык. Еще вопрос о том, кто делал иллюстрации к «Тарантасу» Соллогуба – Агин или Гагарин. Статью Харджиева напечатали недобросовестно, такое было в первый раз, что-то не поместилось. Н.И. привык к тому, что каждый раз, когда он выступал, это была какая-то сенсация. А тут с ним начинают говорить как с неопытным литератором. Он очень опытный, и с большим именем, и веселый человек, и всегда с кем-нибудь работает – был Гриц, был Тренин – Михаил Матвеевич, который попал в ссылку, у него был отец кулак, что ли, – обыкновенный крестьянин. И их нет, все исчезли.
Все, кто кончили тогда университет, уже советскую филологию, будь то Ника Глен, Юлия Живова, девочки из университета, их сразу берут на работу, им доверяют, они свои, платят зарплату, они работают в учреждениях штатными сотрудниками и не представляют себе другой жизни.
Когда Харджиев начал работать после войны, он был окружен молодыми – Дувакин, Саша Морозов, который Мандельштамом хотел заниматься, и еще были несколько человек. В начале 60-х – Айги. И он каждый раз осекался, натыкаясь на какие-то новые явления, которых он не предвидел. Прежде всего он решил переиздать книгу «Маяковский как новатор» и поставил соавтором Тренина, который погиб на войне. Он был убежден, что это ценнейшая книга – его замечательные наблюдения о Маяковском, а Саша Морозов служил в издательстве «Искусство», и он должен был взять рукопись, везти ее в издательство, как это всегда делалось. Тогда порядок все-таки был по сравнению с тем, что сделалось потом. Я говорю о конце сороковых – начале пятидесятых годов, до смерти Сталина. И вот Морозов приносит эту книгу, в которой есть редкости, изюминка, кажется, Лиля Брик дала Н.И. рисунки самого Маяковского, которые должны пойти на обложку. Что делает нормальная редакция? Бережет это как зеницу ока, ожидает того момента, что это пойдет в переплетную и вообще когда это будет объявлено. Саша Морозов, человек уже другого поколения и другого характера, носит с собой эти рисунки в портфеле и всем по пьянке и не по пьянке показывает в своей компании: вот что у него есть! Это так поразило Н.И., он был в ужасе, это был удар. И этот Морозов обожал Харджиева, потому что Надька его обожала, и он не знал, что будет потом. Вот такой сюрприз. Потом что там было с этой книгой, я не буду говорить. Теперь Надька заявляет: «Знаете, бедняга Н.И., ему же нужна пенсия, Морозов ему поможет». Она говорит Харджиеву: «Почему вы не можете работать над Мандельштамом? Вам что, положение мешает? А вот Морозов не кичится никаким положением, обожает Мандельштама, обожает меня, обожает вас». Николай Иванович начинает становиться желчным, говорит, что его нарочно сажают под форточку, чтобы простудить. Он ощущает свое шаткое положение как представитель сомнительных фигур, таких как Хлебников с его ненужным патриотизмом. И книга «Маяковский-новатор» выходит очень урезанная, но с теми рисунками и потом целиком была напечатана на Западе.
Николаю Ивановичу не верили, его слово было не окончательным, всем заправляли другие люди, негде печатать, не с кем работать. Затем у Н.И. появился какой-то мальчик-почитатель, я не помню его фамилию, у него еще бабушка была. Он тоже был отставлен, неизвестно почему. Потом появился Айги, который поначалу казался очень преданным Н.И. Но все они совершали проступки и были недостойны быть человеком Харджиева. Теперь остаются Дуганов и Радзишевский, которые до последнего дня работают в «Литературке». Н.И. был в восторге от Дуганова – «он замечательный», но постепенно он начинал понимать, что настоящей остроты у Дуганова нет, пронзительности нет, и как текстолог он не вытягивает никак. А потом пошла критика Дуганова как личности: оказалось, что он живет с очень нервной и богатой женой, и это подозрительно, и что это брак по расчету. Н.И. очень ценил его ум, но по существу ему не нравилась его работа. Он недавно умер, Дуганов, и я вспомнила, как о нем отзывался в начальный период Н.И.: он считал его достойным преемником его работы по Хлебникову.
Причем круг его сужался. Один из его друзей-редакторов покончил самоубийством, умерла от болезни Вера Федоровна Румянцева – библиограф Третьяковской галереи, они были связаны работой, и, когда Н.И. узнал о ее смерти, он заплакал. Он презирал Н. Степанова, но все были на стороне Степанова, потому что у него был сын-идиот, это очень печально, его все жалели, но почему ему должны были из-за этого отдавать Хлебникова и всю другую работу, даже Чуковский был на стороне Степанова.
В конце концов, книга «Маяковский-новатор» должна была выйти с предисловием Коварского, работал Николай Иванович, а предисловие Коварского, потому что он ловчее. А Зильберштейн, который был жулик, как известно, был целиком предан этому делу и при полной безграмотности сделал и собрал много вещей. Он был очень тяжелый диабетик, все время принимал лекарства и кололся. Так Зильберштейн дал Харджиеву мелкую работу, чтобы он доработал до того, чтобы мог получать пенсию. А Надя говорила, что Морозов так старается сделать Н.И. пенсию, а Зильберштейн сделал. В то время Н.И. устраивал выставки в музее Маяковского – Чекрыгина, Ларионова, Гончаровой, – но я в этом участия не принимала.
И.В. – Г.: Мы с Мишей Гробманом и Геной Айги помогали ему, у нас даже сохранилась фотография, где мы все вместе. Это были большие события для московской художественной жизни.
Э.Г.: Николай Иванович взял большую картину Чекрыгина у его дочери. Картина упала, и ее прокололо. Н.И. постарался, и ее реставрировали, так что ничего не было заметно. Выставка открылась. И Морозов в беседе с дочерью, владелицей драгоценного полотна, рассказал ей о случившемся раньше Николая Ивановича.
Надя стала требовать у Н.И. назад архив Мандельштама, потом не брала, потом он болел, потом женился на Л.В. Чаге. Он очень болел, у него был инфаркт, и была у него замечательная врачиха-еврейка, и они очень боялись за его ноги. А Лидия Васильевна была на даче, и, когда она приехала, он позвонил мне и сказал: «Вы представляете, Лидию Васильевну забодал бык». Потом клеточка с белочкой, потом хулиганы бросили Л.В. на рельсы в метро.
И.В. – Г. Про белочку я знаю, она прятала орешки в драгоценной книге Ларионова, для этого сделав там дупло.
Э.Г.: Много фантастических историй происходило с Лидией Васильевной. Она завязывала телефон, чтобы Н.И. не мог говорить. Он сам был странный. Он был квартирный склочник.
Пенсию он получил, гонорар за «Маяковского» получать не стал, потому что ему выписали 63 р. Он сказал: «Мне стало противно, и я им ни слова не сказал». Дочь Тренина попросила у него взаймы, не отдала, она и одалживала с намеком не отдать – Н.И. же книгу как бы делал вдвоем с ее отцом. В общем, у него были очень тяжелые времена, когда он почти ничего не зарабатывал, а делал паршивую книгу чуть ли не о Паустовском, чтобы заработать до пенсии.
С ним обращались так. Зильберштейн стал врагом, вытягивал у Харджиева хлебниковские материалы, у него бездна материалов, но ведь это Харджиев и так не отдаст. И ему тысячу раз предлагали заключить договор с «Библиотекой поэта», но он отказывался, не хотел, чтобы Степка (Степанов) писал статью, а сам он статей писать не хочет и не умеет. Во вступительных статьях есть темы, которых надо обязательно касаться, а он ведь эссеист. И за академические статьи он не брался, а со Степкой вместе он не хотел. И он, наивный ребенок, пишет проспект на два тома и отдает его Зильберштейну, а я работала над литнаследством, у меня там все свои, и я спросила у сотрудников, и мне ответили, что у них никогда в плане Хлебников не стоял. Они его просто обманули. А он уже заказывал Коме Иванову материалы для двухтомника и был очень этим вдохновлен, но получил фигу. Потом они с Зильберштейном долго ссорились, потом не виделись, уж очень у них общее поле деятельности было: оба коллекционеры.
А Н.Я. пришла в издательство «Искусство», когда книга о Маяковском еще не вышла, вместе с Сиротинской, заместительницей главного директора ЦГАЛИ, про которую Морозов говорил, что она главная гепеушница, хотя Волкова была главная и не скрывала этого, и подавала руку, как лопату. Н.Я. пришла с жалобой на Харджиева, что он украл архив Мандельштама. Морозов сам мне рассказывал: «Вы не знаете, с каким человеком она пришла». А потом Надя пошла у Харджиева вырвать архив Мандельштама. Сиротинская стояла внизу и ждала. Харджиев ей сказал: «Надя, я ведь вам говорил, что я верну архив по первому требованию». И выдал ей весь архив. И весь ее запал остался неиспользованным. Он немедленно написал редакторше из «Библиотеки поэта», кажется, Исакович ее фамилия, с которой, конечно, у него были лады, она была культурным человеком. Он написал письмо, что произошел скверный анекдот и он ничего больше делать не будет. То есть он ничего прибавлять не будет. А он хотел работать со мною, я ему могла помочь в текстах «Стихов о неизвестном солдате», прибавить что-то. А уже был семидесятый год. И таким образом Надя осталась, как она любила говорить, с раскрытым ртом – это дурацкое выражение, особенно «Осип с раскрытым ртом» – не вязалось как-то. Что делать. Через некоторое время Н.И. получает по почте письмо от Надьки со списком рукописей, которые он ей не сдал. На Н.И. было страшно смотреть, я очень боялась за него. У него не было этих рукописей, потом они у Н.Я. нашлись. И это известно, но она не сказала ему: «Я ошиблась, рукописи все тут». Она сочинила список рукописей, украденных Харджиевым.
И.В. – Г. Бедный Николай Иванович!
Э.Г.: И уже начиналось дело о наследстве Ахматовой. Это уже самый конец 60-х, к семидесятому году. Главных свидетелей было трое – Харджиев, Надежда Мандельштам и я. Ира Пунина нас безумно боялась, и, когда было назначено судебное заседание и мы приехали из Москвы, она распустила слух, что мы не приехали, так что суд не состоится. Это целая была эпопея, там разные были этапы. И тогда я приехала к Наде, а телефонов не было – у всех уже новые квартиры, поэтому я к ней приехала, естественно. Она говорит: «Ваш приезд – это поступок, это поразительно». Я говорю, что поразительного, телефонов нет, а надо поговорить: «Надя! Что вы делаете? Мы будем сейчас свидетельствовать и выдирать архив Ахматовой, а вы объявляете, что Николай Иванович – вор!» А Николай Иванович объявляет, что он не поедет туда, потому что ему могут из толпы кричать: «Вы сами вор!» «А Лева, – говорит Харджиев, – много он понимает в этом, он только что вернулся». Надя отвечает: «Что, мы сейчас же поднимем шум, устроим митинг».
Конечно, Николай Иванович не поехал. То есть он один раз был, но они сорвали заседание, не давали показаний. На повторном заседании меня спрашивали: «Вы подтверждаете то, что сказали в прошлый раз?» Я должна была попросить зачитать мои предыдущие показания, но я не догадалась.
И после получения этого списка, якобы того, что он ей не вернул, Николай Иванович сказал Наденьке: «Вы дрянь!» Она этого забыть не могла никогда! Бабаев же рассказывал всем, «каким дрянцом оказалась Н.Я.» (Бабаев – это «привлеченный мальчик» Ахматовой и Н.Я. из ташкентской эвакуации, Харджиева там не было. Это отдельная история, у меня есть рекомендательные письма, которые Надя писала мне о нем.)
Когда я к ней пришла, мы расцеловались, и, пока она распиналась о благородстве моего прихода, вдруг раздается стук в дверь, входит академик Гельфанд, у нее было их два – один Гельфанд, а другой тоже почти Гельфанд. У нее был круг математиков, физиков, только не по литературе. Они ничего не понимали, зато внимали каждому ее слову. Он приводит с собой 5–7 студентов, они боятся войти – тут такое божество! Я сижу с ней, обсуждаю с ней важнейшие вопросы, я специально приехала – она должна была сказать им, что она занята. Ну, она не может сделать этого, что такое я и что такое дело Ахматовой, когда пришли ее поклонники, которые приседают в реверансах – как им войти, куда уползти. Но в конце концов я помню это ощущение, как я с ней целовалась, очень неприятное, – мы все-таки как-то сговорились наспех, что мы едем все, это святое дело, это, конечно, не рукописи Мандельштама, но А.А. тоже не последнее лицо все-таки.
Когда Н.И. отдал ей полностью архив, она мне позвонила, и я помню полностью то, что она сказала: «Эмма, он поступил… Эмма! Он поступил как мужчина, он мне все отдал». Это был первый звонок, а второй звонок – она мне говорит: «Эмма, он вор, он меня обокрал!» Я говорю: «Надя, вы ведь мне обещали, что вы не будете муссировать это, у нас сейчас другая, очень важная задача». Она отвечает: «Я только обещала, что не буду подавать на него жалобу в Союз писателей». То есть такая грязь, с таким упоением она входила в эту роль! Она спрашивает: «А почему вы его защищаете?» Я ответила: «Потому что он мой друг и он был с вами другом, но если вы будете так о нем отзываться, то я вам не друг». В общем, я с ней поссорилась, и пять лет я с ней не разговаривала. «Он вор», и, хотя она не напишет в Союз писателей, она подаст в обычный суд, как с ворами полагается делать.
Все материалы уже давно были пересланы на Запад, и в Америке вышли три тома Мандельштама – какой есть, такой и издали. Ахматова была очень возмущена, как ее там издали, а Надя счастлива: во-первых, его имя стало известно на Западе, а во-вторых, она получила денежки. Тогда она стала писать свою вторую книгу, ее перевели на 17 языков, и она стала богатой женщиной. Она говорила: «Да, я хочу денег и вообще считаю, что за услуги надо платить». Потом у Харджиева была целая эпопея со Шкловским и комнатой, бесконечная история.
И.В. – Г.: И что она стала делать, когда разбогатела?
Э.Г.: Она стала подкупать людей, которые охотно на это шли. Самые близкие мои друзья меня предавали, говоря: «Смотри, какая добрая барыня Надежда Яковлевна». Такая психология. Она хотела, чтобы люди вычеркнули меня из своей жизни и истории.
Моя ближайшая подруга с гимназических времен Елена Константиновна Осьмеркина пробормотала Наде: «Что вы делаете с Эммой?», но сама тоже сразу замолкла. Что она могла сделать, если Надя водила ее дочек все время в «Березку» и всячески задаривала их?
И.В. – Г.: А как Анна Андреевна относилась к конфликту между Харджиевым и Н.Я.?
Э.Г.: Надежда Яковлевна ее все время подговаривала. А Н.И. уже теперь не тот. У него была история с первым браком с Нарбут. Вообще хватит ли мне жизни все это рассказать? Есть еще история со Шкловским, при начале которой я не присутствовала, тогда я не была с Н.И. знакома, и я тогда спросила Надю; она рассказала, что когда к ней приехала Анна Андреевна, тогда появился Н.И., она распустила волосы, потому что у нее началась мигрень, так как Харджиев без умолку рассказывал, какой Шкловский негодяй. И все-таки А.А. ответила Шкловскому, что она партии Харджиева, чем Шкловский был очень недоволен. И ему было почему быть недовольным. Как он говорил: «Жалоба на неправильно подаренную комнату», а он ее действительно подарил Харджиеву, но не ту, которую тот хотел. Ну, там масса интриг.
Но самая первая моя ссора с Надей, пятилетняя, была тогда из-за постановления о Зощенко и Ахматовой. Наденька сидела в Ташкенте и впервые приехала в Москву, она не могла оттуда выбраться, из Ташкента, там своя история – с ее дипломом, с ее предательством, но это другая история. Из Ташкента первая приехала Ахматова. Это был 44-й год, она была на вершине славы, у нее давно не было такой славы, только в молодости, а там ее опять подняли. Стихотворение «Мужество» было напечатано в «Правде», и все местное краевое начальство было очень довольно – великий поэт, чудесный. Так что она приехала такой барыней, чтобы немедленно выйти замуж за Гаршина, который ей написал письмо (вот это у русских так принято), что жена его умерла в блокаду и теперь он предлагает ей носить его фамилию Гаршин, – и Анна Андреевна согласилась. Можете себе представить – Анна Андреевна Гаршина! И она всем рассказывала, и тогда я поняла, как ее томила эта жизнь с Пуниными. Есть такие вещи, которые сам себе не говоришь, но, конечно, это двусмысленное положение ее терзало. Мне она сказала: «Эмма, я выхожу замуж». Мне это казалось смешным, ей было в 45-м году 56 лет, после всего, что было в ее жизни. Тогда трудно было звонить в Ленинград, и она просила: «Я три года не видела мужа, дайте мне позвонить ему». Когда она приехала на вокзал, он ее встречал, по дамской почте мне донесли, что племянник Гаршина покупал сервиз, чтобы ее принять. А ее сопровождал Адмони, и это уже была установленная в Ташкенте свита. Я думаю, что она всегда была в ужасном, жалком положении, а Гаршин ее поддерживал, был у ее ног. Он ее оставил больной, страдающей художницей. Левы нет. А тут приезжает дама в сопровожении профессора Адмони и переводчицы Сильман. И вот это ее свидание с мужем. Я не знаю, как это произошло, там подготовка была большая, участвовали подруги бывшей жены. И он отпрянул. Он сказал: «Нам надо поговорить. Куда вас отвезти?» Если бы писать пьесу, то она должна была дать ему по морде. Так Анна Андреевна, когда еще была невестой Гаршина, она проезжала Москву и передала мне мешочек из мягкой ткани и сказала: «Это вам от Нади», и там мятые-перемятые рукописи Мандельштама, которые Надя назначала мне хранить. А Лева, с которым я переписывалась тогда и раньше, когда он был на фронте, был арестован, письма, конечно, перлюстрировались, а у него было неприятностей больше, чем я знала. И у меня было недовольное лицо, я сказала: «Спасибо», но подумала, что меня все-таки нужно спросить, она ведь не знала, в какой я сейчас ситуации, у меня умер отец. А.А. спросила: «Что вы недовольны?» А Нади нет, никакого письма я не могу написать, у меня эти рукописи в ужасном виде, у меня квартира в ужасном виде и ничего нет – ни бумаги, ни лупы, – чтобы их разглядеть, но я все-таки кое-как с ними вожусь и начинаю в них влюбляться, естественно. А Надя приезжает в начале лета, в июне 1946 года. Два года у меня эти рукописи лежат. Она приходит с важным видом, она мещанка страшная была. «Я приехала за рукописями». Я ей отвечаю: «Какая в этом срочность? Я над ними работаю». Она говорит: «Ну, тут целая очередь стоит, и дочь Ивича (дочь Ивича тогда была подростком, насколько потом я выяснила). Отдайте рукописи». Я стала говорить: «Оставьте», и все такое. Потом я задумалась, что у меня очень сыро и течет со стен. Надя: «У всех сыро, у всех течет». И она уехала на дачу, на свои деньги, которые у нее были, она там очень хорошо устроилась при помощи поклоняющихся ей друзей, которых она потом обокрала, каждого из них, своих товарищей.
И.В. – Г.: А рукописи она взяла?
Э.Г.: Тогда оставила. Потом выходит постановление. А я работаю над блоковским томом с Орловым в «Литературном наследстве», и, конечно, все обсуждают это постановление, а там не было помещения в редакции, где Орлов и Зильберштейн – высокое начальство – могли бы сидеть и обсуждать это великое событие отдельно, и все обсуждалось при всех, но я как сотрудница не могла вмешиваться. Они говорят черт-те что. Зильберштейн говорит, что Лева – идиот: как он может называть татарское иго благом для России! Макашин говорил, что он мало знаком с Левой, но его хорошо знает его красавица-жена, поклонниками и любовниками которой он очень гордился. А еще там Плоткин, который говорил, что Зощенко такой, Зощенко вообще, и это личная неприязнь Сталина к этому жанру. А при упоминании Ахматовой все опускали глаза: как это, что делать с Ахматовой? Все были в страшном напряжении, а я посоветовалась с Лидией Корнеевной Чуковской, с которой я тогда очень подружилась. Я говорю Лидии Корнеевне, что у меня рукописи Мандельштама, рукописи Гумилева – несколько автографов, ну, и Ахматовой (это я Наде сказала), – она говорит: «Отдавайте, я всегда, когда начинало быть тревожно, выносила все из дома, и Чуковские тоже выносили». Я вызвала Надю, мы с ней встретились на Суворовском бульваре, я ей говорю, рассказываю – да, и вернулся из ЦК Чуковский, а там обсуждалось положение культуры, и сказал, что у него такое впечатление, что Ахматову или уже арестовали, либо арестуют; а я ведь советовалась с Лидией заранее, а тут, когда она это услышала от Корнея, она мне сразу звонит и говорит, что надо сделать то, что вы собирались. Так что я встретилась с Надей на бульваре уже с этими рукописями. Говорю, естественно, взволнованно, как все было и что говорил Орлов, потому что он был в курсе литературных дел. Я ей сказала: «Вы говорили, что у вас есть желающие, очень жаждущие получить эти рукописи, дайте им». Я же считала, что мне притворяться храброй после всего незачем и нечего мне красоваться. И зачем? Я сказала: рукописи не могут быть у меня, это рискованно, их могут забрать, неизвестно, как будет. А насчет Левиных писем, слава богу, у меня все чисто, потому что мои родственники (всегда есть такие непричастные люди) взяли какие-то личные письма от Левы Ахматовой, про Мандельштама они знали, что он автор такого опасного стихотворения, текста не знали, но знали направление этого, что его уже нет в живых, никто не знал. Поэтому я решила, что самое безопасное – это держать у вдовы, которая все-таки не попала в это постановление и которую никто не арестовывал, может быть, по недосмотру.
И.В. – Г.: В те времена не было недосмотра.
Э.Г.: Нет, был. Когда человек, назначенный на арест, уезжал, то за ним не гонялись. Они могли взять другого, им важнее была статистика, чем название человека.
И мы пошли с ней, с Надей домой к Евгению Яковлевичу, который вместе с женой был в Верее, и мы пошли в их пустую квартиру. А потом мы сидели, и она больше и больше злилась, потому что одно дело сказать, что стоит очередь, чтобы получить рукописи, а другое дело – в такой момент кому-то всучить эти рукописи, вообще удастся ли ей это. И она больше и больше злилась, при этом она страшно боялась, что, если опоздает на самолет (бывает, что они вылетают раньше назначенного времени), она опоздает к началу учебного года в вузе, где она работала по протекции местных поклонников, и ее уволят. Поэтому она говорила так: «А у вас разве был когда-нибудь обыск?» Когда я поняла, что она имеет в виду, что, мол, в такое героическое время я испугалась, я молча встала, пошла к выходу.
И.В. – Г.: И пакет ей отдали?
Э.Г.: Отдала еще на бульваре. А она с ним сидит, с этим пакетом, а куда ей его деть? А на самом деле она жила в комнате Евгения Яковлевича, и там его надо было оставить, что она и сделала. А потом она его передала Ивичу, но не все, часть всегда оставалась у Е.Я., и это было самое безопасное место. Она останавливалась там, Осипа Эмильевича уже не было, это ее брат, хранить рукописи наиболее безопасно было там.
Вот я пошла к выходу, а там был длинный, большой коридор московского модерного шестиэтажного дома, высокие потолки, коридор с такими поворотами. Она за мной идет с вытянутой шеей, шепчет она матом, и, когда я открыла дверь, сказала ей: «Ну, Надя, я желаю вам не опоздать на самолет». После чего, я это недавно выяснила по письмам, что она тогда не улетела, не было полета, и она еще несколько дней ждала поезда, за эти несколько дней она успела объехать моих друзей и рассказать, кем я оказалась и что я пожелала ей при выходе, чтобы самолет разбился и чтобы она пошла к черту. Что я ей это пожелала. И что у нее есть чудовищные мои письма, где я писала такие фразы о Лине Самойловне Рудаковой, вдове Рудакова. И что при таком горе я написала, что без Сережи она ничто. А я писала в письме, что Лина говорила, что лучше Сережи никого нет и мама ей чужая. Я очень удивлялась, как за несколько дней Н.Я. успела так меня оклеветать. Когда уже они собирали рукописи о смерти Андрея Белого, Надя одна была, без Осипа Эмильевича, там было какое-то недоконченное стихотворение, замечательное: «Когото привезли? Какой-то гоголь умер / Не Гоголь, так себе, писатель… гоголек» (Э.Г. цитирует по памяти). Она сказала, что это я сожгла со страха целую рукопись, и она говорила, что после обыска она подарила мне этот автограф, который лежал на полу. Все врет, конечно. Что, это был единственный автограф, который мне дарили? Осипа еще только арестовали, он еще был жив. А на самом деле все было по-другому. Когда я действительно думала и беспокоилась, куда мне деть рукописи Мандельштама, Елена, моя подруга, сказала: «Дай моей маме, у нее все сохранится. (Это было в 1946 году.) Мой муж хранит у нее даже порнографию». Потом она вернулась через день-другой и сказала: «Мама боится, она не может хранить Мандельштама не из-за того, что он опасный, а потому что у нее уже лежат рукописи еврейского мальчика, который был меньшевиком, сын ее подруги, потом еще что-то, что она боится назвать, и еще какие-то свертки, так что она боится что-либо еще брать». Я Елене говорю: «Давай мне назад», – она отвечает: «Да я это бросила в унитаз, все равно там ничего нельзя разобрать», и я тогда расссказала Наде об этом. Она сказала: «Вот такие у нас бывают текстологи». А потом, когда Надька писала, что я со страху выбросила этот автограф, который я никогда в жизни не видела, естественно, он не печатался и не переписывался никогда – набросок, и тогда я сказала Лене: «Вот как было дело». Она сказала: «Я?! Чтобы я выбросила в унитаз рукопись поэта? Нет, этого не было никогда!» Но я все-таки написала об этом – пусть верят кому хотят.
И.В. – Г.: То есть подруга предала?
Э.Г.: Но как! И стала обожать Надежду Яковлевну. А Надежда Яковлевна передавала ей все байки о любовных и сексуальных приключениях 10-х годов – те самые, о которых она мне рассказывала в 20-х.
И.В. – Г. И все-таки А.А. открыто не вступала в этот конфликт между Н.И. и Н.Я.?
Э.Г.: Ну, это было невозможно.
И.В. – Г. Н.И. мне с громадной болью рассказывал обо всей этой истории. И все-таки он на Ахматову тоже был обижен, простить ей этого не мог, что она стояла между ними и была как бы объективной. Что она выслушивала все гадости, которые Н.Я. рассказывала ей про него. Что она осталась подругой Н.Я. и как бы поддерживала ее, а Н.И. остался один в этой раскладке.
Э.Г.: Но вообще нет. Они всегда были вместе, у Н.И. Чага была чудовище, поэтому все уже было испорчено. Но дело-то в том, что Надя – она великий провокатор. Ведь она попрекала и Ахматову, и Пастернака, для этого надо быть очень совестливой – «Они все думают одинаково о советской власти. Конечно, Мандельштам был безумный, что он выскочил, а они остались живы». Для таких людей это есть такая загвоздка, и Надя на этом и играла, и она писала им письма: «Можете не ходить к прокурору, из вас никто ничего не сделал для Мандельштама». Сделали все, что можно было, но пожертвовать собой ради Мандельштама? Пастернак гораздо позже рассказывал этой скульпторше, которой никто не верит, считают, что она все врет, не знаю, в это я верю, потому что она сказала очень правдоподобную вещь: что они касались этого вопроса, уже намного позднее, и Пастернак сказал, что это было бы актом самоубийства.
И.В. – Г.: А что за скульпторша?
Э.Г.: Масленникова, какая-то была чокнутая – так о ней говорили другие. Я ее не знала, но темной такой фигурой считалась. Он сказал: «Я не участвую в самоубийстве» – а почему? А Надя и Осип хотели всех-всех затащить. Осип говорил-таки: «Я могу, меня сейчас казнят, а вы чего боитесь? Это же глупо думать – кто вас тронет, от кого вам спасаться?» Прямо не давали жить, это была истерия такая.
И.В. – Г.: Мандельштам, он от нее научился всему?
Э.Г.: Нет, сам. Вот есть у Лукницкого, например, запись невинная, в Крыму они там жили: «Я пошел (куда-то он всегда ходил по делам), встретил Мандельштамов, они в меня вцепились, у меня уже не было никаких дел. За целый день я ничего не сделал». Они его таскали за собой.
И.В. – Г.: Если вы читали мое интервью с Н.И., я его спрашиваю: «Кто великие поэты наши?» – он отвечает: «Великие – это Маяковский и Хлебников, а Мандельштам и Пастернак гениальные, но не великие, потому что эпос нужен». Это была его точка зрения. Вы согласны с этим?
Э.Г.: Нет, не согласна. Я не такой знаток, чтобы так разделять и сказать это.
И.В. – Г.: Он имел в виду не только эпос, он говорил о силе зачинателей. Что гений – этого не достаточно, чтобы указать новый путь.
Э.Г.: Да, да, да. Не признавал акмеизм.
И.В. – Г.: Если бы постановление Жданова было написано не на крови того страшного времени, если бы никому не грозила опасность, если прочитать его, зная, что никто не погибнет и никто не пострадает, – в этом можно найти свое зерно?
Э.Г.: Нет, это многие сейчас думают.
И.В. – Г.: Если сравнить величину Ахматовой с уровнем ее современников, таких как Хлебников, Пастернак, Маяковский, Мандельштам, Заболоцкий?
Э.Г.: Ну, я бы их не сравнивала.
И.В. – Г.: Я тоже не сравниваю, но, когда она стала властительницей умов, она как бы явилась наследницей целого великого поколения.
Э.Г.: Она сама так считала, что она представляет все свое поколение, а лично она себя считала красавицей и что все в нее были влюблены. Дело ведь в том, что очень многие действительно были в нее влюблены.
И.В. – Г.: Вы говорите обо всех этих ленинградских мальчиках?
Э.Г.: Ой, не говорите о них.
И.В. – Г.: Ее присутствие и величие испортили целое ленинградское поколение.
Э.Г.: Их нельзя было испортить, они так родились. У них не хватало таланта.
И.В. – Г.: Из-за этого они сгруппировались вокруг нее?
Э.Г.: Нет. Им повезло просто. Они назывались «ахматовские сироты».
И.В. – Г.: Но вы считаете, что из-за недостатка таланта они сбились около нее в кучу?
Э.Г.: А что произошло? Она осталась абсолютно одна, потеряв все решительно, между Ардовыми и Пуниными, все уже идет к смерти. Архив, авторские права – за это шла подспудная борьба, и очень хорошо придумала Нина (Ардова), но она хороший человек, но открыто практична в нескольких делах, наивно практична. Она говорила, не объясняясь нам, а мы не особенно знали, что интриги она понимает. Это Нина их приблизила, этих мальчиков, это был Бродский и Найман. С Бродским у нее были прелестные отношения, очень хорошие, а с Найманом были отчасти, но в него была влюблена не Анна Андреевна, а Нина Ардова, но я не могу об этом говорить, потому что я дружу с сыном. Но мне по дамской почте донесли, как Толя сидел на коленях у Нины Антоновны, и они выпивали и острили. Я уверена, что это было один раз – эти эпизоды не повторялись.
И.В. – Г.: Ведь наследником должен был быть Лев Гумилев. Почему они делили наследство А.А. между собой?
Э.Г.: Не задавайте мне такие сложные вопросы…
И.В. – Г.: Но это была большая группа людей, которая так заполнила все пространство.
Э.Г.: Ну, мерзавцы, ну, ей-богу! Бродский для меня поэт совсем не великий.
И.В. – Г.: А вы знаете, я говорила сейчас с Игорем Холиным, и он сказал, что есть поэты, которые правильно функционируют и принадлежат к литературной ситуации, академической поэтике, это форма без содержания, сделанные стихи, и называл Брюсова, Бродского, Сапгира, а есть живая поэзия, как Евг. Кропивницкий, Сатуновский, Гробман, например.
Э.Г.: Ой! Холин! Он у меня жил. Нас выселяли, и остался пустой дом, а мне не нашли комнаты. А Наденька мне же покровительствовала тогда: «Надо спасать Эмму!» – я боялась там оставаться одна, и они прислали вместе с Натальей Ивановной Столяровой Сапгира и Холина. Холин был весь напичкан почему-то Верховским, на него очень влиял этот поэт, который ему объяснял, что Пушкин не русский поэт, что он поэт восемнадцатого века – так было интереснее ему. А Сапгир писал там свои эти штучки, и он был высокого мнения о себе, у него, как он думал, была слава, и я ему выговаривала, что он плохо относится к своей гражданской жене Кире Гуревич – теперь она Сапгир, – там были такие эпизоды. Так они там устроили себе бардак в пустой квартире – это было в больнице, где работал мой отец, и я жила там 40 лет. И вдруг все изменилось: другие люди, другие слуги (в больнице), мальчишки шастали по подвалам, выкручивали лампочки. Я вызвала милицию, а Холин и Сапгир должны были меня сторожить – я старая, я больна, я одна. А злой Сапгир: «Почему вы вызвали милицию? Я детский писатель, я не могу гоняться за мальчишками». Потом они сговорились с администрацией. Они набросали мусора, осквернили комнаты, комнаты, в которых умерла моя мать. Нет, я не люблю Холина, его стихи.
И.В. – Г.: Но тот же Холин сказал про Брюсова, Бродского, Сапгира, что они знают форму поэзии, но не чувствуют самой поэзии, нет личного момента поэзии.
Э.Г.: Совершенно верно.
И.В. – Г.: Мне кажется, что Бродский – такой поэт, поэт формы.
Э.Г.: Его Н.И. никогда не признавал. Еще когда у него были первые стихи, он говорил: рифмы стучат, а потом длинные очень. А Надька писала: ну, если запишет что-нибудь Эмма, нельзя верить ни одному ее слову, она не может все не перепутать.
И.В. – Г.: А где она писала?
Э.Г.: Во второй своей книге, которая переиздается даже сейчас.
И.В. – Г.: Я эту книгу читала с немыслимым раздражением.
Э.Г.: А они ей во всем верят, им в голову не приходит, что не я про нее плохо писала, а она про меня.
И.В. – Г.: Да никто ей не верит, истерия того времени прошла.
Э.Г.: Нет, есть люди.
И.В. – Г.: Это ИТР. Новая литературная публика давно ждала, чтобы появилось то, что вы написали. Всеобщее ожидание в воздухе – теперь нужно написать про ахматовскую компанию, приблизиться к Бродскому.
Э.Г.: Эта компания ничего из себя не представляла, компания заключалась в том, что Анна Андреевна не умерла еще и она держалась за то, что само шло в руки. И больше ничего. Вот они пришли, вот они брали кресло и катали ее по искусственному катку в Комарове, и т. д., и т. д. А про Толю она действительно говорила, что он похож на Модильяни. Я его считала смазливым, а не красивым, но тем не менее, когда меня спрашивали, как я отношусь к Найману, до этих его выпадов теперь, я отвечала: «За глаза очень плохо, а когда я его вижу – хорошо». Он Молчалин. Лаевская называла его «еврейский Молчалин». Понимаете? Он умеет подходить. Я тут с ними гуляла, и было приятно, обращение было самое милое, у него есть обаяние.
И.В. – Г.: Мы сейчас встречались с ним в Иерусалиме. Он христианин…
Э.Г.: Да, как же!
И.В. – Г.: И тут приехал в Иерусалим и обнаружил, что евреи действительно существуют, Стена плача, хасиды ходят. И он немножко растерялся.
Э.Г.: А может, он искал другой платформы, его здесь засмеяли с его этим романом. Он погорел, но не у всех.
И.В. – Г.: Он погорел, но прославился.
Э.Г.: А это важнее, но теперь стал сентиментален и пошл. Я отношусь к нему очень небрежно. Они все испортили, очень многое, этой своей назойливостью. Но вместе с тем А.А. очень хорошо сознавала, что им она нужна, а Пунины ее бросали, все обирали, у нее не было выхода. А с Ардовым испортились отношения, с ним лично, с Виктором Ефимовичем, и вообще слишком много людей было во всем замешано – мне нужно писать и писать об Ахматовой. Это дело серьезное.
И.В. – Г.: Когда вы пишете об Ахматовой, вы ее реабилитируете. Ахматова всем надоела.
Э.Г.: Я все понимаю и все знаю.
И.В. – Г.: И то, как вы пишете – Ахматова, Мандельштам, Лева… Мне тоже надоела Ахматова, но после вашей книги я гораздо более осторожно отношусь ко всему этому. Вы читали статью Жолковского?
Э.Г.: Конечно, читала. Он моден стал. У него все это разложено, как пасьянс. Он такой типичный еврей, знает, как выжить, – для этого надо быть всегда на виду. Он печатается всюду и всегда, чтобы никогда о нем не забывали. По отношению к Ахматовой – это жалкий мещанин, он относится к ней как к отставной голливудской актрисе, которая капризничает, задирает нос. Он издевается над другими людьми, про меня пишет, что я, бедняжка, не понимаю, что я для нее горничная, лакейка. Мне придется даже еще написать, если смогу, об истории наших взаимоотношений.
И.В. – Г.: После того как ваши «Мемуары» вышли в свет, вам уже не грозят нападки, так как там четко прослеживается иерархия взаимоотношений в вашей среде. Пускай пишут что хотят.
Э.Г.: Нет, история литературы не так делается, книги забываются. Сейчас она в центре внимания. Пройдет десять лет, все забудут, будут какие-то другие книги. А потом кто-то выцарапает это и скажет: «Боже мой, как мы не понимали, как мы с ней носились», – кто-нибудь такой, как Ерофеев, не Веничка, а второй, новый. И скажут: «Она такая же, как эти, которые таскали к ней боржом, а она капризничала, она даже не замечала, как ею понукали». Вот где истина. Это оставлять нельзя, все нужно опровергнуть. Человек, который будет на стороне Жолковского, таким и останется, но все-таки есть очень интересные опровержения, потому что у меня мемуарный кладезь, у меня столько сюжетов произошедшего, на целую книгу, не знаю, как ее назвать. Может, «Штрихи»?
И.В. – Г.: Я думаю, что это не лучшее название, потому что все, что будет в книге, будет иметь самостоятельное значение, вы еще много там скажете, и жалко ее привязывать названием к предыдущей книге.
Э.Г.: Так придумайте название. Сейчас мне тяжело работать, и законы природы начинают на меня действовать.
И.В. – Г.: Вы знаете, что у евреев срок жизни 120 лет и друг другу все желают жить до 120 лет?
Э.Г.: Ну, может быть, только кто меня будет читать, уже будут другие люди.
И.В. – Г.: А что, вас читали 30 лет и сейчас читают. Нельзя жаловаться на время.
Э.Г.: Да, но Жолковский – такой мещанин, такой мещанин. Ничего не увидел: это Ахматова-то – капризная барыня, о ком он говорит? Это остатки структурализма, остатки тартуской школы. Я их терпеть не могу. Во-первых, это школа компаративистов: это оттуда, это оттуда – ничего подобного.
И.В. – Г.: Вы в своей книге написали, что обо всем можно говорить просто по-человечески. Это очень важное высказывание на фоне общего птичьего языка сегодняшней литературы и литературоведения. Кто возьмет на себя смелость разрешить ясное говорение в наши такие умные и ученые времена?
Э.Г.: Это так сложилось, они напросились интеллектуально, воображения никакого.
И.В. – Г.: Эмма, вернемся к Николаю Ивановичу.
Э.Г.: Николай Иванович был очень умен, и очень уклончив, и очень хороший дипломат. Он очень много рассказывал, как он увертывался, это еще при Сталине, и его вызывали, и он очень смешно себя вел. Его ни разу не взяли, а вызывали как свидетеля говорить о ком-то, я не знаю о ком. Как-то его вызвали, он не снимал пальто, было жарко, он хотел им показать, что он не испугался, и не принес с собой тюремного узелка, и в карманах пальто ничего нет. Это он мне рассказывал с большим восторгом. Он был человеком исключительным и обаятельным, и некоторые его очень отличали. Какой-то человек хотел оказать ему покровительство, но Н.И. пошел, как все, в ополчение. Как бывший одессит, он умел чистить картошку кружочком, и выходила одна линия, с невероятной быстротой, по-одесски. Однажды надо было всем сбежать с холма, довольно высокого, быстро перебежать, там учения были, а он не смог бежать: во-первых, он толстоват, во-вторых, у него был невроз сердца. Что он сделал: он вцепился в шею какого-то солдата, повис у него на спине, тот брыкался, хотел его скинуть, но он, как волкодав, вцепился в него, и тот его снес. Потом, уже гораздо позже, он рассказал мне об этом, что там был какой-то врач, который влюбился в Харджиева и сказал ему: «Знаете, довоюют уже без вас» – и устроил его в психиатрическое отделение. Потом над ним это висело, что он все-таки был в психбольнице. До войны это все-таки была совсем другая эпоха. Он уже бывал в психбольнице, но тогда это вменялось ему в геройство, и Анна Андреевна очень на этом играла, что он такой замечательный человек, что он сам однажды пошел в психбольницу и просил его от чего-то излечить. И, когда у него была грандиозная ссора со Шкловским, А.А. говорила, что в этой ссоре она – партия Харджиева. Что, если человек сам пошел в психбольницу, Шкловский должен был его жалеть, не доводить до белого каления. Но кто кого довел до белого каления, это еще большой вопрос. Там было такое нагромождение, которое требует специального рассказа.
А потом я узнала от Козового, что их (семью Н.И.) бросил отец, и он потому ненавидел отца.
И.В. – Г.: И скрывал свое происхождение, никому не говорил, что он полуармянин-полугрек.
Э.Г.: Нет, говорил, я это знала. А однажды приходит такая женщина, и я была уверена, что это мать Николая Ивановича, а потом выяснилось, сестра.
И.В. – Г.: Он был окружен семьей? Э.Г.: Он их презирал. Не этого брата, нет, у него была жена Симочка, и он по телефону с ней говорил заискивающе, потому что мать там жила.
Он был так привязан ко мне, потом, когда мы делали с ним Лермонтовскую выставку – я же делала ее с его друзьями Суетиным и Рождественским, так он ходил к нам все время, так ему было интересно, – там была я, и все было хорошо, и все видели, что Харджиев со мной все время. И мне сказали: слушай, что ты делаешь, немцы около Москвы, пусть вас в эвакуацию возьмет! И на меня это подействовало, я ему сказала, и он ответил: «Да», но, к сожалению, этим воспользовалась другая женщина. Сима Нарбут. Он обвенчался с нею и повез ее как свою жену.
И.В. – Г.: А как вы уехали?
Э.Г.: Я никуда не уехала, я была здесь.
И.В. – Г.: То есть не пустили вас в высшее сословие.
Э.Г.: Боже сохрани, никогда! А потом там подавали документы, чтобы утвердили старшими научными сотрудниками, так мои потерялись, я была в ужасном положении, и очень долго, а когда и взялась помогать Льву, я испугалась. А.А. заболела, ее положили в больницу. А она больше четырех месяцев боялась отсутствовать в Ленинграде, чтобы не выписали. В СССР ты можешь отсутствовать по месту своей прописки 4 месяца, за этим не очень следили, но она всегда, чтобы не нарушать 4-месячного отсутствия, возвращалась в Ленинград. И тут приходит врач, а Ардовы были такие, которые дружат с персоналом, а поликлиника им не нравилась, но у них были прекрасные отношения с районным врачом, и он ходил к Ахматовой, у которой не было прописки. И врач сказал, что у А.А. предынфарктное состояние и надо лечь в больницу. Представляете себе состояние Ахматовой – ее могут вышвырнуть, спросить о прописке, и она всего боится. Постановление Жданова читается по школам, по больницам, по учреждениям на политических средах. Каждый человек может на нее донести. Потому что могли воспользоваться таким законом. А тут она заболела и попала в больницу, и я спрашиваю у Ники Глен, что же будет, надо посылать посылки Льву и помочь ему. Но, раз уж я сказала, я должна была начать.
А.А. очень боялась своей бесправности в Москве, между тем к ней очень хорошо относился Сурков. Он любил ее как поэта, он, конечно, не пожертвовал бы ничем в своей карьере, но старался для нее. И он ей дал 3000 руб., которые давал Литфонд всем писателям на болезнь, и у нее было чувство облегчения – все-таки начальник выдает на болезнь 3000 р. Она все понимает, что может быть после постановления. Лежит она в палате на шесть человек, никаких привилегий, в городской больнице. Вдруг приходит к ней Ира Баталова, первая жена Алеши, которую Нина Антоновна послала, и, как рассказывала мне Анна Андреевна, стукнула на стол боржом и сказала, что Нина Антоновна сказала отдать ей эти деньги. А.А. страшно испугалась. Значит, Сурков дал ей свои деньги, я получаю от него личную милость, значит, никаких прав нет и ее могут выгнать из Союза. И что это значит? Она испугалась, просила меня немедленно приехать и рассказала мне это. Там же, при соседках, совсем чужих. (Я это описала, но не описала, в чем дело.) У меня была очень тяжелая миссия: поговорить с Ниной Ардовой, к которой я совсем не была близка, у нее было много такого, которое мы не принимали вместе с Надей, это совсем другое.
И.В. – Г.: Такие советские писатели были, истеблишмент?
Э.Г.: Да, да, да. Но мне удалось. Я сказала Нине, что девочек нельзя посылать к ней, она, бедная, испугалась, но очень деликатно я ей это сказала. Нина сказала, что она просто просила денег: у них нет на обед. «Что она их будет держать под подушкой, когда у нас нечего есть».
И.В. – Г.: Но Сурков выдал эти деньги из Литфонда на болезнь?
Э.Г.: Ну конечно, что, ему трудно дать? Он мог согласовать в ЦК, но она очень испугалась, поэтому она меня вызвала в неурочное время. А Жолковский ехидствует надо мной, что я даже не понимала, как со мной обращаются. Если тебе звонит подруга из больницы и срочно просит приехать, ты едешь, а дурак Жолковский строит на этом свой образ. На это надо ответить. Из-за этого я вам и рассказываю, чтобы описать всю полную картину, как на самом деле она дрожала и как она на самом деле держала себя в руках. Там, в больнице, лежала бабушка Олеси Николаевой (такая поэтесса христианская, русская, и талантливая), она была женой или вдовой редактора «Известий» – коммунистка такая, когда кто-то приходил к А.А., она сразу говорила: «Дайте мне судно» – именно из-за того, что пришел человек. Напряженнейшая там была обстановка, всякое там было, там много людей бывало, сами могут рассказать.
Жолковский дает по отношению ко мне абсолютно неправильный комментарий, это подтасовка различных фактов. И он человек уже нового времени, хотя ему уже не 20.
И.В. – Г.: Шестьдесят два.
Э.Г.: Но он пытается переделать это старое время и перенести на новую ситуацию. Эти новые историки, которые думают, что все происходило в сегодняшних условиях и пониманиях.
Я познакомилась с В. Козовым, который страшно любил Николая Ивановича. Лидия Васильевна его терпеть не могла.
И.В. – Г.: Это не так.
Э.Г.: Вы застали их в другой момент.
И.В. – Г.: Нет, я застала их в тот момент, когда они оба ругали Козового, потому что, вы знаете, в те времена думали, что возможности человека, живущего за границей, безграничны. И Харджиев с Лидией Васильевной дали ему какие-то вещи, в частности, они дали ему Митрохина, которого Н.И. никогда не ценил. И Козовой обещал их с кем-то связать и устроить какие-то выставки. А что мог сделать эмигрант Козовой? Он ничего не сделал, и из-за этого они его ругали.
Э.Г.: Да, необязательных людей они ненавидели. Она вообще считала Козового шпионом, кем угодно. А Н.И. говорил: «Мне же надо с кем-то беседовать, я могу говорить только с ним». Лидия Васильевна однажды явилась с палкой, чтобы выгнать палкой Козового.
И.В. – Г.: Они встречались уже в Амстердаме, Козовой к ним приезжал.
Э.Г.: Я это все знаю, потому что я виделась с Козовым, до этого я его не знала, а сейчас мы встретились, и он мне говорил, что он не мог разговаривать с Л.В. и она мешала ему общаться с Харджиевым. А для Н.И. эти разговоры – это была такая отдушина.
И.В. – Г.: Да, это был единственный способ его жизни – разговоры с малым количеством людей.
Э.Г.: Вы говорили, что Л.В. в нем растворилась, – нет, она его оседлала.
И.В. – Г.: Вы же знаете, что Н.И. был человеком невероятной силы и хитрости и что такое около него Л.В.
Э.Г.: Ой, что вы, я знаю.
И.В. – Г.: Конечно, познакомились мы с Л.В. через Н.И., и друзья мы были его. Она раскручивала то, что он ей бросал, ее агрессия была задана его агрессией.
Э.Г.: Все так, но там были свои фатальные причины.
И.В. – Г.: А какие причины?
Э.Г.: Я не могу вам сказать об этом.
И.В. – Г.: Вы не знаете?
Э.Г.: Именно что я все знаю. И даже не знаю, но я догадываюсь.
И.В. – Г.: Какие-то личные, сексуальные…
Э.Г.: Сексуальные. Он был человек с причудами.
У него был приятель Рояк, ученик Малевича, художник, который предал это искусство, женился на врачихе. Врачиха лечила Н.И., подавала советы, Рояк служил Харджиеву, обожая, ему служил. Когда он жил на Кропоткинской один, до Л.В., у него совершенно сгнили рамы окна. Я ему говорю, что сейчас совершенно легко это починить, я, например, сама заказываю в «Заре», и они мне заклеивают, все делают. «Нет, ни в коем случае, Рояк – он мне делает». Это был избранный человек, потому что он все-таки был ученик Малевича. И потом Рояк написал картину, как в клетке какой-то сидит, сжимая кулаки, Н.И. Она воспроизведена в двухтомнике Харджиева. Потом картина эта исчезла, она была у Н.И., я ее видела. Но это уже другая история, как они меняли квартиру и у него исчезли картины, когда они переезжали с Кропоткинской. Это была целая эпопея: там исчезли картины, я боялась, нельзя спрашивать. Я была уверена, что он их отдал вот этому шведу Янгфельду, который девять лет его обхаживал, но как! А потом Николай Иванович обвинил его в том, что он якобы унес у него целую коллекцию и воспользовался его материалами. Дело в том, что Янгфельд издал книгу.
И.В. – Г.: Харджиева?
Э.Г.: Нет, свою. А об авангарде он все знал. О ужас, нож в сердце! Якобсон написал ему предисловие. Якобсон, который считал, что это «кража века», и написал ему предисловие – он чуть не умер, Николай Иванович. Это действительно страшное предательство. Потом вскоре Якобсон умер, и к Н.И. приехала его вдова разговаривать, я ему говорю: «Как же так?», а Харджиев говорит: «Не вмешивайтесь». Вдова у него была несколько раз, и Н.И. что-то простил Якобсону. А раньше было так: Якобсон едет в Великий Новгород, ему подают машину, и он берет с собою Харджиева, и вообще, первое лицо для каждого из них – это Н.И.
Вдруг оказывается, что другие – первые лица. Вдруг он увидел, что Рояк – пошляк и что он подхалим, Рождественский и Суетин, особенно Рождественский, – тоже пошляки и что у него нет ничего общего с Рождественским. Сначала они еще гуляли вместе, они жили очень близко, а потом совсем нет. А Рояк подхалимничал перед Рождественским. В общем, он остается без людей.
И.В. – Г.: Круг распадается?
Э.Г.: Затем остаются вдовы. Ну, что такое вдова? У них есть картины – Эндера у одной, Малевича, Матюшина – у другой, и была еще одна, и к ним подбирается Жадова, ну, это же темная личность, а что такое Симонов-разведчик, и всякие пошлые люди соблазняют этих вдов изменить Харджиеву, потому что он требует от них твердости, стойкости, и он остается один, они его все предают.
И.В. – Г.: Это семидесятые годы?
Э.Г.: Это уже семидесятые годы. Потом он все-таки написал об Эндере что-то хорошее, когда Н.И. умер, здесь напечатали. Но то, что выходило за рубежом, я этого уже не видела, Харджиев это все скрывал.
И.В. – Г.: В Швеции у него вышла в 70-е книга.
Э.Г.: Этого я уже не видела.
И.В. – Г.: Почему он скрывал?
Э.Г.: Это было в характере.
И.В. – Г.: Но вы были близким ему человеком?
Э.Г.: Да, я ему была очень близка, но оказалось – и тут все-таки эмоция была нехорошая. Вы знакомы с Володей Глоцером?
И.В. – Г.: Я из глоцеровского хедера – был такой литературный кружок в библиотеке Чехова, – я туда ходила. Вообще он хороший человек.
Э.Г.: Да, конечно. Так вот, Глоцер писал про меня для литературной энциклопедии заметку, которая занимала там всего полпараграфа, и писал он ее целый год. Он написал, что у меня есть открытия, написал основные мои черты. И вдруг Н.И. пришел в бешенство: так не пишут в академических словарях, ничего не нужно, это справочные издания – то есть ревновал безумно. Да, я была поражена, он должен был бы радоваться, вместо этого позавидовал. А потом он мне сам говорил: «Почему-то к вам все относились как к чему-то низшему». Я не доросла, значит, ни до Харджиева, ни до Надьки. Вот они все такие, а я – ну что ж, без меня нельзя, потому что у него бывали жуткие состояния. Но тогда – как он был красноречив, как он меня уговаривал, чтобы я к нему приехала на другой конец Москвы! «Вы знаете мою надменность, вы знаете мое высокомерие – я вас умоляю», у него тоска была, такой невроз. Надо было к нему ехать, он не мог без этого. Но сознаться, что я ему нужна очень, – ни за что, никогда. И однажды он мне сам сказал: «Я думал, почему все так к вам относятся?..» А я была скромна, между нами говоря.
И.В. – Г.: Видно по книге, что вы единственный нормальный человек среди них.
Э.Г.: Даже по фотографии видно. Когда я снималась вместе с Анной Андреевной и Надькой. Там есть такая группа, так они гранд-дамы и ведьмы, я-то знала, что они ведьмы.
И.В. – Г.: Эмма, у Н.И. все-таки были святые – Хлебников, Малевич, Ларионов, – он мне говорил о первой тройке русской: Малевиче, Татлине, Ларионове. А Ахматова была у него на положении святой?
Э.Г.: А он был в нее влюблен, так и был в нее влюблен всю жизнь.
И.В. – Г.: Мне всегда казалось, что это было игрой их жизни, но, когда появилась Н.Я., это уже перестало быть игрой, но с какой злобой он обо всем этом мне говорил, об их отношениях.
Э.Г.: Он имел все права. Абсолютно был прав. У нее, Н.Я., самая потрясающая черта (я не понимаю, откуда это у нее) – это подлость. Самая обыкновенная вульгарная подлость.
Теперь вот так. Я выпустила книгу в Париже, она перепечатана в первой части моей сегодняшней книги. Но сейчас там исправлено много опечаток и ошибок. Действительно, у меня были недопустимые ошибки. Хорошо, что у нас читатель мало на что обращает внимание. Но Н.И. все это заметил. Он мог мне написать: «Что вы за бред пишете – назвали такого-то так-то, вместо Аксенова – Оксенов». Я в этом не разбиралась, но кое-что я сама поняла. Он выдумал себе Бабаева, он с ним дружил, это был почти последний собеседник. Бабаев – это был мальчик в Ташкенте, ему было четырнадцать, когда там появилась вся военная эвакуация. Ахматова, Надежда Мандельштам – они его приветили, и потом он оставался их человеком. За это время он кончил университет, и работал все время в МГУ на факультете журналистики, и только недавно умер в 70 лет от сердечного приступа. Так Н.И. его избрал, т. к. ему было неудобно печатать письма Ахматовой к нему, а вот пусть Бабаев напечатает. Это публикация в «Вопросах литературы», хорошая публикация. Кстати, о том, что они встретили Леву Гумилева в поезде, написал сам Харджиев очень хорошо, он вообще хорошо писал. Так Н.И. с Бабаевым прислал мне письмо запечатанное, что он считал абсолютно неприличным, это были уроки Ахматовой, что нельзя давать запечатанное письмо для передачи, а тот, с кем передают, должен сам запечатать, не читая. Считается, что нужно делать так. И Н.И. знал, как нужно, но не пожелал, а запечатал письмо и попросил Бабаева мне его передать. Такое ругательное письмо насчет моей книги. Это давно было, книга вышла в 1986 году, была очень замолчана, а я ее стеснялась из-за Н.И. – может, плохая. Ошибки там были действительно, а он меня, значит, тоже проклял. И вот, когда недавно я встретилась с Козовым, после того как Козовой был у Н.И. в Амстердаме, уже после его гибели, о Козовом я знала только, что его надо выгонять из дома. Он мне сказал: «Ну, подумать только – если Н.И. уже Эмму проклял, то куда же еще?!» Он не должен был даже знать обо мне, а я о нем не знала, то есть только слышала историю о палке, которой надо было его выгонять. А Козовой больше ничего сказать не мог, он ведь мужчина. Я потом у него спрашиваю: «А что же говорил Н.И. обо мне?» Он говорит: «Доброжелательно». Но что мужчина вообще может рассказать?..
И.В. – Г.: Мы говорили с Н.И. только об искусстве и культуре, ничего про жизнь, но он был немыслимо озлоблен, он ни о ком не отозвался положительно, ни об одном человеке не сказал хорошо. Из-за этого он уехал, из-за этого он погиб. Несмотря на свою слабость, он был очень крепким человеком, на минимуме можно очень долго жить. Если бы он не уехал, он еще жил бы.
Э.Г.: Да, это ужасная история, что он умер так.
И.В. – Г.: Я не могу себе простить, что мы тогда в Амстердаме не вызвали полицию. Они позвонили нам в Кёльн, жаловались, что находятся в ужасном положении, и просили приехать. Мы приехали по их просьбе из другого города, из другой страны, звоним, стучим, и нам не открывают. Нам было это очень подозрительно, но, зная их, мы подумали, что Н.И. и Л.В. затаились, у них против нас возникла какая-то беспричинная паранойя и это какие-то инсинуации с их стороны. Мы же знали, что Н.И. может придумать все что хочешь, и Л.В. тоже. И вместо того, чтобы пойти в полицию и сказать, что что-то не в порядке, мы, зная их, не поверили сами себе, хотя это все пахло очень нехорошо. Может быть, если бы мы обратились тогда в полицию, мы могли бы спасти их от страшной гибели.
Э.Г.: А как она умерла, этого никто не знает.
И.В. – Г.: Говорят, что она упала с лестницы. Правда, она, помните, здесь разбила руку. Она падала.
Э.Г.: Еще бы я не помню! Она еще выдумывала. Причем самое поразительное, что из выдуманных историй, которые повторял Н.И.: у них не было лифта одно время на Кропоткинской, у них был ход через чужой дом, чужую квартиру, и наверху над ним жили, по его мнению, бандиты, а рядом – райком партии. Так эти бандиты отравляли их жизнь, и то, что он рассказывал и говорил, было абсолютно патологично. История такая, что Л.В. спускалась с лестницы и они хотели ее убить, бросая балки в пролет лестницы, причем балка не могла задеть ее, она в пролет попадала. Это могло быть и не быть. Но меня это поразило, что она именно с лестницы упала.
И.В. – Г.: Я видела этот дом – там три этажа, и все состоит из лестниц.
Э.Г.: Надо было выбрать такое!
И.В. – Г.: Эмма, вы еврейка, и Мандельштам, и Н.Я. – это был еврейский круг. В отличие от нас, возникших из грязи советских 40 – 50-х, перед нами было все вытоптано, все вы сидели в своих углах, а мы учились в советских школах, мы не знали, что такое еврейство, мы самообразовались и сами себя воспитали абсолютно на пустом месте. Вы же из чего-то происходите: еврейство семьи, традиция, а потом еврейское общество.
Э.Г.: Ну, не совсем, но близко к тому, о чем вы говорите.
И.В. – Г.: И вы никогда себя не связывали с этим, знаете, есть такая затасканная строка Кнута: «еврейско-русский воздух»?
Э.Г.: Нет, слава богу, нет.
И.В. – Г.: Ну, есть же такое еврейское включение, как вы пишете, как вы ходите. Посмотрите на последышей Ахматовой – они все тоже евреи.
Э.Г.: Ее за это третировали. Она вообще любила евреев. Это специальная тема, и, может, мне удастся об этом написать.
И.В. – Г.: Или то, что пишет Лев Гумилев, такое жуткое отрицание еврейской энергии.
Э.Г.: Ну, он антисемит.
И.В. – Г.: Ну, если есть что-то «анти», должно что-то существовать – такое мощное культурное влияние еврейского темперамента: сам Мандельштам, Надежда Яковлевна, вы, которая все понимала и принимала, вы жили, любили своих друзей, вы оказались в состоянии их судить, вы сохранили чистое сознание. Ахматова превратилась в гранд-даму.
Э.Г.: Ни во что она не воздвиглась. Это все выдумки. Ее так поставили, она этим пользовалась. Ничего. А ее так называемая внучка была дикая стерва, и они ее эксплуатировали и бросали на чужих людей. А вот она и не пропала. Вот они все здесь. Бродский ее очень любил, тогда еще не критиковал, не сравнивал Цветаеву с Ахматовой.
И.В. – Г.: Я считаю, что это фигуры абсолютно неравноценные. Насколько Ахматова все-таки потрясающая поэтесса. Цветаева тоже хорошая поэтесса…
Э.Г.: Но она графоманка.
И.В. – Г.: В русской поэзии даже пятая ступень тоже очень хорошая. Русское графоманство тоже очень хорошее.
Э.Г.: Ну конечно, она очень сильный поэт. Ее же отрицал в конце концов Мандельштам, и он говорил, что она не умеет писать народные, русские стихи, что она неправильно с этим обходится.
И.В. – Г.: Эмма, вы живете на пенсию?
Э.Г.: Нет, на две. «Литературка» выдвинула меня на президентскую пенсию, это роскошь по нашим сейчас средствам, а я получаю в десятикратном размере от самой маленькой пенсии.
Кроме того, я продала свою квартиру, после моей смерти они ее получат, и они мне платят помесячно. Один раз я это уже сделала, и они меня надули, целый год я не получала ничего, и они не хотели расторгать, думали – помрет и комната будет наша.
И.В. – Г.: Когда я приехала к Н.И., они жили страшно. Они сидели на невероятных сокровищах и жили в страшной убогости и в грязи, потому что они боялись за сокровища. И эта идея отъезда от этой жуткой нищеты и возникла. Они хотели жить нормально.
Э.Г.: Самые ужасные для меня времена – это было начало 50-х – конец сороковых: борьба с космополитизмом. Меня отовсюду выгнали, все зависло в воздухе. А евреи пали уже настолько, что Зильберштейн побоялся дать мне справку. Он меня выгнал из «Литнаследства» по интриге одной любовной, и он давал мне каждый год справку, и я кем-то числилась. А последний раз, когда уже было известно, что евреев будут просто выселять, он сказал: «Я не могу вам дать справку. Я боюсь». Я удивлялась, как я буду жить, даже не имея такой справки, а мне объяснял Файнберг, мой соученик, блестящий пушкинист, что ничего уже не важно, он знает, что строятся лагеря для евреев. Надя свела меня тогда со своим братом Евгением Яковлевичем Хазиным, мы говорили о нашем плачевном положении, его тоже отовсюду погнали. Мне написали рекомендательные письма, на которые никто не обращал внимания, в которых говорилось о моих заслугах: работы о Лермонтове, о «кружке 16», о котором была известна только одна фраза, я многое нашла – у меня были открытия. Прочитав рекомендации, Евгений Яковлевич, «мой сдержанный брат», как звала его Н.Я., стукнул рукой по столу и сказал: «У меня тоже есть заслуги». Я была поражена. У нас в семье было много детей (два брата и сестра), надо мной всегда издевались, говорили, что у меня некрасивый нос. Я привыкла к тому, что на меня все махнули рукой – «она ни на что не способна, из нее ничего не выйдет». И правда, я никогда не могла служить. Но все-таки заслуги были. А потом на Евгения Яковлевича обрушился потолок, все обвиняли его жену, что она послала поставить таз под текущий потолок. Там все сгнило, провалилась балка. С тех пор Евгений Яковлевич стал инвалидом, и получал пенсию от домоуправления, и очень этого стеснялся, и это скрывалось. И вот однажды он лежал в больнице, и меня изволили впустить. Елена Михайловна, жена его, сидела тут же, и они говорили друг с другом таким дурацким тоном, что я не могла там сидеть. Они флиртовали, что он ревнует ее, а она ревнует его, – невыносимо для меня совершенно. И не давала мне с ним разговаривать. И тогда он опять мне говорил: «А Фадеев сказал, что я талантлив». Боже, как это меня ранило, а я об этом совсем не думала, талантливая я или нет, а вот что есть заслуги, это я знала. Меня обкрадывали, сокращали.
И.В. – Г.: Н.Я. написала эту свою книгу, которая сделала эпоху.
Э.Г.: Да, сделала эпоху.
И.В. – Г.: Это важней, чем «Оттепель» Эренбурга, гораздо более высокий уровень, и Мандельштам, и вся ситуация. Почему вы более 20 лет молчали, почему именно сейчас напечатали?
Э.Г.: Не смогла, у меня были свои причины, у меня был стимул личный, так бы я не смогла. И еще во мне произошла перемена, меня очень раздражил Лев Гумилев своими ужасными книгами.
И.В. – Г.: Но вы знаете, вы его каким-то образом реабилитируете в своих мемуарах. Я ужасно к нему относилась, с громадным трудом заставила себя прочитать то, что он написал, он меня раздражал. После ваших «Мемуаров» стала к нему относиться на человеческом уровне гораздо лучше.
Э.Г.: Я очень рада, это очень хорошо, но слушать его по телевидению я не могла. Это немыслимо, что он говорил. И все-таки я очень дорожу тем, что он охотно надписал мне последнюю книгу, надписал «Милой Эмме», все-таки я осталась для него милой Эммой.
И.В. – Г.: Он должен был вам памятник поставить, вы его по-человечески реабилитировали.
Э.Г.: Я больше того сделала, я его спасла, он умер бы, если бы я его не пестовала. Но они не понимали того, что я это делала не только для Левы, но и для Анны Андреевны.
И.В. – Г.: Это ясно совершенно из этой книги.
Э.Г.: А вот такие дураки, которые написали: «Бедная Эмма, которая всю жизнь страдала от неразделенной любви», – какая это все пошлость, а считается у них замечательным рецензентом.
И.В. – Г.: Но и Ахматову вы показали совсем по-новому.
Э.Г.: Ну, об этом я еще напишу. А.А. пользовалась тем, что ей было дано.
И.В. – Г.: Она писала презрительно про эмиграцию, была высокомерна к своим братьям, в общем-то, к Георгию Иванову, Адамовичу.
Э.Г.: Была высокомерна. Да они ничего не стоили. Иванов такие воспоминания глупые написал.
И.В. – Г.: Но стихи у него есть хорошие.
Э.Г.: Она это признавала. Вот что такое Ахматова. Николай Иванович слушать о нем не хотел, а она говорит: «У него есть, в последних стихах есть». Поэзию она не сдавала. Это сложно – Ахматова, но мне есть что сказать.
И.В. – Г.: Это важно сказать. Воздвигся культ Ахматовой, хотела она этого или не хотела. Это сделали Н.Я., или Мандельштам, вы, или Харджиев, или кто-то другой – и она сама. Но вокруг нее создался круг людей, которые, пользуясь именем Ахматовой, омертвляют русскую поэзию, это падение – то, что они делают.
Э.Г.: Ну, это дураки, и она прекрасно знала им цену, правда, к Толе Найману она была неравнодушна.
И.В. – Г.: Ну конечно, он красивый был.
Э.Г.: Абсолютно некрасивый, он смазливый. И он сидел на коленях у женщин, и старшая женщина была вовсе не А.А. – Нина Антоновна, мать Ардовых. Он сам это знает, но написать об этом я не могу.
И.В. – Г.: А как вы относитесь к Бродскому?
Э.Г.: Как к поэту – никак, я на него не реагирую. «Жуков» – вот единственное, что мне нравится, и в прозе – «Полторы комнаты». Я просила Рейна об этом сказать Бродскому, он мне сказал, что он передал и что Бродский сказал, что он меня никогда не забывал. Меня это очень тронуло: «Я ее никогда не забывал». Это прекрасная повесть, очень теплое воспоминание. Сейчас культ Бродского, но тогда они его действительно любили.
И.В. – Г.: Но в шестидесятые консенсус был не относительно Бродского, а Станислава Красовицкого.
Э.Г.: Я знаю только фамилию. Куда он делся?
И.В. – Г.: Он ушел в религию, перестал писать стихи. Сейчас он священник русской зарубежной церкви, а теперь пишет какие-то просветленные стихи. В них все еще чувствуется сила классического Красовицкого 50 – 60-х годов.
Э.Г.: Как Аверинцев, он стал писать богословские стихи – так предать культуру, он же великолепно мыслил, великолепно писал. Но в последние 10 лет у меня был очень большой толчок, у меня был интерес, и я выпустила эту книгу.
И.В. – Г.: Это очень важно, и произошло это на фоне всех ревизий конца века, вы оказались тем человеком, который мог сказать это слово.
Э.Г.: Но тут имело место личное, невозможно писать в пустом пространстве.
Январь 1999 г., МоскваКОММЕНТАРИИ
Владимир Григорьевич Адмони (1909–1993) и его жена Тамара Исааковна Сильман (1909–1974) – литературоведы, филологи, профессора ленинградских вузов; оба – специалисты по теории немецкой грамматики и стилистики; переводчики и теоретики перевода (см., например, их совместную работу «Томас Манн. Очерк творчества». Л., 1960). Друзья А. Ахматовой и М. Петровых. В.Г. Адмони – один из защитников И. Бродского в годы гонений на него.
Вадим Леонидович Андреев (1902–1976) – старший сын Леонида Андреева, писатель, поэт. Жил во Франции, участник французского Сопротивления. В 60-е гг. несколько раз приезжал в Советский Союз и посещал (вместе с женой Ольгой Викторовной) А. Ахматову.
Эдуард Григорьевич Бабаев (1927–1995) – историк литературы, поэт, мемуарист.
Владимир Георгиевич Гаршин (1887–1956) – патологоанатом, профессор Военно-медицинской академии; племянник писателя Вс. Гаршина. Об отношениях между А. Ахматовой и В.Г. Гаршиным см.: Л.К. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. Т. 1. М.: Согласие, 1997; Ю.И. Будочко. История одного посвящения // Русская литература. 1984. № 1; Зоя Томашевская. «Я – как петербургская тумба…» // Октябрь. 1989. № 6; Ольга Рыбакова. Грустная правда // Звезда. 1989. № 6; Владимир Адмони. Знакомство и дружба – «Воспоминания».
Ника Николаевна Глен (р. 1928) – переводчица (болг. яз.), нек-рое время сотрудница одной из редакций издательства «Художественная литература»; близкий друг и литературный секретарь А. Ахматовой (с 1958 по 1963 г.); автор воспоминаний об А. Ахматовой, с мая 1988 г. – секретарь комиссии по литературному наследию Анны Ахматовой.
Виктор Дмитриевич Дувакин (1909–1982) – литературовед.
Юлия Марковна Живова – переводчица (польск. яз.), сотрудница одной из редакций издательства «Художественная литература».
Илья Самойлович Зильберштейн (1905–1988) – литературовед, коллекционер, один из основателей «Литературного наследства».
Вячеслав Всеволодович (Кома) Иванов (р. 1929) – лингвист, литературовед, переводчик, мемуарист, киновед. Осн. научные труды посвящены сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков, хеттологии, славянской мифологии, общей семиотике, математической лингвистике. Член-корреспондент РАН, член-корреспондент Королевского общества Великобритании, АН США и др. научных учреждений мира. Преподавал в Университете Лос-Анджелеса и в Стэнфордском университете.
Александр Ивич (Игнатий Ивич-Берштейн) (1900, Хабаровск) – писатель, литературовед.
Николай Аронович Коварский (1904–1974) – критик, кинодраматург.
Владимир Маркович Козовой (1937–1999) – поэт, переводчик, эссеист.
Сергей Александрович Макашин (1906, Казань) – литературовед, один из редакторов «Литературного наследства».
Нина Антоновна Ольшевская (Ардова) (1908–1991) – актриса, режиссер; жена писателя Виктора Ефимовича Ардова; близкий друг А. Ахматовой. Э.Г. Герштейн посвятила Н.А. Ольшевской специальную работу, включающую в себя и письма Ахматовой, и воспоминания Нины Антоновны (см. сб. «Воспоминания об Анне Ахматовой» – М.: Советский писатель, 1991).
Владимир Николаевич Орлов (1908–1985) – литературовед, специалист по истории русской литературы конца XVIII – начала XIX в., поэзии начала ХХ в.; под его редакцией выходили многие собрания сочинений А. Блока, он является одним из редакторов блоковского двенадцатитомника и восьмитомника; с 1956 по 1971 г. – гл. ред. «Библиотеки поэта».
Лев Абрамович Плоткин (1903, Гомель) – литературовед, критик.
Ришард Пшибыльский (Ryszard Przybylski) – польский специалист по творчеству О.Э. Мандельштама, автор книги «Аркадия О.М.».
Николай Леонидович Степанов (1902–1972) – литературовед; специалист по творчеству В. Хлебникова и В. Маяковского.
Наталья Ивановна Столярова (1912–1984) – род. в Италии, получила образование в Париже; в 1934 г. приехала в СССР, была арестована в 1937 г. В 1956 г. вернулась в Москву, работала секретарем у И.Г. Эренбурга; отдельные факты из ее биографии вошли в «Архипелаг ГУЛАГ», см. специальную главу о ней в «Очерках литературной жизни» А.И. Солженицына. Ефим Григорьевич Эткинд (р. 1918) – специалист по французской и немецкой литературе, теоретик и практик художественного перевода, профессор русской литературы (университеты: Сорбонна, Нантер). Эмигрировал во Францию в 1974 г.
«Зеркало» № 9 – 10, 1999 г.Вертикаль солнца и горизонталь пустыни
Беседа со Станиславом Красовицким
Ирина Врубель-Голубкина: Когда я вышла из младенчества – Пушкин и все такое – и в свое шестнадцатилетие познакомилась со всем нашим кругом, первое, что я услышала от Миши Гробмана: что существует у нас гениальный поэт – Стась Красовицкий. Была атмосфера всеобщего почитания и личной тайны при произнесении твоего имени. И меня всегда интересовало: как такой мальчик мог появиться в советской семье?
Станислав Красовицкий: Не совсем такая была у меня биография, я сказал бы, немного необычная, просто другая – по тем местам, где мне пришлось жить и воспитываться. Ландшафт, природа, страна – они имеют огромное значение, на мой взгляд, гораздо большее, чем национальность. Хотя я родился в Москве, детство провел в пустыне близ Аральского моря, а потом Гжавардан – это тоже пустыня, на берегу Сыр-Дарьи. И вот эта пустыня, как пишет очень интересный английский писатель Бучана, закончивший жизнь губернатором Канады, – «это горизонталь, пустыня – это солнце, которое опускает вертикальные лучи, выжигающие все гнилое и ненужное».
Мне кажется, пустыня была первым внутренним знаком, заложившим что-то в мою душу. Потом я жил в глухих лесах Латвии, я очень мало жил в самой России, и средняя полоса совсем на меня не повлияла. Мой отец, крупный инженер-технолог, был занят на работе, и я практически все время проводил с дядей Николаем Константиновичем Алексеевым, мужем маминой сестры. Дядя был очень интересный человек. В 30-е годы его сослали, и благодаря этому он выжил и даже стал директором рыбного завода.
Дядя очень любил поэзию, особенно Федора Сологуба. Его стихи я помню наизусть до сих пор, хотя не могу сказать, что он оказал на меня влияние.
Это очень интересно – мои шаги от пустыни. Сейчас я очень люблю Карелию, стараюсь быть там как можно больше. Там у меня приходы в диких местах – я священник Зарубежной церкви. И, как ни странно, этот северо-запад имеет общее с вертикалью солнца и горизонталью пустыни. Там определенная горизонталь – это море, и вертикаль – скалы. Вот почему кельтские монахи, учившиеся у египетских пустынников, превратили пустыню в море: они туда уходили, и это было для них пустыней. Они шли, куда их нес ветер, поэтому они первыми открыли Америку, они первые принесли христианство на северо-запад России, влияние Византии очень преувеличено. И, как ни странно, я нахожу на Западе тот же самый внутренний знак, тот же самый звук. И это делает мою биографию не совсем обычной.
И.В. – Г.: Ты хочешь сказать, что твое появление было не литературного рода, а скорее произошло природным, первичным образом?
С.К.: Я учился в не совсем обычной школе. Это была первая английская специальная школа. Приказ о ее организации отдал сам товарищ Сталин, который уже тогда попытался подражать реалиям русской империи и решил создать лицей. Возглавлял школу Виктор Николаевич Тартаков, который говорил моей маме, что ее сын будет послом в США. Виктор Николаевич был человеком полноватым, с постоянной улыбкой на лице, он никогда ни на кого не кричал, но мы перед ним трепетали. Кстати, потом, уже после того, как я окончил школу, он поехал на какой-то конгресс в Австрию, и там его опознали – оказывается, он был одним из палачей Латвии.
У нас было очень свободно в школе, в библиотеке были такие авторы, которые и в научные библиотеки не допускались: Леонид Андреев, Блока полное собрание сочинений. Специально так делалось. Чем оригинальнее написано сочинение по литературе, тем лучше. Такая свобода поощрялась, только ни в коем случае не против советской власти.
И.В. – Г.: Как ты туда попал?
С.К.: В 1944 году я начал учиться в начальной школе, а в пятом классе, это был 49-й год, отличникам предложили продолжать занятия в спецшколе. Никакого блата. Многие родители были против, мало кто соглашался ездить в Сокольники. Но моя мама почему-то всегда мечтала, чтобы я ходил в серой шинели, она была очень военизированной женщиной. Она родом из Задонска, это не казаки, но все равно Дон. Мой дедушка, которого я застал, был купцом, довольно крупным торговцем мануфактурой, доверенным лицом задонского купечества. Он покупал мануфактуру не в Москве и Петербурге, а в Лодзи и Лондоне. Но после Гражданской войны семья быстро переехала в Москву, потому что местное Чека угрожало деда расстрелять, а московское им не интересовалось. Там моя мама вышла замуж, и в 35-м году родился я. А в войну мы уехали в Лукасы на Аральское море, и это было так замечательно. Все ехали в голодные Ташкент и Алма-Ату, а в Аральске голода не было, рыбу не вывозили, в воздухе стоял запах гниющей рыбы – бери даром.
И.В. – Г.: Когда ты начал писать стихи?
С.К.: В восемь-девять лет. Я был маленьким мальчиком и писал такие стихи:
Караваны далекого рая Залегли за печами самума.Действительно жаль, что они не сохранились.
Дядя мне все время читал стихи Сологуба. Он был петербургским дворянином, его сослали за то, что вместо того, чтобы конструировать крылья самолета, он собирал бабочек.
И.В. – Г.: Ты очень рано выучил и хорошо знал английский. Читал английскую прозу и поэзию.
С.К.: Английскую литературу я и сейчас люблю, прозу особенно. Поэзия, я считаю, русская лучше – больше возможностей для чисто звукового разнообразия. Но прозу предпочитаю английскую.
И.В. – Г.: И ты считаешь, что это звуковое разнообразие чисто русское?
С.К.:Да, чисто языковое.
И.В. – Г.: Скажи, когда ты писал первые детские стихи, тебе было важно, что сказать или как сказать? Это было желанием какого-то высказывания или передача мира в новой, тобой найденной форме?
С.К.: Пожалуй, ты права. Хотелось безотчетно что-то передать миру, я писал, потому что хотелось писать. Я очень сожалею, что именно эти стихи погибли. Мой дядя говорил: «Когда ты вырастешь, ты будешь писать лучше, но так свежо ты уже не напишешь никогда».
И.В. – Г.: Стихи – это особая форма существования?
С.К.: Особая.
И.В. – Г.: С одной стороны, существование музыки слова, переходящее за грань нарратива, с другой стороны, писание стихов, особенно сейчас, стало особой интеллектуальной формой высказывания, которое игнорирует словесную мелодию?
С.К.: Конечно, в основе настоящей поэзии лежит какой-то иероглиф. Когда я работал в лаборатории своего дяди в Латвии, я хотел быть биологом. Дядя был антидарвинистом, последователем академика Берга – специалиста по Аральскому морю. Я с детства впитал в себя антидарвинизм и в двенадцать лет хорошо разбирался в этой сессии ВАСХНИЛ с генетиками и прочее. И мы составляли с дядей атлас, мы вываривали моллюсков в кислоте, после чего образовывался такой нерастворимый известковый остаток – решетка. Мы ее фотографировали, и я видел, что у каждого моллюска решетка совсем другая и очень красивая. И вот у каждого настоящего поэта есть эта решетка, и, что бы ты ни написал на поверхности, если ты, конечно, не графоман, она и будет играть главную роль.
В моем творчестве произошла перемена: я понял очень важную вещь, именно из-за этого я не хочу читать свои старые стихи. Они, видимо, интересные, но они мне неприятны. Во многих публикациях, например в «Антологии авангарда двадцатого века», под моим именем напечатаны не мои стихи, а мои в сборнике Шатрова – под его именем. Был даже такой курьез, что мое стихотворение почти попало в сборник неизданного Мандельштама. Слава Богу, Надежда Яковлевна воспротивилась: она сказала, что стихи по содержанию не соответствуют времени Мандельштама.
И.В. – Г.: Твоя поэзия и мандельштамовская очень далеки друг от друга, это совсем разные миры.
С.К.: Абсолютно. Я его практически не читал. Не то что он мне не нравился, просто поэт другой сферы. Я читаю только то, что мне нужно. Я представляю себе поэзию так: обычно пишут по горизонтали, эту горизонталь наполняют разными вещами – бытом каким-то, каким-то болотом или грязью, а иногда чем-то плотным и интересным. А иногда хочется, чтобы поэт взял бы эти плотные строчки и повернул бы их по вертикали. Так случилось, и это, конечно, религиозное воздействие, что я повернул свою поэзию по вертикали. Что такое вертикаль – я тебе продемонстрирую на маленьком стихотворении Хлебникова. Вот он пишет:
Это было, когда золотые Три звезды зажигались на лодках И когда одинокая туя Над могилой раскинула ветку.Ты чувствуешь, как он тянет плоскость стиха вниз, такое натяжение, приятное, даже мускульное, ощущается. Теорию эту, кстати, разрабатывал Крученых. Он хотя и был юродивым, но на самом деле в поэзии понимал очень глубоко и именно хотел, чтобы строфы меньше значили, чтобы гармония шла по плоскости всего стихотворения сверху вниз, он был тоже сторонником вертикали, ему самому это не очень удавалось, но как теорию он это даже очень понимал.
Я недавно был на презентации книги Лени Черткова и подумал (но, конечно, не сказал), что, если бы Чертков взял свои плотные строки, повернул бы по вертикали свою поэзию, может быть, все сложилось бы по-другому, и он не сошел бы с ума и остался бы жив.
И.В. – Г.: Так ты начал писать стихи. И что ты читал?
С.К.: Я сразу скажу, что я не читал. Блока. Я не любил его. А любил футуристов, любил Маяковского, отдаю ему должное, хотя сейчас его не читаю. Хлебникова очень люблю, Крученых – я был с ним знаком, и он высоко ценил мои стихи. Читал английскую поэзию: Киплинга, переводил Элиота – недавно перевел Эзру Паунда.
И.В. – Г.: Первые детские стихи исчезли, и ты начал писать стихи, в которых произошел невероятный сдвиг, выделивший их из всей предшествующей тебе поэзии.
С.К.: Да, они отличаются, но то, что остается для меня относительно приемлемым из этих стихов сейчас, – это латвийские пейзажи. Я вообще не даю согласия на публикацию старых стихов, но эти никто и не пытается печатать, а они наиболее интересные.
И.В. – Г.: Миша хранит все, что ты тогда написал, он напечатал подборку в своем «Левиафане». Это была одна из твоих первых публикаций, но после того, как ты сам написал нам, что запрещаешь их публиковать, он, конечно, больше не печатал тех твоих стихов.
С.К.: Возникла какая-то порча, почему – я не знаю: я не люблю, не воспринимаю то, что возникло потом.
И.В. – Г.: То, что называется «классический Красовицкий»?
С.К.: Да. Вот у скандинавов – я не знаю их языков – скальды специально делали «висы» на смерть, есть там эта внутренняя гармония, расстояние между звуками, эта решетка была. Но в эти стихи, которые сейчас особенно популярны, включены и не мои стихи, потому что там Андрей Сергеев вмешался, нарочно вставлял свои стихи, причем пародии на меня писал – на одно из самых известных моих стихотворений «А летят по небу гуси да кричат…» (я-то не понимаю, что в нем особенного, оно написано на выставке Рериха).
И.В. – Г.: Я это «неважное» стихотворение помню наизусть с шестнадцати лет.
С.К.: Но ты-то помнишь оригинал, а тут другие слова вставлены. Зачем было портить? Я боюсь этой решетки. Бог наделил меня какимто талантом, но талант может быть в разные стороны направлен. И это важный момент, что я переключился, как бы то же самое, но я просто перевернулся по вертикали, во всяком случае, я знаю, что новые мои стихи вреда не принесут.
И.В. – Г.: Что такое вред?
С.К.: Вред для психического здоровья и, может, даже для физического.
И.В. – Г.: То есть ты считаешь, что стихи могут нанести физический ущерб?
С.К.: Безусловно. И именно у талантливых поэтов. И это все решетка, потому что у графоманов и слабых поэтов она смазана или ее совсем нет. Они пишут, и это просто скучно. Вот тут меня один человек замучил сонетами – я был в другом городе. Человек очень хороший, очень грамотно написано, ничего там вредного нет, но я стал безумно уставать от отсутствия поэзии в этих грамотных стихах. А там, где есть поэзия, она может быть опасной.
И.В. – Г.: Когда мы жили в советское время и читали советские стихи, от больших их героев до самых маленьких, мы точно знали, что отделяет нашу поэзию: там были официальная абсолютная неправда, сопливая романтика, разбавленный акмеизм и неосведомленность, отказ от всеобщих достижений поэтической мысли и формы. Нам было легко и удобно жить со всеми этими определениями. Сейчас же ты видишь человека, владеющего всеми видами версификаций, обо всем осведомленного, и грамотного, и умеющего, – и… все-таки какое-то основное качество утеряно. Конечно, не у всех.
С.К.: Для поэзии самое опасное – когда человек пишет на публику. Если он пишет для себя и на необитаемом острове – это нормально. Я и сейчас пишу стихи, которые мне кажутся недостаточно хорошими, я их никому не даю, но на необитаемом острове я их писал бы тоже. В наше время это было возможно и даже приятно – отделиться от советского стандарта и фальшивого авангарда – Евтушенко, Вознесенский и пр. – и чувствовать себя совершенно независимым, ощущать, что, по крайней мере, пишешь что хочешь. И мы это очень культивировали. Чертков (был такой поэт), Хромов, Галя Андреева, Олег Гриценко, Шатров – но он, правда, где-то сбоку. Мы не кривили душой, а это, безусловно, накладывает отпечаток на поэзию, делает ее настоящей. А сейчас они пишут на публику, и, какой бы техникой они ни обладали, они знают, как сделать нужную неправильность, чтобы она была в нужном месте, они делают все как надо, но получается мертво. И их стихи никому не нужны.
И.В. – Г.: Для чего ты писал тогда стихи?
С.К.: Писал, потому что они писались. Я не только ни в коем случае не хотел печататься – у нас была такая установка. Один раз Гале Андреевой предложили напечатать ее гражданскую поэзию. Леня Чертков сказал ей: «Ты что, от такой компании откажешься?» – и она прекратила все эти поползновения.
Вот Андрей Сергеев – человек талантливый, но он-то хотел печататься, он как раз хотел быть мэтром, хотел, чтобы его знали, как и Бродский. Он испортил свою поэзию – я помню его ранние стихи, неплохие, свежие. Если бы он тогда остановился, его участь была бы такой, как наша. А так он печатался, стал чуть ли не академиком.
И.В. – Г.: Ты, Леня Чертков, Валя Хромов – одна из первых после террора групп в русской поэзии, вы писали, читали друг другу стихи, были близкими друзьями. Но потом стали появляться другие свободные поэты: Игорь Холин, например.
С.К.: С Игорем Холиным и Генрихом Сапгиром я был знаком, но мы принадлежали к разным кругам. Наша группа концентрировалась вокруг литобъединения Института иностранных языков, куда я поступил. Там был Сергеев, он познакомил меня с Чертковым, который учился в Библиотечном институте, но ходил в наше литобъединение; Хромов тоже учился в Инязе. Все как бы случайно, но очень точно. А Холин и Сапгир – это была лианозовская группа. И еще Шатров был, человек не очень интересный, но был принят в музее Скрябина, он там читал стихи, и ему вручали цветы.
И.В. – Г.: Но был Пастернак, был Крученых, была Ахматова…
С.К.: Я короткое время очень увлекался Пастернаком. Ахматова на меня не оказывала никакого влияния, не производила никакого впечатления. Цветаеву я просто не люблю, из Серебряного века мне нравится Гумилев. И есть такой очень хороший поэт – Василий Алексеевич Комаровский, его вспоминает Георгий Иванов в своих «Петербургских зимах». Я футуристов люблю.
И.В. – Г.: Почему Пастернак стал чужим и неинтересным?
С.К.: Поэтические организмы живут своей жизнью, у каждого своя среда обитания. Пастернак – гениальный поэт, но там просто другая среда обитания. Если бы я был просто читателем, я, безусловно, зачитывался бы Пастернаком. Но как поэт я в другой речке живу. А Ахматова и особенно Цветаева – это совсем чужое.
И.В. – Г.: Ты говоришь то же, что и Миша Гробман, – одна порода.
С.К.: Ну, Миша – тоже футурист. Он настоящий футурист – так я говорил ему всегда.
И.В. – Г.: Я прочла громадное количество воспоминаний, а воспоминания, если в них заключена хоть крупица правды, – это всегда интересно.
С.К.: Интересно, я мемуары читаю.
И.В. – Г.: Вот Найман написал книгу воспоминаний, там много о тебе. Как ты вообще относился к ленинградцам?
С.К.: Мы к ним относились свысока: во-первых, у них было то, чего не было у нас, – заносчивость. Когда они говорят с читателями – ну, прямо мэтры. Там был талантливый поэт Аронзон.
И.В. – Г.: Ты так считаешь?
С.К.: Да, но он печально кончил.
И.В. – Г.: А Бродский?
С.К.: Всему вредит желание славы, успеха, чтобы о тебе говорили. Поэт малых форм. Я помню его стихи «На Васильевский остров я приду умирать…». А как он начал раздуваться из лягушки в слона, и ничего из этого не получилось. Может быть, я необъективен, но я проверил. Я слушаю радио «Свобода», мне кажется, или Би-би-си, и Бродский читает свои стихи о какой-то войне на Востоке.
И.В. – Г.: У нас?
С.К.: Да, у вас. И вот он говорит (передаю его интонацию):
Механический слон Поднимает свой хобот.А когда ты слушаешь поэзию, мозги надо отключать, поэзия сама должна входить. И поэтому я отключаю мозги, я не думаю, что я вижу – не то какая-то землеройная машина, не то какой-то кран. Потом я переключаюсь на его менталитет и понимаю: хобот – это ствол танка, потому что у танка ствол называется хоботом. Ну, это же не поэзия, это идет от чего? – танк не похож на слона, он похож на тигра, что немцы правильно заметили. Вообще я Бродского читал мало, потому что неинтересно мне было проходить через эти вещи.
И.В. – Г.: Скажи, поэзию нужно понимать? Нужны все эти филологические расшифровки, нужно знать всю подоплеку образов и все это дополнительное понимание нужно разъяснять читателю? Или читатель должен быть так подготовлен, чтобы быть в состоянии догадаться обо всем сам?
С.К.: Если это настоящая поэзия – читатель поймет все как надо, интуитивно, потому что сам поэт пишет, тоже не все понимая. Почему, например, я до сих пор считаю себя футуристом? Потому что могу себе позволить все что угодно ради гармонии – нарушить грамматику и все такое. Я, конечно, этого придерживаюсь, если надо, но если не надо – полностью отвергаю. Почему я могу вдруг в середине слова написать прописное «Ы»? А я сам не знаю. Но оно должно там быть в таком виде. Поэт сам не понимает – это внутренняя решетка, которая диктует гармонию.
И.В. – Г.: Для меня это страшное разочарование – узнать, что «до дней последних донца» имеет какой-то простой смысл.
С.К.: Такая она есть – поэзия. Чем меньше мозг включается в нее, тем лучше. «Поэзия должна быть глуповата» – Пушкин имел в виду, что стихи могут быть очень умные, но они воспринимаются помимо мозгового анализа.
И.В. – Г.: В книге «Славный конец бесславных поколений» Толи Наймана есть глава под названием «К. С.» – о тебе, и это редкий текст, который передает совершенно восторженное, на уровне «живота» отношение к тебе, которое было у всех нас, знакомых и не знакомых с тобой читателей в те времена. А ведь это круг Ахматовой, на Бродского они смотрели как на высшего распределителя поэтических чинов. Там же он пишет о тебе и Бродском, о том, что Бродский всю жизнь стремился тебя преодолеть. Ты читал это?
С.К.: Нет, эту книгу я, кажется, не читал, но Толя – мой близкий друг. Сейчас мы видимся реже, я редко бываю в Москве, он болеет, моя дочка дружит с его дочкой, я его крестный отец.
И.В. – Г.: Стась, ты можешь запретить печатать свои стихи, но стихи живут сами, и они уже часть нашей жизни, причем и по ощущению, и по их подлинности они вошли в наше бытовое словесное обращение, как, например:
И он отправился, качаясь, От косяка отставший гусь, Вела его тропа кривая И привела его на Русь.Ваше поколение не было по-настоящему прочитано и еще не вошло в канон, объявленное влияние было не ваше, но эти твои стихи, даже неизвестные, создали новое русское слово.
С.К.: Может быть, я не знаю, но ты должна иметь в виду, что мой отказ от этих стихов – это мое решение, это то, что было мне необходимо. Если оттуда убрать не мои стихи, которые намеренно вставлял Сергеев, говоря: «Я тебе отомщу»…
И.В. – Г.: И если отобрать только твои стихи?
С.К.: То это, вероятно, не худшее, что я написал, потому что худшее я сжег. Я сжег больше половины того, что написал. К счастью, безвозвратно.
И.В. – Г.: Какое безобразие!
С.К.: Не отступаю, что меня радует, так что оставшееся, может, уже не так страшно.
И.В. – Г.: Хорошо, это не так страшно, и это очень важно для других людей. Почему бы тебе самому, под своим контролем не издать свои стихи, отнесясь к ним как к произведениям другого поэта – Стася Красовицкого определенного периода?
С.К.: Нет, потому что это действительно другой человек и другой поэт. Но человек, который ходил в моей шкуре. Тут уже отношение особое. Вот если бы он существовал в другом теле – пожалуйста.
И.В. – Г.: Это останется размытым и не по-настоящему, если ты сам этим не займешься, не трогая стихов, конечно.
С.К.: Невозможно. Перевернув эту вертикаль, я уже к тому прикоснуться не могу. Ведь жизнь – это тоже поэзия, и все принимать надо так, как случилось.
И.В. – Г.: В 61 – 62-м годах ты приносил и читал нам эти стихи, и вдруг произошла эта перемена. Мы жили в одной интеллигентской среде, я не говорю только об атеизме, но понятие Бога не было включено в нашу жизнь. Чего тебе не хватало? Почему ты должен был назначить себе начальника-покровителя, когда в тебе самом такое бродило? Бог дал человеку возможность быть творцом.
С.К.: В детстве я был очень верующим мальчиком. Моя бабушка была верующей, она меня воспитывала, это забылось.
И.В. – Г.: Тебя крестили?
С.К.: Нет, то ли из-за войны, то ли из-за чего другого. Но в церковь бабушка меня водила.
И.В. – Г.: Что такое религиозное чувство?
С.К.: Человек считает, что Бог есть, и вдруг он понимает, что Бог действительно существует. И как только происходит такое движение, и это подтверждение того, что и вообще все действительно происходит, и ты сам, и твоя личность, и твое самосознание, этот стол существует, и Бог существует, когда мы доходим до этой точки – тогда происходит настоящий религиозный переворот. И со мной он произошел – все случилось моментально, мгновенно, на дороге между Суздалем и Тидогшей.
Какое-то время я совсем не мог писать, ничего не сопрягается, идет какое-то движение, упирается в стену – и все, и надо писать в этой стене. Пока я этого не разрушил, я не мог писать. А потом очень медленно, очень постепенно стал возвращаться к поэзии, но уже в другом ключе, и это уже здоровая поэзия. Мои стихи – они приносят пользу, кроме того, что это поэзия может формально, это можно сравнить с тем, что в живописи называется обратной перспективой, о чем писал Флоренский. Но не прямая перспектива, которая втягивает, а обратная, которая идет на тебя. Я одно время работал в кино, и, когда это случилось, не мог видеть экрана, потому что экран очень втягивает, мне было тяжело, и я ушел на другую работу.
И.В. – Г.: Тебе не кажется, что твоя вера в Бога и служение Ему – тоже богохульство, ведь Он определил тебя быть поэтом, ведь не зря говорят: «Божий дар»?
С.К.: Бог дал человеку возможность различать между добром и злом, и если человек чувствует, что так нельзя, а так можно, то, конечно, Бог это одобрит, а если он знает, что так нельзя, и делает, то Бог скажет: «Я тебя предупреждал, пеняй на себя». С того, кто не понимает, не чувствует, не спросится, а спросится с того, кто понимает и чувствует.
И.В. – Г.: Борхес сказал, что евреи собрали все свои лучшие литературные произведения и сделали из них Святую книгу.
С.К.: Сказать можно все что угодно. Не случайно было собрано, а по Духу Святому. Я говорю о литературе. Глубина Библии бездонна, определить ее невозможно, это действующий феномен.
И.В. – Г.: На иврите это потрясающе красиво, литературное качество Библии невероятное.
С.К.: Я очень люблю еврейский народ.
И.В. – Г.: Твой отец еврей?
С.К.: Моя бабушка Хася – еврейка, я ее застал, а дедушку не застал, папа говорил, что он поляк, но точно мы не знаем, он хорошо говорил по-польски. Все папины знакомые были евреями. Я люблю свой народ, я люблю русского и люблю еврея как личность. Если меня спросят: «Как ты относишься к иудаизму?», я скажу: «Я настоящий иудаист, потому что, чтобы быть настоящим иудаистом, нужно быть христианином, который ощущает, что Бог действительно существует». В моих брошюрах про это написано.
И.В. – Г.: Ты понимаешь, в России переиначены все эти понятия, и те, кто говорит о еврейском, – неофиты, тут все только начинается. Но существуют серьезные люди, и, во всяком случае, Библия, Талмуд – это невероятные интеллектуальные литературные тексты.
С.К.: Талмуд я не читал, но уверен в другом: к концу времен евреи будут христианами – это неизбежно.
И.В. – Г.: Знаешь, каждый живет своей реальностью, но в Израиле вся эта божественность – очень местное природное явление.
С.К.: Надо поехать туда, хотя природа божественна везде.
И.В. – Г.: Стась, а вот современная поэзия – это новый русский способ выражения стихами?
С.К.: Мне Пригова читали, еще кого-то. Если мне неприятно, я не запоминаю.
И.В. – Г.: Но ты сам в этом виноват. Ты своим отстранением дал поэзии сдвинуться в недуховную область.
С.К.: Может быть. Но сейчас – пожалуйста, двигайтесь в мою сторону. Не движется. А старое – тут я ни при чем. Это суд Божий, как получилось, так и получилось. Я вообще был таким человеком, что меньше всего была надежда думать, будто я со своим интеллектом и душой дойду до чего-нибудь настоящего. Так получилось.
И.В. – Г.: Какова твоя иерархия русской поэзии? Хлебников?
С.К.: Хлебников. Пушкин, конечно, но я от него немного отстранен. Что мне нравится у Пушкина – это я как профессионал говорю, – его последние стихи, в которых он стал совсем другим. Звук другой – а меня это интересует. Он по-другому подходил к христианству, а поэзия меняла форму. Она становилась менее жирной, менее чувственной.
И.В. – Г.: Какие стихи ты имеешь в виду?
С.К.: Последнего периода, самые незаметные.
Альфонс садится на коня, Ему хозяин держит стремя. «Сеньор, послушайте меня: Пускаться в путь теперь не время… —и так далее.
«Маленькие трагедии», если ты помнишь. Или:
Было время, процветала в мире наша сторона; В воскресение, бывало, церковь божия полна.И.В. – Г.: Прямо теперешние стихи Красовицкого.
С.К.: Звук совсем другой. Абсолютно другой звук у него стал. И вот последнее его стихотворение:
Забыв и рощу, и свободу, Невольный чижик надо мной Зерно клюет, и брызжет воду, И песнью тешится живой…Кто мне нравится почти целиком – это Жуковский.
И.В. – Г.: Потому что ты любишь баллады?
С.К.: Да, он был замечательный переводчик баллад. Фразу «Победившему ученику от побежденного учителя» Жуковский сказал просто так, он относился к Пушкину свысока, говорил ему «ты» (а Пушкин ему – «вы»). И Пушкин спрашивал: «Как вы, Василий Андреевич, написали бы это слово?» (в смысле правописания, оно тогда еще не устоялось). «А как напишу, так и будет».
Есть еще такой поэт Козлов. Дело в том, что он делал эту штуку – «вертикаль». Я недавно прочел его. «Не бил барабан перед смутным полком» – это и есть то, чего хотел Крученых. Почти все его стихи – это переводы с английского («Вечерний звон»). Очень люблю восемнадцатый век, все люблю. Я отношу Батюшкова к восемнадцатому веку.
И.В. – Г.: Но это все формальная поэзия.
С.К.: Да, формальная, я очень люблю их читать, этот звук мне важен. Нелединского-Мелецкого, Княжнина – я на них отдыхаю. У них были удивительные достижения, причем Батюшков, когда сошел с ума, забыл, какие стихи он писал, а какие не он. Он брал чужие стихи и исправлял их. Он сумел так исправить Нелединского-Мелецкого – это то же самое: идет вертикаль, потому что там меняются рифмы и возможно все что угодно. Дело в том, что для того, чтобы иметь право зарифмовать одинаковые слова, нужно обладать очень сильной внутренней гармонией.
И.В. – Г.: Что значит «одинаковые слова»?
С.К.: Например, стол – стол.
Дай такое, чтоб умела любить и разлюбить. Дай такое, чтоб хотела не одну тебя любить.Попробуй зарифмовать «любить» и «любить» – только внутренняя гармония делает это возможным. Это делали ранние футуристы.
И.В. – Г.: А Тютчев и Анненский?
С.К.: Люблю некоторые стихи Анненского, особенно «То было на Валлен Коски»…
Тютчев – это интересно, но больше мне нравится Фет. У Тютчева мне не подходит внутренняя структура, вот расстояние между звуками у Фета мне подходит больше. Я не говорю, что это плохо или хорошо, это мне близко как поэту. Фет мне подходит по звуковой гармонии.
И.В. – Г.: Прошел девятнадцатый век с его дворянской поэзией, потом символизм, которого ты не принимаешь.
С.К.: Очень интересный поэт Вячеслав Иванов с его устройством стиха и гармонией. Я, честно говоря, люблю только пару стихотворений Иванова, остальное для меня многословно, вяло, недостаточно.
Дорожный выпадет костыль, А позади лишь прах и быль.Но вообще я прошел символизм, а акмеизм Гумилева я люблю. Ничего особенного мне искать не приходится в его гармоническом устройстве, оно такое ровное и хорошо сделанное.
Больше всего мне нравится цикл «Возвращение Одиссея», и лучше всего заканчивается «Избиение женихов»:
Ну, собирайся со мною в дорогу, Юноша светлый, мой сын Телемах, Надо служить беспощадному богу, Богу Тревоги на черных путях.Он вообще слово «черный» использует много раз очень интересно. Одну строфу Гумилева я для себя исправил. Он пишет так:
Или, бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвет пистолет, Так, что сыплется золото с кружев, С розоватых брабантских манжет.Я читаю по-другому, у Гумилева стерто и проходит по линии, надо, чтобы было более выпукло. У меня написано то же самое, но исправлены акценты и вариант интонации.
И.В. – Г.: А потом начинаются Ахматова и Мандельштам?
С.К.: Я прошел мимо Мандельштама. Не читаю я его.
И.В. – Г.: Почему?
С.К.: Ну, я же не ученый, не пишу статей, не преподаю в институте. Значит, Мандельштам писал для кого-то другого, не для меня. И Ахматова тоже. Гиппиус меня интересует гораздо больше.
И.В. – Г.: Почему? Потому что ты не ищешь классику и культуру, а какие-нибудь личные ходы?
С.К.: Меня совершенно не интересуют переживания, у меня у самого их достаточно, мне совершенно не нужно, чтобы мне кто-то свои переживания навязывал. Не надо, мне нужна форма.
И.В. – Г.: Что происходит в твоих последних стихах, простых и безумно музыкальных?
С.К.: Я уже не могу так написать. Как посторонний человек я горжусь, что такие стихи можно было написать, прости за похвальбу, но это абсолютно объективно.
И.В. – Г.: Там присутствует момент твоего первичного сдвига? Как в ранних стихах:
Я порой сижу на выставке один, С древнерусские пишу стихи картин.И в этих стихах, при всей их простоте, понятности, первичности, есть этот сдвиг. То, что осталось от старого Красовицкого, – это достижение сдвига.
С.К.: Так я тебе говорил, что я перевернул по вертикали все, что у меня было, и они иначе стали звучать, звуки расположились по-другому. Ну, а человек я тот же самый.
И.В. – Г.: Стась, тебя окружает флер таинственности, ты тайный человек, который в тайные времена был властителем умов, а потом исчез. Ты сейчас как бы вернулся в свет, начал появляться, выступать, реагировать. К тебе относятся как к воплотившейся легенде. За время твоего отсутствия литература очень изменилась, усложнилась, конструировалась, деконструировалась, стала недоступна простому чтению.
С.К.: Ну, в новых стихах я вредности не вижу, но какой-то «сумбур вместо музыки», как говорил товарищ Жданов, набор слов, я не могу понять, что с чем скреплено.
И.В. – Г.: Твои новые «другие» стихи мы первые напечатали в «Знаке времени», а потом в «Зеркале», и антология «Зеркала», вышедшая в НЛО, называется «Символ Мы» – и это цитата из твоего стихотворения. «Зеркало» – журнал современной литературы, но у него есть пристрастия, и одно из главных – это Второй русский авангард, который вернул русскую литературу к жизни после долгих лет советского подцензурного мрака и создал новую структуру русского культурного существования. И как ты, одна из центральных фигур этой ситуации, находишь себя в сегодняшнем литературном пространстве?
С.К.: Я скажу о «Зеркале» и «Символе Мы». Для меня и для Хромова это было очень важно. «Зеркало» вернуло нас в правильный контекст литературы. В «Зеркале» интересно все: и Илья Кабаков, и Гденич, и Гольдштейн, и интервью математика про Европу правильное. С очень многими мыслями из гробмановского теоретического «Левиафана» я согласен, стихи его музыкальны и мне нравятся, когда они без мата, – мата не люблю. Книга дневников Миши – это очень ценно, все правда, все так было. Единственный мемуарист нашего времени, других нету. Вот появилась эта книжечка о Лене Черткове, о Куклисе – это такие обрывки воспоминаний.
И.В. – Г.: Что ты можешь сказать о невероятной сложности, зашифрованности, нечитабельности современной литературы?
С.К.: Мне кажется, чтобы писать сейчас хорошую литературу, надо совершенно уйти от жизни, создать свой орден. Я имею в виду уйти в бытовом смысле – ничего особенно не читать, телевизор не смотреть, уйти в какое-нибудь замкнутое общество. Вот я занимаюсь скаутами, если бы у нас культивировалась такого вида замкнутость, тогда могло бы что-нибудь развернуться. Сейчас на человека идет обвал каких-то дурацких впечатлений, и в этом обвале, если он честный человек, он ничего не может написать или пишет какую-то гадость, понимая, что, если он напишет правильно, он никому не будет нужен и заметен. Это конъюнктура. Я уверен, что есть люди, которые пишут неплохо.
Я очень люблю Баден-Пауля, основателя скаутского движения. Он пишет: «Над моим столом висит маленькое изображение – это человек на коне, поражающий змея, это не новое изображение этого человека, и я не могу сказать, что с точки зрения искусства лучшее, но мне нравится, потому что у змея такой оскал, а у Георгия улыбка. Зло надо поражать с улыбкой и извлекать пользу из своей победы!»
И.В. – Г.: Каннибал – такой же человек, как ты, только другой. Это основа теории нового гуманизма?
С.К.: Нет, это абсолютная ложь, это разрушение не только Божественного – это разрушение человеческого, разрушение того, с чем человек рождается. На том, с чем человек родился, будет построено хорошо или плохо. Речь идет о том, чтобы разрушить то, на чем строится, чтобы ничего нельзя было построить.
И.В. – Г.: Может, этот протокольный гуманизм смешал добро и зло, и возникновение отмороженной литературы – результат этого процесса?
С.К.: Не знаю. Если не произойдет ограниченного ренессанса, мы быстро идем к концу света.
И.В. – Г.: И он будет?
С.К.: Обязательно. Все имеет начало, и все имеет конец. Будет в громадном масштабе то, что произошло со мной в маленьком, – переворот. С горизонтали на вертикаль. Вся эта Вселенная сохранится в другом виде – в вертикальном. Мы идем все равно к победе.
«Зеркало» № 25, 2005 г.«Звук, слово, птичьи трели…»
Беседа с Валентином Хромовым
Ирина Врубель-Голубкина: Валя, как это все у тебя начиналось?
Валентин Хромов: После войны (Отечественной) возникло возбуждение некоторое. Учителя в школе стали преподавать литературу как-то уже по-другому, как в хрестоматии написано: «…после 12 года начался патриотический подъем, который окончился воспитанием декабристов». После 1945-го было определенное оживление, конечно, в особых условиях, зажатых, но все равно было. Открывались выставки. В Третьяковке в 1946 году висел Кандинский, как это ни странно. Но провисел он не больше года – потом началась ждановщина как соответствующая реакция на происходящее: слишком много себе позволяют. Тогда в Румянцевском музее был юношеский зал Ленинки. Я еще в школе учился, ходил в этот читальный зал, там встретил А. Сергеева, потом, когда я поступил в Иняз, он тоже там учился, и мы вспомнили об этой встрече. Вообще в Инязе был букет, там были самые лучшие ребята, которые не попали в другие вузы по каким-то причинам, те, кто хотел просто отдохнуть, пожить свободно, – менее всех идеологизированный институт из гуманитарных. Везде все-таки следили за идеологией, а здесь все тонуло в языке, в языковых конкурсах.
Я попал в Иняз из Института востоковедения. Первое, что я прочитал на доске объявлений, – это то, что конкурс на лучшего переводчика выиграл Андрей Сергеев, а на лучшего чтеца – Станислав Красовицкий. Красовицкий тогда был на втором курсе, а когда он закончил институт, его распределили в Радиокомитет, в отдел передач на заграницу. Но он явно там не подошел или сам ушел по каким-то причинам.
Чертков учился в Библиотечном институте, он был библиофил с самого детства, копался в Ленинке в архивах, в рукописях, делал выписки, знал всех поэтов. Но он ходил к нам в Иняз – там было интересно, читали стихи, была хорошая руководительница Клюева (поэтесса-однофамилица, о ней написал Сергеев в своих воспоминаниях, я их не читал, мне они на глаза не попадались, но все друзья сказали не читать их).
И.В. – Г.: Почему?
В.Х.: Может быть, там что-нибудь плохое обо мне?
И.В. – Г.: Нет, я читала, с тобой все в порядке.
В.Х.: Воспоминания Сергеева его близким друзьям резко не понравились, ну, Стасю, я понимаю, могут не понравиться даже очень хорошие воспоминания, если они в фривольном стиле написаны или там его секреты раскрыты.
И.В. – Г.: Но гробмановский «Левиафан» тебе понравился?
В.Х.: У Гробмана все правильно, мало того, он пытается дойти до точности, которая не нужна: такой-то пришел, такой-то ушел, он преувеличивает – это не воспоминания даже, а хроника.
И.В. – Г.: Ну, конечно же, это не воспоминания. Это ежедневные записи.
В.Х.: Это достоверно, как хроника, и ошибок там быть не может, так как записывалось каждый день. Там уже ни к чему не придерешься. Может, он кого-то пропустил и не передал беседу. Я всегда удивлялся, почему там почти нет Куклиса.
И.В. – Г.: С Куклисом мы почти не общались, да и как к художнику Миша к нему серьезно не относился.
В.Х.: Но это как фон, а вообще вся панорама охвачена, все очень достоверно, объективно.
И.В. – Г.: Как дальше развивалось твое общение?
В.Х.: Вот с такими людьми я встретился, и главное – с Леней Чертковым. Леня Чертков учил не как писать стихи, а как ориентироваться в литературе.
И.В. – Г.: В какой литературе? Что вы читали?
В.Х.: Есть большая разница между москвичами 50 – 60-х годов и ленинградцами. В Москве совершенно не было идолов среди писателей ХХ века, ни у Красовицкого, ни у Черткова, ни у Сергеева, ни у Шатрова. Шатров допускал негативные высказывания о Пастернаке, об Ахматовой, о ком угодно – это не значит, что он их не любил. Он написал на смерть Пастернака очень трогательные стихи и об Ахматовой тоже. Но люди вели себя в этом смысле очень свободно, без преклонения перед кем-либо. Были непререкаемые фигуры из прошлого, такие как Пушкин, Лермонтов, Батюшков, а из ХХ века – никаких кумиров. В Ленинграде же попробуй сказать что-то о Пастернаке, об Ахматовой, о Цветаевой, Мандельштаме – сразу прослывешь идиотом. Даже такой энциклопедист, как Чертков, который никогда никого не ругал в институте, тоже особенно никого не канонизировал. А вообще Леня Чертков – об этом ничего не известно, все ушло в могилу – написал столько злых и едких эпиграмм.
И.В. – Г.: И где они?
В.Х.: Дай Бог, чтобы это погибло. Я то, что помню, не люблю читать.
И.В. – Г.: Ну, прочти хоть одну.
В.Х.: У него были такие длинные пьесы, где он никого не щадил. Вот, например, пьеса идет и там:
Философ Гриша Померанец, Неподражаемый за… Входит Померанец.Вот, например, он описывает Волконского Андрея в пьесе «Компания»:
Но князь был не один — С ним маленький башкирин, Поэт столичный, Жалкий человек.И.В. – Г.: За что же он так Гену Айги?
В.Х.: Догадываешься. И это попало к Айги, и он настолько разозлился, что потом 15–20 лет называл Черткова антисемитом. Может быть, он не знал, что Чертков – чистокровный еврей Леонид Натанович, в отличие от других нечистокровных. Я родителей его хорошо помню. У Красовицкого мать – совершенно русская баба, очень хорошая, добрая, а отец был такой маленький еврейчик, очень симпатичный и замечательный человек. Они жили в Зачатьевском переулке, напротив них был вытрезвитель, и отец после работы всегда останавливался у вытрезвителя и кричал милиционерам, которые тащили пьяных: «Голову держите!» Вот такой был редкий человек, замечательный.
Чертков умел расправиться с человеком полуфразой, одним словом, как бы случайно оброненным. Дальше в пьесе этот персонаж уже не упоминается.
Для всех московских поэтов не имена что-то значили, а собственно поэзия, фраза, слово, стих, а имена – кто? что? – на втором плане. И дураки вылезали невероятные. Вот кто-то начинает кого-то ругать, а Чертков: «Подожди, нет, у него есть хорошая строка». У Черткова была душа объективиста, энциклопедиста, которая везде замечала что-то хорошее. И он за одну фразу мог ценить поэта. Чертков любил ходить к поэтам и всех за собой таскал, только Красовицкого не мог никак вытащить. Тот или стеснялся, или не хотел. Чертков мне вбивал в голову: надо ходить не к поэту, который хорошо пишет, а к поэту, который интересно рассказывает, у которого можно что-то узнать. Например, Заболоцкий – поэт блестящий, но разговоры с ним были очень неинтересные. Даже Пастернака было очень трудно вытащить на разговор. Он говорил: «Ваши стихи гениальны», после этого человек понимал, что ему остается только ретироваться.
И.В. – Г.: Ты видел Пастернака?
В.Х.: Да, но у него не был. При случайных обстоятельствах, в Переделкине, я по улице шел по каким-то делам, и он идет. Я зашел к какому-то поэту, совершенному дураку, фамилии не помню, только помню, что он маленького роста. Смотрю – Пастернак заходит к нему с бутылкой коньяка, но я уже был в пальто, и мне неудобно было оставаться.
И.В. – Г.: А с Асеевым ты много общался?
В.Х.: С Асеевым можно было обо всем говорить, и он любил рассказывать о Хлебникове, Маяковском, о том же Пастернаке, о книгах. Неважно, какой он был поэт, для Черткова это был кладезь.
И.В. – Г.: Асеев читал ваши стихи?
В.Х.: У Асеева есть стихотворение о трех поэтах. Три поэта – это Чертков, Сергеев, Хромов. Одного он сравнивал с Баратынским, другого – с Тютчевым, третьего, кажется, с Державиным или еще с кем-то в этом роде.
ПОСЕЩЕНИЕ Талантливые, добрые ребята пришли ко мне по дружеским делам; три – не родных, но задушевных брата, деливших хлеб и радость пополам. Обручены единою судьбою, они считали общим свой успех, но каждый быть хотел самим собою, чтоб заслужить признание для всех! Они расселись в креслах, словно дети, игравшие во взрослую игру; им было самым важным – стать на свете собратьями великих по перу. Дыханье, дух, душа – одно ли это? И что же их роднит в конце концов? Передо мной сидели три поэта, желающих продолжить путь отцов. Вот – Грибоедов, Тютчев, вот – Державин. А мне? Нельзя ли Баратынским стать?.. Был этот час торжественен и славен, оправленный в достоинство и стать… И я, традиций убежденный неслух, поверил, что от этих будет толк. Три ангела в моих сидели креслах, оставивши в прихожей крыльев шелк. 1960И.В. – Г.: И кем был ты?
В.Х.: Я уже сейчас не помню. Можно найти. Что у Асеева было интересно – там часто бывал Крученых. Я там с ним познакомился и был на уникальном концерте Крученыха. Справлялся какой-то юбилей дома у Асеева. Еще был на 70-летии Хлебникова. Кирсанов вел вечер в ЦДЛ, в Малом зале, и он мне сказал: «Ты сейчас тоже прочтешь свое». Но мне помешал Самуил Яковлевич Маршак, хотя его не было на вечере. Я боялся выступать – там были такие тузы: Харджиев, Крученых. Но Кирсанов мне сказал: «Прочтешь перевертни». Ждал, что меня вызовут, и вдруг Кирсанов вскочил на стул и почти заорал: «Сейчас я прочту письмо Маршака!» – телеграмму, в которой Маршак поздравляет всех присутствующих с 70-летием Хлебникова. Он был так рад, что Самуил Яковлевич откликнулся, все-таки лицо официально признанное, а не какие-нибудь там крученыхи, и от счастья забыл обо мне. Еще читали Городецкий и кто-то в этом роде.
А когда Крученых читал у Асеева, хозяин сказал нам: «Подтяните люстру». Я залез на стол и поднял абажур. Сергеев был толстый, еще там был Чертков. И, когда Крученых начал читать стихи, я понял асеевский приказ. Крученых отчаянно жестикулировал, размахивал руками и подпрыгивал – это в его-то возрасте. Чтение было фантастическое, он так владел артикуляцией, так произносил звуки, играл речетворным аппаратом – это фонетическая запись, как у конструктивистов было – Чичерина, например. Он писал стихи не как пишется, а как произносится. Вместо «я» писал «йа» и так далее. А Крученых так читал, что все это обыгрывал.
И.В. – Г.: Что он читал?
В.Х.: Свои стихи. Какой-то дыр-бул-щир. Мы смотрели не него с открытыми ртами. Это было нечто невероятное. Как можно было произносить слова, даже их не искажая, то, что есть.
А были там на вечере три сестры Синяковы, сидели вокруг стола и занимались только тем, что молодым людям подавали: «А вот вы пирожное забыли взять». Вина никакого не было, у Асеева насчет выпивки было строго – чай, бутерброды.
Потом супруга Асеева сошлась со Зверевым. Ксения Михайловна была замечательная женщина, и со Зверевым она, возможно, уже выпивала. А Асеев был, как и Маяковский, антиалкогольных убеждений. Но он рассказал, что Маяковский последние дни – месяц или больше – просто спивался. Он умер (если взять хронику Катаняна, то он пишет, что Маяковский не пришел, простудился и так далее…) буквально от пьянства, он пил беспробудно последние дни. Асеев говорил: «Вот видите дверь (у него был тамбур в дверях) в Камергерском переулке, где Худ. театр. Вот здесь вот Володя лежал, разваливался, как футуристическая скульптура. Он был высокий, Маяковский, и можно представить, что пьяный он был совершенно неуклюжим». И это доказывает, что он покончил самоубийством, его не убили. И у Никулина есть воспоминания, как он вел себя в Доме Герцена, или Доме писателей, где сейчас Литинститут.
И.В. – Г.: Кого ты имел в виду, когда говорил «ленинградцы»?
В.Х.: У москвичей один Хлебников был полуидолом. Об остальных только посмертные стихи хвалебные писали. Тогда они оказывались гениями. А в Ленинграде попробуй не похвалить Цветаеву! А что Цветаевой – «Поэма Горы»?
И.В. – Г.: А кого ты знал в Ленинграде?
В.Х.: Рейн, Уфлянд, Бобышев – это одна компания, а другая – Еремин, Виноградов, Бродский потом. Бродский – это компания Рейн, Найман, тоже Уфлянд. Потом Глеб Горбовский, еще юродствующий Голявкин рассказы писал.
И.В. – Г.: А что московская сцена того времени?
В.Х.: Здесь были люди разного возраста. Например, был такой Кика – Коля Шатров, который читал стихи в музее Скрябина. Его очень любил Пастернак – единственный поэт, о котором Пастернак говорил очень хорошо. Там с 1955-го до примерно 1960 года устраивались музыкальные и литературные вечера. Играли Юдина, Софроницкий, Нейгауз. Народу было всего человек двадцать-тридцать, приходил Пастернак. Сначала кто-нибудь играл на рояле Скрябина, чаще всего Софроницкий, а потом просили Шатрова почитать стихи. А Шатров и внешне выглядел необычно. Он говорил Сергееву, который носил очки, что поэта в очках не бывает, это как офицер с авоськой.
Шатрова кормили Пастернак и другие из суперэлиты. Шатров нигде не работал, мать его умерла, она была заслуженной артисткой республики. После концерта Софроницкого все знали, что при входе в музей на лестнице висит пальто Шатрова, и после чтения стихов все клали ему деньги в карман. И если там лежала сотня (это были большие деньги тогда), то это Пастернак положил. А там было человек пятнадцать в зале, и все клали деньги.
И.В. – Г.: А как Пастернак к тебе относился?
В.Х.: Возможно, он меня не знал. Слышал фамилию? Конечно. Он Красовицкого знал, Чертков с ним был знаком тоже. Не знаю, каким образом, но, когда еще не вышел «Доктор Живаго», у Черткова была рукопись с правкой Пастернака, и Чертков сказал: «Всю ночь читал, потому что завтра надо отдать, – зря ночь не спал». Я тоже видел эту рукопись.
И.В. – Г.: А как вы относились к стихам из «Доктора Живаго»?
В.Х.: Там стихов не было, только роман – прошитая рукопись. Но стихи хорошие, может, даже гениальные. Что я сейчас буду судить замечательного поэта Пастернака?
А Асеев поставил на меня – он мне сказал: «Приноси стихи, я буду тебе платить построчно». Два-три случая таких было. Я принес ему стихотворение «Цвельшукар» – в книге «Пирушка с Хромовым» оно есть, но не полностью. Точный, выверенный текст у Занны Плавинской. Я принес ему, он подсчитал – тогда в «Новом мире» платили рубль за строчку. Дает мне, а это длинное стихотворение. Я подсчитал и говорю ему: «Николай Николаевич, это не может быть нечетное число, там по строфам написано». А он: «Тут в конце ты год поставил – тоже строчка».
И.В. – Г.: Так он ценил тебя как поэта?
В.Х.: Не знаю, как ценил. Ему нравились такие стихи, а деньги у него случались, он иногда зарабатывал на бегах, но сам на бега никогда не ходил. У него были все справочники. Может быть, он ходил когда-то, но в старости уже сам на ипподроме не бывал, но играл. По этим справочникам ставил галочки, крестики, и к нему приходил такой мужик в жокейской кепочке – и они там шуршали, шуршали, показывали, показывали, спорили, спорили – и уходил. И Асеев часто выигрывал, может, не очень часто, но выигрывал. И он один раз даже мне позвонил домой: «Почему ты не несешь? У меня удача». Я говорю: «Что, в “Правде” опубликовали?» (Был 56 год, Заболоцкого «Прощание с друзьями» опубликовали в «Правде» – годы оттепели.) Он говорит: «Нет, тебя это не должно интересовать, я выиграл, приходи». А другой раз я собирался путешествовать по Северу, денег не было ни у Куклиса, ни у кого. Я собрал написанные стихи и поехал на Николину Гору, там, где правительственный санаторий, там, где Ельцин с моста упал, там дачи правительственные. И там, в конце, на горе, стояла дача асеевская – красиво, голубки на крыльце, вырезанные его женой. Я принес Асееву стихи, и он дал деньги, и жена его Ксения Михайловна всунула их мне в карман, она женщина была прекрасная. И еще я у них был (это не значит, что я у них часто бывал, просто каждый визит потрясал меня по разным причинам) – так его супруга подзывает его туда, в прихожую, туда, где Маяковский разваливался, как футуристическая скульптура, и показывает ему на мое пальто (а у меня такое тоненькое пальто было): «В таком пальто Хромов ходит по морозу». Но я сказал, что я быстро бегаю. Она была очень добрая, такая пышечка, а к старости, когда уже со Зверевым была, совсем похудела.
И тогда Асеев говорит: «Зайдем к одной моей знакомой – Лиле Брик». А Лиля Брик жила под горой, на даче Семашко, бывшего министра здравоохранения. Мы спускаемся с горки, стоит Лиля Брик на одной ноге, держится за яблоню и тапком сбивает оттуда яблоки. А Асеев, как садист какой-то, говорит: «Во-первых, если она тебе не понравится, то ты прочти ей стихи Клюева; если совсем не понравится – прочти стихи Ходасевича». Он к ней очень хорошо относился. Я спрашивал: «Почему?» – но он никогда не отвечал прямо, подзуживал всегда.
Она предложила нам чаю, у нее над головой был коврик работы Леже. Я говорю: «Это Леже». И ей понравилось, что я угадал.
Стали читать стихи, и зашел разговор о вине.
И.В. – Г.: А какие стихи ты читал?
В.Х.: Все подряд: и свои, и Хлебникова, и Красовицкого – Ходасевича и Клюева я избегал. Это был такой поэтический вечер. И уже темнело, когда зашел разговор о вине, Асеев говорит, что Володя в последние дни пил сильно. Лиля Брик говорит: «Нет, нет, он никогда не пил». Асеев говорил, чтобы ей насолить? Ну, это так, к слову.
Я виделся с Асеевым раз в полгода, раз в год, но он был интереснейшим источником всяких сведений. Однажды мы сидим, развалившись, Чертков и я, нас пирожными угощают, и вдруг к Асееву приходит гость. Солидный, здоровый, рыжий мужик русский, как будто вылезший из пшеничного снопа, с рыжими усами. «Николай Николаич! Позвольте сесть». Мне стыдно стало. Он так вежливо сел за стол. Это был Борис Абрамович Слуцкий. Вел он себя у них исключительно, чем пристыдил меня страшно.
Тогда поэты собирались на Тверском. Это было перед ХХ съездом. И там всегда можно было встретить Слуцкого (он снимал там тогда комнату, и окно было открыто), Винокурова, Виктора Бокова (был такой частушечник), Давида Самойлова – послевоенные поколения, повоенные, они там все время толпились. У меня было такое стихотворение, почти гнусное:
Оттепель. Оттаивает падаль. Слухами бульвары набухают. Солнце, обласкав расклейку «Правды», Смотрит в лужу лысиной Бухарина. На Тверском встречаются поэты, Говорят про Кирова и Рыкова. Я сегодня не был там, поэтому Целую эпоху профурыкал.Там они все время собирались и все время говорили. А тут такие события, они это все обсуждали, а когда там появлялись такие, как Леня Чертков или Сергей Чудаков, которым на все это было наплевать: кто был прав – Киров или Рыков, – им совершенно было до фени. Они ведь тоже были какие-никакие оппозиционеры, их тоже не всегда печатали. Они всем этим жили, это такой котел Тверской был. Чертков посмеивался над ними. Помню, однажды я там встретил Слуцкого. Памятник Пушкину уже перенесли, и вот на этой плешке он говорит: «Валя, прочти что-нибудь». И я прочел это стихотворение:
Опять придет апрель — Земля запреет, мы закурим. С утра заплачет дверь, Как зверь из зоотюрем. Глазами небо подперев, Мы будем о весне сорокать. В башке не волосы, а перья — Апрельская морока. Опять придет апрель По лужам прыгать-скокать, Светлее станет и добрей В стране голубоокой. Как милозвонки наши птахи И воскликапельные знаки. Как модно подновили в Африке Грачи поношенные фраки. Пришел саврасовский апрель. Петух не вовремя пропел. В окне веселый штрих собаки, И с чайников слезает накипь.Он обомлел, на него эти стихи произвели невероятное впечатление – за кого он меня до этого считал, я не понимаю.
«Валь, отдай мне эти строки». Самым серьезным образом, такой здоровый дядя. «Валь, отдай мне эти строки, тебе же все равно, ты еще напишешь». А я не мог понять, почему мне все равно… Потом Слуцкий написал вместо моих строк:
С утра заплачет дверь, Как зверь из зоотюрем…что-то такое:
В зверотюрьме рыдает зверь…Бывает так, что стихи одного поэта становятся очень важными для другого и он не может понять, как это он сам не написал их.
Дима Плавинский говорит мне: «Надо выпить и закусить, а денег нет. Мы сейчас провернем одну вещь – поедем на стадион “Динамо”. У меня есть картинка, которую я давно обещал отдать. Я буду недолго, ты только в такси посиди, подожди. Я отдам картинку, получу деньги, и мы пойдем в “Якорь”».
«Якорь» – это рыбный ресторан на улице Горького. Доехали до «Динамо». Он выходит. Жду, жду, и таксист мне говорит: «Давай плати, сколько можно ждать?» А денег-то у меня нет. Я выхожу, стоят рядом Плавинский со Слуцким. У Слуцкого под мышкой картина, и он говорит: «Дима, ты что, я-то надеялся тебе деньги достать, а ты с Хромовым. Ты знаешь, с кем ты связался? Он ведь нас всех перепьет и переживет».
А ведь Борис Абрамович относился ко мне хорошо, но боялся меня, как раскаленной печи. Он однажды увидел меня в доску пьяным, а утром встретил вновь: я был чист как ангел. Я был маменькиным сыночком, другие превращались в бомжей, а я после пьянки являлся с чистыми носовыми платками. Такая у меня маменька была, партийная, по образованию медик. Все религиозные праздники знала наизусть. Бабушка по отцу была старая большевичка, участница Гражданской войны Капитолина Гавриловна. А папа был железнодорожником. Люди они были не литературные. Но были тети, которые читали Брюсова, Маяковского, романсы 20-х годов. «Задрав штаны, бежать за комсомолом» Есенина. Сами комсомолками не были.
Пастернак сказал Черткову, что у Красовицкого такие неправильности, смелые, свободные и раскованные, что за этим чувствуется большая личность. Потому что неправильности или кто-то делает с нажимом, или строит из этих неправильностей свою гениальность. А вашему другу как будто это безразлично, он с такой легкостью строит неправильности, что за этим стоит большая сила. Под неправильностями он имел в виду такие вещи, как:
Я сижу порой на выставке один, С древнерусские пишу стихи картин.Или «привыкл» из стихотворения, которое вы напечатали в «Зеркале» в цикле «Другие стихи». Это поэтическая сила владения речью, это и открытия, и находки. И Пастернак, возможно, это заметил.
Так Красовицкий никуда не ходил, ни с кем не был знаком, но, по слухам, его стихи нравились Ахматовой, Заболоцкому. Красовицкого самого это меньше всего интересовало и интересует. А Леня Чертков везде таскал и показывал его стихи. К Леониду Мартынову таскал, его многие недолюбливали, но «Лукоморье» нам нравилось. Мартынов был моим соседом. Я жил напротив тюрьмы «Матросская тишина», в таком хорошем, зеленом дворе. Дом 18 был тюрьма, 20 – психиатрическая больница, и у нас шутили: жизнь хороша – или туда, или сюда. А Мартынов жил на 11-й Сокольнической, в доме 11, квартира 11. Чертков затащил меня туда и начал расспрашивать Мартынова об Омске. Вот вы в таком-то году приехали из Омска, как там Колчак, Питирим Сорокин? Оказывается, он знал Питирима Сорокина и интересно о нем рассказывал.
Из всех нас Мартынову больше всего понравились стихи Сергеева, так же как Заболоцкому. Сергеев сделал такой фокус: послал стихи четырех поэтов – Красовицкого, Черткова, Хромова и Сергеева – Заболоцкому, что тот ответит. А я этого даже не знал. И Заболоцкий ответил Сергееву очень хорошим письмом, очень похвалил Сергеева, а другим ничего не ответил. Но он человеком был очень аккуратным и обязательным, он был и на фото, и в жизни похож на бухгалтера в очках. И вдруг через неделю он звонит мне и говорит: «Вы знаете, в ваших стихах очень многое от ранних футуристов, я не скажу, что это плохо, но не повторяете ли вы тот же поток, который уже прошел?» А я ему тут же говорю: «Согласен, я их очень люблю», – и процитировал ему его же стих «Читая стихи» (1948), в котором он со своими идеалами, или для публики, или для официоза, расправлялся:
И возможно ли русское слово Превратить в щебетанье щегла, Чтобы смысла живая основа Сквозь него прозвучать не могла?А я не знаю, что Сергеев послал ему, может быть, «Цвельшукар», у меня в стихах тогда было сплошное чиканье и чириканье. Потом произошла неожиданная вещь. Мы поехали с художником Сашей Харитоновым в мастерскую Эрзи на Песчаную улицу. Эрзя еще был жив, старичок такой. Мы посидели на дереве, привезенном из Аргентины, выпили. И вдруг там, на Песчаной этой улице, мы встречаем в какой-то пивной Николая Александровича Заболоцкого. Он стоит и говорит: «Здесь, кроме пива, ничего нет. Вот, пожалуйста, сбегайте за угол». Сам Заболоцкий, причем голосом какого-то невероятного бухгалтера, педантично, строго. И что вы думаете – он достает из пиджака, пальто расстегнуто (а время было холодное), целлофановый пакетик (это была большая редкость тогда), и там лежит такая рюмочка-стрекозка. Харитонов открыл бутылку, и ему в эту стрекозку наливали. И в это время я ему «Столбцы» начал читать, и прочее, и прочее. Я тебе говорил, что Маяковский был пьянь в последние дни, а вообще – трезвенник. А этот человек – ему, наверное, очень плохо было в семье или вообще плохо. Он от кого-то скрывал и что-то в себе нес. Поразительно было, что разговаривать с ним почти не о чем было. Вот ты ему читаешь его же стихи, а он тебе говорит вместо этого: «Можно еще стрекозку?»
В то же время это был 1956 год, он уже ездил с делегацией советских писателей в Италию – Слуцкий, Заболоцкий, – но был такой, как пришитый, как человек в футляре. Его сверху пришило, и не скажешь, что у него внутри, может быть, там он сильный, но снаружи он был совершенно пришибленный, он жил в оболочке, его жизнь в такого превратила.
И.В. – Г.: Как вы себя ощущали, какова была ваша функция в этой жизни? Что такое для вас была поэзия? Что вы хотели сказать?
В.Х.: Я жил рядом с клубом Русакова архитектора Мельникова, с детства это конструктивистское здание на меня производило впечатление, потом я рисовал, потом попал в одну школу со Зверевым. Был в школе такой Николахин – художник потрясающий. И был такой невероятный футуризм, который до конца не был убит. Еще попадались люди, которые все помнили, у нас один такой преподаватель в школе был. Еще были такие пивные в Москве, где читали Блока, Есенина, Гумилева, иногда Мандельштама, прорывались перебитые обрешеченные ростки футуризма, конструктивизма. И эти послевоенные ребята встречались, каким-то образом находя друг друга. Возник какой-то ценз образованности, ценз проникновения, когда в определенном узком кругу ходило невероятное количество информации. Мы ездили с мужем Галки Андреевой – композитором – в общежития консерватории в Дмитровском переулке и на улице Гастелло. Там Шнитке, Чаргейшвили, вставив газету между струнами и молоточками фортепиано, устраивали какофонию. В Скатертном переулке жил Андрей Волконский, у него черт-те кого только не было. Заходишь в кафе «Прага» – там кто-то болтается, идешь по Тверской – встречаешь кучу народа.
Я попал в невероятную струю увлечения футуризмом в клубе Русакова, и у нас в школе много таких было. Сергей Чебаковский, мой приятель, рассказал мне, что он был в Пушкине и там «встретил малого, может, в твоем духе». Оказалось, что это Игорь Куклис. А потом Зверев, Плавинский, Харитонов, Илья Иоганыч Цирлин – искусствовед, объединивший и соединивший целый круг.
И.В. – Г.: Ваше поколение после страшного террора, уничтожившего и изъявшего из общего употребления главный слой русской культуры, должно было первым восстанавливать прерванную нить и построить собственную иерархию. В отличие от большинства поэтов, ваших современников (я не говорю об официозе и либералах), Ахматова и Мандельштам не были вашим первым предпочтением?
В.Х.: Знать – знали хорошо, читали, но как-то прошли мимо. Понравится – поаплодируем, почитаем. Например, один наш знакомый, Саша Морозов, лучше всех в России знал Мандельштама. Надежда Яковлевна с ним советовалась.
И.В. – Г.: Откуда взялся такой поэт, как Красовицкий, повлияло ли на него чтение западной поэзии в подлинниках?
В.Х.: Красовицкий с детства писал потрясающие стихи, тут уже ни на Одена, ни на кого не свалишь.
И.В. – Г.: Вы тогда говорили о западной поэзии?
В.Х.: Все время. Сергеев переводил, он почти официально считался лучшим переводчиком англо-американской поэзии. Чаще всего мы читали Джойса и много о нем говорили. Потому что Джойс – это как в России в семнадцатом веке Кирша Данилов. Чертков старой поэзией увлекался. Но двадцатый век – это все свои.
И.В. – Г.: Кого ты называешь своими?
В.Х.: Сергеев, Заболоцкий, Хромов, Пастернак – все свои, и никто здесь не выделялся, но все тогда признавали, что Стась лучше всех. И больше всего у него было подражателей – невероятное количество, все дураки, которые пошли потом в поэзию «звукового гона». Все обдирали Стася, кроме официоза, конечно. Все, назови любого. Все абсолютно, Бродский, например, он тогда, конечно, слишком молодым был, 15–17 лет, но тоже восхищался Красовицким, считал, что Красовицкий – единственная стоящая фигура, в Москве, по крайней мере. В Ленинграде я не знаю, может быть, он ценил своих друзей – Наймана и Рейна. В Москве Бродский останавливался у Сергеева и очень многому у него научился, не в смысле поэзии, а в смысле расширения кругозора. Сергеев знал всю западную поэзию от Фроста, его переводы Джойса потрясающие. Он открыл Джойса, не Кашкин. Но Бродский по-человечески очень отличался от Красовицкого. Красовицкий – это ветер при всей его серьезности, он был абсолютно уверенный в себе человек, ему абсолютно наплевать на все, он мог все сжечь и идти дальше.
Как сейчас говорят о Красовицком: «Ах, извините, это не то, вот то было гениально, но сейчас это не так уж плохо». Вот вы назвали его публикацию в «Зеркале» «Другие стихи», и это действительно так. Но некоторые говорят: «Вот как тогда…» Я согласен, ранние стихи всегда лучше. Но это не ранний Маяковский и поздний. Это другое. Это очень сильные стихи. Как «Осень», например. Это потрясающие стихи, может быть, они не так очевидны и броски, но глубина там и пространство внутренние. Сейчас он ничего не растерял, он сам по себе мощь как человек. Хилый, маленький, но человек такой внутренней силы, неизвестно откуда взявшейся, как он обижается, переживает разные моменты, он во всем талантлив.
А на молодого Бродского Красовицкий произвел сильное впечатление. Но тот был другим человеком. Потом он сам стал преуспевать и где-то написал: «Да, Красовицкий мощь, но я его превзошел». Это он зря написал, преодоления, конечно, не было. Бродский – талантливый поэт, и для своих современников второй половины ХХ века он, конечно, фигура. Просто мне у Бродского многое не нравится. Нет, неточно, даже нравится. Например, венецианский цикл серый (мне неудобно перед Бродским, он там похоронен). Он там нигде не перешел амплитуды, это не тянет на большую фигуру ХХ века русской поэзии. Но он захваленный поэт и очень талантливый человек, и у него есть прекрасные стихи, и я даже не назвал бы их прекрасными, какое-нибудь другое слово подобрал бы – надо найти субститут прекрасному и блестящему, – где ничего не нравится глазу, вкусу, чувству, а здесь ничего не нравится, но стихи на уровне гениальности, чувствуется сила, мастерство, умение, понимание. Описывая свою квартиру, дом, он расширяет свой не очень широкий мир – это квартира, это очень сильно, как называли Пастернака «дачным поэтом», но с дачного участка можно вылезти во всю вселенную. А Бродский какой-то квартирно-кухонный. Если к такой огромной фигуре, как Пастернак, можно привязать дачу, как печать упрека, как сужение мира к форточке, у Бродского мир сужается до квартиры и комнаты, и тут он особенно хорош. А когда он выходит в пространство, там он по идее не может, там у него обнаруживаются пустоты и пробелы.
Но меня в поэзии интересуют совсем другие вещи. Я начинал со звука – звук, звук и звук. Когда я был совсем маленьким и вел идиотские разговоры, как-то Чертков мне сказал об одном стихе: «Какое смачное слово, какая рифма с мясом». Звук, слово, птичьи трели, Хлебников – все это составляющие поэзии. Это я любил, от этого я не мог уйти.
И.В. – Г.: А что такое Красовицкий?
В.Х.: Для меня Красовицкий танцует во всех своих стихах, даже в самых ранних, он движется – это ритм. Кто-то играет звуком, целиком им поглощен, звуковые сочетания и так далее. Красовицкий наоборот – у него ритм огромный, внутренний. Об этом никто никогда не говорил. Всех привлекает в Стасе образность, но это само собой.
И проталкивал в тамбур в темноту проводник.Но внутренняя жизнь пространства стиха – это танец, он там буквально танцует, привстает на цыпочках внутрь пространства стиха.
А Бродский другое: он не танцует ритмом, то есть танцует, но не до конца, нет полного проявления, в звуке тоже нет. Значит, у него есть третья ипостась, может быть, какая-то другая физиология, дыхание – но я этого не чувствую, но где-то он не дотягивает в звуке и ритме, но, может, ему это не нужно.
И.В. – Г.: Скажи мне, как тебе кажется, возник ли новый поэтический язык?
В.Х.: Я думаю, что еще не возник, но уже делаются попытки. Я сам не вижу поэзии без звука и ритма – это какое-то другое искусство. Я скорее Кабакова могу понять, что, конечно, тоже уже не живопись, но это еще не уход от живописи, хотя там уже другие плоскости и другое пространство. Кабаков еще здесь, но новая поэзия – Пригов и другие – я их совершенно не воспринимаю.
И.В. – Г.: А Холин – большой поэт?
В.Х.: Ну, я бы не сказал «большой поэт» – таких смелых суждений я избегаю. Холин в некотором смысле даже старая школа. Леня Чертков разделил в свое время всех поэтов на группы: юродствующие, буколические и инфернальные. Но это может быть все сразу, но дело не в этом. Инфернальные – это Красовицкий: «…и мертвей, чем в постели, лицо отца…»
Буколический – это, может быть, Чертков, но он может быть и инфернальным. Буколические – это значит природа, солнце, калины цвет.
Пойду, пойду по молодой росе, По кисельные ровные берега.Это – буколика, Аркадия.
Холин вполне юродствующим был, в хорошем смысле. Юродство настолько облагороженное, что становится элегантным. Холин – традиционный поэт, тот, кто развивает и продолжает существующие корни русской поэзии.
Я расскажу сейчас потрясающую вещь. Красовицкий когда-то сделал целую кипу визуальных стихов – рисунки пополам с текстами. Вдруг клякса на странице, и около нее так небрежно лист заполнен текстом. И все это сливалось графическим образом и сливалось текстуально. Неужели он это выбросил? Он сжег многое, может быть, графические стихи остались. Там была полифония, а сейчас многие печатают текст без графики и графику без текста. Графика совсем потеряла звук, и полифония исчезла полностью, это уход в другое искусство, другое пространство. Всякое новаторство всегда возвращается к чему-то, имеет корни. Это известно, что человек ничего не может придумать, чего бы не было, что не соответствует его психофизиологической организации, а значит, и психофизиологической организации еще кого-то. Так в ташистской живописи повторяется космос, так в любом твоем изощренном изобретении оказывается, что это соответствует чему-то, и все очень просто. Сапгир, Холин, Некрасов – я их всех признаю, но это все традиционная ожидаемая русской поэзии. Тут Сапгир меня поразил – он такой юродствующий, насмешливый, скептический, а на вечере памяти Сергеева прочел такое трогательное стихотворение, это когда Сергеева сбила машина.
И.В. – Г.: Валя, что будет?
В.Х.: Очень просто будет, мне кажется. Лет пять пройдут, и к 2010 году, когда уляжется спор хрестоматий ХХ века, возникнет горизонталь, над которой будет возвышаться вертикаль, сейчас еще рано говорить про это. Это связано с хрестоматиями и хронологиями. Вышла такая хрестоматия, питерская, но что это за хрестоматия такая: все ленинградцы там есть, но самые такие заурядные поэты и московские заурядные, но нет там ни Черткова, ни Красовицкого, ни Сергеева. Он все-таки премию Букера получил, в энциклопедиях встречается, и его там нету.
И.В. – Г.: А тебя?
В.Х.: И меня нет. Ну это все пройдет.
И.В. – Г.: А хрестоматия Ахметьева?
В.Х.: Он эрудит. Ну, он придет к чему нужно. Он от Черткова идет и много знает. Правда, стихов его я не читал. Еще есть соросовская хрестоматия, черная, она у меня есть. Ну, там мы все присутствуем, но и ерунды, и ошибок там тоже много. Например, о Сереже Чудакове. Пишут о нем и не знают, откуда он взялся. Неважно, какой поэт он был, но это была заметная фигура того времени. Чудаков из Красовицкого вылез целиком. Может быть, он никуда не долез, но всю жизнь только и ходил по Москве, и читал всем стихи Красовицкого, и пропихивал в печать всякие фокусы про Стася. Ко мне он очень хорошо относился, он бы меня никогда не обокрал, у него была этика.
И.В. – Г.: А он воровал?
В.Х.: Он все что хочешь воровал. Чем он только не занимался. Он был связан с криминальными кругами. Когда я работал искусствоведом в отделе реставрации у Ямщикова, Чудаков пришел ко мне туда, и я вижу – все побледнели. Меня отозвали: «Ты что, не знаешь, что это Чудаков, а здесь иконы стоят!»
И.В. – Г.: Валя, ты чувствуешь себя частью русской литературы или культуры всеевропейской? Есть ли вообще национальность?
В.Х.: Есть, наверное, но правильно определить трудно. В поэзии, например, линию национальности труднее провести, потому что если Пушкин эфиоп, то и других полно таких же. Но есть вещи важнее, чем личная национальность, – это привязанность к русской поэзии. Это такое бывает национальное чувство, но это не в крови, это фактура эпоса и этноса. Но она не уменьшается ни в личность, ни в кровь – это пошире. Конечно, человек любит свою фактуру, и возникла антипатия к чужому – конечно, граница есть. Стась и Сергеев лучше воспринимали чужую поэзию, и хотя я знаю языки, даже китайский, но для меня есть грань – это не мое, это английское. Появляется такая ничем не оправданная снисходительность. В юности я писал стихи на нескольких языках – мне очень нравилось. У меня есть поэма, составленная из одних российских географических названий.
«Шма Исраэль, адонай элохейну, адонай эхад» – я когда-то много знал еврейских слов и молитв, писал английские и китайские стихи, но до конца этим не проникся, потому что увлекся звукопластикой, как у Батюшкова в стихах. У него такая бестелесность, аморфность – и вдруг:
И, землю лобызав с слезами, Сказал: «Блажен стократ, Кто с сельскими богами, Спокойный домосед, земной вкушает рай.Это же не выговоришь! Пушкин говорил: «Звуки у него итальянские, прозрачные». И после такой прозрачности: «И, землю лобызав с слезами». Трудно назвать это влиянием или связью, человек живет сейчас, всем комплексом уже существующего, но какие-то линии все-таки существуют, одна выходя из другой.
Своих стихов я пока не собрал, хотя печатают многие, будто меня уже нет. Друзья выпустили книжку «Переписка с Хромовым» тиражом в 20 экземпляров. В КГБ меня часто таскали – то за Черткова, то за Галанскова и Гинзбурга, то еще за кого-то, но однажды вызвали за мои стихи. Скорее всего, за мной приехали, что бывало чаще. Был такой стишок в 56-м:
В тот вечер, возвращаясь с пьянки, Я оказался под чужим окном. Товарищ Сталин вешал обезьянку И медленно пытал огнем. Потом он вынимал ее кишочки И пожирал, торжественно урча. С тех пор я не читал его ни строчки. Читаю только Ильича.В КГБ говорят: «Откуда такая бравада? Вы знаете, чем эта бравада вам грозит? А мы все-таки не такие идиоты, как вы о нас думаете. Эти стихи-то ваши – антихрущевские, против Никиты Сергеевича направлены, не говоря уже о всех других, выше упомянутых». Правы были.
ЦВЕЛЬШУКАР Взойду я, взойду я на гой-гой-гой. Ударю, ударю в ци виль-виль-виль. Из Даля Цвель цвель зацвелькали цвелью Листья заиндевевшие Мель мель метет метелью Листья пожелтевшие Мелькают мельничные жернова Мель желтеет в мелких водах И цвельканьем цвелью совсем не нова Свирель в индевеющих проводах Цвель цвель зацвелькали цвелью Листья заиндевевшие Мель мель метет метелью Листья пожелтевшие Шу шу шумом крепчает И вдоль берегов не спеша Шаткий камыш качает Ветер шуршаньем шурша Шу шу шумом шумит Тростник заиндевевший Усни усни а он не спит Тростник пожелтевший Шумят шесты с батогами Два шаловливых малыша Со сливовыми глазами Ловят вершей ерша Шу шу шумом шумит Тростник заиндевевший Усни усни а он не спит Тростник пожелтевший Звезды далекие очи Зори холодный пожар В преддверии будущей ночи Кар кар кар Цвель цвель в тишине Листья тростник Кар кар в вышине Вороний крик В. Хромов «Зеркало» № 24, 2004 г.«Искусство – это конкурс продуктов…»
Беседа с Всеволодом Некрасовым
Ирина Врубель-Голубкина: Сева, мы родились в одном месте, выросли на этом маленьком пятачке Москвы – Пушкинская, Петровка, улица Горького, Столешников. В какой школе ты учился?
Всеволод Некрасов: В 170-й. Рядом была женская 135-я.
И.В. – Г.: Я в ней училась, правда, всего один год. А про 170-ю – фольклор:
На виду у облаков Стоит школа дураков. Самая проклятая Сто семидесятая.Вс. Н.: Ишь ты, этих стихов я не знал. Наверное, это уже после меня. Меня среди этих дураков уже не было, я был среди других.
И.В. – Г.: Кем были твои родители?
Вс. Н.: Отец – учитель истории и географии. Он умер от пелагры в 1944-м в Казани, где во время эвакуации работал возчиком. Он был человек очень немолодой, не очень здоровый, призыву не подлежал. Подался с нами в Казань и там в итоге и остался. А мать умерла в сорок седьмом.
И.В. – Г.: С кем же ты жил?
Вс. Н.: У отца с матерью все время происходили какие-то семейные передряги, люди они уже тогда были немолодые, а тут еще война. До войны я жил с ними в Тихвинском переулке. Когда началась война, мне было семь лет. После эвакуации в Казань мы вернулись в Москву. Мама моя уже была инвалидом, не работала. А до войны она работала по дошкольному воспитанию, устраивала какие-то утренники, вечера, сопровождение лекций и киносеансов, работала на детских площадках и садах – я уже ничего практически не помню. А после смерти матери я жил с семьей отчима на Петровке.
И.В. – Г.: Сева, какую культуру ты получил из семьи? Что на тебя повлияло?
Вс. Н.: Отец и мать давали мне читать много хороших книг, они это дело знали туго. Тогда как раз детская литература цвела, поэзия особенно. Все там были: маршаки, чуковские, барто всякие, приемлемый Михалков с «Дядей Степой», и вот все это с удовольствием читалось. И еще «Путешествие Нильса с дикими гусями» и многое другое. Я сам научился читать – все наше поколение много и с большим удовольствием читало.
И.В. – Г.: Семья тебя поддерживала?
Вс. Н.: Ну, в семь лет – конечно, но, когда я рос, семья кончалась постепенно. Начались всяческие сложности и передряги. В аховых условиях эвакуации мы, пять человек, жили в одной одиннадцатиметровой комнате с печкой, плюс всякие нелады в семье: у отчима была семья – дочка, зять. Люди неплохие, но жить всем вместе было тяжело, тем более мать уже была больна и нервы у нее хорошо гуляли. Она нахлебалась лиха еще в Гражданскую, у нее тогда революционные граждане солдаты и матросы убили жениха.
И.В. – Г.: Из твоих родственников никто не писал и не имел к культуре никакого отношения?
Вс. Н.: Прямого – нет, но читали очень много, и отец собрал приличную по тем временам библиотеку, которая исчезла во время войны. Наша московская квартира исчезла, и вернулся я уже на Петровку.
До войны на Тихвинке мы жили в доме учительского кооператива 28 года постройки – кирпичной четырехэтажке с убогими квартирами. Но мы-то жили там втроем: папа, мама и я, и было все нормально, а потом все пошло к черту: эвакуация, война… Так что какая там поддержка. На Петровке мне выделили маленький убогий уголок.
И.В. – Г.: Я думаю, все наше поколение само себя создало, то есть все мы получили из семьи ту или иную генетику, тот или иной культурный уровень, но не было никакой преемственности. Каждый создавал себе культурное пространство.
Вс. Н.: У меня постепенно разорвались все отношения с приемной семьей, я там был абсолютно некстати, и меня выперли в тот угол, который ты видела. Но мать приучила меня читать и очень настаивала на Маяковском. И еще я обязан тете, которая мне помогала материально. Я учился на ее деньги. Она водила компанию с известными людьми, рассказывала о Есенине и Маяковском, и смутные впечатления об этой атмосфере очень на меня повлияли тогда.
И.В. – Г.: Знаешь, мой отец, Израиль Аронович Врубель-Голубкин, профессор геологии (он умер в 29 лет в 1952 году, я его практически не помню), писал стихи под Маяковского. От него осталось много футуристических книг, я на них в детстве рисовала. Мне никто не мог объяснить, чем это станет потом для меня.
Вс. Н.: Да и у меня оставалось несколько таких брошюрок, я тоже не помню, куда они подевались. Была одна такая имажинистская штука c супрематической графикой. Шершеневич там был и еще кто-то.
И.В. – Г.: Собственно, почему я все это спрашиваю? Меня интересует, как ты пришел к своему поэтическому языку, какой путь проходит человек, создавший свой поэтический мир и повлиявший на развитие русской поэзии. Попытайся рассказать об этом.
Вс. Н.: Ну, об этом я рассказать не могу, потому что мне это неведомо и незнакомо, и это интересная для меня информация о мифотворчестве. Но я могу рассказать, как я приохотился к стихам. А приохотился я к ним через юмористику и пародию.
И.В. – Г.: Какую?
Вс. Н.: Архангельского.
И.В. – Г.: У тебя была дома книга пародий Александра Архангельского?
Вс. Н.: Мне дала ее почитать очень интересная девочка из параллельного класса 635-й школы, которую звали Иркой. Но она не оправдала своего образа в дальнейшем.
Война всех страшно перепугала, и у всех был страшный послевоенный испуг. Война – это конец жизни, сплошная темнота и голод. Я за четыре года не наедался досыта ни разу.
И.В. – Г.: «А на вкус луна была белая»?
Вс. Н.: Один раз я наелся гнилой картошкой. Ее и много-то было, потому что гнилая. Потом меня понос прохватил. Темно, голодно, холодно, что будет, неизвестно. А тут война кончилась. И, слава тебе, господи, – электричество, жрачка, ну, хлебом, во всяком случае, можно было наесться, а потом уже и с маслом. Короче говоря, сплошное веселье. Это такой откат, фаза эйфорическая после депрессивной. А тут еще юный возраст – понятное дело. Страшно мы тогда хотели жить и веселиться. Общество тогда больше всего любило эстраду.
И.В. – Г.: О каком обществе ты говоришь? Кто-нибудь из твоего окружения писал что-то?
Вс. Н.: Люди как люди, в основном хорошие, а из писавших был такой Дима Урлов, человек в школе видный, читал у нас на школьных литературных вечерах, но потом показал себя советской породы человеком. В 60-х, когда я кое-что написал и считал, что это можно показывать, был момент, что я к нему обратился, а он уже работал в Институте всемирной литературы, но толку никакого из этого не было.
И.В. – Г.: А учителя?
Вс. Н.: Особенно запомнилась учительница литературы Лидия Герасимовна Боранштейн. Когда мы спросили, почему мы изучаем только поэму Блока «Двенадцать» и где остальные стихи этого поэта, которые раньше были в хрестоматии, она ответила: «А Блок, кроме “Двенадцати”, – это символизм, зачем нам изучать символизм?»
В школе была довольно интенсивная литературная жизнь – вечера, конференции. Правда, ребят больше привлекали танцы после этих мероприятий. Я никогда не танцевал, зато читал стихи и нес всякие глупости, кроме одного раза, когда я рассказывал о прочитанной перед этим книге К. Чуковского «Мастерство Некрасова». У меня было издание конца 20-х – начала 30-х годов, еще не переработанное, в последующих изданиях уже не было нужной мне информации. То же тогда сделали с Эйхенбаумом и многими другими. Вроде бы Чуковский не испытывал никаких давлений, но и у него стало все как-то растекаться, и вот такой убедительной антологии городского Некрасова у него потом не получилось. И это очень существенно, потому что Некрасова изучают по сельской классике, это очень здорово, никто не спорит, но все-таки самый острый, самый небывалый и актуальный Некрасов – фельетонно-куплетный и нисколько не менее грустно-щемящий и драматичный, чем сельский, но гораздо живее. На самом деле он гораздо больше жил в городе, чем в деревне, и, конечно, жил литературой, и нечего ревизовать Некрасова, не может быть тут никаких ревизий, это пошлятина и глупость. Это как ревизовать Маяковского за то, что он имел роман с советской властью, ревизовать Некрасова за то, что он недалеко от Чернышевского бился. Чепуха. Конечно, Пушкин, Лермонтов, Некрасов – эта тройка останется навсегда, по стиху, во всяком случае. В стихах он делал то, что до него никто никогда не делал, и я это почуял очень рано, еще в последний год войны мне попалось старое, дореволюционное издание Некрасова со всем этим городом, стихами о погоде. И меня очень заинтересовал этот мир: незнакомый, непонятный, видно, что очень живой, реально существовавший. И об этой книге я рассказал на конференции в школе.
Конечно, в школе было очень много школярства и действительно много дураков, но все же это какой-то круг был. Закончил я школу в 1953 году. Как раз подох товарищ Сталин, и все стало очень просто, четко и красиво. Все стали увлекаться агитками.
И.В. – Г.: Какими агитками?
Вс. Н.: «Встречей на Эльбе», Голосом Америки, «Уссурийским вальсом», «Солдатами Америки» – это была западная жизнь, которую надо было разоблачать, все укладывалось в схему борьбы за мир и с негодяями из ФБР. И, конечно же, начали танцевать буги-вуги, и чем больше с этим боролись, тем больше это привлекало. Потом появился Райкин, потом «Вот идет пароход», Менакер и Володин, и все это смотрелось, обсуждалось, и все привело к собственному писанию.
Потом я прочитал книгу Архангельского и вдруг обратил внимание на то, как это смешно, остро, интересно, что те стихи, которые он пародирует, не менее смешные, не менее острые, чем, например, Маяковский. Даже еще более. Ясно, что эта забота сделать строку как можно физически сильнее есть и в оригинале, и в пародии. Архангельский понимал, что, если не довести до упора то, чего хотел автор, не будет пародии. А автор до своего упора довел раньше – и ничуть не хуже.
Меня это озадачило, потому что в этом и был секрет писания стихов, которых я еще сам не писал, но уже задавал себе вопросы.
И.В. – Г.: Какой это год?
Вс. Н.: 1951-й или что-то такое. Я уже пытался писать стихи сам, очень плохие.
И.В. – Г.: Ты помнишь что-нибудь из них?
Вс. Н.: Даже если бы что-то помнил, не стал бы их читать. Не то что они были советские – они были образцово плохие, и, если они откуда-то вылезут, их нужно сразу уничтожить. А получаться у меня стихи стали пять лет спустя: 56-й, 57-й, 58 год. Может быть, более точно – осенью 1957-го.
И.В. – Г.: Какое первое получившееся стихотворение?
Вс. Н.: Вот это:
Под ногой от порога Чувствуешь, что листва Тут должна быть дорога Там должна быть Москва Темнота нежилая Дождевая тишина Окликает дальним лаем Один фонарь Другой фонарьЯ могу пустить тебя в свою лабораторию: эти стихи я стал считать за действующие гораздо позже, когда мне пришло в голову немножко сдвинуть строчки, чуть-чуть испортить более правильно написанные стихи, но правильность эта аннулировала сами стихи. Было так:
Под ногой у порога шевелится листваДальше было:
…дальним лаем Тот фонарь другой фонарьВроде бы ничего существенного, но почему-то в том виде стихи несли на себе отпечаток общей тупости поэзии тех времен, даже не хочется сказать «советской», хотя чисто технически можно так сказать. Здесь не в этом дело. Меня окружала тогда поэзия советской выработки.
Пусть мое движение искусственное, пусть полупродуктивное, но оно точно отбрасывает эту липкую гадость, может, стихи вылезают оттуда неуклюже, может, еще не отряхнулись, но они все-таки вылезли, и они сами по себе – несколько слов, которые живут и могут жить.
Это было осенью 57-го, я тогда свалился с вирусным гриппом на даче в Малаховке, никуда, естественно, не ходил, лежал в сенях на сене, октябрь был не суровый, можно было перекантоваться. Там же получились стихи на эту тему – «Темнота в темноту», зацепился я за пейзаж и так стараюсь с ним не очень расставаться.
Темнота В темноту Опускается пыльца Где-то там Где-то тут Где-то около лица Над покрытой головой И в канавах у шоссе Дождевой Деловой И касающийся всех Происходит разговор Между небом и землей Между летом и зимойИ.В. – Г.: Написал ты эти стихи, и куда ты с ними пошел, где искал единомышленников?
Вс. Н.: У нас в Ленинском педагогическом институте было литобъединение, были симпатичные ребята. Сейчас мне трудно всех вспомнить, но главным там был Саша Аронов.
И.В. – Г.: Мой учитель в 635-й школе. Он был старше тебя?
Вс. Н.: По-моему, нет, но учился он на три курса выше, я сильно опоздал в институт. Он был старше меня по статусу. В институте было аспирантское литобъединение – Саша Аронов, Сережа Генкин, Галя Смирнова, Надя Терехова, Лена Иваницкая. Руководил литобъединением Володя Липсон, который, кстати, писал неплохие пародии.
И.В. – Г.: И как они восприняли эти стихи? Увидели ли в них что-то новое?
Вс. Н.: Я и сам лет этак пять не мог понять, почувствовать, что что-то умею. И это не только мое личное ощущение – это был вопрос всего искусства того времени, которое барахталось, вылезало, отлипало, отряхивалось. Где-то через два-три года мне показали живопись, что тогда люди делали, и тоже всегда можно было определить: вот это – советское, а это – нет.
И.В. – Г.: Кого ты увидел первым из новых художников?
Вс. Н.: Первая живопись была оглушительной, это резкое, отчетливое впечатление: 59 год, меня Саша Гинзбург повез в Лианозово, я увидел Рабина и обалдел. Я до сих пор считаю его большим художником.
И.В. – Г.: Значит, первым представителем этого круга, с которым ты познакомился, был Алик Гинзбург?
Вс. Н.: Ну, это не совсем так. Гинзбург был первым, кто обратил внимание на мои стихи. А стихи он получил, возможно, у Саши Аронова. Это все были люди из «Магистрали» – литобъединения при клубе железнодорожников, которым руководил Григорий Левин, весьма неоднозначный персонаж. Он меня поначалу очень насторожил, но в результате сделал много хорошего. Но, может, у него такое задание было. Я начал ходить туда с 58 года, у нас на Красносельской в институте был как бы филиал этой «Магистрали», к нам приходил Окуджава, Эренбург рассказывал то, что потом было напечатано в «Оттепели».
И.В. – Г.: Скажи, Сева, тогда уже было у тебя четкое разделение советского писания, советского слова и нашего, того, что потом стало называться вторым русским авангардом, а тогда имело самоназвание «левые»?
Вс. Н.: Оно было-то было, но я достаточно рано стал понимать, что есть такое советское, от которого не отмахнешься, – достаточно одного «Теркина» или Светлова. Я знал, что Светлов – это советское, но для меня он был очень важен. Или Антокольский, Луговской – они были советскими поневоле. Но это было физически ощутимо – от чего надо избавляться, иначе не получится, иначе сам влипнешь. Это не обязательно советская идеология, хотя все связано. Хорошие стихи автоматом не делаются только резкой антисоветской позицией – это не так просто. Луговской вот, кажется, уже меньше думает, меньше терзается, дело житейское, все так. Тридцать лет и больше происходит амортизация, которая принимает советские формы, то есть поздние стихи тяжелеют. Но ведь есть же не только поздние.
Потом был этот знаменитый проект с «Синей весной», но мне это особенно не показалось, и Луговского я особенно не полюбил. И у Антокольского много серьезного и искреннего («Сын»). Но в результате от него остается только восемь строк.
И.В. – Г.: А лично ты не был знаком с кем-то из них?
Вс. Н.: А зачем мне? Я в той же «Магистрали» видел достаточно всяких людей, мне понятно, о чем будет идти разговор, все мололи языками примерно одно и то же. Но были и такие, которые в то время владели каким-то секретом: Л. Мартынов, и Б. Слуцкий, и что-то было в песнях Окуджавы. И Слуцкий не сталинских стихов, а ошарашившего меня «После драки помашем кулаками». День поэзии, 1956 год. Сразу понятно, что есть поэзия, есть люди, которые знают, но лет через восемь последовало:
Добывайте, ребята, опыт, Отбывайте, ребята, стаж. У народа нет времени, Чтобы слушать пустяки.И это нотация нашему брату, и прежде всего тогда, когда Никита уже полез громить формализмы, абстракционизмы и авангардизмы. И Борис Абрамович тут как тут. Вот молодец какой. Ну, тут на него все взъелись, и правильно сделали. И никто больше не захотел иметь с ним дела. У меня даже есть эпиграмма:
– Русский ты Или еврейский? – Я еврейский русский. – Слуцкий ты или советский? – Я советский Слуцкий.А до этого я побеспокоил Бориса Абрамовича и Давида Самойловича (Самойлова), который мне поначалу очень понравился, хотя не так. Ну, это вопрос соотношения традиционного и нетрадиционного стиха, соотношения, которого никогда никто не разрешит. Почему традиционным путем не может ничего получиться? Ведь так писали очень хорошие стихи. Почему же сейчас не может быть Пушкиным Самойлов? Он очень настаивал на Пушкине.
Потом мы с Игорем Мазлиным пошли, по рекомендации Володи Ленсона, который уже тогда был правдист и «народник», к Владимиру Корнилову (он тогда стихи писал) и попросили его показать или почитать нам свои стихи. Я никогда не молился на Корнилова, но в нем что-то было, он отличался от других. Конечно, Сапгир был гораздо интереснее, а он корниловский сверстник. А Игорь Мазлин был привержен к народности и слушал Корнилова разинув рот. Я слышал стихи Корнилова и раньше, он писал много и напористо, что само по себе достижение. Потом мне передали, что Корнилов принял меня за стукача. Вот сука какая!
И.В. – Г.: А стихи свои ты ему показывал?
Вс. Н.: Кажется, да. Так вот, стихи ему как раз не понравились.
И.В. – Г.:А Слуцкому?
Вс. Н.: И Слуцкому я приносил стихи, но он ко мне относился величественно. Я дал ему стихи, чтобы он в «День поэзии» предложил, но он ничего, конечно, не сделал. Андрей Сергеев хорошо про него в своих воспоминаниях написал: «Человек из Харькова». Он у меня спрашивал, предлагал ли я свои стихи еще в других местах. Так я же тебе их для этого и дал – предлагай! А я потом по нему проверял, как я себя веду по отношению к другим поэтам.
А Мартынову я позвонил, а он: «Что у вас – стихи? Ха-ха-ха! Так приходите». После этого я уже не пришел.
И.В. – Г.: Ну, это более-менее старшее поколение, а к классикам ты не пытался пойти? К Пастернаку, Ахматовой?
Вс. Н.: Ахматова меня мало интересовала всегда, честно скажу. Пастернака я не застал, был только на похоронах. И потом, к позднему Пастернаку я относился, как к позднему Луговскому, и был, конечно, не прав. Но давать ему свои стихи мне не хотелось, так, как Слуцкому, который написал тогда «После драки». Пастернак – поэт, конечно, хороший, но почему-то желания не было. Я ни тогда не любил, ни сейчас не люблю то, что называется Серебряным веком. Мне больше всего нравится Мандельштам – он этот Серебряный век подытожил. Из него то годится, что идет в дело, он как будто привил классическую розу советскому дичку. Он скрестил Блока с Маяковским. Ну и, конечно, Анненский. Я тогда его мало знал, спасибо ему за многое. Но Мандельштам, мне кажется, подвел черту, не в том смысле, что не стоит с этим возиться, а превратил это в продуктивное актуальное явление, и дальше вся русская поэзия существует прошедшей через мандельштамовский кристалл.
Ну, конечно, для меня очень важен Есенин. Позже я прочитал пастернаковскую «Сестра моя – жизнь» и другие его ранние стихи и понял, что я был не прав по отношению к нему.
И.В. – Г.: Потом ты познакомился с Холиным, Сапгиром, Сатуновским?
Вс. Н.: Сапгир появился в 1959 году. Сатуновский несколько позже – в 61-м. Они были моими коллегами по «Синтаксису» Алика Гинзбурга, который меня и привез в Лианозово, и там Рабин дал мне почитать Сапгира. Алик Гинзбург был другом моего школьного приятеля Алеши Русанова. Алик несколько лет назад умер в Париже.
И.В. – Г.: Холин, Сапгир и Сатуновский, прочитав твои стихи, поняли, что ты свой?
Вс. Н.: Ну, мне кажется, что в итоге они пришли к такому подозрению. Все было не так гладко. Но главное впечатление от Холина и Сапгира – вот люди, которые занимаются тем же и все понимают как надо. Они отделились от всей этой вязкости и делают то, что должно быть. Форсированно, любой ценой, по-хамски, но все-таки без дураков.
Трудно сказать, как они ко мне относились, я в итоге с ними обоими поссорился, они меня не упомянули в важном интервью. В более поздние времена все себя показали.
И.В. – Г.: Вот посмотри, Гробман, который был один из первых…
Вс. Н.: Мишка – молодец, кто же говорит?
И.В. – Г.: И ты думаешь, после того как мы уехали в 1971 году, кто-нибудь упоминал о нем? Даже ближайшие друзья. Он был очень активен, участвовал во всех выставках, выступлениях. А уехал – вода сомкнулась, место освободилось. Это общее явление.
Вс. Н.: Могу только сказать, что Мишины работы у меня есть – одна или две, очень хорошие. Одна из них – шутейная, без претензии, он уже тогда умел рисовать хорошо. Это такой черт, вписанный в обратную сторону открытки. Я всегда везде ее выставляю.
И.В. – Г.: Я появилась в 1961 году, мне было 17 лет. Мне Миша сказал: «Сева Некрасов – замечательный, большой поэт». Я знаю, что он всегда так считал, всегда об этом говорил, напечатал тебя в своем «Левиафане» и во многих других местах, в том числе мы опубликовали твою подборку в «Зеркале». А Миша написал о тебе стихотворение:
Некрасов Всеволод печальный Сидит в заснеженной Москве Он был поэт первоначальный В той белизне и синеве Подобно рыцарю изранен Вернувшись с дальних палестин Он людям кажется так странен Поскольку духом невредим Слагая медленное слово На лапидарно чистый лист Некрасов смотрит так сурово Как будто он евангелист Остановись поэт безумный Кричит невольная толпа Но он на этот окрик шумный Взирает словно на клопа А я слежу из Тель-Авива Ладонь приставив козырьком Как Сева движется красиво И неподкупен и знакомВс. Н.: Я потом спросил у Холина, почему он вычищает меня из истории русской поэзии, а он ответил с грозным видом: «Сева, я как хочу, так и живу». А я ему: «А я тем более».
И.В. – Г.: Ну, а поэт-то он замечательный?
Вс. Н.: Поэт замечательный – кто с этим спорит?!
И.В. – Г.: А Сапгир?
Вс. Н.: В 1988 году в ВТО был вечер по поводу какого-то юбилея Генриха, он же писал какие-то сценарии, пьески, хуже его стихов. Тогда знали, что Генрих – это не фунт официального изюма, но с этой привязкой – как автор театра и кино – можно было провести вечер в ВТО. И там в качестве главного, подытоживая вечер, выступает Евгений Рейн. Кто такой Рейн? Почему он должен вылезать, и квакать, и расставлять всех на свои места? Он перечисляет всех главных поэтов: «Кушнер, Сапгир, Чухонцев, и к ним никто даже приблизиться не может». Тут Холин в зале сидит, недавно умершего Сатуновского Рейн даже не упоминает, я уже не говорю о себе. А Генрих сидит и молчит.
И.В. – Г.: Ну, Сева, от перечисления одним Рейном на каком-то вечере его личного списка иерархия русской поэзии не изменится. Это проблема самого Рейна. Ты лучше скажи, как ты относился к Красовицкому и Хромову.
Вс. Н.: Классического Красовицкого я всегда любил и даже испытывал на себе его влияние. Хромов тоже интересный поэт.
И.В. – Г.: Можешь ли ты назвать тройку русской поэзии второй половины ХХ – начала XXI века?
Вс. Н.: Я не из тех людей, которые составляют команду и диктуют, кого допускать, а кого нет, по чисто конъюнктурным, почти советским критериям. Этим занимались наши друзья Холин и Сапгир, а потом кто только нет – Айзенберг, Пригов, Кибиров и многие другие.
И.В. – Г.: Скажи, канон русской поэзии уже построен?
Вс. Н.: Не построен, и есть люди, которые стоят с палкой у входа и меня отгоняют.
И.В. – Г.: Мы говорили о твоем начале: Архангельский, Некрасов, Маяковский. Потом образование собственного круга. Если бы ты сейчас начинал, кого ты выбрал бы своими героями на существующем литературном поле? Ты чувствуешь, что это поле достаточно напряжено, как оно может повлиять?
Вс. Н.: Это, конечно, очень интересно – проиграть предложенную ситуацию. Все зависит от подготовлености, ее отбросить нельзя. Ну, Айзенберг свои стихи писать умеет, но чтобы он это делал особенно ярко, я не скажу. Он имеет право на существование как отдельный поэт, но не создатель команды. Раньше меня заинтересовал бы Гандлевский, если говорить о близкой традиции, а если говорить о традиции поновей, то это, конечно, Рубинштейн.
И.В. – Г.: А Пригов?
Вс. Н.: С Приговым сложно: он, с одной стороны, что-то умеет, а с другой – это ему не нужно. Ему гораздо интереснее это умение эксплуатировать самым беспардонным образом. Беспардонность – это и есть тот продукт, который он предлагает. Ему наплевать на качество поэзии, он сейчас это втемяшит, он будет бубнить, повторять, вталкивать, и это вдолбится, и с этим будут считаться, и это никуда не денется. Тогда уже носились в воздухе идеи о смерти автора и смерти искусства, еще не переведенные с французского. Это отношение наплевательское, якобы новаторское, это действительно смерть искусству, потому что искусство – это качество и умение, и если от этого отказаться, то искусство – это просто сомнительная организация, масса народа, рынок. У кого горло шире, у кого денег больше, кто братвы побольше соберет.
Искусство – это конкурс продуктов, конкурс тех, кто умеет лучше, а для этого общество должно различать умение или неумение, нужен высокий уровень культуры и культурного опыта. Это и есть искусство, которое было и тысячу лет назад. И кто-то хочет сделать такую новацию, чтобы этого не было? Может, будет какой-то период безобразия и отсутствия критериев, а потом все восстановится. Это дело древнее и людям нужное, и вообще в любом деле все смотрят, кто умеет делать лучше. На этом умении любое дело стоит. А нас советская власть отучила от внимания к своему делу и в культуре тоже.
И.В. – Г.: Малевич говорил, что качество и значимость искусства определяются его духовным содержанием.
Вс. Н.: У Шкловского есть всякие ехидности насчет Бенуа, который называл кубизм «кукишизмом», а Шкловский писал про Бенуа, что тот «в меру умел рисовать» – что, конечно, смешно. Он умел, но, с точки зрения Шкловского и Малевича, можно поставить вопрос так: если вы говорите «кукишизм», то ваше умение ничто перед нашим, мы ваше умение превзошли, как говорят: то, что ты знаешь, мы давно забыли. То есть умение Бенуа Малевич давно забыл, хотя оно у него было. Между гениальным проектом и нахальным разница только в осуществлении, когда это делается через свою работу. Идею приходится доказывать какими-то реальными, осязаемыми, непредсказуемыми вещами, а реальность уже можно оценить.
Сейчас командуют люди, которые делают только проекты, – да искусство никогда проектами не занималось, искусство занималось реализацией проектов. То, что остается в реальности, это выясняет проект.
И.В. – Г.: Сева, тебе не кажется, что сейчас формируется новый поэтический язык и новое сознание? Достижений в этом еще, может быть, и нет, но уже пробуется новый способ говорения.
Вс. Н.: У меня нет вкуса к слову «революция», но, если что-то появится, с этим надо будет считаться. Но пока ими не пахнет вообще, мы не в той фазе, то, что делается сейчас, это лучше вписывается в традицию перманентной революции, начатую Маяковским. Всякий успех становится традицией.
И.В. – Г.: Сева, поэты нашего времени возникли в пустоте, они, конечно, повлияли на литературное сознание и на лабораторию языка, создали свою структуру, но остались не замеченными всенародно и не вошли в канон. Русский поэтический канон нуждается еще в переделке?
Вс. Н.: Чего ж мне тут сказать? Меня нигде нет и не бывает. Я присутствую только в нескольких антологиях – как «Строки века», «Самиздат века» и сборник Женкера. Спасибо им. Но сейчас, находясь в предсмертной фазе, мне пора заняться собственными публикациями.
И.В. – Г.: Сева, скажи мне, пожалуйста, почему ты выбросил в последней книге посвящение в стихотворении «У Айги две ноги»?
Вс. Н.: Это был концерт, стихи ситуации, интересно так: в стихе две строчки, а посвящение Ирине Израилевне Врубель-Голубкиной занимает гораздо больше места.
И.В. – Г.: А почему сначала посвятил, а потом распосвятил? И, кроме того, в этом стихотворении была суперконцептуальность, смеховая поэтическая смелость, которая и сейчас большинству не доступна, это крошечное сочинение бросает идеологический вызов всей «серьезной» литературной импотенции. А ты взял и уменьшил его смысл.
Вс. Н.: В первую очередь фамилия Врубель-Голубкина выглядит очень внушительно, там даже было отчество – и по доброму отношению как же иначе? Но доброе отношение я подтверждал неоднократно потом. А в этой книге нет следов альбомов и взаимных игр, и потому там это не обязательно; где есть перформанс, игра – это обязательно, а где более или менее тексты – это лишнее. И я не знаю, было ли упоминание в этом контексте полезно вышеупомянутой Врубель-Голубкиной? Ну ладно, провинился. Из лучших чувств и побуждений. Идем чай пить.
«Зеркало» № 24, 2004 г.«Я – малевичеанец…»
Беседа с Геннадием Айги
Ирина Врубель-Голубкина: Гена, кто ты?
Геннадий Айги: Я чуваш, мой первый язык чувашский. Мою деревню, которая находилась на крайнем cевере Чувашии, в тридцати километрах от Чебоксар, окружали бесконечные леса, в которых чуваши скрывались от татар, от русского крещения. Леса и болота начинались прямо у деревни, а что находилось на той стороне леса, было непонятно, потому что никто туда не добирался. Была такая самозащита – обособленность. Угасла письменность. Чуваши три-четыре века не участвовали в войнах, хотя русские завоеватели пытались заставить их воевать. И организовалось общество, которое разрабатывало мирные законы памятования основ мирного уклада, потому что это очень сложно – жить мирно. Убийство в наших деревнях случалось раз в сто лет, это было событием столь невероятным, что у такой деревни ставили громадный черный ствол, означавший: «Внимание, здесь убили человека!» Богатство и бедность – эта конфликтная дилемма – не управляли жизнью, важнее было количество сыновей в семье, так как землю распределяли подушно. В такой деревне я вырос.
И.В. – Г.: Создается ощущение какой-то идиллии…
Г.А.: Я составил большую чувашскую антологию с древних времен до наших дней. Она вышла на английском, французском, венгерском, итальянском, недавно – на шведском языке. Действительно, вырисовывается общество, основанное на идеалах. Жизнью народа управляли старейшины – не по принципу богатства, а исходя из мудрости. Мне это очень по душе, так как я всегда, еще мальчиком, чувствовал естественную силу стариков. Вообще я был «неправильным» мальчиком. Мой отец, учитель, писал стихи, их печатали в хрестоматиях, он одним из первых перевел Пушкина на чувашский. Ни у кого в Чувашии не было такой библиотеки, как у моего отца. Он с детства учил меня русскому языку, бывали дни, когда мы говорили только по-русски. Он читал мне вслух Пушкина, Лермонтова, Крылова… Любил петь. Я как бы не был полным чувашем, и с течением лет это стало сказываться.
И.В. – Г.: На каком языке ты написал первые стихи?
Г.А.: Лет в пять-шесть я написал рассказик, по-чувашски, конечно, о том, что оголились все деревья, а дуб стоит в листве. И я рассуждаю об этом. Я показал рассказ отцу, и он сказал, что я обязательно буду писать, и дал мне много важных наставлений – что делать, чтобы стать писателем: много знать, стремиться к цели, целиком посвятить себя этому. Это очень помогло мне.
И.В. – Г.: Ты много читал?
Г.А.: В детстве я много читал. Во втором классе прочел «Дон Кихота», «Пиквикский клуб» Диккенса. Не все, конечно, но кое-что из прочитанного я воспринимал. Библиотека наша вся пропала, единственная сохранившаяся книга, которая напоминает мне о детстве, – «Калевала». Ее я вытащил в нашем разрушенном доме из безобразной кучи, оставшейся от библиотеки.
Мой отец дружил с удивительным чувашским поэтом Василием Миттой. Сейчас в Стокгольме вышла большая чувашская антология, много страниц которой посвящено Митте. Из прожитых им сорока девяти лет семнадцать лет он отсидел в лагерях. Народ почитает Василия Митту как своего святого. Он для чувашей, как Шевченко для украинцев. Похоронен поэт в шести километрах от нашей деревни. Мама мне в те годы объясняла, что в школе о нем нельзя говорить, потому что он политзаключенный. Вообще я тогда уже четко знал, о чем можно говорить, а о чем нельзя. И еще я осознавал, что существует другой мир – мир города и огромной культуры. Я начал писать, но сомневался – поэт ли я вообще. Я писал на чувашском, это были плохие стихи, но я думал, так надо писать, такое печаталось в журналах и газетах.
До войны отец отсидел около года в трудовом лагере имени Первого мая. Он был учителем, а его назначили председателем разваливающегося колхоза, чтобы было кого обвинить в неудаче. Так и произошло: колхоз развалился, а отца посадили. Он знал: посадили один раз, посадят и второй – и, быть может, навсегда. И наша семья переезжала с места на место. Мы жили то в мордовской деревне, то в русской, то в татарской. Мои сестры – Ева и Луиза – родились в татарской деревне. И это потом пригодилось мне в моем писательском труде.
Летом сорокового года мы переселились в Карелию. А потом катастрофа: война. Мы убежали оттуда на телеге, месяц были в окружении, пока не добрались до чувашской деревни. Отца забрали на войну в сорок втором, а в сорок третьем он погиб.
И.В. – Г.: Какие поэты для тебя были особенно значимыми?
Г.А.: До 53 года я знал только одно четверостишие Есенина, оно меня поразило. Еще одно его четверостишие я нашел в старой хрестоматии. Нигде не было его книг. А в сорок восьмом мальчишки из соседней деревни, которые учились вместе с нами, нашли у одного из них в доме большой том Маяковского. Вот он произвел на меня невероятное впечатление. Я начал подражать Маяковскому. У меня на полке стоит «Облако в штанах», которое я перевел в 59-м, а издали этот перевод только сейчас. Тогда, в 53-м, чудом заметили две-три мои строчки – и я попадаю в Москву, в Литературный институт. И чувствую, что нахожусь в состоянии безнадежности, безвыходности. Во-первых, я убежден, что мне все до единого врут, что есть какая-то правда, которую от меня скрывают. Как выйти из такого положения, не знаю. Верю одному человеку – Маяковскому.
И.В. – Г.: Кто эти «все»?
Г.А.: Учителя, друзья, газеты, радио…
И.В. – Г.: Кто были учителя?
Г.А.: Например, Асмус, который читал на втором курсе теорию литературы (потом его курс закрыли). Правда, на первых порах я не понимал ничего из того, что он говорил. Потом появился Шкловский… Остальное было скучно, неинтересно. Например, был курс русской литературы XIX века, который ректор института читал по школьному учебнику для восьмого – девятого классов.
И.В. – Г.: А кто были друзья?
Г.А.: Я дружил с Айн Ахметовым, башкиром, писавшим на русском. Я читал Маяковского, все подряд, надеясь там найти ответы. Потом я прочитал журнальную публикацию воспоминаний Лили Брик «Маяковский – чужие стихи», и возникает Пастернак, которого Маяковский очень любил. Я сразу беру в библиотеке Пастернака, читаю – и ничего не понимаю. В нашем с ним последнем разговоре я сказал, что воспринял его стихи так, как будто они написаны на иностранном языке. Я читаю «Охранную грамоту» – и возникает имя Вагнера и в связи с Вагнером – Ницше. Вся моя жизнь тогда проходила в Ленинской библиотеке, где был сложившийся круг книгочеев, я со многими познакомился. Я спросил у одного из них, есть ли у него Ницше. Ленинка не выдавала таких авторов, как Ницше, Ахматова, Гумилев… «Пожалуйста, – говорит, – у нас в библиотеке ВГИКа можно взять». Во ВГИКе было посвободнее, чем в других институтах. Я начинаю читать Ницше, и у меня возникает ощущение, что тот толстый слой штукатурки, которым я покрыт, осыпается и я рождаюсь заново. Лишь спустя много лет я понял, что произошло тогда: я уразумел, что человек – это дух и понятия «человек» и «дух» тождественны. Ведь нас воспитывали в том, что «дух» – это чисто литературное понятие, человек – не дух, а подчиненный, служащий. А тут я понял, что отныне знаю самое главное и ничто меня не собьет, я самостоятелен.
Позже, уже в 60-х, когда меня выгнали из института, выживать стало совсем трудно, все ужесточилось в связи с венгерскими и чешскими событиями. Я тогда читал только Кьеркегора и Кафку. Под влиянием Андрея Волконского выучил французский и начал переводить с французского.
И.В. – Г.: Но ты оставался в кругу русской поэзии?
Г.А.: Да. В Чувашии меня перестали печатать, там не воспринимали моих языковых опытов. Положение мое было незавидное. И вот ведь бывают чудеса: в 54-м я слышу имя Иржи Волькер. Кто это? Чешский поэт, весьма интересный. Поэзия исповедальная, как у Маяковского, или Лермонтова, которого я считаю главным русским поэтом, или как у Анненского. Именно в этой глубокой исповедальности – сила русской поэзии. Я заметил очень важную вещь: Маяковский пластами строит образы, оставляя между ними пропуски – что-то как бы подразумевается, и от этого синтеза пластов и пропусков веет огромной силой, и все соединяется. Я ему подражал, старался делать то же самое, но это не было органично для меня. Я заметил, что в таких же ситуациях Волькер, который строит похожие образы, не пропускает звеньев. У него как бы анатомически живущие образы и пластика почти анатомического порядка. И тут я начал понимать Пастернака. Это повлияло на меня в том смысле, что в моей поэзии соединился исповедально-лермонтовский подход с поэтикой Маяковского, а дальше я старался дать мировидение своей пластики. Необычайная жизненность, духовность и мировоззренческая христианская позиция Пастернака для меня, еще не осознавшего самого себя, его религиозное благодарное приятие (особенно в «Докторе Живаго») жизни как соприродной и благодатной серьезно повлияли на формирование моего мироощущения.
Пастернак понимал, что я мальчик из города Маяковского, в беседах с другими он его поругивал, но со мной всегда говорил о Маяковском с восторгом: «Гений во плоти».
И.В. – Г.: Какие стихи ты тогда писал?
Г.А.: В 54–55 годах я написал поэму «Завязь» на чувашском. Как раз тогда у меня все начинало завязываться под влиянием синтеза Волькера и Маяковского. Светлов, один из моих преподавателей в институте, хотел отказаться от меня и решил не ставить мне творческого зачета, сказав, что я бездарен. Потом он попросил меня что-то прочесть, и я прочел ему подстрочник этой поэмы. Светлов сказал, что это – сила раннего Маяковского, Шкловский подтвердил: «Это сила молодого Владимира». Поэма дошла до Пастернака, и он захотел меня увидеть. И с этого началось мое счастье. Я Пастернака обожаю до сих пор и понимаю его сейчас еще больше, потому что наступило время безжизненности. Сейчас проходит ярмарка деклараций – а жизни нет.
Я долго не понимал, почему у Ахматовой скрытая неприязнь к Пастернаку, и был ошеломлен, когда Бродский сказал, что Маяковский – второстепенный поэт. Потом я понял: им не нравилась именно невероятная жизненность Пастернака и Маяковского. Ахматова и Бродский насквозь литературны, где-то они идут от античности. А в поэзии Маяковского и Пастернака сама жизнь кипит, как сад за окном. Это то, что постепенно растеряла наша поэзия, ставшая декларативной.
И.В. – Г.: А тебе не кажется, что вся советская поэзия развивалась от акмеизма, она была романтична и статична, и это всучивалось одному поколению за другим, и Ахматова по своей природе – одна из зачинателей этой поэзии? И Пастернака они воспринимали как свое позорное прошлое?
Г.А.: Да. Возникает культ античности – поэзии на котурнах, ощущение собственной значимости. А это не свойственно Цветаевой, Маяковскому, Есенину, как христианским мученикам.
И.В. – Г.: Мандельштама ты относишь туда же?
Г.А.: Да. Хотя Мандельштам припадочно активен в поклонении античности и культуре, он все время взрывается какой-то мукой. В 1999 году в Цюрихе состоялся симпозиум во главе с Эткиндом, посвященный Мандельштаму. Я посвятил свое выступление «Стихам о неизвестном солдате». Это замечательное стихотворение, которое по ощущению могли бы написать только поэты уровня Тракля и Целана. В нем поражает истинная гениальность, это есть и у Есенина в конце жизни, и у Маяковского. Мандельштам как личность находится в этом высочайшем кругу.
И.В. – Г.: Так что же с твоей «Завязью»?
Г.А.: Все приняли поэму замечательно: Шкловский, Хикмет – любовь моей юности. Хикмет говорил: «Вам не отдельный инструмент нужен – вам нужен оркестр». Пастернак, когда я читал ему поэму, спросил: «Это по-чувашски так звучит? Очень странно…» И я понял, что во время чтения даю некоторые русские звучания. Я растерялся, но запомнил это. В следующий раз Борис Леонидович спросил: «А вы не пытались писать по-русски?» – «Нет, – отвечаю, – но, когда я делаю подстрочник, что-то проявляется, ведь красота не зависит от языка, лишь бы она была подлинной». Он: «Так-то это так, однако я замечаю у вас признаки русскоязычия. Вам надо думать и придется выбрать – оставаться с чувашским языком или перейти на русский».
Мой переход на русский был мучительным. Я стал писать на русском, но дал себе клятву, что чувашский никогда не оставлю – это мой долг. И я всю жизнь перевожу русскую и западную поэзию на чувашский.
И.В. – Г.: И свою?
Г.А.: Нет. Пробовал – и ничего не вышло. Чувашский язык, к сожалению, не имеет пока тех возможностей, чтобы можно было адекватно перевести. Я сейчас перевожу на чувашский великого шведского поэта Хая Мартинсона с одним моим другом, который знает шведский. И я вижу, как наш язык мучается, по-настоящему хороший перевод пока невозможен.
И.В. – Г.: В своих первых стихах ты уже нашел себя или в них ощущалось чье-то влияние?
Г.А.: Первые стихи появились на рубеже 50-х и 60-х годов. Несколько стихотворений были написаны явно под влиянием Пастернака. Мне было совершенно ясно, что эти влияния не дают мне быть самостоятельным. Мой друг – художник Игорь Вулох – сделал анализ одного поэта и сказал мне: «Смотри, это цветаевское влияние, это – влияние Маяковского, это – Пастернака. Выхода нет, все разработано». Те стихи я перевел на чувашский, а русский вариант уничтожил.
В 1959 году заболела мать, меня вызвали в деревню. И там я решил: буду в стихах строить тугие пространства и буду строить их иначе, чем принято в русской поэзии, в других пространствах. И мои стихи стали превращаться в тот тип свободных стихов, которых я раньше не любил. В русской поэзии не было удачных свободных стихов. Свободный стих не разработан, все, что существует, – это подражание латиноамериканскому, не русскоязычный тип пространства и другая музыка (а Шёнберга и Вебера я тогда уже знал), другое значение паузы. Так, очень осторожно и внимательно, писал я первые стихи уже своим стилем.
И.В. – Г.: Кто из западных поэтов повлиял на формирование твоего поэтического языка?
Г.А.: Первый – Уолт Уитмен. Но я им не увлекся, его длинное исповедальное многословие мне быстро разонравилось. То, что я знал из поляков, мне было неинтересно. Приехал Ален Гинзберг, но его верлибр я не воспринимал совершенно. То, что я делаю, – не верлибр и не свободная поэзия. Она просто без рифм, и поэтому вопрос ритма становится необычайно важным, потому что каждый раз творишь свой собственный ритм. Это не то что писать четырехстопным ямбом, или в любой силлабо-тонической, или тонической системе, которая сама себя ведет. А у меня через каждую строку все меняется. И все должно быть цельно. И тут ритм становится главной силой. Рифмы не нужны, потому что их роль переклички берет на себя нечто совершенно другое. Поэтому задача заключается в построении, и речь идет о новом конструктивном виде. Новый тип конструкции, новый тип построения пространства.
И.В. – Г.: На тебя очень повлиял город, западная философия. Ты почти не упоминаешь русских философов. Ты европеец?
Г.А.: Да, я европеец и – так по судьбе вышло – француз. Элюара я никогда не любил, меня интересуют Рембо, Малларме. Правда, сейчас я к Элюару хорошо отношусь. В 1968 году я издал антологию французской поэзии на чувашском языке: 77 поэтов, от Франсуа Вийона до наших дней. Пробивать эту антологию было очень трудно, мне помогал Эренбург, он сказал, что такой антологии не существует ни на каком языке. И это до сих пор так. Так что у меня было многое связано с французской культурой.
И.В. – Г.: А Элиот?
Г.А.: Элиот меня никогда не привлекал. Я чувствовал в нем огромный холод, и мне мерещились за его поэзией грандиозные памятники культуры. В 1962 году я впервые прочел теоретические труды Малевича, и они имели на меня колоссальное влияние. Он писал о том, почему поэзия должна быть в виде строки. Одна строка может уйти в небеса, другая – украшать, а третья – протянуться совершенно иначе. Я заметил, что за годы изменилось мое определение поэзии. Раньше я говорил: тяжесть слова, сейчас говорю: поэзия – это дыхание, и человек – дыхание. Дыхание и вдохновение идут от одного корня. Я понял, что свободная поэзия в ее польско-латиноамериканском варианте лишается многих свойств, которые есть у силлабо-тонического стихосложения: завораживающей силы звучания, музыкальности. Музыкальность меняется, но она не исключается, а приобретает другие качества. От Малевича я взял супрематическое понимание пространства.
И.В. – Г.: А чувашский язык и понимание чувашской языковой культуры повлияли на формирование твоего русского поэтического языка?
Г.А.: У чувашского среди всех тюркских языков есть одно достоинство: разнообразная система ударений. Это дало чувашам возможность в 20 – 30-х годах сблизиться с русской поэзией. Перевести с русского на чувашский можно все, кроме Маяковского. Язык очень мягкий, все можно сделать, но по звучанию и музыкальности русский язык – один из самых богатых в мире – дает огромные музыкальные возможности уже не в фетовском, а в маяковском понимании. Меня всегда удивляло, откуда у Маяковского, появившегося в 20-летнем возрасте из грузинской глуши вместе с немногословной мамой и двумя сестрами, с небольшим количеством книг, такой талант.
Недавно вышла книга, в которой написано, что чувашский язык не повлиял на мои русские стихи. Чуваши – народ консервативный, придерживающийся старинных традиций, они не выносят ругательств, и какие-то ритуально-поведенческие психологические моменты я взял из чувашской традиции. Но языковые сферы русского и чувашского для меня абсолютно не совмещаются.
И.В. – Г.: Какое твое первое стихотворение на русском было написано созданным тобой поэтическим языком?
Г.А.: «Снег». Я его очень долго писал. Есть вариант и на чувашском, на который я потом перевел. В чувашском переводе гораздо больше слов. Я пишу на собственном языке, у меня нет языковых русизмов, колыбельных, уменьшительно-ласкательных слов.
И.В. – Г.: То есть ты не прикоснулся к стоячему озеру русского фольклора?
Г.А.: Ничуть. Я понимаю, что многого из-за этого лишен, но мне это не мешает. У меня есть своя зона, которой я абсолютно владею. Русскую мысль, русскую поэзию я всегда воспринимал как часть западной. Когда мы жили в чувашской колонии в Карелии, там было человек двадцать детей – разных возрастов. Для нас устроили интернат. И вот, помню, ребята сидят у костра и ждут, когда Николай Андреевич – учитель, мой отец, – начнет им что-нибудь рассказывать. И он со всеми подробностями пересказывает им на чувашском «Отверженных» Гюго. Дети были совершенно очарованы. Я рассказал знакомому этот эпизод, и он заметил: «Вот откуда в тебе живет Франция».
Я сейчас больше ругаю французов, чем хвалю, но они – часть моей жизни. И русская культура впитала в себя другие культуры, поэтому она великая. И все это – часть христианского мира.
И.В. – Г.: Тебе кажется, что культура – одна, единая – это культура нашей цивилизации при всем Вавилоне, который происходит?
Г.А.: Безусловно. Все европейское тянуло, развивало, расширяло, и мы, безусловно, дети Европы. В Чувашии в педучилище вместе со мной учились чуваши, буряты, татары. Нас учили играть на скрипке, мы играли русских композиторов, это выводило нас в большой мир.
И.В. – Г.: С кем ты столкнулся в Москве?
Г.А.: Когда я учился в Литературном институте, я не столкнулся ни с кем из андерграунда – так называемого подпольного искусства. За кое-какие стихи меня исключили из комсомола, выгнали с факультета поэзии, и я закончил институт как переводчик. Все говорили, что ученика исключили раньше, чем учителя: со мной расправились в мае 58-го, а с Пастернаком – уже осенью, и я горжусь, что меня исключили из-за него. День-два я не приходил к Борису Леонидовичу, он забеспокоился, начал меня искать, а тут еще прошел слух, что один студент утопился. Я пришел к нему. Наш разговор был коротким. «Ну, как у вас?» – «Вы же знаете…» – «Да, знаю». – «Я давно был на этом пути, это должно было случиться, я считаю: все, что произошло, – правильно». – «Ну конечно, вы правы». Все было очень душевно.
И.В. – Г.: Пастернак читал твои стихи?
Г.А.: Нет. Про него говорили, что он страшно эгоцентричный. Я такого Пастернака не знаю. Когда он слушал стихи, он отключался от всего остального, я не видел никого больше, кто бы так слушал стихи. Но я был очень одинок. Ко мне никто не приходил. Но в 59-м я подружился с Андреем Волконским, и благодаря ему услышал о Лианозове, и поехал туда – по адресу, который он мне дал. С этого момента началась новая эпоха в моей жизни. У Рабина я встретил молодую красивую пару – Сашу Васильева с женой. По дороге в Москву он спросил меня, есть ли у меня любимые художники. Я ответил: «Только Александр Иванов». – «У вас будут любимые художники, – сказал Саша. – Поедем к нам». Входим, вижу – висит портрет. «Кто это?» – «Владимир Яковлев». И я сразу понял – это мой любимый художник. Саша и его друзья – они были хлебниковцами – были моими братьями по духу. Я стал для них своим. Общение с ними было для меня огромной школой.
И.В. – Г.: Кто там еще был, кроме Васильева?
Г.А.: Саша Пудалов, писатель и замечательнейший человек, писавший прекрасную короткую прозу. Художник Игорь Ворошилов.
И.В. – Г.: Это были люди, которым ты мог читать свои стихи?
Г.А.: Они были абсолютно свои, как Маяковский, Каменский и Хлебников. Я был спасен. Если мне негде было ночевать – они меня привечали. Можно было зайти поесть. Я называю этот круг васильевцами, они третьи после лианозовцев и Красовицкого. Поначалу я называл их яковлевцами, но потом все-таки решил, что васильевцы – правильнее. В этом же кругу я познакомился с Мишей Гробманом.
И.В. – Г.: Который тебя очень любил и ценил.
Г.А.: Да, это так. Мы всем кругом примыкали к Харджиеву. Он был серьезным поклонником Яковлева.
И.В. – Г.: Как ты познакомился с Николаем Ивановичем?
Г.А.: Очень просто. Я издал «Теркина» на чувашском языке. Книга вышла без упоминания моего имени – меня так наказали, но не издать «Теркина» было нельзя. Твардовский об этом знал. Но денег дали по тем временам много. И я купил дом в деревне Троицко-Голенищево, рядом с Москвой. Там у нас организовался своеобразный штаб. Миша Гробман появлялся том со своей женой Леной Минкиной, потом ты приходила. Все там бывали. И ленинградцы – тоже. Деньги я потратил все, надо было на что-то жить. Меня никуда не брали. Проверяли документы, видели, что меня исключили из комсомола, – и все. Я пошел устраиваться на химзавод около Киевского вокзала. «Вашу трудовую книжку», – попросили они. «У меня ее нет, – и даю диплом. – Есть вот это». – «Вы что, издеваетесь? У вас ведь высшее образование!» – «Да, – отвечаю, – но я писатель и хочу быть ближе к жизни». – «Хорошо, – сказали мне. – Будете ближе к жизни». И вот уже перед тем, как выйти на работу, я пришел к Волконскому и говорю, что устроился на химзавод. «Ты сошел с ума! Там опасное производство, ты умрешь! Я тебя запру и не выпущу из дома, пока не устрою на работу». И мы с ним два дня беспробудно пили, и он время от времени звонил кое-кому. Потом позвонил Рихтеру. А ко мне очень хорошо относилась жена Рихтера – Нина Дорлиак. Когда Андрей готовил с ней концерт, я, заблудившись, случайно зашел в комнату, где переодевалась какая-то женщина. Она закричала, я перепугался, бросился бежать. Это была Нина. Она меня потом успокаивала и об этом случае часто вспоминала. Так вот, знакомая Рихтера работала в музее Маяковского и назначила мне явиться туда в понедельник, к девяти утра. Я пришел, и меня с ходу взяли на работу. Нина Дмитриевна, директор музея, гордо сказала потом: «Ну наконец у меня народный человек появился, вы все тут декаденты!» А потом этот «народный человек» стал устраивать выставки футуристов, чего она никак не могла понять.
Через месяц в большом зале открывалась какая-то выставка. Я пошел туда. По залу ходил Харджиев. Он устраивал выставку Лисицкого и пытался втиснуть как можно больше картин. Получалось очень тесно и скученно. Я сказал, что количество картин нужно уменьшить – будет лучше смотреться. На другой день Харджиев сказал кому-то, что в музее есть очень тонко понимающий сотрудник. Мы все прошли у Николая Ивановича огромную школу, это был просто подарок судьбы.
И.В. – Г.: У тебя в Троицком на полу лежала гора футуристических книг. Они для тебя много значили?
Г.А.: Это было для меня очень важное чтение. Харджиев в первые дни нашего знакомства заметил, что я не очень хорошо отношусь к Крученых, и сказал: «Вы потом будете удивляться, как это вы не понимали Крученых». Крученых, пока был жив, каждый день звонил мне. В 65 году, на выставке Гончаровой и Ларионова, Гробманы пригласили Николая Ивановича к себе пообедать, и тот охотно согласился, что для него было не характерно. Возвращаются они часа через полтора, веселые, Николай Иванович очень доволен. Харджиев Мише сразу поверил, и это самое главное.
У нас в музее была лучшая библиотека того времени – начиная с 10-х годов и до 30-х. Весь Малевич, Пунин о Татлине, Хлебников, конечно. Для меня это очень много значило. Мои ребята были хлебниковцы.
И.В. – Г.: А ты нет?
Г.А.: Настоящим хлебниковцем я так и не стал. Я – малевичеанец. Мое постижение Хлебникова продолжалось очень долго, мне многое было чуждо. Хлебников – экзистенциалист, и очень русский. Я должен был пройти русскую школу, мне нужно было, чтобы меня понимали, русская поэзия должна была стать моим внутренним состоянием. Знакомство с кругом Красовицкого показало мне, как это важно для меня – русская боль и русские переживания. Я от них впервые услышал о Флоренском. Это надо было пройти. Вот Чекрыгин такой – своей русской тягой. Но русский фольклор и все почвенно-русское мне было чуждо. Я до сих пор хорошо отношусь к Флоренскому, хотя иногда эти громадные просторы начинают кружить голову. Ремизов оставил меня совершенно равнодушным, для меня это была этнография и такой игровой момент, душно становилось. Эта тяга даже у Черткова меня настораживала.
И.В. – Г.: Но ранние стихи Красовицкого невероятно западные, под влиянием английской поэзии, включая фольклор и баллады.
Г.А.: Красовицкий сразу произвел на меня сильнейшее впечатление, его я глубоко полюбил, я его сразу воспринял как гениальную личность, как поэта. Поэт для меня – явление врожденное, это особый склад человека, чувство стихии, со своим исповедальным голосом, который может быть только у поэта. Таких – единицы. Красовицкого я воспринял как истинного поэта, со своей исповедальностью, как мы воспринимаем Лермонтова, Есенина. Это – подлинное. Говорят, Ахматова Есенина даже по имени не называла – «этот рязанский». Я это считаю литературно-манерным выражением, это не по существу. Красовицкий поразил меня.
Сейчас, после выхода последнего тома Малевича, начнут возникать споры о его православии. Его записи о церкви, возможно, кого-то будут задевать. Как-то на выставке я увидел цитату из «Христианского цикла» Малевича. Он сказал: «В русской иконе есть все». Он принимал эту русскость с необычайным чувством чистоты и духовности, которая воспринимается как церковно-православная, но входит в мировую культуру вместе с христианством, живет и действует до сих пор. У Красовицкого было это.
И.В. – Г.: Была группа: Красовицкий, Чертков, Хромов. Были Холин, Сапгир. И был ты. Красовицкого любили все.
Г.А.: Любили и считались с ним.
И.В. – Г.: У Холина, Сапгира и младшего по возрасту Некрасова круг был гораздо меньше, но они были естественной после футуристов и обэриутов линией русской поэзии. Ты же был совершенно отдельно. Как тебя воспринимала публика? И другие поэты?
Г.А.: Андрей Волконский воспринимал с радостью и, может быть, даже с гордостью, потому что он имел влияние на мое общее развитие. Я дружил с его женой Галей Арбузовой, мы с ней учились. И когда я в 60 году приехал, похоронив мать, и сказал, что принес русские стихи, он сразу предложил: «Давай запишем их. Диктуй». И мне, кроме его понимания моих стихов, больше ничего и не было нужно. Ну, и Миша Гробман – сама любовь, он много сделал для других. Например, для Володи Яковлева. Володя Яковлев тоже читал мои стихи наизусть, и Саша Васильев тоже. А Холин и Сапгир постоянно интересовались мной. Однажды даже приехали ко мне с предложением объединиться, чтобы я вошел в их группу и мы совершили такую же акцию, как художники на пустыре в Измайлове.
И.В. – Г.: Ты знаешь, что эту выставку сначала предполагалось за несколько лет до этого устроить у меня на даче в Томилино? Мы обо всем договорились с Рабиным, а потом выяснилось, что Томилино – закрытая зона и туда не смогут приехать иностранцы.
Г.А.: Холин и Сапгир предложили мне объединиться, но я отказался. Это их задело. Через некоторое время Холин сказал: «Ну что, будем его бить?» Сапгир молчал, а я спросил: «Так, как вы Волконского били?»
И.В. – Г.: Они били Волконского? Почему?
Г.А.: Холин по пьянке, из-за девок. Холин предложил всем раздеться. Разделись, пили. Вдруг Холин говорит: «Князь, хочешь – я вас буду бить?» Это было году в 62-м. Андрей очень удивился и спросил: «Зачем?» Холин его ударил, и князь полетел. Встал и сказал: «Теперь я верю, что вы убили человека». Дальше битья не было. Ну, и со мной хотели сделать что-то подобное. Все было на грани, мы были в очень странных отношениях. Но однажды в женском обществе Холин предложил мне читать мои стихи. А я прочел Глазкова. Он на меня внимательно посмотрел, покачал головой и стал превосходно читать Лермонтова. Я отношусь к Холину как к очень уважаемой мной и очень нешуточной личности. Его поэзия мне чужда, но она подлинная. Игорь о поэзии говорил всегда точно и осознанно. Те его слова, которые я прочел в твоем интервью с Эммой Герштейн, теперь для меня как заповедь, которую я не забываю сам и повторяю другим, потому что мы все забыли, что такое поэзия. А он сказал, что поэзия – «дар, редкостный голос, чудо, данное Богом». У нас океан людей пишет стихи, все очень хлестко, но все это не проходит, много обмана. Надо чувствовать душой, как Красовицкий. И для меня не важно, писал он дальше или нет. До 62 года он развивался чрезвычайно быстро. Тот путь, который у других продолжался тридцать лет, он проделал за какие-нибудь семь-восемь лет.
И.В. – Г.: Была эпоха, которую Гробман определил в своем стихотворении о Нобелевских премиях, назвав там Красовицкого, тебя, Холина, Сапгира и Некрасова.
Г.А.: Я хочу сказать, что я никогда не считал, что Некрасов с ними. Мне казалось, что он нуждается в них, чтобы к чему-то принадлежать, я его воспринимаю совершенно отдельно. Для меня это оригинальный, замечательный, большой поэт, чистый до пуризма. Удивительная, замечательная система.
И.В. – Г.: Были подлинные поэты, сами себя сделавшие, сами восстановившие традицию и говорившие собственными голосами. Теперь эта эпоха герметически закрыта, и если она повлияла на русскую поэзию, то косвенно. И новое русское общество практически вас не знает. Они знают имена и даже восхищаются ими, но влияние пошло по другой линии. И существует феномен Бродского.
Г.А.: Например, группа Красовицкого, они уже знали Флоренского, Муравьева, у них было особое отношение к Батюшкову. Когда застрелился Маяковский, всем стало понятно, что русской поэзии в том виде уже не существует, а они протянули ниточку до нас, до меня, в таком чистом родовом виде. От них мы узнавали о классической современной английской поэзии (Андрей Сергеев переводил, а мы зачитывались). Я такого не смог сделать с французами. И когда в 1965 году на выставку Гончаровой и Ларионова в музей Маяковского пришел Красовицкий и я познакомил его с Николаем Ивановичем, он сразу вспомнил, кто это. И, когда Красовицкий ушел, написав что-то в книге отзывов, Николай Иванович сразу же подошел прочитать – вязью Красовицкого было написано: «Там снова царствуют восторг и красота». Харджиев был восхищен: «Как хорошо сделано!»
Мы в Москве восстановили что-то и продолжали, со своей фактурой. А потом появился Питер. Мы с Красовицким и Владиком Свешниковым, который стал священником, ездили в Ленинград. Красовицкого приняли как знаменитого американского певца, как звезду. Он уже перестал писать. Но это все еще его задевало, было живо для него. Я видел, как ленинградцы на него реагируют, а это был круг Бродского, хотя его самого не было. Наступил другой период. Это, видимо, тот постмодерн, мимо которого мы прошли, не коснувшись его. А у Бродского – стандартная ангажированная поэзия американского и европейского порядка. Этого сейчас у них много. Она оперирует социальными силами, социальными группами общества, и довольно агрессивно это делает, и характерна резкостью и силовыми средствами.
И.В. – Г.: Каким образом Бродский стал главным поэтом, героем русской культурной публики?
Г.А.: Это слава как таковая работает: цитируемость, социально активная и социально разработанная позиция. Он сам поэт большой силы и героизма, о чем говорят его ранние стихи, человек большой силы воли и восприимчивости. Выдержать, устоять там непросто. И он создал ситуацию русского постмодерна, правда, немного запоздалого.
И.В. – Г.: В изобретенном тобой поэтическом языке принципы западной поэзии стали русскими. Бродский тоже взял принципы западной поэзии, но русский язык его очень традиционный. Это не русская поэзия ни в музыкальном, ни в исповедальном плане. Но на этом выросло новое русское поколение.
Г.А.: Да, тут нечего сказать. Появилось открытое общество, которое нуждалось в своем голосе. И те, которые этот голос готовили, например Бродский, не отвергают Слуцкого, он нашел в советской поэзии то, что ему пригодилось.
И.В. – Г.: В русской культуре, в отличие от Запада, не было модернизма, а был авангардизм.
Г.А.: Это связано с технологией и изменениями в стиле жизни. Модернизма в большом русском искусстве не было, даже Бенуа не всемирный художник. Ни Хлебников, ни Маяковский в этом плане не модернисты, скорее они урбанисты. У Кузьмина и Ходасевича иногда проскальзывают частности модерного порядка. И Блок не модернист. В русской жизни нет модернизма больших фигур. А постмодерн – это другая история. Для меня это явление базара, ярмарки и улучшения материальной стороны жизни, не очень связанной с духом. Какой модернизм мог быть, когда, ты помнишь, Москва стояла во тьме, как после третьей мировой войны? Жизни не было, какой там модерн… В начале века были небольшие ярмарки модерна, туда ездили, сюда ездили. Но сама жизнь, требовательно-суровая, воплощалась и в Бунине того времени, и в том же Хлебникове. Это был показ огромных трагедий, огромных экзистенциальных переворотов в истории вообще и в жизни в частности, не до модерна было. Модерн – явление западное, со свойственной Западу перенасыщенностью чисто житейскими вещами. И сейчас у нас начался заимствованный, подражательный постмодерн. Если искусство будет продолжать заниматься этим, это будет плохое, постоянно мелькающее документальное кино. А искусство занимается более существенными вещами.
И.В. – Г.: Какими?
Г.А.: Как меняется духовное состояние человека, или, как сказал Фолкнер, что должен делать человек, чтобы победить и выжить. Как Кафка, увидеть внутреннюю сущность человека. Постмодерн – это бытовая, описательная и перечислительная поэзия, обслуживающая и участвующая в ярмарке, мелькающая и исчезающая, без пафоса духовности, очень подчиненная диктату Запада.
И.В. – Г.: В наши времена нам было легко узнавать своих, потому что уровень их знаний и культуры был несравненно выше официоза и советского литературного либерализма. Сейчас же все знают, что нужно, все умеют, уровень версификации достаточно высок.
Г.А.: Версификация всегда соответствует уровню своей эпохи, то есть версификация сто лет назад, во времена Сурикова и Толстого, была на их уровне. Сразу было видно, что читал Есенин. Версификатор очень быстро достигает уровня того, с чем он имеет дело. Версификатор – это подражатель, а не творец. Через сто лет уровень версификации станет еще выше, она никуда не двигает литературу, но иногда бывает трудно отличить, что подлинно, а что нет. Иногда это хлестко, но не помогает жить.
И.В. – Г.: Кого ты можешь назвать из современных поэтов, близких тебе?
Г.А.: Михаила Айзенберга. У него есть признаки достойного терпения, отстаивания своих вещей, умно, задумчиво.
И.В. – Г.: Ты чувствуешь, что вырабатывается новый поэтический язык?
Г.А.: Пока трудно сказать. Может, уже есть, но еще не привилось.
И.В. – Г.: Как тебе кажется, иерархия русской поэзии уже построена?
Г.А.: Думаю, нет. Идет огромная светская игра, как, например, с Ахматовой. Ряд поэтов пока еще не напечатан. Иерархию пока некому строить, да и нет нужного для этого спокойствия. Я, например, Цветаеву не люблю, не могу читать эту сплошную истерику. Но как-то, бродя по полям и лесам Тверской губернии, я вспомнил ее голос. Она, конечно, явление удивительное, очень подлинное.
И.В. – Г.: Назови трех русских поэтов – самых важных для тебя.
Г.А.: О Пушкине трудно разговаривать, очень сильный перекос в ту и в другую сторону. Я назвал бы Лермонтова, Анненского, Пастернака. Лермонтов и Анненский – поэты экзистенциально чистые, подлинные. Пастернак немного спорный.
И.В. – Г.: Гена, у тебя издавна сложились близкие отношения и сотрудничество с западными поэтами и литературоведами. Кто они?
Г.А.: Во-первых, мои друзья-переводчики. Замечательный поэт, швейцарец Феликс Филипп Ингольд; шотландец Питер Франс – он пришел ко мне как к человеку из близкого окружения Пастернака (через несколько лет он признался мне: «Я тебя начал переводить не только для печати, но чтобы самому тебя понять»). Ингольд сейчас тяжело болен. Его друг Вальтер Гюлер, серьезный теолог, с глубоким пониманием языка и перевода. У нас с ним много общего.
В Швеции у меня также близкие отношения с Томасом Транстрёмером. Ему семьдесят три года, он потерял речь, но продолжает писать. Он превосходный пианист, но сейчас может играть только левой рукой. Томас – светлый человек, живущий вне праздников и карнавалов, поэт-стоик, услышанный у себя на родине и во всем мире. Кстати, Ингольд перевел стихотворение Гробмана «Нобелевская премия».
Вот эти люди и другие мои друзья, замечательные поэты, филологи, рассеянные по всему свету, держат всемирную духовность, сохраняют настоящее, нужное, живое слово, как Евгений Кропивницкий, как наш недавно умерший Савелий Гринберг, замечательно переведший Давида Авидана.
И.В. – Г.: Ты ощущаешь трагичность своей жизни?
Г.А.: Я не сказал бы «трагичность», это слово не подходит. Я все больше чувствую, что многим обязан своему чувашскому народу. Поэт Михаил Сеспель – трагическая фигура, чувашский Рембо, погибший на Украине в двадцать три года от голода, – писал:
Мой любимый, мой желанный ноль Ты все сожрал Все у меня взял Сожри меня без остатка Чтоб памяти не было.Я читаю и поражаюсь: написано по-русски, неловко. Харджиев сравнивал это со стихами Хармса о нуле. Но это редкий, трагический случай. Гениальный поэт. Вообще у чувашей не поощряется негармоничность человека, тяга человека к гармонии пронизывает все.
Такие люди, как Тракль и Целан, врожденно трагичны и не жильцы. Они сами это сознавали. Они, видимо, нужны. Но одинокое терпение, если я правильно выражаюсь (у Красовицкого это есть – одинокое терпение отдельного человека, говорящего на языке нашего времени, работающего не для того, чтобы понравиться), – это то, что сейчас нужно. У Кафки как бы самая обычная игра, но потом наступает прозрение, и в этом весь смысл литературы, так нужно жить. Но, наверное, такие люди потом появятся, не может быть по-другому, у России слишком серьезная литература.
«Зеркало» № 25, 2005 г.«…Это остров, о котором много можно говорить…»
Беседа с Ильей Кабаковым
Ирина Врубель-Голубкина: Илья, чей ты художник? Кому ты адресуешь свое искусство?
Илья Кабаков: Четыре года назад я совершенно определенно мог сказать – и даже с некоторым энтузиазмом, – что я живу в Москве, в центре великой страны, и что я художник этой страны и выражаю то, что вижу и слышу вокруг себя. Теперь я не живу нигде, то есть я нахожусь там, где моя работа, я похож на блуждающих циркачей: там, где мне предлагают выставку, там я и живу. Поскольку выставки, слава Богу, следуют одна за другой, я часто переезжаю. Вероятно, я художник все той же страны, но в моей жизни появилась еще одна – новая – страна. Это остров, о котором много можно говорить.
Это страна международных художников, кураторов, критиков, которая разбросана по всему миру. Жители этой страны принадлежат к содружеству, которое я готов идеализировать, я назвал бы эту страну Касталией. Этот остров я обнаружил, переехав из России, хотя подозревал о его существовании и раньше. Этот остров омывается рекой, имя которой – история искусства. Остров тоже принадлежит истории искусства. Извивы реки прихотливы, и неизвестно, где она проходит сейчас. Трудно сказать, где в этот момент ее главное русло. Но вместе с тем река течет по прямой – с глубокой древности по сегодняшний день.
Моя земля – этот остров, моя семья – этот остров, жить здесь – большое счастье.
И.В. – Г: Для кого же предназначено искусство, которое создают жители острова?
И.К.: Художник отражает мир, который вокруг него. Содержание искусства рождается в среде, в детстве, в мире, где живет художник, но формы художник изменяет постоянно. Это стало так с начала века или немного раньше и идет до нынешнего дня. Вопрос для нас стоял так: либо заимствовать принятые формы, либо создать свои. Старые формы были нам отвратительны, жалки. Новые – проблематичны, комичны даже, но они соответствовали нашим стремлениям. И мы начали выражать наши высокие потуги, устремленные иногда за край мира, в этих комичных формах.
Мы имели перед собой целую панораму художественных форм, которые за долгое время развились на Западе, за рубежом. Каждая из составляющих этой панорамы использовалась нами и переосмыслялась. Все – от самых настоящих «славянофилов» до «западников» – склонялись к формам западным. Даже те формы, которые объявлялись богоданными, оказывались на поверку модификациями западных течений. Некоторые из нас считали, что формы должны сопрягаться с сегодняшним днем, некоторые скользили по лестнице времени вплоть до Возрождения и дальше. Но в любом случае эти формы не были одеждами из гардероба времени, но соответствовали духу времени. Мы понимали, что требуется не только язык Запада, как это было в XVIII веке, когда художник мог поехать в Париж, насмотреться новинок и перенести их домой, в деревню. Мы понимали, что язык постоянно изменяется, очень быстро изменяется.
Нужно ли гнаться за изменением языка? Это важный вопрос. Для меня говорение на нынешнем языке очень важно.
Сейчас все проблемы в художественном мире глубоко региональны. Все попытки выйти на старый интернациональный язык кончаются скверно. Все укоренены в своей истории, язык коммуникаций должен быть понятен международному сообществу художников – острову, о котором я говорил.
И.В. – Г.: Кто управляет островом?
И.К.: Никто. Это семья, где понимают друг друга, это не какая-то строгая иерархия, здесь нет места тоталитаризму.
И.В. – Г.: Кто определяет законы на острове?
И.К.: В известном смысле – массовое сознание его обитателей. Это массовое сознание критиков, художников, коллекционеров, кураторов…
И.В. – Г.: Не может ли произойти ошибка? Не может ли к сообществу присоединиться чужак?
И.К.: Нет, этого не может быть. Эта жизнь растет, как куст, ей нельзя навязать посторонней воли. Попасть внутрь круга очень трудно каждому его члену, но, когда это происходит, это воля всего круга, всей элиты.
Как всякая элита в мире, наша двигалась по вертикали художественного развития. Это подобно дереву, которое обновляется. Сменились четыре поколения неофициальных художников в России, но каждое последующее органично нарастало на предыдущем. Другое дело – меняется место обитания: Париж, Нью-Йорк, Берлин… Сейчас художники «плавают» по всему земному шару. Так же, как критики, – это стая… Одним словом, это все – орден, который всюду имеет свои монастыри. И это все – регионы, где выращивают свое. Но главные центры этой жизни – Германия, Скандинавия, Нью-Йорк и, я думаю, Япония в ближайшем будущем.
Река истории искусств идет через Среднюю Европу и Нью-Йорк, а все остальное стремится войти в реку. Есть африканские художники, азиатские, которые с неизбежностью попадают туда, в это главное течение. Что касается России, то она в ближайшее время не создаст вертикаль жизни искусства, и, вероятно, в России возникнут собственные структуры, которые будут иметь комплекс неполноценности перед Западом. Это не только судьба России, но и Латинской Америки, например… Пока не создадутся международные структуры, Россия будет в иллюзиях и комплексах. Для создания художественного поля в регионе нужна прежде всего мощная прокачка современных художественных форм через регион.
Итак, я обозначил картину: река – болота – сушняк. Так это обстоит сейчас. И я верю в то, что среднеевропейская цивилизация будет по-прежнему доминировать. Это, впрочем, не значит, что нет других способов существования. Например, любая форма изоляционизма дает силу, способность действовать и ощущать свою исключительность. Заботиться о собственной исключительности надо, это естественно. Но нужно думать и о схожести с другими.
И.В. – Г.: Илья, ты суперзвезда. Но не идет ли весь остальной поток советского искусства единой волной, без различий?
И.К.: Здесь для меня много неясностей. Какова история современного транснационального искусства? Было единое движение, то, что именуется Парижской школой, и так далее. Позднее в искусстве стало доминировать самое последнее направление. Но были и группы, работающие в русле общих идей, «Флюксус», например. Всегда существовал и существует и институт гениев… Художник всегда может опираться на опыт Ван Гога…
Россия перебирает все эти методы жизни и действия. Но «остров» для России неприемлем, в России большой дефицит этого взгляда.
Я не вижу других реальных возможностей. Всякие этнографические выставки – под флагом национального суверенитета – обречены.
Какой должна быть современная выставка? Она состоит из международных монстров, или это выставка примерно из 60 участников по теме куратора. Выставки подбираются по идеям, которые кажутся кураторам проблематичными, интересными. Куратор сейчас сам выступает как художник, как режиссер выставки. Идут смотреть не только на работы художников, но и на концепцию куратора.
И.В. – Г.: Почему на это тратятся такие деньги?
И.К.: Да, деньги часто «выбрасываются» на инсталляции, которые после выставки разбираются и перестают существовать. Речь ведь идет о новой элите, не о частной коммерции, нет, это элита. Поэтому это будет и дальше финансироваться. Еще недавно все диктовали коллекционеры, позже все взяли в руки галереи, а потом их роль стали играть кураторы и музеи.
Сейчас очень важна проблема профессионалов. Искусство делается для узкого круга профессионалов. Вот в музей приходит человек с улицы и говорит: «Я могу сделать так же». Но это не так. Когда на выставке вешаются две веревки – профессионала и дилетанта, – кругу знатоков сразу ясно, где настоящая веревка. Была даже такая история в Москве, когда в «Крокодиле» опубликовали репродукции настоящих западных абстракционистов и какие-то неподлинные вещи. И даже неподготовленные читатели сразу распознали, где настоящее. Но сегодняшние критерии гораздо сложнее. Поэтому сегодняшний куратор – это и историк искусства, и знаток, и глаз у него отменный. Это очень сложная профессия. Куратор – это единственный потребитель продукции. И другие знатоки из клана.
И.В. – Г.: Как сменяются поколения в этом мире?
И.К.: Это особая возрастная система. Это установившееся мирочувствие в системе: человек набирает язык, которым он пользуется. Он пользуется этим языком, потом оказывается, что язык изношен, художник останавливается. Он еще может смотреть на происходящее, оценивать следующее поколение, оно может нравиться ему или нет. Обычно это происходит в течение 7–9 лет. Постепенно меняется весь план генерации, в связи с политическими причинами и многими другими. Где течет сейчас река искусства, не знает точно никто, каждый надеется, что река здесь, рядом. Но в своей генерации каждый художник – жертва своей группы.
«Знак времени» № 14, 1991 г., «Зеркало» № 31, 2008 г.По другую сторону поверхности
Беседа с Эриком Булатовым
Ирина Врубель-Голубкина: Эрик, ты был одним из ранних московских авангардистов, и вот в середине семидесятых, уже зрелым художником, ты оказался в среде художников нового поколения и развивался вместе с ними. Потом, через двадцать лет, уже в Париже, ты тоже достаточно резко изменил форму своего высказывания. Кто твой зритель, при помощи чего изменяется твой язык?
Эрик Булатов: На самом деле мой язык – это я и есть. Для меня очень важно, что между мной и зрителем нет разницы вообще, я не адресуюсь к зрителю, я и есть тот зритель, который адресуется к картине. Для меня картина – это абсолютная реальность, то, с чем я работаю, и то, что мне объясняет жизнь, помимо картины, я ничего не понимаю, это такая каша, хаос. Но сейчас искусство ограничило круг своих потребителей людьми, наученными читать его язык.
В качестве зрителя я всегда ориентируюсь на себя и на Олега Васильева, он близкий мне человек, мы с ним разделяем многие представления о мире, у нас есть общие идеи. И, когда он говорит мне о моих работах, я ему верю и знаю, что он понимает, что я имею в виду. Он смотрит изнутри, не снаружи, оценивая их не по каким-то там стандартам, а именно исходя из того, что я хочу, что мне нужно выразить, получилось это или не получилось. Но, в принципе, я ориентируюсь всегда на себя. Конечно, есть надежда, что кому-то это еще не безразлично.
И.В. – Г.: Ты мог бы продолжать рисовать на необитаемом острове?
Э.Б.: В каком-то смысле да. Но то, что я делаю, – это сама жизнь и есть, это моя жизнь, такая же, как жизнь любого зрителя. И если это интересно другим, то потому, что я пытаюсь выразить то, что есть, не мое отношение, а именно как она стоит передо мной.
И.В. – Г.: Ты себя чувствуешь русским художником?
Э.Б.: Да.
И.В. – Г.: Без русской составляющей ты не мог делать бы то, что ты делаешь?
Э.Б.: Мозгов других мне взять неоткуда, сознание мое сформировано русской культурой. Другое дело, что здесь, в Европе, я себя очень хорошо чувствую, потому что я себя вполне осознаю европейским художником, и именно потому, что я русский. Вообще европейцев нет – есть итальянцы, англичане, немцы, французы. И каждый остается самим собой, включаясь в единое дело. Мы все воспитаны и изначально обучены в европейских конструкциях сознания, и поэтому мои работы легко и естественно включаются в западноевропейский контекст. Если бы я не чувствовал себя русским, я здесь никому не был бы нужен. Именно оставаясь самим собой, не отказываясь от себя, можно войти в общую культурную работу.
И.В. – Г.: Что ты можешь сказать об интеллектуальности, визуальности и смысле нового искусства? На какие выставки ты предпочитаешь ходить?
Э.Б.: Любое произведение искусства, будь то картина, видео, инсталляция, объект, должно работать визуально и производить регулярное впечатление, то есть какое-то воздействие эмоциональное должно быть. Литературное содержание и прочие виды интеллектуальной наполненности – это все хорошо и замечательно, но, если сама картина вне этих комментариев не работает, ничто ее не спасет. А если она работает сама по себе, то могут быть любые комментарии, тексты, хотя я понимаю кабаковскую позицию между двумя видами искусств – литературой и изображением. Это вполне нормально, тут вопрос личной ориентации и одаренности, но для меня это абсолютно не подходит.
И.В. – Г.: Эрик, как ты начинал?
Э.Б.: Начало пятидесятых, время, которое Сева Некрасов замечательно определил как «эпоху возражений». Возражения были в основе всего, еще было неясно, что противопоставляется, в чем позитив, важно было, что все ставится под сомнение, отрицается все, что полагалось восхвалять и воспевать. Это часто выражалось просто поведенчески: человек мог вести себя не так, как полагается, – не вовремя петь. Можно было вести себя как свободный человек. Разобраться в том, что это: просто временная накипь или настоящее – сначала было невозможно. Любая клякса, которая была сделана как-то не так, уже вызывала всеобщий интерес. Критерий был только один: чтобы было не похоже на то, что делается официально. Я же в этих выставках и в этой веселой игре участия не принимал, потому что мое сознание формировали два учителя – Фальк и Фаворский. От Фалька я получил европейскую культуру, и это было очень важно. После смерти Сталина начала появляться куча всякой информации о европейском искусстве, в Пушкинском музее вновь открылась экспозиция импрессионистов. И, конечно, во всем этом разобраться было очень трудно, Фальк тут сыграл для меня колоссальную роль. А Фаворский сформировал мое сознание профессионально, как художника, очертил тот круг проблем, из которых я исходил всю жизнь. Это моя твердая позиция. Правда, после института было время такой каши. Я закончил Суриковский в 1958 году. До этого в моей жизни был единственный момент, когда у меня была социальная и даже политическая функция. Дело в том, что в Суриковском произошел бунт, и я его возглавил. В сталинское время, в конце сороковых годов, отставили всех профессоров, даже таких, как Сергей Герасимов, и мы, собственно говоря, требовали их возвращения и изгнания пришедших вместо них. Никого, кроме Дейнеки, правда, не возвратили, но сняли достаточно, например Есланова, Решетникова, Глеба Борисовича Смирнова.
Бунт в Суриковском был в 1956-м, уже прошел 20-й съезд партии, люди ждали перемен, проникли сведения о современном европейском искусстве, много говорили о нашем искусстве 20-х годов, шли бурные споры. Среди преподавателей, чьи имена теперь никому не известны, выделялся Аркадий Максимович Кузнецов, подписывавший приказы славянской вязью (он был по научной части). Во время спора о современном французском искусстве он заявил студентам: «Вот что я скажу вам, ребята. Дело все в том, что Ван Гог, Гоген, Пикассо – это все явреи, явреи, явреи! А яврей, он родины лишен, он космополит. Так что какое там французское? Яврейское искусство!»
И вот устроили открытое комсомольское собрание (я в комитете комсомола был академсектором, я даже получил премию за работу о Врубеле), и я выступил и сказал, что нам нужны такие учителя, которые сами умеют рисовать, все знают, и понимают, и нас смогут научить. Невероятный всеобщий энтузиазм, люди плакали, целовались. В перерыве меня окружила толпа ребят, и Вася-фонарщик (Вася Ситников), ассистент на кафедре, растолкал всех – и ко мне: «Держись, держись!» Все проголосовали за выполнение наших требований, и я еще предложил бойкотировать учебу, если нам не заменят учителей. Это уже было серьезно, так как воспринималось как политический призыв. Тогда Третьяковка купила мою работу, и меня прочили в лауреаты фестиваля молодежи на следующий год, но после собрания все отменили.
Конечно, профессора на меня были безумно обижены и не могли понять, зачем я все это делаю. У меня было замечательное положение в институте: я получал Ленинскую стипендию, мне разрешалось делать все, что я хочу. И в моем поступке они видели ужасную человеческую неблагодарность. Да я лично ничего не имел против них, просто они не должны были учить художников.
И.В. – Г.: А кто были эти люди?
Э.Б.: Соловьев, зав. кафедрой по рисунку; Глеб Борисович Смирнов, отец Леши Смирнова, очень хороший, добрый человек, но он ничего не мог нам дать. Я чувствую себя перед Алешей виноватым. Я, конечно, не имел права все это на себя брать, но я был убежден, что все пришли сюда учиться искусству, быть художниками, а не только получать дипломы.
На следующий день я пришел в институт с опозданием, в гардеробе навстречу мне бежит гардеробщик, снимать, как директору, пальто. Прихожу в живописную мастерскую, а там – преподаватель, которого мы не выгоняли, Христолюбов, он подходит ко мне, жмется и спрашивает, оставлю я его или нет. Ему, говорит, гардеробщик сказал: прежде чем раздеваться, надо спросить у Булатова.
На этом мои иллюзии закончились, я больше никогда не участвовал ни в манежных, ни в каких других делах, сразу понял, что государство надо игнорировать и зарабатывать деньги каким-то другим способом. А так как способ у меня был один – рисовать, я нашел возможность оформлять детские книги, это была хорошая, нужная работа.
Я закончил институт в 1958 году, а художником себя осознал в 1963-м. Эти пять лет еще были годами ученичества, нужно было переучиваться заново. Для меня это было смутное время метания из стороны в сторону, время поисков своего пути. У меня еще не было прямого вопроса ни к окружающему миру, ни к искусству, я осваивал колоссальное количество информации. Во всяком случае, в 1963 году у меня уже было ощущение, что я наконец сформировал свою позицию в жизни и искусстве.
И.В. – Г.: В каких работах ты почувствовал, что это – уже твое?
Э.Б.: Это были натюрморты. Сейчас, когда я смотрю на них, я не вижу большой разницы между ними и тем, что я делал в 1962 году. Но для меня они стали рубежом, главное – я определил, что такое картина, что она из себя представляет, с чем я работаю, что это за инструмент, с которым я имею дело. С другой стороны, я осознал окружающий меня мир как мир беспрерывной поверхности. В сущности, человеческое сознание имеет дело только с поверхностью, мы не можем проникнуть внутрь, мы только трогаем, прикасаемся, кожей ощущаем прикосновение, видим только поверхность. Если мы вскроем поверхность, то упремся в следующую поверхность. Ничего, кроме поверхности, нет. Даже небо мы воспринимаем как поверхность. Это был мой первый вопрос: а что по другую сторону поверхности? Что-то там должно происходить, по ту сторону. И я начал с этого.
И.В. – Г.: Но в семидесятых годах у тебя появилось другое – другой горизонт, элементы соц-арта.
Э.Б.: Это произошло раньше. Вот портрет 1968 года. Это образ человека, живущего во враждебном пространстве и желающего спрятаться в себе. Снаружи он выглядит как летчик, и его не распознать, это такой силуэт, привычный, банальный. К этому времени у меня выработалось преставление о пространстве и поверхности картины. Картина – такой сложный организм, который одновременно и плоская поверхность, и пространство, непрерывная трансформация одного в другое. И оба этих начала нашего сознания – представление о поверхности и о некой глубине – выражаются в этих двух ипостасях картины. Таким образом, у меня в руках оказалось средство, которое позволило рассмотреть нашу советскую жизнь с точки зрения пространственной, визуальной, а не литературной, типа иллюстрации. Есть социальное пространство, в котором я живу, есть пространство искусства – другое, свободное от социальности, и это есть пространство свободы. И есть граница, поверхность, плоскость, которая не пускает в то пространство. Мы как бы находимся перед запрещающей границей. И это, собственно, два начала – запрет и потребность туда войти. Поэтому у меня картины «Входа нет» или «Слава КПСС» – небо свободы и буквы, которые не пускают нас туда. Они страшно агрессивны, они набрасываются, но зато они сами не имеют отношения к тому, что по ту сторону поверхности, они только на поверхности, у них нет никаких пространственных возможностей. Так эти два начала оказались у меня в руках – советский запрет на свободу (я всегда работал с выражением этой социальной идеологизированной среды) и ситуация свободы.
Для меня было очень важно, что я не выражаю своего отношения к этой советской жизни, а показываю ее такой, как она есть.
И.В. – Г.: То есть не отношение, а комментирование реальности?
Э.Б.: Меня прежде всего интересовало сознание людей, мое и моих сверстников, и вот эта идеология, которая всячески уродовала и деформировала это сознание и пространство нашего существования. Наше сознание настолько привыкает к деформированному пространству, что оно становится нормой. Но на самом деле происходит подмена нормальности. А я хотел выразить подлинную нормальность, и картина дает возможность увидеть ее отстраненной, не погруженной в чуждые ей ситуации.
И.В. – Г.: Есть в еврейской мистике такое понятие: «тикун» – исправление, то есть ты производишь действия, которые исправляют ситуацию, приводят ее к первичной подлинности.
Э.Б.: Да, важно обозначить все, что заполняет нашу будничную жизнь, назвать по имени. Ты называешь и освобождаешь. Это не должно быть выражением каких-то экстремальных ситуаций, а именно самых банальных, самых ежедневных, потому что сознание наше выражается через эту повседневность, что для него есть норма, что для него есть обычное и обязательное. Такие вещи определяют сознание и время, и с другим временем придет другое сознание, которое сейчас невозможно распознать. Обычные вещи очень трудно выделить из потока времени, и, собственно, этим я пытался заниматься.
И.В. – Г.: И что ты делаешь сейчас, когда нормы идеологии изменились и произошел сдвиг и в искусстве, и в жизни?
Э.Б.: Я всегда пытаюсь выражать сегодняшнее сознание. Просто оно сейчас иначе выражается. Жизнь все равно ставит новые проблемы, никогда невозможно достигнуть идеала, и есть все уничтожающая идеология рынка, когда человека с детства воспитывают так, что смысл жизни – в приобретении, потреблении и получении наслаждения, и он с этим вырастает. Это другая идеология, не такая жестокая, но тоже очень страшная.
И.В. – Г.: И ты хочешь обозначить и изменить эту поверхность?
Э.Б.: Я с этим работаю, но, правда, сейчас все больше отхожу от социального пространства, и меня больше интересуют такие экзистенциальные понятия, как свет, цвет, в чистом виде.
И.В. – Г.: Мне кажется, что современное искусство во многих случаях отошло от глобальных тем, а больше занимается маленькими проблемами маленьких людей, что, конечно, очень важно. Ты же говоришь о главном. Может ли быть сейчас общее первичное высказывание?
Э.Б.: Во времена Ренессанса, когда расстояние между искусством и зрителем было самым коротким, изобразительное искусство было самое первое и самое понятное из всех искусств. Потом оно стало уступать место литературе, музыке. И зрителю было все понятно и просто, но он знал, что это очень трудно сделать. А в современном искусстве зритель думает: «Ну, и я так могу! Это ничего не стоит – плюнуть, кляксу какую-нибудь посадить». А вот почему это искусство – он не понимает, стало сложным то, что было простым, и наоборот. Был все-таки непосредственный контакт между искусством и зрителем, а сейчас его нет. Хотя, как я уже сказал, сейчас меня интересуют свет и пространство в чистом виде, я не хочу ничего отпускать, я хочу держать все: и превращение в абстракцию абсолютно конкретных вещей, и абстрактное понятие, которое трансформируется в знакомый ряд. Я все время работаю с массмедийной продукцией, которая раньше была для меня советской. Вот, например, товарный знак – он может превратиться во что-то другое… Изначально это товарный знак, как раньше был советский плакат, – это язык современного сознания, самый банальный, самый привычный, который только можно найти и придумать. Именно сквозь это открывается выход за пределы этого, так же как и в советское время, в отличие от художников соц-арта, для меня реальность была за пределами соц-арта, меня всегда занимала социальная граница, проблема свободы от социального произвола.
«Зеркало» № 28, 2006 г.«Я всю жизнь выбираю лучшее. чаще всего бессознательно…» Беседа с Сашей Соколовым
Ирина Врубель-Голубкина: Я хочу говорить о том, как ты создал свой новый язык, свои тексты, которые изменили всю русскую литературу. Ты родился в другой стране, в окружении чужого языка. Как ты начинал?
Саша Соколов: Я молчал лет до трех. Наверное, оттого что в Оттаве вокруг меня говорили на разных наречиях – по-французски, по-английски и по-русски. И вообще, был необщительным, хотя любил слушать взрослые разговоры. В нашей московской квартире после войны люди были нервные, часто скандалили. Однако в каком-то возвышенном, театральном духе, вульгарные выражения не использовались. Отец – из дворян, мать – из простых, но зато фанатичка изящной словесности, и язык улицы был мне чужд, как и улица в целом. Воспитывала меня в основном тетка, сестра матери, женщина старорежимная, строгая. Она закончила классическую гимназию в Новониколаевске и точно знала, как должны вести себя хорошие господа. Прекрасно читала вслух, рассказывала чудные истории и пела сибирские песни. Книг в доме хватало. Главным писателем в семье был Гоголь.
И.В. – Г.: Что для тебя было важнее – литература или жизнь?
С.С.: Увлекало и то и другое. Я очень рано решил, что буду сочинять, лет в девять. У меня была явная тяга к письму.
И.В. – Г.: А сейчас ты пишешь на компьютере или от руки?
С.С.: Серьезное – только от руки. Что до первых опытов, то они были довольно беспомощными.
И.В. – Г.: Они у тебя не сохранились?
С.С.: Мне было бы весьма неудобно увидеть эти вещи напечатанными. Увы, я не Блок, чье первое стихотворение удивляет своим совершенством:
Жил-был маленький котенок, Был совсем еще ребенок. Ну и этот котя милый Постоянно был унылый. Почему – никто не знал, Котя это не сказал.Такой техникой я не владел, но вдохновение посещало нередко, особенно за городом. Природа настраивает на тонкий лад, сообщает мелодию, интонацию.
И.В. – Г.: А литература?
С.С.: Естественно, если мне нравился какой-то текст, это влияло, но очень многое – от натуры.
И.В. – Г.: И каким был твой набор чтения, когда ты уже начал писать серьезно? Почему ты начал писать? Что явилось импульсом – протест против банальности советской жизни? Презрение? Преодоление текста? Многие говорят, что, когда они прочли Платонова, это было началом. Вот ты что-то читаешь и понимаешь, что за этим стоишь ты? Для многих из современных русских писателей это был Платонов, а ты говоришь о Бунине?
С.С.: Нет, Бунин был уже позже, его не печатали, а старых изданий не было. У нас дома имелись собрания сочинений русской и западной классики, потом появилась современная западная литература. И, конечно, влияла семейная атмосфера.
И.В. – Г.: Но, ты знаешь, твои мама и тетушка, если бы не происходили все эти ужасы, они писали бы стихи в альбомы и вели бы себя так, как полагалось девочкам их эпохи. А в этой атмосфере хранения культуры был невероятный протест против действительности.
С.С.: Они были хранительницами языка. Иногда мне кажется, что язык – это наше все, то есть едва ли не бесспорная национальная драгоценность.
И.В. – Г.: Ты уже тогда прочел много западной литературы; из чего ты вышел – из русской литературы или из западной?
С.С.: Видимо, из их комбинации. В отрочестве, скажем, Куприн, с одной стороны…
И.В. – Г.: Но то, чего ты достиг, не имеет истоков ни у Куприна, ни у Бунина?
С.С.: Но даже Сэлинджер и Фолкнер – это не модернисты, у них не было формальных новаций, которых я искал.
И.В. – Г.: А у кого они были?
С.С.: У Джойса. У Эдгара По. Имена, которые нельзя не учитывать.
И.В. – Г.: Мне кажется, Эдгар По оказал фантастическое влияние на русскую литературу, я уже не говорю о мировой вообще.
С.С.: У некоторых молодых людей есть склонность к размышлениям о смерти, а По пронизан этим, и когда ты читаешь его замечательные о ней фэнтези, то начинаешь развиваться в этом направлении. Чем больше ты готов к приятию небытия, тем ты свободнее. Я думаю, самураи правы: человек всегда должен быть готов к исчезновению. В Союзе летальная тематика в искусствах не поощрялась, и публикация По стала своего рода прорывом. Его мистика вдохновляет. Ведь жизнь без смерти ничего не значит, она одна из форм нашей вечности.
И.В. – Г.: И то, что пишешь, – это преодоление смерти?
С.С.: Это преодоление маленькой личной смерти, многими перьями движет эта надежда. И – клавиатурами.
И.В. – Г.: Но как ты начинал? Вокруг была пустыня официальной литературы. Каков твой первый литературный круг, что значил для тебя СМОГ? Ты пришел туда уже сложившимся человеком?
С.С.: Когда я познакомился со смогистами, они еще не были СМОГом – это была группа, которая только намечала путь. Судьба направила меня в тот вечер на Маяковку, где было очередное чтение, там мы все и познакомились. Я только что убежал из армии через сумасшедший дом, выписался, еще донашивал шинель, ходил пижоном. Я был счастлив, потому что кончилась моя неволя, в кармане – «белый билет», и, как перст указующий: ты свободен и иди туда. Года с 60-го мы с приятелями ездили по субботам на площадь Маяковского, слушали неофициальных поэтов, и я уже знал кое-кого из других завсегдатаев. Там появлялся Буковский, один из заводил, Галансков – в будущем значительные фигуры диссидентства. Окуджава не появлялся, но о нем уже говорили.
И.В. – Г.: Но это уже другое.
С.С.: Конечно, но на тот момент он был заметным элементом культуры. Необычный.
И.В. – Г.: А что ты читал на Маяковке?
С.С.: Вирши собственного сочинения. Так себе тексты. Сейчас их разыскивают филологи, я слышал. В тот вечер ко мне после чтения подошел некто, румяный и юный, и сказал: «Мы, группа литераторов и художников, идем писать манифест, в котором объявим себя независимой организацией. Ты – наш, идем с нами». Это был Володя Батшев.
И.В. – Г.: Это уже был СМОГ?
С.С.: СМОГ возник где-то через месяц. 19 февраля 1965 года состоялось наше первое выступление: улица Беговая, читальный зал библиотеки им. Фурманова. Если не ошибаюсь, нас было тогда семнадцать.
И.В. – Г.: Но ты знал что-то о Красовицком, о Холине, о Сапгире?
С.С.: Конкретно немного, но имена в воздухе носились.
И.В. – Г.: А с кем ты был знаком? С Аксеновым?
С.С.: Первое, что у него мне понравилось, была «Бочкотара». Он подражал западным образцам, модернистам, Дос Пассосу, к примеру, Доктороу.
И.В. – Г.: А что ты читал тогда из западной литературы?
С.С.: Кроме Джойса, кое-каких американских прозаиков, у них меня интересовала техника: Шервуда Андерсона, Эрскина Колдуэлла, Гертруды Стайн. Кого-то из скандинавов. Из французов – Мопассана, Флобера, хотя они реалисты. Из поэтов – Уитмена, Аполлинера. Я долго не мог решить, что писать – прозу или поэзию, хотел найти что-то среднее, тянуло к верлибру, к стихопрозе. Я, надо сказать, достаточно однозначен, в смысле однолюб. Вот Миша Гробман – ему хорошо: он и поэт, и художник, и теоретик, и вообще «Левиафан». Такая многоликость для него органична, а для меня была бы просто обременительна психологически. Говоря еще о влияниях: часто узнаешь писателей опосредованно, через тех, которые в себя их вобрали, усвоили и использовали их опыт. Например, после Лимонова читать Генри Миллера было уже не слишком любопытно. Мне кажется, кстати, самая его важная вещь – «Колосс Марусский», мемуары о предвоенной Греции. Дивный стиль. Года с 59-го я ходил к математику Аполлону Шухту. В той квартире, возле Литинститута, сходились молодые свободомыслы, читали и обсуждали неподцензурное, недозволенное, скажем Кафку, Рильке, Ницше, французских символистов. Те собрания давали ощущение причастности к чему-то значительному.
И.В. – Г.: Ты прочитал уже Артема Веселого, Платонова, Пильняка, футуристов. Что это для тебя было – новое слово в новой литературе?
С.С.: Я читал Пильняка, Платонова; они были очень популярны в той среде.
И.В. – Г.: А для тебя?
С.С.: Важны, но не особенно. Все относились к Платонову с придыханием, я – спокойно. Его язык казался корявым. Я знал, что буду писать по-другому. Хотя можно сказать, что в «Между собакой и волком» слог тоже местами негладкий, но тут уж я не виноват – так на Волге объясняются, а я это сконденсировал. Джойс и компания для меня важнее Платонова.
И.В. – Г.: А обэриуты, футуристы?
С.С.: Обэриуты мне никогда не нравились. Какие-то отдельные кусочки, детали, может быть. Впечатлял Хлебников, конечно, его формальные находки прекрасны. Однако большие поэмы излишне сумбурны, смутны. А Маяковский – самый близкий.
И.В. – Г.: Саша, писать – это игра или серьезно? Существует понимание литературы как игры интеллектуальных ситуаций. А ты, когда пишешь, это реально?
С.С.: Это серьезно. Ведь это мое, личное. Я связал с этим всю жизнь.
И.В. – Г.: Толстой говорил, что важно что, как и с какой страстью написано. Важно – с какой страстью! Для чего ты хотел сказать что-то?
С.С.: О, понятно, страсть необходима, но мне еще нужна музыка, звук: вещь должна звучать, как симфония. Задача мастера – показать возможности языка. Что дальше? СМОГ был для меня слишком угарным, богемным, через год я отошел. Резко изменилась среда. Я написал «Школу для дураков» уже после университета, после «Литературной России». Этот еженедельник многому научил: прежде всего – работе над стилем. Там служили люди грамотные, творческие. Как и в толстых журналах, имели хождение тексты и авангардные, и антисоветские, велись довольно смелые разговоры. Авторы, в большинстве своем члены Союза писателей, писали неважно, их материалы приходилось переделывать. В соответствии с установкой, конечно.
И.В. – Г.: Значит, ты редактировал себя?
С.С.: Да, я знал планку, знал, что требуется, но не в смысле цензуры.
И.В. – Г.: Да, мы были в этом смысле абсолютно свободны! Ты хотел печататься?
С.С.: В пору СМОГа. Потом понял, что то, что я хочу и умею делать, в той системе не опубликуют.
И.В. – Г.: То есть понял сразу?
С.С.: Понял довольно рано, решил, что пора сочинять только то, что мне самому интересно. И ориентировался на западные возможности.
И.В. – Г.: А когда установились первые связи? Кто из западных издателей первым прочитал, кто вообще первым прочитал?
С.С.: Первый, кто прочитал, – моя первая жена.
И.В. – Г.: Кто она?
С.С.: Это была Тая Суворова. Коллега. Вы вместе учились на факультете журналистики, исключительно талантливая, с потрясающим чувством языка. В 90-е издавала два гламурных журнала: «Он» и «Она». Сейчас работает в Калифорнии. У нас были друзья, ставшие цветом журналистики. А кое-кто и в прозе преуспел. Скажем, Игорь Штокман, лауреат всяких премий.
И.В. – Г.: А почему вы с Таей разошлись?
С.С.: Ну, рядом ведь были и другие коллеги.
Если не считать дурдомов, факультет журналистики был самым свободным учреждением. Благодаря Ясену Николаевичу Засурскому, который, единственный из всех деканов страны, не состоял в партии, разрешалось на занятиях обсуждать все что угодно. Самиздат ходил по рукам без утайки. Меня те тексты художественными достоинствами не удивляли, удивляла смелость авторов.
И.В. – Г.: Ты писал тогда? Что?
С.С.: В годы студенчества и позже – этюды, новеллы, работал над формой. Идея «Школы» уже в голове клубилась, но я выматывался на литературных галерах, в редакциях, работать приходилось часов по двенадцать в день, на то, чтобы писать свое, большое и честное, сил не оставалось.
И.В. – Г.: Ты ушел в егеря, потому что почувствовал, что больше не можешь в этой напряженной обстановке?
С.С.: Нужна была свобода, чтобы спокойно думать. Я понял, что больше не смогу ходить в присутствие. Но на что жить?
И.В. – Г.: А родители?
С.С.: У нас к тому времени отношения совсем испортились.
И.В. – Г.: А детство было все-таки прекрасным?
С.С.: Отнюдь, оно было полно неприятностей. Считалось, что у нас гениальная семья, все родственники по отцовской линии – великие математики, ученые, а я получился мальчиком правого полушария, в теоремах не смыслил – не вписывался, словом, в традицию. Но мать все же надеялась, что из меня что-нибудь да выйдет. Она часто говорила: «Учеба кажется тебе сейчас бесполезной и скучной, но все, что ты узнаешь, когда-нибудь пригодится».
И.В. – Г.: Все пригодилось, когда ты начал писать?
С.С.: Абсолютно. Мне нужно было найти место, где жить и думать. Я вспомнил о прекрасной местности к северу от Москвы, за Волгой. Там была дача моего школьного друга, то есть его семьи, рядом охотничье хозяйство, небольшая деревня. Мы с ним ездили туда с давних пор и зимой, и летом. Я снял там избушку за 10 рублей в месяц. Хозяин устроил егерем: в охоте я уже немного разбирался. Служба особенно не обременяла, появилось свободное время.
И.В. – Г.: Ты сидел и писал?
С.С.: Серьезные тексты я больше трех-четырех часов кряду писать не могу, надо отдыхать, отвлекаться.
И.В. – Г.: А потом ты выдаешь продукцию?
С.С.: Да, но для выдачи добротного текста требуется совершенно свежая башка. Тверской пленэр очень даже способствовал. Сельчане при всей своей необразованности – народ толковый. Пьянь, конечно, но какие характеры. Философы, эксцентрики, знатоки Библии. Короче, деревенская жизнь скучной не показалась.
И.В. – Г.: Ты в ней участвовал?
С.С.: Положение обязывало. Егерь должен вникать, входить в обстоятельства, а то ведь уважения не будет. Но связь с Москвой не прерывалась, коллеги наезжали нередко.
И.В. – Г.: Ты приблизился к религии, читал Евангелие?
С.С.: Да. Это было откровение. И формально Писание важно. Многие не понимают, даже верующие. Неинтересно, мол, там все время все повторяется. Так ведь это и есть то самое.
Литературная среда 50-х была рассеянная, в 60-е сгустилась – добавился Солженицын, самиздат, веяния с Запада. В 70-е уже для меня начался пик – я писал «Школу для дураков».
И.В. – Г.: Ты понимал, что создал новое, совершенно новое?
С.С.: Я понимал, что это хорошо, что это надо печатать. Так получилось, что возникла женщина из Австрии – в будущем моя вторая жена, славистка. Она предложила переправить рукопись за границу. Отправили по австрийской диппочте, потом рукопись почему-то оказалась в Египте, а потом в Америке – кто-то пошутил, что рукопись пришла туда с египетской маркой.
И.В. – Г.: И вышла книга.
С.С.: Вышла книга, но я уже был к тому времени за границей.
И.В. – Г.: А почему ты решил уехать? Или был такой ветер?
С.С.: Что да, то да, ветер странствий дул сильно, уезжали многие. Расстался с Волгой, полгода провел на Кавказе, в Георгиевске. Потом вернулся в Москву и понял: все, больше не могу жить в этой стране.
И.В. – Г.: А твоя книга на Западе?
С.С.: Мне сообщили, что рукопись уже в Америке, в издательстве «Ардис». А я думал, что она выйдет в «Посеве», готовился уже сушить сухари. Между тем борьба с властями за право на выезд благополучно закончилась. Брежнев был единственным, кто мог отпустить меня на волю, переступив через нежелание отца. Моего то есть.
И.В. – Г.: А он знал?
С.С.: Я думаю, отец был первым человеком, который сообщил куда нужно, что его сын связан с иностранцами. Он не мог этого не сделать, ему полагалось. Словом, в одну прекрасную ночь явились люди в штатском и объявили, что завтра можно прийти за паспортом, хотя я даже не подавал заявления в ОВИР. Наутро получил выездную визу на месяц. И через день – Австрия. А затем, незадолго до публикации «Школы для дураков», прилетел Карл Проффер, шеф «Ардиса», и предложил переехать к ним в Мичиган, в издательство, работать, рецензировать рукописи. Так что у меня была довольно мягкая посадка.
И.В. – Г.: Ты общался с Бродским?
С.С.: Он мне был интересен как человек.
И.В. – Г.: А как поэт?
С.С.: И как поэт, разумеется. Впрочем, мы мало говорили о литературе.
И.В. – Г.: Он прочитал «Школу для дураков»?
С.С.: Он прочитал еще до выхода. Он был первым, кто прочитал там. Нет, оговорка. Первой была Маша, которая тогда служила в «Ардисе», а сейчас, если не ошибаюсь, обитает в Англии, внучка советского наркома иностранных дел Литвинова. Она получила рукопись, прибывшую из Египта, но титульный лист потерялся, и она не знала, кто автор. Вещь Маше понравилась, и она рекомендовала ее Профферу. Тот дал читать Бродскому. А тот приехал к нему поздно ночью из своих университетских кулуаров и молвил: «Великолепный текст. Надо напечатать. Я думаю, что это новый стиль Владимира Марамзина».
И.В. – Г.: А Марамзин там уже вышел?
С.С.: Да, я его книгу видел среди новинок. Карл очень доверял Бродскому. Потом, через две недели, спецбандеролью пришел титульный лист с моим именем и названием, и Карл позвонил Бродскому и сказал, что это текст не Марамзина, а какого-то Соколова. Бродский задумался, а спустя пару дней приехал и сказал: «Карл, я, наверное, погорячился. Зачем это вообще печатать?»
И.В. – Г.: Своих можно, а чужих нельзя!
С.С.: Нормальный ход, питерская мафия – она такая. Ленинградцы в эмиграции всегда были очень активны, казалось, что их больше, чем на самом деле. Карл пришел в замешательство: с одной стороны, Литвинова, с другой – Бродский, два разных мнения. Он понимал, что вещь любопытная, но не понимал насколько. И отправил копию Набокову. Набоков прочитал и прислал отзыв: «”Школа для дураков” – обаятельная трагическая и трогательнейшая книга». Книгу начали набирать. Набрали. Я прибыл в «Ардис», знакомство с сотрудниками было теплым, чего не скажешь о встрече с Иосифом.
И.В. – Г.: А он большой поэт?
С.С.: Мне нравится музыка его ранних стихов…
И.В. – Г.: Так он тебя боялся?
С.С.: Я ему почему-то не понравился. Думаю, есть две причины: во-первых, я был не из Ленинграда; во-вторых, я шел точно по его стопам – с разрывом в три года. Этот разрыв как раз соответствовал разнице в возрасте. Я стал жить в его бывшей комнате в издательстве. Меня тоже чудесно встретили, тоже устроили учительствовать в колледж, была такая же пресса.
И.В. – Г.: Русская?
С.С.: Нет, американская. Сначала я был для широкой публики не столько писатель, сколько просто забавное явление. Именитых новичков из России было тогда раз, два – и обчелся: Солженицын, Барышников, Бродский. И появился некто Соколов, подающий надежды. Моя профессия в то время – русский человек. Выступал, давал интервью.
И.В. – Г.: С кем из американских писателей ты там встречался?
С.С.: С Куртом Воннегутом, например.
И.В. – Г.: Ну и как?
С.С.: Смешливый, юморной такой старикан. А потом с Берберовой. Меня привезли из Нью-Йорка в Принстон, где она еще преподавала, и мы два дня общались. Я знал ее биографию, но не читал. Она мне подарила книгу «Курсив мой», которая тогда появилась в «Ардисе». Она показалась мне человеком с большими претензиями, капризная дама. Могу представить, какой она была в молодости.
И.В. – Г.: Похожа на Марию Васильевну (Розанову)?
С.С.: В чем-то, но стиль другой – утонченная, высокомерная.
И.В. – Г.: Но она прочла твою книгу?
С.С.: Да. И высоко оценила. В первом издании было ее высказывание – вместе с мнением Владимира Вейдле и набоковским. То есть та эмиграция меня приветствовала. В отличие от второй волны: ведь ее литераторы нас, литераторов третьей, недолюбливали. Особенно после того, как никого из них не пригласили на знаменитую конференцию в Лос-Анджелесе.
И.В. – Г.: А ты там был, потому что жил в соседних местах?
С.С.: Думаю, приглашали не по географическому признаку. Хотя я действительно недалеко обитал – в Монтерее. А незадолго до этого сабантуя познакомился с Эдиком. Наш общий приятель Цветков позвонил из Сан-Франциско, где он трудился в газете «Русская Жизнь» – Алеша называл ее «Русская Смерть», – и говорит: «Приезжай, у меня тут Лимонов». И мы впервые втроем там сошлись и вместе отправились на конференцию. Славное оказалось событие.
И.В. – Г.: Ты уже тогда читал «Это я – Эдичка»?
С.С.: Нет, я только слышал об этой книге. Читал его стихи. Кстати, я ведь редактировал его сборник «Русское» для «Ардиса».
И.В. – Г.: А роман?
С.С.: Тут проблема. Мне трудно оценить текст, если я знаю автора лично.
И.В. – Г.: А как Буковский?
С.С.: Который? Американский? Нет, не читал. Мне из той компании нравится Ален Гинзберг. Яркий, яростный.
И.В. – Г.: А Борхеса ты видел?
С.С.: Я присутствовал на его выступлении в Корнелльском университете. Надо быть гигантом духа, чтобы заворожить три тысячи молодых, здоровых американцев. А именно это Борхес и сделал.
И.В. – Г.: А тебя заворожил?
С.С.: Я не фанат по натуре. Знаменитостями не увлекаюсь, хотя понимаю: библиотекарь он был великий. Однако у него нет той энергии, которая есть у того же Гинзберга в стихах или у Фолкнера. Борхес неброский, сдержанный, может быть, нарочито.
И.В. – Г.: Не кажется ли тебе, что это общая характеристика новой литературы – отсутствие энергии, страсти? Это везде.
С.С.: Наверное, да.
И.В. – Г.: Тебе это мешает?
С.С.: Мне это просто не интересно. Особенно если нет новой формы. Впрочем, традиционность сама по себе – не беда. Вот, например, Юкио Мисима – нет особых изысков, зато какая пассионарность!
И.В. – Г.: Не кажется ли тебе, что после постмодернизма произошло некоторое освобождение, то есть новые писатели свободно пользуются любыми техниками и форматами?
С.С.: Они пишут своими словами.
И.В. – Г.: Что ты имеешь в виду?
С.С.: Многие современные литераторы, начиная текст, имеют в виду какую-то историю. Для них главное – удивить читателя сюжетом, взять на испуг. Таков, не к ночи будет помянут, Мамлеев. А мне скучно его читать, потому что я сам могу придумать такие кладбищенские штучки – до фига. Нет, я не верю в это. Нужно находить слова – не свои, не первые попавшиеся, а какие-то другие. Находить и выстраивать их в каком-то специальном высокоэнергетическом порядке, а не просто – нате вам! Очень хорошо об этом – в эссе Вайля и Гениса «Смерть Ивана Петровича». Как много смелости, говорят они, нужно иметь, чтобы в наши дни, после всего сказанного в литературе, начать повествование фразой типа: «Иван Петрович встал со скрипучего стула и подошел к распахнутому окну». Позволительно спросить: а где же традиции авангарда, идеи постмодернизма? Зачем писать, как писали 100–200 лет назад, как Толстой? Сколько можно на полном серьезе мусолить внешние признаки бытия?
И.В. – Г.: Это как костюмы тысячелетней давности.
С.С.: Однако недавно на «Сотбис» ведущее место занимал «Портрет жены художника» Репина…
И.В. – Г.: А что для тебя Набоков?
С.С.: Он прежде всего лирик. Он мог бы стать большим поэтом, если бы не увлекся прозой. Его ранние книги чудесны, но потом… Английский Набоков немного выспрен, манерен. А русский – у него есть некая почвенная сила, унаследованная, может быть, вывезенная семьей из России. В «Других берегах» это чувствуется.
И.В. – Г.: Но «Лолиту» читать интересно.
С.С.: Еще бы. Хотя «Лолита» – вещь тщательного расчета, математически выверенная. Читаешь – интересно. Анализируешь – чего-то там недостает. Это своего рода рецептурный пример, образчик: хочешь сделать бестселлер – делай вот так.
И.В. – Г.: Твоя «Школа для дураков» повлияла на многих, ты смог изменить русскую литературу.
С.С.: Каждый вправе пользоваться, чем он хочет, заимствовать.
И.В. – Г.: Что для тебя эта измененная тобой русская литература? Сейчас издается огромное количество книг, и, в отличие от прошлого, много вещей написано на очень высоком уровне. Шишкин, например.
С.С.: Шишкин – один из самых. В числе которых, я думаю, Денис Осокин и такой чуткий стилист, как Максим Гуреев, автор книги «Быстрое движение глаз во время сна». А еще появился замечательный роман «Дом, в котором…». Сделано в Армении, автор – Мириам Петросян. Когда я приехал из эмиграции в 1989 году, то сразу бросился читать толстые журналы, которые в Америке почти недосягаемы. Я был, говоря по-набоковски, приятно потрясен: казалось, многое из там опубликованного придумал я, но напечатал под псевдонимами. Придумал, опубликовал – и забыл. А сейчас, перед Туринской книжной ярмаркой, где я фигурировал в качестве российского делегата, доброжелатели меня завалили свежими книгами, чтобы я понял, что делается в текущей нашей словесности. Я понял. В общем, да, Шишкин умеет.
И.В. – Г.: А как Сорокин?
С.С.: Сорокина я мало читал…
И.В. – Г.: «Сердца четырех»?
С.С.: Вполне в духе времени, так сказать, нормальная патология.
И.В. – Г.: Сашу Гольдштейна прочитал?
С.С.: Это удивительно. Но, кажется, его могут оценить только профессионалы. Живя сейчас здесь, в Тель-Авиве, вспоминаю наши немногие встречи, разговоры, часто прохожу по Бен-Иегуда, мимо его дома… Саша сложный. Он сложен не только стилистически, но и философски. Он предлагает свои огромные знания, не думая о читателе, без оглядки на него. Знания искусств, наук, словесности, конечно. Я понимаю ценность его текстов, но не понимаю, как это сделано. В этих своих композициях (не знаю, как их еще определить, он их определял как романы; в одном случае – это роман-эссе, «Спокойные поля») ему удалось сделать что-то весьма необычное, выгородить свою территорию. Он мистический, но это нам не Мамлеев со своим трупоедством. Саша – мистик тактичный, вкрадчивый. И – большой интуит, мастер. Сознательно, например, рассыпает где-то ритм, сбивается, небрежничает. Иногда не поймешь, где кончается одна мысль, где начинается другая. У кого-то подобное было бы аляповато, а у него все уместно, не раздражает. При этом налицо мощное ассоциативное мышление, но сообщается почти все с позиции как бы усталого человека. Если тот же я стараюсь казаться по жизни и в текстах человеком бодрым, то он играл роль человека усталого. У Вадима Россмана есть отличное эссе «Гимн усталости». Как раз на сей счет. Хотя Гольдштейн, когда хочет, умеет все-таки поднять себе тонус, улыбнуться, и ясно, что у него большой запал энергетический.
И.В. – Г.: Напряга нет.
С.С.: Никакого.
И.В. – Г.: Говорят, что Ира – его продолжение. Как тебе такой путь?
С.С.: Многие так считают. Вероятно, отчасти это и справедливо. Но, по-моему, она сложнее на самом деле технически. То есть Саша прозрачней, если угодно, светлей. Иногда кажется, что для Иры читатель – персона совсем уж нон грата. Ей важно выплеснуть свои ощущения немедленно и безоглядно. Вот кому страсти не занимать. Но, помнишь, я писал тебе, что ей хорошо бы высветлить палитру? Может быть, ее на Таити отправить?
И.В. – Г.: Паша Пепперштейн как-то сказал, что самое важное для писателя – войти в хрестоматию. Все-таки то, что сначала может быть воспринято элитой из элит, потом становится классикой и входит в язык, и существует внутри литературы. Если оглянуться назад, общество достаточно безошибочно в своих оценках.
С.С.: Часто с опозданием, но в конце концов все крупные достижения признаются. Нужно время. «Школу для дураков» долго не хотели переводить, даже авангардный, смелый Запад чего-то ждал. Теперь она переведена на много языков. Но опять же – имеется ли уверенность, что ее когда-нибудь введут в программу средней школы? Впрочем, если и введут, то что это решит, что изменит?
И.В. – Г.: Что ты думаешь о «Мифогенной любви каст» Пепперштейна?
С.С.: Трудно читать. И особенного мастерства не вижу. Каша какая-то. Мне не нужна – приходится использовать это слово – заумь. Он объясняет, что это новое направление искусства, на какой-то волне связанное с наркотиками. Но я-то – на другой волне, я не употребляю.
И.В. – Г.: По-моему, такое вхождение в буддистско-восточные пути – это все-таки бегство от культуры, от литературы
С.С.: Меня всегда удивляло увлечение западных людей йогой. Наивное увлечение. Доверяются профанам, которые говорят, что они изучали йогу в Индии. Настоящим учителем йоги может быть только индиец, просвещенный и посвященный. Йога – не шахматы, тут дело гораздо более тонкое.
И.В. – Г.: Чужой литературы нет. Увлечение чужим смыслом, мыслями…
С.С.: Ты имеешь в виду российских писателей? Можно принять буддизм как доктрину. Религия очень помогает, если знаешь ее принципы, ориентироваться в жизни. Ты можешь взглянуть под тем или иным углом и получить решение. Но уходить в это? Нет, не думаю, что современный западный или российский человек может найти себя там. Мы выросли в других условиях. Вот у Мисимы это по-настоящему.
И.В. – Г.: Что для тебя тело и дух? Ты живешь спортом. Как это все связано? Что значит спорт в твоей жизни? Набоков, например, давал уроки тенниса и этим жил, а для вас с Марлин занятие спортом дает возможность независимого существования. Для меня в свое время было открытием, что выдающийся русский филолог В.Н. Топоров был страстным футбольным болельщиком. Позже попалась на глаза его статья о конных соревнованиях в античном мире. «Футбол – самая существенная из несущественных вещей», – говорит немецкий тренер Франц Беккенбауэр. Ты, кажется, того же мнения?
С.С.: В Древней Элладе о недостойном, никуда не годном гражданине могли сказать: «Сей не умеет ни писать, ни плавать». Я всегда старался быть хорошим эллином. Кроме плавания, практически всю жизнь занимался всякого рода атлетикой. Примером мне служили утонченные любители тяжелого металла Тютчев и Юрий Казаков. Существовать в неуклюжем теле было бы странно. Марлин в прошлом – чемпионка Америки по академической гребле, теперь – именитый международный тренер, я тоже обучаю желающих, как правильно скользить на лодке, зимой – на лыжах. Но в теннисе слабоват. Инструктор Набоков не взял бы меня даже в мячиковые мальчики, не то что в партнеры.
И.В. – Г.: Почему ты не можешь жить в Москве, а в Израиле можешь?
С.С.: В России сейчас – по техническим причинам, не по идеологическим. Та идеология, с которой я был не согласен, ушла.
И.В. – Г.: Но ведь люди, с которыми ты можешь говорить, там более реальны. Или тебе этого не надо?
С.С.: Я могу без этого. Вот побывал несколько раз в Крыму. Хотелось бы быть с избранными, которые там есть, но вокруг них тусуется слишком много званных. Так что придется воздержаться.
И.В. – Г.: Ты готов к смерти?
С.С.: Более или менее. Хотя предпочитаю не летать. Взорваться – это подарок: раз, и все. Но самолет нередко сразу не взрывается, а долго падает с большой высоты. Негуманно выходит.
И.В. – Г.: Что ты про «Зеркало» можешь сказать?
С.С.: Если бы «Зеркало» не было лучшим журналом, я в нем не печатался бы. Я максималист.
И.В. – Г.: Мы все максималисты.
С.С.: Я всю жизнь выбираю лучшее. Чаще всего бессознательно.
«Зеркало» № 37, 2011 г.Михаил Гробман
Монолог 1 «Мы были помойными котами»
Культурная среда Москвы, из которой я уехал в 1971 году, делилась на три грубые категории. Условно говоря, тогда существовали три культуры. Официозная целиком занималась обслуживанием партии, правительства, власти, она прославляла политический режим и культурой может быть названа скорее в кавычках. Культура официальная представляла собой более сложное явление, в ней были различного рода градации, и люди, которые ее создавали, отстаивали некий дозволенный, цензурно разрешенный вариант либерализма. Они хотели всяческих послаблений, большей свободы, именно в этой среде сформировались советские реформаторы, в дальнейшем осуществившие перестройку: популярность поэтических знаменосцев этой идеологии в те времена была совершенно исключительной, достаточно назвать таких любимцев народа, как Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Окуджава, которые собирали огромные аудитории, восторженно их принимавшие. Слава их достигала ушей всего мира, а не только советской страны, они были героями, и, может быть, только Пушкин мог бы соперничать с ними в общенародной популярности. И, наконец, третья группа людей, к которой принадлежал я. Мы были помойными котами, бродячими собаками, ядовитыми грибами, непонятно, почему и зачем выросшими на замечательной советской почве. Наша поэзия, проза, картины, музыка никоим образом не соотносились ни с чем советским, мы были отщепенцами в народной семье, и созданное нами составило ядро того, что впоследствии было названо Вторым русским авангардом.
Было ли наше одиночество тотальным? Ответить на этот вопрос можно по-разному, в зависимости от того, с какой точки смотреть. Разумеется, до нас доносились звуки не одобряемого властями джаза, вокруг сновали стиляги, потрясая обывателей и милицию своей экстравагантной одеждой, возникали русские битники – короче, острова параллельного существования были достаточно многочисленными и заметными. Но и джазмены, и стиляги располагали простой возможностью достучаться до человеческого сердца, хотя бы потому, что джаз или непривычная одежда – вещи заведомо популярные, рассчитанные на массовое усвоение. А как могли достигнуть человеческой души мы, если эта душа сроду не говорила на предлагаемом нами языке?! И в то же время все разговоры о подполье являются ложными, ни в каком подполье, ни в каком вакууме мы никогда не жили, это полная чепуха. У нас был свой круг почитателей и ценителей, мы устраивали выступления и выставки, причем не только на квартирах, но и в некоторых неожиданных, а потому неподцензурных местах – например, в институтах, где собиралась послесталинская молодежь, которая тянулась к чему-то новому, враждебному официальным нормам в искусстве. И, хотя она не всегда понимала то, что мы ей преподносили, она слушала наши стихи и смотрела наши картины. Наука, которой эти молодые люди занимались, научила их тому, что непонятное следует изучать, а не отбрасывать его, не разобравшись; вот они и пытались постичь наше искусство, они были расположены к усвоению нового. Официальные же залы и стадионы, конечно, были для нашей группы закрыты, и широкая рабоче-крестьянская, да и интеллигентская масса ничего о нас не слыхала.
Нужно сказать, что подобное положение сохранилось по сей день, и в этом заключен исторический парадокс: ведь очевидно, что именно Второй русский авангард являлся единственно подлинной культурой того времени, что только он уцелеет для потомков. Однако народу он по-прежнему совершенно не известен и не нужен. Естественно, что отдельные представители этого искусства добились признания, и вряд ли здравомыслящий человек станет сегодня доказывать, что Холин не поэт. А с другой стороны: кто такой Холин для широкой публики, что она слышала о нем, на кой он ей сдался? У публики этой другие кумиры, они во многом те же самые, что и несколько десятилетий назад, все те же герои официальной культуры 60-х годов, не испытывавшие трудностей с печатанием своих сочинений.
Альтернативная культура – определение неудачное, неверное по существу. Мы не стремились противопоставлять себя советским культурным устоям, мы их просто не замечали, не соприкасались с ними. Мы не читали газет, не смотрели телевизор, вся эта страшная серая жвачка казалась нам гигантским маразматическим мозгом, который выделял отбросы и сам был отбросом: мы не желали иметь со всем этим никакого дела. И нам удалось сформировать замечательную, абсолютно независимую среду. Мешал ли нам кто-нибудь? Конечно, КГБ не испытывал большого восторга по поводу нашего существования, но особым репрессиям не подвергал, дело сводилось в основном к предупреждениям и угрозам, но мы их не боялись. Власти Синявскому не могли простить измены, потому что считали его своим, советским человеком, а мы не являлись своими и предательства не совершали. Так мы и жили, и была эта жизнь прекрасна. Во-первых, все мы тогда были молоды. А во-вторых, ситуация сложилась совершенно уникальная. После десятилетий жуткого советского мора, сначала ленинско-троцкого, потом сталинского, в гуще хрущевского и брежневского идиотизма на пустом месте возникает удивительная русская культура, с новым зрением и пониманием. В то время еще жили и работали такие мастодонты, как Пастернак и Ахматова, мы относились к ним с большим уважением, но смогли быстро освободиться от их влияния – всерьез воздействовали они только на эклектиков наподобие Бродского. Мы с восхищением относились к первому авангарду, к футуристам и обэриутам, но и они не являлись нашими наставниками. Фактически мы выросли и сформировались сами по себе – эта странная группа людей, насчитывавшая в своем ядре всего-то человек 50 на всю Россию, включая литераторов, художников, композиторов.
Так бы и продолжалась наша прекрасная жизнь, но в самом начале 70-х годов произошло эпохальное событие, с которого нужно отсчитывать новую историю России. Я имею в виду открывшуюся возможность выезда из страны, дорога в Израиль оказалась свободной, евреи пробили дырку в плотине. Первый удар по системе, конечно, нанес Хрущев, похеривший Сталина, но там речь шла о реформах, об эволюционном развитии государственного строя, а в данном случае образовалась принципиально иная ситуация, которая в конечном счете привела к летальному исходу советской власти. Множество людей выехали на Запад, были легитимизированы контакты с другим миром, а режим был устроен таким образом, что подобные пробоины становились для него смертельными. Чем все это кончилось, хорошо известно: «Пиздец империи», как изобразил один израильский художник еврейско-русского происхождения. И я был первым в нашей семье, ныне получившей гордое наименование Второго русского авангарда, кто покинул страну – к общему потрясению друзей и знакомых, – чтобы умереть и начать новую жизнь. Ибо мы уезжали в жизнь лучшую, то есть загробную. И она предстала перед нами во всей своей непостижимости. Израиль собственно израильский в течение какого-то времени был для меня не понятен, я только начинал тогда привыкать к нему, но обстоятельства сложились таким образом, что меня быстро прибило к берегу местной культуры. Лишенный своей элитарной московской среды, я начал присматриваться к здешней русской тусовке, к ее лежбищам и стоянкам, к островам русского сионистского сосредоточения – короче, к русской культурной публике, которая покупала книги (разумеется, не картины) и издавала свои печатные органы вроде журнала «Сион» или газеты «Наша страна», – уверен, что многотиражка пингвинов и белых медведей была более высокого качества. Мой конфликт с этими людьми мог произойти решительно на чем угодно, потому что в культурном отношении мы были несовместимы, и формальный повод к противостоянию не заставил себя долго ждать. В 1972 году я опубликовал на английском языке в газете «Джерузалем пост» две статьи против Солженицына, который для наших израильско-русских сионистов и диссидентов был вотяцким идолом, богом на золотом пьедестале. Ему мазали губы манной кашей, женщины, которые не могли забеременеть, поили его молоком, так что реакция на мое нападение была невероятно ожесточенной, крик поднялся невообразимый: да как он посмел покуситься на бога, друга, заступника, утешителя! Я же коснулся в своих статьях двух вещей. Во-первых, писал я, Солженицын – художественно консервативный автор, отставший от современного состояния литературы; а во-вторых, он придерживается шовинистических воззрений, то есть моральная его позиция столь же сомнительна, сколь и литературный уровень произведений. Должен заметить попутно, что у меня уже был опыт рискованных публикаций: еще живя в Москве, я напечатал свои стихи на Западе – они вышли под псевдонимами в «Новом журнале» Гуля и «Воздушных путях» Гринберга. Псевдонимы мои советская власть раскрыть не смогла, я был умелым конспиратором, а то мне не поздоровилось бы, потому что литературных публикаций на Западе режим не терпел. Между прочим, как я потом узнал, известный американский литературовед профессор Владимир Марков предсказывал, получив мои стихи, что напечатать их будет нелегко – старики-белоэмигранты, контролировавшие тогда литературные журналы, были ничуть не менее консервативны в эстетическом плане, нежели их советские враги. Их разделяли политика, идеология, но никак не эстетика, одна и та же на них на всех. Позже с Веничкой Ерофеевым повторилась аналогичная история, печатать они его не хотели, обвиняя вдобавок в поклепе на Россию и русский национальный характер. Их патриотические чувства были оскорблены. Не случайно «Москва – Петушки» первый раз были опубликованы в Израиле.
Но возвращаюсь к статьям о Солженицыне. Как только не честили меня в русских зарубежных изданиях, называя Геростратом, убийцей, растлителем малолетних! Внезапно я превратился в отпетого негодяя, с которым никто не хотел знаться и уж тем более – такого подонка печатать. Отовсюду доносились протестующие вопли, диссиденты не могли прийти в себя от возмущения, в то время как я всего лишь назвал вещь своим именем. Что за люди на меня нападали, какую среду они представляли? Это были, как правило, псевдодиссиденты и псевдосионисты, хотя попадались порой диссиденты и сионисты настоящие, но и те и другие обнаруживали страшную свою примитивность и убожество. Публику эту приводили ко мне еще в Москве, я ведь был еврейским художником в авангардном кругу, и уже тогда меня поражала отчаянная скука, которой от них веяло. Генералы советской культуры в Израиль не приехали, и ефрейторы оказались в положении самозванцев, занявших центральные позиции в местной русской жизни, которая сама по себе была очень мелка. Говоря коротко, они являли собой итээровскую культуру – со всем тем, что входит в это определение. Русский сионистский истеблишмент, достаточно быстро образовавшийся здесь, корнями уходил еще в московскую жизнь, в тамошнюю еврейскую среду, которая поддерживалась из Израиля морально и материально. Естественно, занимались они и культурой: это физике учиться надо, а уж в литературе и в искусстве каждый дурак понимает. Вот они и поддерживали по мере сил и разумения поэзию, прозу, изящные искусства, сами пробовали заниматься ими на свой итээровский лад. Наиболее выдающиеся из них образовали журнал «Сион», от которого впоследствии отпочковался журнал «22», флагман этой культуры.
Публицистика, переводы, разного рода культуртрегерские компиляции находились в «22» на достаточно приличном интеллигентном уровне и для своего времени смотрелись неплохо. В искусстве же редакция проявила свою полную несостоятельность, из номера в номер печатая китч самого низкого пошиба. Что же касается литературы… Ведь «22» – это толстый журнал, он существовал много лет, да и по сей день влачит свою участь. Так вот, за все эти долгие годы, в течение которых они тянули свою колесницу, они умудрились пропустить все мало-мальски важное, что происходило в современной русской литературе, в том числе в литературе эмигрантской. Причина элементарна, проста, как правда: глубокий эстетический консерватизм, удручающая боязнь нового слова, всего, что хоть как-то может нарушить покой устоявшихся вкусов. Переехав в Израиль, они фактически плелись в обозе художественных предпочтений советской власти, вслед за нею открывая разрешенных или отчасти дозволенных этой властью классиков вроде Цветаевой и Мандельштама. Они твердо усвоили, что в литературе дозволено, а что ни при каких обстоятельствах не может стать предметом описания. Глубокое декольте разрешалось, а задница относилась к разряду неприличных частей тела – мораль вставала на страже законного распорядка. Речь идет не о цензуре, Боже упаси, они были людьми интеллигентными, свободомыслящими, здесь все дело в особом устройстве головы; мысли уносились далеко-далеко, за облака и в прекрасные земли, но мозги все-таки проворачивались на месте. И когда в конце 70-х годов как гром среди ясного неба грянул роман Лимонова «Это я – Эдичка», они, конечно, в ужасе отшатнулись от такого кощунства, закрыв личики руками. Нет, жопу в литературе показывать нельзя, какая же это литература!
По своей творческой психологии эти люди принадлежали к тому официальному советскому культурному слою, о котором шла речь выше, то есть они находились на левом, либеральном, жаждущем реформ фланге советской культуры с человеческим лицом. У них не было подлинного эстетического противостояния с этим слоем, и конфликт, случившийся у них с советской властью, фактически стал следствием глупости режима, оттолкнувшего их от себя. Представим себе на минуту такую абсурдную, фантастическую ситуацию, что советское государство прилично относится если не к сионизму, то хотя бы к евреям: не то чтобы оно разрешает им двигаться вперед, но по крайней мере не загоняет назад. И не возникло бы у них в таком случае никакого повода для конфликта! Это представители нашего круга были сработаны из абсолютно чужеродного, враждебного материала, а те, напротив, являлись плотью от плоти либеральной советской культуры, и только глупая власть опрометчиво расторгла с ними отношения, вынудив, вытолкнув их на антисоветские позиции. Приведу хороший пример. Существовал такой – он и сейчас живет – советский писатель Григорий Свирский, человек совершенно бездарный. Автор он был что надо, полностью отвечал всем установкам взрастившей его культуры и, казалось бы, подходил ей по всем статьям, да вот беда – даже советский официоз считал его малоталантливым. У меня сохранилась рецензия, еще сталинских времен, на какой-то давнишний роман Свирского: автор отзыва, радуясь идеологической правильности сочинения, находит, что написано оно все-таки плохо, то есть даже в качестве обслуживающего персонала он им годился не слишком. Конфликт с советской властью возник у Свирского на базе его еврейства – режим чудовищно поглупел, выгнав даже такого человека в Израиль, сделав его диссидентом. В новой же стране с ним начали происходить печальные вещи. Он приехал сюда с готовой программой обустройства Израиля, чтобы все в нем стало хорошо и справедливо, но в какой-то момент с удивлением обнаружил, что к рекомендациям его прислушиваются не особенно – никому они здесь не нужны. И, смертельно обидевшись также и на евреев, он отсюда сбежал в Канаду. Такая вот поучительная история.
У меня дома лежит замечательная анкета, которую я в свое время дал кое-кому, чтобы получить ответ на вопрос об их отношении к Крученых. Само собой, речь шла при этом не об одном Алексее Елисеиче, но обо всей великой авангардной культуре, связанной с этим именем. И филолог Михаил Вайскопф, услышав отзыв писателя Давида Маркиша, повторил его: «Крученых – говно и сумасшедший». Но Маркиш – писатель, он вправе иметь особые вкусы и предпочтения, ему простительно, он может сказать все что угодно, тогда как Вайскопф не художник, а исследователь литературы, и с него спрос другой, тут иная мера ответственности. Вайскопф в своем ответе на анкету был всецело прав; Крученых для него и таких, как он, не литература, хотя, если сверху спустят приказ, он начнет писать и о Крученыхе, и о Хлебникове с Маяковским, что уже и происходит.
Смешно было бы требовать, чтобы здесь по какому-то волшебному мановению возникли собственные гении, пишущие на русском языке. Такие события случаются крайне редко, не по заказу, и если мы возьмем огромную, традиционно богатую литературой Россию, то увидим, что и там за последнюю четверть века появилось гораздо меньше писателей экстра-класса, чем того можно было ожидать от этой страны. Я о другом говорю: о давлении глубоко архаичной по своим художественным установкам среды. Совсем ведь не обязательно иметь гениев и мировых знаменитостей, чтобы воспитывать людей, преданных современному искусству, живущих им, а не заплесневелым прошлым. Даже и материальные возможности для этого существовали. Никто не роскошествовал, жили скромно и даже более чем, но при большом желании из израильских институций всегда удавалось выбить ту или иную сумму денег на книгу, журнал, на культурное начинание, так что никакого трагизма эмигрантского литературного бытия не наблюдалось, с голоду люди не умирали. Но они так построили литературную среду, что все в ней засыхало на корню.
Мое идейное расхождение с этой средой ярко проявилось еще в той давнишней истории по поводу статей о Солженицыне, что же касается эстетических принципов, то и здесь мы никак не могли бы столковаться, потому что говорили на абсолютно разных языках. Никому из них, серьезных, культурных, уважающих себя людей, и в голову не могла прийти мысль о том, что стихи Холина или Всеволода Некрасова, которые я печатал в издаваемой мною газете «Левиафан», – это поэзия. И, конечно, они были правы – со своей точки зрения, закостеневшей на нуле. Будучи здесь в изоляции, я нашел себе собеседников и соратников в собственно израильской, ивритоязычной литературно-художественной среде. Я стал ее реальной функцией, и по одной-единственной причине: потому что играл свою роль в настоящей русской культуре, во Втором авангарде. В эту ивритскую жизнь я перенес и свою борьбу, ведя ее там с не меньшим ожесточением, но это была и есть нормальная, естественная борьба, поскольку сама эта среда находится на нормальном европейском уровне. И, оглядываясь на то, что я сделал за все эти годы израильского существования, я вижу, что созданное мною стало интегральной частью тех, условно говоря, авангардных поисков эпохи, за которыми по праву закрепилось имя современных искусства и литературы.
Большая алия 90-х годов резко расширила местное русское культурное пространство. Она привезла с собой новый опыт, и благодаря этой новоприбывшей публике нам удалось в течение нескольких лет издавать газеты, целиком посвященные литературе и искусству, – газеты, равных которым в то время не было нигде в русскоговорящем мире. Я имею в виду «Бег времени» – «Знак времени» – «Звенья». Эти же люди активно сотрудничают с журналом «Зеркало». Им удалось всерьез напугать старую культурную элиту, они лишили ее уверенности в своих силах и в превосходстве своей отсталости. Так что она вынуждена сегодня перестраивать свои поредевшие ряды на марше, по-прежнему мало что смысля в том, чему бралась учить других. Эта изменившаяся наконец-то растревоженная ситуация неизмеримо более живая, чем прежде, в ней есть определенная перспектива. И это не лишает наше будущее надежды. А может, и лишает нас ее окончательно.
«Зеркало» № 127, 1995 г.Монолог 2 Пространство моего существования
За свою жизнь работал во многих техниках – рисунки графитом, тушью; монотипии, коллажи, литографии, офорты; гуаши и акварели; масло, акрилик; работал на бумаге, картоне, холстах, дереве; делал объекты, инсталляции, перформансы, действия и шествия. Плюс к этому – стихи, проза, публицистика и теоретические тексты. Любимый материал – бумага (или картон).
Техника мной выбирается в зависимости от того, что я хочу выразить. Например, инсталляция больше годится для политических или общественных идей, действие или шествие – для идей религиозных, коллаж или объект – для идей, связанных с литературой, словом, а гуашь, например, на бумаге – вещь и интимная, и универсальная, для всего годится.
Технику меняю регулярно, как одежду, чтобы не впасть в производство продукции, что, на мой взгляд, является самым тоскливым и пошлым в профессии художника. Вообще одинаковые действия меня утомляют и вводят в депрессию.
Как художник я формировался всю жизнь, и этот процесс продолжается и сейчас не менее интенсивно, чем в молодости. Учился всю жизнь и продолжаю учиться и сейчас – в основном через книги. Читаю очень много, и каждая книга, даже самая глупая, вызывает новые соображения. Все это накладывается на жизнь вокруг меня (вблизи и вдали).
Профессию художника понимаю как профессию общественную.
Любимых художников назвать не могу, так как их большое множество, и в прошлом, и в современности. Вообще очень люблю искусство, а у художников ценю смелость и фантазию. Все, что мне нравится в искусстве, влияет на меня, но не стилистически – нет ничего скучнее, чем повторение чужих движений.
Классическое искусство очень люблю, но как художнику оно мне чужое и ненужное. Я на него смотрю не глазами художника, а просто глазами любителя живописи. Очень люблю бывать в музеях, очень люблю музейную атмосферу. Детство мое прошло под знаком Третьяковской галереи, а юность – под знаком Музея изобразительных искусств им. Пушкина.
Импрессионистов и постимпрессионистов я всегда обожал. Но они на меня никак не влияли, мой любимый кубизм отразился у меня, как и русский футуризм 10-х годов, только в очень ранних рисунках 1958–1959 годов; русский авангард 20-х годов, который я всегда очень-очень любил, кажется, совсем никак не повлиял на меня. В поэзии тоже у меня всегда были любимые поэты, которые никак, ничем не отразились в моих стихах. В 60-х годах в Москве я очень ценил абстрактный экспрессионизм и поп-арт, но сам никогда этого не делал, ибо это были уже законченные стиль и идеология, и повторять их не было смысла. В те годы я послал Раушенбергу в США подарок – оклад русской иконы – в знак признания.
Современное искусство является для меня не столько предметом любви, сколько пространством моего существования. Несмотря на кризис, делается много интересных вещей, и не только в области инсталляций, но и в картинах, скульптурах, объектах – то есть как бы в более традиционных средствах выражения. Вообще я – хасид суперсовременного искусства, то есть искусства, которое предлагает незнакомый обществу способ мысли.
Нынешнее русское искусство находится в состоянии суеты и низкопоклонства перед Западом. Появилась провинциальность, которой не было раньше. Художники работают с целью понравиться западным кураторам, при этом повторяют зады европейского опыта. Искусствоведы пишут бессмысленные тексты, псевдоинтеллектуальные подделки под знаменитых западных авторов. Крупнейшие музеи выставляют откровенный позорный китч под видом лучших примеров современного русского искусства. Все важные выставки русского искусства ХХ века делаются на Западе, все серьезные каталоги о русском искусстве издаются на Западе. Россия научилась одному: торговать тем, что лежит в ее запасниках. Надо надеяться, что все это болезни роста.
Чей же я художник? 32 года жизни в России – активное участие в создании нового русского авангарда. Много лет в Израиле – активное участие в создании современного израильского искусства. Выставки, инсталляции, перформансы на Западе. Думаю, что для России я – русский художник, а для Израиля – израильский.
Исчезновение коммунистической власти в России и развал СССР никак не могли повлиять на мое развитие как художника, но, конечно, дали большое количество тем и сюжетов. Политические работы я делал еще в начале 1960-х годов. Мой теперь уже очень известный «Генералиссимус» (Сталин) был сделан в 1964 году в Москве и явился как бы суперранним предтечей соц-арта. В 70 – 80-х я достаточно активно занимался мифом Ленина и ленинизма. Естественно, что крушение империи упразднило одну часть тематики, но и вызвало к жизни новую подачу советской темы. Вообще Россия никогда не исчезала из моего поля зрения как художника и поэта.
Все, кто рассказывает о том, что советская власть (послесталинская) не давала свободно работать, зажимала свободу творчества, врут. Террор к тому времени давно закончился, и главным средством давления была покупка. Кто не хотел, не продавался и был свободным. Ни одного из нас советская власть не арестовала за наши картины и показы, хотя была эта власть нами недовольна. Вообще свободы не бывает внутренней и внешней – она или есть, или ее нет в человеке.
В свободном обществе политика отбрыкивается от искусства, в том числе и от политического; в тоталитарном обществе политика лезет в искусство, чтобы подчинить его себе, превратить в обслугу. В тоталитарном обществе легко делать политическое искусство, любой шаг вбок рассматривается как побег. В свободном обществе политическое искусство, если хочет быть замеченным и влиятельным, должно обладать множественным качественным рядом, задевающим самые разные дисциплины, и в первую очередь – стоять на серьезной художественной концепции. И вот мы видим, что самое серьезное политическое искусство ХХ века было создано на свободе, а не в коммунистических или фашистских странах.
Конечно же, прославление вождей, партий и режимов не является политическим искусством, а представляет собой работу обслуживающего персонала. Политическое искусство многопланово и неоднозначно, по сути дела, оно – до предела ускоренная экзистенция.
Я очень люблю политику и всегда ее любил. Политика для меня – это большой и неподдельный театр, к тому же влияющий непосредственно на нашу судьбу. Политика – это неожиданные сюжеты, острые развязки, гибель героев, сложные человеческие взаимоотношения и конфликты, страсти и переживания, в которых мы сами являемся участниками, даже если сидим в самой далекой и тихой норке. Я очень люблю драматические повороты в политике, убийство политических лидеров приводит меня в содрогание, но наполняет бесконечным любопытством зрителя-участника. Я помню, как после смерти Сталина мое любопытство (а что же теперь будет?) намного превалировало над страхом (как же теперь без великого вождя?).
Художник действует на общество облагораживающе. И совсем не потому, что он учит доброму и красивому. Художник усложняет задачи, стоящие перед человечеством. Художник умеет говорить непонятно, но привлекательно. Люди идут на эту привлекательность, как кошки на валерьянку, тут-то им и пропáсть. Искусство завлекает, опьяняет и под сурдинку усложняет людские мысли. Человек же, думающий многогранно, менее категоричен, т. е. менее агрессивен, хотя бывают и исключения.
Короче говоря, хорошие художники благотворно действуют на общество.
Моя жизнь художника довольно далека от коммерческой жизни. Виноваты не галерейщики, у меня есть какое-то имя, и они бы с удовольствием выставляли и продавали мои произведения. Но я не делаю продукции – а это необходимо в любой торговле. Кроме того, многие мои работы являются слишком неожиданными для любителей красоты, попросту говоря, мои вещи для многих или непонятны, или попросту пугают. Я делаю много такого, что людям кажется, что это вообще не искусство, так было в 60-х с моими концептуальными работами, так происходит и сейчас, например с моими «стенными газетами», «обложками», коллажами.
Выставляюсь я в основном в музеях, университетах или других общественных залах, где цели выставок не являются коммерческими. Покупают мои работы музеи или коллекционеры (русского, израильского или европейского искусства). До более широких масс я дохожу только своими эстампами.
О кураторах и причинах не могу сказать чего-то обобщающего, они, как художники, бывают разными – есть высокопоставленные, есть талантливые, есть модные, есть бездарные. Вообще, как собака – друг человека, так и хороший куратор – друг художника.
Я сам регулярно выступаю в роли куратора и очень люблю эту работу. Художники, как правило, платят кураторам черной неблагодарностью.
Очень люблю коллекционеров и сам являюь многолетним коллекционером русского искусства. Коллекционеры – это то, на чем держится художественная жизнь. Частные коллекционеры мягче музеев и разнообразнее, коллекционеры смелее, чем музеи, – иногда по глупости, а иногда по безошибочному нюху. Приход настоящего коллекционера – это праздник для художника (к сожалению, не праздник, который всегда с тобой). Приобретение хорошей работы – это праздник для коллекционера. Я получаю удовольствие с обеих сторон.
Аукционы современного искусства – это мощная институция, но я к ней отношения как художник не имею, хотя время от времени мои работы тоже выплывают в разных местах. Аукцион, в принципе, особенно международный, предназначен для тех художников, работы которых являются свободно конвертируемой валютой. Подавляющее количество художников мира, и плохих, и хороших, в эту категорию не входят. Но хорошие художники в конце концов все-таки попадают на престижные аукционы. Как коллекционер могу сказать, что аукционы – это удобное место для приобретения находок.
Как художнику и поэту мне, конечно, искусство и литература ближе и интереснее всего. Музыку я очень люблю. В кино есть очень мало фильмов, к которым я отношусь всерьез. Театр не люблю, считаю это мертвым искусством, фальшивой реанимацией чего-то давно исчезнувшего. Люблю цирк, буффонаду и всякие смешные трюки.
В моей работе, и художественной, и литературной, чувства и интеллект абсолютно неотделимы и одинаково важны, как скелет и мясо в человеческом теле. Без скелета художник превращается в моллюска, а без мяса скелет годен быть только пособием для начинающих медиков. Вообще все значительные художники всегда были очень умными людьми. Если на чувстве всадником дурак, то и результат творчества будет дурацким.
В своей работе я не выбирал определенного пути, определенного стиля, определенной принадлежности – я касаюсь, исследую и изображаю все то, из чего состоит моя жизнь: нет второстепенного и нет ничтожного. Таков мой путь познания, и каждое свое открытие я пробую на оселке общественного мнения в надежде, что оно рано или поздно оценит мои усилия.
Искусство – это одна из самых сложных попыток познать тот мир, в котором, непонятно как, мы очутились.
10, 11 марта 1996 г. Тель-АвивГруппы в вольном воздухе
После грандиозных социальных и политических перемен начала века, после двух невиданно кровопролитных войн, лишений и страданий, после почти окончательной победы коммунизма на половине земного шара в 60-е годы пришло новое поколение, которое обо всем этом забыло. Эту молодежь хорошо кормили в детстве, и она воспринимала мир как данность, которая принадлежит исключительно ей.
На Западе студенческая молодежь нашла себе истинного врага в истеблишменте – обвинения в экономической узурпации были густо замешаны на маоизме, троцкизме и прочих левых идеологиях, о которых студенты знали, к их счастью, только понаслышке. Шла бескомпромиссная борьба за придуманную свободу и придуманную волю.
За железным занавесом, несмотря на кладбищенскую гладь и благодать, все же небольшое количество молодежи вдруг потребовало от своих родителей отчета за светлые идеалы, провозглашенные революцией. Но карьеризм почти моментально раздавил эти слабые поползновения к справедливости и свободе. Новая советская молодежь пошла по пути своих отцов и быстро заполнила все институции власти – от КГБ до Союза советских писателей. Впрочем, этим людям не мешает сегодня их прошлое, они зовут себя шестидесятниками и создают мифы о своем противостоянии советской власти, интегральной частью которой они сами были.
Вместе с тем на Западе все-таки возникли идеи, которые изменили человеческие отношения, привели к отмиранию старых обрядов – привели в действие иные поведенческие и эстетические стили. Рок-музыка, поп-арт, кино и сексуальная революция изменили лицо мира. Под видом нового искусства пришла новая гуманистическая эпоха, и баррикады были только внешним, поверхностным симптомом новых перемен.
На Востоке, несмотря на подавляющую оппортунистическую студенческую массу, тем не менее возникла маленькая группа диссидентов и художников. В советском обществе диссиденты выглядели донкихотами, а художники – сумасшедшими. Диссиденты верили в конечность рабского режима и отдавали себя на публичное растерзание, а крошечная секта художников и поэтов, подвергаясь всенародному осмеянию, смогла в своей нищете и отщепенстве создать альтернативную культуру.
Сегодня именно эта культура вошла в международную обойму и называется на всех языках Вторым русским авангардом.
Мы публикуем свидетельства шести совершенно разных людей, которые по-разному приняли участие в событиях тех лет в разных странах. Соединяет же этих авторов то, что сегодня все они живут в Израиле.
Ирина Врубель-ГолубкинаГабриэль Мокед[2]: «В гармонии с биографией и историей»
Беседа с Ириной Врубель-Голубкиной
Итак, 60-е годы подразделяются на два не уступающих друг другу по значимости периода с незначительным кризисом посередине. Первый период – с начала шестидесятых до Шестидневной войны, второй – после Шестидневной войны вплоть до конца десятилетия.
К началу шестидесятых обстановка в Израиле была довольно спокойной. К концу правления Бен-Гуриона, после войны в Синае в 1956 году, Израиль являлся самой что ни на есть скромной провинциальной страной – ни тебе террора, ни палестинской проблемы; несмотря на мелкие разногласия с Египтом и Иорданией, на границах было спокойно, то есть влияния наших политически отсталых ближневосточных соседей на культурную и общественную жизнь страны практически не ощущалось, к тому же времена массовой алии остались позади – короче говоря, тихое ближневосточное государство, наподобие, скажем, Греции: государство демократическое, с богатой культурной традицией и с неплохо развитыми технологией и промышленностью, в отличие от соседствовавших с ним отсталых военных диктатур. Израильтянам начало казаться, что времена войн отошли в прошлое, теперь их больше интересовала холодная война между странами НАТО и государствами Варшавского договора. Политическая концепция Бен-Гуриона продолжала доминировать, его почитали чем-то вроде «Отца нации», подобно Пилсудскому в Польше или Де Голлю во Франции. Не обходилось, разумеется, без политической полемики, впрочем, ничего из ряда вон выходящего.
Так или иначе, это был период внутриполитической стабилизации и внешнеполитического равновесия. Необходимо также отметить, что в 60-е годы материализм еще не успел набрать силу в израильском обществе: собственность, доходы и прочее не играли решающей роли в общественной жизни. Не забывайте, этика Партии труда все еще удерживала прочные позиции и казалась непоколебимой. Разумеется, не обходилось без критики со стороны левых интеллектуалов, считавших себя неким независимым институтом. Последние почитали правящую партию недостаточно социалистической, недостаточно интеллектуальной, недостаточно прогрессивной. Пожалуй, шестидесятническая оппозиция проповедовала некую форму левого экзистенциализма или авангарда: Сартр, Оден… Ни о каком антисионизме и речи идти не могло. Были, конечно, правые антисионистские группировки, такие как, например, «Кнааним» под предводительством поэта Йонатана Ратоша, или троцкисты, однако в общем и целом социал-демократическая этика доминировала. Большинство израильтян считали общественное владение собственностью абсолютным постулатом, профсоюзы, несмотря на царившую там бюрократию, имели огромное влияние.
На данном фоне перед интеллектуалами встала задача создания неких независимых от политических институтов форм мышления и культурной деятельности. Это был поиск новых форм выражения модернистских-экзистенциалистских культурных концепций, поиск путей к достижению равновесия между русским и западноевропейским культурными влияниями, попытки достичь слияния двух этих влияний в рамках иврита и еврейской культуры.
Именно тогда с Запада к нам начали просачиваться новые интересные течения в музыке и культуре. Период деконструкции, постмодернизма, масскультуры, пастиша еще не наступил, и, таким образом, основная ориентация была на индивидуума и его проблемы. Диалог в то время велся не с Деррида, но с Сартром. 60-е годы были близки к модернизму в его апогее: западная культура открывала Борхеса, Одена, Элиота, Каммингса, Стивенса, входил в моду фантастический реализм в версиях Гюнтера Грасса и молодого Гарсиа Маркеса. Так выглядел поздний европейский модернизм, принявший в Израиле форму раннего модернизма. Очевидно, что Амихай, Зах и Авидан шли по стопам Элиота и Одена, хотя по масштабам их нельзя поставить в один ряд с последними. На этом экзистенциально-субъективистском фоне началось второе возрождение языка иврит.
Наконец-то стало возможным использование языка в субъективных целях, наконец-то мы научились говорить, а не только «ораторствовать». Так родились центральные произведения в израильской литературе. В искусстве имело место подражание западным моделям, что, впрочем, не исключало определенной оригинальности.
В 60-е начинали два поколения израильских поэтов: поколение Заха – Амихая и поколение Волах – Визельтира Торвица. Последнее развивалось под влиянием «Битлз», Inner Space, Аллена Вортса и Аллена Гинзберга, который тогда побывал в Израиле. В прозе тоже произошли изменения: Аппельфельд, Йеошуа, Оз, Кагана-Кармон, Шахар – все они начинали публиковаться в 60-е. Так что, несмотря на относительно невысокий уровень жизни, эти годы отличались исключительно интенсивной культурной жизнью.
А в середине 60-х наступил некоторый кризис, впрочем, больше экономический, чем культурный. Кроме того, в середине 1967 года отношения с Сирией и Египтом дали трещину, вследствие чего обстановка стала по-настоящему напряженной. Это уже был настоящий кризис, продолжавшийся, впрочем, немногим дольше двух месяцев. Не успели мы и глазом моргнуть, как Шестидневная война завершилась полной победой, принесшей с собой всеобщий оптимизм.
Шестидесятые продолжались. Оптимизм достиг своего апогея: люди стремились посетить Старый город, побывать в Бейт-Лехеме, прогуляться по Западному берегу Иордана. В общем, ощущался какой-то особый подъем, не столько экономический, сколько духовный. Тут, правда, разразилась полемика между более консервативными группировками, выступавшими за «единый и неделимый Израиль», и левыми интеллектуалами типа Давида Авидана, А.Б. Йеошуа, Ионы Волах, которых не интересовал «единый и неделимый», но просто Израиль. Нельзя не отметить, что ориентация последних вовсе не была проарабской, это были просто патриоты Израиля, выступавшие за развитие и динамику, и им было абсолютно безразлично, будут ли Шхем, Иерихон и Газа входить в состав нашего государства. Никто из этих людей не придерживался антиизраильской ориентации, подобно сегодняшнему Натану Заху, Ицхаку Лаору или Шелли Яхимович, за исключением, возможно, лишь троцкистской группировки «Мацпен», основанной в 1962 году. Так что основная полемика велась в рамках произраильской концепции. Правое движение также было тогда в зачаточной стадии, а о религиозных фундаменталистах и говорить не приходится… В 60-е годы оба крайних движения, левый антисионизм и правый религиозный фундаментализм, не имели влияния в израильском обществе. Среди центристов были более консервативные (направление Бен-Гуриона) и менее консервативные (молодые левые интеллектуалы), они-то и полемизировали между собой.
С историями о дискриминации сефардов в 60-е годы я в корне не согласен. Не было никакой дискриминации ни сефардов. ни выходцев из Марокко, просто создалась ситуация, когда большинство олим из Марокко оказались в бедственном материальном положении, а сионистская элита состояла в основном из ашкеназов. Никакой идеологической дискриминации, разумеется, не было.
Религиозной проблемы также практически не существовало, так как, как я уже сказал, религиозный фундаментализм только зарождался. Конечно, Бен-Гурион совершил немало ошибок, основной из которых был закон об освобождении религиозных юношей от армейской службы без автоматического лишения их права голосования. Однако все эти упущения проявят себя в будущем, пока же все шло как нельзя лучше, даже уровень жизни вырос, незначительно, но все же. Развивались сельское хозяйство и промышленность, открылись новые университеты, повысился уровень образования.
Левые интеллектуалы поддержали студенческую революцию во Франции, основной же их симпатией пользовался так называемый «социализм с человеческим лицом» в польском и чешском вариантах.
60-е годы отличались сосуществованием английского, французского и американского культурных влияний с русским, которое началось еще с искусства и литературы второй алии. Особенно сильно оно ощущалось в поэзии Альтермана – Шленского. В шестидесятые снова начали переводить русскую советскую прозу – начиная с Горького и заканчивая Шолоховым.
Новую прозу можно было прочесть в журналах «Ликрат», «Ахшав», «Юхани», «Кешет», в основном специализировавшемся на французской литературе. Однако молодежь, читавшая эти журналы, также интересовалась русской поэзией в переводах Шленского, классическим русским реализмом, поэзией Маяковского и модернистской литературой 20-х годов. Так создалось некое культурное целое, то есть было достигнуто культурное сосуществование России и Запада в рамках израильской культуры. В общем, израильский модернизм развивался на прочной реалистической основе, не только русской, разумеется. Не забывайте, что ни Интернета, ни телевизоров в шестидесятые годы не было, так что даже обыватели читали гораздо больше, чем сегодня, – в этом была особенность шестидесятых. Русский модернизм двадцатых годов не был тогда широко известен, но элита была знакома с творчеством Архипенко, молодого Шагала… Шленскому и его поколению казалось, что классический реализм и модернизм вовсе не взаимоисключают друг друга, в противоположность им люди, чуждые коммунистическому мировоззрению, понимали, что это вещи практически несовместимые, – однако, ничего не попишешь, на практике эти влияния сосуществовали. В соответствии с эстетикой Шленского, Октябрьская революция, Блок и Маяковский шагали нога в ногу. В тонкости не углублялись: Ахматова ассоциировалась с ленинградской блокадой, а Бабель, несмотря ни на что, с Буденным и советским строем. То есть, как видите, был создан некий конгломерат: с одной стороны, основным влиянием было влияние классики, с другой же – рассуждали о русском модернизме, спорили о Маяковском, Эйзенштейне, русской авангардистской живописи… То же самое происходило с Брехтом, в его случае так же пытались совместить модернизм с левой идеологией. Так или иначе, миф о русской классической литературе уживался с мифом о русском авангарде.
Каким образом? Вот пример: компартия и МАПАМ основали совершенно невообразимый конгломерат, строившийся на Маяковском, на слабейших стихотворениях Арагона и Элюара, а в период хрущевской оттепели в этот «компот» почему-то добавили Евтушенко. Такие вот «коктейли» создавали, стремясь быть левыми по содержанию и модернистами по форме. В общем же русское влияние во всех своих формах, несомненно, доминировало, возьмите хотя бы поэзию Моше Дора, Авидана и других.
Что касается сталинизма, то в 60-е годы в Израиле практически не было просталинской интеллигенции. Стоял вопрос: существует ли так называемый «социализм с человеческим лицом»?
Если говорить об отношениях шестидесятников с властями, то основное недовольство интеллигенции было, естественно, направлено на бюрократов, которыми к тому времени обросла Партия труда. Однако это не было критикой справа или выступлениями в пользу рыночной экономики, так как полемика велась внутри левого движения – речь шла о противостоянии партийному бюрократическому аппарату, построенному по большевистской модели, исключая, разумеется, физическое насилие и уничтожение независимой левой интеллигенции.
При Бен-Гурионе Израилем руководили бюрократы а-ля МАПАЙ, то есть если ты не разделял основной руководящей линии, то тебя практически бойкотировали. Эта система больше всего напоминала коммунистическую бюрократию в странах Восточной Европы. Во-первых, бюрократический аппарат распоряжался всеми средствами, поступавшими от сионистских организаций за границей, во-вторых, он был совершенно нетерпимым по отношению к инакомыслящим. Движения «Ха-Киббуц ха-Арци» и МАПАМ были ничуть не лучше, хотя и находились в оппозиции. Если Бен-Гурион стремился к сионистскому социализму, то МАПАМ в версии Шленского больше тяготел к сталинскому тоталитаризму плюс сионизм. Кстати, у каждого крупного политического движения было собственное книжное издательство: «Давар», «Аль ха-Мишмар», «Ба-Мирхав» были партийными газетами. Многие из подобных издательств функционируют по сей день, несмотря на то что часть газет давно перестала существовать. В каждом таком издательстве наличествовал собственный Жданов в комбинации с Шолоховым или Сурковым – это был, как правило, известный поэт или писатель: Альтерман стал наместником МАПАЙ, Шленский – МАПАМ и т. д. Как вы догадываетесь, подобные структуры не оставляли места интеллектуальной свободе, а нам, молодым и независимым, это, разумеется, было вовсе не по вкусу. Однако, как я уже отметил, наше сопротивление осуществлялось совсем не с левых позиций, просто мы, в отличие от партийных бюрократов, были способны предвидеть нежелательные последствия данной политики. Мы, например, поняли, что если левый бюрократический аппарат не начнет считаться с нуждами рабочего класса, то последний проголосует за правых. То же самое в отношении союза с религиозными партиями, заключенного Бен-Гурионом, и предоставления им привилегий: Бен-Гурион полагал, что это беспроигрышная ставка – голоса избирателей в обмен на «маленькие» уступки; мы же предвидели последствия этого процесса, которых сегодня уже нельзя отрицать.
Короче, нашему поколению стало понятно, что ему необходимы собственные журналы и издательства – это касалось не меня одного, но скорее было общей культурной тенденцией. Возьмите хотя бы Натана Заха, Биньямина Харушевского, Моше Дора, основавших журнал «Ликрат». В 1957 году нами был основан журнал поменьше – «Окдан», за ним последовал «Ахшав» (1959), затем Натан Зах основал журнал «Юхани» и т. д. Кстати говоря, нам были по-настоящему необходимы независимые издания и книжные издательства. Ведь лишь благодаря им смогли увидеть свет сборники Амихая, Аппельфельда и других, прежде не издававшиеся как идеологически чуждые. Так что не ошибусь, если скажу, что революция в израильской литературе увенчалась успехом вопреки бюрократическому аппарату. Журнал «Симан крия», начавший выходить в 1962 году, стал чем-то вроде окончательной легализации нашей деятельности во второй половине 50-х – в начале 60-х годов.
Наша концепция включала в себя два основных аспекта: с одной стороны, делался упор на современность, на сегодняшний день, с другой – учитывался исторический и биографический опыт. То есть ориентация на современность ассоциировалась с конкретностью, а вовсе не с разрывом с историческим прошлым. Приведу пример. Писатели предшествовавших поколений описывали Катастрофу, как если бы она была всего лишь частью общееврейской мартирологии, подобно погромам Хмельницкого или разрушению Второго Храма. Но подумайте сами, как можно рассуждать о Катастрофе, не касаясь современных орудий массового уничтожения, тоталитаризма, тайной полиции вроде гестапо, вплоть до Хиросимы – это, конечно, не одно и то же, но ведь все виды оружия массового уничтожения были созданы именно в ХХ веке! Следовательно, невозможно говорить о Катастрофе, не упоминая Ницше с его умерщвленным Богом, не вдаваясь в социокультурный анализ фашизма и прочее. Выходцы из Германии, такие как Амихай и Зах, и из Восточной Европы, такие как Аппельфельд и я, были абсолютно не способны воспринимать Катастрофу вне современного культурного контекста. То же самое происходило с концепцией Израиля как такового: мы всегда подчеркивали иудейско-еврейский аспект, но видеть в Бен-Гурионе «Давида – царя иудейского» – это уж увольте. При этом мы не пытались отмежеваться ни от еврейской истории, ни от собственных ближневосточных корней. Западная культурная тенденция, естественно, доминировала, однако мы воспринимали это как объективный культурно-исторический процесс, лишенный всякой националистической подоплеки. Так что для нас «Ахшав» подразумевал современность в гармонии с биографией и историей. И еще: ахшавовцы никогда не были ничьей диалектической функцией ни в гегелевском, ни в каком ином смысле. Мы всегда оставались самими собой и не пытались оправдаться ни перед сефардами, ни перед палестинцами. Имел место культурный диалог, переводилась палестинская литература, устраивались диспуты с участием Рашида Хуссейна, Махмуда Дарвиша и проч. При этом мы не били поклонов перед палестинцами, подобно Канюку, Заху и Ицику Лаору, и не вводили двойного тарифа для евреев и для арабов: арабам, мол, все дозволено, потому что они арабы и принадлежат к Третьему миру. Мы не обошли бы молчанием случая, когда лицо, именующее себя министром юстиции Палестинского государства, безапелляционно заявляет, что всякий, кто продаст земельный участок еврею, должен быть уничтожен. Лично я не понимаю, с какой стати подходить к евреям и арабам с различными мерками. Как я уже сказал, мы пытались вести с палестинцами диалог, но отнюдь не с позиций кругом виноватых. Кстати, Авидан, Амихай, Иона Волах – глубоко израильские по своей сущности поэты, верящие в динамическое развитие израильской авангардистской культуры, в прогресс, в современность и т. д., – при этом никогда не отметали еврейского наследия. Давида Авидана и Иону Волах и вовсе отличала порой преувеличенная склонность к поиску новых интерпретаций иудаизма. Так что антиеврейская тенденция не имеет к ним ни малейшего отношения. Полемика велась вокруг вопроса самоопределения израильской культуры. Что касается результатов, то, как я уже говорил, с одной стороны, нам был чужд бен-гурионовский пафос, когда партийный бюрократический аппарат воспринимался чуть ли не в качестве духовного преемника библейских пророков, с другой стороны, наша концепция современного Израиля включала немало национальных элементов. Я полагаю, что культурные достижения шестидесятых актуальны и по сей день, ведь именно тогда была достигнута истинная культурная консолидация, способная послужить прочным фундаментом для дальнейшего развития современной израильской культуры.
«Зеркало» № 5–6, 1997 г.Мордехай Лейбович (Лейбо)[3]: «…Мы верили, что боремся за справедливость…»
Беседа с Ириной Врубель-Голубкиной
С чего все началось. Вообще-то я был самым обыкновенным израильским подростком, но, как водится, к четырнадцати годам вошел в конфронтацию с родителями. И вот как-то раз после ссоры с отцом я сбежал из дома, приехал в Хайфу, поступил рабочим на греческий пароход и отчалил в Европу. Там я работал в разных местах – был уборщиком, мойщиком окон, разнорабочим до тех пор, пока не перебрался в США. Визы у меня, разумеется, не было, но разве матросу необходима виза? Ты просто сходишь на берег и остаешься. В Штатах я устроился завхозом в одну нефтяную компанию, которая как раз начала вербовать рабочих для отправки в Боливию. Предлагали очень хорошие условия, так как желающих было немного. Это был 1965 год.
Так я оказался в Боливии. Жили мы и работали на природе. Во время одного из наших походов в город, куда мы обычно отправлялись по вечерам после работы повеселиться, я познакомился с одним человеком. При каждой нашей встрече мой приятель неизменно заводил разговор о бедственном положении народа Боливии. Мне тогда было от силы шестнадцать, и я, естественно, был идеалистом и искателем приключений.
Когда же мой товарищ увидел, что я, как говорится, дозрел, он предложил мне присоединиться к их группе, и я согласился.
Я бросил работу и перебрался в военный лагерь в горах. Там я проходил военную подготовку: обучался стрельбе, различным тактикам захвата и т. д. В нашем лагере находились около двадцати человек, но, как я понял из разговоров, группа насчитывала около двухсот. Там были люди из разных стран: идеалисты, беглецы из стран Южной Америки, искатели приключений – боливийцы составляли меньшинство, среди них были несколько индейцев. Были несколько русских. О роли СССР не говорили, но создавалось впечатление, что Союз поддерживает проект Че Гевары. Я был знаком с тремя-четырьмя русскими из других групп, некоторые из них говорили по-испански, другие – по-английски. Их роль была не вполне ясна, они приезжали в лагерь вместе с инструкторами, но всегда сидели в сторонке, их не очень жаловали и не пытались сблизиться с ними. Среди наших бытовало мнение, что речь идет о советской контрразведке. Я мало знал о Советском Союзе, но среди моих товарищей были и те, кто поддерживал политику и идеологию Советов, были и такие, кто ее не принимал. Еще я слышал, что одним из наиболее приближенных к Че Геваре людей была русская девушка Таня. Сам я ее никогда не видел, но знаю, что она погибла вместе с Че Геварой. Что стало с остальными, мне не известно.
Среди нас велась идеологическая работа: читали лекции, обсуждали разные проблемы – тогда все это казалось мне интересным. Говорили о необходимости освободить угнетенные народы Латинской Америки от ига военных диктатур и о многом другом. Слово «коммунизм» не звучало, однако атмосфера была такова. Может быть, агитаторам казалось, что термин «коммунизм» способен оттолкнуть приверженцев их дела. Сам я тоже не думал ни о чем таком, в голове у меня был подростковый идеализм, мир делился на справедливость и несправедливость, на черное и белое – это то, что меня тогда увлекало. Окружавшие меня люди казались мне тогда воплощением справедливости, я видел в них единомышленников, а так как все они были старше и опытнее меня, я смотрел на них снизу вверх.
Во всем остальном это были самые обыкновенные люди. Как все военные, они много говорили о женщинах, о выпивке, о футболе, о повседневной жизни. Все были молоды, в возрасте от двадцати до тридцати лет, большинство были интеллигентами. Попадались любопытные типы. Среди близкого окружения Че Гевары был один французский журналист по имени Режи Дебре – интеллектуал, способный рассуждать на любую тему. Я слышал, что, когда началась ликвидация, он попал в плен и сидел в боливийской тюрьме (в дальнейшем, после освобождения, он проделал сложную идеологическую эволюцию – вплоть до либерального социализма и поста советника президента Миттерана). Еще был один американец по имени Лу – типичный искатель приключений, слегка чокнутый: он был уверен, что, если вернется в США, его непременно казнят как предателя родины. Позже до меня дошли слухи, что он воевал в разных странах и погиб где-то в Азии, в Лаосе или в Камбодже. Кстати, я был там не единственным евреем, судя по именам. Все считали меня югославом.
Эти люди в большинстве своем были попросту романтиками, верившими, что они борются за справедливость, против угнетения слабых и неимущих. Сегодня все это звучит довольно банально, да и мне самому кажется чепухой, хотя я и не жалею, что был там, но тогда для меня, шестнадцатилетнего, эти слова были полны смысла. Никто не принуждал нас верить в коммунизм, нам пытались объяснить, почему дело, за которое мы боремся, является правым. Действительно, положение в Боливии было очень тяжелым – этого было трудно не заметить.
Я участвовал в нескольких акциях. Один раз мы ограбили казино в Ла-Пасе – это было довольно легко. Был случай нападения на полицейский участок, но лично я не принимал в этой акции участия. Видимо, среди групп были более и менее боевые. Нашу группу в основном не отправляли на боевые задания: иногда нужно было отвезти кого-нибудь куда-нибудь, что-то передать, отвезти амуницию и прочее. И все же опасность существовала. Во-первых, не стоит забывать, что дело происходило в джунглях, кишевших змеями, скорпионами и даже крупными хищниками. Во-вторых, боливийская армия пыталась нам противостоять, хотя и без особого успеха.
Впрочем, позже до меня дошло, что деятельность Че Гевары в Боливии не принесла плодов. Он верил, что мы сумеем поднять весь боливийский народ, стать той искрой, из которой возгорится пламя, но этого не произошло, основное, что ему удалось сделать, – это стать человеком-легендой сначала в Чили, а затем и во всем мире и дать толчок определенной идеологии.
Мне довелось видеть Че Гевару всего дважды. Один раз он приезжал в лагерь посмотреть, как у нас идут дела, задавал вопросы, в другой раз приехал с какими-то распоряжениями. Он не был ни высоким, ни каким-то необыкновенным, но производил большое впечатление, что-то в нем было. Я не был знаком с ним лично, но наши люди его высоко ценили и даже почитали, они видели в нем вождя во всем, что касалось идеологии, морали и военной стратегии. Часто поминали его кубинское прошлое, говорили, что он был правой рукой Кастро, одним из тех, благодаря кому кубинская революция победила, говорили, что он входил в состав правительства, но ушел, так как считал, что исполнил свой долг на Кубе и теперь должен продолжить борьбу в других странах. Что было потом? Правительство Боливии, неспособное справиться с нами своими силами, обратилось за помощью к США, и земля начала гореть у нас под ногами. Началась настоящая последовательная ликвидация одной группы за другой. Наша группа не избежала общей участи, в бою погибли почти все, лишь мне и еще пятерым моим товарищам удалось бежать. Через полтора дня мы добрались до чилийской границы и перешли ее. Впрочем, в Чили дела обстояли не лучше, чем в Боливии. Кроме того, там стоял жуткий мороз, сугробы по колено. Я обморозил ноги, провалялся три месяца в чилийской больнице. Что и говорить, ощущение не из приятных, но ничего, пережили. В Чили мы узнали о гибели Че Гевары.
Когда начали разбираться, кто я и откуда, я сказал правду, против нас не приняли никаких мер, так как все мы были иностранными гражданами. Двое моих товарищей оказались в психиатрической больнице, Лу погиб, о двух других мне ничего не известно. Я же вернулся в Израиль и зажил обыкновенной жизнью: армия, учеба, киббуц, поиски работы, служба в полиции…
«Зеркало» № 5–6, 1997 г.Эдуард Кузнецов[4]: «…Смертен, но непонятно, когда сдохнет…»
Беседа с Ириной Врубель-Голубкиной
Ирина Врубель-Голубкина: Давай вспомним, как все это было. Начало шестидесятых. Если КГБ начинал кем-то интересоваться, это сразу закрывало все пути: тут же шла бумага в институт, начинались всякие проработки, могли исключить… Как ты к этому относился?
Эдуард Кузнецов: Да никак. Продолжал болтаться. У меня выхода не было: я ведь к тому времени уже попал в ряды героев, а раз так, ты потом обязан был в этих героях пребывать до конца своей жизни, хоть лопни, устал ты, не устал – никого не интересовало. Потому что, если ты скажешь: «Хватит, я завязываю», ГБ тебя возьмет за шиворот. Раз ты проявил слабину, оно норовит тебя связать и превратить в тряпку. Режим сам делал из тебя борца – или предателя. Мы выбирали, нас выбирали…
И.В. – Г.: Как вас выбирали, понятно. А как вы выбирали? Как тебе виделось общество – тебе, всем вам? Хотелось разрушить?
Э.К.: В принципе, да. Хотя не очень было понятно, в какую сторону двигаться: среди нас не было людей с каким-то по-настоящему большим жизненным опытом. А если кто-то появлялся, то они от нас шарахались, учитывая наш юношеский экстремизм.
И.В. – Г.: Но были же какие-то люди, вышедшие из лагерей? Они не присоединялись к вам?
Э.К.: Большинство вышедших из лагерей – прошедших лагеря, – как известно, стукачи. А те, кто не стукачи, они в такие компании не шли – понимали, что раз мы крутимся на Маяковке, значит, там полно провокаторов, стукачей, что там ГБ больше, чем поэтов. И я их вполне понимаю в этом плане. Представь себе: человек вышел из лагеря, прописку ему в Москве не дают, и он потащится в какую-то там молодежную компанию – для чего? Слушать эту ерунду юношескую, когда он уже просидел в лагере? Потому что в лагере встречаешься с людьми опытными, тертыми, образованными – с профессорами, с эмигрантами, – то есть с людьми, которые могут донести до тебя некую мысль, обосновать свою позицию, только там человек вызревает. А мы были просто амебы, такие аморфные сгустки энергии, непонятно на что нацеленные. Что у нас было делать лагернику? Он шарахался от таких мест так же, как и я, выйдя из лагеря, шарахался сходок типа тех, что были у Якира: я сразу понял, что он если не агент, то будет завербован. Потом выяснилось, конечно, что он агент и все остальное, но от этих его тусовок я сразу бежал.
И.В. – Г.: Но ты ведь тоже прошел лагерь.
Э.К.: Мне повезло: я был здоровый физически, меня лагерь в этом плане не сломал, я всегда был нормальный человек, и поэтому я довольно редкое исключение. В общем, очень малый процент тех, кто из лагеря вышел, как я: и здоровья не подорвал, и не сломался, слава Богу, – наоборот, опыта поднабрался. Но я никому не рекомендовал бы проходить такой эксперимент специально. Это ведь, извини, мы сегодня знаем, что все кончилось удачно – и успех, и мы на виду, и как бы герои, – а тогда все это выглядело совсем иначе, и не все ведь дожили. Конечно, все мы были очень разные: Галансков покойный, Володя Осипов, Алик Гинзбург – все. Одни стихи читали, другие… Но у всех было это желание: что-то делать, что-то сдвинуть, изменить свою судьбу, это то, что тебя хватает и тащит. Нам было понятно: все, что происходит вокруг, вся эта оттепель – это только видимость либерализма. Когда в 1961-м произошли волнения в Муроме и в Александрове, мы туда поехали, так там везде стояли войска, по всему городу. На улицах они, правда, не стреляли, но потом тринадцать, если не ошибаюсь, человек приговорили к расстрелу. И при этом – очень жесткая политика вовне: Берлинская стена, назревал Карибский кризис. У нас было полное ощущение, что Хрущев вот-вот развяжет мировую войну – он топал тогда ножкой, капиталистам орал «всех закопаем», ну и все остальное.
И.В. – Г.: А как вы относились к тому, что происходит на Западе? Тогда там было антивьетнамское движение, и мы всегда говорили: нам бы их проблемы. И все-таки, в общем, образцом был Запад?
Э.К.: Без всякого сомнения. Недаром я пошел в армию добровольцем – я учился тогда на историческом и мог вообще не идти. И вдруг мне взбрело в голову: а пойду-ка я в армию.
И.В. – Г.: Зачем?
Э.К.: Попробовать убежать на Запад. У моего дядьки приятель был, лейтенант военкомата, с которым они вместе киряли, – мой дядька был алкаш, – я этого лейтенанта спросил: «Если я пойду в армию, как сделать так, чтобы попасть в Германию или в Польшу? Хочу посмотреть, как они живут там». Он мне все объяснил: надо пойти, когда набирают за границу, и сказать, что вот я, студент, хочу в армию, – и обещал подсказать, когда пойти. Мы все так и сделали, я отправился в военкомат (тогда набирали в Польшу), прошел комиссию, побрили, деньги выдали, я их все пропил, естественно, а на пересылке на Красной Пресне – кстати, тогда была воинская пересылка, как и для зэков, – меня вдруг вызвали из строя и сказали: «Ты иди домой». Потом уж я через этого лейтенанта узнал, что против моей фамилии стоит галочка и ни о каких заграницах и думать нечего. Потому что я тогда, несмотря на молодость, уже засветился в ГБ. Так что меня подталкивало к особой враждебности к советской системе еще и то, что я был в черных списках и знал, что для меня на самом деле все уже закрыто по определению. Я же говорю – режим сам создавал своих врагов.
И.В. – Г.: А позитивные какие-то цели были? Что хотелось создать? Каковы, собственно, были функции культуры?
Э.К.: Как обычно – в таких бульонах вываривается суп, так сказать, альтернативный, культура андерграунда. Все это было вызовом, отрицанием соцреализма – нормальное брожение. Я даже не назвал бы это движением – это было некое шевеление. Зачаток будущих движений.
И.В. – Г.: Тогда вообще все начиналось с мастерских художников, поэтов – проходили выставки, Белинков вернулся, на Маяковке читали стихи, Алик Гинзбург делал «Синтаксис»…
Э.К.: Да, я все это помню – выставки Кропивницкого, Рабина. Мы с Осиповым и Галансковым – он был самым зачинщиком – ездили в Лианозово на эти подпольные выставки, сами устраивали их в чьей-то квартире – Рабина, потом групповую – Рабин, Кропивницкий, еще кто-то, сейчас уже и не помню. Я и в «Фениксе» участвовал, и очень активно: второй номер мы с Хаустовым и печатали, и переплетали. В моей квартире почти весь тираж и арестовали – а тираж был восемь экземпляров.
И.В. – Г.: И какое-то время все были вместе – поэты, художники, «политики». Потом часть людей ушла в диссидентство, и другие тоже стали соединяться, начались структуры.
Э.К.: Конечно. А вначале это был бесструктурный, хаотический протест против мироздания, против бытия, в данном случае – против советской власти. В этом возрасте, я думаю, и на Западе мы участвовали бы в каком-нибудь протестантском движении с непонятными начальными идеями.
И.В. – Г.: То есть ты считаешь, если бы ты родился на Западе…
Э.К.: Я думаю, было бы то же самое, только кончилось бы иначе. Для меня, как и для всех нас, это был совершенно естественный период юношеского бунтарства, буршеский период, нормальная стадия становления здоровой, социально значимой личности.
Сначала нужно побунтовать, потом найти свою нишу. И по отношению к этому бунтарскому периоду как раз и можно определить степень зрелости всякого общества. Те, кто давит, как нас давили: лагеря и все остальное, – это тоталитарная система, обреченная на умирание в конце концов. Если ты родился не в той стране, ты все равно находишь свою нишу – но под названием «нары». А те, кто относится терпимо: абсорбируют этот бунт, подкупают бунтарей социальными благами и прочим, – это нормальное общество, оно должно так реагировать на бунтарство. Оно потом проходит, это бунтарство, но оно должно быть. Тот, кто не бунтовал в юности, тот, по-моему, ничего не стоит и в зрелости.
И.В. – Г.: Чем отличается бунтарство на Западе от нашего?
Э.К.: Человек, бунтующий на Западе, располагает гораздо большей информацией, чем человек, живущий в закрытом обществе, – на Западе он имеет возможность сравнивать и выбирать. Поэтому с него больший спрос. Интеллигент типа Шоу, который в 32 году приезжает в Россию и утверждает, что там никакого голода нет и он никогда так сытно не ел, он… на него очень большая вина ложится, потому что шесть миллионов или сколько, я не помню, с голоду померли, а он у себя на Западе имел возможность читать газеты, в которых излагались все эти факты и публиковались фотографии, – то есть документальных свидетельств было достаточно. Это другой тип выбора, совершенно отличный от того, что есть у живущих в закрытом обществе. Мы выбирали вслепую, нами инстинкт двигал. У них есть свобода информации. Если они выбрали не ту сторону, они виноваты – значит, не к той информации обратились. Не говоря уже о том, что они получали деньги из Москвы по каналам ГБ, как правило. То есть у них был ошибочный, ложный выбор при наличии информации. А мы выбирали при отсутствии ее, и выяснилось, что мы выбрали правильно. Значит, инстинкт у нас был здоровый. Ну, другое дело, что нас, может быть, к этому подтолкнули специфические обстоятельства, нас поставили в такие условия – слишком неправый режим был и все остальное.
И.В. – Г.: То есть, если оглянуться назад, те, кто могли бы быть нашими братьями, должны были быть, не восприняли этого, они не просто ничего не понимали – не хотели понимать. Я помню это ощущение одиночества, когда в России ты был один перед всем миром. И эта пропасть была бесконечна. И не только по отношению к внешнему миру – то же самое было внутри: мы были совершенно одни, наши родители были нашими врагами. Не личными, но и за нами, и перед нами стояла все та же пропасть. Думаю, что это было только в России, я не говорю о Франции, других цивилизованных странах, но даже в Польше, даже в Прибалтике эта пропасть не была такой, несмотря на то что и там молодежь проходила свой, как ты говоришь, «положенный» период бунтарства.
Э.К.: Конечно. У них было совершенно другое положение. В отличие от России, и Польша, и Прибалтика относительно недавно были под советской властью, у них сохранились религиозные корни, институт церкви был всегда очень сильным. Еще помнили – даже не их отцы, их братья – помнили буржуазную Польшу, буржуазную Литву, Эстонию, им было на что опереться, у них книжки сохранились 30-х годов, которые они могли читать.
Что мы могли читать в 60-х?
И.В. – Г.: Ты не ходил в Ленинку?
Э.К.: Как не ходил, всюду я ходил. У меня даже была возможность иногда читать книги, которые предназначались только для кремлевского пользования: я в армии познакомился с сыном председателя Комитета защиты мира, он был такой типичный номенклатурный сынок, много больше нашего знавший и совершенно циничный, конечно, ни о каком нонконформизме и речи не было. Он мне и в армии много всего рассказал, и потом время от времени давал читать разные книжки – Зеньковского двухтомник философский, например. Но все это было редко и случайно, не было систематического образования, не было базы, не с кем было все это обсудить, обговорить. Если такие книги прорывались, они были как откровение. Чего же можно было ждать от наших родителей, когда даже для нас это была ломка, – слишком большая промывка мозгов была в детстве и в юности.
И.В. – Г.: Когда мы приехали в Израиль, мы сразу познакомились с группой Жака Катмора. Это была компания совершенно отверженных людей, они жили в мире поп-музыки, секса, наркотиков и алкоголя… Но на субботу они все разъезжались по родительским домам.
Э.К.: Правильно. Человек изображает себя бездомным, даже чувствует себя настоящим бездомным, хотя на самом деле он ушел из дома для того, чтобы гульнуть, но он всегда может вернуться, помыться и одеться в другую одежду. А для нас выбор такой позиции был более экзистенциальным – это был действительно выбор жизни и судьбы. Потому что противник был очень серьезный, злобный, суровый, без юмора.
И.В. – Г.: У нас вообще вся жизнь была серьезнее.
Э.К.: Без всякого сомнения. Настолько серьезнее, что когда в конце 60-х годов я по-настоящему задумался, будет ли когда-то конец этому режиму, то понял, что неизбежно будет, хотя видимых признаков этого нет, потому что даже у верных слуг этого режима, как бы рьяно они ни служили, по ночам душа плачет: по ночам они знают, что служат неправому делу, что дело это плохое, дьявольское. В этом была разница между нами и Западом. Хотя изначальная причина та же самая – бунтарство юности.
И.В. – Г.: Что-то вы конкретно делали или собирались делать?
Э.К.: Достаточно сказать, что мы готовили покушение на Хрущева, мало? Это же был 61 год. Конечно, это громко звучит – готовили; на самом деле было больше разговоров. Просто нас не удовлетворяло чтение стихов и устройство выставок, мы – Осипов, Хаустов и я – жаждали конспиративной деятельности, конкретного дела. И мы ходили, выясняли, где посадить снайпера, осматривали проспект Мира, по которому Хрущев ездил встречать космонавтов. Но даже если бы нас не арестовали, это все равно кончилось бы само собой – никто из нас всерьез не в состоянии был даже раздобыть оружие. Сегодня, в моем возрасте, я, конечно, смотрю на все это иначе – более мудрое отношение, более философское, наверное. Я выразил бы это при помощи притчи, которую рассказал однажды Коржавин. В доме на берегу реки живет женщина, у нее есть муж, который ее бьет и вообще плохо с ней обращается. Она заводит себе любовника на другом берегу реки, к которому по ночам ее отвозит перевозчик. Ну, однажды перебралась она, пришло время назад возвращаться, и тут оказывается, что у любовника нет денег, а перевозчик отказывается без денег перевозить. Что ей делать? Она пошла по мосту, а там – людоед. И съел ее. Кто виноват? Муж, который ее бил? Перевозчик, который отказался перевозить без денег? Или любовник, который ей этих денег не дал? Виноват людоед. Всегда виноват людоед. У людей грехи нормальные, не смертные – грехи, но простительные. У людоеда грех всегда непростителен. Все и сидели тихо: бедные люди, нормальные – режим навалился, куда денешься? Чтобы ввязаться в борьбу, надо быть или сумасшедшим, каковыми и являлись большинство диссидентов, или ситуация должна довести тебя до такого отчаяния, что ты уже не думаешь, сумасшедший ты или нет.
И.В. – Г.: Но ведь среди диссидентов не было единства?
Э.К.: Никакого. Атомизация полная. Все было атомизировано абсолютно. Все воевали со всеми и друг против друга. Если и было какое-то единение, то на случайной основе и ненадолго. Или судьба в лагере нас соединяла. Например, украинские националисты с еврейскими вместе воюют с лагерным начальством. Но, как только лагерное начальство исчезает, все разбегаются – и это нормально.
И.В. – Г.: В той компании, хотя там было очень много евреев, еврейский момент не присутствовал?
Э.К.: Нет, не присутствовал. У нас были другие проблемы: все мы начинали как ревизионисты-марксисты, с тенденцией к общедемократическому либерализму. Только потом, уже в лагере, мы все разбежались по своим национальным углам.
И.В. – Г.: То есть ни антисемитизма, ничего такого?
Э.К.: Ну, какие-то нотки проскальзывали, но незначимые. В те времена – нет. Осипов ведь тоже не был антисемитом, он был русским националистом, но антисемитом – нет. Вокруг него крутилась всякая шваль, но сам он не был. То есть он, скажем, был антисемит в меру, нормальный, не более того – без газовых печек, без дискриминации – просто неприятие чужого.
И.В. – Г.: И последний вопрос: есть у тебя ощущение, что все-таки что-то было сделано?
Э.К.: Безусловно. На самом деле сделал больше всего, конечно, сам режим: чтобы себя развалить, он делал все что можно. Так же как сталинизм разваливали не противники террора, а сам Сталин, убивая коммунистов, – а он убил их больше, чем любой Гитлер, – подрывал основы; так и здесь. Мы сыграли немалую роль – как зачинщики, как бродильное начало. Но преувеличивать тоже особенно не стоит. Ничего у нас не вышло бы, если бы не было подкреплено всем остальным – всем фоном: люди, которые, по сути, не работали, все тащили, что плохо лежит, сочиняли анекдоты и смеялись; и те же самые рьяные слуги режима, которых по ночам все-таки совестишка дергала, и они говорили – а пошли они все… – все в совокупности сработало. Мы были там наиболее яркой краской, но не более того.
И.В. – Г.: Есть такая теория, что перестройку сделали сами кагэбэшники, единственные люди, которые ездили на Запад и точно знали, что почем. И, когда они увидели, они решили немножко либерализовать советскую жизнь.
Э.К.: Нет, это был оползень, и некоторые просто пытались забежать чуть-чуть вперед и направить его в нужное русло. Не более того. Это был естественный процесс, обвал, который наиболее прозорливые наши философы российские предвидели еще на заре революции, еще перед ней, и предсказывали, что это неизбежно кончится. И действительно оно кончилось. В основе развития и бытования мира существуют всего пять – семь основных схем. Это неизбежно, куда она денется, Россия? Не так, так иначе.
И.В. – Г.: Но тогда так не казалось.
Э.К.: Не казалось, потому что, когда живешь в темноте, трудно поверить, что есть где-то свет. Мало было признаков, и слишком мы были слабы по сравнению с государством. На общетеоретическом уровне понимали, что это должно произойти, но когда это будет? Слишком много было факторов, которые невозможно учесть, которые не поддаются учету. Раскладка их могла привести к тому, что все это еще гнило бы лет десять – двадцать. Если бы они развязали войну, то, может быть, что-то выиграли бы и опять протянули какое-то время. В исторически больших периодах это, конечно, ничтожно мало, а для человеческой жизни это довольно много: произойдет ли это в 1986 году, или в 1996-м, или в 2006-м, то есть, перефразируя Воланда, можно сказать: человек смертен, только неизвестно, когда именно он умрет. Так и режим – всякий тоталитарный режим смертен, но непонятно, когда он сдохнет.
И.В. – Г.: А если бы человек знал, ничего он не стал бы делать.
Э.К.: Совершенно верно. Так всегда бывает: если дело идет к миру, никто не хочет умирать. Если завтра заключат мир, какого хрена я должен рейхстаг штурмовать? Но если сзади загранотряд, то никуда не денешься. Вот у нас и был этот загранотряд – сама советская власть.
«Зеркало» № 5–6, 1997 г.Михаил Гробман: «…Превратить пустыни в сады…»
Беседа с Александром Гольдштейном
В 1957 году мне было 17 лет. Четыре года назад умер Сталин, страх и ужас еще висели в воздухе, но не для меня и не для мне подобных. Мы выросли при советской власти, и я в своей детской жизни верил во все лозунги.
Поначалу я был отличником и пионерским активистом (были, правда, анархические выходки, за которые меня выгоняли из пионеров, но только на время, так как класс не мог без меня обойтись). Я клеил юбилейные альбомы, рисовал сатирические стенгазеты, играл на сцене, был звеньевым. Класс выбрал меня председателем совета отряда. Были два кандидата – Вова Ворошилов и Миша Гробман. На дворе времена космополитизма, а пионеры отвергают Ворошилова во имя кого? Гробмана. Классная руководительница Ольга Вячеславовна Смирнова, кстати говоря, хороший педагог и интеллигентный человек, пришла в ужас – она-то понимала, чем это грозит ей, моей семье и всей школе. И она сказала: «Дети, Миша, конечно, хороший пионер и активист, но давайте подумаем и переголосуем за Ворошилова, а Мишу выберем в следующий раз, и тогда он будет окончательно подходить на этот ответственный пост».
Самое главное, что смысл происходившего я осознал гораздо позже, а дома родители мои только переглянулись между собой, но ничего мне не объяснили.
Я верил в Сталина, в орошение пустынь (мне до сих пор эта идея очень нравится – превратить пустыни в сады), в счастливое будущее всех людей под флагом коммунизма.
Толька Юдин из нашего двора (потом он стал чемпионом СССР по борьбе среди юношей) однажды сломал ветку акации, и я ему сказал: «Что ты, Толька, товарищ Сталин хочет превратить пустыни в сады, а ты ломаешь акацию!» – «Да пошел ты со своим Сталиным…» – ответил мне Толька.
Я пришел домой, рассказал родителям, они опять переглянулись между собой и сказали, чтобы я об этом никому не говорил. То есть судьба Тольки Юдина и его несчастных матери и тетки (кстати, они были страшные антисемиты и, кажется, из каких-то раскулаченных) буквально висела на волоске.
С малых лет я читал «Пионерскую правду», но никак не мог понять: по всей стране, во всех школах так прекрасно и только у нас в школе все так плохо – нищета, хулиганство, второгодники. Я думал, как мне не повезло, попал в самое неудачное место. Меня очень удивлял факт несоответствия нашего двора, нашей школы всеобщей жизненной ситуации в стране. У меня в голове прекрасно уживалась вера в Мессию (я знал от матушки, что придет Мессия) с верой в светлое будущее, которое обещала партия. Все прекрасно совпадало. Потом постепенно я начал понимать, что то, что происходит, не соответствует моим идеалам. Начали возникать конфликты, и я еще не понимал, на какой почве они рождаются. Это была естественная реакция молодой развивающейся идеалистически настроенной личности на лживую бюрократическую систему. Я был воспитан на декларируемой коммунистами морали и чувствовал несоответствие ее действительности. Собственно говоря, советская власть сама воспитала себе противников. Так и возникли все эти ячейки сопротивления.
В 1957 году я уже ненавидел советскую власть, но я не думаю, что эта ненависть тогда была уже окончательно идеологически осознанной. Респект к революционерам у меня был, а ненависть была к сталинскому термидору. Революция – время, связанное с футуризмом, который мне виделся тогда чем-то прекрасным и невероятным.
Главные моральные претензии предъявлялись к сталинизму, а вся эта хрущевская система воспринималась как прямое продолжение эпохи лжи и насилия.
К тому времени я уже дружил с Володей Гершуни, который сильно повлиял на меня политически. Он познакомил меня с людьми, с которыми сидел вместе в лагерях и тюрьмах. Гершуни показал мне изнанку советской жизни. Другой мой друг – скрипач Арчил Надирашвили – жил тогда в Москве после окончания Гнесинского института. Арчил был старше меня лет на шесть, знал немецкий, читал немецкую философию в подлиннике и очень любил стихи Пастернака. Советскую культуру он презирал, но, в отличие от Гершуни, политикой совсем не занимался. Влияние этих двух моих старших друзей соединилось с моим личным анархизмом. Конечно, я жил в окружении многих других друзей, в атмосфере встреч, обсуждений, но среды настоящей тогда еще не существовало. Круг только начинал складываться, и то, что называется сейчас Вторым русским авангардом, оформилось как единая среда в 1960 году.
В 1957 году я впервые выступил открыто против советской власти. В Манеже проходила выставка, посвященная 40-летию советской власти, и в ЦДРИ (Центральном доме работников искусств) состоялось ее праздничное обсуждение. В президиуме торжественного собрания сидели Борис Ефимов, Евгений Кибрик, еще человек пять плотных, солидных людей. Зал полон: китайские дипломаты, студенты Архитектурного института, интеллигенция, комсомольцы – кого там только не было. Шел разговор о величии революции, прекрасных достижениях в искусстве. Я сказал своему приятелю Стасу Фанталову: «Пошли записочку, чтобы дали кому-то из публики высказаться». Тогда это было совершенно непозволительно, все выступления должны были быть заранее согласованы. Но новые веяния уже стали проникать, все-таки начало новых времен. Тут Кибрик встал, промямлил: «Может, кто-то хочет выступить из зала?» – и хотел плавно перейти к следующему вопросу. Но не тут-то было. Я поднимаюсь и говорю, что хочу сказать пару слов. Выхожу на сцену; около президиума на столе стоит тяжелый микрофон на подставке. Я взял этот микрофон и отошел подальше от стола к рампе. Сразу же возникло некоторое напряжение, все происходило не по правилам. А я был пострижен наголо, одет в черный костюм с жилеткой, было в этом какое-то неслучайное совпадение с Маяковским. Свою речь я начал стихами Некрасова «Бывали хуже времена, но не было подлей». И чувствую: все вокруг окаменело и оледенело. А я продолжаю речь. Что я говорил, точно не помню, и это хорошо – можно себе представить, что я там нес со всем энтузиазмом своих семнадцати лет: о несовместимости партии и искусства, об уничтожении искусства, о большевистском давлении и цензуре. Тогда много говорилось о модной у них картине – Блок и Маяковский греют руки у костра после взятия Зимнего, – так что о Блоке тоже шла речь и о лживости официального искусства.
Оцепенение в зале прошло, молодые люди начали задавать вопросы. Я стою у самого края рампы в костюме с узкими брюками. Узкие брюки тоже являлись политическим вызовом. Комсомольцы мне кричат из зала: «А кто ты такой сам?» Я говорю: «Каменщик Михаил Гробман». Ну, все тогда обалдели: рабочий класс выступает с трибуны. По стандартам того времени это было происшествие фантастическое. Президиум онемел, окаменел, как в сказе Бажова. Они понимали свою ответственность, и у них потом были бы большие неприятности, они не должны были этого допустить.
Когда я сказал, что Маяковский перестал быть поэтом, став коммунистом, я почувствовал, как меня вместе с микрофоном схватили и потащили за кулисы. Директор ЦДРИ Филиппов (потом он стал директором ЦДЛ) и еще несколько человек набросились на меня и утащили со сцены. Вызвали милицию, КГБ – все сразу пришли, это же происходило у стен КГБ. Тем временем студенты Архитектурного института устроили там бунт, пошли меня выручать и требовали, чтобы меня отпустили. Но кто-то из КГБ объяснил им, что тот, кто сейчас же не покинет ЦДРИ, завтра же будет исключен из института. Студенческий бунт закончился моментально. Но сам факт, что советские студенты выступили с какими-то требованиями, уже говорит о тогдашних настроениях.
Короче говоря, меня арестовали, начались допросы на всю ночь. Проблема для следствия была в том, что они не могли найти ни одного свидетеля, который мог бы точно передать мои слова.
Я догадываюсь, что и те, кто сидел в президиуме, не хотели давать слишком конкретной информации, потому что боялись за себя. Процитировав ту антисоветчину, которую я нес, они возложили бы на себя еще более тяжелую ответственность. Оба следователя тщательно добивались от меня повторения того, что я говорил, спрашивали: «С чего вы начали свое выступление?» Я говорю: «Читал стихи Некрасова». – «А какие?» – «Не помню уже».
Это парадоксальная вещь: в стране, где каждый второй – стукач, в зале не нашлось никого, кто зафиксировал бы мою речь.
Следователей очень интересовало, к какой группе я принадлежу. У меня была записная книжка, полная фамилий знакомых и друзей, и она вызвала у них особый интерес. Я был уверен, что десять лет тюрьмы мне обеспечено. Я тогда был большим интеллектуалом, не то что сейчас, и специально произносил такие мудреные слова и фразы, что первый следователь попросил меня говорить понятным языком, без философских терминов. Тогда вызвали второго следователя, с университетским значком, из нового хрущевского набора, и мы вели с ним политические дискуссии о социализме, о югославской свободе в искусстве – обо всем, кроме конкретных фактов. В перерыве между допросами я был посажен в камеру с уголовником из Сокольников, задержанным случайно по пьянке, – он очень сокрушался по этому поводу. Он потом приглашал меня к себе. Я спрашивал: «А как тебя найти?» А он: «Придешь в Сокольники, назови любому мое имя, тебе сразу укажут».
Оба моих следователя мне угрожали, требовали признания, которое может облегчить мою судьбу. Только они не знали, что я-то был уверен, что десятка мне обеспечена, и поэтому их угрозы на меня совсем не действовали.
Я тогда был безрассудно храбр, меня ничего не могло напугать. Я еще в детстве заставлял себя ходить после школы домой по темным окраинам нашего уголовного поселка, воспитывал в себе пионерскую храбрость, так что запугать меня было невозможно.
Настало утро после бессонных допросов. Следователь принес мне на подпись бумагу. Это была какая-то формальная бумага о задержании. Я сказал, что, пока меня не накормят и не напоят, я прекращаю всякий контакт. Следователь говорит: «Подпишите, и отпустим домой». Отвечаю: «Я вам не верю». Следователь разъясняет, что КГБ сейчас совсем другой, не сталинский (это была правда, они тогда весь КГБ вычистили, ветеранов послали управдомами работать). Следователь мой все время бил на чистосердечность и натыкался на стену. Я был уверен, что меня не отпустят, но решил их проверить и подписать эту формальную бумажку с перечислением того, что у меня изъято. И действительно, они оставили у себя мою записную книжку и паспорт и отпустили.
Первое, что я сделал, приехав домой, – уничтожил три толстые тетради дневников, где были описаны мои встречи, разговоры, всякие события. До сих пор жалею, что сделал это, но я думал, что придут с обыском, и боялся подвести друзей. Потом уже мне вернули и паспорт, и записную книжку, на этом все и кончилось.
За то время, пока я был арестован, они вызывали моего отца, узнавали, из какой среды я происхожу. С одной стороны, это было антисоветское выступление, произошедшее сразу же после венгерских событий, КГБ уже опять начал сажать; с другой стороны, я был рабочим, пролетарием, а не студентом или тунеядцем, отец мой занимал высокий инженерный пост на заводе, был коммунистом со времен войны, рабочие его очень уважали и любили. По советским стандартам отец был номенклатурой, то есть как бы своим. И все это – и то, что я был одиночкой, и то, что не было записи выступления, – очевидно, привело их к решению, что сажать меня не стоит, просто поставить под наблюдение, что действительно продолжалось всю мою жизнь, но нисколько мне не мешало.
По Москве разошлись слухи об антисоветском выступлении в ЦДРИ, мне об этом потом, например, рассказывал А.В. Белинков, который поразился, обнаружив, что это был я.
А через много лет писатель Георгий Березко, большой поклонник моего таланта, захотел устроить мою выставку в ЦДЛ и, поговорив с Филипповым, рассказал мне, что тот, услышав мою фамилию, весь покраснел и затрясся: «Это какой Гробман? Вы знаете, что произошло в ЦДРИ?»
Я догадываюсь, что у всех этих кибриков тогда были большие неприятности и они долго холодели, вспоминая об этом.
Рассказываю об этом так подробно, потому что это было, может быть, первое антисоветское публичное выступление, неслыханное по тем временам.
Мое противостояние советской власти не являлось случайным, оно произошло именно потому, что я был пионером и общественником, искренне поверил в справедливость, честность и благородство, обязательные для человека. Советское рабское общество все равно порождало из себя анархистов, революционеров, нестандартных людей, которые возникали автономно из всех социальных слоев. В частности, так возник Второй русский авангард, который является соединением всех этих как бы случайно зажегшихся огоньков. Точно так же возникло диссидентство. В 1958 году мой приятель Роман Ланда, который был очень смутной личностью, писал стихи и знал китайский язык, потащил меня на площадь Маяковского, там тогда был установлен памятник поэту и начался советский Гайд-парк: молодежь читала свои стихи, и тут же происходили бурные споры на политические и прочие темы. До этого я участвовал в подобных обсуждениях на Фестивальной выставке в Парке культуры, около абстрактных картин, которые я тогда очень защищал. Это были первые свободные дискуссии, но, правда, только об искусстве. Конечно, все вокруг было наполнено соглядатаями КГБ. Советская власть еще не знала, как реагировать на такие дела: террор закончился, но вся система продолжала по-прежнему работать. Всякая заграничная выставка вызывала немыслимые споры, и я во всем этом участвовал. И Маяковка возникла как продолжение всех этих споров, она заполнила вакуум.
Я попал к самому началу всех этих событий, и у меня уже был опыт дискуссий с самыми разными оппонентами. Я приходил на Маяковскую площадь с друзьями, читал свои стихи и участвовал в спорах, заводил новые знакомства. Володя Гершуни был в восторге от моих стихов, и я читал, опираясь на его плечо. Вид у Гершуни был несколько криминальный, и это мне стилистически импонировало. Читал я свои стихи о Маяковском и лирику, но были и другие. Вот одно из стихотворений, политический смысл которого был более чем прозрачен – все понимали, что речь идет о коммунистах и советской власти. Стихи, ясное дело, совсем детские, но не в этом счастье.
ГРЯДУЩЕЕ Когда пытаются вместить Они в прокрустовы кровати И кровь, ревущую в набате, И солнца шелковую нить, Когда, о пьедестал богов Оперши грязные ладони, Не ведая судьбы иронии, Они гнусят про ход веков, Я каждым капилляром верую: Грядет пора – прозренья час — И возрожденческою верою Людей живительно обдаст, И под руинами цепей, Тюремных зданий и разврата Да сгинет племя Герострата Во тьме тех проклятых путей. Июль 1958. МоскваЧитал я его много раз, публика менялась, стукачей и комсомольских деятелей там тоже было немало. Власти растерянно пытались как-то направить все это в легальное молодежное русло. Один из активистов Маяковки – Иванов – даже как-то устроил какую-то нашу встречу с людьми из райкома комсомола, но я не понимал, какой может быть контакт с этой советской швалью, и чувствовал во всем этом какую-то бессмыслицу.
Потом я уехал в Грузию, а когда вернулся, обнаружил уже другую атмосферу: надо всем витал какой-то маразм, и комсомольско-кагэбешная сволочь слишком уж вплотную пасла все это дело. Не хотелось светиться по мелочам. С точки зрения литературы это было совсем не интересно, с точки зрения политики – нельзя заниматься всерьез политикой среди стукачей. Люди, которые туда приходили, мне были не интересны, и я покончил с этим делом раз и навсегда.
Все мои связи с диссидентами, кроме друзей, прервались, у нас были разные представления о культуре. Их культурные предпочтения были примерно такие, как у тех, с кем мы боролись. Потом то же самое произошло с активистами алии: все попытки общаться с ними заканчивались ничем, так как их «эстетика» ничем не отличалась от советской. Тогда уже существовал Второй русский авангард, это была альтернатива советской псевдокультуре. Диссиденты же не несли никакой альтернативы советской власти, что особенно ясно стало, кстати говоря, после перестройки. А мы-то знали, что вся эта советская жизнь к нам никакого отношения не имеет, мы интуитивно создавали новую культуру.
В 1965 году я опубликовал под псевдонимами Г. Д. Е. и Михаил Русалкин свои стихи в русско-американских журналах «Воздушные пути» и «Новый журнал», но в КГБ так никогда и не узнали, кто скрывался за псевдонимами, иначе мне несдобровать бы: тогда советская власть к публикациям подобного рода относилась очень строго.
Потом одно время я передавал «Хронику текущих событий» на Запад, и об этом знали только два-три близких человека, в том числе и Володя Гершуни, который приносил мне хронику. И об этом в КГБ никогда не узнали. Много было и всяких прочих антисоветских дел. Но все они происходили без всякой связи с тогдашним официальным диссидентством.
Несмотря на власть КГБ и советскую убогость, мы жили молодой и прекрасной жизнью, и вся эта жизнь уходила на искусство и литературу. Но нас возмущала бесконечная подлая лживость советской власти, и, конечно, это было интуитивное восстание молодежи против истеблишмента, но наш истеблишмент был самым диким и самым страшным. Наивность западной молодежи по сравнению с нами была невероятной. Наших диссидентов, которые оказались в вакууме и при советской власти, и после нее, мучали серьезные проблемы, все это было очень важно, все это происходило не от сытости, как на Западе. Конечно, у западной молодежи были серьезные противоречия и недовольство своим истеблишментом, но они даже близко не нюхали того, против чего мы стояли. Еще неизвестно, что с ними было бы, если бы их поставить против КГБ, партии или простого советского человека. Я думаю, что в 99 % случаев они сломались бы сразу же. Нельзя забывать, сколько тот же Гершуни уже при Хрущеве и Брежневе успел просидеть в тюрьмах и психушках, – у нас платили за инакомыслие полной мерой. У нас был другой вид взрослости и ответственности. И при всем этом мы всегда знали, что на Западе общество гораздо более зрелое в интеллектуальном смысле, с гораздо более серьезными достижениями в области философии и культуры. Хотя мы старались делать вещи самостоятельные, не похожие на западные, но для нас было однозначно ясно, что культура в международном, глобальном масштабе происходит на Западе. А мы должны были бороться за себя, находясь в полном вакууме, принадлежа к универсальному пространству, которое кончается у советской границы, мы – пузырьки кислорода, которые поднимались вверх в гнилом болоте.
Наши претензии и к западному студенческому движению, и ко многим западным интеллектуалам заключались в том, что они в результате смыкались с левыми, которых поддерживал КГБ, и сами часто становились агентами влияния. Таким агентом влияния, в частности, был Жан-Поль Сартр, который оправдывал коммунистический террор против гражданского населения. А выступление Сартра против затравленного Пастернака – это было просто гнусно. Когда он, Сартр, приехал в Москву, я искал его, чтобы публично плюнуть ему в лицо. Да где там, он вращался в сферах, куда нам не было никакого доступа. У западной интеллигенции были свои проблемы – мы их совершенно не интересовали. Тот же Аллен Гинзберг, который в Америке искал таких же отщепенцев, как он, в Москве тусовался и искал людей из истеблишмента. Видно, изголодались они, бедняги, в своих родных Америках по солидным знакомствам и признаниям. Они не знали о нас и не обязаны были знать, но факт остается фактом: в Советском Союзе их интересовал только советский истеблишмент. КГБ и партия поддерживали бунтующих левых западных интеллектуалов, подкармливали их, использовали в антизападной пропаганде.
Между прочим, общий язык у нас был с восточноевропейскими интеллектуалами – Польша, Чехословакия, Венгрия. Мы хорошо понимали друг друга – у нас был общий опыт. И, когда весь советский народ торжествовал по случаю оккупации Чехословакии, для нас это было большим ударом, рухнули надежды на тихий развал коммунизма. Кстати, поляки и особенно чехи открыли Западу факт существования Второго русского авангарда в искусстве и литературе. Но это уже совсем другая тема.
«Зеркало» № 5–6, 1997 г.Давид Накаб: Анархист в черной кипе
Беседа с Дмитрием Сливняком
Давиду Накабу сорок семь лет, сегодня он принадлежит к брацлавскому течению в хасидизме. Черная кипа, почтенная борода с проседью – все как положено. В 1968 году восемнадцатилетним юношей он участвовал в студенческом захвате Сорбонны. Зарабатывает на жизнь программированием. «Мне на весь день хватает нескольких кусков хлеба и стаканов чая. Непонятно, зачем что-то еще…» В ответ остается лишь процитировать надпись на стене, виденную мною в майской Вене 1990 года: «Становится все сложнее жить просто…»
Дмитрий Сливняк: Что значат для вас шестидесятые годы?
Давид Накаб: Ну, в шестидесятом году мне было всего десять лет. В шестьдесят восьмом – восемнадцать. Все для нас началось с музыки. В 1962 году мы во Франции впервые услышали «Битлз» и «Роллинг стоунз». В 1965 году – Боба Дилана. Битлы были просто очень милы, «Роллинг стоунз» провоцировали, тогда как Боб Дилан действительно заставлял задуматься, ставя все под сомнение…
Д.С.: Что именно ставилось под сомнение? Иначе говоря: с какого рода «непорядком» сталкивалась французская молодежь шестидесятых годов? Шла ли речь об алжирской войне и ее последствиях?
Д.Н.: Алжирская война закончилась в 1962 году и была для нас не слишком актуальной. Вообще в европейском масштабе молодежь вдруг начала играть очень большую роль: кончилась война, и начался демографический бум. Внезапно стало очень много школьников… Что касается собственно Франции, то было ощущение бесперспективности. Университетский диплом ничего не стоил: людям с высшим образованием платили гроши. Все это очень заботило студентов. К тому же им очень не нравилась ситуация в сфере научных исследований: гранты находились в руках трестов. Такое всевластие корпораций очень беспокоило студентов, которые были тесно связаны с исследователями: ведь сегодняшний студент – завтрашний участник исследовательских проектов… Собственно взрыв произошел в марте 1968 года, когда в одном из кампусов перестали пускать мужчин в женские общежития. Заметим, что речь идет о взрослых, совершеннолетних людях…
Д.С.: Так в Советском Союзе это всегда было, и никаких взрывов…
Д.Н.: Ну, Советский Союз отличался редчайшим ханжеством. Там народ, по-моему, помешан был на алкоголе и сексе. Я помню, как в Москве 1976 года коридорные в гостинице просто готовы были прыгнуть в постель. И к кому? К еврею в кипе и с пейсами… Итак, весной 1968 года возникло движение, получившее название Движение 22 марта. Возглавляли его Кон-Бендит и еще два человека. Они черпали вдохновение в марксистской философии, в идеях Бакунина и такого французского философа, как Ванейгем. Правительство сделало все возможное, чтобы движение набрало силу.
Д.С.: Что же оно сделало?
Д.Н.: Например, продолжало не пускать в женские общежития. Повторяю, речь идет о совершеннолетних!.. Вскоре к этому движению присоединились рабочие.
Д.С.: Чем они были недовольны?
Д.Н.: Им очень долго не повышали зарплату. Правительство запрещало повышать им зарплату. Сперва объявили забастовку профсоюзы преподавателей, потом присоединились рабочие. 6 мая студенты захватили Сорбонну.
Д.С.: Каковы были цели этого восстания?
Д.Н.: Речь шла о самоуправлении университетов и предприятий.
Д.С.: О самоуправлении… внутри государства?
Д.Н.: В том-то и дело, что государство должно было исчезнуть!
Д.С.: Анархо-синдикализм?
Д.Н.: Скорее анархо-коммунизм. Собственно, коммунисты сели на этот поезд чуть погодя. Они страшно потеряли популярность в те месяцы. Число поданных за них голосов с двадцати пяти процентов снизилось до восьми. Коммунистические профсоюзы – Генеральная конфедерация труда – сотрудничали с властями совершенно чудовищным образом. Собственно, профсоюзы всегда находятся на службе у благонамеренной публики…
Д.С.: В 1968 году вам было всего восемнадцать лет…
Д.Н.: Да, и я учился в лицее. В демократию уже не верил, но коммунистическая молодежь, которой полно было у нас, тоже не привлекала. В движении 1968 года я почувствовал какую-то правду. Меня использовали при сочинении листовок. Дело в том, что каждый желающий с улицы имел право сочинить свой текст, чтобы его распространяли. Естественно, во многих случаях нужно было литературное редактирование. Этим я и занимался. Захватив университет, студенты провозгласили Свободную коммуну Сорбонны. Что они создали первым делом? «Революционные трибуналы»!
Д.С.: Кого же они судили?
Д.Н.: Естественно, друг друга! Мы жили внутри Сорбонны. Это была непростая жизнь. Существовали проблемы: чем питаться и где мыться. Впрочем, я довольно быстро понял, что ничего хорошего из этой истории не выйдет. Руководители движения занялись политикой, начали преследовать свои интересы… К тому же полиция устроила провокацию: начала распространять среди студентов гашиш. Многие мои друзья погорели на этом. Человек начинает употреблять гашиш – и через полгода бросает учебу.
Д.С.: Ну, это не такой уж сильный наркотик…
Д.Н.: Да, сильным наркотиком его назвать нельзя. Но на следующее утро уже встаешь поздно, теряешь всякие интересы, кроме этого… Так люди и ломались. Впрочем, была угроза введения войск НАТО в Париж – существовал такой договор, что войска блока могут прийти на помощь, если в одной из стран-участниц беспорядки. Войска НАТО уже готовы были вмешаться.
Д.С.: Что вы можете сказать про атмосферу после 1968 года?
Д.Н.: Существовала ностальгия по майским событиям. Практически ведь ничего не изменилось. По-прежнему нужно было втираться в доверие к преподавателю, чтобы получить проходной балл на экзамене. Противнее всего были те преподаватели, которые якобы за студентов, якобы сочувствовали… С ними нужно было держать ухо востро. Вообще, нельзя верить этим борцам и радикалам на словах – все они на службе у истеблишмента. Взять, например, МЕРЕЦ в Израиле. Но МЕРЕЦ – это еще и жуткий снобизм: они, видите ли, знают то, чего другие не знают… И так оно все и будет продолжаться, пока не придет Машиах!
Д.С.: Похоже, ваш радикализм 1968 года перекликается с эсхатологическим радикализмом, который вы нашли в иудаизме?
Д.Н.: О чем вы?.. А, да, конечно…
Д.С.: Как складывалась ваша жизнь после 1968 года?
Д.Н.: Я поступил учиться в Седьмой Парижский университет. Учился электронике, но интересовался и многими другими вещами. Например, лингвистикой, особенно идеями Ноама Хомского. Искал понемногу везде. Мой приятель-гой как-то сказал мне, что все философии сходятся в признании истины, заложенной в Торе. И со временем я понял, что Тора – это самая совершенная система, хотя ее и плохо используют. Например, консистория во Франции – то же, что раввинат в Израиле, – это абсолютно пустое место. Или израильский религиозный сионизм – это такое же сотрудничество с властями, как во французских коммунистических профсоюзах!
Д.С.: Когда вы приехали в Израиль?
Д.Н.: Я здесь родился в 1949 году. Через год семья уехала во Францию. Для Франции наша семья могла считаться традиционной: в пятницу вечером у нас что-то такое зажигали… Но не более того! В Израиль я вернулся в 1980 году, а за пять лет до того пришел к Торе.
Д.С.: Что представлял собой французский иудаизм в те годы?
Д.Н.: В целом французская ортодоксия производила впечатление чего-то устаревшего. Больше молодости чувствовалось у хабадников, но все равно они напоминали коммунистическую молодежь… Для меня открытием стал брацлавский хасидизм. Это потрясающее учение, хотя большинство брацлавских хасидов его как следует не понимает.
«Зеркало» № 5–6, 1997 г.Часть 2
Европа, Европа
Государственный Кунстхалле в Бонне показывает огромную выставку, посвященную авангарду Центральной и Восточной Европы. Эта выставка подняла целый ряд вопросов, касающихся не только культуры, но и развития европейского общества в целом и тех результатов, с которыми оно подошло к концу 20-го века. «Зеркало» подключается к широкому международному обсуждению, которое развернулось вокруг этой выставки. С несколькими участниками выставки «Европа, Европа» беседовала Ирина Врубель-Голубкина.
Иосиф Бакштейн: «…Возникает новая культурная геополитика…»
Ирина Врубель-Голубкина: Я хотела бы поговорить о выставке «Европа, Европа» и о твоем впечатлении от нее.
Иосиф Бакштейн: Если говорить об общем впечатлении, оно довольно интересно, но трудно понять на такой громадной выставке, в какой мере работы каждой из участвующих стран – а речь идет о Восточной и Центральной Европе – достаточно адекватно их представляют. Для меня и для моих коллег из Москвы неожиданным было то, что русское искусство весьма выигрышно смотрится в восточноевропейском контексте. Это само по себе любопытно. Видимо, это довольно устойчивое впечатление от русского искусства.
И.В. – Г: Ты имеешь в виду искусство последних лет или Первый русский авангард?
И.Б.: Я говорю о Первом авангарде. Он очень выделяется на общем восточноевропейском фоне – своей энергией, ясно прочитываемыми идеями. И, наверное, это можно понять: не в ущерб Восточной Европе, говоря, глядя на ситуацию в целом, можно сказать, что все-таки русские всегда жили в некоем эпицентре событий. Масштабы страны, величина, энергия процессов, которые в ней происходили, предчувствие революционных событий – все это, видимо, и дало такую невероятную энергию, которая очень ощущается в работах. В то время, как Восточная Европа, она – все-таки, все-таки, все-таки – являлась, в общем-то, периферией больших империй, Австро-Венгерской, Германской, и это ощущение зависимости от некоторого гипотетического центра – оно присутствует. Они смотрятся именно так – я говорю, смотрятся, может быть, на самом деле там тоже были какие-то значительные, большие идеи и какие-то локальные достижения; но в целом – именно в целом – внутренняя зависимость чувствуется. И даже – не хотелось бы употреблять это страшное слово – какая-то вторичность, широко понимаемый декоративизм. Это у всех, за исключением нескольких художников, которые стали широко известными и начали работать на Западе. Это, к сожалению, вообще традиция, и она воспроизводится довольно устойчиво: даже в Восточной Европе были заметны только те художники, которые жили в западных странах. Это касалось и периода начала века, и потом, вплоть до Кристо и других.
И.В. – Г.: А как ты считаешь, правомочен ли вообще этот принцип – отделить Восточную Европу от Центральной и соединить в одной выставке или в одном принципе работ? Возможно ли такое соединение с общеевропейским искусством? Или, может быть, оно уже произошло – и тогда, под чьим влиянием?
И.Б.: Я не настолько хорошо знаю ситуацию в Восточной Европе, но мне кажется, что уже сегодня идет процесс реинтеграции; соответственно, под углом этой реинтеграции смотрятся и события, которые происходили в искусстве середины или начала века, до советской оккупации, до Второй мировой войны. Что касается русской части, то мне этот процесс очень понятен. Другое дело, что он такой противоречивый, и совершенно очевидно, что только определенные художественные явления могут реально смотреться или прочитываться в таком международном контексте. Вот пресловутый московский концептуализм и то, что ему предшествовало: он был тем хорош и тем интересен, что он сумел интегрироваться и художники, которых мы встретили здесь, на вернисаже в Бонне, являются примерами этой удачной интеграции. Такие художники, как Кабаков, Комар, Меламид, Гробман и прочие, здесь присутствующие, сумели найти тот визуальный язык, который позволил западному зрителю все это воспринять, различить и включить достаточно органично в этот самый международный контекст. Дело не в Западе, а в том, что существует язык современного искусства и русские, как это ни парадоксально, даже в своей полной изоляции, в 60-е – 70-е годы, все-таки научились этому языку, овладели им, что само по себе факт, достаточно удивительный. И это поколение, судя даже по этой выставке, вполне в контексте. Но опять-таки, наиболее заметны все-таки те художники, которые работают на Западе. А те – даже успешные и хорошие художники, которые начинали в конце 70-х – начале 80-х, – кто остался в России, находятся в очень сложном положении. Они, как ни странно, все еще не могут «раскрутиться». Хотя они, собственно, уже классики, музейные художники, а вот работать в собственной стране им оказалось довольно сложно. Не знаю, может быть, в силу отсутствия художественной структуры или других каких-то причин, возможно, морально-психологических, но жесткой мотивации я у них не обнаружил. Я говорю о них, потому что они мне ближе и понятнее, восточноевропейскую ситуацию я знаю хуже. Но то, что я знаю косвенно, свидетельствует примерно о том же самом.
Месяц назад я находился в Вене на семинаре кураторов из Восточной Европы, и я понял, что ситуация, в общем, очень похожая. Но они в еще большей степени – нет, скажем так: они до сих пор – ощущают на себе… ощущают свое положение провинции в отношении Центральной и Западной Европы. Получилось так, что на этом семинаре в Вене присутствовали страны, которые входили раньше в Австро-Венгерскую империю. Как ты знаешь, даже Западная Украина в нее входила, часть Польши, естественно, Чехия, Словакия, Венгрия, часть Румынии и Югославии. Все эти люди там сидели, и я понимал, что все, кроме меня – я был из Москвы, – это империя, это что-то общее, и я, на самом деле, там немножко чужой. И то, что сейчас очень многие венские галереи открывают филиалы в Праге и Будапеште, свидетельствует о том же. Вена, по-моему, хочет стать центром этого региона. И с очень большой опаской смотрит на все эти процессы, и вообще на все отношения между Москвой и Берлином. Россия, которая мостом нависла над Центральной Европой, их буквально пугает. То есть, мне кажется, что возникает совершенно новая культурная геополитика, она именно сейчас формируется. И эта выставка принципиальна в этом отношении. Нельзя искусственно отделять Запад от Востока, это создает совершенно ложную перспективу. А вот какие возникают конкретные констелляции, отношения – за этим просто интересно наблюдать. Устойчивое отношение – я просто вижу, – это Австрия и, допустим, Чехия, Словакия, Венгрия. Это очень определенная система отношений, и вполне можно говорить об этом контексте. Они очень быстро вспомнили свое общее прошлое и с большой охотой бросаются друг другу в объятия. И Вена сейчас стоит перед вопросом: стоит ли ей действительно стать этим новым центром? Вообще-то Вена, как я выяснил, посмотрев на карту, находится восточнее Праги, а Прага – западнее; то есть Вене сам Бог велел стать этим новым центром. И по мере того, как будет распадаться наша страна, Вена будет притягивать к себе. Она готова, она может много сделать для всего региона в отношении культурных контактов. И она уже пытается это делать, хотя одновременно у них все-таки есть комплекс маленькой страны, поэтому они и хотят, и опасаются этой своей чрезмерной экспансии. Но тем не менее процесс будет происходить. А в России, мне кажется, ситуация стабилизируется, и мы должны будем снова обратить внимание на своих ближайших соседей – я имею в виду Прибалтику и Восточную Европу. Первое время после перестройки, конечно, никакого желания общаться с их стороны не было, поскольку все смотрели на Запад, как и мы. И еще долгое время, пока процесс интеграции не завершится – а это долгие, долгие годы, – конечно, все внимание и у нас, и у восточных европейцев будет направлено на Германию, Францию, Америку, далее – везде. Но в конце концов это все-таки окажется на периферии наших общих интересов. Потому что контакты уже стали гораздо интенсивнее и появился даже некоторый общий негативизм относительно Запада в целом – что они, разумеется, нас плохо понимают, а у нас общие проблемы, мы понимаем друг друга очень хорошо, и надо бы дружить. Я вот сам сейчас тоже вовлечен в такие инициативы, проекты и программы, в основном с чехами, словаками, венграми, поляками, с Югославией – в основном со Словенией. То есть мы поняли, что на самом деле мы вполне нормальные люди, и у нас есть общие интересы и общие проблемы, и главное – самое главное, что мне хотелось бы отметить особо: это что опыт жизни в условиях тоталитарного режима имеет ведь не только негативный аспект, но и позитивный. Это такой уникальный опыт, который стоит как-то сохранить и как-то его адекватно выразить. Потому что никто никогда – мы надеемся – в обозримое время такого не переживет, а мы-то знаем, и наше поколение тоже знает; и мы считаем, что большие достижения и результаты, которые были получены усилиями даже московского художественного круга, неофициального, андерграундного, – это уникальная культурно-историческая ситуация, и она стоит того, чтобы ее достаточно подробно описать. И это нас объединяет с Восточной Европой.
Сейчас, когда прошел первый шок в отношении России и русского языка, они говорят: а что, надо это понять, надо вспомнить, надо описать это и в текстах, и в визуальных образах. Это чувство общности – совершенно новое ощущение, и это касается даже языка. На этом семинаре, где была вся Восточная Европа, все говорили по-английски. А потом вдруг сообразили, что наши языки очень близки, и мы все друг друга поняли бы, даже если бы стали говорить по-русски. И в конце концов все стали говорить по-русски. То есть уже нет этой ненависти к России и русскому языку, и, когда она прошла, все вспомнили, что все-таки это очень удобно – общий язык. И почему английский? Русский язык – славянский, в конце концов.
Для меня это все интересно лишь как мир новой геокультурной политики. И, конечно, страшно важно – новые центры, новые отношения. Вот только что один галерист из Вены организовал проект с участием художников из всех этих стран, включая Россию. То есть появляются люди, которым это интересно. Конечно, не всем, но я уверен, что такие отношения будут развиваться довольно устойчиво. А «культурное гетто», или «зоопарк», для Восточной Европы, мне кажется, не будет удачным, точно так же, как вполне провалилась идея ярмарки в Гамбурге. Ее устроили в ноябре, называлась она «Гамбург и Восточная Европа». Как выставка она была неплохой, довольно репрезентативной, но эффект как ярмарки был нулевой: в Гамбурге нет рынка, это, во-первых; нет интереса к этому искусству, во-вторых; Москва смотрелась гораздо интереснее, чем все остальное искусство Восточной Европы – это, в-третьих; и так далее. Я слышал, что даже организатор ярмарки все это осознал и больше ничего подобного делать не собирается. Логично работать с отдельными интересными галерейными павильонами, индивидуально приглашая их на Базельскую ярмарку, на другие, не устраивая вот такого зверинца. Мне кажется, выставка «Европа, Европа» в этом смысле – последняя попытка Запада показать Восток в целом.
«Зеркало» № 115, 1994 г.Виталий Комар: «…Общие точки авангардных соприкосновений…»
Ирина Врубель-Голубкина: Как ты думаешь, судя по этой выставке, Восточная Европа, вообще вся эта часть мира, объединенная общеполитической силой, создала общий художественный язык?
Виталий Комар: Наверное, общий язык был выработан в этом веке, в начале века, не только среди социалистических стран, но и среди капиталистических тоже. Социалистические идеи были очень популярны: почитайте письма Ван Гога – он был социалистом; Пикассо был коммунистом. То есть модернизм рождался вместе с социализмом как попытка разрушить старые традиции. Затем, наверное, до тридцатых годов уже можно говорить о близости модернистского языка: все читали одни и те же немецкие и французские журналы. Я, конечно, имею в виду ту ищущую часть художников, которые претендовали на звание авангардистов, а они были, как мы видим на этой выставке, и в Польше, и в Чехословакии, и в России. А где-то в тридцатых годах началось уже расслоение. Во-первых, русское, советское, искусство приблизилось к национал-социалистическому; между ними много общего. Но остальных стран Восточной Европы это тогда не коснулось, говорить о соцреализме можно, конечно, только применительно к Германии и России. В Америке в этот период вообще модернизма еще не было. Затем завоевание Восточной Европы, конечно, ввело и эти страны в круг влияния соцреализма. После хрущевской оттепели начался уже как бы ретроспективный процесс. Вспомним такие ранние корни: Сталин был опровергнут, осужден, и была попытка возвратиться к «хорошему», начальному периоду социализма, более идеалистическому. К тому времени Америка уже превратилась в модернистскую страну. Одной из причин тому были эмигранты, которые убежали от Гитлера и переселились в Америку, – можно сказать, цвет модернизма и авангардизма. В Америке модернизм расцвел, укрупнился. И произошла странная аберрация: изначально возрождая как бы русский авангард, тем не менее смотрели не старые русские, а американские журналы, где все это было разрешено; или французские, – словом, западные. Для многих первые знания об авангарде были из журналов типа «Америка», «Польша». Почему Польша – в хрущевское время туда вернулись многие художники из Парижа, которые в тяжелое историческое время жили во Франции. Была такая волна возвращенцев-абстракционистов. Все это очень перемешано, много общих точек, даже если смотреть на это с разных сторон: есть общие точки консервативных соприкосновений, и есть общие точки авангардных соприкосновений.
В целом выставка мне не понравилась. Но, если говорить о положительных качествах, самое приятное на ней то, что впервые мы видим русский авангард – и развитие русского авангарда, и второго, ретроспективного – в контексте всей Восточной Европы. Мы видим, что эти явления были близки друг другу, и скрытые на первый взгляд переклички сейчас стали очевидными, и это очень положительное качество. Впервые, я думаю, были объективно выдержаны пропорции русского искусства по отношению к восточному, к Восточной Европе. Этот дух интеллектуальной авантюры, который был у художников авангарда, он в равной степени выражен и у чехов, и у поляков, и у русских; и дело, конечно, не в том, что Польша, например, была частью русской империи в тот период, когда начинался русский авангард. И вот, несмотря на то, что все было так похоже, пропорция русского искусства всегда чрезвычайно преувеличивалась за счет русской литературы XIX века, естественно, великой, и атомной бомбы в XX веке; это серьезные гири на весах, и они вызывали перекос в сторону преувеличения русского искусства. Хотя оно осталось, конечно, великим, и, безусловно, оно сильнее воспринимается, чем искусство, например, Чехословакии или Венгрии. Но, наверное, можно было показать Восточную Европу еще лучше, и более интересно, и с меньшим количеством странных таких экспозиционных аппендиксов. Мне кажется странным отдел, где представлено еврейское искусство. Совершенно не понятно, почему кураторы выбрали именно эти работы, а не другие. Если бы еще речь шла о территориальном принципе, предположим, имелась бы в виду та область Белоруссии, откуда у многих из нас бабушки и дедушки, – но ничего подобного. Там, в этом отделе, показан почему-то портрет еврея работы Гончаровой. Совершенно не понятно, что хотел сказать автор экспозиции: может быть, что он хорошо относится к евреям? Странно, что он вообще на этой теме заостряется.
И.В. – Г.: Концепция этого отдела совсем в другом: экстерриториальное присутствие евреев; нет территории, но есть присутствие. То есть как будто есть еще одна такая страна…
В.К.: Но почему же тогда эта страна представлена исключительно этническим типом лиц? Какой-то очень странный подход к этой теме. Например, иллюстрации к Библии занимали огромную часть Ренессанса, классицизма и т. д. Тогда почему бы не включить всякие иллюстрации к Библии? По-моему, все это досадные недоработки этой выставки. Они, конечно, объяснимы: насколько я знаю, это вообще первая попытка такого рода – показать Восточную Европу; идея сама по себе интересная.
И.В. – Г.: Ну, вообще-то идея – не показать Восточную Европу, идея – сказать, что атлантическое искусство, которое до сих пор включало Западную Европу и Америку, теперь включает и восточноевропейские страны – и не как некоторую экзотику, а как часть общего пространства искусства. А еврейское искусство… Вот мы сидели за столом – русское искусство второй половины XX века. А все мы – евреи. Этот вопрос существует, и он должен быть поставлен. Неразрывная связь общего искусства с еврейским – это вопрос ментальности, принадлежности, и ты не можешь уйти от этого.
В.К.: Конечно, но я думаю, что как раз этот зал, посвященный еврейскому сюжету, не имеет ничего общего с авангардными идеями. В общем-то, конечно, авангард носил в себе идею наднационального искусства, это была попытка преодолеть этническое своеобразие, выйти из провинциальной замкнутости. И евреи, безусловно, были в какой-то степени носителями этого интернационального подхода: евреи сохранили свое своеобразие среди других народов, поэтому они были открыты другим культурам, хотя бы чисто внешне, даже с точки зрения декора. И, может быть, идеи объединения народов где-то близки идее рассеяния. Вспомним даже христианство, у истоков которого стояли евреи, – конечно, они отказались от веры отцов, или, вернее, выступили в роли раскольников, сектантов, – но у них была идея объединения разных народов, разных, так сказать, наций, идея братства. То же самое у истоков социализма – вторая великая интернациональная идея, другого тысячелетия, уже не связанная с христианством, даже антихристианская; и здесь мы тоже найдем очень много еврейских имен. Я думаю, в феномене еврейства мы видим два очень странно, но неразрывно связанные противоположные явления: с одной стороны, попытка сохранить себя – на семейном уровне и, с другой, создать интернациональную общность – на социальном уровне. И вот эта гремучая смесь, наверное, и есть одна из причин той большой роли, которую евреи играли в истории культуры.
И.В. – Г.: Теперь поговорим о русской части, о маленькой части Второго русского авангарда. В этом отделе – работы нескольких художников уже твоей принадлежности; ты – один из создателей этой среды, один из ее участников на определенном этапе. Но сейчас существует уже своя собственная русская ситуация в России, а все художники, которые создали эту среду, уехали и вырваны из нее. Так вот, глядя на эти работы, чувствуешь ли ты, что это – твоя Родина, твоя среда? Что ты можешь сказать именно об этом отделе? Отличается ли он, по-твоему, от общего тона выставки? И считаешь ли ты, что отбор имен и работ был сделан правильно?
В.К.: Ну, как сказал поэт, «большое видится на расстоянии». Я не думаю, что прошло достаточно времени, чтобы увидеть даже не только семидесятые, а и более ранний период. Чувствую ли я это своей средой? Видишь ли, молодость, своя личная история всегда важнее, чем всякая история искусства, это теплее, ближе. Я вспоминаю своих друзей, массу имен художников, которые мне представляются очень важными именами; но, наверное, для устроителей выставки они ничего не значат. В Москве было несколько кругов, мы, конечно, соприкасались, знали друг друга, но в своем узком кругу мы были очень близки, мы были растворены в нем; и я не могу быть объективным. Моих знакомых, людей, которых я любил, на этой выставке нет, и ни на одной другой я их не видел. Видимо, есть какие-то другие критерии: или со стороны виднее, или расстояние еще недостаточное. Мы же знаем, что был, например, знаменитый при жизни художник Рембрандт; а потом его забывают почти на сто лет. Может быть, многие художники, которые не представлены сейчас на выставке, будут вспомянуты и вознесены через сто лет. Я понимаю, что есть какая-то объективная мера, по которой нельзя выставить всех, и всегда будут обиженные. Относительно своих работ – мы с Аликом представлены работами, которые по ряду причин получили наибольшую известность. Их репродуцировали и в американских журналах, и в «Огоньке», и в календарях каких-то, и открытки с них делали. Но я не уверен, что эти вещи действительно самые лучшие для нас. У нас было много работ чисто концептуальных, вообще далеких от живописи, были инсталляции. Я с удовольствием восстановил бы одну из самых первых, «Рай», которой восхищался Илья Кабаков еще до того, как он сам начал делать инсталляции.
И.В. – Г.: Когда это было?
В.К.: Конец 72-го года. Ее пришлось уничтожить после «бульдозеров» по требованию милиции. Вообще «бульдозеры» сильно изменили лицо московской художественной жизни. Это были очень важные изменения: появились новые имена, и молодые, которые пришли позже, подражали уже им. Но и участников «бульдозеров» я здесь тоже почти не вижу. Кто еще, кроме нас? Рабина, по-моему, нет на этой выставке, да? А ведь судьба участников «бульдозерной выставки» очень печальна. Эльская Надя была, в сущности, убита ударом по печени. Рухин сгорел. Остальные практически все эмигрировали. Ситников умер в Нью-Йорке. Кстати, в этом году исполняется круглая дата – двадцать лет со дня «бульдозерной» выставки. Я помню, когда мы с Оскаром обсуждали по телефону Измайловскую выставку, я говорю: «Вот, разрешили, первая в истории Советского Союза бесцензурная выставка. Может быть, она станет традицией». И на следующий день председатель Горкома графиков цитирует мне мой телефонный разговор – прослушивались телефоны. Он говорит: «Не надейтесь, не будет это традицией, – глядя мне в глаза. – Еще вам и бородку оборвут». И вот сейчас в Измайлове тысячи художников выставляются – неважно, талантливых или бесталанных, продают работы иностранцам. Стало все-таки Измайлово традицией.
И.В. – Г.: Как, по-твоему, будет развиваться русское искусство сейчас, когда соц-арт уже пошел на Арбат?
В.К.: С соц-артом происходит то же самое, что произошло в свое время с русской иконой. Когда вера по официальному распоряжению была умертвлена, иконописцы ушли в Палех, стали делать палехские коробочки, декоративный ширпотреб. И, естественно, когда соцреализм и его символика утратили свою актуальность, пошел ширпотреб. Это очень похожие явления. А вообще сейчас трудно сказать. Когда придумали слово «соц-арт», мы имели в виду, конечно, себя. Сейчас это слово понимается в очень широком значении и спорить с этим невозможно. Это как с импрессионизмом: теперь смотрят на работы конца XVIII века, на Тёрнера, и находят там импрессионизм, а тогда и слова этого не было. Точно так же, задним числом, можно найти элементы соц-арта в работах, например, обэриутов: они сделали перформанс – ездили по городу, на хворостинках был прикреплен лозунг «Ваша мама – не наша мама», белыми буквами на красном фоне с восклицательным знаком, – что типично для соц-арта. Но соц-арт – это социальное искусство, оно и образовано от слияния двух терминов.
И.В. – Г.: И что же все-таки сейчас с ним будет?
В.К.: Я думаю, возможны две тенденции. Одна – это люди, которые будут ориентироваться на Запад, выставляться в западных галереях – в Америке, в Европе – и большую часть времени проводить там. А другая – возможно, появится новое поколение, а может, и часть старого, и они будут пытаться делать концептуальное православие и концептуальную православную живопись, то, что еще Глазунов пробовал. Россия – страна идеологическая, и, я думаю, они будут впадать в две крайности: или православие – и приезд Солженицына будет этому способствовать, – или, с русской крайностью, чистый, безудержный коммерциализм. Будут делать только для денег – экстремистский такой капитализм.
И.В. – Г.: А реально ты видишь уже этих новых художников, которые все это будут делать: православие, великодержавие, включая декоративный приезд Солженицына?
В.К.: Это только намечается…
И.В. – Г.: А я думаю, это очень маленькая часть политической жизни России, и на самом деле они меньше всего занимаются этими проблемами.
В.К.: Я говорю только о возможных направлениях. Та беспокойная часть художественной элиты, которая называется авангардом, – этот вечный раздражитель общественного вкуса, никогда не выражает тех тенденции, которые побеждают сегодня, они выражают тенденций, которые победят через несколько лет. Так уже было – с соц-артом или с ранним московским концептуализмом. Этим занимались единицы за десять лет до того, как это стало массовым явлением. Я просто предсказываю – может, я и ошибаюсь, не знаю, – что могут появиться единицы молодых художников, которые будут искать соединения религии и концептуального искусства на русском материале. То же – в рамках традиционной живописи. Поиск содержания, духовного содержания, он был типичен для России всегда. Этим будет заниматься маленькая часть авангардной элиты, но именно та часть, которую потом и будут вспоминать, когда это станет массовым.
И.В. – Г.: Мне кажется, что актуальность Солженицына в новой России очень далека от той, что была когда-то. Более того, его причастность к политике может окончательно лишить Солженицына ореола необыкновенности. Как бы там ни было, но ты смотришь со стороны. Кроме того, тема Солженицына в русском концептуальном искусстве уже давно выработана, она кончилась лет десять назад.
В.К.: Когда я употребил слово «Солженицын», я отнюдь не сказал, что эти течения будут под его влиянием, я говорил о некоей модификации его устремлений. То, что он сейчас возвращается, говорит о том, что появляются физически репрезентативные центры этих идей, которые находятся не в церкви и не в Белом доме, а в каком-то другом месте. Физически появился еще один центр, и он будет влиять, конечно.
И.В. – Г.: Сейчас наиболее серьезная музейная работа, связанная с изучением русского искусства, происходит в Европе, это совершенно очевидно. Что происходит в Америке в этом плане? Отражается ли это на вас, художниках?
В.К.: В Америке во многих университетах есть кафедры славистики.
И.В. – Г.: Ну, это академический уровень, это всегда было. Но вот музеи… Если бывают выставки Первого авангарда как части культуры, может быть, уже даже не русской, то Вторым авангардом на музейном уровне там никто не занимается. Так, изредка что-то покупают.
В.К.: Я не сказал бы. Я помню выставки русского авангарда, очень ранние, когда в Европе их еще не делали, – в музее Гуггенхайма, например; потом была выставка коллекции Костаки. Это Первый авангард, но были и выставки Второго авангарда, чуть ли не в 76 – 78-м году. Правда, все это было не в центральных музеях; но в Америке в центральных музеях не было и выставок современного итальянского искусства, и немецкого, и шведского… Я не думаю, что в Америке признают такой этнический подход, когда речь идет об очень близком периоде. Америка живет своей, очень активной художественной жизнью, и если говорить о количестве галерей, об интенсивности работы, даже об обороте рынка, то он продолжает оставаться в Нью-Йорке. А что касается настоящего интереса к русскому искусству, то, наверное, в Европе он действительно был сильнее, особенно до вывода войск из Восточной Европы, потому что сосед был в двух шагах, просто на затылке чувствовали дыхание зверя с атомной бомбой. Америка все-таки ощущала себя в большей безопасности, а для Германии это была проблема жизни и смерти – изучить Россию во всех тонкостях, в том числе и ее искусство. Может быть, одна из причин в этом?
«Зеркало» № 115, 1994 г.Илья Кабаков: «…Что-то вроде пространства Левитана…»
Ирина Врубель-Голубкина: Есть несколько тем, о которых хотелось бы поговорить, но главная – это твоя инсталляция «Квартира Николая Викторовича». Расскажи о ней – о замысле и о том, как он реализовался.
Илья Кабаков: Как всегда, задумываешь одно, а оно переползает в другое. Интересно потом вспомнить, что имелось в виду. Я ведь заранее не видел помещения, была просто идея, которая зависит от того, что ты делал раньше. Идея была – ностальгическое воспоминание о прекрасной стране, о Родине, которая теперь так далеко, что опять превратилась в рай. Запад, который был раем, теперь стал реальностью, но еще не потерял краски рая. Замысел был в том, чтобы в достаточно темном помещении, в бытовом помещении квартиры, построить ситуацию, при которой возникнет сияющий русский пейзаж, и чтобы публика, посетители, увидели в этом пейзаже то, что хотел сказать автор: ту русскую, прекрасную, зеленую равнину, что-то очень русское, ностальгическое, вроде пространства Левитана, что-то скромное, тихое, милое и сияющее. И зритель сидел бы перед этим, как перед особым концертом; чтобы сбоку играла бы где-то музыка; картина и музыка – и человек погружался бы в такой неподвижный театр. Сияло бы вечным светом прошлое в прекрасном далеке… Идеальная русская картина. Вот это основное – сидение перед картиной, как в консерватории.
И.В. – Г.: То есть картина как детство, как воспоминание?
И.К.: Ну, да. Но все получилось совершенно по-другому. Дело в том, что в позиции, когда расставлены ряды стульев, сидят люди и перед ними стол, на котором что-то стоит, это все будет иметь бытовой вид некоторых похорон, и я именно это и предполагал. Как будто при отпевании, люди сидят перед гробом, погруженные в воспоминания, только, вместо гроба, стоит вот эта картина. Всегда, когда я делаю инсталляцию, есть желание сделать что-то большее, улететь в более широкие неопределенные сферы. Но параллельно я хочу, чтобы это было замкнуто на бытовой, сюжетной и абсолютно банальной ситуации, чтобы слой банальности и драматизма как бы сходились в одной точке и читались бы параллельно – и та и другая. Когда я стал реализовывать эту программу, поставил все так, как я это видел в своем воображении – стулья, картину, – я увидел, что это не работает совершенно. Это ситуация тотальных инсталляций, потому что реальное пространство, в котором человек оказывается, совершенно по-другому все перестраивает. То, что я нарисовал, хорошо в эскизе или в объяснении, а в трехмерном пространстве не получается. Это страшный удар и шок, когда не получается то, что ты хотел, но это всегда бывает. По ходу дела началась перестройка плана. Это было долго, дней пять, может быть, и с каждым днем это перерастало в какой-то новый вариант. В результате получилось следующее: картина, как ее ни перемещай, – это центральная точка, и она остается сама собой. Если начать ее крутить, тогда падает вообще все здание, вся постройка. Я действительно пробовал сдвигать ярко освещенную картину по оси: вбок, вправо – ничего не выходило. Получаться начало с того момента, когда я повернул стулья по диагонали, так, чтобы люди, которые сидят на стульях, смотрели бы не на картину, а на кровать мертвого человека – справа я поставил кровать мертвого человека. И они как бы действительно на похоронах и смотрят на него, погружены в воспоминания о нем; перед ними как бы молитва в сторону ушедшего. Но тогда не понятно, зачем картина. Потому что картина сбоку от оси смотрящих людей оказывается слишком притянутой, становится искусственной фантазией и к сюжету отношения не имеет. Получается, что, когда ты упираешь на мистику, теряется банальный сюжет, – не понятно, почему здесь вообще люди сидят. А когда поворачиваешь в сторону похорон, то есть банального сюжета, то не понятно, почему сияет картина. Оказалось так: во фронт перед зрителем картина, справа, перпендикулярно, кровать. Ряды стульев поставлены таким образом, что зрители смотрят прямо в угол. А между углом этим и зрителем лег коврик. Коврик оказался тем самым медиатором, который соединяет в единое целое оба эти компонента. Получается следующее – тут может быть два прочтения: первое, что сейчас придет тот самый, кто расскажет нам – как это называется, вот это еврейское, кто отпевает, кадиш читает; забыл – короче, он придет и расскажет об этом человеке. Но другой момент – он придет и расскажет, что этот человек, на которого вы смотрите, будет в том раю, который на этой картине. То есть та пустота, которая образовалась этим ковриком, дает, как мне кажется, возможность связи и на бытовом, и на метафизическом уровне. Мало того, сам коврик – пустой – имеет массу значений. Это та пустота, которая ожидается, и, может быть, это тот пророк, который улетает вверх; появляется вертикаль. Когда что-то на полу лежит пустое, появляется вертикаль, и очень сильная. А самое главное, появляется неопределенное и вязкое ожидание, которое так важно в такой инсталляции. Инсталляция – это не что-то, на что можно просто посмотреть; нужно любой ценой задержать зрителя, чтобы он остановился внутренне и чтобы он долго там сидел.
И.В. – Г.: Это создание новой ситуации или это проверка того, что ты уже сделал когда-то?
И.К.: У меня вообще всегда новое. Я ничего не проверяю, я не помню своих старых работ.
И.В. – Г.: Речь не о работах, а о ситуациях, например: картина и покойник. Это имеет отношение к искусству или к жизни?
И.К.: Я думаю, как должна быть связь рационального и банального, так же имеет место связь между какими-то проблемами художественными, которые меня как-то цепляют, и реальной жизненной ситуацией, которая все время провоцирует что-то делать.
В данном случае интерес к картине и установка ее имеет давнюю историю: когда-то я совсем отказался от картины как умершего и погибшего вида и жанра искусства и занимался только инсталляцией как искусством, пришедшим на смену. То есть картина вообще как бы выброшена, и теперь будет только инсталляция. Интересно другое: постепенно, совершенно не знаю, по какой причине, я стал включать в эти инсталляции картины. Постепенно это стало очень большим компонентом. Получилась интересная ситуация, про которую можно так сказать: на сегодняшний день произошло новое возрождение картины, новый ренессанс – для меня, конечно, для многих нет даже этой проблемы; но ее новое рождение состоялось в рамках инсталляции. Картина будет существовать, и она должна получить новые квартиры. Ее теперешние квартиры – музеи, с этими висящими на стенах квадратами без рам, для меня это бесперспективно. Я не верю в картину, одиноко и автономно висящую на стене. Она утратила свое иррациональное, стала слишком банальной, стала просто предметом. Картина потеряла то, что в ней было первоначально, – открытие другого мира. Она перестала быть тем существом, которым была когда-то, во время своего рождения, а именно: окном в мир, прекрасный мир. Она же имеет свое происхождение в иконе. Икона – это другой, райский мир, со своими обитателями – святыми и т. д. Картина до рождения, когда она была иконой – у Дуччо, Чимабуэ и т. д., – была окном. Сегодняшняя картина – это просто вещь, мадам, с которой можно делать все что угодно: резать, красить, рвать – это предмет среди предметов. И возрождение картины в качестве первоначального райского окна – это меня привлекает.
И.В. – Г.: Искусство всегда было визуальным. А сейчас, в самых разных ситуациях, когда появляются концептуальные компоненты, момент визуальности опускается.
И.К.: Да, опускается. Имеется компонент воспоминаний, рефлексии, комментариев, контекста, то есть все, что приходит к нам из памяти, как оболочка, как обертоны. Но обертоны по поводу чего? По поводу все-таки визуального предмета. Идея состоит в том, что некоторый визуальный предмет должен обладать этими оболочками, которые могут быть не визуальны, а исходить из литературных, театральных, музыкальных – каких угодно сфер.
И.В. – Г.: Вот ты сказал, что картина – это окно в прошлое. Вообще вся ситуация, и даже мебель, – это из твоего прошлого. То есть ты создаешь ситуацию, достаточно ностальгическую, относящуюся к уже не существующему, советскому твоему прошлому. Не кажется ли тебе, что сейчас уже возникла оторванность от того мира, и не только у нас, уехавших, – для России это тоже становится далеким. Когда окончательно уйдет вся мифология того мира, он будет уже не понятен – и кому вообще это будет нужно?
И.К.: Здесь нет особой проблемы. Любой автор, не только художник, но и писатель, музыкант, работает не столько с реальным материалом – то есть он работает, конечно, со всякими подробностями, которые его окружали в том, что называется жизнью, но на самом деле он имеет дело с мифами, метафорами, фантазиями по поводу прошлого. Можно сказать, что воспоминания стимулируют появление метафоры. Мечтания о прошлом могут быть метафорой будущего. Мы знаем огромное количество проектов, от Пиранези до Дворца Советов, и это есть фантазии о будущем. Но и о прошлом с такой же силой. Действительность в данном случае является какой-то оболочкой. На самом деле художник ищет образ. Это старое слово, но сейчас это образ не действительности, а какой-то поэтической или визуальной метафоры. Например, прошлое – это не значит, что я хочу показать жизнь в прошлом: я никакой жизни и в прошлом не видел, и сегодня не вижу, и завтра не буду видеть. Но есть ощущение, что в прошлом был какой-то образ, который сияет некими архетипическими, сказочными сгустками. Это прежде всего Рай и прекрасное состояние, которое опрокидывается в другое время вообще. Или в очень далекое прошлое, или в очень далекое будущее – но только не в настоящее. Во всяком случае ты начинаешь работать, когда ты ищешь и ловишь эту метафору. Включение картины, например, с видением далекого прошлого, с давними воспоминаниями пейзажа, то есть той тишины, которая у меня связана с валянием на траве летним днем в лесу, одному, – вот, что это есть.
И.В. – Г.: А почему ты при этом пользуешься бытовыми элементами?
И.К.: Потому что я чувствую, что вся жизнь человека погружена в быт. Это мое глубокое убеждение. Второе убеждение состоит в том, что быт не является чем-то… жизненным, а это определенный род чего-то иррационального типа дурного сна. Мы окружены дурным сном, и сон этот – огромное количество наших поступков, быт, какая-то автоматичность состояния. Жизнь воспринимается не как просто приятное, а это такой длительный морок, состоящий из обязательств, вещей, поступков, правил, как нужно мыться и т. д. Для меня все это не автоматическая вещь, а мучительный, дурной сон. Поэтому фантазия состоит в том, чтобы как бы не жить, не быть окруженным бытом. Но быт окружает тебя. Поэтому ты все время в работах восстанавливаешь это мучительное состояние, то, во что ты погружен: шкафы, пол, грязь, темнота, вонь и т. д.; и одновременно создаешь ситуацию, при которой ты исчезаешь из этого быта, но исчезаешь при помощи фантазии. Вот, собственно, это и есть основная дилемма. Точно то же самое, что я чувствовал в Советском Союзе.
И.В. – Г.: То есть цель инсталляции – показать, что эстетика как бы не играет роли, что это момент, в общем, несущественный.
И.К.: Ну, почему. Во-первых, я убежден, что все, что не было эстетикой, становится ею. Раз ты этим занимаешься, существуешь в зоне так называемой художественной сферы, это неизбежно рано или поздно станет эстетикой. Так что заботиться о ней не нужно, оно обречено быть эстетичным. Кроме того, мы знаем по истории искусств, что любая гадость, включая дерьмо, которое где-то воспроизводится, где-то устанавливается, висит, – это уже эстетический момент. Это очень сильный сегодня, захватывающий момент истории искусства. Это поле, пространство истории искусства, настолько вязкое, сильное и активное, что оно затаскивает в себя любую, что называется, бытовую или постороннюю изобразительному искусству вещь, которая сразу становится эстетикой современного пластического искусства.
И.В. – Г.: Скажи, за все это время отдаления от России – уже и России нет… – у тебя не возникает вопрос о принадлежности?
И.К.: Не было принадлежности, и когда мы жили где-то. Некоторые иллюзии, фантазии… Мы не были реальны. Я не помню, чтобы я жил реально в той реальности, которая называлась Советским Союзом. Мы жили маленьким кругом людей, мы фантазировали, и мы рассказывали эти фантазии друг другу. Это был какой-то романтический сон.
И.В. – Г.: Но ты пользуешься какими-то номинальными элементами своей прошлой жизни, и это прочитывается в определенном контексте, они всегда имеют отношение к твоей истории, которая существует независимо от твоего желания.
И.К.: Конечно, это совершенно точный, определенный набор тех нервических, болезненных, связанных со страхом, паникой, отчаянием состояний и вещей, которые тебя окружали. Это шестидесятые годы, московская бедная жизнь, атмосфера того времени. Я отдаю себе в этом отчет, но я об этом не думаю никаким образом. Правда, когда я первые годы здесь работал, у меня было страшное желание рассказать как бы другому пространству, то есть другим зрителям, чужим зрителям, о наших делах, о нашем мире, о том, чего они еще не знают, – то есть такой момент повествовательно-географический. Сказать о тех краях, в которых они еще не были. Сейчас это немножко уменьшилось. Вообще, все эти проблемы – это не одна какая-то полоса, это такой вязкий куст, что ли. Это, может быть, имеет один корень, но ветки разные. Одна из них до сих пор нервирует – это та советская пропагандистская атака, которая… та атмосфера, которая всех нас держала за хвост и за душу. Другая – это тот бытовой мир, который обречен был жить под этим советским колпаком.
И.В. – Г.: То есть все-таки советский?
И.К.: Советский, конечно. Вне сомнения. Я свой мир знаю как советский, а совсем не как русский или там еврейский. Советский. Я советский художник.
И.В. – Г.: А вечный еврейский вопрос – чуждость?
И.К.: Я не думаю, что это связано с еврейством. Я думаю, что это свойственно нормальному человеку, и советскому тоже. Это особый психический тип – нежелание жить на этом свете, вообще весь мир непонятен, опасен, противен и не имеет никаких приятных сторон. Это не является еврейским, это чувство неудачного рождения на этот свет. Огромное количество людей находятся в этом состоянии. Не очень ты веришь во все это – на кой хрен ты здесь появился? Тебя выбросили, кто-то выбросил сюда, но ты не отвечаешь за этого человека, и ты не совсем понимаешь, зачем ты здесь. Хотя мне уже шестьдесят с чем-то лет, я тоже все еще не понимаю, зачем я здесь нахожусь. Я не думаю, что это еврейское.
И.В. – Г.: Ты родился в 1933 году в Днепропетровске. Что такое Украина в смысле антисемитизма, это слишком хорошо известно. И ты считаешь, что все это не при чем?
И.К.: Я не испытывал никаких антисемитских акций по отношению к себе. Нет, я не могу связать то, что я делаю, с каким-то особым дополнительным еврейским компонентом. У меня было нормальное чувство советского существа, которое живет на ничейной земле, не известно, по какому праву разрешенной, и которое выброшено сюда без разрешения.
И.В. – Г.: Теперь давай поговорим об этой выставке – «Европа, Европа». Какое у тебя от нее впечатление – от всей выставки в целом и от нового отдела – русского искусства – в частности?
И.К.: В принципе, у меня сознание, когда я на что-нибудь смотрю, от обеденного стола до выставки, направлено позитивно. То есть, даже если на столе совсем нечего есть, я все равно найду какую-нибудь колбасу, которую можно нацепить на вилку. И я не вижу задачи объективного анализа. У меня есть свое основное занятие, остальное является потребительским. Я смотрел на многие вещи – что здесь интересного и что меня интересует. Я сразу говорю, что я не хотел бы давать какой бы то ни было характеристики этой выставке. Прежде всего у меня не было времени глубоко ее посмотреть. Посмотреть выставку – это идти одному, в достаточно пустом помещении, когда схлынет рабочий момент, когда кончится вернисаж, исчезнут все друзья, и начнется та пустота, в которой я начну соображать хоть немножко. Такого момента не было. Мы работали несколько дней, потом было огромное количество друзей, ты скорее был в социальной ситуации, чем в ситуации этой выставки. Потом был вернисаж, потом мы уехали из Бонна. Русский отдел – ты имеешь в виду классический? Классический отдел, как его ни ставь, всегда хорошо. На тарелку положи или снова подогревай – все равно всегда прекрасно. Когда я смотрел другие страны в этом контексте, то я очень страдал, что я так мало знаю по поводу того, что я вижу. У меня такое свойство, что я должен сначала намотать какой-то исторический, художественный контекст, историю, тогда я могу смотреть. Я мало знаю о тех картинах и тех художниках, которые здесь есть, многие фамилии для меня новы, поэтому я боюсь – не другому, а самому себе – сказать, какая у меня реакция.
И.В. – Г.: Но ты увидел здесь какой-то особый язык, объединяющий Восточную и Западную Европу, общие принципы? Тебе лично она что-то дала? Ты видишь возможность включения, вторжения, что-то дополнительное, что тебя могло бы заинтересовать?
И.К.: В этом ракурсе у меня вообще никаких мыслей нет. Потому что у меня, видимо, очень обуженный взгляд на какие-то вещи, я могу видеть только под каким-то определенным углом. Такой широкий взгляд – что такое искусство Восточной Европы, как оно относится к западному – для меня это очень трудно. Есть какое-то наблюдение, что все очень эмоционально, человечно, но, я думаю, что-то подобное есть и везде. Увы, традиционный расклад – это ужас жизни в Советском Союзе, изолированность жалкой кучки людей, меня самого в этом мире уничтоженной культуры и безумная жажда попасть в мир культуры существующей. Миром культуры, конечно, были западная история искусств и Америка. И у меня не было разочарования – я уже несколько лет работаю здесь, и я встретил примерно то, что ожидал. Ту активность, ту настоящую, живую историю и т. д. Какое отношение имеет этот массив, так называемый социалистический лагерь, к персональному, личному конфликту между разрушенной советской культурой и западной, неразрушенной, я не знаю просто. Эта выставка не открыла мне глаза, не дала какое-то новое представление в этом смысле. Я видел отличные картины, но я ничего не могу сказать в общем.
И.В. – Г.: Сейчас ты оторвался от принадлежности к определенному кругу и делаешь то, что ты хочешь, то есть существуешь нормальной жизнью художника, который занимается искусством или проблемами, с ним связанными. Но ты – классик русского искусства, и не просто классик, но человек, повлиявший на русское искусство, – это безусловно. И… ты видишь себя в этом контексте?
И.К.: Ну, конечно, нет. Абсолютно нет. Меня коробит, когда ты это говоришь.
И.В. – Г.: Но это правда.
И.К.: Во всяком случае мне такое построение совершенно недоступно. Я принадлежу к небольшой группе художников, которые разрабатывали, как нам кажется, очень интересные личные проблемы, и это продолжается до сегодняшнего дня.
И.В. – Г.: То есть ты по-прежнему ощущаешь себя в контексте русского искусства?
И.К.: Понимаешь… допустим, у тебя есть какие-то прыщи или что-то такое… К этому нужно относиться как к неизбежности, но не как к особой «принадлежности». Гордости, ответственности, еще других обязанностей, исторического чутья, надежды, что это на что-то повлияет, то есть того, что всегда приписывалось так называемым деятелям культуры и, наверное, есть у многих, кто видит себя ответственными лицами – по воспитательному значению, по описательному значению, по изменению плохого на хорошее, – так вот, у меня этого нет, и я себя таким совершенно не вижу. В этом смысле мы все абсолютно безответственные существа. Ответственность состоит в том, чтобы довольно точно высказать, артикулировать какие-то ощущения и рефлексии, которые были в нашем кругу, и у каждого они возникли под впечатлением этой жизни, которой мы жили. Существует большая сплоченность внутреннего художественного круга. Но как это соприкасается с ответственностью национальной культуры – никаких внутренних эмоций и представлений у меня по этому случаю нет. Это частное дело, я так воспринимаю.
И.В. – Г.: Частное дело твое или…
И.К.: Нет, этой группы лиц. Это частное дело. Какие это имеет флюиды, развитие, влияние, понятия не имею. Есть какое-то внутреннее желание рассказать другим, причем это значит – не вообще кому-то, а просто нескольким приятелям. Я цитирую практически то, что говорит каждый из этого кружка. Так же говорит Лева Рубинштейн. Не потому, что это Лева, а потому, что это внутреннее нахождение, случайная встреча однотипных сознаний в этом большом городе и в этом маленьком кругу, который встречался на протяжении двадцати лет.
И.В. – Г.: Все так, но это одна сторона. А составной частью этого месива, все-таки, хочешь ты или не хочешь, является принадлежность к своему кругу.
И.К.: Ну, наверное, я совершенно согласен: нельзя передвинуть стакан, чтобы в этот момент что-то не произошло на самом столе. Это понятно. Но… субъективно люди делятся на две категории. Одни осознают это движение взятого со стола стакана, понимают его как огромное, ощущают свою ответственность за большие поступки и пытаются их каким-то образом спроектировать, чтобы они с их точки зрения правильно или хотя бы корректно влияли на большое, как им кажется, крупное явление. Есть исторические ситуации, когда человек ввергнут в это состояние, ему кажется, что он поворачивает рычаг истории. Мы знаем целые пласты художников, которые не просто чувствовали, что они рисуют на бумаге, а считали, что этим горы сдвигаются и будущее приближается. Таковым было, возможно, самочувствие людей в XIX веке. Но я лично принадлежу к другому типу: я варю свой суп, а какие последствия этого супа, мне не известно, вернее, я не веду просчитывания этих последствий. Я сижу в своем автомобиле и еду.
И.В. – Г.: Ты хочешь сказать, что живешь практически растительной жизнью: как все происходит, так и происходит… такая духовно-растительная жизнь?
И.К.: Нет, это нет. Никакой растительной жизни нет. И никакой духовной жизнью я тоже не живу. Ни той ни другой. Мои интересы лежат только в сфере искусства. Только. В сфере фантазии. Но это никакая не духовная жизнь, по-моему, это другое: это личное занятие.
И.В. – Г.: А что ты думаешь о будущем русского искусства? Утверждают, что сейчас – расцвет соц-арта, при всем том, что сейчас произошло, и при том; что соц-арт уже прочитан на низких уровнях, что он уже выставляется на Арбате; и многие считают, что будущее, путь развития русского искусства – это все-таки соц-арт.
И.К.: Все может быть. Я ничего не могу сказать. И это мнение прекрасно, и другие прекрасные, и я с ними согласен. У меня есть своя нора, что ли. Все остальные норы такие же замечательные и тоже похожи на такую же нору.
«Зеркало» № 115, 1994 г.Михаил Гробман: «…Важный опыт нового отбора…»
Беседа с Мариной Генкиной
Марина Генкина: В этих интервью, касающихся выставки «Европа, Европа», есть несколько проблем, о которых говорил каждый из участников, и иногда весьма неожиданно. Мы услышали мнение людей, один из которых живет теперь в Европе, второй – в Америке, а третий – в России, и при этом все они в той или иной степени все равно связаны с русским искусством. И мне захотелось поговорить об этих же проблемах с тобой, израильско-русским художником, участником той же выставки. Прежде всего: как, по-твоему, вообще могла возникнуть идея такой выставки и в чем она состоит?
Михаил Гробман: Железный занавес рухнул. Раньше там, за этим занавесом, существовала какая-то экзотическая страна, где все было не понятно и все вперемешку: матрешки, Малевич, клюква, растущая большими, крупными рощами; какие-то абстракционисты, которые еще и боролись с советской властью; ну, медведи, конечно, стаи волков; русский боярин, изобретатель первого унитаза и т. д. И вдруг все это закончилось. Правда, по пути, во время перестройки, был такой замечательный миг, когда экзотика осталась, а границы открылись. И все хлынули туда, потому что обнаружили, что можно за копейки купить замечательное искусство. Раньше все ездили в Африку покупать подделки под Бенин, чернокожих таких матрешек, а теперь бросились сюда, в Россию. Было очень дешево, мило и иногда даже напоминало европейское искусство. А потом кончилось и это, вся эта лафа и матрешкина эстетика; и тогда выяснилось, что в России живут совершенно нормальные люди, которые делают что-то серьезное, точно так же, как во времена Малевича, или Бурлюков и Ларионова, или Татлина. И тогда возник уже более или менее серьезный вопрос: коль скоро там, в 20-е годы, было такое великолепное искусство, то что-то ведь должно было происходить и дальше? И оказалось, что и после 20-х – 30-х годов было искусство – 60-е, 70-е; был небольшой перерывчик на войну, на сталинизм – так и в Европе был перерывчик на гитлеризм… И таким образом появилась нормальная человеческая мысль, что надо все это внимательно просмотреть, выбрать все то, что имеет отношение к общеевропейскому искусству, и оставить в покое региональное – пусть русские этим занимаются, поляки, чехи, каждый своим. Многие художники Восточной Европы, как тот же Малевич, уже давно являются частью европейского искусства; а сейчас нужно добрать остальных. Это очень важный опыт нового отбора; поэтому выставка такая огромная, и ошибки есть, – но процесс начался.
М. Ген.: Мнение остальных участников интервью расходится с твоим. И Комар, и Бакштейн говорят о том, что Восточная Европа представлена там как гетто, и в этом они видят основной недостаток выставки. Они считают ведущей идеей – отделенность. Ты же утверждаешь, что превалирует идея включения восточноевропейского искусства в общий контекст, то есть идея объединения.
М.Г.: Не надо забывать, что Комар и Меламид – наши лучшие, передовые и самые замечательные представители соц-арта, и они весь свой хлеб построили на этой обособленности, для них эта экзотика существенна; естественно, что Виталик так понимает и так видит идею выставки. Но у меня с ними расхождения более глубокие: они заявляют, что соц-арт находится на подъеме, а я вижу, что он, наоборот, закончился. Да и пора: соц-арт существовал десять лет, это официально, так сказать, а на самом деле – гораздо дольше. В наших шестидесятых, то есть задолго до того, как возник соц-арт и Комар и Меламид стали его ведущими художниками, соц-арт уже существовал в спорадических проявлениях. Был Рабин, другие; на этой же выставке есть моя работа 64-го года – «Генералиссимус»; а если покопаться, то, может быть, выяснится, что мой Сталин, которым я чрезвычайно горжусь и хвастаюсь, и вообще не самый первый. Тогда возникало новое видение советской мифологии, и в середине семидесятых молодые художники уже начали плотно разрабатывать его. А сейчас… Россия другая, все другое. Конечно, можно обращаться к истории, построить всю свою философию на эпохе Петра, предположим; мирискусники так и сделали. И сегодня мы видим, что получилось: замечательное искусство, но в основном региональное. Так что можно, конечно, заниматься соц-артом и дальше, но тогда все эти художники превратятся в художников региональных.
М. Ген.: Но Комар говорит о двух направлениях соц-арта, который будет понят, да и сейчас уже понимается, более широко: о коммерческом и о концептуальном.
М.Г.: Соц-арт уже давным-давно превратился в коммерческое искусство, им торгуют по дешевке все кому не лень. А что касается поворота к православию, народности, самодержавию и так далее… Опять я вынужден обратиться к самому себе – к кому ж мне еще обращаться. Вот у меня есть такая замечательная большая картина, называется «Эдипов комплекс христианства».
М. Ген.: Я не сказала бы, что это очень православная картина…
М.Г.: Конечно, нет, не православная, да и сам я совсем не славянин; но она связана с обработкой этой темы – христианство, христианский антисемитизм и т. д. И я давно над этим работаю, у меня есть много всяких вариантов.
М. Ген.: Ты живешь здесь, а Комар говорит о российских реалиях.
М.Г.: Российские реалии сегодня перестали быть российскими, потому что все, что более или менее серьезно сегодня делается в России – как в свое время в Америке, во Франции, в любой нормальной стране, – тут же превращается во всеобщее. Надо понять: нельзя продолжать жить так, как будто Россия все еще за «железным занавесом». Все, кончилось. Это раньше Россию нельзя было объять умом… и всеми другими органами чувств. А теперь ее уже можно очень хорошо понять: она живет примитивной жизнью, никакой мистики, все стало на свои места. Это опять-таки, как в Африке: казалось, мистика, людоеды, а приехали исследователи, Ливингстон, например, а там все нормально, нормальные люди, только голые. То же самое в России: упал занавес, и оказалось, что все люди за ним – нормальные, только голые.
М. Ген.: Вот и Бакштейн говорит, что они на семинаре в Вене вдруг обнаружили, что они все – нормальные люди; только он смотрит на это под совсем другим, чем у тебя, углом зрения. В его рассказе звучит восторг российского искусствоведа по поводу того, что Россия, наконец, займет подобающее ей место среди восточноевропейских, славянских стран, а центр у них будет в Вене. Меня, честно говоря, ошарашила эта радостная готовность русского искусства уйти в абсолютную провинцию, при этом с центром все равно на Западе, только на Западе, тоже провинциальном, не в Кёльне, не в Нью-Йорке. Что ты об этом думаешь?
М.Г.: Бакштейн – замечательный искусствовед; к сожалению, мы с ним не успели поговорить на эту тему, а она очень важная; не сомневаюсь, если бы мы с ним ее обсудили, то нашли бы какие-то точки соприкосновения и понимания. Так что я не знаю точно, что имел в виду Бакштейн, почему он так понимает и видит. Я же отсюда, со своей стороны, могу сказать: Россия сейчас переживает очень тяжелые времена; вся ее оригинальность, которая была в шестидесятые – восьмидесятые годы, закончилась; и вместе с этим закончилась оригинальность русского искусства. Тогда, в шестидесятые – восьмидесятые, российское искусство, как и сейчас, тоже стремилось к интеграции; но оно было независимым, и мы обращались к мощным культурным конгломератам. А сейчас ситуация, абсолютно противоположная, и в жизни, и в искусстве: все русские люди хотят жить на европейский лад, иметь все блага Запада, но это им очень трудно, потому что они многого не знают, не понимают и от многого не хотят отказаться. Что происходит в искусстве? Все «старички», все активные, «классики», уехали на Запад – неважно, эмигрировали они окончательно или живут на два дома. А те, что остались, уже не представляют из себя критической массы. И новое поколение советских художников – они все-таки еще советские, хотя страна уже так не называется, – погрузилось в низкопоклонство перед Западом. Ведь в те времена, когда официальные советские круги кричали об этом низкопоклонстве, тогда его не было; а когда перестали об этом говорить, оно появилось. В искусстве России прожевывают сегодня достижения Запада двадцати-тридцатилетней давности; и я говорю не о китчистах, а о думающих, стремящихся, о тех, кто действительно хочет быть современным художником. Происходят какие-то невероятно «смелые» русские перформансы, шокирующие публику инсталляции; а все это на Западе уже давным-давно пройденный путь, сегодня только мертвый этим не занимается. Россия в искусстве на сегодняшний день – это огромный первый класс, который занимается изучением азбуки. Это парадоксально, так не должно было быть, потому что колоссальный путь пройден в шестидесятые – восьмидесятые и уже было признание со стороны этого самого Запада, – и вдруг такой срыв. Я не охаиваю огульно – наоборот, я предполагаю, что в такой крупной творческой массе в городах России и, в первую очередь в Москве, естественно, зреют какие-то новые силы и рано или поздно возникнет новая ситуация; свято место пусто не бывает – должно там что-то произойти, и произойдет, и кончится эта туземная психология – смотрение снизу вверх.
М. Ген.: То есть ты считаешь, что причины сегодняшнего кризиса русского искусства прежде всего психологические?
М.Г.: Психологические причины играют очень большую роль, это безусловно. Но, плюс к этому, существует еще одна вещь, объективная: деньги-то все на самом деле на Западе, а искусство страшно любит деньги – без них выставку не сделать, каталога не издать. Все эти проекты, особенно музейные, страшно дорогостоящее удовольствие, каждый проект съедает сотни тысяч долларов, и их надо иметь, иначе все это – самодеятельность. Вообще это отдельная проблема, и очень серьезная на сегодняшний день: власть денег над искусством сегодня невероятная, до абсурда. Раньше какой-нибудь Ван Гог еще мог гнить где-нибудь в провинции и надеяться, что рано или поздно его оценят: это могло не произойти, но могло и произойти. Сегодня – не произойдет, однозначно, пока художник не будет поставлен на коммерческую карту, с галереями, продажами и всем остальным. Мы живем во времена глубочайшего кризиса отношений между искусством и обществом, между искусством и коммерцией. К чему он приведет, не известно; я надеюсь, к тому, что искусство опять получит большую автономность и деньги почувствуют, что они переборщили. Конечно, их будут продолжать вкладывать, без этого искусство никогда не могло существовать, но, может быть, художники и историки искусства опять станут большими диктаторами, нежели продавцы. Но это общие рассуждения: а российская ситуация сегодня такова, что у искусства денег вообще нет. Насколько мне известно, в московском истеблишменте, и художественном, и коммерческом, буквально единицы поддерживают серьезное молодое русское искусство. Отсюда, от отсутствия поддержки, и возникают все эти идеи обособленности и поисков нового центра: сегодня работа молодого поколения действительно может быть более удобна в каком-то провинциальном месте, каковым является Вена или, скажем, Турция – из чисто материальных соображений. Но на самом деле никакой обособленности в России больше нет и быть не может, это иллюзии. Но Россия может стать опять таковой, при одном условии: если она будет провинциальной. Вот тогда будет и самобытность, и якобы собственное искусство: только оно тогда будет нужно всем, как искусство Северной Кореи, скажем. Но я уверен, что этого не произойдет, я достаточно оптимистично смотрю на Россию.
М. Ген.: Материальные соображения, конечно, весьма существенны, но, если все-таки от них отвлечься, что ты думаешь об этой идее новой восточноевропейской культурной политики с центром в Вене?
М.Г.: У Вены очень мало шансов. Это совершенно замечательное место – очень чистое, милое, симпатичное, культурное, и там действительно еще ощущается окаменевшее дыхание бывшей империи; замечательное место. Там может открыться музей, где будут делаться серьезные международные выставки; но центром искусства ей не стать никогда. Тому, кто хочет заняться таким неблагодарным делом, как исторический прогноз относительно искусства, я посоветовал бы вспомнить, где находят нефть: там, где под ногами чавкает, запах неприятный, слои ненормальные, – не в каждом таком месте, но только в таком. А где возникает культурный центр? Только в одном месте: там, где многие различные культуры активно сталкиваются друг с другом, где возникают трения, противоречия и каждая культура, чтобы выжить, вынуждена гораздо более активно функционировать, вынуждена усиливаться; а в результате появляется новая, универсальная культура. Как возник Париж? Французы, что ли, сделали его великим городом искусства XX века? Ничего подобного. В Париж приехало огромное количество самых разных людей, носителей самых разных культур и психологии, и все это привело к этому колоссальному атомному взрыву в искусстве.
М. Ген.: Ну, положим, Париж и в XIX веке был уже Парижем, потому туда и ехали.
М.Г.: И те же причины были и в XIX, и в XVIII. А Москва? То же самое. Чтобы географический центр стал и культурным центром, туда должны ехать огромные массы народа, перекатываться через него, останавливаться там. На сегодняшний день это Америка, Германия – особенно Рурский бассейн с Кёльном во главе – и Израиль.
М. Ген.: Прости, но при всей нашей любви к Израилю его все-таки трудно назвать центром мирового искусства или даже одним из центров.
М.Г.: Сегодня – да, но в Израиле этот процесс только начался: не надо забывать, что еще сорок с небольшим лет назад Израиль был страной с несколькими городами и несколькими оазисами. То, что произошло с Израилем за последние несколько десятилетий, – это невероятный взрыв, и экономический, и культурный. И, кстати, это очень хороший пример: несмотря на то, что Израиль находился в состоянии постоянной войны, жил, как на острове, оторванный от всего, на сегодняшний день он, по всем стандартам, в том числе и по стандартам искусства, является нормальным европейским государством, а израильское искусство – интегральной частью общемирового процесса; израильские художники постоянно участвуют в выставках в Европе и в Америке. Конечно, от Германии мы намного отстали; но вот Голландию, к примеру, перегнали; а что, голландское искусство в связи с тем, что оно не такое передовое, перестало быть частью европейского? Вообще никто не задумывается о праве Голландии на место в Европе; и с Израилем дело обстоит так же. А то, что у нас претензии к самим себе, что нас этот уровень не устраивает, – это другой вопрос; но скачок, который был сделан за такое короткое время, подтверждает мою мысль, потому что он стал возможным только благодаря этому непрекращающемуся перемешиванию культур.
М. Ген.: Вернемся все-таки в Восточную Европу. Тебе кажется возможным потенциальный уход России в этот регион и ее единение с остальными славянскими странами? Именно уход, не возвращение – Россия к этому региону никогда не принадлежала.
М.Г.: Прежде всего – о каком регионе речь? Художники Восточной Европы чрезвычайно отрицательно смотрят на факт своей принадлежности вместе с русскими к восточному региону. Я знаю, что говорю, я это проверял – в беседах, разговорах, дискуссиях, статьях. Мечта их жизни – прислониться как можно ближе к мощной спине Европы. Ни о каком панславизме никто нигде не помышляет, кстати, панславизм – вообще русская выдумка, славянские народы ее никогда не поддерживали. И сейчас это не только не меняется, а как раз наоборот: уже целый ряд художников, в основном польских и чешских, просто являются европейскими художниками, и о них так и говорят. Если рассказать про идею объединения в рамках славянских стран художникам Польши, Чехословакии или Болгарии, они чрезвычайно удивятся: без них их поженили. При этом они очень хорошо относятся к русским художникам, но они не представляют себе, что кто-то думает о них в этом плане, и сами не испытывают никакого желания входить в подобное объединение. А единственный вариант, который действительно существует у России, у Москвы, – это стать центром самой себя. Россия огромна, и дальневосточный художник все равно к Москве имеет отношение, а не к Лос-Анджелесу. И если там все будет в порядке, если искусство будет развиваться, то, естественно, и для грузинского, и для армянского, и для казахского художника Москва может остаться точкой притяжения; так же, как для художника из Лос-Анджелеса или Чикаго, для которого весь мир открыт, первая точка притяжения, самая близкая – это Нью-Йорк. Так что я вижу единственный вариант для России – не мечтать о мифическом объединении со славянскими странами, которые этого совершенно не хотят, а стать культурным центром всех этих государств, которые возникли на почве развала Советского Союза; стать центром культурной империи со столицей в Москве; не политической, подчеркиваю, а культурной. И тогда… Раньше, при советской власти, культурная жизнь в русской провинции была зажата, и относительная свобода виделась в Прибалтике, в Армении, в Грузии – в очень немногих местах. Прибалтика, конечно, тяготела к Западу, но тамошние художники разбивали себе носы о «железный занавес»; а все лучшие их художники, в прошлом все авангардисты – они, что, в Баухаузе учились? В Москве. И вошли в русское искусство, и одновременно стали важным фактором местного искусства. Но даже в тот момент, когда Москва превратится в такой свободный Нью-Йорк, притягательный для всей расцветающей России и окрестных стран, даже в этом случае – а я беру самый лучший вариант – Москва никогда не сможет быть оторванной от остального мирового искусства. Там будут свои оттенки, свои особенности, как немецкое искусство отличается, скажем, от американского или итальянского, но разговор всегда будет идти общий на всех уровнях – от Нью-Йорка до Москвы. И будут возникать культурные противоречия, но они будут только подстегивать развитие искусства, и это будет, наконец, нормальная ситуация. И Россия, провинциальная сегодня, очнувшись от обломков самовластья, в итоге станет, я в этом уверен, одним из важных центров мирового искусства.
«Зеркало» № 115, 1994 г.За пределами гуманизма
Беседа с Томашем Гланцем
«Второй русский авангард», «параллельная культура» – этими довольно неопределенными словосочетаниями обозначается тот великолепный и могущественный художественный феномен, подлинное значение которого сейчас осознается все большим числом думающих и пишущих людей. Возникший приблизительно в середине 50-х годов и объединявший узкий круг искателей, второй русский авангард создал новые концепции литературы и искусства, и по сей день оплодотворяющие наиболее содержательные и дерзкие построения художественного творчества. Нельзя сказать, чтобы эти открытия – тогдашние и теперешние, находящиеся с авангардом 50 – 60-х годов в отношении прямой зависимости и преемства, – стали достоянием широкой публики, но специалистам с живым умом и вкусом к пониманию новых вещей они известны хорошо. Молодой филолог из Праги Томаш Гланц относится именно к таким людям. Редактор солидного чешского академического журнала, посвященного вопросам русской литературы, автор цикла интересных работ о русской альтернативной поэтике 50 – 90-х годов, он с удовольствием принял предложение нашего издания поговорить о центральных проблемах современной словесности. Со стороны «Зеркала» в беседе участвовали редактор журнала Ирина Врубель-Голубкина, Александр Гольдштейн, Михаил Гробман, Вадим Россман.
А. Гольдштейн: Томаш, как вы определили бы круг ваших интересов в качестве действующего слависта и издателя журнала?
Гланц: Объект своего изучения я предпочитаю называть параллельной культурой, хотя он имеет и более употребительное название – второй русский авангард. Но термин «авангард» здесь едва ли уместен, потому что в 50 – 60-е годы в литературе не было направлений, продолжавших канонический русский авангард первой трети века. Термин «параллельная культура» лишен этих нежелательных ассоциаций. А кроме того, он вообще лучше отражает суть явления, которое в самом деле было параллельным. Нонконформисты того времени не стремились противостоять официальной культуре – ни в политическом, ни в эстетическом плане. Они просто создавали принципиально другую художественную реальность, которая была внеположна эстетике официоза. Официозные структуры использовались в иных целях, становясь сырьем, материалом для оригинального конструирования.
М. Гробман: Официальная культура была взята в качестве химикалий, чтобы с их помощью создать нечто, совершенно оригинальное. Вот советская диссидентская литература (Солженицын, Максимов) питалась жизненными соками литературы советской, меняя официозный политический плюс на оппозиционный минус и оставаясь при этом совершенно советской в плане эстетики. В то же время существовала параллельная культура, которая несколько позже воспользовалась в своих целях блоками цивилизации Лебедева-Кумача, и в результате вырос соц-арт и родственные ему явления.
Т.Г.: Хорошо теперь назвать бы некоторые имена, чтобы яснее стал предмет разговора. Я занимался такими авторами, как Холин, Мамлеев, Кабаков, Сорокин, причем мне было очень важно подчеркнуть момент коренного несовпадения между текстами первого авангарда и текстами параллельной культуры, простирающейся, условно говоря, от лианозовской школы Евгения Львовича Кропивницкого до медгерменевтов. Для параллельной культуры характерно предельное дистанцирование автора от своего произведения, и в этом пункте сходятся такие разные люди, как перечисленные Кабаков, Холин, Мамлеев. Здесь, повторю, доминирует особый тип дистанции между автором и текстом, чего не знал первый авангард. Противоположным образом трактуется и проблема абсурда. Я сопоставлял в своей работе два важных текста, наглядно выявляющих эту разницу: «Старуху» Хармса и «Очередь» Сорокина. У обэриутов и в целом у тогдашних авангардистов – в этом с ними солидарны, например, Беккет, Ионеско, – абсурд, для того чтобы проявить себя, нуждается в неабсурдном, нормальном или нейтральном фоне. А у Сорокина и близких ему писателей его поколения снято само противопоставление абсурда и неабсурда, эта фундаментальная оппозиция устранена.
Что же касается моего журнала, то в нем представлен широкий круг тем, которые сплетаются, пересекаются, образуют такие явные или полуспрятанные линии. Например, линия, связанная с первым и вторым авангардом, или с наследием русской эмиграции в Праге, или обсуждение полемики вокруг Маяковского. Представлены и проблемы чешской русистики, так что мы придерживаемся свободного выбора и не стараемся сделать свой журнал популярным – он адресован узкому кругу людей, которым не нужно объяснять, что к чему.
И. Врубель-Голубкина: Что представляет собой сегодня чешская русистика?
Т.Г.: Традиции здесь глубокие, потому что чешская интеллигенция начиная со второй половины прошлого века испытывала устойчивый интерес к России, – правда, события последних 25 лет нанесли ему большой урон. В 60-е годы чешские русисты проявляли серьезное внимание к параллельной культуре в России, и, например, первая опубликованная книжка Геннадия Айги вышла именно в Чехословакии, как и одна из первых монографий о художниках второго русского авангарда.
М.Г.: Я думаю, что и первое опубликованное стихотворение Всеволода Некрасова так же было издано на чешском – в одном альманахе, ныне очень редком.
И.В. – Г.: Томаш, общие тенденции чешской культуры издавна были европейскими, они ориентировались на Европу, а не на Россию. Но в последние десятилетия, и, конечно, это было в первую очередь связано с политикой, русскую культуру усиленно внедряли в Чехословакии – наряду с повальным изучением русского языка в школах. Каким образом эти процессы, пусть даже во многом насильственные, повлияли на чешскую культуру, если вообще повлияли?
Т.Г.: Насильственное обучение вызвало, как это водится, реакцию отторжения, но в то же время существовал интерес, который можно назвать элитарным. Он был уделом небольшой группы людей, но именно о таких людях всегда имеет смысл говорить. А все остальное, что вбивали в пропагандных целях в голову толстые учительницы, исчезло, куда-то запропастилось.
И.В. – Г.: Вместе с самими толстыми учительницами? Кстати, что они сейчас делают?
Т.Г.: Некоторые принялись учить английский – происходит так называемая переквалификация, другие ушли на пенсию, третьи ударились во что-то совсем другое и как бы перестали существовать – они якобы отсутствуют в обществе и для общества.
М.Г.: Сейчас в русской литературе сосуществует масса знаменитых писателей, принадлежащих к различным направлениям. Это и упомянутый нами второй авангард, и такие авторы, как Солженицын, Искандер, Бродский, Вознесенский, – можно перечислить много имен. Предположим, что прошло какое-то количество времени. Как, по-твоему, кто из них останется для человека, всерьез интересующегося русской литературой, но живущего не в России, а, допустим, в Праге?
Т.Г.: Мне кажется, что писатели типа Солженицына, Искандера и целые примыкающие к ним направления предстанут в качестве закрытой главы из истории литературы. Они, разумеется, никуда не денутся и где-то будут лежать в отведенных им историей местах, но эта страница предстанет дописанной до конца. А реальную ценность сохранит та литература, которую Юрий Мамлеев назвал негуманистической. Это не означает, что она намеренно пойдет против человека, просто она покончит с наивным преклонением перед человеком, с наивной, безудержной верой в него. Литература советской классики произрастает из идей советского гуманизма, а то, с чем пришла параллельная культура, пересекает границы этих устаревших представлений и уходит куда-то в иные пространства. Конечно, нет никакой принципиальной новизны в этом выходе за пределы традиционного гуманизма. В русской литературе можно вспомнить хотя бы о Чехове и Федоре Сологубе. Вот эти темы, которые, условно говоря, возникают там, где «кончается человек» и наступает эпоха «постхьюман», и представляются мне наиболее перспективными, они ведут в будущее.
А.Г.: В какой мере на параллельную культуру влиял Запад или второй авангард был в своем роде столь же замкнутым, изолированным явлением, что и соцреализм?
Т.Г.: Этих влияний, осознанных и неосознанных, было немало, но происходило то, что не раз случалось в истории русской культуры, когда западное влияние перерабатывалось до неузнаваемости. Легко связать творчество Пригова с поп-артом, но когда мы присмотримся повнимательнее, то увидим, что это явления разной природы. И так повсюду. Параллельная культура работала с удивительным материалом, и это сделало ее неповторимой.
А.Г.: А какова связь с современным западным постмодернизмом? Мне кажется, что он ощутим у того же Мамлеева, у Радова в «Змеесосе», даже у Саши Соколова, у которого в «Палисандрии» есть любопытные типологические переклички с Джоном Бартом.
Т.Г.: Такая связь существует, но сам термин «постмодернизм» требует очень осторожного обращения, ибо он стягивает воедино различные понятия. Если воспринимать постмодернизм наподобие того, как это делает применительно к русской литературе Игорь Смирнов, у которого с постмодерном связан выход на авансцену русского текста некой специфической категории «чудовищного», – то здесь все абсолютно бесспорно. Но и в данном случае мы должны иметь в виду, что Россия не заимствует пассивно инородных культурных веяний, а тотально их переосмысляет.
М.Г.: Постмодернизм напоминает соцреализм: никто не знает, что это такое, хотя все клянутся этим именем. Современная литература является естественным продолжением того, что делалось в 60-е годы, она выросла из тогдашней ситуации, только надо отчетливо сознавать, что это был не рост от ребенка к взрослому человеку, а взросление какой-то изначально крупной змеи, которая и раньше внушала страх и уважение, а теперь один только виток ее грандиозных колец способен повергнуть слабонервных в обморочное состояние – поди не напугайся этого чудовищного боа-констриктора. В нашей литературе 60-х уже присутствовали все те качества, которые мы находим в постмодернизме и прочих «измах». Следует учесть и то обстоятельство, что наша словесность развивалась и крепла почти в полном отрыве от Запада и его культуры – редкими исключениями в этом смысле были разве что Хромов, Чертков, Красовицкий и Андрей Сергеев, учившиеся вместе в Институте иностранных языков и знакомые с англосаксонской литературой. И еще – это не имело решительно никакого отношения к футуризму. Футуристы были для нас близкими людьми, нашими уважаемыми дедами и прадедами, но мы у них не учились. А те, кто выбрал футуристов на роль учителей, остались на далекой обочине литературного дела. Что же до англо-американской словесности, то всерьез она повлияла, пожалуй, на одного только Бродского, в сочинениях которого господствует варварская славяно-англосаксонская смесь. Но Бродский и никогда не был во втором авангарде! Он являлся интегральной частью неофициальной культуры, но отнюдь не принадлежал к ее авангардному крылу. Поэтому, когда мы говорим о возможном влиянии западной литературы на второй русский авангард, необходимо соблюдать исключительную осторожность: влияние, если оно и существовало, было очень условным – кто-то о чем-то слышал, не более того. О черных дырах каждый из нас тоже что-то услышал, но едва ли он сможет толково рассказать об их свойствах.
В. Россман: У меня вопрос не столько литературоведческого, сколько социологического свойства. Есть страны, в которых литература занимает важное место в социальной иерархии, тогда как в других государствах интерес к словесности сосредоточен главным образом в университетах, Америка – как будто пример именно такого рода. А как обстоит дело в Чехии? И еще: как там воспринимается сегодня русская литература – обладает ли она хоть каким-то местом в социальном распорядке, в иерархии читательского предпочтения?
Т.Г.: Занятие параллельной русской культурой, безусловно, принадлежит в Чехии к числу элитарных и, если угодно, университетских, что легко объяснимо: нет переводов, отсутствует информация. Если взять проблему шире, то в 80-е годы такие авторы, как Распутин или Айтматов, пользовались немалым общественным признанием – эта литература представлялась иной по сравнению с той, которой нас кормили в школе, у писателей этого типа доминировали как бы не поощряемые официозом темы и коллизии, одним словом, вы понимаете, о чем идет речь. Затем, уже в наше время, все решительно изменилось, и русская литература принялась соучаствовать в общем гигантском хаосе, охватившем творческую, книгоиздательскую, читательскую и всякую иную активность. С другой стороны, весьма обнадеживает огромный интерес, проявленный к двум вышедшим в Праге книгам Даниила Хармса, впервые в таком объеме переведенного на чешский язык. Так что имеет смысл вернуться к позднему авангарду, чтобы обновить каноническую рецепцию русской литературы. В целом же я надеюсь, что в нашем обществе литература никогда уже не будет играть той уродливой роли, которую она была вынуждена взять на себя в 60-е годы, когда любой текст воспринимался в первую очередь с точки зрения его вольнолюбивого гражданского звучания и невозможно было даже помыслить интересное явление культуры в его очищенном от политических ассоциаций качестве.
М.Г.: В России было немало авторов-евреев, писавших по-русски и весьма преуспевших в этом занятии. В Чехии когда-то существовала сходная ситуация, только евреи там прибегали к немецкому языку, господствовавшему в Австро-Венгрии. Самый яркий пример, разумеется, Кафка. Как сегодня у вас относятся к авторам этого типа: считают ли их представителями чешской культуры или их немецкая языковая стихия навевает неприятные воспоминания?
Т.Г.: У нас давно уже нет проблемы эмансипации от немецкого влияния, но применительно к Кафке и писателям его круга мы рискуем угодить в терминологический лабиринт. Как бы поточнее их назвать, какие бы подобрать определения? В отдельных справочниках о Кафке говорят как о чешском писателе, что, конечно, абсурдно на фоне всего того, что мы знаем об этом человеке. Пожалуй, проще всего назвать его евреем, который сочинял по-немецки и жил в Праге, – едва ли нам нужна более жесткая и конкретная дефиниция, ограничивающая полноту смысла и принадлежности.
М.Г.: Любопытно, что проблемы, о которой мы говорим сейчас, в средние века попросту не существовало. Тогда еврейский мыслитель мог преспокойно сочинять свои трактаты, допустим, по-арабски, но никому и в голову не приходило отрицать специфическую еврейскую укорененность этого человека, его причастность еврейскому национальному, религиозному и культурному лону. Почему бы такой ситуации не быть и сейчас? И более того, она зримо присутствует в наше время, в особенности на обломках различных империй, когда люди продолжают писать на «чужих» наречиях, не утрачивая своей национальной идентичности. И Кафка, по-моему, всецело отвечает этим «средневековым» представлениям. Он еврейский писатель, живший в Праге, которая вошла в его тексты, запечатлелась в них, так что они не могли возникнуть ни в каком другом месте.
Т.Г.: В Праге в то время вообще возник уникальный культурный симбиоз, являющийся ныне предметом довольно продуктивной ностальгии, ибо закономерно возникает желание сделать некие шаги в сторону этого баснословного культурного универсализма. Действует, например, весьма уважаемое и влиятельное «Общество Франца Кафки», интересы его не ограничиваются собственно литературой, но предполагают воссоздание гораздо более широкого культурного контекста, относительно которого, я повторяю, существует симпатичный и плодотворный сентимент.
М.Г.: Томаш, что ты можешь сказать по поводу культурной ориентации современного чешского общества и в первую очередь литературной интеллигенции? Насколько ощутимо американское или некое общеевропейское культурное давление и встречное желание во всем следовать иноземной культурной моде?
Т.Г.: Я не сказал бы, что такое желание доминирует или вообще сколько бы то ни было заметно. Скорее дает о себе знать интерес к чешской культуре – к тем ее линиям и направлениям, которые раньше были в тени, и не обязательно по причинам политической свойства, или неверно интерпретировались. Чтобы не быть голословным, назову конкретные имена. Например, поэт Иван Блатни: он в 1948 году эмигрировал в Англию и там сорок лет прожил в сумасшедшем доме, где сочинял стихи и выбрасывал их, но медсестра уберегла и спасла эти листки бумаги. Или Юрий Колар, принадлежавший к авангардному объединению «Группа 42», – лишь недавно опубликованы два его великолепных «Дневника», стихотворный и прозаический, являющиеся законченными художественными произведениями. Или Рихард Вайнер, поэт 30-х годов, впоследствии сгинувший, – его стихов просто не смогли прочитать в свое время, и причиной тому была не одна лишь идеология, но и непривычность эстетики. Я подчеркиваю, речь идет о целых значительных направлениях чешской литературы, только сейчас по-настоящему открытых чтению и анализу. Можно назвать еще и довольно заметное воздействие чешской католической литературы. Все эти веяния, на мой взгляд, влияют на нашу современную словесность гораздо существеннее американских поветрий, перед которыми в обществе нет никакого специального преклонения.
В.Р.: Будь я чехом, я обязательно выдвинул бы идею Чехии как своеобразного центра, универсальной смотровой площадки, расположенной посреди Европы, откуда открывается вид на Восток и на Запад. Такой идеальный обзор плюс соответствующие представления о своей национально-культурной миссии.
Т.Г.: Вы угадали, такие идеи действительно выдвигались после Второй мировой войны, в те краткие несколько лет накануне нескольких десятилетий коммунистического правления. В то время в ходу была мысль о том, что Чехословакия представляет собой мост между двумя сверхдержавами, Россией и Германией, и люди, стоящие на этом «мосту», в равной мере способны понять обе стороны. Рассуждали на сей счет намало, и идея моста или центра являлась предметом подлинной глорификации.
В.Р.: Мы с Сашей занимались поисками внеидеологических корней литературы – скажем, гастрономических или табачных. Так, русская литература ассоциируется с водкой, коммунальными квартирами и интеллигентскими кухнями…
И.В. – Г: В еще большей степени она связана с отсутствием водки…
В.Р.: Французская – с парижскими кафе и вином, латиноамериканская – возможно, с чашечкой очень крепкого черного кофе. Я хотел бы спросить о чешской литературе в связи с чешским пивом – я уверен, что, если выпить кружку этого пива, текст начнет развертываться на особый манер, в нем появится другая метафизика, иное понимание пространства и времени…
А.Г.: Здесь говорит национальная душа, национальная литературная психея…
М.Г.: А еврей, съев фала-фель, уже никогда не будет равен себе прежнему.
Т.Г.: (смеется): Вполне вероятно. Впрочем, едва ли мы далеко продвинемся на этом пути, хотя у Гашека и Грабала о чем-то подобном говорить можно. У Грабала это связано с его занятными речевыми «махинациями», которые, в принципе, можно соотнести со словесным потоком завсегдатая пивных.
А.Г.: Как относятся в чешском обществе к писателям-эмигрантам 1968 года? В России по этому поводу были большие дискуссии, и тех, кто не вернулся, нередко обвиняли в том, что западный комфорт они предпочли болям и бедам перманентно несчастного отечества.
Т.Г.: У нас тоже почти никто не вернулся. Кстати, у меня на сей счет был любопытный разговор с Максимовым, который в присущей ему манере говорил о невозможности возвращения в необольшевистскую Россию, где по-прежнему разгуливают на свободе бывшие гебисты, а потому он не может подвергать своих детей опасности. Но ваши-то, негодовал Максимов, чего не возвращаются: ведь у вас все идет нормально, и коммунистов у власти уже не видать? В целом же у нас сейчас нет проблемы отношения к эмиграции, потому что уже никого не волнует, где именно живет писатель – в Праге, Вене или Нью-Йорке. Тем более, что люди часто наезжают, а отсутствие прописки заметно облегчает ситуацию.
В.Р.: Россия – что это для чешского современного сознания? Страна третьего мира, грозный и непонятный медведь, в любую минуту готовый воспрянуть и повести себя очень по-своему?
Т.Г.: Настроения доминируют очень прагматические. Люди убеждаются в том, что нарушение хозяйственных связей по меньшей мере недальновидно, а в области культуры после революции 1989 года изменения происходят стремительно, причем особенно показательна в этом смысле молодежь, в чем я имел возможность убедиться, работая в гимназии. Юноши и девушки оказались крайне далеки от настроений своих родителей, для которых после советского вторжения все, связанное с русской культурой, представлялось провинциальным, варварским и опасным. Сегодня эти эмоции позади, но посткоммунистическая Россия тем не менее кажется страной, где в любой момент может произойти все что угодно…
Но, возможно, добавим мы от себя в заключение, именно в такой неспокойной, опасной и грозной стране и должен произрастать настоящий авангард – первый, второй и, хотелось бы думать, еще какой-то совсем небывалый? Может, именно там ему самое место? Мы воздержимся от ответа на риторический вопрос, передоверив право на сей ответ читателю.
«Зеркало» № 103, 1993 г.Неофеодализм разгерметизированного пространства
Беседа Ирины Врубель-Голубкиной с Виктором Мизиано – директором центра современного искусства в Москве
Ирина Врубель-Голубкина: Как вы оцениваете сегодняшнее состояние российской художественной жизни? Что происходит в искусстве?
Виктор Мизиано: Мне кажется, что мы переживаем сейчас по-своему очень любопытный период, хотя и чрезвычайно болезненный. Речь идет о переходном времени, когда парадигмы какой-то эпохи, какого-то этапа себя исчерпали. Если говорить конкретнее, то речь идет о концептуальной традиции, причем не только о некоей эстетической тенденции, не только о тех или иных языковых формах – эстетике мусора, установке на деконструкцию и т. д., – а об этом типе сознания в целом, о типе опыта, которым жила эта ситуация в течение нескольких десятилетий; жила очень интенсивно, ярко, насыщенно и во многом питалась тем специфическим контекстом, той жизненной линией, которой она была очерчена. В момент перестройки, в момент вскрытия этого замкнутого круга все это очень ярко о себе заявило и выплеснулось на интернациональную сцену в лице своих ключевых фигур, стало феноменом интернациональным и на какой-то момент утвердило себя как некая инстанция репрезентирующей культуры страны. Но если говорить об актуальной сегодня московской сцене, то это новые фигуры, новые художники, которые появились уже после того, как все оказалось разгерметизированным и концептуальная традиция уже в сущности ушла на интернациональную сцену. Эти люди, естественно, ищут какой-то новой идентификации, мучительно ставят перед собой вопрос: кто они, что они, чему они, собственно, адекватны, с какими традициями связаны?
И.В. – Г.: И чему они адекватны? Как вы можете определить их отличие: в чем они новые, в чем соответствуют сегодняшней русской ситуации?
В.М.: Прежде всего эти люди существуют уже в совершенно других социальных условиях, другом режиме репрезентации, в другом ритме вообще и не на правах и условиях замкнутого на себя явления. Сегодня это иной общественный и культурный контекст – контекст интернациональной сцены, которого никогда раньше не было. Но сказать, кто они, что они, дать им какое-то безусловное определение, мне кажется, было бы просто очень рано. Единственное возможное определение состоит в том, что самоидентификация является для них центральной проблемой. Парадоксальная сложность этой самоидентификации, до известной степени, может быть, даже ее неосуществимость, а если осуществимость, то лишь при очень больших допущениях, которые сами носят характер скорее визионерства, чем чего-то реального, – вот, что, собственно говоря, и характеризует этих людей, определяет период в целом, когда творчество художников можно рассматривать как переходное. Это совершенно не делает уязвимой их работу – она абсолютно полноценна, она живет колоссальной энергией этой эпохи, этого момента в истории русского общества, которое само по себе полностью адекватно творчеству этих художников, потому что оно тоже пребывает в состоянии самоидентификации: Россия сейчас – это постоянное вопрошание; ее общество, ее культура, ее судьба в наши дни – это чистая потенциальность.
И.В. – Г.: Но какая-то позитивная тенденция все-таки существует? Вот вы говорите, что искусство, которое идет от концептуализма и которое в свое время утвердило себя в России и выплеснулось на Запад, перестало быть для России функцией. А это новое искусство – на каких основах оно начало развиваться после того, как отвергло все прошлые ситуации? На изменении политической ситуации? На преемственности? На традиции западного искусства, как его видела Россия? Или только на распаде, дистрофии?
В.М.: Основное – и это, на мой взгляд, является симптоматикой переходного периода – то, что мы не имеем дела с единой тенденцией, с единым направлением.
И.В. – Г.: Но весь мир не имеет дела с единой тенденцией – и уже очень давно…
В.М.: Я готов согласиться; да, я не склонен считать, что опыт, которым живут эти люди, обладает своей маргинальной уникальностью. Хотя… говорят, что мы пережили эпоху, когда люди гордились и кичились своими успехами, а сейчас настала эпоха, когда все кичатся своими катастрофами. С этой точки зрения, я думаю, уникальность московского опыта все же существует и состоит он в том, что этот катастрофизм московская сцена, как, впрочем, и вообще московское сознание, российское сознание переживает с особой остротой и драматичностью.
И.В. – Г.: С того момента, как русский андерграунд отчетливо заявил о себе, ситуация в российском искусстве перестала быть катастрофичной: человек вполне мог себе позволить быть индивидуальным. И вот опять такое обобщение, соединение по одному признаку – по признаку катастрофы. Да, страна разваливается; но не кажется ли вам, что приобщение искусства к крушению России, которое при этом не является для каждого личным крахом, означает отход на старые позиции, позиции коллективизма? И не противоречите ли вы самому себе: ведь вы одновременно утверждаете, что главное в сегодняшнем московском искусстве – индивидуализация? Как это сочетается?
В.М.: Когда я говорю об индивидуализации, об отсутствии единого процесса, я не отождествляю это с катастрофой; и, когда я говорю о переходности, я не окрашиваю это в тона драматические. Дело в том, что в целом, в тот момент, когда катастрофа разразилась в своих самых масштабных и зрелищных формах, то субъективно это тогда все-таки переживалось как освобождение. Сейчас же есть один процесс – энтропированность, индивидуализация; и в нашем случае это процесс очень позитивный, симптоматичный для состояния культуры в переходный период, когда культура лишена единых скреп. Мне кажется очень важным, что на московской сцене сосуществуют очень разные и специфические фигуры, которые, в общем, очень трудно смыкаются между собой. Попытаюсь все-таки предложить какую-то систематизацию этих индивидуальностей. Во-первых, есть одна линия, достаточно очевидная: это линия «музеизации», «архивизации» – направление как бы «охранительского» характера. Здесь работают как раз молодые художники, которые так или иначе связаны с опытом концептуальной андерграундной традиции. Но при этом они молодые люди, пользующиеся безусловным авторитетом и представляющие ценность для сегодняшнего художественного развития. Это очень интересно, и значимо, и, по-моему, очень закономерно: перед лицом катастрофы, перед лицом энтропии, распада обращаться к апологии архивирования состоявшегося, к коллекционированию и документированию конкретной художественной стратегии. Это и Вадим Захаров, и деятельность «Медицинской герменевтики». С другой стороны, существуют совершенно иные позиции: Анатолий Осмоловский, художник, работающий с проблематикой телесности, жизненного стихийного порыва; и совершенно противоположный ему, такой интеллектуально изощренный, неоконцепту-алистически ориентированный человек, как Юрий Лейдерман, работающий не с телесностью, не со стихией, а постоянно взыскующий онтологии, нового космоса, нового жесткого порядка бытия. Таких контрастов можно назвать очень много, если идти по персоналиям. Есть Дмитрий Гутов, аналитик и сторонник ясной критической мысли, почти просвещенческой; и есть прагматик Гия Ригвава. Или еще один тип, который я условно назвал бы «люди, которые работают в некоей политике реальности». Категория реальности – достаточно архаичная категория сознания, и мне кажется интересной попытка реабилитировать ее в новых условиях, доказать самое право ее на существование. Последние два десятилетия это, казалось бы, было почти полностью релятивизировано и художественный опыт постоянно настаивал на предельной проблематичности этого понятия, на его предельной растворенности в тех или иных формах мышления, в тех или иных знаковых моделях; это, собственно, и было позицией московского концептуализма. Сейчас же возникают фигуры, которые очень упорно, настойчиво пытаются доказать, что прорыв к реальности – к чему-то подлинному, незамутненному, лишенному каких бы то ни было медиаторов или инстанций медитативного характера, – что такой прорыв возможен. На этом настаивает целый ряд художников, очень разных, и для них это очень важно. И мне приходит в голову такая мысль, что в этой жажде реальности в искусстве я на самом деле вижу аналог процесса приватизации. Действительно, то, что происходит в этом направлении в искусстве, ассоциируется с той жадностью, одержимостью, с которой сейчас идет процесс присвоения реальности в виде собственности – земель, заводов, валютных запасов, ваучеров – и прочего, и прочего.
И.В. – Г.: Когда-то Пушкин писал критику на «Путешествие из Петербурга в Москву». Там в ответ на вопрошание Радищева: «Что может быть страшнее жизни русского крестьянина?!» Пушкин отвечает: «Жизнь английского фабричного рабочего». Я почему-то вспомнила это, слушая вас. Итак, все прекрасно, художники работают и, судя по всему, весьма интересно, по-разному, в разных направлениях… Откуда же тогда это ощущение катастрофы, о котором вы все время говорите, ощущение, настолько сильное, что все-таки, несмотря на все оговорки, вы сказали об этом как о некоем объединяющем всех признаке?
В.М.: Да, у меня впервые – раньше этого не было – возникают тревожные рефлексии. Но это касается не столько развития московской художественной жизни, самого художественного процесса, сколько всего социокультурного контекста. Вот там, действительно, процесс индивидуализации, энтропии вызывает предельную тревогу. Художественный процесс может структурироваться на очень разных вещах: может – по принципу единых блоков, а может – по системе разведенных центров; и это нормально. Но он состоятелен, он может нормально функционировать только в составе некоего социокультурного организма. А когда распад и деструкция проходят по самому организму – ну, когда, например, книжки не издаются, журналы не выходят, телевидение не показывает, галереи не работают, музеи не выставляют и не покупают; когда писатели не в состоянии писать, историки искусства – думать и описывать, художники – реализовываться и репрезентировать; когда общество объято чистой агрессией, а люди, ответственные за культуру, пребывают в состоянии утробной одержимости, – это уже, действительно, признаки того, что все это не структурировано в некий единый процесс, и это уже тревожно.
И.В. – Г.: О каком едином процессе вы говорите?! Андерграунд начался с отмены советской власти в художественных кругах, с отказа от участия в «едином процессе», в котором можно было неплохо существовать, и не только в материальном плане: можно было ездить за границу, выставляться, публиковаться и т. д. Но именно этот уход и позволил новому русскому искусству выйти на международную арену, стать полноправным участником мирового художественного процесса. Почему это писатели не пишут, а искусствоведы не думают? Потому что их не публикуют? Но все искусство андерграунда было в таком положении, однако и думали, и писали, и картинки рисовали… И, кстати, на Западе тоже никто никогда не уповал на людей, «ответственных за культуру», и так было всегда: ни государство, ни коллекционеры не кормили своих художников, пока они не заявляли о себе чем-то из ряда вон выходящим, – это нормальное положение вещей.
В.М.: Да, но, согласитесь, что в контексте советской культуры духовная, художественная культура обладала колоссальной значимостью. Это шло, собственно, еще от русской культуры, и советская власть законсервировала это наряду с другими мифами XIX века, наряду с очень многими классическими ценностями. А что такое сегодня структура современного искусства? Это омаразмевающий музей, совершенно лишенный полноценных специалистов, лишенный средств для закупки произведений. В этих музеях до сих пор – да в сущности прошло ведь не так много времени – работают все те же люди, и обновления не происходит. Я могу лично об этом свидетельствовать: я ушел из Пушкинского музея в 90-м году; и это безумно дорогое для меня место все больше и больше превращается в склеп. Единственное, что там меняется, – оттуда все чаще уходят; музей как место притяжения талантливых людей вообще исчезает. Сегодня музеи потеряли свою престижность, свою аттрактивность точно так же, как вообще занятия гуманитарными профессиями. Вот это все и страшно – этот процесс. Стало банальностью говорить о распаде. Но когда ты переживаешь это сам, когда ты видишь, как какой-нибудь Кабаков переехал; какой-нибудь Эрик Булатов – его мастерская на Чистых прудах опустела; кто-то заболел, кто-то… И начинаешь понимать, насколько эти люди невосполнимы, а процесс необратим. И меня пугает, что к тому времени, когда появится стабильность, сложатся новые организмы – хотя пока непонятно, что это будет за общество, что за модель развития, – что к этому моменту от художественной культуры просто ничего не останется, будет просто поздно. И сколько времени понадобится, чтобы культура воспроизвелась, приобрела сочность и полноценность, чтобы восстановить те силы, которые сейчас еще есть? Все крайне хрупко, все ломается и исчезает на глазах.
И.В. – Г.: А что представляет из себя художественная среда? Кто потребители искусства? Я имею в виду и тех, кто покупает, и тех, кого это просто интересует. Ведь существуют, в принципе, всего две структуры, поддерживающие искусство: государство и общество. Если государство сейчас не функционирует, то, возможно, эту роль взяло на себя общество?
В.М.: Общество коллапсирует; рынка нет. Для того, чтобы у искусства был какой-то постоянный потребитель, необходимо, чтобы и в обществе была какая-то элементарная стабильность. А в контексте современного общества в России, общества, одержимого приватизацией и другими, далекими от духовных экстазов вещами, живущего экстазами, предельно брутальными, живущего криминализированными страстями, – в таком контексте культура действительно вытесняется на самую обочину.
И.В. – Г.: Все это очень печально. Но поговорим все-таки о том, что есть, а не о том, чего нет. Вы работаете в Центре современного искусства; на сегодняшний день в мировой практике существует тенденция – куратор как художник, как создатель произведения искусства. Вы видите себя таким куратором?
В.М.: Я и мои друзья-коллеги вообще впервые в России подняли вопрос о праве на существование такой фигуры куратора. Кстати, я заметил, что все мы очень быстро проскочили через несколько стадий, которые в Европе развивались на протяжении десятилетий, – где-то в пятидесятых появились первые фигуры, претендующие на функцию куратора. Первые мои выставки были, если можно так сказать, эмиссарскими: я вытаскивал художников из немой массы и вывозил их на Запад. Потом я был куратором-концептологом, куратором-артистом: я реально заменил художников: работы были не принципиальны в той концептуальной игре, которую я разворачивал в композиционном пространстве, и выставка становилась моей инсталляцией. Но сейчас мы прошли этот период, и ситуация стала более сложной: я как куратор, как творческая фигура разделяю с художником новую проблему взыскания своей идентичности как перед лицом новых проблем в России, так и перед лицом вообще искусства, его места в сегодняшней цивилизации; хотя мне и кажется, что это место на сегодня проблематично; похоже, что – пока во всяком случае – место это утеряно. Сегодня я называю себя куратором-медиатором. Моя функция состоит в том, чтобы собрать уцелевших от кораблекрушения.
И.В. – Г.: Художников или идеологии?
В.М.: Всех, кого можно, всех, кто уцелел; собрать и создать ситуацию коллективного обсуждения происшедшего. Медиатор – это человек, ведущий собеседование, диалог, коллоквиум, и его функция – точно выбрать людей, которых стоит пригласить сесть за стол, точно сформулировать жанр работы, ее режим и тему, направление и постараться вести этот процесс. Причем это диалогирование должно носить тотальный характер, потому что одинаково тошно сейчас не только художникам, но, в общем, всем. Вот этому и посвящена моя работа в Центре современного искусства. В прошлом году я провел выставку, которая называлась «Гамбургский проект». Исходно она была предназначена для репрезентации на ярмарке в Гамбурге. Началось с того, что я предложил художникам сесть вместе и обсудить, что же это должна быть за выставка. И в результате мы отказались на нее ехать. Это был жест, если хотите, нравственного характера. Потому что проблематичность существования искусства, его права на существование в первую очередь ставит под вопрос и делает уязвимым такой пласт жизни, как репрезентация. У меня возникло ощущение, что эта проблема носит универсальный характер и я как субъект художественной культуры должен разделить ее с другими субъектами художественной культуры, подвергнуть разговору и анализу в тех формах, которые мы исходя из коллективного собеседования сочтем возможными и уместными. Я поставил вопрос принципиально: Центр современного искусства приглашен на ярмарку.
А что такое Центр современного искусства? Каково его место, его функции, каковы правильные взаимоотношения между художниками? Прав ли я, что я вижу кризис самой жизни художественных институтов? И в течение трех месяцев мы собирались и говорили, говорили, это были бесконечные, изнурительные споры, и мы все время возвращались к одному и тому же. Это то состояние фрустрированного одиночества, когда один человек не может прорваться к другому, не может найти консенсуса; нет новой, единой позиции, но невозможно и оставаться в одиночестве. Это был удивительный для меня опыт – опыт бесконечного говорения. Затем мы нашли единственно возможный выход: мы превратили состояние постоянного вопрошания и постоянного соотношения себя с другим в основу некоего художественного события: художники принесли по одному объекту, символизирующему их индивидуальное кредо; то, что можно назвать «я есть». Они положили все это на стол, я вынес стол в экспозиционное пространство и тем уведомил публику, что начался «Гамбургский проект», его экспозиционная стадия. Затем художники начали создавать работы, которые были референтны к объекту другого художника; затем новые работы, референтные уже друг к другу. И все это превратилось в разворачивающееся событие. Оно окончилось, когда мы это решили в какой-то момент, хотя, по идее, конца не могло и не должно было быть. И в день, когда мы сидели и выпивали после вернисажа, художники сказали: «А давай мы это потом опять соберем, поставим на место и начнем по новой». Потому что в какой-то мере это задело некий очень больной узел. Собственно, вся работа свелась к тому, что на протяжении прошлого года это был постоянный режим тех или иных семинаров и собеседований. Был период – это всеми было признано наиболее ярким событием, – когда художники работали с философами; на этой основе создавались работы, делались блестящие перформансы. Иногда вкладом художника мог быть не объект, а речь, воспоминания, рассказ. И все это – объекты, речь, перформансы – вкладывалось художниками не как объект для продажи, для презентации, для повески, а для этого узкого замкнутого круга; ценность объекта состояла в том, что он стимулировал обсуждение, стимулировал мысль. И в этой ситуации я свел роль куратора к его почти полному отсутствию – хотя это может показаться эксцентричным. На одном из семинаров я вообще ни разу не открыл рта: я разносил чай и зажигал сигареты. Я решил, что куратор должен самоаннигилироваться, потому что, внедряясь в собеседование, он вносит элемент власти. И мне показалось, что это был мой нравственный жест – самоуничтожение. Вот такой был опыт, и он оказался очень эффективным – опыт воздержания, аскетизма, отказа, погружения. В чем-то, как ни странно, это было возвращение к андерграундной закрытости, но на новом этапе. Тогда все это складывалось органично, а сейчас это происходит уже после всего – после Биенале, после Документы и так далее. Этот великий отказ происходил коллективно, и я, раз я сам это сделал, разделяю инновантный характер работы с моими друзьями художниками.
И.В. – Г.: Вы видите какое-то продолжение этой работы?
В.М.: Да, сейчас делается новая Биенале, европейская, и мы собираемся участвовать в ней с тем же самым. Причем этот процесс великого воздержания от репрезентации оказался внесенным в общий процесс: единодушно: я из Москвы, Эндрю Рентой из Лондона, Розе Мартинос из Барселоны – мы все сказали: новая Биенале не должна быть выставкой. Нам предлагали конференции, но мы отказались: выставки потеряли свой смысл, конференции потеряли свой смысл, нужно искать какие-то новые формы, какие-то очень сильные, по-своему идеалистические формы переживания творческого процесса. Вы задали мне вопрос о публике: но публика сегодня потеряна для искусства. А та публика, которая сидела у меня за столом в Центре современного искусства, была одновременно и субъектом производства событий, и потребителем. И новый поворот связан как раз с тем, чтобы выработать такую форму художественного поведения в современной культуре, когда публика создается в момент творческого акта. Этот путь уже начался: вокруг нашего Центра существуют несколько мастерских. В прошлом году я создал мастерскую кураторов, в этом – мы открыли мастер-класс для молодых художников. Это дает мне или другим организаторам таких мастерских возможность осуществлять свой авторский проект, но растворенный в работе с молодыми художниками. Скажем, московский перформансмейкер Борис Юхананов: у него давно уже функционировала такая мастерская, но в этом году он примкнул к нам.
И.В. – Г.: То есть могут создаваться вот такого вида идеологические коллективы, в которые вы вкладываете то, что считаете нужным, то есть до известной степени манипулируете ими, и выработка новой идеологии в целом может осуществляться через такие коллективы?
В.М.: Во многом, да. Не случайно меня обвиняют в неофеодализме, в неокоммунизме, и не только из-за моих политических пристрастий. До известной степени это соответствует сегодняшнему моменту.
И.В. – Г.: Ваш Центр выпускает журнал. Скажите о нем несколько слов.
В.М.: Концепция журнала как бы подверстана под нашу ситуацию – предельно индивидуализированную, пребывающую в режиме диалогирования. Характерна даже сама редакция – туда входят люди самых разных поколений: там Недлер Леонид Ильич, редактор, который делал еще «Декоративное искусство»; там я и совсем молодые люди – Ира Кулик, Милена Орлова. Диалогичность, заложенная в структуре редакции, еще усиливается, когда собирается расширенная редколлегия: приходят люди уж совсем разные, самые невероятные фигуры и персонажи; и происходит создание журнала, вытекающее из некоего состояния взаимного говорения, совместного выдумывания номеров. С седьмого номера мы, может быть, сменим формат, есть идеи; но пока что формат большой, и это тоже входит в концепцию: это как бы огромная сцена для очень разных высказываний. Здесь есть и проекты художников, и публикации философов, и русских, и западных. В целом эта гигантская арена, предоставленная проектам, есть как бы творческий акт, творческий жест, который может быть высказан даже не на языке искусства и людьми, никакого отношения к нему не имеющими. Ведь искусствоведческих и художественно-критических статей никто не читает: критики – потому, что ненавидят друг друга; художники смотрят только количество восклицательных знаков около своей фамилии; как нет публики у выставок, так же, конечно, нет и читателей у больших журналов.
И.В. – Г.: И, наконец, последний вопрос: вы приехали в Израиль по приглашению организаторов выставки «Арт-фокус». Каковы ваши впечатления?
В.М.: Я проехал по Израилю и видел фалангу выставок. Перед этим я был в Стокгольме, а до этого – в Люблянах, в Роттердаме, в Мюнхене. И везде я видел бесконечное количество выставок. Все они сплавляются в единый, нерасчленимый, дряблый и бессмысленный ком какой-то предельно несостоятельной художественной субстанции – не каждый в своем, индивидуальном измерении, в своей индивидуальной попытке высказаться, а в совокупности, в самой неспособности эпохи к высказыванию. И «Арт-фокус» окончательно убедил меня в абсолютной несостоятельности всех механизмов современной репрезентации. Потому что, если говорить о впечатлениях, то именно от Израиля у меня очень острое впечатление – от Израиля как такового и от израильского общества, необычайно динамичного, многогранного, обладающего каким-то удивительным замесом очень разных импульсов, очень разных традиций; общественный опыт Израиля совершенно уникален. Насколько я понимаю, традиция израильской школы очень молодая; но очевидно, что весь инструментарий высказывания существует; существует и достаточно эффективная инфраструктура, которая помогает осуществлению и символического, и информационного обмена; существует, коротко говоря, апроприированность современного художественного языка. И в сочетании с удивительной реальностью у израильского искусства огромный потенциал. Насколько же это уже есть де-факто, честно говоря, очень сложно судить по этим выставкам, очень вялым, очень конвенциональным, построенным по темам и проблематикам, сделанным скорее для знатных иностранцев, чем для передачи аутентичного опыта. Я просто не знаю, имеет ли уже это место быть – нечто яркое, рожденное изнутри этого специфического опыта высказываний; быть может, нет; быть может, я не сумел прорваться к некоему подлинному опыту через эти выставки. Но у меня ощущение, что в любом случае очень скоро что-то должно произойти, потому что есть очень много молодых художников и во многих работах, пока еще робких, уже просматривается, что они сделаны живыми и острыми людьми. Потенциал, повторяю, на мой взгляд, огромен.
«Зеркало» № 119, 1994 г.Перспектива реального времени
В Музее Людвига в Кёльне, одном из ведущих музеев мира, открылась 8 июля 1995 года выставка под названием «Наш век». Об этом событии международного масштаба мы беседуем с директором музея Марком Шепсом, который является куратором этой выставки.
Ирина Врубель-Голубкина: Вы открыли новую выставку в Музее Людвига, какова ее концепция? Каков принцип соединения произведений, представляющих совершенно различные эстетические платформы?
Марк Шепс: В 1995 году остается всего пять лет до конца века, 95 позади. То есть у нас уже есть некоторое глобально-перспективное видение нашего века, а поскольку он еще не подошел к концу, то мы не оставляем своих попыток заглянуть в будущее. Именно эта двойная перспектива и получила свое выражение в нашей выставке. Что касается взгляда в прошлое, последние десятилетия приучили нас смотреть на искусство как на развивающуюся систему, его развитие мы делим на исторические периоды, каждый из которых делится на различные направления… Так что глобальное видение двадцатого века мы привыкли расчленять на отдельные фрагменты. Мне показалось, что именно в конце века настало время проверить, нет ли других характеризующих его черт, кроме давно известных. Таких черт, на основании которых произведение искусства может быть отнесено именно к этому и ни к какому иному периоду.
Поэтому структура выставки была необычной: картины были размещены не в соответствии с географическим или историческим принципом, а также не в соответствии с направлением, к которому они принадлежали. Я назвал эту выставку «Наш век», а не просто «Век» или «Искусство нашего века», то есть, говоря «наш», я имел в виду нечто субъективное (позже я объясню, в чем оно заключается). Так или иначе, речь не идет об исторической, объективной концепции века как истории или века как истории искусства. Невозможно организовать историческую выставку целого века – это непосильное предприятие. Также невозможно устроить выставку, посвященную истории искусства столетнего периода. Наша выставка не претендует на создание исчерпывающей картины. Характерной – это, да, но не исчерпывающей.
Когда я говорю о «нашем веке», то имею в виду еще и все то, что связывало с ним художников. Многие были влюблены в него, его события оказывали на них огромное влияние, да и они сами оказывали влияние на события, подчас становясь их жертвами. Меня интересовали всевозможные ситуации, в которых оказывались люди нашего века и художники в их числе.
И.В. – Г.: Какие события вы избрали? Какие события стали теми ключевыми узлами, на которых сосредоточилось визуальное искусство нашего века?
М.Ш.: В дополнение к основному названию выставки существует дополнительное: «Человеческие сферы, миры картин». С одной стороны, я хотел сказать, что в центре событий этого века находился субъект, с другой же, я имел в виду, что в своих произведениях человек стремился к созданию новых, автономных, миров. Кроме этого, я разделил выставку на четыре раздела, которые, несмотря на очень общие названия, посвящены довольно определенным вещам. Первый раздел назывался «Тело и дух», второй – «Свет и тень», третий – «Земля и небо» и четвертый – «Утопия и смерть».
И.В. – Г.: Как, по вашему мнению, повлияли события нашего века на духовное развитие человека и какую художественную форму получило это влияние в произведениях художников?
М.Ш.: Различные разделы выставки мы посвятили различным аспектам, оказывающим влияние на нас и на нашу жизнь. В начале рассматривался внутренний аспект – новая концепция человека как такового: его освобождение от различных табу и ограничений, которые существовали в прошлом; освещение личности изнутри, которое так характерно именно для нашего века, и тд. С другой стороны, рассматривался социологический аспект: человек двадцатого века превратился в обитателя мегалополиса, где он мечется между противоположными полюсами – богатством и бедностью, радостью и страхом и проч., он существует в искусственном пейзаже, созданном его собственными руками, в мире коммуникации, мультимедиа, механизации – со всем тем, что она собой символизирует, начиная с технического прогресса и заканчивая абсурдом; в мире витрин, будь то голливудские витрины или какие-нибудь другие, в мире окон в другие миры, такие, например, как утопия.
С переходом к утопиям нашего века выставка как бы политизируется. Мы стремимся показать, что утопии закончились не только крахом всех утопий, но и унесли множество человеческих жизней. Утопии отличались друг от друга: был коммунизм, был фашизм… Есть подраздел, посвященный имевшим место конфронтациям, «борьбе мифов», – будь то Вьетнам, Куба, разделение Германии, расизм, Бейрут или что-то другое. Нас интересовало не исторически верное и объективное описание событий, но отдельные ситуации, впечатлившие художника до такой степени, что он почувствовал необходимость дать им субъективное выражение в своих произведениях. Художник, реагирующий на исторические события, имеющие отношение к его родине и народу, не становится историком, его произведения отражают его личные переживания, его субъективную реакцию на ситуации, в которых он сам оказывался или о которых слышал от других.
Один из разделов посвящен теме диктатур, образам диктаторов. Здесь есть два аспекта: художники-авангардисты, верившие в эти идеи, все еще находились на утопической стадии; однако несколько десятилетий спустя наступает стадия демистификации культа личности Ленина-Сталина, отразившаяся в произведениях таких художников, как, например, Михаил Гробман («Лениниана»). Другой раздел посвящен так называемой «немецкой проблеме», включая разделение Германии, поставившее Восточную Германию перед проблемой двойной диктатуры (коммунизм, пришедший на смену фашизму). Речь идет о произведениях, создававшихся в «реальном времени» как результат истинных переживаний художника. Я верю, что субъективное искусство отражает дух нашего века с большей яркостью, нежели все подробные исторические описания.
И.В. – Г.: Вы считаете, что направления и стили не менее важны, чем содержание?
М.Ш.: Повторю, наша выставка не ставила своей целью объять необъятное – осветить все, что имело место в искусстве двадцатого века. Такие направления, как абстракт или сюрреализм, вне всякого сомнения, принадлежат истории современного искусства, однако ни то ни другое не интересовались веком как таковым и его действительностью, ставшими центральной темой выставки. Сегодня нет никакой надобности защищать то или иное направление в искусстве, «расстановка сил» уже не сможет измениться ни при каких обстоятельствах. Мы пытаемся соединить то, что кажется на первый взгляд несоединимым.
И.В. – Г.: Такая концепция представляется мне довольно неординарной. Искусство двадцатого века действительно отличается некоторым единством содержания, есть, конечно, исключения, но тенденции едины. Ваша выставка демонстрирует не только техники и стили, но и единство содержания, общую систему мышления, она дает представление о так называемом субъекте этого века.
М.Ш.: Есть картина Макса Бекмана, написанная в 1907 году, «Битва». Слева изображен человек в падении. Рядом с ней размещена работа американца Роберта Лонго, изображающая падающую фигуру, но уже в трех измерениях. Если не брать в расчет разницу изобразительных средств, можно заметить, что эти два произведения близки по духу. Глядя на них, мы понимаем, что существует некая общность философии, несмотря на все различия в средствах выражения. Я мог бы привести много примеров этого явления.
Мы воспринимали историю искусства как борьбу нового со старым, представлявшимися нам двумя мирами. Приобретая перспективу, вместо противоположностей начинаешь видеть общность, последовательность, единство языка, объединившее людей разных культур. Приведу один очень интересный, на мой взгляд, пример. Выставка включает в себя группу картин, начиная с Филонова, Дюбюффе, раннего Ольденбурга и вплоть до Пенка, глядя на них, замечаешь, что разные поколения художников в разных странах, несмотря на все стилистические различия, говорят на одном языке. Этих четырех художников характеризует близость к народному творчеству своих культур. То, что Дюбюффе в 50-х годах стал первым теоретиком этого направления, не меняет дела. В более поздний период немало художников следовали этой философии бессознательно, порой даже не будучи знакомы с теорией Дюбюффе. Такая концепция дает возможность переосмыслить взаимосвязь между различными направлениями и тенденциями в искусстве.
И.В. – Г.: Другим не менее интересным аспектом вашей выставки является географическая модель мира, которую она создает. Каждая культура представлена на ней в соответствующей пропорции. Она дает нам представление о том, кто «делал» современное искусство… Какова ваша собственная концепция?
М.Ш.: Естественно, когда речь идет о современном искусстве, центральная роль в нем принадлежит Европе и Америке. Американское искусство составляет примерно четвертую часть экспозиции. Европейские художники составили три четверти ее: немецкое искусство представлено 21 художником, вслед за ним следуют французы (18 художников), за ними русские (14 художников, что составляет очень высокий процент относительно других выставок), далее следуют Италия, Англия, Испания и проч. Необходимо отметить, что на нашей выставке были представлены также произведения художников Латинской Америки, Японии, Кореи и даже Китая. Не думаю, что имеет смысл говорить о 20-м веке, не уделяя должного внимания искусству стран Востока, кажущегося на первый взгляд находящимся на периферии современной традиции, однако сегодня все более выходящего на первый план.
И.В. – Г.: Вы считаете, что региональный художник входит в мир европейского искусства лишь после того, как овладеет неким международным языком?
М.Ш.: Все сложнее. Думаю, что происходит следующее: несколько десятилетий назад в восточном искусстве существовали две основные тенденции: одна – на полную европеизацию, другая – обратная, на возвращение к национальным и региональным корням, однако это возвращение было довольно искусственным и превратилось со временем в декадентский академизм. Попытка европеизации привела к абсолютно не интересному подражанию. На протяжении нескольких десятков лет художники метались между двумя этими полюсами, не находя никакого выхода из создавшегося тупика. Впоследствии пришло понимание того, что возвращение к «корням» ни в коем случае не должно строиться на голом подражании тому или иному стилю, так же, как и тенденция к универсализму. Европеизм не что иное, как внутреннее самоощущение художника, подобно национальным «корням». Сегодня мы становимся свидетелями рождения долгожданного синтеза, когда художники усвоили обе традиции: национальную и универсальную – западную, наконец, переставшие быть для них «мертвым грузом». Именно отсюда берет начало стадия синтеза, когда стирается граница между чисто региональным и полностью универсальным. Уже в более ранние периоды латиноамериканское искусство достигло определенных успехов в этом направлении, сумев гармонично соединить национальное и универсальное начала.
И.В. – Г.: Где, по вашему мнению, заканчивается двадцатый век?
М.Ш.: Я не хотел бы делать прогнозов. Это не было целью выставки. Я просто хотел продемонстрировать, что немало интересных процессов имеют место в искусстве и теперь. Если бы я стал заниматься прогнозами, скажем, в 1895 году, то, наверняка, впал бы в отчаяние, ведь искусство в большей своей части находилось тогда в состоянии застоя. Настоящий прорыв начался несколько позже. Возможно, то же самое произойдет и в начале 21-го века.
И.В. – Г.: Вы ощущаете некоторое разочарование?
М.Ш.: Пожалуй, неудовлетворение. Поэтому мне казалось, что очень важно взглянуть на искусство перспективно и панорамно: обратиться к восточному, южному и другим искусствам в поисках нового видения в области как формы, так и содержания, И все же мне кажется, что в произведениях Барбары Кругер, например, хоть и не являющихся по-настоящему новаторскими, можно увидеть свежее начало, которое, развившись, сможет привнести нечто новое в сокровищницу искусства этого (подчеркиваю) века. То есть и теперь можно найти художников, которые еще не успели «устать». Именно они интересовали меня. Я не ставил перед собой цели «открыть» кого-либо, но лишь указать на новые перспективы в нашем веке. Нужно развивать в себе новое видение, так как, чем больше мы удаляемся от начала века, тем яснее становится перспектива, которую мы приобретаем. Как я уже говорил, искусство 20-го века так или иначе функционировало как единая система, состоявшая из трех подсистем или поколений, знакомых друг с другом: первое родилось вместе с веком и успело передать своим детям традиции, которые те в свою очередь донесли до своих детей. Эта цепь была непрерывной.
И.В. – Г..: Рассуждая в этом русле, мы не можем не оглянуться вокруг. Возьмем нынешнюю Биеннале в Венеции, одну из последних выставок этого века, неужели и она свидетельствует об усталости и истощении? Какова ее идея и каков результат?
М.Ш.: Биеннале по своему структурному принципу отстает на сто лет. Тогда несколько европейских стран встретились, чтобы продемонстрировать друг другу свои «достижения» за последние два года. Позднее, с приходом фашистов к власти в Италии, вся эта идея сошла на нет. После Второй мировой войны эта выставка утеряла всякий смысл, ведь что такое 20 европейских государств по сравнению с ООН, в состав которой входят более 120-ти. Так что то, что происходит в Венеции, больше не отражает положения в мире… Следует в корне изменить структуру Биеннале, так как структура столетней давности давно не оправдывает себя. Широкомасштабная международная выставка не может не воспринимать искусства как глобального феномена, что, естественно, не исключает местного и регионального аспектов.
И.В. – Г..: Последний вопрос. В каталоге мы видим фотопортрет Петера Людвига, какова его роль в этой выставке и вообще в музее, названном его именем?
М.Ш.: Поводом к организации выставки в Музее Людвига послужил семидесятилетний юбилей Петера Людвига, великого коллекционера, отличающегося от прочих не только величиной своей коллекции и количеством областей, которые его интересуют, но и тем, что все, что он делает, он делает на благо общественности, а не для себя лично. В продолжение 20 последних лет он сумел создать целую сеть музеев, названных его именем, каждый из которых является совершенно автономным по отношению к нему самому и друг к другу, так как все они являются муниципальными или государственными музеями. Они были основаны не только в Германии, но и в Вене, Будапеште, Санкт-Петербурге. Сегодня Людвиг ведет переговоры с Японией, Китаем, Кубой. Все это делается им в рамках определенной политики, ставящей своей целью донести современное искусство до тех стран, где его не хватает. Он просто пришел к выводу, что существуют места, которых по самым различным – политическим, экономическим и прочим – причинам современное искусство до сих пор не достигло. Я полагаю, что этому предприятию нет аналога в мире.
Для этой выставки мы отобрали произведения, представленные в тех музеях, которые я назвал. Таким образом, эта выставка подводит некоторый итог коллекционерской деятельности Людвига, хотя и включает в себя менее 10 процентов полной коллекции современного искусства сети музеев Людвиг, не говоря уже о древности и средневековье. Напомню, что в начале 1979 года я привозил коллекцию Музея Людвиг, основанного в 1976 году, в Тель-Авив.
«Зеркало» № 127, 1995 г.«Художник никому не обязан – ни власти, ни обществу»
Беседа Ирины Врубель-Голубкиной и Михаила Гробмана с Германом Титовым
Ирина Врубель-Голубкина: Герман, как вы начали этим всем заниматься? Немного истории.
Герман Титов: Все произошло без особых усилий, было логическим продолжением литературных и философских юношеских увлечений. В доме была огромная библиотека, которую я потихонечку приумножаю, сейчас она обрела преувеличенные размеры и находится в разных местах.
И.В. – Г.: Это был общий литературный фон или это двигалось от чего-то конкретного?
Г.Т.: Это всегда были какие-то энергетические центры, я всегда страстно интересовался Серебряным веком и одновременно – всей доступной западной литературой: на последние деньги покупались томики Кафки, Хемингуэя, Дос Пассоса. Лет до 16 я читал стихийно, бессистемно, но потом чтение приобрело более четкие очертания: Серебряный век, сначала поэзия, потом проза. Затем пошли какие-то странные завихрения, связанные, например, с библиографией. Я до сих пор поддерживаю это увлечение. Так что приход к московскому концептуализму произошел через литературу. И первой я прочитал замечательную книгу Монастырского «Каширское шоссе», выпущенную издательством «Ad marginem». Полиграфически книга была сделана неудачно, ее слишком мелкий шрифт трудно читался, и у меня возникло желание увидеть ее хорошо оформленной – напечатанной крупным шрифтом на хорошей бумаге, с широкими полями. Это свое желание я осуществил через несколько лет благодаря знакомству с Андреем Монастырским. Нас познакомил в конце 90-х Сережа Летов – такой замечательный джазовый человек. У меня в то время был период увлечения джазом: мы проводили фестивали, выпускали пластинки. Тогда же я познакомился с Володей Тарасовым, о котором нужно поговорить отдельно. Сначала я познакомился с Игорем Макаревичем и Еленой Елагиной. Я пришел к ребятам в подвал на Чистых прудах. Там были замечательные художники – Никита Алексеев, Костя Звездочетов, Андрей Филиппов. И только потом я пришел к Монастырскому – мы долго говорили, расстались уже за полночь. И появились возможность и желание сделать книгу «Каширское шоссе». Это, на мой взгляд, вещь совершенно недооцененная, одно из важнейших произведений современной литературы, канон психоделического реализма.
И.В. – Г.: А что, собственно, изменило круг ваших интересов? Почему произошел этот скачок?
Г.Т.: Первой моей реакцией было удивление: рядом с этим я мог тогда поставить тексты Виктора Ерофеева, и для меня было удивительно, что все это происходило, думалось и писалось в то время, когда я вел обычную жизнь в Москве.
И.В. – Г.: То есть удивление было чисто литературным?
Г.Т.: Я тогда заканчивал учебу в Московском институте инженеров транспорта. Открыв эту черную книжечку, я понял, какой пласт колоссальной интеллектуальной напряженности существовал помимо меня, – параллельная реальность, о которой я даже не подозревал. И, конечно, сама личность Монастырского, о котором как-то, позвонив из Роттердама, Лариса Звездочетова сказала: «Человек, существующий между двумя мирами». Лариса иногда ест грибы, и из-за этого она всегда находилась как бы на некой дистанции, а психоделика – это свобода объединенного сознания, дополнительная свобода, приобретенная на фоне этого сознания и нашей довольно-таки серой московской жизни 80-х.
И.В. – Г.: Мы говорим о художниках. Насколько, как вы думаете, важно визуальное и эстетическое воплощение их идей?
Г.Т.: Это не так существенно для московской концептуальной школы. Любая работа – это второстепенная, вспомогательная иллюстрация к разговору, к мысли, к дискуссии. Воплощение идей оправдывается только необходимостью, не степенью достаточности. Необходимо проиллюстрировать свою мысль – возникает визуальный ряд в концептуальной школе. Многие со мной не согласятся – ведь существует линия Скерсиса, Юры Альберта, Комара и Меламида, которые, несмотря на декларацию тезиса о том, что текст является основой изобразительности, сами все же люди не очень пишущие, и у них очень мощный визуальный ряд. Что мне нравится у Кабакова и Монастырского, так это наличие визуального ряда при мощном корпусе текстов.
И.В. – Г.: Но вы не думаете, что у Кабакова возможность визуального воплощения его идей – это главная движущая сила при всех основных составляющих? И он не просто так вернулся сейчас к рисованию?
Г.Т.: Я бы с вами не согласился, потому что декларацию о том, что текст является основой изобразительности, высказал Кабаков. Конечно, его изобразительные вещи вторичны по отношению к тексту и дискурсу. Я на этом настаиваю и думаю, что Илья согласится с этим.
И.В. – Г.: Если вы считаете, что визуальная и эстетическая ситуация вторична в изобразительном искусстве, то как быть тогда с литературой – сам уровень, само качество текста, то есть уровень и форма текста как такового, так же являются менее определяющими, чем смысл и дискурс?
Г.Т.: Безусловно, тексты Монастырского существуют и в литературном звуковом поле. Но, вообще говоря, концептуализм, по большому счету, – это не искусство и не литература. И когда мы с Мишей говорили о предтечах концептуализма, о художниках 60-х годов, мне кажется, он был не прав: существует принципиальный разрыв между шестидесятниками, нонконформистами и московской концептуальной школой именно в подходе к первичности. Безусловно, там было первичным изображение, а тут первичен текст. Я думаю, московский концептуализм возник без русских предтеч, он возник на ровном месте. На выставке в Фонде Екатерины и Янкилевский, и нонконформисты поставлены в один ряд как предтечи, и это выглядит искусственно.
И.В. – Г.: А ранние вещи Кабакова относятся к концептуализму в вашем понимании? Ведь надписи в этих его работах – это что-то совсем другое, они связаны с реальной жизнью, в них есть литература этой реальной жизни. Это не игровая ситуация. Кабаков – очень жизненный художник, выходящий за все грани. И, собственно говоря, Кабаков будет идти по двум параллельным дорогам. Одна – это социальность, иногда даже на грани диссидентства, как, например, уборная, совмещенная с жилой комнатой, и другая – суперэлитарная, где смысл скрывается за плотной интеллектуальной оболочкой, но четкий смысл так или иначе всегда присутствует. Не случайно Кабаков сопровождает показ своих работ объяснениями и рассказом.
Г.Т.: Я думаю, что Кабаков стал концептуалистом, когда появился персонаж Кабаков в 60-е годы. Альбомные дела – это уже зрелый Кабаков. Илья проходит классическую схему – от ранних дадаистских вещей к концептуализму.
И.В. – Г.: Вы четко разделяете концептуализм и соц-арт. В чем их принципиальное различие?
Г.Т.: В отличие от московского концептуализма, не имеющего, по моему мнению, русских корней, у соц-арта есть предшественники в лице представителей лианозовской школы. На концептуалистов влияли позднесюрреалистическое, дадаистское, потом концептуальное направления. Но, минуя концептуализм западный, я не вижу особого влияния Кошута на Илью и особенно на Монастырского; больше всего влиял, конечно, Дюшан.
И.В. – Г.: Я когда-то прочитала в одном интервью c Монастырским – кажется, в «ХЖ» – такое высказывание: «Кем мы, собственно, были? Мы были проводниками западных идей в русском искусстве». Что вы об этом думаете?
Г.Т.: Ходила история о том, что молодой Монастырский вместе с Никитой Алексеевым и Кизевальтером написали письмо Кейджу, рассказали про собственные акции, предложили сотрудничество, и Кейдж им ответил. Мама Монастырского, получив письмо с иностранным штемпелем, порвала его и выбросила на помойку. Андрей в ужасе побежал на помойку, нашел обрывки письма и склеил их. Конечно, влияние было опосредованное. Кейдж благожелательно отнесся к тому, что ребята написали, и поддержал их начинания.
Михаил Гробман: У нас уже есть опыт возникновения русского футуризма на базе западного искусства, а когда захотели его туда причислить, увидели, что это совсем другое животное. Не говоря уже о том, что возникли такие грандиозные фигуры, как Татлин, Малевич.
Г.Т.: В этом смысле я с вами совершенно согласен. То же самое произошло с московским концептуализмом, общее слово тут – «концептуализм».
М.Г.: Это такое же условно вместительное слово, как «абстракция».
Г.Т.: С этим я как раз не соглашусь – это слово емкое, но не вместительное. Оно очень четко отделяет художника-коцептуалиста от неконцептуалиста.
М.Г.: Есть различные формы концептуализма. Есть bodyart, есть landart, есть прочие «арты». Вместе с тем, если мы возьмем вещи Монастырского, Филиппова и многих других, то обнаружим, что на Западе мы такого не видели.
Г.Т.: Мне очень нравятся два определения концептуализма, которые мне понятны и близки. Есть такая работа у Юры Альберта: на белом холсте написана фраза: «Искусство не для того, чтобы на него смотреть, а для того, чтобы о нем думать». И второе определение в статье Иосифа Бакштейна в ранние 80-е: «Концептуализм – это интерес и внимание к происходящему внутри нас». Первый тезис определяет границы визуального, а второй устанавливает границы экзистенциального присутствия концептуализма. И, говоря об интересе к происходящему внутри нас, мы можем говорить о дадаистском влиянии, которое присутствует в работах Монастырского. Но творчество Андрея нельзя определить только одним направлением, есть здесь и даосские корни, и восточное влияние, и буддистское, и очень мощные отечественные православные потоки. Это все отражено в «Каширском шоссе», где помешательство главного героя происходит на фоне православной аскезы, но протекает с явными такими даосскими касаниями к пустоте, с чистым дзеном. Здесь мы можем поговорить о влиянии психоделики, которое у Андрея происходит без приема любых препаратов, в отличие от «медицинской герменевтики». У Андрея психоделика основана на втором постулате – гиперинтерес и гипервнимание к происходящему внутри нас. И этот внутренний алкоголь в такой ситуации просто зашкаливает и приводит к той художественной ситуации, в которой мы живем.
И.В. – Г.: Паша Пепперштейн говорил, что совершаемое ими должно войти в хрестоматию – то есть каждая новая форма или литературное высказывание, каким бы элитарным оно ни было, потом спускается в народ, воспринимается на разных уровнях и, только пройдя эту стадию, становится частью культуры, на которой воспитываются следующие поколения и создается новое. Что будет с нашей литературой и художественной психоделикой?
Г.Т.: Раньше психоделическая литература не была доступна, и все обходились фантастической, которая стала уже хрестоматийной, – как Брэдбери и др.
И.В. – Г.: И какова функция остранения?
Г.Т.: В лучших работах Кабакова всегда присутствует элемент остранения, и это явно видно в текстах. Вот эта работа: «Ольга Георгиевна, у вас кипит» – анализ ситуации на коммунальной кухне, где происходит какая-то ссора, слышатся ругань, крики отовсюду, и в тексте у Ильи есть замечательная фраза: «…А в это время в углу стояли четыре маленьких белых человечка» – это типичная ситуация психоделического остранения, это у Ильи не часто, но есть, а в работе Пепперштейна и Монастырского это основное.
И.В. – Г.: Вы считаете, что все эти тексты и дискурсы станут кодовыми? Вы думаете, что тексты Монастырского через определенное время будут восприниматься на уровне системы знаков, как все высшие достижения мировой культуры – от Гомера до Холина?
Г.Т.: Концептуалистом можно стать, обогатив свое сознание всеми достижениями человечества. Как без структурализма не было бы Монастырского, так и это войдет в сознание людей на уровне шедевра. Все беседы ведутся на знаковом уровне, и, когда появляется потребность это проиллюстрировать, происходит визуальное воплощение этих дискуссий.
И. В. – Г.: Поговорим еще о разнице между соц-артом и концептуализмом.
Г.Т.: Во-первых, за соц-артом стояла традиция шестидесятников, начиная с лианозовской школы, конечно. Это шло через знаковое языковое поле, игру, иронию и самоиронию, некоторое ерничество, использование штампов советской идеологии, превратившихся в знаки, которые определяли поле соц-арта. И, конечно, жизнь соц-арта, его существование были возможны только при наличии советской тоталитарной идеологии, после ее разрушения поле соц-арта исчезло. Именно соц-арт был правопреемником шестидесятников. Первые элементы соц-арта появились у Рабина.
М.Г.: Я считаю, что концептуализм – это огромное море, в котором помещается громадное количество различных течений, доктрин и всего прочего. Сегодня все кому не лень, все искусствоведы употребляют это слово. Художники не знают, как себя назвать, не знают, что они делают.
Г.Т.: Я закончу мысль о соц-арте. Предтеча – это Рабин, первыми соц-артистами были Комар и Меламид, использовавшие советские лозунги, которые они подхватили на улицах и в армии. Соц-арт как течение перестал существовать в 1992 году с исчезновением почвы для него.
И.В. – Г.: Кого из художников вы относите к московской концептуальной школе?
Г.Т.: Во-первых, это члены группы «Коллективные действия» и близкие к ним – Монастырский, Макаревич, Вадим Захаров, Юра Лейдерман, Паша Пепперштейн, Илья Кабаков, Маша Константинова, Маша Чуйкова, Сергей Ануфриев, Костя Звездочетов (хотя он со мной до конца не согласен), Андрей Филиппов – вот примерно так.
И.В. – Г.: Вы считаете, что все это существует, продолжается и сегодня?
Г.Т.: Я в этом убежден. Я даже вижу продолжение этой традиции у у молодых людей – Андрея Кузькина и Саши Авербаха – благодаря существованию такого мощного центра, как Андрей Монастырский.
И.В. – Г.: И себя вы считаете продолжателем этой традиции?
Г.Т.: Надеюсь, что так.
И.В. – Г.: А вы видите принципиальную разницу между русским и западным дискурсами?
Г.Т.: В отличие от московского, западный концептуализм не предполагает варианта интерпретации. Кошут страшно обиделся бы, если бы его работы начали интерпретировать с разных позиций. В московском концептуализме каждая работа предполагает огромное количество интерпретаций.
И.В. – Г.: Сам художник интерпретирует свою работу или это интерпретации воспринимателей?
Г.Т.: И то и другое, тут нет однозначности.
И.В. – Г.: Но это происходит с любым произведением искусства. Каждое общество и каждое время интерпретируют его по-своему.
Г.Т.: Если сравнить Кабакова позднего и раннего, то между ними есть большая разница: поздний Илья (а он всегда был очень умен) уже знал, что говорить и как анализировать свои работы. А сначала это не было похоже ни на Запад, ни на Россию, и вообще непонятно, что было. Осознание пришло гораздо позже.
И.В. – Г.: Миша, в каком году ты написал манифест о смерти концептуализма?
М.Г.: В 1979 году я опубликовал второй манифест «Левиафана», где писал о концептуализме и мерзости реализма. Через год после этого на очередной биеннале концептуализм был окончательно отменен.
И.В. – Г.: Что ты имел в виду?
М.Г.: Я провозгласил: «Рука об руку с бывшим изгоем поп-артом гиперреалисты услужливо подносят пресыщенному буржуа самые острые и пикантные отбросы в их максимально реалистическом отображении. И, как высшая, идеологизированная степень деградации, явилось концептуальное искусство, которое отбрасывает нас в гнусные глубины реализма 19 века, где форма, конструкция и материал были порабощены дешевыми политическими, социальными, психологическими сентенциями, где плоскость, цвет и линия были похоронены под словоблудием философов-недоучек. Так называемые концептуалисты, большая часть которых не умеет держать в руках карандаш, с тем большей легкостью копают могилу высшему языку человечества, символике чистых божественных визуальных форм. Борьба концептуалистов с формой есть один из симптомов тяжелой нравственной слепоты этого сытого мира. И в этой борьбе концептуалисты снова и снова апеллируют к прозе и псевдонаучности гниющего реализма.
Как слепые щенки, тычутся художники в новые техники искусства, но ни перформанс, ни видео не могут быть сами по себе содержанием, как не может быть содержанием картины тот факт, что она нарисована акварелью или маслом. Реалистическое видение, втиснутое в рамки нового технического исполнения, еще отвратительней, ибо там, в старом реализме, были по крайней мере свои рембрандты, а здесь – одни подмастерья».
И.В. – Г.: Герман, как вы считаете, сейчас русское искусство является интегральной частью мирового дискурса?
Г.Т.: Сейчас неизбежно происходит интегрирование московского концептуализма в мировое искусство. На ближайшей биеннале в Венеции Андрей Монастырский будет представлять Россию, что станет лептой в этот процесс. Я думаю, что единственная русская группа, интегрированная в мировой процесс, – это московский концептуализм.
И.В. – Г.: В последнее время в работах Кабакова, Пепперштейна и многих других началось мощное вливание элементов супрематизма? Что вы об этом думаете?
Г.Т.: Мое отношение к этому достаточно негативное. И в первую очередь потому, что я не очень люблю левый дискурс. Я прекрасно осознаю величие и значение Малевича, но отношусь к нему довольно прохладно. Это абсолютно левые дела – Малевич был комиссаром, все, что он делал, было поставлено на службу Советам, и проникновение идей супрематизма в творчество Пепперштейна вызвано его теперешним состоянием. Он очень увлечен теперь левацкими идеями – антиглобализмом и прочими интернационально-коммунистическими лозунгами. Для него сейчас ад – это Америка, мы часто говорим с ним на эти темы.
У Ильи совсем другая история. Я думаю, Кабаков пытается решить проблему музеефикации московского концептуализма через смычку с Первым авангардом, отсюда у него появление утопических мотивов Лисицкого, Малевича, их апроприация и интерпретация и показ международному сообществу в таком виде. У каждого, несмотря на наличие общих тем, разные задачи.
И.В. – Г.: Единственное, что автоматически существует и воспринимается западным художественным сообществом и рынком, – это классический авангард, и для Паши и Ильи как людей, ориентированных на Запад, это является определяющим?
Г.Т.: Да, может быть, но это не так существенно. Илья и Паша – серьезные стратеги, они учитывают в своем генезисе и эти точки зрения. У Паши возникновение супрематических элементов связано с психоделикой, с отрицанием капитализма.
И.В. – Г.: Не кажется ли вам, что искусство вообще делают маргиналы?
Г.Т.: Конечно, основное функционирование художника состоит не только в маргинальном, но и в полностью асоциальном дискурсе. Миша говорит, что многие художники ориентируются на Запад. Я этого не вижу: отношение к Западу довольно ироническое. Многие пожили там и вернулись, как, например, Никита Алексеев, проживший на Западе много лет.
И.В. – Г.: Они вернулись потому, что появились вы, люди вашего типа, которые готовы понимать, покупать, вкладывать деньги. У них появилась среда, возможность существования и работы.
Г.Т.: Здесь нет закономерности, надо рассматривать каждого в отдельности. Для Монастырского безразлично, где существовать, он все равно существует между мирами: он пожил несколько лет в Германии, ему стало скучно, и он вернулся в Москву.
И.В. – Г.: Это проблема социальная, они не были включены в социум стран, где жили. Мы очень много говорили на эту тему с Кабаковым.
Г.Т.: Мы сейчас говорили о маргинальности как о необходимом условии существования художника. В какой социум он может быть включен?! Социум – это ад!
И.В. – Г.: Я что-то не слышала, чтобы кто-то отказался от участия в важной выставке или от получения гранта на жизнь в другой стране. В России художник включен в социум. Социум московского художественного общества существует и существовал даже в самые тяжелые годы. Не зря Кабаков сделал свою самую большую выставку именно в Москве.
Г.Т.: Я знаю, что такая группа художников, как «Коллективные действия», включена только в собственный социум.
И.В. – Г.: Да, конечно, этого достаточно, об этом мы говорили. Вы думаете, в Нью-Йорке есть больше двухсот художников и литераторов, с которыми стоит иметь дело?
Г.Т.: Но для меня очень важно, что людям безразлично, где жить. Конечно, хорошо, чтобы была неплохая квартира, а где существовать – в Америке, Израиле или России, – не имеет значения.
И.В. – Г.: Герман, это не совсем так. Все художники пытались войти в художественную жизнь страны, куда они переселились, но очень мало кому это удалось. Комар и Меламид, приехав в Израиль, приложили немало усилий, чтобы войти в художественный истеблишмент. И Кабаков никогда не отказывался от выставок в музеях. Свободный мир – это все-таки не советская Россия.
Г.Т.: Да, более падки на это молодые – Юра Лейдерман, Юра Альберт, Вадим Захаров. Андрей Филиппов – это православный концептуалист, то, что он делает, резко отличается от того, что делают на Западе, и потому он редко выставляется, буржуазное общество любит себе подобных.
И.В. – Г.: А «Синие носы»?
Г.Т.: Это клуб веселых и находчивых.
И.В. – Г.: Но ведь все остальные не «веселые» и не «находчивые».
Г.Т.: Нет, это не имеет отношения к серьезному дискурсу.
И.В. – Г.: А Авдей Тер-Аганян?
Г.Т.: Я несколько раз встречался с ним в Праге, и он произвел на меня очень симпатичное впечатление. И поэтому я был очень удивлен ситуацией с Лувром, свидетелем и участником которой я был. Благодаря ему несколько близких мне людей оказались просто заложниками. Когда стало известно, что министерство культуры не выпускает работ Авдея на выставку в Лувр, Монастырский, Захаров и Юра Альберт первыми написали письмо, в котором заявили, что отказываются от участия в выставке, если эти работы не будут показаны. Когда Авдею предложили механизм, позволяющий экспонировать его работы, он отверг это и потребовал от ребят поддержать его в том, что работы могут быть выставлены только на его условиях. Ситуация вроде такой: в троллейбус врывается террорист и заявляет – или троллейбус идет до конечной остановки, или я его взрываю! Так они попали в заложники его игры и участвовать в этом отказались. Потом Авдей потребовал от них поддержать художника Мавромати, что совершенно не имело отношения к происходящему. С таким же успехом он мог требовать поддержки аборигенов северной Австралии.
И.В. – Г.: Сейчас власти в России, в отличие от советского времени, считают, что писатели и художники – это маленькая маргинальная группа, которая не вмешивается в происходящие в культуре процессы и практически ни на что не влияет. Какими, на ваш взгляд, должны быть взаимоотношения художника и государства?
Г.Т.: Круг, который мне близок, – это круг серьезных индивидуалистов. То, что они делают, может быть воспринято очень ограниченным количеством людей. Для нас совершенно неприемлема такая ситуация, когда Малевич становился комиссаром и говорил: «Я пролетарий». Это полное извращение, и нормальный художник не должен этим заниматься. Вообще подлинный дискурс в русской культуре начался с Хармса и обэриутов.
И.В. – Г.: Вы сами говорили о том, как Хармс и другие, еще не посаженные, обэриуты вполне спокойно относились к убийству своих друзей и как вообще все общество равнодушно воспринимало исчезновение людей. Так что – пока не сажают?
Г.Т.: Да, пока не сажают.
И.В. – Г.: Но, если посадят, например, Вадика Захарова, как будут реагировать на это художники вашего круга?
Г.Т.: Конечно, ситуация, о которой вы говорите, достаточно чудовищна, и я надеюсь, что ничего подобного не произойдет. Но в такой экстремальной ситуации каждый будет реагировать индивидуально, ничего прогнозировать я не могу. Но вы говорите не об отношениях художника и общества, а об отношениях художника и власти, которые сейчас находятся на нулевом уровне. К сожалению, сейчас нет таких просвещенных монархов, как Екатерина Вторая, которая вела переписку с Дидро и Руссо, или король Фридрих Второй, который давал Баху тему для хорала на шесть голосов. Я думаю, сегодняшняя власть мудро поступает, не вмешиваясь в жизнь художественного общества. А то, что произошло с Ерофеевым, – это все же не позиция власти, хотя какие-то отголоски давления есть. Это инициатива маргинальных православных мракобесов, которые запретили выставку.
И.В. – Г.: Но они победили.
Г.Т.: Победили. Но что поделаешь: если ты художник-акционист, ты должен сознавать все опасности своей профессии. Если ты живешь в православной стране и проводишь антихристианскую акцию, ты должен думать о последствиях. Когда Бренер рисовал доллар на Малевиче, он точно и грамотно просчитал законы той страны, где он это сделал. В Америке он получил бы гораздо больший тюремный срок. А Мавромати приковал себя к кресту Храма Христа-спасителя – какой реакции власти он ожидал? Свобода – понятие относительное, и человек должен учитывать возможный последствия собственных действий. Если бы в Иерусалиме художники провели антирелигиозную акцию, как бы это было воспринято властями и обществом?
И.В. – Г.: Но в Израиле власть никогда не позволит себе вмешаться в дела искусства, а художественное общество всегда поддержит антиортодоксальную акцию. Вообще левый проарабский дискурс здесь преобладает, художники хотят участвовать в международных выставках. А вы знаете, что сегодняшняя политкорректная ситуация очень сурова по отношению к Израилю? Цензура не менее сурова, чем советская. Так что увидеть в Израиле антиизраильскую выставку можно на каждом шагу, правого дискурса в художественной среде здесь практически нет.
Г.Т.: Есть страны, где педофилия не запрещена, но в большинстве – запрещена, и педофилы должны действовать в соответствии с местными условиями.
И.В. – Г.: Но если уж ты педофил, то везде должен открыто заявлять об этом!
Г.Т.: Но, если ты художник и проводишь педофильскую акцию и при этом хочешь уцелеть, ты должен считаться с правилами и законами местного менталитета.
И.В. – Г.: Это вечный вопрос: где начинается искусство и где оно заканчивается.
Г.Т.: Я думаю, на этот вопрос уже получен канонический ответ – водворение писсуара в музей. Границы искусства очень четко очерчены: если какой-то свой жест художник считает искусством – значит, это искусство.
И.В. – Г.: Проблема в том, что художественные акции типа Мавроматти и, в меньшей степени, Авдея совершались в мире (от Израиля до Финляндии) в 70-х годах. Например, в 1970 году в Израиле Моти Мизрахи ходил нагишом среди сельскохозяйственных брызгалок и писал. И кто после этого мог обратить внимание на акцию Бренера – отрубание головы тени курицы на стене – в 1990-м? Во всем мире у него не было никакого шанса, но для русского искусства Бренер оказался функцией, и вот это несчастье, это провинциальное отставание, конечно, мало приятно.
Г.Т.: Ситуация провинциальна, вы правы.
И.В. – Г.: Герман, сейчас все искусство в мире происходит в рамках левого дискурса. Я не говорю о Малевиче, и о социальной борьбе, и достижениях начала ХХ века. И очень многие художники и поэты, которые в нашем доме говорят совершенно другие вещи, не готовы публично выйти за рамки властвующей во всем мире политкорректности, которая еще хуже цензуры и ограничений свободы предыдущих веков. Чтобы получить любую премию, нужно быть «голубым», лесбиянкой, борцом за права национальных меньшинств и т. д. Пашу все время тянет в какую-то экологию, антикапитализм и антиглобализм.
Г.Т.: Это все за рамками моих увлечений. Нам с Андреем это совершенно не интересно. Я не знаю этих людей, я не смотрю их фильмов, не читаю этой литературы. Политкорректность и левый дискурс – это разные вещи.
И.В. – Г.: Политкорректность – это часть левого дикурса, когда нельзя касаться определенных вещей, как, например, после фашизма нельзя говорить о признаках расового различия.
Г.Т.: Нет, левый дискурс я воспринимаю кондово: для меня это «красный» дискурс, в основе которого лежит не большевистская, а маоистская идея. Вообще художник никому ничем не обязан – ни власти, ни обществу. Художник должен решать вопросы экзистенции, а не социума. Люди, которые занимаются политикой и социологией, мне не интересны.
И.В. – Г.: Герман, русский художник должен жить в России?
Г.Т.: Я последнее время поездил, побывал у многих, и для меня до сих пор загадка – зачем надо было уезжать? Я думаю, если бы они не уехали, они не потеряли бы ничего в самореализации.
И.В. – Г.: Вы думаете, если Илья не уехал бы, он бы сделал совсем другие вещи? Он не мог жить в московской ситуации, которая ему была тогда ему ненавистна, и он восторгался западным устройством художественного процесса. Для него отъезд был очень существенным шагом.
Г.Т.: Кабаков, конечно, выпадает из общего ряда. Даже в последней своей книжке, которую я издал, он пишет, что, пролетая над Россией по пути в Японию, пролетает над какой-то черной дырой. Кабаков прекрасно существует в Америке и, конечно, благодаря своему доброму гению Эмилии, которая создает максимальные условия для его жизни и творчества. Я говорю о других, которые уехали и потеряли среду и энергию. Например, замечательный Генрих Худяков, который обитает в социальном доме в Нью-Джерси, в комнате, где жара достигает 60 градусов (такую температуру он сам нагоняет), живет в одиночестве, голодный, да еще над ним постоянно висит угроза уничтожения всех его работ. Скоро в его доме начнется ремонт. Но он создал вокруг себя арт-пространство, арт-объект. Как мне показалось, достаточно одиноко и неприкаянно существуют Герловины, которые давно уехали из России и, может быть, обрели себя, но они существуют очень обособленно, придерживаются какой-то безводной диеты и занимаются германской мистикой. Миша Чернышев, фигура абсолютно знаковая для русского искусства, исчез на годы, перестал заниматься искусством, собирает марки. Все они оказались за пределами своего круга. В России они все были бы замечены и ценимы. Отъезд их был вызван личными, экзистенциальными обстоятельствами. Это судьба. Но, встретив их через 30 лет в США, я вижу, что это не очень счастливые люди.
И.В. – Г.: Но Комар и Меламид, которые были восприняты в Америке очень хорошо, сразу прозвучали, их работы в американских музеях они участвуют в важных музейных выставках, то есть они заполнили нишу русского искусства в Америке.
Г.Т.: Это большая трагедия для всех, что из одного художника получились два. Я думаю, что они сами трагически воспринимают свое расставание. Но, когда Миша говорит о художественной солидарности, надо понимать, что колхоз – дело добровольное. Если художник исчезает на какое-то время, его не ищут. Коля Козлов, участник группы «Коллективные действия», – прекрасный художник, но кто его сейчас помнит, кто знает, чем он сейчас занимается. Он перестал быть энергетическим центром – и все. Человек решает вопросы своей судьбы сам, и никакое членство или принадлежность к социальному кругу не могут ему помочь. То же самое я скажу о себе. Перестану я издавать книжки, перестану общаться с Андреем и всем этим концептуальным кругом – значит, таков мой выбор. Если ты определяешь себя членом круга, то и действуешь в интересах этого круга.
И.В. – Г.: Теперь последнее – что вы делаете и почему и каковы дальнейшие планы?
Г.Т.: Есть три ипостаси, которые сильно меня беспокоят. Это издательская деятельность, собирательство и эстетические практики. Продолжает выходить библиотека московского концептуализма, за полтора года издано 12 книжек, библиотека существует в формате большой и малой серий. Большая – это такие инкунабулы, очень важные для московского концептуализма и русского искусства в целом – тексты Кабакова, тексты Монастырского, книжка Вадика Захарова, Капитон, книжка Мухоморова, там более 300 иллюстраций, мемориум Вагрича Бахчаняна, «Коллективные действия» и так далее. В настоящее время продолжается работа над наиболее полным собранием сочинений Севы Некрасова, прозой Холина, новыми томами «Коллективных действий», новой книгой Кабакова – «В нашем ЖЭКе, коммунальная кухня» и т. д. В результате это будет 20 томов, возможно, больше, целая полка образуется. Библиотека издается мною, основным сотрудником и художником издательства Машей Сумниной. Маша – дочь Андрея Монастырского, внучка художницы Веры Хлебниковой (сестры Велимира Хлебникова) и Петра Митурича. Мы это делаем вдвоем – по почте, потому что я живу в Вологде, а она в Москве. Все началось с переиздания «Каширского шоссе» и превратилось в такой долгоиграющий проект. Коллекционирование стало иллюстрацией к изданию библиотеки, я собираю художников, принадлежащих к этому кругу. Первое мое приобретение – работа Андрея Филиппова «Вербальный опыт». И собственно эстетическая практика (я не могу назвать это художественной деятельностью), происходящая благодаря Андрею Монастырскому, с которым идет интенсивное общение и который постоянно спрашивает: «А что вы сегодня сделали?»
В этом году прошли две мои персональные выставки и две коллективные. Происходит это очень просто: в субботу утром я сажусь в автомобиль и еду, нахожусь в диалоге с собой. Потом происходят видеосъемки, фотодокументирование, потом рождаются какие-то поделки. Сейчас у меня проходит совместная выставка с Монастырским, где Андрей выставил 92 коллажа, а я – проект «Золотая рука и другие предметы». Я сначала нарисовал восемь картин, поместил их во враждебное для псевдоискусства пространство, часть выставки исчезла: уничтожили бомжи. Потом я нанял частного детектива, чтобы выяснить, что случилось с работами. Все это закончилось вполне юмористическим рядом – то есть вынесением из этих картин золотых элементов как сакральных, что позволило восстановить утраченный текст.
И.В. – Г.: А если вам не дадут издавать книги, делать то, что хочется, что вы предпримете?
Г.Т.: Трудно сказать. Были когда-то мысли об отъезде, но у меня слишком крепкое смыкание с Россией. Я даже в Москве не могу находиться более трех – четырех дней, хочу домой, в Вологду.
«Зеркало» № 37, 2011 г.Возможные миры Михаила Эпштейна
Михаил Эпштейн – известный московский эссеист, литературовед, философ, автор ряда парадоксальных идей и целого ряда вызвавших заметный резонанс сочинений, которые выходили в России, Германии, США. В их числе: «Релятивистские модели в тоталитарном мышлении: исследование советского идеологического языка», «Отцовство. Роман-эссе», «Новое сектантство. Типы религиозно-философских умонастроений в России», «Великая Совь». С 1990 года автор живет в США, преподает литературу и философию в университете Эмори (Атланта). В беседе с Михаилом Эпштейном, состоявшейся в редакции «Зеркала», приняли участие редактор журнала Ирина Врубель-Голубкина, Александр Гольдштейн, Михаил Гробман.
Александр Гольдштейн: Как вы очертили бы примерные маршруты своей работы?
Михаил Эпштейн: Это действительно маршруты. Я блуждающий мыслитель, кочевник, еще не успевший войти в состояние оседлости, постоянно меняющий место своего пребывания в разных областях гуманитарного знания. И когда я увидел палатки бедуинов в здешней пустыне, то почувствовал родственный укол. Это все, конечно, очень бедно, но бедным является и то, что я стараюсь делать. Одно из ключевых для меня понятий – бедная религия, ограничивающая себя минимумом свойств; она нимало не претендует на атрибуты богатой религии, но всецело довольствуется признанием Единого Творца и единством веры в Него.
Александр Гольдштейн: От более или менее строгих форм умозрения вы перешли к свободному сочинительству, которое особенно наглядно воплотилось в «Новом сектантстве», и для меня представляющем наибольший интерес.
М.Э.: Рассуждая в общефилософском плане, можно сказать, что теоретическая мысль вступила сегодня в третью эпоху. Первая эпоха была докритической, и она определялась наивной верой в то, что идеальные сущности, задаваемые мыслью, совпадают с реальностью. Это было мышление в изъявительном наклонении. Вторая, посткритическая, посткантовская, эпоха определялась повелительным наклонением, причем в двояком смысле. Если критицизм максимально ограничивал зону совпадения мысли с действительностью и уравнивал пространство мысли с самой мыслью, то активизм предписывал мысли преображение действительности, причем оба этих императивных направления соседствовали друг с другом. Аналитическая философия и другие тончайшие критицизмы приказывали мысли: «не будь, не будь, не будь!», тогда как активизм в лице таких его представителей, как Маркс, Ницше и их наследники, напротив, кричал ей: «будь, будь, будь!», агитируя мышление к переделке мира. На мой взгляд, эта эпоха тоже подошла к концу, она исчерпана, и логическим ее пределом стала деконструкция – эта, по моему убеждению, финальная стадия посткантовского критицизма. В чисто негативном плане Деррида показал невозможность отныне какого бы то ни было императивного стиля и модуса мышления. Критиковать уже нечего, всякая определенность значения рассеяна в бесконечность смысло-порождающих и осеменяющих зародышей мысли, и следующая стадия состоит в том, чтобы осознать эту зародышность как конструирующую, а не деконструктивную. Необходимо, таким образом, открыть для мышления третью модальность, уже не изъявительного или повелительного наклонения, но модальность возможного – «как если бы». В этой конструктивистской модальности я и пытаюсь работать. Я стремлюсь к созданию возможных миров, которые не претендовали бы на то, чтобы являть собой идеальную сущность реальности и с ней совпадать, как это было в платонизме, и не навязывали бы действительности проектов ее утопического преображения, к чему непрерывно тяготела марксовско-ницшевская линия. Возможные миры никак не совпадают с реальным миром и не учиняют над ним никакого насилия, они существуют именно на правах особых миров. Эти построения развиваются в некоторых моих работах, таких, как «Новое сектантство» или «Учение Якова Абрамова в изложении его учеников», – последнее сочинение было опубликовано в санкт-петербургском альманахе «Логос». Задача мысли, по моему мнению, состоит не в улучшении действительности, а в том, чтобы обнаружить границы мыслимого. Мысль – она ведь всегда о мыслимом, она раздвигает его границы, и, как только мы пытаемся смешать умопостигаемый и реальный миры, мы калечим и тот и другой, добиваясь их взаимного уродливого приспособления и сокращения. А нужно их развести, доказав, что мир реальности существует по своим законам, мир мысли – по своим, и каждый из них по-своему прекрасен. Мыслимое – это сфера возможного, как на то указывает и сам суффикс «им».
А.Г.: Тем не менее то, что вы пишете, находится не только в идеальной, но и в конкретной связи с социально-историческим опытом, пережитым множеством людей в оставленной нами стране. Вы тоже пережили этот опыт, и он отразился в ваших книгах…
М.Э.: Эти миры соотносятся поневоле, к тому же мы не можем возникнуть ниоткуда, из нулевой точки. Но в точке схождения реального с мыслимым немедленно намечается и их коренное расхождение. «Великая Совь», например, это не описание советской действительности, как легко было бы предположить, а скорее попытка построения некоего тотемического общества, основанного на поклонении Сове как возможному птичьему пращуру полуночного племени, живущего в северных землях, где ночь господствует над днем. Я стремился создать альтернативную модель жизни, всячески избегая иносказаний, сарказма, а также экономических или политических объяснений природы советского общества. Все эти объяснения кажутся мне поверхностными, не затрагивающими подлинной сути. Постсоветские исследователи пытаются пролить новый свет на историю советского государства, извлекая на поверхность какие-то новые факты, касающиеся личности Ленина или масштабов сталинских репрессий, но, во-первых, этих фактов не так уж и много, а во-вторых, свидетельствуют они о том, что дело-то было не в фактах и что основной движущей силой являлись мифы. Конструирование этих мифов, одновременно альтернативных реальности и соотносящихся с ней по некой параболе, и было моей задачей. Я подчеркиваю: речь идет о конструировании, а не о деконструкции. Что же касается «Нового сектантства», то приоткрою вам свой тайный умысел: я писал эту книгу в самые тяжелые андроповские годы с той целью, чтобы придуманные мною секты возникли в реальности и способствовали бы, благодаря своей множественной, сектантской тоталитарности, сокрушению всеобъемлющего официозного тоталитаризма, который казался нам ужасным именно в силу своей единственности. Множественность тоталитаризмов представлялась прекрасным исходом из этого страшного единства. Я рассчитывал создавать такие постепенные переходы от реальных умонастроений к сектантским движениям, которые все больше и больше разъедали бы ткань официального тоталитарного сознания. Вот, например, люди, почитающие обряд приготовления и поглощения пищи. Они действительно были, я их знал, дом для них являлся святым местом в этом обезбоженном советском мире, акт же приготовления пищи уподоблялся едва ли не причастию в христианском смысле: поглощение плоти мира сего взамен фальшивой идеологии, которой нас всех кормили. Вокруг мирского возникали сакральные зоны, следовательно, появлялась возможность сектантских движений и как их результат – перспектива плюрализации тоталитаризма. В сущности так оно все и вышло. То, что мы имеем сегодня в России, – это, конечно, не плюрализм, а множественность тоталитаризмов, взаимно непримиримых, уничтожающих друг друга. И это неизбежный, промежуточный этап, загодя описанный мной в «Новом сектантстве», хотя у меня было желание не столько изображать и констатировать ситуацию, сколько ее продуцировать. Но действительность меня обогнала.
А.Г.: Каким образом вы пытались практически реализовать свой замысел – кстати, вполне активистский? Посредством распространения рукописи и заложенных в ней идей?
М.Э.: Книга написана в форме цитат из сектантских учений. Я полагал, что коль скоро подобные настроения существуют в умах людей, то распространение слухов и вестей на сей счет позволит создать для этих настроений питательную почву в обществе. Ведь в России все так и происходило всегда: не столько самозарождение идей, сколько их насаждение, иногда явное и насильственное, а порой в виде своеобразных полумистификаций. Этот вариант казался мне возможным, особенно если учесть атмосферу первой половины 80-х годов, буквально перенасыщенную различными слухами, циркулировавшими в интеллигентской среде. Все тогда могло распространиться! А тем более, если бы сама правящая идеология опубликовала этот текст «для служебного пользования», ограниченным тиражом, недаром же у меня он значится под грифом Института атеизма. То есть господствующая идеология самостоятельно формирует образ своего врага, и этот образ разрушает правящий тоталитаризм. «Ничто не может победить этой идеологии, никакой внешний враг», – думал я в то время, и дальнейший ход событий доказал справедливость этого мнения. Лишь она сама способна породить враждебный ей образ, который в итоге окажется сильнее нее. Собственно, именно так и случилось с Горбачевым и Перестройкой, но там вмешались силы, более могущественные, нежели воображение автора.
Михаил Гробман: Не кажется ли вам, Миша, что применительно к России марксизм подтвердил свою правоту? В этой стране все рухнуло после того, как обнаружилась исчерпанность, бесконечная усталость экономических механизмов и связей, а вовсе не в результате каких-то решающих изменений в сознании людей и отнюдь не потому, что там возникли новые секты, расшатавшие идеологический монолит. Все определила экономика, а не смена типов сознания. Люди-то остались прежними, мы это видим хотя бы на примере тех, кто приезжает сегодня из России в Израиль. У нынешних русских, уже не советских граждан, все та же жизненная философия, эстетика, они продолжают быть все теми же коммунистами, или диссидентами, или либералами, что и прежде, но только вокруг них все необратимо изменилось, и они теперь голые, им нечего сказать, нечего предложить. И, как ни сложилась бы ситуация в России, будет ли там один или сто тоталитаризмов, она зависит от того, насколько им удастся решить свои экономические проблемы, которые, между прочим, сейчас единственно и интересуют людей. А потому не кажется ли вам, что Маркс доказал если не гениальность, то по крайней мере свой профессионализм очень высокого сорта и теория его объясняет происходящее нынче в России?
М.Э.: Марксизм – идеология, чрезвычайно парадоксальная. С одной стороны, она утверждает примат общественного бытия над общественным сознанием, а с другой, – предпринимает неимоверные усилия для того, чтобы с помощью сознания изменить это самое бытие. Используя известное выражение Сергея Булгакова, он действует так, как если бы ученый предсказал дату солнечного затмения, а затем предписал человечеству объединить все свои усилия для того, чтобы это затмение произошло в предсказанную дату. Марксизм оказался одной из первых идеологий-симулякров. Каков принцип действия симулякра? Он крайне выделяет и усиливает одну сторону бытия, на самом же деле предполагая господство иной его стороны. Предельный экономический детерминизм марксизма по сути скрывал крайний идеализм, куда более сильный, нежели идеализм Платона или Гегеля. Согласно Платону, идеи и вещи существуют порознь, отдельно друг от друга, и в лучшем случае идеи образуют некий надматериальный слой. Согласно Гегелю, абсолютная идея, претерпевая свое развитие в природе, обществе и сознании, исторически объективно выявляет себя в становлении материального мира. А по Марксу, и в этом высшая степень его идеализма, сами идеи должны трансформировать действительность. В результате коммунистической революции произошло изменение отношений между надстройкой и базисом – это был ее главный итог, а не рутинная смена господствующего класса. Надстройка принялась управлять базисом, идеология – экономикой, платоническая идея праздновала свое невероятное торжество. История советского периода – это жесточайший приговор платонизму: совершилось практическое разоблачение платоновского Государства. И я не сказал бы, что получила подтверждение Марксова идеология экономического детерминизма, само это определение – «идеология экономического детерминизма» – содержит в себе оксюморон, противоречие. Экономического детерминизма не существует в точно такой же степени, как и детерминизма идеологического. Идеи не могут править экономикой, это приводит к ее разрушению…
М.Г.: Опыт западной социал-демократии, то есть иного, некоммунистического, направления в марксизме, свидетельствует о том, что ей удалось построить очень богатое, удобное, жизнеспособное общество, хотя социал-демократы были людьми весьма идеологизированными. Разумеется, им помогала традиция, помогали консерваторы и тем не менее. Возьмем, например, Израиль, где они и сегодня остаются одной из двух главных общественных сил и владеют умами половины общества, или Швецию, Норвегию, Германию, Австрию.
М.Э.: Мне трудно рассуждать на социал-политические темы. Политику, по моему убеждению, можно или делать, или не делать: я ее не делаю и потому не считаю себя вправе говорить о ней. Мне ближе философский аспект этого вопроса. И я хочу сказать, что точно так же не прав был Маркс, утверждая, что экономический базис порождает идеи. Просто непостижимо, как мог он так заблуждаться! Вот мы читаем у Маркса, Ленина, Сталина, что изобретение мельниц повлияло на идеологическую надстройку. Но простите! Ведь в основе любого изобретения, которое в марксизме почему-то считается чисто экономическим событием, лежит идея – идея этого изобретения, в данном случае идея мельницы. Что же получается? Идеи не должны управлять экономикой, но сама экономика возможна только вследствие свободного развития идей. И марксизм в силу присущей ему двойственности и парадоксальности потерпел двойное поражение. Он оказался не прав в своем идеологическом насилии над экономикой, и он же провалился в своем экономическом детерминизме, в представлении о том, что идеи порождаются хозяйственным базисом. В этом двойном поражении я вижу основной философский урок советской истории.
М.Г.: Я не адвокат дьявола и марксизм взял больше как метафору. Что сейчас влияет на Россию, находящуюся в броуновском состоянии? Мне кажется, что не идеи и не секты, а экономика. В плане идей Россия проходит сейчас ликбез, она только учится, в то время как экономика диктует ей движение в будущее, причем в будущее, не только собственно экономическое, но и духовное, философское.
А.Г.: У меня есть впечатление, что марксизм не потерпел поражения, равно как и не одержал победы, что он имел слабое отношение к реальной истории советского общества, где вне зависимости от идеологических деклараций и экономических платформ была сознательно и бессознательно сделана попытка создания органического строя жизни. Советская литература 30-х годов выразила это переживание почти попперовского «закрытого общества», которое объединяется коллективистскими связями, общей телесной жизнью, ощущением роевого характера бытия. Похоже, что существовала некая третья субстанция, залегавшая глубже базиса с надстройкой, из нее-то все и произрастало.
М.Э.: Это вопрос степени, дозировки, но нельзя оправдывать марксизм, отрицая его непосредственное участие в построении советского коммунизма. Все произошло очень близко к Марксовым прописям, в соответствии с его рецептами. Для того, чтобы в обществе будущего прекратилась торговля, писал он и его последователи, это должно быть общество бухгалтеров, где каждый ведет подсчет, то есть неизбежна чудовищная бюрократия. Даже в самых массовых сборниках-цитатниках, выходивших огромными тиражами, можно найти конкретные пророчества о том, каким суждено быть социалистическому миру.
Ирина Врубель-Голубкина: Я хотела бы чуть изменить направление нашей беседы. Когда я просматривала ваши книги, у меня возникло впечатление, что вы как бы собираете материал для некоего нового соц-арта, идущего на смену реальному, историческому, соц-арту, который работал с языком советских мифов и идеологем. Не то чтобы вы легитимизировали или очеловечивали новые советские мифы, скорее вы их расширяете и в то же время переводите в разряд экзотики. Заниматься этим можно было лет двадцать назад, а сегодня вы выступаете в роли наследника, готовящего, повторяю, почву для нового витка соц-арта, хотя соц-артовский метод работы с материалом уже мертв, исчерпан.
М.Э.: Мне трудно разорвать пуповину с тем временем, когда я писал эти книги; происходило это не двадцать, а десять лет назад. Навряд ли они являются материалом для соц-арта, уместнее было бы назвать их его полуфилософским, полумифологическим аналогом. Для меня очень важно было зафиксировать следующую стадию в соц-арте, когда, вволю отсмеявшись и разоблачив всю мертвенность, всю условность советских мифологических кодов, он внезапно обнаруживает возможности положительного движения в этом пространстве, на сей раз уже в пространстве воображаемом, сослагательном. Те же секты, бесспорно, продуцированы социалистическим способом мышления, они тоталитарны, но каждая из них при этом раскрывает какую-то истинную потребность человеческого сердца, которая не может выразиться иначе, как в заштампованных формах сектантского сознания. Трафарет – это очень мощный эмоциональный и мыслительный сгусток.
И.В. – Г.: Аналог всему тому, о чем вы писали, можно найти и на Западе, в свободном мире. В сущности битники, хиппи, яппи или какие-нибудь приверженцы здоровой пищи – это тоже «сектанты», и, если бы Запад потерпел поражение и развалился, как советское устройство, вы могли бы описать подобного рода движения в книге, очень напоминающей ваше «Новое сектантство».
М.Э.: Но в том-то и разница, что эти течения успели воплотиться, став интегральной частью истории западного мира, тогда как секты, о которых я говорю, никогда не существовали – разве лишь в самом зародышевом состоянии. Скажем, были люди, наподобие литературоведа В. Непомнящего, у которых Пушкин начинал перерастать в религиозную фигуру. Мне хотелось сгустить, дооформить эти неявные тенденции и показать, что святость может существовать во всем, в том числе и в Пушкине, как в боге осени, боге весны, фигуре полуязыческой, полухристианской. Я хотел на примере этих семнадцати сект не только продемонстрировать порочность тоталитарной манеры мышления, но – и это самое главное – выявить позитивные свойства той реальности, каждая частица которой по-своему свята. Каждая секта проводит сектирование, усечение объема реальности, но внутри него она свою усеченную реальность освящает, абсолютизирует. Это не история советской эпохи, а ее воображаемое продолжение и сослагательное наклонение, то позитивное, что могло бы в ней выразиться и сказаться. Есть движение битников в истории западной культуры, но нет движения пищесвятцев или пушкинианцев в зафиксированной истории советской культуры.
Ирина Врубель-Голубкина: Но чем отличается сектантство от религии или от тех полурелигиозных культов, которые создает внутри себя каждое общество, будь то культ Шекспира или Хаима-Нахмана Бялика?
М.Э.: Объект сектантского почитания частичен, а отношение к нему целостное. В этом коренное отличие сектантства от религии, которая являет собой целостное отношение к целостному объекту: благодаря своей целостности он перестает быть объектом и становится Единым, Абсолютом, Богом Живым. Сектантство же выбирает дом, пищу, Пушкина – частичные объекты и придает им абсолютное значение.
И.В. – Г.: То же происходило и в свободном мире…
М.Э.: Да, но свободное общество устроено так, что оно вырабатывает механизмы компенсации этой частичности. Одна частичность признает права другой, и границы между ними установлены в законодательном порядке. В советском мире все было не так, но какое сильное духовное напряжение окутывало советскую реальность! Неужели оно выразилось только в «Кратком курсе ВКП(б)» и пособиях для молодой свинарки? С этим я не был согласен, и в частности «Новое сектантство» явилось результатом моего несогласия. По ходу писания этой книги я как бы проходил курс обучения у собственного бессознательного. Свойственное мне бессознательное ощущение святости многих вещей, меня окружающих, я пытался сознательно реконструировать в виде идеологически оформленных сект, дабы самого себя научить, во что можно верить, а во что верить не следует. Та дисциплина, которую я называю идеософией и которая, в отличие от идеологии, движется мудростью, позволяет прийти к выводу о настоятельной потребности нашей в единоверии, ибо пристало нам молиться так: «Един Ты, Господи, да будет едина и вера в Тебя». Единобожие – только первая стадия грандиозного процесса, который не может завершиться иначе, как единоверием, потому что если един Бог, то единой должна быть и вера в Него. Можно говорить о некоем метаиудаизме. Если иудаизм открыл единого Бога, то последующее религиозное развитие человечества через многообразие религий единого Бога способно прийти к объединению вер вокруг единого предмета веры. Таким образом, «Новое сектантство» – это упражнение в единоверии через многообразие сектантских ересей и ошибок.
А.Г.: Это может быть названо романом воспитания? Негативной теологией в проекции автобиографии?
М.Э.: Романом самовоспитания с попыткой преодоления ересей через их умножение. Такой апофатический путь. Каждая секта как бы сама высмеивает свою односторонность, сохраняя в себе горчичное зерно истинной веры. В другой моей книге, «Вера и образ. Религиозное бессознательное в русской литературе XX века», речь также идет о тех духовных потенциях, которые скрывались в беспросветном мраке советской эпохи.
И.В. – Г.: И которые сознавали себя как бессознательное…
М.Э.: Точнее, сейчас они могут себя осознать в таковом качестве и вследствие этого перестать быть бессознательным. Иными словами, я все время стремлюсь к выявлению позитивного духовного содержания, и в этой связи имеет смысл коснуться темы, о которой вы упомянули еще до того, как был включен диктофон, – о новой чувствительности в современной русской литературе. Это направление возникает после концептуализма, но неминуемо учитывает его, несет его в себе. Концептуализм был практикой обнаружения смерти слова – слово в советскую эпоху было умерщвлено. Одновременно он брал в кавычки не только идеологизированные и выхолощенные словесные знаки, специфически советские по своему устройству и происхождению, но и вообще высокие слова, бытующие в любой культуре. Концептуализм – это одно из направлений постмодернизма, и я напомню вам характеристику постмодерна, принадлежащую Умберто Эко. Когда современный человек хочет признаться в любви, он говорит не «Я тебя люблю», а «Я тебя люблю, как сказал бы такой-то», то есть он берет свою фразу в кавычки, и так же точно поступает постмодернизм: он все закавычивает, включая любовь. Концептуализм 70-80-х годов шел по пути умножения кавычек и демонстрации мертвенности слова, пока не уперся в тупик. В конце концов, слово «любовь» перестало обозначать что-либо, кроме любви к самим кавычкам. И следующая стадия состояла в том, чтобы начать обратный процесс – раскавычивания. Разумеется, эту обратную операцию можно совершить только с закавыченным словом, так что новый сентиментализм, новая чувствительность приходят после концептуализма. И мы видим здесь новое и горячее напряжение души, желающей работать с уже отработанным словом, превратившимся в штамп. Новая сентиментальность работает с мертвым словом, которое через глубину своей смерти удостоено воскресения. Мне вспоминается фильм Дмитрия Месхи «Над темной водой», он был снят несколько лет назад, и там якобы в пародийном ключе изображено поколение 60-х годов. Так вот, сын в этой картине спрашивает у своего уже покойного отца, с которым он ведет потусторонний диалог: «Зачем ты построил свою жизнь на дешевых эффектах?» А отец ему отвечает: «Что может быть прекрасней дешевых эффектов!» И мы понимаем, что дешевые эффекты действительно прекрасны. Вспомним Кибирова, очень близкого мне поэта: «Ангел тихий пролетел», «Мир спасется красотою, красотой», «Пасха, Лев Семеныч, Пасха», «Лев Семеныч, будь мужчиной, не увиливай от слез» – это из послания к Рубинштейну. Мужество уже состоит не в том, чтобы продемонстрировать свое превосходство над штампами, а в том, чтобы впадать в них, не бояться банальностей. Выясняется, что такие слова, как «ангел», «тихий», «люблю», – это не просто последние оставшиеся слова, но и первые попавшиеся. Банальность потому и банальна, что она, сразу попадаясь нам под руку, выражает движение нашей души. И подлинное литературное достижение людей, пишущих сегодня в манере новой чувствительности, заключается в том, что штамп может быть исключительно суггестивен, эмоционально насыщен, но это не препятствует ему быть штампом. В каком-то смысле это поистине чудо воскресения из смерти. Почему мы называем эту сентиментальность новой? Да потому, что чувствительность, не являющаяся новой, вечна, как вечна всякая пошлость, одинаковая во времена Пушкина, Кушнера или Алкея, эта сентиментальность никогда не умирает, ибо она и не живет. Сентиментальность же, о которой говорю я, совершается после смерти многократно закавыченного слова, когда распадаются кавычки и вокруг вернувшегося к жизни слова начинают летать птицы.
М.Г.: Наши рассуждения могут казаться сколь угодно умными и логичными, но настоящей проверке они подвергаются только тогда, когда мы прибегаем к конкретным примерам. Миша как бы между прочим назвал имена Кушнера и Кибирова. Конечно, в разговоре о пошлости и сентиментальности имя Кушнера как нельзя более кстати, поскольку этот поэт – замечательный образчик страшной советской пошлости и по сравнению с ним какой-нибудь Слуцкий вырастает до масштабов Гомера. Или Кибиров… Это такая литературная образованщина, представитель поколения, обученного концептуалистами и превратившего их достижения в банальность. Кибиров не использует пошлость и чувствительность в своих целях, как это делали концептуалисты. Он сам является пошлым и сентиментальным. Он эклектически паразитирует на материале, а не работает с ним как с сырьем. Теперь о так называемой душевности в искусстве. В свое время Клода Моне упрекали в том, что картины его холодны, что они отрезаны от эмоций, от подлинных человеческих переживаний. Сегодня они кажутся нам прочувствованными, теплыми и душевными. Да что там Моне, если такими же предстают и картины Сера и Синьяка, которые действительно были суровыми интеллектуалами, холодными экспериментаторами, наносившими свои точечки. Но их работы также вместили массу эмоций, переживаний. И легко предположить, что когда мы называем современное искусство бесстрастным, ледяным, враждебным человеческим чувствам, то происходит это по причине нашего невежества, как то было с первыми зрителями Моне, Сёра, Синьяка. Пройдет время, и все встанет на свои места, и девочки будут, обливаясь слезами, читать рассудочные интеллектуальные стихи Игоря Холина или Севы Некрасова. Просто такие девочки обычно появляются в следующем поколении. И вот еще что первостепенно важно. Каким бы бесстрастным, головным и отрегулированным ни казалось произведение литературы или искусства, но, если оно хорошо написано – я пользуюсь этим ненаучным определением, – оно непременно вместит уйму замечательных бактерий, которые мы называем человеческими чувствами, переживаниями. Его воздействие на нас неизбежно будет эмоциональным. Это закон искусства, проверенный тысячелетиями.
И.В. – Г.: Приятно, что наша беседа подошла к концу на такой оптимистической ноте.
М.Э.: Тем более, что время уже позднее.
«Зеркало» № 129, 1995 г.Тель-Авивские беседы
Коллективное инспектирование Пепперштейна
Разговор в редакции журнала «Зеркало» между Павлом Пепперштейном, Александром Гольдштейном, Михаилом Гробманоми Ириной Врубель-Голубкиной
Ирина Врубель-Голубкина: Разговор о Пепперштейне, «Медицинской герменевтике» и других близких этой теме предметах хотелось бы начать с того, что лично мне представляется главным: с проблематики художественного и аналитического языка, разработанного тобой и твоими друзьями в 80-е годы. Насколько я поняла из наших предыдущих, не записанных на пленку, бесед, ты продолжаешь настаивать на соответствии этого языка нынешнему положению вещей, тогда как, на мой взгляд, его время прошло, и более им пользоваться невозможно. Что «Медгерменевтика» собирается делать дальше?
Павел Пепперштейн: Вопрос подразделяется на две части, и прежде, чем рассказать, как мы намереваемся действовать далее, остановлюсь на языке и на том, можно ли к нему прибегать сейчас. Мне кажется, что наша ситуация ничуть не изменилась, потому что и в 80-е годы язык, запомнившийся как медгерменевтический, вызывал точно такое же раздражение и тоже считался не адекватным общему состоянию. В этом смысле на нем вполне уместно говорить и сейчас, иное дело – в какой степени мы сами того желаем. По моему мнению, на нем даже обязательно следует говорить, по крайней мере время от времени. Сегодня, когда все представляется дегерметизированным, открытым и проницаемым для всех, именно такие зоны, в частности языковые зоны, которые невозможно пропитать вниманием широких слоев интеллигенции, и являют собой ценность. Какого рода эта ценность? Может быть, культурная? Не знаю, тут мне сказать нечего, но, безусловно, в этих зонах присутствует определенная терапевтическая ценность. В свое время мы называли эти участки «площадками обогрева»: это своего рода приватизованные места в языке, откуда удобно вести описание, наблюдать за окружающим и при этом так организовывать свой дискурс, чтобы самому оставаться ненаблюдаемым. Если же тебя каким-то образом и видно, то настолько искаженно, что эффекты недопонимания, выстраиваясь в анфилады, порождают скорее нужные, нежели негативные следствия. Например, касаясь нашей художественной карьеры, сложившейся весьма успешно, можно с уверенностью заметить, что успех ее был вызван лишь тем, что нас совершенно не понимали. Когда бы нас понимали правильно, икакой карьеры и не было бы.
Александр Гольдштейн: Что означает в таком случае правильное понимание и на чем основывается ваше собственное понимание того, что вы делали и продолжаете делать? Как вы сами отличаете правильное от неправильного – не только в социальном, карьерном аспекте, но и в личном, художническом?
П.П.: Справедливый вопрос, я допустил неоправданную смелость, утверждая, что нас вообще можно было понять правильно. Деятельность наша изначально содержала в себе желание ускользнуть от интерпретаций и толкований, что было метафоризировано в уже страшно всем надоевшей, навязшей в зубах фигуре Колобка: мы постоянно говорили о колобковости как эстетической позиции и стратагеме поведения в культуре. Но кому, однако, эта фигура навязла в зубах? Тем лисам, волкам и зайцам, которые не смогли Колобка съесть и чьи пасти полнятся его отсутствием. Вообще очень легко вычислить, кто относится к колобкам, несущимся по своим тропам, а кто – к расставленным вдоль этих троп и тоже чрезвычайно важным персонажам ловли и охраны колобков: ясно же, что все эти волки, лисы и медведи не просто мечтают сожрать колобков, но и жаждут нечто охранять – они духи-охранники, стражи, образующие свою цепь. И в языке, которым пользуются те и другие, сразу прочитывается разница. Артикуляция усталости и фрустрации очень характерна для волков и медведей, чья критическая речь изобилует такими оборотами, как «и снова», «и опять». Это речь фрустрации, неизменно фиксирующая моменты тягостного дежавю, нерадостного узнавания, неизбежности, что мне очень напоминает замечательный фильм «Прошлым летом в Мариенбаде», начинающийся словами: «И снова я шел по этим коридорам» – мимо тяжелых портьер, канделябров, резных галерей. Образ тоскливого повторения, не ослабевающий на протяжении всего фильма, может послужить лобовым описанием доминирующего в наши дни критического дискурса, тогда как речи колобков, наоборот, свойственно полное неведение об этих фрустрациях: о каких заплесневелых и вечно повторяющихся вещах ни шел бы разговор, всегда и, как правило, неожиданно возникает момент, если угодно, глупой свежести, что похоже на легенду об Афродите, становившейся девушкой после каждого соития, заново обретавшей все ту же плеву невинности. Мы, конечно, типичные Афродиты, а потому не в состоянии ничего понять, когда к нам обращаются со словами «и опять то же самое», «да сколько же можно». До нас эти упреки попросту не доходят. Говорить так – участь мощных фигур, что стоят вдоль тропы, а наша задача – бежать по тропе. На этой патетической ноте…
Михаил Гробман: Я хотел бы вернуться к вопросу о понимании, а также к разговору о необходимости изменений. Дюрер сказал, что в искусстве разбираются только художники, а потом поправился, что и среди художников – лишь хорошие. Широких масс интеллигентных любителей искусства мы в расчет брать не должны, потому что понимание и вслед за ним признание неизбежно совершаются в очень узком кругу, причем не вполне ясно каком. Кто конкретно оценил и признал, скажем, Рембрандта – не было ведь на этот счет ни особого письма, ни специального циркуляра или приказа. Этот узкий слой вашу группу, к примеру, или каких-нибудь других художников понимал с самого начала – либо не понимал, если в нем доминировало тотальное неуразумение. Но главное вот в чем: раньше художник менялся внутри искусства, большей частью не выходя из его пределов, искусство же современное, независимо от того, верно ли судит о нем общество, с обществом активнейшим образом взаимодействует и вместе с ним, под его влиянием изменяется. У нас на глазах зародился и исчез соц-арт, ставший неактуальным в силу внешних причин, в результате общественных трансформаций. Россия 90-х годов кардинально отличается от России 80-х. Даже если психология людей осталась прежней, это уже другая страна, ты сам и твои друзья – вы находитесь в абсолютно новом пространстве, и говорить так, как мы все говорили еще недавно, может оказаться не просто бесперспективным, но и опасным. Вот почему я настаиваю, чтобы ты как-то определился по этому поводу и четче обозначил свою эволюцию, путь своих изменений от 80-х годов к годам 90-м, которые уже завершаются.
П.П.: Хорошо, я постараюсь ответить на этот вопрос, разве лишь скажу предварительно несколько слов о значении непонимания и в особенности недопонимания. Конечно, не возбраняется заявить, что люди не понимают искусства, а кружок посвященных, специалистов и художников, напротив, все о нем знает. Но что такое искусство, что лежит в его основе? Мне кажется, что в основе искусства лежит именно недопонимание, это одно из наименее уязвимых определений его сущности, его художественной, то есть фантазматической, природы – фантазм и является плодом недопонимания. Так ребенок, встретив в книге слова и описания, относящиеся к сексуальной сфере, и еще не догадываясь об их истинном значении, вынужден создать у себя в голове замещающие конструкции, призванные восполнить пустоту незнания: по всей вероятности, это и есть тот материал, из которого возникает искусство – оно апеллирует к пленке недопонимания. Художник, по-моему, тем и отличается от любого другого высказывающегося, что он неизменно стремится к питательной среде недопонимания, где плодятся выгодные для него и для зрителя фантазмы. Точнее всего это определяется английским словом misunderstanding. Журнал «Пастор» предложил ряду людей, в том числе мне, ответить на вопрос «Как я стал художником», и я написал небольшой текст, вспомнив в нем истории, запечатлевшие образ некоей первосцены, начального эпизода, послужившего впоследствии толчком для формирования эстетического опыта и призвания некоторых художников и поэтов. В частности, у Бунина есть замечательный рассказ о том, как он стал поэтом. Разглядывая в детстве какую-то книжку, он наткнулся на изображение горного ущелья, где вооруженный альпенштоком путник смотрел по ту сторону пропасти на «зобатого карлика» в странных коротких штанишках, а под картинкой была подпись: «Встреча в горах с кретином». В это мгновение, пишет Бунин, его пронзило ощущение чудовищной, непоправимой тайны. Он не знал, что такое кретин, он вообще не мог взять в толк, что же там происходит, но в эту секунду он и стал поэтом. Толчок в эту область, по-видимому, всегда спровоцирован недопониманием, которое осознается как неразрешимое, поскольку если оно ощущается как разрешимое, то человек скорее всего займется не искусством, а наукой или общественной деятельностью. Когда же человек остро чувствует неизбывность misunderstanding, или, иными словами, границы своего сознания, он, по всей вероятности, превращается в художника, что в свою очередь может объяснить столь свойственную людям искусства гордыню и желание славы. Эти качества восполняют глубинное смирение, глубинную нехватку, находящиеся в самой сердцевине занятия искусством, связанного с отказом от агрессии сознания в плоскость реального мира. В качестве компенсации за фатальную недостачу художник и требует к себе любви и внимания, мы же знаем, что все должно быть компенсировано. Но вернемся к 80-м и 90-м годам. Миша верно заметил, что все сейчас обстоит совершенно иначе, изменилась и моя личная работа, и функционирование группы «Медицинская герменевтика». Начиная десять лет назад нашу инспекционную деятельность, мы, в частности, писали, что одной из территорий, где происходят инспекции группы, нами выбрана зона современного московского искусства – «как достаточно приятное и достаточно безопасное пространство», а годы, прошедшие с той поры, это пространство перестало быть и приятным, и безопасным, теперь мы его не инспектируем, зона современного русского искусства уже не кажется нам привлекательной, мы занимаемся другими вещами. Территории интереса изменились, и, если уж говорить о пространствах, в наибольшей степени притягивающих наше внимание, следует в первую очередь назвать массовую культуру. Не потому, что она безопасна, этого, разумеется, нет, но лишь потому, что, с одной стороны, по отношению к ней нам механически, волею обстоятельств дана огромная дистанция, а с другой, – огромная доля участия в качестве потребителей этой культуры. Тут мне вспоминается один очень важный, поворотный для нас момент, когда в 1994 году во Франкфурте мы с Сергеем Ануфриевым записали на магнитофон пятьдесят бесед, перекрыв количество разговоров, записанных за всю историю МГ. Находясь там, мы говорили, что если традиционный интерес российских высказывающихся был сосредоточен на России, то сейчас об этом уже не имеет смысла рассуждать, а нужно сконцентрироваться на Западе. Дело в том, что у России больше нет и, вероятно, никогда не будет своей судьбы, – отныне все зависит от того, какой окажется судьба Запада. Западная же судьба отнюдь не очевидна, ибо Запад находится, я сказал бы, в интересном положении. Вот эта наша двойственная позиция – участников западного мира, но и людей извне – дает нам возможность инспектировать мир, обозревая и Россию как Запад, как новоприобретенные западные земли. Я лично не сомневаюсь, что Россия есть часть Запада, и в этой своей сущности она нами интерпретируется.
А.Г.: Вы сказали о своем нынешнем нежелании инспектировать пространство московского искусства, но в подтексте этого заявления мне почудилась потеря интереса к аналитическому рассмотрению современного искусства как такового. Чем вызвана эта переакцентуация внимания и фактический отказ от соотнесения с искусством, утратившим для вас «безопасность» и, вероятно, в силу этого привлекательность?
П.П.: Следовало бы повторить и подчеркнуть, что речь идет о современном искусстве, об устойчивом терминологическом словосочетании, обозначающем комплекс «модернизм плюс постмодернизм». Не только интуитивное чувство, но и рациональные аргументы позволяют уяснить, что утрата любопытства к этой сфере, а также и резкое ослабевание чисто энергетического импульса в ней самой произошли мгновенно после исчезновения советской власти. В тот момент исчезла ниша, или щель, в которой эти дискурсы развивались и существовали как действительно живые способы выражения, то есть зона современного искусства была зоной расщепления между двумя версиями западного проекта – капитализмом и коммунизмом. Если мы проследим за историей модернизма и постмодернизма, то обнаружим, что история эта так или иначе соотносится с левыми движениями. Виднейшие модернистские теоретики и практики были очень глубоко связаны не только с левой идеологией, но нередко и с соответствующими институциями, организациями, политическими партиями, тогда как постмодернизм во многом зависит от неоконсервативной реакции на коммунизм. В случае неофициального московского искусства, к примеру, имело место прямое противостояние советской системе.
И.В. – Г.: Касаясь постмодернизма, вряд ли правильно говорить о противостоянии, это понятие не кажется мне в данном случае адекватным.
П.П.: Возможно, противостояние – не самое удачное слово, хотя, как мне думается, критическое противополагание, пусть несколько по-другому сформулированное, здесь присутствует. Постмодернизм есть форма реакции на модернизм, что вытекает из самого названия. Парадоксальным образом он именно в этом своем качестве включается в модернизм, так же, как все типы политического противостояния коммунизму являются частью истории коммунизма, а не какой-либо иной истории. Когда же советская власть рухнула, а вместе с ней исчезла щель, разделявшая надвое западный проект, мир западного локуса приобрел определенную цельность, повсюду заслышались разговоры о единстве и глобализации, и не стало больше места, где современное искусство обитало как ангажированная зона, в которой циркулировало огромное количество весьма важных идей и вещей. Формально эта зона не испарилась, она сохраняется, потому что в наше время сохраняется, не исчезая, решительно все. Но фундаментальный ее статус теперь абсолютно другой. Современное искусство уже не имеет собственной задачи, оно существует в полнейшем от нее отрыве. Все произошло мгновенно, можно даже назвать точную дату перекодировки, совершившейся после второго путча, в октябре 1993 года. С этой поры современное искусство окончательно приступило к обслуживанию не своих задач, переключившись, допустим, на дизайн, декоративные функции, либо же удовлетворяя публицистические, журналистские потребности, став аппендиксом критической или протестной деятельности средств массовой информации.
М.Г.: Ты говоришь о современном искусстве в России или вообще?
П.П.: Я говорю о современном искусстве вообще.
М.Г.: Тогда позволь заметить, что большинство западных художников просто не заметило крушения советского коммунизма, это никак не отразилось на их работе. Развитие западного искусства происходило и происходит совсем по другим законам. И это при том, что на Западе всегда было и есть много художников, остро реагирующих на общественные изменения, но опять-таки вне всякой связи с историческими сроками советской власти и мирового коммунизма.
А.Г.: У меня не замечание, а вопрос. Явилось ли исчезновение щели, где помещалось современное искусство, прямым следствием того, что две главнейшие системные композиции если и не слились в объятиях, то завершили эпоху противоборства? Или это исчезновение – лишь внешний симптом необратимых процессов внутри самого современного искусства, то есть утраты им творческой, художественной воли, что обернулось и заметным оскудением интереса к нему со стороны публики?
П.П.: Я считаю, что исчезновение щели было результатом глобальных преобразований, вследствие чего трансформировался контекст, изменилось целеполагание обслуживающих искусство институций. Но и вся история современного искусства тесно взамодействовала с политикой, с различными версиями западного проекта. Она, эта история, замешана на горячих упованиях, а затем на болезненных разочарованиях в левой политической практике. Передовые теоретики постоянно обсуждали эти вопросы, художники были зависимы от теоретиков, в результате чего образовывалось кольцо взаимовлияний, порождавшее критический дискурс и вчитывание общего смысла в зону искусства. Я говорю о конце Советского Союза, и, хотя ситуацию можно выразить какими-то другими словами, суть ее такова: да, действительно, произошло завершение огромной эпохи, на смену которой пришла новая, иная. И современное искусство, бывшее полем столкновений различных языков и формальных идей, таковым полем экспериментирования быть перестало, причем не когда-нибудь, а сейчас, после крушения советского мира. Разумеется, было бы неправильно устанавливать непосредственную причинную связь, утверждая, что одно явилось прямым следствием другого, – нет, это не так. Однако падение советской власти и аннигиляция былой щели обитания искусства хронологически совпадают, события случились одновременно. Так произошло именно в силу их тесной взаимосвязи и синхронного реагирования социо-политической и художественной систем на мировые процессы. До этого огромного переворота почти все художники были так или иначе политически ангажированы, но что-то, что можно назвать единым внутренним пониманием, держало их в рамках вполне определенных эстетических занятий. Люди находились на общем для них полигоне, где испытывались те или иные варианты языка, формальных структур, дизайна – варианты, предназначенные для будущего. Даже постмодернизм, заявленный как нечто антиутопическое, конечно, содержал в себе утопию. То была утопия и политическая, и эстетическая. Утопия мягкой конвергенции противопоставленных друг другу идеологических миров, утопия мирного, взаимодополняющего сосуществования различных культурных языков, эры конца истории, которая активно обсуждалась в 80-е годы. Предполагалось, что конец истории несет с собой принципиальную новизну, и вот теперь-то жизнь пойдет по-другому. Такое ощущение было у многих, у одних окрашенное в тона пессимистические, у других – в радужные.
Девяностые дали миру само это Новое, продемонстрировав, что никакой новизны быть не может. История, как выяснилось, не только не завершилась, но, наоборот, продолжается и даже в самых архаических формах. Современность опять не наступила, как то бывало уже не раз, а потоки архаичной истории смешались с хлынувшими на них волнами технологических инноваций. Когда мы смотрим фантастико-приключенческие фильмы о будущем, мы замечаем, что грядущие времена там непременно изображены в крайне архаичном обличии, а потрясающими техническими изобретениями завладели псы-рыцари или скифы, мчащиеся по пустыням на электронных конях. Мотив безысходного, вечного возвращения в этих картинах очень силен. Не знаю, ответил ли я на вопрос.
А.Г.: Если современное искусство потеряло свою идентичность и уже не работает над поставленными им некогда перед собою задачами, то в каких рамках вы, как художник, мыслите свою деятельность?
П.П.: Современное искусство как промежуточный слой между элитарным и массовым типами языка в самом деле исчезло. Сегодня может существовать либо сугубо массовая форма культуры, либо, напротив, сугубо элитарная, причем последняя будет уже деиерархизированной, приватной. Поэтому сейчас очень важно продолжать ту деятельность, которая и была нами заявлена, – то есть инспектирование. В каком-то смысле мы по-прежнему занимаемся тем же, чем и всегда: осматриваем и оцениваем. Кстати, заявляя, что никому наших оценок не показываем, мы имели в виду, что их и нет, вернее, они содержатся в самом акте инспектирования. Как ни парадоксально, сейчас эта работа видится мне даже более важной, чем в 80-е годы, хотя мы и тогда предполагали, что скорее всего она пригодится потом, в следующий период. Недавно я прослушал записи наших бесед десятилетней давности – мы все время говорим в них о необходимости создания подвижных условий, гибких, флексибильных языковых структур, которые можно было бы транспортировать в очередной этап, в другой период. Для нас было очень важно вырваться из-под власти актуального, поскольку, находясь в этом облаке, ты неизбежно будешь снесен вместе с ним. Нам же очень хотелось, а может, у нас это и вышло, в таком облаке не быть, но просто смотреть на него, как смотрит на облака человек, чья специальность – наблюдение за ними. Ну, и записывать: вот сегодня они перистые или кучевые. Короче, мы эту деятельность продолжаем, но изменения в ней происходят очень глубокие, продиктованные эволюцией и сменой объектов. В 80-е годы мы существовали в очень уютном и замкнутом кругу, в нем циркулировали, всех посещали, а сейчас этого круга нет, или он выглядит по-другому…
И. В. – Г.: Как именно, Паша, он выглядит? И нашел ли ты ему хоть какой-то аналог на Западе – людей, с которыми были бы возможны похожие формы общения и взаимодействия? Удалось ли тебе найти коллег, занимающихся примерно тем же, что ты и твои друзья?
П.П.: Говоря «мы», я подразумеваю прежде всего группу «Инспекция “Медицинская герменевтика”», а также дружескую среду, которая действительно существует в Москве. Но это уже скорее круг общения, нежели собственно художественная среда, посвятившая себя профессиональной работе в искусстве. Раньше все происходило под знаком единой задачи, сейчас она не заявлена, нет больше об этом никакой надписи на небесах. Просто происходит общение, совместные развлечения, но для нас эта позиция представляет не меньший интерес. Есть люди номы, которые отчасти находятся на Западе, отчасти в Москве, но при этом возник и другой, более широкий круг молодежи, пока что не устоявшийся, с размытыми краями, и, живя в Москве, мы общаемся в границах этого круга. Мне не хотелось бы его описывать, потому что время еще не пришло. Описание предполагает все-таки стадию застывания, а в этом случае перед нами тектоника, лава.
М.Г.: Я хочу задать простой человеческий вопрос – вопрос о судьбе художника. Есть, допустим, принципиальная позиция Владимира Яковлева: художник как маленький человек, далекий от всего, обитающий в собственном личном пространстве и апеллирующий к столь же личным событиям и мирам своих зрителей. Но это очень редкая позиция в искусстве, художники всегда мечтали о подвигах, о славе, и в данном отношении ситуация никак не изменилась. По-прежнему в художественной среде существует сильная ревность, одним слава и деньги нужны только при жизни, другие – а я говорю лишь о хороших художниках, которым не удается достичь их в настоящем времени, – утешают себя примерами тех, кто был при жизни безвестен и беден, но зато после смерти стал неотъемлемым соучастником судеб будущих поколений. Это присуще абсолютно всем в искусстве, поэтому я хотел бы услышать от тебя, что ты думаешь на эту тему. Особенно, когда ты смотришь на знаменитых европейских художников с их персональными выставками в самых престижных местах, каталогами, монографиями или на некоторых московских людей искусства, также коснувшихся ситуации признания на Западе. Я предлагаю спуститься на землю и поговорить о судьбе художника, о его жизни и славе. Что ты можешь об этом сказать?
П.П.: Вы, Миша, задали сразу несколько вопросов, вычленим пока один – быт художника в Москве. Он очень неблагополучен, и, как правило, художники здесь лишены возможности зарабатывать на жизнь своими прямыми занятиями. Так же обстояло и при советской власти, но тогда это было связано с политическими и идеологическими причинами, а сейчас – с экономическими. Исключение – художники, получившие известность на Западе и зарабатывающие деньги там. Сам я отношусь именно к ним, потому что, кроме искусства, у меня нет другого источника существования, и этот источник – всецело западный. Изредка что-то купят в России, но это не в порядке вещей. Живущих в Москве художников чрезвычайно волнует ситуация с деньгами, и у них есть две основные надежды.
Во-первых, они ждут, что, может быть, их поддержат государственные структуры – министерство культуры, еще какие-нибудь институции. Скажем, возникнут стипендии или премии, которые наконец прольются на голову людей искусства. Другая надежда, и ее разделяют некоторые галеристы, – заинтересовать актуальным искусством русский разбогатевший слой: а вдруг он отвлечется от старины, от покупок антиквариата и обратит свои взоры в сторону современных художников. Это главные упования…
М.Г.: Я говорил не о заработках, а о подвигах и славе. Что касается денег, то я могу сразу сказать: «оставь надежду всяк сюда входящий». Мы видим, что нужно российскому истэблишменту, какие он учреждает академии, какое искусство поощряет и покупает, – он со своих путей не сойдет. Это же ясно, это решенный вопрос, тут принципиальное отличие от Запада, который современное искусство пестует, оберегает, строит для него музеи, выделяет дотации. Меня, повторяю, волнует иное – то, что волнует любого художника, от австралийского аборигена, рисующего картинки для туристов, до знаменитейшего американского классика. Подвиги и слава – об этом речь.
А.Г.: Сохранилось ли понятие честолюбия, стремление стать первым…
М.Г.: И в каких формах оно выражается?
П.П.: Я могу сначала поговорить о себе и о нашей группе, а потом уж перейти к остальным. Для «Медгерменевтики» была очень важна терапевтическая позиция, мы себя мыслили в роли терапевтов, и, в частности, терапевтов для наших друзей-художников. Художник, как вы правильно сказали, всегда страдает, он хочет славы, внимания, он продолжает мучиться вне зависимости от того, удается ли ему получить искомое. Поэтому одно из преломлений нашей телеологии – это внезапное пришествие в качестве терапевтов, чтобы хоть немного смягчить страдания художника. Понятно, что художнику мучиться необходимо, это входит в его инструментарий, но все-таки на каждое мучение должно быть и свое обезболивающее средство, и мы пытаемся эти средства изготовлять: больно смотреть на страдания прекрасных людей. А страдать, вообще говоря, совершенно не из-за чего. Стоит приблизиться к сияющим структурам, куда мечтает попасть художник, и становится ясно, что они не стоят мучений. Хотя бы потому, что не существует одной-единственной, общей для всех елки славы, таких елок – целый лес, и влезать на них не обязательно. Можно влезть, а можно – и нет. Мне кажется, все большее число художников, особенно младшего поколения, это уже понимают, и критерием успеха становятся только деньги. Другого критерия нет, все остальное – ложь и обман. Многих по-прежнему стремятся поймать на крючок престижа – давайте, мол, сделаем выставку в очень почетном месте. Но если в 80-е годы это невероятно работало, то теперь уже нет. Кому нужен престиж, если за него не платят? Желание славы сильно трансформировалось, стало конкретным, детализованным. Я практически не знаю людей, стремящихся к абстрактной славе, они все хотят чего-то конкретного, славы в определенной форме, а значит, и в определенных границах. Некоторые, конечно, жаждут беспредельной славы, но и они осознают, что достичь ее, занимаясь современным искусством, невозможно, это не тот огород, где произрастают такие крупные репки. Коль скоро тебе нужна общенародная популярность, то для нее существуют другие, простые и внятные пути. Меня, например, недавно сняли в качестве модели для журнала «Ом», я рекламировал хрустальные кольца, которые делает одна наша подружка. И я понял: это вещь, гораздо более ощутимая, нежели выставки, в основном эфемерные, потому что, когда я пришел в клуб, со мной сразу стали знакомиться разные девушки, узнавшие меня по фотографии. Я был им интересен отнюдь не в качестве художника, это их, вероятно, лишь отпугнуло бы, поскольку быть известным художником не очень-то модно. Нет, речь шла исключительно о модели с журнальной фотографии. Поэтому, если уж люди желают славы, они хотят ее чувствовать, иметь, осязать…
М.Г.: Паша, такой славы можно добиться, прыгнув с «Эмпайр стэйт билдинг», – правда, на один день, потом забудут. Но я говорил совсем о другом, о славе в мире искусства, когда тебя приглашают в самые изысканные места на общие международные выставки, когда тебе устраивают персональные экспозиции в лучших музеях. Вот о чем разговор…
П.П.: Ну, да, ну, да… Мне кажется, что исходя из отношения к славе в мире искусства можно выделить два типа людей. Одни мечтали о славе как о заслуженной награде за подвиги – ведь вы недаром, Миша, упомянули о подвигах. А подвиги в современном искусстве были возможны только в прошлом, когда искусство, как я уже говорил, представляло собой полигон, где сталкивались различные, крайне важные для всех модели языка, типы идеологии. И самым существенным было здесь то, что рекорды и достижения в этой сфере не являлись личным делом самих участников, но несли в себе общезначимую ценность и интерес. Слава, поступавшая с этого полигона, была действительно заслуженной, и равнялась она не объему вложенных стараний, но объему ее значимости для других. Второй вариант – вариант Остапа Бендера. Человек видит перед собой оживленную зону и массу наивных людей, среди которых можно добиться процветания и успеха, присосаться, изловчиться и устроить свои дела. Надо сказать, что раньше субстанциальной разницы между двумя этими категориями не существовало вообще, ибо во времена, когда зона искусства была заряженным полигоном, даже человек авантюрного склада, принимаясь играть на ее территории, механически задевал множество нитей, обладавших значением для других и для будущего. Сейчас из этой зоны исчез свойственный только ей, не воспроизводимый никакими иными способами тип значимости, и люди того и другого склада тоже перемещаются из нее в иные пространства. Если же они и используют современное искусство в своих целях, то лишь потому, что не в состоянии сразу, немедленно выйти на цветущие поляны успеха и вынуждены прибегать к этому – одному из приемлемых трамплинов для последующих прыжков и взлетов. Хороший пример – Владислав Мамышев, Владик Монро, весьма популярный в Москве художник, человек сцены, прирожденный шоумен, очень любящий славу как непосредственную эротическую стихию. Почему он занимается современным искусством? Да потому, что так уж сложилось. Все это похоже на то, что происходит с некоторыми красивыми девушками на Западе, которые начинают сниматься в порнофильмах, надеясь, что их заметят и позовут в Голливуд. Здесь человек тоже надеется, что на него обратят внимание и он попадет на большую сцену, в большой дизайн, в большое кино или в большую литературу. Современное искусство потеряло не только собственное целеполагание, но и собственную славу – свой лакомый объект желания. Оно используется лишь в качестве трамплина для прыжка к славам в других областях, что, как мы видим, возможно, этот ход срабатывает. Через открытую зону искусства можно выйти к более интересным и перспективным пространствам, в то время как просто быть приглашаемым на престижные мероприятия, иметь выставки… Это, конечно, приятно и всем хочется, но уже недостаточно. Что привлекательного в званом обеде, если его способен устроить любой человек с деньгами? Происходит демократизация и, соответственно, коммерциализация всего и вся. Боря Гройс рассказывал об одном своем студенте, внезапно получившем огромное наследство. Молодой человек сразу же перестал посещать лекции по философии, но интеллектуальных интересов не утратил и, будучи очень богатым, ввел такую практику. Он предлагает известнейшим из нынешних мыслителей, допустим, Деррида, Бодрийяру – впрочем, я не знаю, кого он зовет, но в любом случае это имена крупного калибра, первого ряда, – так вот, он приглашает их приехать к нему в замок и провести несколько часов в философской беседе. Обед, прогулка, а затем знаменитому гостю вручается за труды изрядная сумма в конверте. И никто не отказывается… Прямые, непосредственные ходы, когда художник остается художником и зарабатывает очки в своем виде спорта, оказываются нерентабельными. Аналогия со спортом, который все более коммерциализуется, помогает этот процесс описать. На чем держалась традиционная спортивная харизма? На том, что спорт – это мирный вариант войны. И пока существовала энергетика различных национальных команд и отдельных, избранных спортсменов – с одной стороны, представителей своей личной легенды, а с другой, своей страны, – до тех пор это занятие было заряжено общезначимой мифологией. Сейчас харизма этого дела исчезает, поскольку, стоит кому-нибудь вылезти, как его перекупает другая команда, тоже не закрепленная ни за какой страной. Все открепляется от национальных мифов, от военно-мифологических структур и переходит на новые рельсы. То же самое – в искусстве, порождающем иной тип фантазма о славе. Соответственно, мало осталось художников, сосредоточенных на специальной художнической славе. Или они хотят добиться нормального преуспевания, или, если эти люди более честолюбивы, они стремятся через искусство вылезти кто в политику, кто в моду, кто в кино, литературу, философию, еще куда-то…
И.В. – Г.: Туда, где есть деньги.
П.П.: Деньги есть и в искусстве. Туда, где есть энергетика, общая значимость.
М.Г.: Я все-таки делаю последнюю попытку добиться ответа на свой вопрос…
И.В. – Г.: Да Паша тебе уже все сказал…
М.Г.: Нет, не получил я ответа (смеется). Когда я говорю о славе, то имею в виду традиционную, стандартную ее модель, которая испокон веков существовала на Западе, она и сегодня там есть. Это такая же общепонятная вещь, как хлеб – он всегда был необходим, необходим и теперь. Что такое слава? Предположим, работает человек в области концептуального искусства, и выходит где-нибудь в Германии или в Америке книга о концептуализме от Дюшана до наших дней, и этот человек в нее попадает, он в одном ряду с важнейшими героями направления. Выходит энциклопедия современного искусства – он в ней тоже присутствует. Художники мерят славу степенью своего участия в этих итоговых, определительных перечнях, в списках истории. На Западе все это осталось. Но что делать русскому художнику, если для него, за исключением единиц, закрыты ворота в европейскую славу, а Россия не принадлежит к числу стран, в которых происходит по-настоящему престижная художественная апробация, приобщение к сонму международных знаменитостей?
Что ему делать, повторяю, если он лишился классической основы, если у него отняли реальность мечты, питавшей Рембрандта, Ван Гога, всех остальных: ничего, думали они, придет время, и я, непризнанный, еще попаду в эти книги! Как ведет себя нынешний русский художник в абсолютно новом пространстве, откуда улетучилась классическая надежда людей искусства? Он работает, он открыл какой-то новый язык, но все ушло из его рук, ему ничего уже не удастся достичь. В таком положении художники еще никогда не оказывались. Вот что меня действительно интересует.
П.П.: Что касается упомянутого вами хлеба, то есть страны, где его не едят. И вся модель славы, сопряженная с историей, с попаданием в книги итогов – это иудео-христианская теологема, восходящая к образу Книги Жизни, куда Господь записывает имена, а если чье-нибудь имя в нее не заносится, значит, для человека все потеряно. Теологема эта не является всеобщей, она имеет историко-географические границы и связана с иудео-христианским образом Бога, неустанно славящего Себя. Бог в нашем регионе окружает Себя мириадами ангелов, которые поют ему «Аллилуйя!». Бог пребывает в стихии славы, и этот глубинный теологический пласт определяет мотивы поведения людей иудео-христианского мира, снедающее их желание запечатлеться на страницах наиглавнейшего фолианта. Но, к примеру, на Дальнем Востоке ничего этого нет, и в сознании Хокусайя, повлиявшего на Гогена, Ван Гога, не содержалась мысль о необходимости быть вписанным в Божественную Книгу. Он просто был мастером своего дела…
М.Г.: Должен тебя поправить. Как раз там, на Дальнем Востоке, возникла институция отречения от своего имени, что свидетельствует о существовании книги славы, и тот, кто этой славы добивался, нередко начинал с чистого листа, с отказа от имени и достижений. Художники серьезно относились к своей духовной жизни и противились паразитированию на одном и том же успехе – следовательно, понятие славы было развито сильно.
П.П.: Тем не менее Дальнему Востоку свойственно более реалистическое понимание славы как чего-то амбивалентного, к чему не столь обязательно стремиться. Там это не финальный объект вожделения, а проходной этап, и важно в нем не увязнуть. Короче, слава – вещь не универсальная, она имеет свои пределы, и художник, нацеленный на то, чтобы остаться не в каких-то абстрактных анналах, а в летописях современного искусства, находится сейчас в очень проблематичном положении. Думаю, что помочь ему ничем нельзя. Поезд ушел. Такой человек способен стать знаменитым художником, но в историю современного искусства он уже не войдет. Однако можно попасть в историю искусства как такового, искусство же никуда не делось, наоборот, оно-то и осталось после исчезновения современного искусства. Но все осложняется тем, что единой истории, единой скрижали пока нет и лишь будущее покажет, возникнет ли она и кто ее сформирует. А сформировать ее могут как угодно, в зависимости от того, кому и что окажется выгодно: например, в советских курсах истории словесности Державин считался менее весомым автором, нежели Фонвизин, ибо последний изображал социальные типы. Перекодирование истории искусств происходит столь же легко, как и перекодирование истории политической, любой другой истории. Поэтому люди обычно не заинтересованы в исторической, отсроченной славе, они ориентированы на славу здесь и сейчас.
Более того, им нужна не столько сама слава, сколько ее последствия, а тут уж кто что любит. Одному, предположим, нравится, когда его узнают на улицах, и коль скоро ему нужно это, то бессмысленно делать инсталляции.
Даже если инсталляция получит суперприз, на улице ее автора не заметят. Вот Кабаков, очень известный художник, но где бы он ни ходил, внимание на него обратят только те, кто его и так знает. А узнавать будут актеров, певцов – персонажей, чьи лица мелькают на масс-медиальной поверхности. Кому-то нравится влиять на образ мысли. Это другой тип честолюбия, в свою очередь диктующий определенную стратегию поведения. Третьему непременно надо обзавестись роскошным домом. Мне кажется, в этой демократической ситуации художники, пытающиеся обосноваться в анналах современного искусства, смотрятся несколько анахронично. Но не в этом дело. Ну, анахронично – и что с того? Суть в том, что не понятно, как вообще решить их проблему, как их удовлетворить, чтобы они почувствовали себя хорошо.
И.В. – Г.: Твои слова, Паша, полностью противоречат тому, что не устает провозглашать Илья Кабаков. Он говорит о современном западном искусстве как об ослепительной системе институций. По периметру и на входе в нее располагаются заведующие отбором кураторы, и попасть внутрь этого хрустального дворца – необычайное счастье, сопровождающееся муками, обидами и боязнью, что, даже оказавшись в залах признания, ты не гарантирован от участи быть внезапно изгнанным прочь. Кстати, вместе с кураторами, которые тоже ничем не застрахованы и, несмотря на свою кажущуюся власть, всего лишь сотрудничают в общей структуре страха. Из рассказов Ильи следует, что, может быть, эта система важнее самого искусства и уж во всяком случае искусство обитает только в ней, нигде кроме для его фантазмов нет места.
А.Г.: Происходит непрерывная личная драма, несколько напоминающая гротескную ситуацию из классического модернистского романа: человек годами сидит у врат Закона, путь ему преграждает в одном лице ключник и страж, и, хотя врата эти предназначены исключительно для просителя, войти в них трудно до безнадежности. Невозможно забыть прекрасные, страдальческие слова Кабакова о приемных экзаменах, о бесконечных испытаниях и благотворности давления, страха: ужас, что художника прогонят из институций, из чертогов Закона, обостряет его тягу к искусству и даже, если развить кабаковскую мысль до логического предела, служит единственным стимулом этой тяги.
П.П.: Эта мифологема, отточенная Ильей до состояния брильянта, была очень уместна в конце 80-х годов. У меня на сей счет другое мнение; правда, мне кажется, что Илья уже тоже думает немного иначе, по крайней мере мы соглашались друг с другом, когда недавно говорили на эту тему. Он сейчас описывает ситуацию в гораздо более личных терминах, это его персональная мифология. В этом смысле замечательный, прямо-таки гениальный текст написал он для «Пастора», отвечая на вопрос, как стал художником. Однажды, будучи очень маленьким, он в парке забрался на эстраду и прочел стишок, из чего Илья делает вывод, что в нем заложено глубокое желание репрезентироваться, быть принятым.
Любопытно, он повторяет здесь говоренное им и раньше, но на этот раз все переводится в личную плоскость, перекодируется на субъективный лад. Я не сомневаюсь: еще какое-то время назад его ощущение было не субъективным, а характеризовало общую ситуацию, и поэтизирующая реакция Кабакова явилась отражением того, что воспетый им мир художественных институций в прощальный раз сверкнул своими гранями и попал в поле зрения художника, который – как настоящий превосходный поэт – воздал по заслугам этому финальному сиянию и блеску.
А.Г.: После этих слов грех не задать личного вопроса. С каким типом честолюбия вы все-таки связываете свою деятельность, если, конечно, вам сколько-нибудь свойственно честолюбие, и что вами движет в художнической работе?
П.П.: Я в основном движим различными страхами, опасениями; честолюбие тоже есть, но оно ими перекрывается. Скажем, моя активность в области современного искусства очень возросла во время нестабильности в России, когда мне по житейским соображениям казалось, что надо на Западе копошиться и зарабатывать, – возвращаться в Москву было страшно. У меня нет особой фиксации на искусстве, это просто мое естественное занятие, я с детства рисовал, рисовал. Будь я страшно богат, я не стал бы участвовать ни в каких выставках, обременяться. Эту сторону художественной деятельности я воспринимаю как необходимость – чтобы деньги продолжали поступать и чтобы на х… не послали. Но если б я был обеспечен… я, например, очень люблю путешествовать, до сих пор все мои поездки были связаны с современным искусством, каковые занятия я использовал в качестве предлога для перемещений, но, окажись у меня много денег, я просто путешествовал бы, безотносительно ко всем обязанностям. Недавно нам удалось совершить три такие поездки в Азию, и я был страшно доволен, впервые за долгое время ощутив себя не странствующим по своим делам художником, а туристом. Хотя все это сложно и разочарование сюда примешалось немалое. Вначале был огромный энтузиазм и вера в то, о чем говорил Кабаков, вспоминаются, как выражались в Советском Союзе, моменты «глубокого удовлетворения», когда сделанная тобой выставка и полученная на нее реакция соответствовали твоим представлениям и ожиданиям, но, поскольку процент неудовольствия тоже был велик, возникло желание не быть приклеенным к этой области, захотелось свободно дрейфовать. А что до моих личных констант, то я занимаюсь литературой, писанием теоретических, дискурсивных текстов и рисованием – графикой. Это три персональные линии, которые я веду помимо работы в «Медгерменевтике», и я не прочь попробовать себя в четвертой: мне было бы очень интересно снять кино, настоящий фильм на полную катушку, но пока не знаю, как в эту зону прокрасться.
И.В. – Г.: Почему все-таки группа, Паша? Какую ценность представляет для тебя сегодня групповая работа?
П.П.: Продолжать групповую работу следует хотя бы для того, чтобы не стать достоянием истории. «Ох, эти проклятые книжищи, сгубили вы нашего мальчика» – помните замечательное стихотворение Лимонова? У нас к этим историческим книгам итогов отношение двойственное: разумеется, попасть в них приятно, но, с другой стороны, нельзя позволять, чтобы они сожрали тебя, – мы же не материал для книжищ, а самостоятельные, ускользающие колобки. Как только мы скажем, что МГ подошла к концу, и объявим о прекращении совместной работы, тут рыба истории нас сразу же и проглотит. Мы предпочитаем нашу деятельность длить, но многое из того, что мы совершаем, остается нерепрезентированным. В эпоху колоссального информационного шквала крайне важно давать неполную информацию, и сведения о нашей группе мы сообщаем весьма дозированно, акцентируя внимание не на том, что делаем сейчас, а на том, что было нами сделано несколько лет назад. Важно не быть в режиме послушной, оперативной подачи сведений о себе. Ведь все мы живем в период, когда средства информации взяли на себя функцию, которую раньше выполняли инстанции, наподобие КГБ. Если прежде это была секретная система слежки, то демократическое общество предполагает, что каждый должен донести сам на себя, быть своим собственным стукачом, дабы государство не расходовалось на установку в его квартире скрытой камеры. Базовой основой этой системы самослежения и самодоноса является психоаналитическая модель – на ней и построена современная демократия. Посмотрите, с какой невероятной непосредственностью подают о себе информацию западные художники. Имея опыт преподавания в западных арт-колледжах, я не раз сталкивался с тем, что студент немедленно демонстрирует тебе порт-фолио, где аккуратнейшим образом представлена вся его деятельность – так, чтобы удобно было с ней ознакомиться. И, пока ты смотришь порт-фолио, он подробно рассказывает, кто его родители и какие у него отношения с девушкой. Это отнюдь не эксгибиционизм, но система тотальной прозрачности, где зона прайвеси не предполагает приватной укрытости: наоборот, все видны всем и знают, что у кого в холодильнике. Мы же продолжаем перечить этой глобальной системе и вносим в общий регламент массу скрытых нарушений, дисфункций.
М.Г.: При чем тут самодонос? Это попытка сообщить о себе информацию в то место, в котором человек заинтересован, в котором ему хочется быть. Никто его к этому не принуждает, он сам выбирает себе поприще, и если таковым становится для него искусство, то естественно, что ему нужно продемонстрировать свои способности и результаты – составить порт-фолио, доказав, что он лучше прочих.
П.П.: Все верно, существует модель показа своих достижений, например, умения прыгать. Но когда общаешься с молодыми западными художниками, то говорят эти люди не о том, как здорово они прыгают, а о том, что болит нога. Сообщается масса сведений негативного толка, вовсе не информация об успехах и профессиональном умении. Мама была невротичка, дедушка – сумасшедший сектант… Многие студенты начинали разговор со своей неспособности к работе и затем излагали причины: травма, кризис, ушла девушка, бросил парень. В демократической системе невозможность работать приравнена к замечательным достижениям, потому что все должны быть на равных. Ну, да, этот не способен к работе, но зато он может прекрасно рассказать, отчего оно так получилось. А этот, наоборот, что-то делает – пусть и он расскажет, что его к тому побудило. Наверное, у него были хорошие родители. Главное – рассказать. Исповедальная культура, мы живем в очень исповедальном мире, где исповедь – самый популярный жанр, идущий от Блаженного Августина, Руссо. Совсем не отчет о подвигах и победах, напротив, – о прегрешениях и мучениях, это гораздо более интересно читателю.
А.Г.: В какой степени на вас повлияли восточные способы мысли и чувствования? В словах ваших постоянно присутствует оппозиция западному, иудео-христианизированному миру высказываний – самых разных, от художественных до исповедально-практических, связанных с религиозной культурой этого ареала.
П.П.: Не то чтобы оппозиция, но восточные влияния действительно были и остаются существенными, причем для всей нашей номы, тут круговое воздействие. Китайская, прежде всего, литература и философия… Для МГ, если рассмотреть этот вопрос уже не в плоскости влияний, а с точки зрения материала, с которым мы работаем, огромное значение имеет традиция китайского классического романа и, в частности, одной из матриц нашего с Сергеем Ануфриевым романа «Мифогенная любовь каст» – сейчас мы пишем второй его том – является знаменитая проза XVII века «Путешествие на Запад» У Чэн-эня.
А.Г.: А, этот гигантский четырехтомник с приключениями и волшебством…
П.П.: Он самый. К этой вещи мы много раз прибегали в интерпретационных и литературных целях. Мы соединяем традиции русской литературы, китайского романа, который, между прочим, был жанром непрестижным, массовым и только гораздо поздней стал классическим, и такого современного вида словесности, как фэнтези. Но китайский роман нам ближе, и даже используемые нами масс-медиальные жанры пропускаются через фильтры этой традиции или, точнее, через фильтры фантазмов о ней. Разумеется, все это не столько реальный, сколько наш Восток, что отражено в выставке «Шизо-Китай» – мы придумали этот термин и инспирировали идею.
А.Г.: Вы как будто следуете просветительскому обычаю, который тоже был терапевтическим и вдобавок все время создавал воображаемые китайские миры – от трактатов иезуитских миссионеров до сочинений Вольтера, Гердера или экономиста Кине, считавшего Поднебесную образчиком пленительных гармоний.
П.П.: В нас есть душок XVIII века – что называется, «Рассуждение о пользе приятного и приятности полезного». В каком-то смысле все рассуждения МГ умещаются в эту формулировку (смеется).
М.Г.: Имеется определенная линия русской литературы XX века от второго авангарда 60-х годов до МГ, причем МГ – это и «Медгерменевтика», и Михаил Гробман…
П.П.: Одно и то же…
М.Г.: Очень четкая линия, мы всегда считали ее единственно верной и единственно существующей, и отношение к ней со стороны интеллигентского сознания за прошедшие годы почти не изменилось – она им по-прежнему отторгается. Параллельно мы видим невероятно яркие сполохи и огни разных прочих русских литератур, но если ситуацию огрубить, то она выглядит следующим образом: есть литература наша – и вся остальная, неважно, хорошая или плохая. Эта вторая, не наша словесность соответствует даже не массовому, а широкому интеллигентскому сознанию, в ней находится, например, Бродский, там же состоят литературно-политические диссиденты. Как ты реагируешь на такое положение вещей, что ты думаешь, глядя на эту одинокую, до сих пор, в сущности, никому не нужную линию в море посторонней или враждебной ей литературы?
П.П.: Мне кажется, что глубинная установка на большую русскую литературу продолжает существовать, чему свидетельство – желание таких писателей, как Сорокин, и некоторых других авторов нашего круга стать частью традиции, идущей от Пушкина, а не от авангарда. Иными словами, они хотят выйти из маргинальной ситуации и попасть в хрестоматию…
М.Г.: Назвать сегодня имя Пушкина – все равно что не сказать ничего. Пушкин – это ноль или все, его имя не несет в себе содержания…
П.П.: Я так не думаю. Важна общепризнанная иерархия, причем любопытно, что в данном случае иерархия, конституирующая мир русского языка и словесности, является внутренней: Пушкин – фигура совсем не интернациональная, его нет снаружи. Положение, сложившееся сегодня вокруг русской литературы, противоположно тому, которым характеризуется нынешнее бытование русского и в целом – современного искусства. Никакого параллелизма я здесь не вижу, напротив, все обстоит ровно наоборот.
Ситуация, связанная со словесностью, уже потому представляется мне несравненно более оптимистичной, что в огромный туннель, вырытый русской литературной традицией, вкачана масса разнообразной энергии: исторической, либидонозной, этической, религиозной, какой угодно иной, и этот процесс не закончен, слухи о его завершении – очевидное преувеличение. Пока за всем этим делом стоит система государственного языка и государственной самоидентификации, – а она, безусловно, стоит – большая литература продолжается. Я далек от мысли измерять величие литературы достоинством писателей и текстов, по моему убеждению, это величие достигается объемом вложенных в литературу инвестиций, то есть интересов и потребностей государства. И возникает исключительно важная проблема: роль русского языка как медиатора между составляющими Россию регионами, населенными людьми с разной культурой, говорящими на различных наречиях. Пушкин оттого и стал «солнцем русской поэзии», что сфокусировал на себе имперскую функцию этого посредничающего языка – в «Памятнике» о том сказано прямо. Он перечисляет народы, которые должен соединить в нечто целое, и ни разу не выходит из пределов Российской империи. Поразительная точность: славянин, тунгус, калмык, отнюдь не англичанин или француз. Глобальный политический вопрос удержания разноплеменного, разноязыкого государства по сей день решается с помощью русского языка и, следовательно, русской словесности – этой работающей машины, этой конъюнктуры фантазмов, встроенной в центральный блок языка. Поэтому наши с Ануфриевым претензии очень высокие – войти в стержневую линию. Когда я читал в одесском Доме ученых фрагменты из романа, старушки спросили меня, зачем мы вообще это пишем, и я ответил: цель очень проста – быть включенным в школьную программу. Это и есть высшее достижение в русской словесности, потому что, пока этого не произошло, литература находится в рамках рынка, где она зависит от колебаний читательских вкусов, от изменяющихся представлений. И только будучи включенной в школьную программу, в систему обязательного ознакомления литература извлекается из конъюнктуры желаний и спроса, она канонизируется, приобретая религиозный статус. Качество произведений не имеет большого значения, о нем даже вообще бессмысленно говорить, главное – канонизация, выпадение из механизма случайностей. Бродский войдет в этот стержень, войдет в него и Сорокин. Тут важен баланс – немного духовного, немного говна. И у Бродского, и у Сорокина, и у нас очень важна эта четкая ориентированность на государственное использование языка и литературы, в каких бы формах – величественных или распадающихся, бредовых – ни совершалось оприходование речи. У того же Сорокина сквозь все его скатологические заклинания слышится звенящая мощь государственной машины…
А.Г.: Ваши литературные претензии совершенно обратны тем, что свойственны вам в современном искусстве: вы хотите, чтобы вас окликали и славили смотрящие со школьных стен ангелы, и мечтаете стать святым, потому что, как говорил Константин Леонтьев, свят только тот, кто церковью признан святым после кончины…
П.П.: Да, да…
И.В. – Г.: Вы, таким образом, пишете для людей, вы хотите быть понятными…
П.П.: Спорный вопрос. Литература, популярная, адресованная людям, очень часто в школьную программу не попадает. Разница стратегий в искусстве и литературе обусловлена тем, что в последней иерархия сохраняется и эта ценностная елка вроде бы – ручаться, разумеется, нельзя – обещает выстоять, уцелеть. По крайней мере в русской литературе такая елка существует в единственном числе, тогда как искусство, я уже об этом говорил, располагает целым лесом равновеликих деревьев, и каждый раз под Новый год их срубают и куда-то уносят. Но насчет литературной елки – это, конечно, гипотеза.
А.Г.: Тем не менее эта гипотеза определяет ваше поведение как писателя.
П.П.: На данный момент определяет, причем это фиксируется интуитивно и затем подтверждается непосредственно, опытным путем: все равно что вытянуть руку и почувствовать – вот здесь ветер дует, а тут уже нет. Возьмем в особенности жанр романа, имеющий глубочайшие психопатологические корни, связанные буквально со всем: с династией Романовых, с романской преемственностью от Рима… Наша – моя, в частности, – жизнь строится по викторианской бинарной модели, где один из джентльменов воплощает добропорядочную корректность, а другой – теневую сторону бытия; литература, писание нами романа соотносится с изнаночным Хайдом, но зато обращено к чему-то неубывающему, к темной долгосрочности большого проекта, тогда как, занимающийся искусством, Джекиль, хоть и пребывает на освещенном пространстве, не может гарантировать его долговечности. Все временно, но объемы времени различны, и мои ощущения относительно современного искусства – неутешительные. Правда, они продиктованы и желанием, потому что в каком-то смысле мы не желаем современному искусству добра (все смеются), а русской литературе желаем всего самого хорошего. Но ведь желания наши растут из обстоятельств реальности, мы выдрессированы так, чтобы желать реального.
И.В. – Г.: Какого рода мифологию вы используете, мечтая попасть в стержневой литературный язык государства?
П.П.: Когда читаешь роман малоподготовленной, не своей публике, огромное количество нареканий вызывает употребление мата. Считается, что мат и всякие гадости маргинализуют литературу, которая тем самым выдает свое намерение быть революционной, шокирующей – не стержневой, не центральной. Что делать, мы по природе своей экспериментаторы и, как ни прискорбно, остаемся современными художниками, концептуалистами: даже в школу хрестоматийной литературы мы стремимся попасть необычными путями, базирующимися на наших собственных гипотезах и теориях. В частности, это касается мата, ибо мы исходим из допущения, что мат не только приобретет легальный статус, но станет крайне официозен. Его переработают в язык пафосной национальной идентификации, в этих бранных словах снова откроют сакральное измерение, они будут причислены к величайшему достоянию русского языка. Мат есть язык в языке, он эмбрион в теле русской речи и как таковой представляет собой огромную ценность, подвергающуюся, на мой взгляд, постепенной официализации. Это связано с крушением советской власти, которая огромным блоком стояла на его пути, и очень значимо, что впервые на экранах телевизоров мат прозвучал из уст Горбачева, пославшего на х… путчистов. Горбачев – настоящий медиум, он акцентировал этот момент и не единожды, а несколько раз произнес: «я послал их на х… на х..!» Но кого он послал на х..? Тех, кто собирался бороться с пропагандой секса, что означало на деле борьбу с языковым сексом, с речевыми порнографиями. Горбачев показал, что такая борьба обречена и лезущий отовсюду мат непобедим. Первым, однако, был Хрущев, недаром его называют провозвестником всего передового, это он, когда его смещали, сказал: «Ну, и е… с этой Россией сами». Но то были слова отстраняемого от власти, а Горбачев сам отстранял других, и, полагаю, вскоре за этим типом высказывания закрепится сугубая пафосность, что-нибудь вроде: «Пошлем на х… американцев» – многое будет зависеть от конкретной политической обстановки. Я приветствую этот процесс…
А.Г.: И он происходит, уже в фильме Невзорова о чеченской войне мат трактуется как священный язык русских воинов.
П.П.: Тот факт, что эта модель прокручивается в фильме Невзорова, демонстрирует, что ее внедрение застопорилось покамест на стадии политической реакции, но реакционерам не удастся удержать это мощное оружие в своих грязных руках, оно перейдет к власти, к центральным фигурам. Ельцин никогда не матерится, но зато тип его опьянения, его дзэнское поведение…
А.Г.: Скорее даосское…
П.П.: Дзэн и есть приспособление буддизма к антибуддийской, по сути, даосской доктрине. Так вот, на уровне жеста Ельцин подготовляет финальный фазис языковой революции. Поэтому мы используем мат отнюдь не как шокирующий, эпатирующий элемент, а с расчетом на его будущую гиперлегитимацию. Предположение это может оказаться неверным, и тогда мы не попадем в школьную хрестоматию, однако это нам не слишком и важно (смеется). Парадоксальным образом – и тут мы чистые концептуалисты – для нас существенна сама идея, а результат, будь он негативным или позитивным, имеет смысл лишь с точки зрения экспериментальной проверки исходной конструкции. Так что деятельность наша вполне бескорыстна (общий смех всех участников разговора).
«Зеркало» №№ 9-10, 1999 г.Остров любви или полуостров отчуждения? Проблемы еврейской идентификации
Круглый стол журнала «Зеркало»
Участники:
Ирина Врубель-Голубкина, главный редактор журнала «Зеркало»
Члены редколлегии
Александр Бараш, поэт
Александр Гольдштейн, писатель
Михаил Гробман, художник, поэт
Яков Шаус, литературный критик.
Ирина Врубель-Голубкина: Формальный повод для нашего разговора – новые публикации «Зеркала». «Русский манифест» Дмитрия Сливняка, нашего постоянного автора и доброго приятеля, удивил даже нас крамольными – с позиций сионизма, иудаизма и просто еврейского чувства – тезисами о взаимоотношениях между русским еврейством и Израилем. Мощная провокативность высказываний Сливняка не оставляет возможности промолчать. С его текстом отдаленно «рифмуется» новая проза Гольдштейна. Он рассматривает свой израильский опыт в непривычном ракурсе и новой для себя стилистике.
Что ж, попытаемся углубиться в тему, которую назовем: «Еврейская идентификация». Мы, участники этой беседы, репатриировались в Израиль из разных городов русской империи, называвшей себя Союзом. Все мы вскормлены русской культурой и, перебравшись на Ближний Восток, занимаемся той же литературой, проблемами того же искусства – продолжаем двигаться в своем естественном духовном русле. В то же время каждый из нас преодолел свой отрезок израильской жизни, в каждом из нас столкновение двух миров вызывало индивидуальную реакцию, стимулировало особое течение мысли и эмоций. Скрещение наших путей в данной точке Тель-Авива символизирует частичное совпадение судеб. Но, как мне кажется, для нашего разговора плодотворней проанализировать несовпадения. Наверно, это позволит затронуть больше аспектов.
Михаил Гробман: В статье Сливняка я выделил бы две части. Одна – это его ссылки на какие-то данные исторической науки. Теорий происхождения еврейского народа много, все они переплетаются с мифами. Тут дискуссии неинтересны и бессмысленны. Сливняк берет ту версию, которая подыгрывает его выводам о нынешнем состоянии еврейского этноса. Это вторая часть его «манифеста», достаточно условно связанная с первой. Вот в том, что сегодня происходит в Израиле, разобраться стоит. Сливняк хочет увидеть в Израиле какой-то новый этнос. Это вызывает в памяти статью писателя Бориса Хазанова, опубликованную лет двадцать назад. Я деталей уже не помню, и под рукой ее нет. Главная ее идея состояла в том, что эмиграция из Советского Союза, начавшаяся в 70-е годы, могла бы породить новую общность людей, говорящих по-русски. Ведь все они оставили за спиной «империю зла» – подавление личности, репрессии, информационный голод, а с собой взяли все лучшее, что скопила самая передовая среда в советских условиях. И в воображении писателя возникает такая идеальная Телемская обитель, остров любви. Его обитатели живут просветленной, духовной, культурной жизнью – так, ясное дело, может существовать только русская интеллигенция, когда она… остается без народа. Тогда идея Хазанова казалась весьма привлекательной: и впрямь, почему бы не материализовать эту прекрасную утопию? Но самое интересное, что прошло не так уж много времени – и мы увидели эту социокультурную модель в Израиле! К тысячам советских евреев, прибывшим в 70-е годы, добавился почти миллион репатриантов 90-х годов. На тесном пространстве столпилось огромное количество людей. Их родной язык – русский, они воспитаны на русской культуре, пишут русские стихи, издают русские газеты и журналы, создали русский театр. Чем не мечтавшийся Хазанову остров любви? Правда, эманация любви не ощущается…
Сливняк считает, что эта культурная общность противостоит Израилю. Но надо вникнуть: это действительно общность или иллюзия? Может быть, тут объединение механическое, на рефлекторном уровне? Как пчелы: кажется, что у них высшая организация, своеобразная культура, архитектура, осмысленная деятельность. А на самом деле это механизмы эволюции – пасека способна только производить мед среди деревьев, птичек, цветочков. Может, то, что Сливняк считает новым этносом, – это просто пасека, которую перенесли на другое место? Она вписалась в новые условия, ожила, мед вырабатывает…
Яков Шаус: Мне кажется, что методология изучения нами нашей ситуации не совсем правильна. Мы говорим о явлении, в самом массовом виде существующем уже десять лет, а появившемся тридцать лет назад. Поэтому надо рассматривать его не в статике, а в динамике, развитии.
К тому же оно неоднородно: искусственность концепции Сливняка о спаянной общности видна невооруженным глазом. Не нужны никакие опросы – издаваемые здесь русские газеты, журналы, книги позволяют поставить диагноз, констатировать, что в 90-е годы в нашей общине произошло культурное расслоение. Во-первых, выяснилась расплывчатость понятия «русская культура». Немалая часть репатриантов идентифицирует себя с самой убогой советской масскультурой. Но главное – это далеко не синхронное сближение отдельных слоев русскоязычной общины с израильским обществом. Многие дети репатриантов 70-х годов вообще не говорят по-русски или говорят очень скверно. Да и часть их родителей перешли на иврит и вписалась в чисто израильский круг общения. Сегодня наши дети зачастую тоже не идентифицируют себя с русской культурой, а в будущем эту связь утратят полностью. Репатриантам в возрастном диапазоне условно от 25 до 35 лет удается перестроиться и в языковом отношении, и психологически. Те, кто старше, даже при успешном освоении иврита остаются русскими. Можно ли тут вывести общий знаменатель идентификации?
Александр Бараш: Мне этот уклон в «социальную динамику» не кажется продуктивным. Стоит не полемизировать со Сливняком, а рассмотреть его самого как феномен, который выходит за рамки отдельной личности. Хотя Сливняк говорит от имени репатриантов 90-х годов, сам он, строго говоря, не принадлежит к этой общности. Он прибыл в Израиль на несколько лет раньше. У него прекрасный иврит, он блестяще знаком с еврейской традицией. И вот человек (и не только он один), у которого не было никаких проблем с культурным вхождением в израильскую среду, вдруг выступает с идеей «русского гетто», предлагает самоотделение русскоязычных израильтян от Израиля – и манифестирует это как движение к еврейской идентификации. На мой взгляд, за этим стоит ощущение необходимости сохранить комплекс русско-еврейских качеств, его культурное наполнение – больше того, боязнь утратить «свой мир».
Идентификация имеет смысл в двух случаях: когда она либо точно точечна, либо имперски широка. Промежуточные варианты «промахиваются». Наиболее узкая идентификация – со своей семьей или с какой-то командой, с которой участвуешь в общем деле.
Максимально широкая должна быть по меньшей мере на уровне Израиля, может быть, – на уровне русской культуры в целом. Упорные попытки идентифицировать себя обязательно на уровне репатриантов и их комплексов бессмысленны – слишком мелкомасштабны.
Сливняк оперирует двумя понятиями: РЕПАТРИАНТЫ, которые якобы гораздо ближе друг другу, чем все вместе – Израилю, и РУССКОЕ – некая абстрактная субстанция, составляющая конкретную сущность нашей общины и, таким образом, многообещающе противостоящая израильской ксенофобии. По мне, все это проявление герметичного сознания, отъединенности автора от анализируемой ситуации. Уже говорилось о том, что общность репатриантов – фикция. Чересчур многолика и «русская идея» – при сем в ней почти неизбежно присутствуют одиозные оттенки, в том числе юдофобские, о чем не стоит забывать даже на отдалении.
Мне кажется, что в нашем разговоре мы продвинемся вперед, если в проблеме еврейской идентификации отделим друг от друга социальный и культурный аспекты и для начала каждый вернется к самому себе, как рекомендовала Ира Врубель-Голубкина.
Для меня не существует вопроса, кто мне ближе: северные люди или здешние, еврейские. Та «курдская» семья, у которой мы арендуем этаж на ее вилле, и прочие не чересчур рафинированные обитатели Кастеля, пригорода Иерусалима – это среда, где я априорно свой: на уровне антропологии, физиологии: волос, кожи, глаз, пластики – действительно ощущаешь себя среди родственных особей, в своем ареале.
Ну а кроме того, эта идентификация опредмечивается и в весьма суровых вещах. Я знаю, что именно с ними, и больше ни с кем, мы будем в том самом сакраментальном одном окопе, который, как ни странно, ничуть не менее реален, чем пятьдесят, сто или двести лет назад.
Вопрос культурного отождествления выглядит совсем иначе. Среда, в которой мы выросли, круг профессионально-литературного общения, воспоминания, ассоциации – от глубинно-фундаментальных до китчевых – все это связано с Россией.
Разделение существует внутри каждого из нас, с ним предстоит жить. Нормальная актуальная ситуация.
И.В. – Г.: Культура и еврейство для меня всегда – с самого раннего детства – были двумя главными личностными составляющими. И в обеих этих плоскостях я испытывала чувство обособленности. Я происхожу из семьи российских евреев, которые из глубинки, местечка устремились в науку, дошли до профессорских званий. Моим главным занятием было чтение. Читала все подряд. Мне было ясно, что эта тяга к книге, культуре у очень многих вокруг отсутствует. И конечно, с ранних лет было – сначала смутное, а потом оформившееся – ощущение семейной и родовой отдельности. Задолго до того, как я столкнулась с бытовым антисемитизмом, меня больно кольнули вроде бы не оскорбительные слова малолетнего друга, весьма благосклонно ко мне относившегося: «Евреи все кудрявые!» Я знала, что мы гонимы, хотя особых притеснений на мою долю не выпало. Я росла в интеллигентной обстановке и сама подбирала тот круг людей, которые были нужны мне для полнокровного духовного существования. Вскоре этот круг трансформировался в московскую художественную среду 60-х годов – в ней было много евреев. Среди наших лучших друзей было немало русских, но мы даже не задумывались об их национальности – это была наша общая культурная среда. При этом я постоянно ощущала свою непринадлежность к Большому народу, как впоследствии выразился Шафаревич.
Тем не менее мой отъезд в Израиль мог показаться логически не подготовленным. Общенациональные, религиозные проблемы меня никогда не волновали. В детстве, только благоговейно раскрывая огромный том Пушкина, я испытывала высокий восторг. Да и родители были индифферентны к «традиции». Когда родился мой младший брат и родня отправилась к моему папе-профессору, писавшему русские стихи, чтобы напомнить об обряде обрезания, он заявил: «Обрезайте самих себя». Мы уезжали из Советского Союза из-за сгущавшегося идеологического маразма, угасания творческого импульса 60-х годов.
И вот – в 1971 году мы в Израиле. С тех пор моя еврейская идентификация складывалась из постижения трех загадок. Первая: еврейство как народ, живущий в этой стране. С его маленькой частью – мой дом, соседи, наша улица, друзья-израильтяне – у меня все в порядке, тут ощущение покоя и надежности. Но целое гораздо сложней и остается достаточно непонятным для меня. Вторая загадка – еврейская традиция.
Я много и добросовестно читала на эту тему, но – при всем моем уважении и интересу к иудаизму – до сих пор в синагоге чувствую себя как на концерте. И третье – израильская культура. Мы близко знакомы и дружим со многими людьми, составляющими эту культуру, я хорошо знаю израильскую литературу, живопись, театр, многое делается на высоком уровне – но от всего этого меня по-прежнему отделяет определенная дистанция. Круг моих духовных интересов остался русским, или точнее – русско-еврейским. В общем, я живу не на острове любви, а на полуострове полу-отчуждения.
Александр Гольдштейн: Для начала я скажу о своих личных взаимоотношениях с той достаточно нечеткой общностью, которую пытался описать в своей статье Сливняк. С ней у меня, с одной стороны, несостыковка, волевое отталкивание, а с другой, – непроизвольное, но тем более сильное притяжение. Причина отталкивания проста: мне неинтересно с большинством этих людей, из-за разных культурных предпочтений нам, как правило, не о чем говорить. И в этом смысле я не очень-то принадлежу к этому гипотетическому народу – умопостигаемой русско-еврейской общности. Но, несмотря на это, в качестве человека пишущего я ощущаю себя – извините за пышность выражения – эоловой арфой, призванной передать не мои личные, а групповые переживания. Я считаю, что задача русских писателей в Израиле – выразить неповторимость нашего опыта, приобретенного в этой стране. Пропуская через себя этот опыт, я, конечно, принадлежу к самой широкой израильской русскоязычной общности.
Теперь другой вопрос, который ставит передо мной Израиль. Это вопрос о еврейской идентичности. Мне очень хотелось бы сохранить свою именно ашкеназскую идентичность – и тут разговор уходит за пределы собственно русских рамок, поскольку я ощущаю себя принадлежащим к еврейству Центральной и Восточной Европы. Когда я брожу по старому Тель-Авиву, мне чудится, что я нахожусь в лабиринтах моей прапамяти. Особенно кладбище на улице Трумпельдора вызывает у меня семейные переживания. Во-первых, тут погребен мой не такой уж далекий родственник Шмарьягу Левин, известный сионист и еврейский писатель. Во-вторых, тут покоятся люди, олицетворяющие для меня ашкеназское еврейство: выходцы из России, Польши, создавшие эту страну и первый в новейшей истории еврейский город Тель-Авив. Сегодня я этого города не нахожу. Остались только реликтовые уголки, кладбища… Из-за этого в Израиле я столкнулся с осознанием собственного несуществования в качестве еврея, поскольку страну, в которую я приехал, я только условно воспринимаю как еврейскую. Полной идентификации с Израилем в этом смысле у меня нет. Хотя я лоялен к Израилю как его гражданин, сопереживаю ему, понимаю, что это, конечно, единственное место для еврея.
Я.Ш.: Бараш предложил различать социальную и культурную идентификацию. Я уточнил бы: не столько социальную, сколько бытовую. Десять лет последней волны репатриации в Израиль – это бытовая спаянность тысяч людей, одинаковость их мелких и крупных повседневных забот – независимо от культурных ориентаций. Да, это спаянность муравейника, или той пасеки, о которой говорил Гробман, это тот общий опыт, о котором говорил Гольдштейн. Ни один из нас не может не идентифицировать себя с этим. В то же время культурную несовместимость с соседями по муравейнику я ощутил уже в ульпане. Там все были с высшим образованием, но не с кем было по-человечески поговорить. Люди, ничего не читавшие, ничего не знавшие, – и в то же время столько советского высокомерия по отношению к «израильскому бескультурью»! У меня и сегодня начинается зубная боль, когда ко мне домой попадает случайный человек «из наших» и с недоумением, неприязнью разглядывает на полках книги, многие из которых приобретены уже в Израиле и в прежние времена не входили в стандартную библиотечку советского интеллигента.
Мне, наверное, было легче идентифицировать себя с Израилем, чем с такими «собеседниками», ибо я вырос в другой среде. Для меня всегда было естественным находиться в еврейском окружении. Литовское еврейство плотно селилось в отдельных городах и даже в отдельных районах. Я учился в одной из тех школ в центре Вильнюса, в которых большинство составляли евреи. Почти весь мой класс нынче находится в Израиле. У моих родителей и родителей моих друзей практически не было близких друзей не евреев. Все они говорили на идише, а многие знали иврит. Религиозных людей в нашем кругу не было, но я еще помню, как после женитьбы некоторых моих знакомых на русских или литовских девушках родители изгоняли сыновей с проклятьями и чуть ли не посыпали головы пеплом. Правда, после появления первых внуков «отходили» и прощали.
Так что у меня не было такого периода, как преодоление социально-психологической отчужденности от Израиля. Я вышел на улицу: вокруг евреи – все в порядке! Помню, как, окончив ульпан и научившись скверно, но бойко изъясняться на иврите, я ездил на работу из Петах-Тиквы в Тель-Авив. Маршрутное такси в час пик ползло не меньше часа. В машине сидели семь – восемь незнакомых и очень разных людей: светлокожие ашкеназы, смуглые выходцы из Марокко, Йемена, Ирана и я – «русский». Каждый из нас уже слышал утренние новости. А в Израиле всегда что-то случается. Едем несколько минут, и вдруг кто-то вслух говорит как бы себе: «Ничего себе! Ну и дела!» Все с полуслова его понимают, и моментально начинается жаркая политическая дискуссия – словно встретилась компания старых друзей. Ни в Литве, ни в российских городах такого чувства общности я не испытывал!
Для меня эта «маршрутка» – модель Израиля. Мы несемся куда-то, у нас общий водитель и общий маршрут. Но мы разные! Конечно же, я, работая в «русской» газете, сотрудничая в толстом «русском» журнале, остаюсь в русле русской культурной традиции, и у меня нет ничего общего с аристократами и пролетариями израильской культуры. Но я не усматриваю тут того вызывающего противостояния, о котором написал очень красивую статью Сливняк. Дело не в гордом нежелании русско-еврейского сообщества слиться с Израилем. Когда на недавнем вечере «Зеркала» в Тель-Авиве сам Сливняк со сцены поведал собравшимся, что они, репатрианты, не являются евреями и им «не светит» стать израильтянами, то в ответ раздался возмущенный ропот зала!
Новые обитатели страны очень даже хотят стать ее органической частью. Но даже внутри нашей общины, получившей по крайней мере одинаковое формальное образование, нет культурного общего знаменателя. А в израильском обществе, на данной стадии невероятно пестром и разнородном, вообще нет единого культурного кода. Как можно его подобрать для людей светских и ультраортодоксальных, для выходцев из Польши, Турции, Марокко и США? Как нам идентифицировать себя с израильской культурой, если и для израильтян это сложнейшая проблема!
М.Г.: Независимо от того, кто мы: израильтяне или репатрианты, тонкие интеллектуалы или недалекие обыватели, есть нечто, нас всех объединяющее. Долгое время считалось, что еврей – это тот, кто исповедует иудаизм. Люди и целые народы, переходившие в иудаизм, становились евреями. Но в двадцатом веке оказалось, что такая идентификация узка и неполна. Еврей – это тот, кто ощущает свою причастность к общей судьбе. Наша судьба – это и Хмельницкий, и черта оседлости, и кровавые наветы, и Гитлер, и борьба с «безродными космополитами». Человек, который молится еврейскому Богу, но ограничивает себя тесным мирком заповедей, ритуалов и не понимает, насколько он связан общей судьбой с миллионами соплеменников, не является в полной степени евреем. Именно поэтому я не могу постичь, как можно стать евреем, пройдя гиюр, то есть только лишь выучив наши заповеди и согласившись выполнять их. Одна нога – та, что здесь, в настоящем, – еврейская, а другая – та, что осталась в прошлом, – не еврейская!
Судьбу «выучить» нельзя – это особая память, особые переживания. На этом уровне для меня выходец из Йемена или Ирака, отслуживший в израильской армии, социально, психологически ближе, чем интеллигент, недавно прибывший из Москвы и не имеющий этого опыта. Я помню, как началась Война Судного дня, как соседка-«марокканка», услыхав сообщение по радио, кричала в голос. Она знала, что ее сын, как и сыновья тысяч других израильтянок, уйдет на войну и, может быть, не вернется. Это было ощущение общей судьбы – момент полной стыковки с этой страной. Я думаю, что люди, слушавшие Сливняка на вечере «Зеркала», не из какого-то дешевого патриотизма выразили несогласие, когда он убеждал их, что они не станут израильтянами и это вообще не нужно. Он куда тоньше, образованней, чем те пожилые репатрианты, наверняка, не прочитавшие такой уймы книг. Но ему по сравнению с ними не хватало простого человеческого знания. Любая семья репатриантов, даже не понимающая ни слова на иврите, знает, что, как только их дети начали служить в армии, не только они, но и их родители становятся израильтянами!
Судьба – главный вектор нашего еврейского бытия. Но, кроме этого, есть и культурные ориентации, которые определяют содержание нашей духовной, творческой жизни. Вот, например, читаю Андрея Белого: «Россия, Россия, Россия – Мессия грядущего дня!» – я очень люблю эти стихи. При этом я испытываю внутреннюю раздвоенность: язык – мой, музыка – моя, но Россия – нет. Мой – Израиль. Что ж, может, в этих строчках всюду заменить Россию на Израиль? Нет, не рифмуется!
Русский – мой материнский язык. Это нельзя изменить, это навсегда. Можно прекрасно освоить иврит, даже писать на нем – что я иногда делаю. Но все-таки именно язык будет отделять нас от израильской культуры.
В сущности, материнский язык, не совпадающий с языком предков, языком религии, – это тоже наша еврейская судьба. Чужие языки становятся для нас родными, и мы играем огромную роль в создании культур иных народов.
И.В. – Г.: Мы уже затрагиваем другой важнейший аспект еврейской идентификации. Тема «Мы и Израиль» исчерпана?
Я.Ш.: Может быть, есть смысл подойти к проблеме с другого конца: не «Мы и Израиль», а «Израиль и мы»? Нами почти достигнут консенсус относительно того, что мы, репатрианты в первом поколении, идентифицируем себя с Израилем на бытовом, эмоциональном, социальном, идеологическом уровнях. Но идентифицирует ли себя Израиль с нами? Это не вопрос ущемленного эмигрантского самолюбия, а проблема отзывчивости, динамичности еще очень молодого израильского общества. Обладает ли оно достаточным творческим потенциалом, да и попросту интересом, чтобы вобрать все лучшее, что создано евреями в других культурах, о которых говорил Гробман? Как я чувствую, импульсом к написанию статьи Сливняка была именно обида не за нас, репатриантов, а за Израиль, который видится ему слишком ограниченным, самодостаточным, еще не использовавшим всего запаса духовного топлива для грандиозного культурного синтеза. Но, поставив диагноз «ксенофобия» – достаточно односторонний, Сливняк бросается в другую крайность и придумывает миф о прогрессивной русско-еврейской общности, разрабатывает рекомендации по ломке монотеизма и превращению Израиля в Швейцарию.
И.В. – Г.: Я думаю, в рамках нашего разговора двустороннее взаимодействие «русских» с Израилем интересует нас только в контексте еврейской идентификации. На мой взгляд, чтобы разобраться в себе, стоит еще вернуться к причинам той тоски по ашкеназским корням, из-за которых грустит Гольдштейн.
А.Б.: Я позволю себе предположить, что когда Гольдштейн говорит о тоске по ашкеназской культуре, то на самом деле он имеет в виду Прагу как таковую, которая к еврейству не имеет никакого отношения, – это только географическая точка, где можно прикоснуться к блеску европейской культуры.
У меня, по случаю, была конкретная непрерывность связи с «тем», родовым, миром – с ашкеназским еврейством. В детстве я бывал летом в Мирополе Житомирской области у прадедушки и прабабушки. Печка, куры и кошки во дворе, бидон с вишнями, речка с раками. Милые, теплые воспоминания, но они не вызывают ностальгии по чему-то духовно важному. Подлинную связь между собой и еврейским я ощутил только после приезда в Израиль – «подсев», как говорится, на эти горы, на эту – свою – историю, археологию…
Я.Ш.: Как я уже говорил, мне довелось жить в местах, где ашкеназскую культуру начали уничтожать в 1940 году, а не в 1917-м. Поэтому я еще застал носителей этой культуры. Может быть, в Берлине, Праге, Варшаве жили более блестящие евреи, но и вильнюсская еврейская интеллигенция старого поколения была гораздо культурней советских образованцев, составлявших мой круг общения. Это были люди, прекрасно знавшие иностранные языки, историю и, конечно, Библию. А главное, было в них национальное достоинство. Приезжавшие в Вильнюс российские евреи ужасались: «Вы не боитесь говорить на улице на идише?»
Должен сказать, что я не вижу полного исчезновения в Израиле материальных следов этой культуры. Я вижу интеллигентных старичков, чинно пьющих кофе за столиками, вынесенными из кафе на улицу, как где-нибудь на Маршалковской. Прогуливаясь по Иерусалиму, Тель-Авиву, я обнаруживаю не только отдельные дома, но целые улочки, – словно перенесенные сюда кусочки Вильно, Ковно, Львова.
Но я помню и другую ашкеназскую культуру. Прежде всего это местечковая стихия. Местечко сохранило еврейскую общину, ее язык, религию, обычаи. Но ведь нельзя не признать, что изоляция приводила к застою и, увы, к вырождению – косности, дикости. С массой таких евреев сталкивался и я – и отнюдь не гордился этим родством…
Разговор о наших ашкеназских корнях важен для ответа на вопрос, с каким Израилем мы себя идентифицируем, на каком культурном коде мы хотели бы с ним говорить. Меня не отталкивает Восток. Я очень понимаю Жаботинского, признававшегося, что любит восточных евреев, которые стихийно, гармонично вписываются в Израиль, – без рефлексии, нервозности, надлома, вселившихся за долгие века изгнания в их европейских братьев. Но Восток Востоку рознь. Раздражающие нас раввины из ШАСа – это ученые испанские евреи, не изменившиеся с десятого или двенадцатого века, как их описывает Фейхтвангер. А Сингапур и Гонконг – это тоже Восток, но суперсовременный. На этот уровень нас должна вывести ашкеназская интеллектуальная закваска – но, опять же, не местечковая ограниченность!
И.В. – Г.: Ашкеназское еврейское пространство делилось на две части. Западные евреи – условно от Гейне до Кафки – утратили язык предков и традиционный уклад. Они создали высшие достижения европейской культуры. Эти евреи свысока смотрели на своих родственников из Восточной Европы – «ост-юден», которые позже приобщились к современной культуре. Следует отметить, что если в западноевропейской культуре евреи занимали не просто равноправное, но лидирующее положение, то в русской культуре евреи были нехорошим, даже позорным пятном. Гейне, Кафка могли позволить себе вспоминать о своем еврействе. В русской культуре их соплеменники предпочитали не обнаруживать своих корней и любили переходить в христианство. После революции евреи уже делали культуру на равных – но не в качестве евреев, а как члены «новой исторической общности».
М.Г.: О местечке. Конечно, местечко – это простонародье, гвалт, грязь. Но можно ли говорить о вырождении? Да, замкнутость приводит к застою. Но, кроме ржавой селедки, нищеты, в местечке сохранялся фольклор, а без фольклора нет полноценной культуры. Тут была почва, из которой вырастало множество блестящих мыслителей, писателей, художников, революционеров. Это могучая энергетика восточноевропейского еврейства, исторически не имевшего другой среды обитания, кроме местечка. Поэтому оставьте в покое местечко! Нам надо стыдиться не нашего прошлого, а совсем другого.
Относительно недавно в литературе, живописи появилось целое направление, усиленно эксплуатирующее тему местечка и отвратительно спекулирующее «еврейским колоритом». Этим занимаются люди, не видевшие настоящего местечка, не способные проникнуть в колоссальный слой ивритской, идишской да и русской культуры, вырабатывавшейся местечком. Все, что пишется в нынешней русской литературе о местечке, его «духе», типах, – это ложь, китч, коммерция. Превратили тему в дойную корову. Все это прикрывается пошлыми разговорами о «возвращении к истокам», а на самом деле халтурщики все время возвращаются к мыслям о том, какой заработок завтра им принесет эта симуляция искусства.
А.Г.: Говоря об ашкеназской культуре, я, как тут справедливо отметили, имел в виду не культуру местечка, с каковой генетически связан через бабушек и дедушек. Я выделяю евреев, которые как раз вышли из местечек и реализовали себя на европейских просторах между двумя войнами. Говорю об этом потому, что в этот период, а также несколько раньше и несколько позже европейскими евреями созданы и новая физика, и новая психология, и новые направления в литературе, кинематографе, музыке – сливки мировой культуры. Мало сказать, что эти люди сохранили еврейское самосознание, – именно с ними связано специфическое понятие еврейской гениальности, которое было очень характерно для первой половины двадцатого века. Исчезновение этой феноменальной генерации позволяет осознать, что сделал с нашим народом нацизм. Физическое присутствие евреев тут, в Израиле, не является возражением на этот печальный тезис. Мы видим гигантское творческое зияние и не в силах репродуцировать тех, шедших одно за другим, поколений еврейских гениев, которые рождались во второй половине девятнадцатого и в начале двадцатого века.
И.В. – Г.: Конечно, сейчас в европейской культуре несколько снизилась роль евреев. Тем более вернемся к вопросу о нашей культурной идентификации, которую все мы связываем с Россией. Несмотря на характер наших профессиональных занятий и тесное сотрудничество с литературно-художественными кругами Москвы и Санкт-Петербурга, можем ли мы полностью отождествить себя с русской культурой?
А.Г.: Выскажу некоторые соображения по поводу отношений с русской культурой и о том, что, может быть, отличает нас – по крайней мере меня – от русских. Мне кажется, что для русского человека сам факт его принадлежности к русской культуре является абсолютно безусловным. Ни к какой другой культуре он принадлежать не может. А я свою связь с русской культурой – хотя родился и вырос в ней – воспринимаю как достаточно условную. С тем же успехом моим родным языком мог бы стать польский, чешский, немецкий, французский. Безусловной для меня является только принадлежность к ашкеназскому еврейству – именно в его пределах существует эта вариативность языков, которые могли быть даны мне по условиям моего рождения.
М.Г.: О вариативности говорить поздно: судьба распорядилась так, что наш материнский язык – русский. Все, что мы пишем в Израиле по-русски, должно попасть на оселок русской культуры, русской литературы, русского языка. А именно: если мы тут создадим значительные стихи, то их истинное место будет в «Библиотеке поэта» – синеньком или зеленом томе. И он будет стоять в одном ряду с русским Холиным, немцем Приговым, чувашем Айги или поляко-русско-евреем Красовицким и другими, кто писал по-русски, для кого русский язык был главной осью существования. Только если русскоязычного израильского поэта издадут в Москве в «Библиотеке поэта», у него будет возможность в переводе вернуться в Израиль, стать такой же важной фигурой, как Оден, Элиот, Мандельштам, Рильке, и его будут изучать в израильских школах.
И.В. – Г.: Мы чувствуем себя израильтянами, но пишем по-русски и хотим, чтобы нас прочитали в Москве. Тут нет противоречия. Я не согласна с той произвольной моделью «русско-израильской общности», которую предложил Сливняк. Здешняя русскоязычная община слишком неоднородна в культурном отношении и потому не может быть самодостаточной. Культура – это иерархия, в которой главное – элитарный слой, способный творить, создавать нечто новое. Миллион «русских» в Израиле не могут бесперебойно вырабатывать этот слой, подпитывать его и одновременно потреблять свою культуру. К тому же надо учитывать неблагоприятные стартовые условия местной русской культуры. Из-за своих советских корней она растеряла даже многое из русской традиции и выпала из мирового контекста.
Посмотрите выставки художников-репатриантов. Это люди, очень профессиональные, с хорошей школой. Но на пороге двадцать первого века работают в импрессионистской манере! Смелостью считается сюрреализм… В этом смысле нам ближе уровень израильской культуры, оперирующей современным художественным языком. Но нам нужна Россия: там наши коллеги, там возможность диалога, там выносятся адекватные оценки.
Я.Ш.: Я не согласен с утверждением Гробмана о том, что израильский поэт должен попасть в «Библиотеку поэта», и только в этом случае вернется в Израиль в качестве литературной величины, и будет признан израильской культурой. Зачем такой окольный путь? Все дело в том, что мы идентифицируем себя с русской культурой, но нас связывает с ней прежде всего язык, как правильно отметил Гробман. Мы принципиально отличаемся от русской литературной эмиграции. Наши тексты по духу не русские! Миша, загляни в свои «Военные тетради». «Зато доносит телевизия Шум перестройки и призыв» – это Россия, рассматриваемая издали не родным человеком, это не русская поэзия и уже не совсем русский язык! Не напечатают тебя в «Библиотеке поэта»! И новые вещи Гольдштейна об Израиле, об исчезновении ашкеназской культуры – это не русские заботы! Это не русский культурный код. Все это может вызвать интерес в России – но как нерусская литература, написанная по-русски. В Израиле этот код поняли бы, и печально, что пока здесь к этому не проявляют интереса. Ведь по духу, мироощущению это израильская литература!
Хотя Бараш не согласился с моим подходом, но наша проблема в том, что нам хотелось бы воспринимать себя в законченном, завершенном виде, а в действительности мы – процесс, промежуточное состояние. Наша ситуация определяется такой категорией, как трагедия. Мы уже оттолкнулись от одного берега, но не пристали к другому.
М.Г.: Я не говорю, что мы должны напечататься в «Библиотеке поэта» ради признания нас «своими», отведения нам места в чужом пантеоне. Просто существует объективная реальность: для всех пишущих по-русски столица – Москва, так же, как для пишущих на иврите столица – Тель-Авив, для пишущих по-французски – Париж. Конечно, мы – израильтяне. Нас прочтут по-русски в России и других странах только в том случае, если мы выразим содержание нашего существования в этих песках глубоко и пронзительно. А сам по себе Израиль представляет огромный интерес для обитателей других краев, в том числе России. Евреи – это вечная энигма, дразнящая тайна для сталкивавшихся с ними народов. Меньше всего российского читателя интересует наша ностальгия по России – так же, как нас у русских писателей не слишком волнует их ностальгия. Все это тысячи раз спето и перепето.
Писатель пишет прежде всего для себя и не создаст ничего путного, если заранее думает об утверждении «сверху» его творчества. Вопрос о признании я поставил на чисто техническом уровне. Вхождение в обойму «Библиотеки поэта» – как знак качества текста, сделанного на русском языке.
А.Г.: Я хотел бы с Шаусом и согласиться, и поспорить. Что касается русской эмиграции, то старики – Мережковский, Бунин, Зайцев – считали себя русскими, частью России. А поколение Поплавского уже ощущало себя не совсем русскими писателями. Эта молодежь воспринимала себя в качестве тех, кто вырос на асфальте чужих столиц, и мечтала войти в русский язык, выразив новый, местный опыт.
Я согласен, что Гробман и я – это не совсем русская литература, и был бы счастлив создать нечто, несущее печать израильского своеобразия, местного опыта. Если говорить о моих личных предпочтениях, то я хотел бы быть прочитанным в России так, как читают какого-нибудь провинциального колумбийца в Мадриде, а не так, как там воспринимают писателя третьего ряда испанской литературы. Может быть, и Гробману нужней, чтобы его прочли в Москве как хорошего поэта, но инородного русской психической субстанции – и этим интересного.
А.Б.: Принадлежность к той или иной литературе определяется все же не психологией, а известным литературным качеством. И мне кажется, что не вполне уместно устраивать сеанс психологического эксгибиционизма на «круглом столе» под старый шлягер «Эмигрантские страдания». В любом случае проблематика снимается понятием «международная русская литература». Она существует уже некоторое время, но рефлексия по ее поводу начинается, как всегда, с запозданием – в этих словах, в частности. Эта литература существует так же, как международная англоязычная или испанская. Феномен международной русской литературы порожден волной эмиграции 70-х годов и сегодня развивается с особой скоростью. Свою роль тут играет Интернет, собственно, Рулинет – русская литературная сеть. В ней не существует различения авторов по месту жительства; не всегда вообще известно, где человек живет: надо вычислять, то ли это сервер в Торонто, то ли в Сиднее. Есть молодые писатели, литературное существование которых началось уже вдали от России, иногда – с ходу в виртуальном мире. Важнейшая черта международной русской литературы – ее антропоморфность, человечность, свобода говорения от первого лица, возможность этого определена новыми условиями, новым опытом. Находясь в западном контексте и живя, в частности, в Израиле, мы переживаем – в слове – опыт международного русского человека. Кстати, вот новый термин – в пандан к «новому русскому» – «международный русский».
А.Г.: Я не проводил бы полной аналогии между ситуациями в русскоязычной и испаноязычной литературе. Испаноязычный литературный мир является децентрализованным уже в силу того, что, кроме Испании, есть и другие страны, для всех жителей которых испанский язык является родным. Кроме России, русскоязычных стран нет. Там, где центр – в данном случае в Москве, – находятся институты силы и власти.
А.Б.: Что такое власть в смысле литературы?
А.Г.: Власть – это издательства, институты легализации, признания, оценки и поддержки. Только в центре существует необходимая в литературе иерархия. И главное: только там возможно создание общественного мнения по поводу тех, якобы независимых, центров, которые нам очень хотелось бы видеть в местах нашего нынешнего проживания.
А.Б.: Ну, скажем, «иерарх» респектабельного петербургского издательства ИНАПРЕСС пишет на обложке книги израильтянина Ваймана о «респектабельном израильском журнале “Зеркало”». Кажется, тут как минимум двоевластие… Как вы это оцениваете?
А.Г.: Оцениваю в высшей степени положительно.
М.Г.: Поскольку это я спровоцировал разговор о центре, столице литературы, то хочу внести несколько замечаний. То, что Москва является центром для людей пишущих по-русски в Нью-Йорке, Париже, а также Иерусалиме, Реховоте, Лоде, где проживают мои собеседники, отнюдь не означает, что эта столица обладает какими-то возможностями воздействия на нас и мы зависимы от нее. У нас свой снобизм, у нас свои оценки. Мы критикуем многое из того, что происходит в московской литературной жизни. Мы издаем русский журнал «Зеркало», совершенно не похожий на российские «толстые» журналы, и подбираем своих авторов, не подлаживаясь под чьи-то вкусы. В Москве нет ничего такого, чего мы боялись бы.
А.Г.: Там сидит хан-владыка, который формально даже дани не требует, но Александр Невский ездит к нему на поклон… Бараш говорит, что в Интернете полная демократия, но Интернет – это идеальное платоновское царство идей. В отличие от заэкранной реальности, в бумажной литературе существуют различные институции, и их центр – Москва.
А.Б.: Возвращаясь к еврейской идентификации: я вижу более мягкую, не сковывающую связь между нашей литературной деятельностью и Россией. Мы как бы уехали из литературной столицы на дачу. Так русские писатели часть года проводили в своем имении или в Ялте, Ницце, временами наезжая в Москву или Петербург. Вот сейчас у нас распахнуты окна, за которыми буйствуют олеандры. Гробман лежит в шортах на диване. Ему некуда спешить, он сам никуда не ходит, и его покою не угрожает визит какого-нибудь важного человека в строгом костюме. Можно игриво перекликнуться с идущей по двору красивой девушкой, можно неторопливо написать философские строки: «Вот ебутся тараканы».
Центр языковой империи – там, где в данный момент создается хороший текст на этом языке. Мы – израильтяне, «живем мы здесь», а наши книги – всюду, где говорят и читают по-русски. Противоречия есть всегда. Заставить работать их на себя – наша задача.
И.В. – Г.: Без всякого сомнения, израильская русская культура – это новый, до сих пор не существовавший опыт. Так или иначе, но мы не эмигранты, мы существуем в собственном географическом, политическом, семейном пространстве. И мы достаточно комфортно живем среди всех тех вопросов, которые задает нам наша судьба.
Мы – как уникальные звери Австралии: с одной стороны, млекопитающие, как все, но, с другой, – сумчатые, как никто и нигде. И в этом, может быть, наше счастье.
«Зеркало» №№ 15–16, 2001 г.Философия общего дела
Круглый стол журнала «Зеркало»
Участвуют:
Ирина Врубель-Голубкина, главный редактор журнала «Зеркало»
Члены редколлегии журнала: Александр Гольдштейн, писатель
Яков Шаус, литературный критик
Михаил Гробман – поэт, художник.
Михаил Гробман: Я начну издалека. Сионизм является идеологией элиты, и Израиль – концептуальное государство, сформированное, подготовленное и созданное представителями этой элиты, и одна из главных проблем сионизма заключается в том, что подавляющая масса литературно-художественной и научной элиты, задействованная в странах своего пребывания, не поддалась элитарности мысли сионизма. То есть эти две элиты соединились не в той степени, в которой они могли бы соединиться. И этот процесс все время возвращается на круги своя. Я вспоминаю: кто в 70-е годы из российской литературно-художественной элиты того времени приехал сюда? Русское литературное общество того времени можно разделить на три категории: отщепенцы, т. е. авангард, официоз и советская либеральная культура. Из авангарда, кроме меня, не приехал никто, из официоза – тоже, кроме совсем уж второстепенного Свирского, писавшего официозные вещи еще при Сталине. В основном приехала советско-либеральная публика, и она привезла сюда своего читателя. Это значит: немного фрондерства вроде Самойлова, немножко диссидентства типа Коржавина или Галича. Тогда очень любили графоманский толстый роман Зиновьева, Солженицын был их царем, так как эстетически он соответствовал советским представлениям, а тут еще антисоветчик – совсем хорошо.
Эстетика их была советской, политическая позиция – антисоветской. Даже если бы тогда приехали официальные писатели, они тоже растворились бы в общей либеральной среде, как сейчас в общекультурной среде алии 90-х растворяются бывшие партийные и советские работники, радостно посещая синагогу.
Даже если сюда приехали бы в другой инкарнации Симонов, Твардовский и другие, они здесь очень вольготно себя почувствовали бы и быстро слились с либеральным официалом. Современные авангардные литераторы сюда не приехали, и советские либералы оказались в очень вольготном положении: советская либеральная эстетика оказалась здесь царствующей, действующей, выпускающей журналы, газеты. Они, конечно, быстро находили общий язык со всякими официальными органами, с чиновниками.
Эта либеральная публика определила лицо того мерзкого застоя, в котором пребывала русская литература в Израиле на протяжении 20 лет (1971–1990) до того, как приехала новая алия, новые люди из новой России. Болото всколыхнулось, и большая часть предыдущих героев просто стерлась.
Яков Шаус: Мне кажется, здесь не совсем правильно обозначена система координат. Нет такой прямой корреляции между сионизмом и развитием русской словесности на Святой земле, на мой взгляд. Это натяжка и игра в метафору. Можно называть сионизм постмодернизмом, экспрессионизмом, сюрреализмом и т. д., но это не имеет отношения к действительности, потому что сионизм всегда был не элитарным, не эстетическим творчеством, а практическим делом масс, иначе он не получил бы могучего импульса к созданию государства.
М.Г.: Можно быть элитарным человеком в политике, сионистом и в то же время не иметь никакого отношения к искусству, к культуре и наоборот. Элиты эти почти никогда не сливались, кроме редких случаев, как Ури Цви Гринберг или Жаботинский. Еврейский народ в лице своих элитарных писателей и поэтов, которые писали по-немецки, по-польски, по-русски и являлись частью местных элит, не сказал: вот есть у нас сионизм, давайте начнем строить общую израильскую культуру. Этого не произошло.
Александр Гольдштейн: Это соединение происходило в духовной плоскости – известно, что Кафка был чрезвычайно увлечен сионизмом, и известно, что он собирался сюда приехать, но умер в 1924 году. Все евреи круга Кафки были сионистски настроены. Весь этот пражский круг, центром которого был Кафка, все они были евреями и все сионистски настроены. Но физически они приехали в Израиль только тогда, когда судьба их ударила костылем в задницу – когданаступил 1933 год. Но трудно требовать от человека, который реализует себя блестящим образом по-немецки там, где этот язык занимает центральное место, чтобы он обменял свою жизнь, резко обламывая свою творческую биографию, для того чтобы практически осуществить то, чему он симпатизировал.
М.Г.: Это то, что я пытаюсь сказать: как и в 20-е, в 70-е годы никакая элита сюда не приехала – ни официоз, ни авангард, ни либералы.
Я.Ш.: Застой предполагает предварительное развитие. Какое развитие предшествовало появлению людей, создавших русскую культурную среду 70-х? Почти все, кто приехал сюда в 70-е годы, кроме редких андерграундных и авангардных вкраплений, воспитаны на советской культуре, сформировались в недрах этой системы, на эстетических представлениях этой культуры. Писателей 70-х годов, таких, например, как Свирский, нельзя судить так сурово. они воспитывались на «Белой березе», на Щипачеве, Симонове и еще не знали ни Мандельштама, ни Цветаевой. Что от них требовать? Главная разница между алией 70-х и 90-х – это то, что первые могли быть носителями только советской культуры. В том – закон больших чисел. Люди, приехавшие в начале 90-х, были продуктом другой системы. Они воспитывались на разломе, из этого разлома хлынули освежающие струи, новые эстетические течения, все стало доступно. В том, что делают сейчас здесь молодые, даже не самые значительные по таланту люди, чувствуется, что они выросли из совсем других литературных корней – они уже читали Мамлеева, Сорокина, Некрасова, Пригова, Холина. В них нет уже той скованности и заштампованности, в них нет уже интонаций Симонова, Самойлова, Левитанского, и так у всего общества появилась возможность переосмысления своего культурного багажа. И здесь появились фигуры, может быть, еще не выдающиеся, но говорящие на новом языке, с другими эстетическими тенденциями. Но создание большой культуры все равно потребует признания общих ценностей. В процессе этого осознания на очень далеком этапе может произойти определенный синтез, плодотворный для израильской культуры.
Ирина Врубель-Голубкина: Нельзя забывать, что человек, попадая в чужое культурное пространство, начинает судить его по критериям своей принадлежности. У израильской культуры есть своя история, свои влияния, свои приоритеты. И, в отличие от русской литературы, метрополия которой в центре русского языка – в России, у литературы израильской центр литературы на иврите – это Израиль И она прошла свой путь, у нее есть свои взлеты и падения. Она создала и развила новый язык своего говорения, она начиналась под влиянием русской литературы, но быстро отошла от нее, впитала в себя все достижения западной модернистской и постмодернистской культуры. И это невероятный снобизм и невежество – пытаться учить, диктовать чужой культуре правила поведения и развития, не зная и не понимая. Тем более, что, как всегда, этим занимаются те, у кого личные достижения очень сомнительны. Но, как вы сказали, Яша, жизнь в одной среде, т. е. сама география, должна привести к обоюдным благотворным влияниям и взаимопроникновениям.
В 70-х годах каждый человек, приезжая сюда, нес на себе уникальность личного поступка (это описано у Милославского в «Укрепленных городах») – отъезд из империи зла, сионизм, антисоветскость, – яркий индивидуальный шаг, совершаемый в полной серости среднесоветского пространства. И был определенный пафос еврейской самоидентификации и просветительства, познавания Мандельштама и Солженицына, распространения культуры так, как они это понимали, – на этом держалась вся эта культура, вся эта литература еврейских неофитов. Вопрос в том, во что вылилось это культуртрегерство неофитов.
Появление литераторов алии 90-х, уезжавших из хаоса перестроечного возрождения с освобожденным знанием, с доступом к современной и прошлой культуре, с возможностью работы для появившегося нового читателя, создало возможность появления такого издания, как «Знак времени».
Я.Ш.: Здесь нет такой законченности периодов. Люди не приехали сюда, все переосмыслив. Я по себе знаю, что процесс переосмысления начинается здесь.
И.В. – Г.: Но процесс пошел, и главное – начала создаваться среда. То, что мы не могли сделать ни в 70-е, ни в 80-е, мы сделали в 90-х. Почти все авторы «Знака времени» приехали сюда в 90-х, хотя еженедельник был открыт для всех. Но это был другой уровень разговора, и «Знак времени» явился симптомом появления новой русской культуры в Израиле 90-х.
А.Г.: Я хотел бы сейчас вернуться к 90-м годам и поговорить от лица нашей группы, группы новоприбывших людей. Мне кажется, она разделялась на две категории: на тех, кто приехал сюда осознанно, и на тех, кто был отчасти вытолкнут. Для людей, живших в русских столицах – Москве и Ленинграде, отъезд был осознанным. Перед евреями, занимавшимися художественным или аналитическим творчеством, открывались большие перспективы, они сидели в престижных издательствах и институтах и могли заниматься тем, о чем мечтали. К другой категории принадлежал я, живший на национальной окраине. Мы оказались в исторической щели и были вытолкнуты к отъезду. Результат оказался тот же самый. История сионизма свидетельствует, что, какими бы путями ни попадал еврей в Израиль, когда он оказывается здесь, остальное пребывает несущественным. Я вспоминаю себя и понимаю, что выезд сопровождался глубоким противоречием между сознанием и подсознанием. Сознательной информации было достаточно, и я понимал, что ничего хорошего, во всяком случае в материальном смысле, меня в этой стране не ждет, что скорее всего я обречен на бедную жизнь и прочее, подсознательно все-таки ожидая, что жизнь на Западе принесет мне какие-то, даже материальные, дивиденды и изменения. Попав сюда, я убедился, что внятное, дневное сознание было совершенно справедливо: ничего меня здесь не ждало. В эмигрантской бедственной ситуации я понял, что нужно, следуя знаменитому совету, расслабиться и получить удовольствие, что эта ситуация полной свободы и материальной неприкрепленности сулит очень большие преимущества. Очень легко и естественно сбился круг людей, которые оказались в той же самой ситуации. Все, как бабочки, слетелись на свет возникшего тогда естественным путем «Знака времени», и в одной комнате оказались, кроме присутствующих, такие колоритные персонажи, как Бренер, Штейнер, Россман. И я помню совершенно непередаваемую, сейчас уже невоспроизводимую атмосферу экзальтации, когда ты входил в эту комнату, заряженную противоречивыми импульсами, исходившими от этих людей, которые находились друг с другом в достаточно трудных и сложных отношениях, но тем не менее были заряжены одинаковой волей к действию. Это были люди в достаточной степени свободные, почти не связанные никакими советскими ценностями, но ориентированные совсем в другую сторону. Я помню Бренера, сидящего в редакционной комнате, рассматривающего альбомы, допустим, Джилберта-Джорджа и Клементе и исступленно мечтающего. Помню Россмана, который чертил конфуцианские иероглифы у меня на стене в кухне; Штейнера, рассуждающего о культурно-исторических проблемах. Никто из них уже не пытался опровергать советского прошлого и как-то соотноситься с ним, хотя они и старались аналитически его осмысливать. Все смотрели в сторону будущего. Для каждого из них пребывание в Израиле было чрезвычайно существенно по двум обстоятельствам. Первое – это эмигрантская, лимоновская ситуация, которую нам удалось пережить всем вместе, второе – «Знак времени» был самым свободным в мире изданием, он не был связан ни с какими институциями. Если бы мы издавали эту газету в России, мы зависели бы от каких-либо издательских и корыстных ситуаций. Здесь мы практически не зависели ни от кого.
В газете нам удалось сформировать свободную речь свободного рассуждения о культуре, это не было профессиональным языком какой-то определенной группы, подобным тем языкам, которые возникли затем в России, это была совокупность языков разных персонажей, объединившихся вокруг «Знака времени», и тем не менее их связывала установка на свободное и независимое проговаривание вещей, относящихся к современной культуре.
Когда я просматриваю сейчас эту газету, то вижу, что большинство ее текстов не то чтобы устарели, но вошли в культурный обиход и в культурную привычку. Для 91 – го года они были важными и существенными, сейчас в содержательном смысле это не так, тем не менее от самой газеты исходит ощущение энергии и новизны, она продолжает существовать, потому что в ней что-то было сказано. Главным в ней является независимый язык свободного культурного высказывания, странная воздушная, беспочвенная совмещенность с Израилем и еврейством, которая была гораздо более важной, чем тогда мне казалось, а также – внеинституциональность этой речи. И дело даже не в отсутствии какой-либо цензуры, а в том, что мы не были прикреплены ни к какому культурному стереотипу, ни к местной публике, ни к русской метрополии, которая, собственно, никакого внимания на нас не обращала.
М.Г.: Но парадоксальным образом «Знак времени» был единственным сионистским изданием на русском языке, если воспринимать сионизм как духовное возрождение. Вспоминаются также враждебность и ненависть, которые испускались в нашу сторону со стороны некоторых «героев» – семидесятников, тех, кто привык к культурноцарствию на листе кувшинки. Они правильно почувствовали, что «Знак времени» – это их смертушка. «Знак времени» отодвинул несчастных семидесятников и их литературу в затхлый угол, где и было их естественное место. Началось бурное влияние «Знака времени» на остальные русские газеты, вслед за нами потянулся целый шлейф еженедельных приложений, берущих курс на собственно культуру и собственный язык культуры. Другой вопрос, что получалось это слабо и не совсем грамотно и вразумительно, но тенденция появилась, и что-то изменилось в воздухе Израиля тех лет. А мы – группа, создавшая эту питательную и одновременно раздражающую среду, – были главным центром, привлекающим всеобщее внимание; чтоб не быть голословным, отсылаю читателя к русским газетам тех времен, они полны ссылок и нападений на «Знак времени» и его авторов. До сей поры нередки в русской печати упоминания этой газеты. Но как же были счастливы там, в своих норках, наши герои местного болота, когда «Знак времени», перейдя через ипостась «Звеньев», постепенно и естественно испустил дух; какое ликование наступило в рядах провинциалов! Не знали они, бедняги, что это только перерыв, передышка, и уже доносится издали тяжелая поступь Командора, имя которому – «Зеркало».
А.Г.: Еще хочу добавить, что мы были компанией отщепенцев, заряженных невероятной жаждой деятельности. Скорее всего такое ощущение психологического горенья не могло продолжаться долго. И конец этой газеты совпал не только с тем, что ее перестали кормить и щедрость мецената иссякла, но и с тем, что кончился запал людей, которые ее делали. Они не могли долгое время держать себя в этом состоянии.
Я.Ш.: Нельзя говорить о качественном различии в эстетических предпочтениях волн алии 70-х и 90-х годов. Мы были свободны не только потому, что у нас не было потребителя, но мы сознательно против него работали. Здесь была не только экзальтация, здесь было осознанное и злое желание заставить себя слушать. Я не считаю, что мы изменили прессу, когда мы исчезли: над нашим потонувшим кораблем сомкнулись волны, но выплыли какие-то чемоданы и сундучки, которые были разобраны другими. На массовом уровне все равно преобладают ностальгические статьи о Самойлове, Левитанском, Тарковском. Но уже введены в обиход и другие имена: все литературные приложения пишут о Яковлеве, Некрасове, Кабакове, и это уже никого не шокирует. Тогда многое из того, что мы писали, воспринималось как наше личное ерничество и изгаляние, а не открытие какой-то другой культуры. Теперь же двухтомник Сорокина сразу исчезает с прилавков магазинов русской книги в Израиле. И все-таки «Знак времени» и «Звенья» облегчили нам и нашим читателям путешествие во времени и пространстве, географическое и культурное перемещение из одной культуры в другую. Мы способствовали тому, что масса незнакомых нам людей получила информацию о другой культуре, о новом языке этой культуры. Литераторы, которые активно выступали против нас в начале 90-х, изменились под нашим влиянием. «Знак времени» был бастионом над общим популистским уровнем, какой-то трудно определяемой эстетической программой. Но все понимали, о чем идет речь. Нас воспринимали как какой-то сплоченный коллектив, касту – как то, с чего начинается прорыв в культуре.
М.Г.: Не междусобойчик, а именно коллектив, всегда открытый для притока новых людей.
И.В. – Г.: «Знак времени» выходил в период конца 80-х – начала 90-х годов, когда в России было междуцарствие, когда старая пресса закончила свое существование, и деградировала окончательно, и по сути дела исчезла, новая еще не воспиталась, и серьезные люди, приезжавшие из Москвы, открывая «Знак времени», говорили: «У нас таких газет нет». Это было моментом освобождения, и дальше каждый уже мог выбирать свой путь творчества.
М.Г.: «Знак времени» никогда не был местом для утверждения своих эгодостижений. Это была рабочая атмосфера, работа над каждым текстом, беспощадная критика друг друга. Это был рабочий коллектив, и каждый новый автор не попадал в место осуществления своих эготрипов, а должен был присоединиться к совместной работе.
Я.Ш.: Мы в этот момент столько открывали нового, это не была устремленность только на себя, был пафос создания чего-то абсолютно нового, ощущение начала, коллективное ощущение нового, сбрасывание старых шкур, мы, по определению, были устремлены вовне.
А.Г.: Это было счастье «философии общего дела», что для меня является самым важным, а именно: групповая работа, ощущение того, что, сколь бы ничтожен и мал ты ни был, ты включен в череду творческих коллективов, которые всегда делали необходимое дело, начиная с классиков и романтиков. Собирается небольшая группа людей, твоих единомышленников, сидящих в одной комнате, и ты делаешь нечто новое – совершенно непередаваемое для меня по счастью самочувствие. Наше положение нынче гораздо более трудное, чем то было восемь лет назад. Мы действительно проговорили массу вещей, многое сегодня превратилось в «ширпотреб», и для того, чтобы сейчас сказать не обязательно даже что-то новое (я уже скептически отношусь к созданию новых ценностей), но хотя бы для того, чтобы найти какую-либо нетривиальную интонацию, мы должны действительно прыгнуть выше себя. Не говоря уже о том, что возродить атмосферу групповой работы сейчас чрезвычайно трудно, для этого нужна новая идеология.
М.Г.: Я хочу процитировать Ле-Корбюзье: «Индивидуальная свобода и коллективная деятельность – это два полюса, между которыми развертывается жизненная игра, каждое предприятие, целью которого является улучшение судьбы человека, должно считаться с этими двумя факторами».
Я.Ш.: Ощущение общего дела и сплоченности было невероятной компенсацией в довольно жалкий момент первичной абсорбции в Израиле. Мы избежали ужаса одиночества, неоднократно описанного в русской литературе, например у Лимонова, молодого Набокова (Сирина), Поплавского. И то, что мы обрели здесь, – это сионизм. Я вспоминаю наши разговоры и споры того времени. Мы с Сашей Гольдштейном осознавали эту новую принадлежность, Бренер – нет, и это причина, по которой мы оказались в разных географиях.
М.Г.: Если мы серьезно рассмотрим то, что мы написали, в каком направлении мы все двигались, чего требовали от других, и то, что делали сами, при полной свободе каждой личности, была ангажированность по отношению к этому месту, к идее сионизма, ангажированность к свободе высказывания, которая проходит какие-то определенные этапы, но имеет отношение к жизни общества, к жизни нашего коллектива. Если мы посмотрим на все, что было нами опубликовано – от «Знака времени» до «Зеркала», – все это для будущих поколений, даже если это уже будет для них неактуально и неинтересно с точки зрения литературной. Но это всегда будет интересно как подлинный документ эпохи. И вот эта приверженность наша к документальности – это тоже очень важная вещь. Благодаря немцам и русским, ангажированность превратилась в какой-то страшный боа-констриктор, который душит все живое. Но все это не так. На протяжении тысячелетий искусство было ангажированным, индивидуалистическое искусство появилось совсем недавно, и оно далеко не всегда умирало живым и здоровым в бою: чаще всего оно деградировало и превращалось в слякоть разложения. Мы все вместе, работая коллективно, создали термин «понятного искусства» – выражение, в котором есть смысл. Не игра в бисер, важная и интересная для маленького кружка людей, которым все равно, доходят до кого-нибудь их слова и идеи или нет, а говорение в тотальных пространствах. Понятное искусство является гораздо более сложным явлением, нежели любое индивидуалистическое заявление, текст, поток сознания. Из понятного искусства возникает термин «объективный стиль», определяющей первичные смыслы, дающий панацею от тактических бед, происходящих сейчас в литературе. Эти два термина – понятного и ангажированного искусства – возникли у нас, в нашей группе. Мы коснулись некоторых болевых точек не только русской культуры, но и израильской, и вообще европейской.
Я.Ш.: Наша понятность была связана с наличием реального смысла, в какой сложной форме он ни передавался бы, а остальные были готовы понимать только то, что давно уже понято, где не требуется встречной работы мысли. У нас была простота как ересь.
М.Г.: Есть всегда два понятия простоты. Одна эйнштейновская, который просто сказал очень важные вещи, а вторая – простота хуже воровства.
Я.Ш.: Ситуация с 1996 года должна была измениться к лучшему, когда к власти пришла русская партия, появилось множество русских чиновников, и казалось, что начнется сплошная поддержка русско-израильской культуры. Но в результате все жалобы к старому израильскому истеблишменту по игнорированию культуры русской общины Израиля можно отнести и к новому истеблишменту. То есть поддержка была и осталась на социальном уровне: голодного спаси, но жить не дай. Появилось громадное количество якобы культурных изданий, но они не смогли составить культурной структуры, которая поддерживает культуру на всех уровнях, не только утилитарную, но и элитарную тоже.
И.В. – Г.: В мае 1993 года Алекс Клевицкий предложил мне редактировать журнал «Зеркало», бывшего до того времени более-менее удачным дайджестом. Мы решили превратить его в литературно-художественный журнал. Ко времени выхода нашего «Зеркала» обстановка в международной русской культурной жизни совершенно изменилась. Во-первых, в Израиле собралась русскоязычная община в миллион человек, которая стала основным нашим читательским адресатом. К нам присоединились многочисленные авторы из русскоязычной диаспоры и самой России. В 1996 году «Зеркало» из ежемесячного иллюстрированного журнала стало толстым литературным журналом. В отличие от «Знака времени», который был более местным явлением, «Зеркало» заняло свое место в современном русском литературном мире. «Зеркало» – это место, где создается литература. И при помощи «Зеркала» литература входит в круг, где она должна существовать. О «Зеркале» пишут, на «Зеркало» ссылаются; мы получаем много очень серьезных текстов для публикации. И получение Сашей Гольдштейном Букеровской премии и премии «Антибукер» за 1997 год мы тоже отнесли к своим победам.
А.Г.: Конечно, судьба русских журналов, выходящих в России, легче нашей. Они являются летописями того, что происходит в русской литературе. Взять любой толстый журнал, который выражает идеологию мейнстрима, – он может следить за генерациями авторов. Мы же свой наличный состав перебираем в течение двух – трех номеров. Далее мы возвращаемся на круги своя. И тут возрастает значимость концепции номера как некоего целого. Мы даем не изолированные тексты – то, что делают толстые русские журналы, где концепция номера значит меньше, чем помещенные в нем тексты. Для нас же каждый номер – это несомненное событие, и потому любая книжка журнала является законченным художественным организмом. Мы действительно создаем выверенные конструкции, и это наше отличие от толстых русских журналов. Там сидит летописец, фиксирующий на бумаге то, что происходит, в то время как мы не следим за естественным течением фактов. Мы все время их либо конструируем, либо отбираем, либо создаем, либо провоцируем. Более того – мы не стремимся просто напечатать лучшие вещи, написанные по-русски. У нас установка на то, чтобы создать органичный израильский продукт, который нес бы все родимые пятна нашего существования, где был бы запечатлен необычный опыт нашей жизни. Ведь кто мы такие? Мы не израильские писатели, мы не собственно русские, мы не известно кто. Мы воплощаем какую-то инаковую сферу русской культуры, мы ориентируемся на местных авторов или на авторов, живущих в русской эмиграции, на своеобразных окраинных людей, далеких от истеблишментарных позиций, на интересно говорящих отщепенцев. И они живо откликаются на наши запросы: помяну, например, факт присылки нам рукописи Юрьенена, одного из ярких современных писателей, который находит своих духовных родственников в журнале «Зеркало», или философа Секацкого. Мы печатаем не столько социальных отщепенцев, сколько иного, нового рода аутсайдеров, имеющих реальный культурный смысл, но не вписанных ни в один из русских культурных истеблишментов. Мы играем общественную роль, и поэтому странно, что институции не реагируют на нас. Дело даже не в том, что мы говорим на каком-то непонятном языке: мы знаем, что в бюджетах высокоразвитых обществ выделен расход на непонятное – немецкая авангардная проза абсолютно не понятна широким читающим массам, хотя написана на языке тамошнего потребителя. Не понятна она и государственным чиновникам, но они знают, что в развитом обществе нужно поддерживать в том числе изысканный и замысловатый способ выражения. Карл Поппер некогда говорил о так называемом «третьем мире», своеобразном платоновском царстве идей, где существуют все мыслимые, сбывшиеся и покамест не обнаружившиеся формы интеллектуального и художественного проявления. Так вот, поддержание этого мира чрезвычайно важно, и европейская цивилизация давно с этим миром смирилась, вне зависимости оттого, насколько она понимает смысл содержащихся в нем способов речи. И должны существовать институциональные поддержки непривычных философских и эстетических идеологий. Но наше общество социальной помощи готово поддержать трудную молодежь или – в редчайших случаях – голодного писателя, но не умирающую культуру.
И.В. – Г.: Мы в «Зеркале» дали репрезентативный срез израильской прозы и поэзии, причем перевели на современный русский язык, и по крайней мере «одного ивритского писателя – Йоэля Хофмана – мы смогли вывести из анонимности. Это произошло, может быть, из-за общих формальных кодов, понятных современному русскому читателю. Это очень сложная ситуация, когда одна культура выбирает из другой нечто для влияния и возможности совместного существования. Для этого есть много причин, исторических и географических. Русская культура долгое время не была влита в общий мейнстрим мировой культуры, этот процесс начался, но еще далеко не завершен. Трудно требовать от Израиля быть пионером в этой области, и я не уверена, что из-за приезда сюда почти миллиона русскоязычного населения израильские поэты предпочтут Мандельштама Элиоту. Израильское культурное общество готово принять русскую культуру, уже разжеванную Западом. Но так называемые «русскоязычные» литераторы и деятели культуры относятся к израильской литературе еще более агрессивно и еще менее готовы ее принять. Одно ясно: культура должна выбирать сама, но ей должны быть предоставлены возможности выбора на высоком уровне – в серьезных изданиях, в качественных переводах, а не в олимовских сохнутовских патронажных местах.
А.Г.: Мы все равно находимся в положении бедных родственников. После падения Советского Союза мы – остатки проигравшей цивилизации, и, даже если бы мы стали писать по-английски и по-французски, на нас так же не обратили бы внимания. Несмотря на все сионистские декларации, израильское общество не проявляет к нам интереса. В нем, сознательно или бессознательно, невыговариваемо живет ощущение, согласно которому если ты представляешь из себя некую ценность, то ты никогда сюда не приедешь. Если ты значительный русский писатель, то твое место в России, если ты можешь сказать что-то внятное по-английски, то ты, безусловно, будешь жить в Англии или в Америке. Какими бы ни были твои патриотические чувства, ты не поедешь сюда, поскольку ни один творческий человек не станет так решительно ломать свою биографию. От творческого человека никто не ждет такого безумного и самокалечащего идиотизма и идеализма. Инстанции знают культурную историю этой страны, помнят, что знаменитые иностранцы, как правило, приезжали сюда потому, что были вынуждены это сделать, как Макс Брод и Мартин Бубер. Если бы их судьба не повернулась известным образом, никто из них не приехал бы. Брод был практическим сионистским деятелем в своей стране, а не просто сочувствующим, но приехал только тогда, когда жизнь вытолкнула его насильно. И истеблишмент прекрасно понимает, что, представляй мы из себя значительную ценность, мы, безусловно, реализовались бы, несмотря на наши убеждения, по месту своего языка. В этом смысле к нам существует некое фундаментальное недоверие, не побеждаемое никакими личными чувствами, никакими декларациями. Такое же отношение к здешним англоязычным писателям, например к Денису Силку, который занимает свое место в англоязычной поэзии. Я видел статьи о нем в крупных литературных журналах, но здесь он все равно относится к жалким отщепенцам. Наше общество не выработало института согласия по поводу культурных ценностей высокого ранга.
М.Г.: Ты можешь тысячу лет твердить израильтянину о величии русского искусства, но, когда он видит ту массу китча, которую привозят сюда художники в течение 30 лет, он видит своими глазами чрезвычайно убогую ситуацию: каждому из приехавших – художнику, режиссеру – была предоставлена возможность показать себя, – и девять десятых из них оказались абсолютно консервативными, отставшими на много лет от современного искусства. В тот момент, когда появился Гешер, он довольно быстро занял здесь свое место и получил поддержку государства. Через силу, через отрицание, через борьбу, но, когда я предложил свои вариации искусства, это стало интегральной частью израильского искусства в целом. Существуют конфликты внутри израильского искусства, но так или иначе все, что было привезено сюда серьезного, все это Израилем было принято.
Литераторы, которые претендуют здесь на признание и сетуют на израильское общество, совсем анонимны в своей языковой метрополии. В Израиле, как и везде, переводят все новое и знаменитое из других культур. Поэтому, когда мы говорим о ненужности русской культуры в Израиле, мы должны задать себе вопрос: оприходована ли эта культура самой огромной русской общиной в Израиле? Не оприходована так же, как и в метрополии. Какая же причина ей быть оприходованной на чужом языке собственно израильской культурой? Я знаю, что любая хорошая статья или проза, переведенная на иврит, будет перепечатана любым толстым журналом в Израиле.
И.В. – Г.: Конечно, мы не можем претендовать на вмешательство в достаточно новую структуру развития израильской культуры, живущей своими интересами, да мы и не стремимся, мы вполне самодостаточны. Мы только претендуем на то, чтобы на нас распространялись общие законы культурно-социальных достижений этого общества. На это мы имеем право, и, если этого не будет, мы выживем, но нам будет очень трудно. В итоге настоящая литература проникает и пропитывает и смежные культуры, несмотря на языковой барьер: ведь всякая живая культура, чем она мощнее, тем интенсивнее ищет чужого влияния.
«Неприкосновенный запас» № 3(5), 1999Вечное солнце субботнего дня
Беседа с Леонидом Гиршовичем
Леонид Гиршович – известный прозаик, автор нескольких книг, ставших заметным явлением современной русской словесности. Лучшим своим сочинением автор считает роман «Прайс», который скоро увидит свет. Двадцать лет назад Гиршович, музыкант по профессии, репатриировался в Израиль, где и приступил к литературной деятельности. В последние годы автор живет в германском городе Ганновере, работая скрипачом в оркестре тамошней оперы. Музыка дает средства к существованию, литература остается главным жизненным призванием. Наш разговор, в котором со стороны «Зеркала» приняли участие редактор журнала Ирина Врубель-Голубкина, Михаил Гробман и Александр Гольдштейн, происходит в конце июля, в канун субботы. За окном – неостывающий тель-авивский жар и полное отсутствие погоды. Самое время включать магнитофон.
Михаил Гробман: Ты плоть от плоти израильской литературной ситуации, ты постоянно приезжаешь сюда, получаешь наши газеты, здесь продолжают жить твои друзья и знакомые. Ты принадлежишь к этой среде, но видишь ее только раз в году – зрение успевает отвыкнуть от привычного пейзажа. Какое у тебя ощущение на сей раз, когда в страну приехала и осела в ней масса новых людей, открылись и закрылись всевозможные русские газеты и произошли другие события в том же роде?
Леонид Гиршович: Я живу в двойном временном измерении, в двух пластах, никоим образом друг с другом не соприкасающихся. Первый временной пласт – немецкий: размеренный, спокойный, рабочий, ремесленный. Второй пласт – это израильские летние каникулы, продолжающиеся уже 14 лет. Можно говорить о каком-то пунктирном движении зрения: лето – и кадр меняется, перемигнул – и увидел другую картинку, предварительно проспав свой год в германской летаргии. Но это касается в основном отношений с теми, с кем можно валять дурака в Иерусалиме. В этом смысле картинка получается весьма занятная, знакомые фигуры застывают в новых позах: этот с тем поругался, другой женился, и он же спустя полгода развелся и так далее. К счастью, смертей пока не было – исключая уже давнюю смерть старика Давида Дара. Вот я и ответил на вопрос, все остальное будет сплетнями, которых я не то чтобы избегаю, но стараюсь их сам не источать.
М.Г.: А эти позы различных фигур – они являются каким-то фактором того, о чем ты пишешь?
Л.Г.: Сейчас, пожалуй, нет, в настоящее время я сильно повернут к России. Израиль не отошел на задний план, но появились уже три точки опоры, включая город Петербург. Я умышленно называю его именно так, потому что Ленинград был отрезан и исчез для меня, а новые знакомые появились уже в Петербурге – городе, где вышла моя книга.
И.В. – Г.: Что это за петербургская среда?
Л.Г.: Я думаю, что познакомился с людьми, с которыми никогда не мог быть знаком раньше, ведь в Ленинграде я просто еще не писал. Я общался в свой приезд туда с теми, кто составлял значительную часть былого ленинградского андерграунда, а кроме того, с двумя – тремя любопытными московскими литературными персонажами. Повстречался я также кое с кем из своих коллег по симфоническому оркестру, которые хором и в розницу, по долгу службы и по велению сердца клеймили меня на прощальном собрании перед моим отъездом в Израиль. Так что были интересные психологические ощущения. Ну, а возвращаясь к литературе, отмечу беседы со столь нелюбезными Гробману акмеистами и псевдоакмеистами, из которых я очень чту Лену Шварц. Какие еще фамилии – вы спрашиваете. Ну, допустим, Кривулин, ранее шедший в одной обойме с Леной, так прямо и говорили Кривулин – Шварц, что, по-моему, не соответствует действительности.
И.В. – Г.: Вот вы сказали «акмеизм»…
Л.Г.: Я произнес это слово в метафорическом смысле…
И.В. – Г.: И тем не менее. Как сочетаются их, акмеистов, и ваши литературные интересы?
Л.Г.: А я не знаю, сочетаются ли мои интересы с интересами такого политика от литературы, как Кривулин. Разве что я всегда питал детское и болезненное влечение к этому городу. Я не вкладываю в свой «акмеизм» никакого теоретического смысла еще и потому, что объем моих теоретических познаний невелик, и в данном случае меня занимает скорее психологическое измерение проблемы. Существуют, условно говоря, два типа характеров. Акмеистам свойствен охранительный консерватизм, у них за спиной вечное прошлое, тогда как футуристы рвутся к солнцу, если угодно, к вечному солнцу будущего. О, мы сейчас поговорим на интересную тему. У Шпенглера в «Закате Европы» я впервые прочитал о противопоставлении культуры – как эпохи творческой активности – цивилизации – как миру потребителей, миру людей второго или десятого класса, занявших место творцов былых времен. Так вот, я без всякого страха причисляю себя к людям цивилизации, к тем, для кого момент эстетической ностальгии, момент любования прошлым – да-да, господин Гробман, – является неотменимым. Это седьмой, субботний день человечества, и ему есть аналог в жизни каждого из нас: мы ведь тоже проходим период созревания, болезненной активности, а потом успокаиваемся и начинаем обитать в приятной летней тени.
Александр Гольдштейн: Акмеист Мандельштам сказал, что цивилизация выдумала культуру. То есть всегда была одна сплошная цивилизация, или одна сплошная культура, или уж они так слитно взаимодействовали, что мы не можем их вычленить порознь из общего месива.
Л.Г.: В принципе, это верно. Я совершенно согласен с тем, что в наше время происходит ничуть не менее интенсивное творчество, чем в прошлом. И однако это ведь предел эстетического наслаждения – игра в бисер, субботний отдых человечества, тот предел, который – и с этим я согласен тоже, – конечно, в реальности не осуществим. Психологически же собственно к акмеизму в строгом смысле у меня влечения нет, как нет его и вообще к поэзии. Последнюю мне заменяет музыка, которая, на мой взгляд, обслуживает ту же потребность.
А.Г.: Обратимся к вашему роману «Быт и нравы гомосексуалистов Атлантиды». Едва ли его можно назвать акмеистическим в каком угодно смысле слова, в нем чувствуется явная стилистическая антитрадиционность.
Л.Г.: Не думал, что зайдет речь об этой давно написанной книге. Она мало кому известна по объективным обстоятельствам ее публикации в малотиражном издании. Но те немногие, кто читал эту вещь, и те, еще более немногие, кто сказал о ней пару теплых слов, не поняли, мне кажется, чего-то очень существенного для ее замысла. У меня была позиция, интеллектуальная позиция, которую я стремился выразить с помощью метафоры Атлантиды. Меня всегда волновала тема замкнутого мира, живущего по своим законам, и в основе этой идеи замкнутого мира лежало мое глубочайшее убеждение в том, что этика есть функция эстетики, что наши представления о добре и зле относительны. Борхеса я к тому времени не читал, но именно в его рассказе «Сообщение Броуди» в сжатой форме представлено то, что я намеревался выразить в «Атлантиде». Я полагал, что если читатель преодолеет первые десять страниц текста, то далее он начнет сопереживать этому гнусному, окаянному миру и будет жить по его законам, то есть его понимание добра и зла несколько сместится. Кроме того, я преследовал и определенные формальные задачи, слегка пародируя воспоминания русских эмигрантов, в том числе Набокова, о старой России, затонувшей стране, которая в действительности, вероятно, была достаточно непотребна, но в их памяти она представала светочем души.
А.Г.: Не было ли в «Атлантиде» намека на замкнутость советского мира с его по-своему великолепной эстетикой?
Л.Г.: Нет. Сегодня, задним числом, легко заявить, что я провидел конец советского мира, изобразив его в романе, но этого не было. Я имел в виду скорее Аксакова, русских помещиков, идиллию русского рабовладельческого быта. Да и сам образ страны, затонувшей в море слез, – это не Советский Союз, провалившийся в тартарары. Неправильный, вывернутый язык «Атлантиды» ни в коей мере не связан ни с каким «футуризмом», этот язык демонстрировал уродство и вывернутость мира. В то же время я старался доказать, что любая аномалия может быть предметом ностальгии.
М.Г.: Сегодня в русской литературе существуют две отчетливые концепции творчества. Первая оперирует советскими языковыми и мифологическими структурами в качестве материала, сырья, причем это не только покойный соц-арт, но и, допустим, такой тонкий, очищенный автор, как Всеволод Некрасов, который никогда не был связан с соц-артом. Вторая концепция – это собственно советская эстетика, объединяющая людей самых разных, в том числе противоположных политических убеждений, от Максимова и Солженицына до Искандера или Горенштейна. К какому из направлений ты причисляешь себя? Или, говоря точнее, сформулируем вопрос таким образом: кто тебе в литературе близок и с какой манерой ты свои тексты идентифицируешь?
И.В. – Г.: Почему такое жесткое противопоставление? Помимо указанных тобой концепций, существуют и другие, ничуть не менее значительные.
М.Г.: Однако именно эти две кажутся мне самыми важными.
Л.Г.: Я одиночка, дилетант, мое литературное сочинительство являет собой род чудовищно гипертрофированного хобби. А что касается имен… Ну, разве не банально было узнать, что лет в 15 я наткнулся на Томаса Манна, потом прочитал Набокова, от Манна отрекся, но в дальнейшем попытался их как-то внутри себя примирить, в зрелом возрасте открыл для себя Борхеса, а в юности пережил бурный роман с Кафкой. Это все совершенно банально, полный джентльменский набор. Пожалуй, мне проще будет назвать тех, чьим именем я не желаю клясться, кому не желаю угождать. Мне всегда была неприятна повальная сентиментальная любовь к Булгакову, которая превращала людей в кликуш. Меня всегда отталкивал шовинизм этого писателя, его стремление угодить власти, отталкивал еще до того, как я узнал, кому предназначалась маска Воланда. У меня совершенно не вышел роман с Венедиктом Ерофеевым, хотя его очень высоко ценят люди, вкусу которых я привык доверять. Но все его лучшие шутки в «Москве – Петушках» кажутся мне выполненными на уровне средних острот в еженедельнике «Бесэдэр».
М.Г.: Но Ерофеев не вызывает у тебя отвращения.
Л.Г.: А у меня и Булгаков не вызывает отвращения, мне отвратительна массовая реакция на него. Булгаков – гений самовыражения, но самовыражается в нем итээровский человек. И когда под Булгаковым на знамени идет великий российский итээровский Китай, это становится противно и опасно, потому что портит вкус. Хотя сам по себе Булгаков мил, забавен и как писатель, безусловно, выше Ерофеева.
И.В. – Г.: А другой Ерофеев, Виктор?
Л.Г.: Впервые я прочитал его в «Метрополе», осилив страницу-другую. С годами мне уже хватало нескольких его строк. Хотя у Виктора же Ерофеева мне попалось остроумное, лихо написанное эссе «Щель». Кто знает, начни я читать его с этой вещи, и наше общение могло стать более плодотворным, продлившись страниц на десять – пятнадцать – не больше, конечно.
И.В. – Г.: А как вы относитесь к Мамлееву?
Л.Г.: Нет, никогда у меня не получалось ничего путного с Мамлеевым. Правда один его неплохой рассказ я помню – кажется, «Жених», напечатанный Марамзиным в «Эхе».
М. Г.: Мы его тоже опубликовали в «Зеркале». Чем конкретно тебя не устраивает Мамлеев? Темы, стиль?
Л.Г.: Ну, не нравится он мне – и все тут. Я ведь в чем-то мещанин. Я, извините, жажду катарсиса, а он не так уж здорово пишет, чтобы это меня по-настоящему захватило, переломило и переделало. Он по-своему очень гармоничен – некая убогость его тем адекватна убогости выражения. Ничего у меня не выходит с Мамлеевым. Мне вообще мало кто нравится, я очень привередлив. Но вот несколько дней назад я прочитал страниц пятнадцать совершенно эстетически чуждой мне прозы – «Змеесос» Егора Радова – и должен отметить, что это очень здорово, остроумно, талантливо. Я не верю, что он выдержит в таком роде и дальше…
А. Г.: Там все время попадаются отличные куски…
Л.Г.: Значит, я нахожусь в середине первого из них, и пока что это очень хорошо, я захвачен перспективой и даже отложил роман на Германию, чтобы его прочитать в немецкой тиши, как медведь в берлоге. Это куда более эффектно, чем Саша Соколов…
А. Г.: Которого Радов, судя по предисловию, не переваривает как жеманного писателя, больше всего озабоченного, где бы ему поточнее поставить запятую.
Л.Г.: Соколов интересен, я его хвалю, но у него, к сожалению, столько провалов. Они отчетливо видны в «Школе для дураков», и в «Палисандрии», которую мучительно невозможно читать. Он в ней замахнулся недурно, клинок блеснул на солнце, но рассыпался прежде, чем его опустили. Соколов начинал в 70-е годы, когда вокруг в литературе было не так много хорошего, и это на нем сказалось.
М.Г.: Леня, ты все время говоришь «нет», скажи, наконец, хоть раз «да» или полу «да». Кто же тебе нравится, кто тебе близок в литературе?
Л.Г.: А кому оно нужно, мое «да»? Это же будет совершенно банально. Ко всему прочему, я живу на необитаемом острове, мало что читаю…
И.В. – Г.: Ну, конечно, все прочитал…
Л.Г.: Вовсе нет. Вот попался мне в «Литературной газете» ругательный отзыв одного батюшки по фамилии Радлов, плохой и явно подтасованный отзыв на книгу Королева, которая, кстати, вместе с моим романом «Обмененные головы» выдвинута на Букеровскую премию. Я Королева как раз не читал, а хотелось бы, любопытно.
А.Г.: Скажите несколько слов про «Обмененные головы». Название повторяет Томаса Манна, его известную новеллу. Это что, возвращение былой любви?
Л.Г.: Отнюдь. По исходному заданию эта вещь шкурническая. Я хотел написать что-нибудь такое, что было бы легко перевести на немецкий; глядишь, книга разошлась бы и помогла мне покрыть расходы на квартиру. Так что в эстетическом смысле это был если и не шаг назад, то в сторону. Мой расчет, впрочем, не удался, должно быть, у замысла был некий изначальный изъян. Меня, однако, похвалил Лев Лосев, который мне очень нравится, пишет он блестяще, остроумно. Он в социальном плане может вызвать раздражение, потому что рядом с ним находится фигура Бродского, являющаяся объектом травматических комплексов для очень многих.
М.Г.: Это не комплекс, а элементарная зависть к успеху, лютая зависть. Лосев плох не потому, что рядом находится Бродский, а потому, что пишет, как профессор, профессор ведь не может писать хорошо.
Л.Г.: Наверное, Умберто Эко тоже писал плохо… Что же касается зависти, это действительно так. Я знаю одного писателя, который каждый год, как только становится известным имя очередного лауреата, уходит в запой.
М.Г.: Но я хочу сказать вот что. Оставим в покое завистников Бродского. Речь о другом. Тот же самый ИТР, о котором ты так замечательно выразился применительно к Булгакову, обожает Бродского, писает кипятком от Фазиля Искандера, упивается Цветаевой. И Бродский – он в огромной степени поэт русских итээровцев.
Л.Г.: Нет, не согласен. Во-первых, повторю, что у меня в самом деле нет тяги к поэзии. А во-вторых, разговаривая недавно с одним поэтом, который по поводу Бродского придерживается сходного мнения, я сказал: «Считайте, что у меня такой вкус, что я люблю Шопена. Бродский – такой вот Шопен… Конечно, я ничего не понимаю в поэзии, но для себя, для души, а не для учебы, я буду читать стихи двух – двух с половиной поэтов: Мандельштама, Бродского и оставшуюся половинку – Лену Шварц. Пусть я сам при этом окажусь в компании означенных выше итээровцев. Мою примитивную душу их стихи трогают, а гениального Хлебникова я читать не стану, разве что из любопытства, чтобы подивиться фонетическим и семантическим приемам.
М.Г.: Как ты себя определяешь в смыспе литературной географии? Ведь у каждого из нас есть своя принадлежность. С кем ты, в конце концов?
Л.Г.: Понятия не имею. Я одиночка, который обожает всех мирить. Когда-то я мечтал даже примирить Максимова с Синявским, было это еще при советской власти, которую я считал величайшим злом. В то время политическая позиция Максимова меня вполне устраивала, но вот эстетическая… Это та самая советская эстетика при антисоветских политических воззрениях, о которой мы говорили. Так что из примирения, разумеется, ничего не вышло. Если угодно, я за некую «соборность», хотя само это слово вызывает у меня чисто эстетическое отталкивание. Я доброжелателен, если меня не слишком рассердить. А любопытно, кстати, почему эта самая соборность так действует на нервы, а шиллеровско-бетховенское «Обнимитесь, миллионы!» – нет.
А.Г.: Раз уж возникла опять немецкая тема… В Германии живут сейчас и другие русские писатели – Хазанов, Горенштейн. Как вы к ним относитесь?
Л.Г.: Хазанова я совсем не люблю, он чудовищно вторичен и в прозе, и в публицистике. А к Горенштейну я стараюсь быть объективным.
А.Г.: Звучит не слишком комплиментарно.
Л.Г.: Именно так – стараюсь быть объективным.
М.Г.: Нам ясно, как ты относишься к соборности (хотя любишь, как ты сам сказал, читать Николая Федорова) и как воспринимаешь бетховенский призыв. Интересно было бы спросить у тебя еще об одной, помимо совокупного человечества, форме коллективизма – еврейском миньяне.
Л.Г.: О, здесь мы уплываем совершенно в иной мир, в иной океан. Я не знаю, зачем Господу Богу понадобилось создать евреев, не знаю, каким образом мое еврейство соотносится с моим писательством. Но я со своим еврейством ношусь как с писаной торбой, а поскольку я к тому же еще и сочиняю, то, значит, я в то же время еврейский писатель. Предлагаю на этом поставить точку. Смотрите, как все удачно совпало – такой изящный декаданс.
Когда магнитофон был выключен, а беседа текла по инерции, солнце уже клонилось в море, уступая место еврейской субботе, и на какое-то мгновение, мгновение перехода одного в другое, с этой субботой совпадая. То было вечное солнце субботнего дня, седьмого дня человечества, предельного и недостижимого дня, затерянного в расплавленном пространстве Средиземноморья.
«Зеркало» № 103, 1993 г.Связь времен
С профессором Зивой Амишай-Майзельс, директором института истории искусства Еврейского университета в Иерусалиме беседовали Ирина Врубель-Голубкина и Марина Генкина
Марина Генкина: Вы родились и выросли в Америке. Как случилось, что вы решили переехать в Израиль?
Зива Амишай-Майзельс: Верно, я родилась и выросла в Америке и получила сионистское воспитание и еврейское образование – на иврите. Мой отец был сионистом. Он был ивритским писателем, говорил на иврите дома. И он отдал меня учиться в иешиву, где преподавали на иврите. Это была современная иешива, не такая, как в Меа-Шеарим. Она начиналась с детского сада, мальчики и девочки учились вместе, полдня был иврит, полдня английский. Это была одна из лучших школ Нью-Йорка. На каникулах я ходила в летний сионистский лагерь. И, когда мне было семнадцать лет и я закончила гимназию, меня послали на лето в Эрец-Исраэль. И там у меня возникло очень странное ощущение. Как-то я бродила целый день одна по Тель-Авиву и вдруг почувствовала, что собираюсь здесь жить. Не то чтобы я заранее знала, что собираюсь это сделать, или что я вдруг полюбила Израиль, или Тель-Авив стал мне близок; и день был самый обыкновенный – ничего особенного не происходило; и это не было религиозным или сентиментальным переживанием. Я просто ходила по улицам, слушала иврит, рассматривала людей, и вдруг я почувствовала, что приехала домой. Потом я вернулась в Америку, какое-то время жила то там, то здесь, пока не переехала сюда окончательно.
Ирина Врубель-Голубкина: Вы из религиозной семьи?
З.А. – М.: Скорее в определенной степени соблюдающей традиции. Но отец был из очень религиозной семьи; он прошел путь от хасида до светского сиониста. В Америке мы жили как светские люди, а идея послать меня в иешиву возникла по двум причинам: во-первых, для изучения иврита, а во-вторых, чтобы впоследствии у меня была возможность сознательного выбора. Мама тоже считала, что выбор невозможен без знаний. Весь этот круг, к которому мы принадлежали в Бруклине, круг приверженцев иврита, гебраистов, придавал огромное значение ивритскому образованию. Мой отец, например, был редактором ивритского еженедельника «Почта». Этот еженедельник существует по сей день. Сегодня он направлен на израильтян, а тогда он был адресован именно этому кругу гебраистов. Многие из них – они сами или их родители – приехали из Европы, получив ивритское образование. И в 30-е годы, на фоне их желания дать своим детям сионистское и религиозное еврейское образование, возникли две иешивы – современные и очень высокого уровня. В сущности все сегодняшние иешивы выросли из них.
М.Г.: А историю искусств вы изучали уже здесь, в Израиле? Как вообще вы стали искусствоведом?
З.А. – М.: Историю искусств я изучала в Америке, сначала в Барнард-колледже, а потом в Колумбийском университете у профессора Шапиро. А докторат делала уже здесь – «Религиозные мотивы в творчестве Гогена». Но вообще я совершенно не собиралась быть искусствоведом. Я была поклонницей Ренессанса и собиралась рисовать, а зарабатывать я предполагала дизайном театральных костюмов. Но в Америке в то время обучали только абстрактному искусству, а меня это не устраивало. И я решила, что единственный способ научиться рисовать по-настоящему – это изучить искусство Ренессанса, включая технику. Потом я уже поняла, как в Израиле обстоит дело со сценографией; и, поскольку я точно знала, что жить буду здесь, нужно было выбирать другую профессию. Меня всегда интересовало религиозное искусство, независимо от того, какая это религия. И в вопросе об иконографии тоже был элемент, над которым я хотела продолжать работу, независимо от того, кто художник. И я подумала, что если пойти этим путем, то я могу прийти и к религиозному искусству, и к проблемам иконографии вообще, и к вопросу о том, что такое еврейское искусство. Этот подход – интерес к еврейскому искусству и ко всем этим вещам – появился у меня под влиянием Шапиро. Он очень хорошо знал меня и мое происхождение. Когда я вернулась в Колумбийский университет делать дипломную работу и рассказала ему, что собираюсь заниматься современным религиозным искусством, он ответил – с твоим образованием, с этой иешивой, которую ты закончила, тебе нужно заниматься Шагалом, независимо от того, любишь ты его или нет. Во всяком случае, если ты собираешься работать со мной, ты должна делать именно это. Так я стала искусствоведом и начала заниматься Шагалом.
М.Г.: Но впоследствии вы занимались Гогеном. В чем, собственно, его религиозность?
З.А-М.: То же самое можно спросить и про Шагала – он ведь тоже не религиозный художник; он просто использовал религиозные темы, как и Гоген. В сущности все искусство XIX–XX веков с этим связано. У Гогена меня интересовало, как это выражается именно у него. Он работал в такой форме, которая не была принята в XIX веке, да и в прошлом очень немногие художники ее использовали: каждый раз, когда у него рождался незаконный ребенок, он писал Мадонну. Таким образом, незаконнорожденный ребенок превращается в младенца Иисуса, а мама-таитянка – в Богоматерь. И Ева становится у него очень личным образом, причем никогда – ни во Франции, ни на Таити – он не изображает в своих картинах жену как Еву, хотя лицо матери однажды появляется как лицо Евы. Сам Гоген отождествлял себя со страдающим Иисусом. Это персонализация религиозных тем и мотивов. Такого не увидишь в церкви; и это очень интересная тема для исследования.
И.В-Г.: Ваш подход к творчеству Шагала отличается от общепринятого.
З.А-М.: Я не рассматриваю Шагала как художника поэтического. При таком подходе все, что в его искусстве непонятно, объясняется тем, что он такой «поэтический». Я, конечно, тоже не отказываю ему в этом, но я считаю, что за его эмоциональностью стоял очень острый ум, который Шагал сознательно скрывал, делая вид, что рассудок в его творчестве не участвует. Он вообще был очень странным человеком; он хотел, чтобы его считали наивным, романтичным, и он совершенно не желал, чтобы его разгадали. Все это я начала понимать, когда делала работу о его «Окнах» в «Хадассе». Мне тогда пришлось пройти всю литературу о предыдущем еврейском искусстве, чтобы понять, откуда все это взялось у Шагала и чем он отличается от других. И неожиданно в книге Гутмана я наткнулась на… источник окна «Нафтали»! Я чуть в обморок не упала – что он, украл его, что ли? Это окно было просто скопировано с двух картинок, с двух надгробий, которые никакого отношения к теме Шагала не имели. Одна с птичкой и пещерой, а другая с оленем и буквами «пей» и «нун» – «здесь похоронен». Таким образом я обнаружила, что был источник, которым Шагал пользовался, чего, по общепринятой версии, никак не должно было быть. Я побежала к Шапиро, а он говорит – прекрасно, теперь ты, наконец, поняла, что источники существуют (он был знаком с Шагалом, и для него это, видимо, не было чем-то из ряда вон выходящим); а теперь подумай, почему он это сделал и какова была его программа в «Окнах». Я стала думать и увидела, что к этому человеку есть ключ; и я начала понимать его. Я принялась искать источники – и находила их. Одним из источников были идишистские пословицы. Идиш я знала плохо и для подстраховки над своей первой статьей работала вместе с отцом, который знал идиш прекрасно. Мы работали в несколько странной манере: я не показывала ему картинку, потому что это сбивает, а описывала ее словами и просила подумать, как это можно сказать на идиш. И так мы нашли много разных пословиц, и все было очень логично. Потом я сделала то же самое со стенными росписями – отца уже не было в живых, и я играла в ту же самую игру с профессором Довом Ноем, рылась в словарях и, в конце концов, обнаружила, что теперь я очень многое могу объяснить. Для меня это признак того, что исследование на верном пути: если у тебя неправильный подход к художнику, очень многое остается неясным, и тогда начинаются все эти слова – «поэтичный», «романтичный» и т. д.
И.В. – Г.: Очевидно, ваш подход к Шагалу казался достаточно странным. Когда вы были в России, вы встречались с искусствоведами, которые занимались Шагалом? Как они относились к вашим идеям? Ведь многие из них обратились к Шагалу уже после вас.
З.А-М.: Я приехала летом, многие были в отъезде. Да там и нет большого количества специалистов по Шагалу. И мне кажется, дело не только в том, что в России до недавнего времени это было запрещено. Причина скорее в том, что русские искусствоведы не знакомы с идишистской культурой, а без этого Шагала понять невозможно. У нас по нему специализируется Мириам Райнер. Она приехала из Югославии, и она росла в доме, где идиш был составной частью жизни. Я тоже вышла из еврейского дома, из еврейского воспитания, и только поэтому я смогла определить все эти его мотивы. Правда, у Шагала есть еще и другая сторона – его русские корни; и тут, чтобы по-настоящему вникнуть в суть, нужно, конечно, знать и контекст русской культуры и русский язык. Я русского, к сожалению, не знаю, а Мириам выучила, поскольку она вообще собиралась заниматься русским искусством. Сейчас она пишет докторат по Шагалу, и как раз на основе комбинации трех культур, к которым он принадлежал: русской, идишистской и французской. Я думаю, что русские искусствоведы могли бы заниматься именно русским фоном его творчества.
И.В-Г.: В России практически не было и нет искусствоведов, которые занимались бы, например, Вторым русским авангардом. В сущности, основные работы были написаны на Западе. Что вы можете сказать в этом отношении по поводу Израиля? Ведь сейчас, когда приехало так много народу из России, здесь появилось много материалов по этой теме. Занимается ли кто-то этим? Как относятся к «русской теме» университет и Академия?
З.А. – М.: Это очень важный вопрос. Университет относится весьма положительно, и я была бы очень рада, если бы кто-то начал заниматься этими темами. Но на кафедре интересовались другими эпохами. Израильские ученики занимаются израильским искусством, но я не могла убедить своих русских учениц работать над русским искусством. Когда приехала первая алия, я говорила своим студенткам: «У вас есть большое преимущество – вы знакомы с русской культурой, вы знаете русский язык; начните заниматься русско-еврейским искусством, хотя бы периодом Антокольского». Одна написала семинарскую работу, а вторая отказалась совсем, потому что ее интересовал XVIII век. Потом мне удалось убедить одну студентку-израильтянку начать работу о группе концептуалистов, один из которых репатриировался в Израиль – я говорю о Гробмане, – создал здесь группу художников «Левиафан». Студентка начала эту работу; но больше никого не удалось убедить до того момента, пока не появилась последняя алия. Я очень обрадовалась и тут же отправилась в Академию просить денег на новый проект о русско-еврейском искусстве. Я сказала: нужно заняться архивами, есть много работы, и сейчас, наконец, появились люди, которые могут это делать. Над этими темами должен работать человек именно из той среды, знакомый с истоками, разбирающийся во всем этом. Иначе это будет взгляд со стороны – то, что делают в Америке, и не совсем удачно. Нужен кто-то с «русской» головой. Сейчас один из моих учеников решил писать о русском влиянии на контекст Кандинского, и я очень рада этому. Но я не Шапиро, я не могу сказать человеку: ты должен работать над такой-то темой; я только говорю: у вас есть разные возможности, выбирайте. Но есть еще одна проблема: прежде всего мне приходится учить вновь приехавших иному подходу к изучению истории искусства. Насколько я могу судить – я не читаю по-русски, но я вижу те первые работы, которые пишут мои ученики, – в России преобладает фактологическая школа. Самым важным представляется документ; считается, что на основе документа можно делать докторат. На Западе к документу относятся как к первичному факту; главной должна быть идея, концепция. Мне пришлось сильно потрудиться, чтобы довести до сознания моих студентов важность концепции, с некоторыми учениками в связи с этим возникали конфликты. Так что сначала мне приходится учить своих студентов, как работать, а потом уже заинтересовывать их какими-то темами.
И.В. – Г.: Как вообще формировался западный подход к еврейскому искусству и в чем именно он состоит?
З.А-М.: Новый подход к еврейскому искусству как объекту исследования возник еще в конце XIX века. Там были два важных момента: в качестве еврейского искусства начали рассматривать не только иудаику, и интересоваться им стали не только евреи. Можно вспомнить хотя бы Стасова в России. Есть еще одно имя – Иозеф Стржиговский, который первым начал писать о еврейских первоисточниках христианского искусства. Стржиговский был специалистом по древним рукописям, и он нашел в раннехристианских рукописях вещи, которых не мог объяснить; и на основании некоторых признаков он пришел к выводу, что они должны быть как-то связаны с еврейскими источниками. Но ему было ясно, что люди, которые иллюстрировали раннехристианские рукописи, не могли знать этих источников, – значит, должен был быть какой-то еврейский посредник. Тут и родилась его концепция о том, что существовало древнееврейское искусство, просто обязано было существовать – по всем этим признакам, проблескивающим то здесь, то там. Тогда это было совсем не очевидно: памятники древнееврейского искусства еще не были открыты. Курт Вейцман предположил, что, может быть, это были иллюстрации к Септуагинте, которые хранились в Александрийской библиотеке. В общем-то, с его стороны было очень разумно сделать такое предположение – библиотека сгорела, рукописей нет, и таким образом он решил все свои проблемы. Но если говорить серьезно, то он, конечно, заложил основы. Впоследствии его идеи продолжали и развивали Мордехай и Бецалель Наркис, Рахель Вишницер, которые привезли из разных стран убежденность в существовании старого еврейского искусства. Это одна сторона вопроса. Другая – современное еврейское искусство. Размышления на эту тему тоже возникли не сегодня – это произошло в начале XX века и в значительной степени было связано с Еврейским Возрождением в этот период и статьей Мартина Бубера «Что такое еврейское искусство». В начале века уже существовали современные еврейские художники, устраивались выставки, на которых, наряду с иудаикой, экспонировалось и современное еврейское искусство, и попытки осмыслить его как явление были достаточно серьезны. Тогда этим занимались в основном в кругу сионистов и гебраистов; очень многое сделали журналы начала века – «Ост унд Вест», «Римон». Россия тоже участвовала в этих поисках концепции современного еврейского искусства – они шли на Западе и на Востоке одновременно. Можно сказать о спорах Стасова с Антокольским: Стасов побуждал его приблизиться к еврейству и делать вещи, более еврейские, нежели русские, а Антокольский ему возражал; это в сущности спор о том, кого считать еврейским художником, и спор этот не разрешен до сих пор. Можно сказать также о школе «Бецалель» в Израиле; ее концепция целиком вышла из России. Вот в таком мире и начал расцветать новый подход к еврейскому искусству. Я же пришла к этому много позже под влиянием Шапиро и Авраама Кампфа, тоже его ученика, который сейчас живет в Хайфе. Он был первым, кто начал читать курс «Современное еврейское искусство». У Кампфа была абсолютно ясная концепция, очень близкая к той, которую в то время и я начала разрабатывать. Он считал, что дело не в том, родился ты евреем или нет. Для него еврейский художник тот, у кого есть «Jewish experience»[5]. Если этого нет, он не принимается в расчет. Jewish experience – вот что единственно важно; иногда это может быть и у нееврея – как реакция на то, что происходит с евреями. Такова была его концепция, и так он назвал сначала выставку, а потом книгу.
Моя концепция вначале была очень близка к этой, но потом я пришла к другому выводу. Я считаю, что есть три поколения в еврейском искусстве – не в хронологическом смысле, а в связи с понятием experience. Есть евреи, которые вышли из гетто, причем неважно, когда это произошло – вчера или двести лет назад. Они росли в еврейских семьях, знают еврейские истоки, еврейские традиции и разрываются между двумя мирами. Второе поколение – это те, чьи родители вышли из гетто; эти пытаются ассимилироваться. Третье поколение – возвращается. Они вдруг начинают выяснять, что знал их дедушка; они не получили никакого еврейского образования, и иногда все их знания о еврействе сводятся только к Катастрофе – это единственное, что им известно. Моя концепция как раз начала меняться, когда я писала книгу о Катастрофе. Я тогда поняла еще одно: каждый художник – с точки зрения его еврейской самоидентификации – проходит через определенные периоды, и переход связан и с тем, что происходит у него внутри, и с внешними событиями. Например, Бен Шан. Он начинает с еврейских тем; потом он расстается с женой и с еврейской темой и женится на христианке. И только под влиянием впечатления от прихода нацизма он начинает возвращаться к еврейским темам. Или Китай: у него всегда была какая-то нить, которая связывала его с еврейством, но он не был готов признаться в этом. Были люди, которые вообще не знали, что он еврей, в том числе его близкие друзья. В начале 80-х годов он вдруг начал чувствовать свою чужеродность, стал прислушиваться к антисемитским идеям. И он вернулся к еврейству, начал учиться – потому что он ничего не знал, – и так он пришел к иудаизму. То есть художник возвращается, когда у него появляется ощущение гонения, и это довольно распространенное явление: то, что заставляет человека вспомнить о своем еврействе, – это ощущение гонения. Конечно, существуют разные концепции: например, были попытки определить еврейское искусство «по духу». Был один такой писатель, не буду называть его, он писал, что еврейское искусство – это когда присутствует хасидское мировосприятие, которое дает очень сильное ощущение цвета, эмоциональность, и все это вываливается наружу, как у Сутина; или это может быть холодная интеллектуальность, как у Габо. Но я, во-первых, сомневаюсь в хасидском фоне Сутина, а во-вторых, согласно этой теории, любого эмоционального художника можно считать евреем, например, Ван Гога. Есть качества, которые существуют у всех народов: интеллектуалы есть везде, чувствительные люди есть везде, экспрессионисты есть везде. Я не думаю, что у евреев, кроме нашего стремления всегда поступать наперекор, есть какие-то особые свойства, которые не присущи гоям; и я затрудняюсь указать пальцем на некую специфическую черту характера евреев, по которой можно определить еврейского художника; напротив, я хочу идти от художника и разобраться именно в нем.
И.В. – Г.: Если я правильно поняла, ваша концепция состоит в следующем: еврейский художник – это тот, кто родился евреем, в какие-то периоды своей жизни обращался к еврейским темам и у него есть Jewish experience. Так?
З.А. – М.: Нет, нет. Такова была моя концепция, но теперь я думаю иначе. Мне кажется, нужно рассматривать всех художников, родившихся евреями, и по отношению к каждому заново посмотреть и обдумать, что такое для него еврейская Jewish experience. Потому что в определенном смысле ассимиляция – это тоже Jewish experience. Это очень чувствуется в России и в Америке. Невозможно просто отмахнуться от того, что происходит с миллионами евреев. Значит, вопрос об ассимиляции художника тоже нужно исследовать во всех аспектах: были ли в этой ассимиляции искры Jewish experience, или она была связана только с исторической ситуацией на данный момент, или это были какие-то личные переживания. Иногда можно встретиться даже с моментом отталкивания. Например, у Сутина не только нет еврейской темы – напротив, есть отрицание еврейских ценностей. Это не просто ассимиляция – это ненависть к самому себе и к своему прошлому. Картины с кровью, с мясными тушами – во всем этом есть что-то антиеврейское; не то чтобы христианское, но, бесспорно, противоречащее еврейским понятиям. Однако… Ведь ненависть к самим себе – это тоже наша черта. И, может быть, вместо того, чтобы подходить с готовой меркой, рассматривая художника с точки зрения наличия или отсутствия у него еврейской темы, я должна исходить в своей новой концепции из того, что существует в реальности, и попытаться понять и объяснить то, что я вижу.
М.Г.: Вы раздвинули границы и сделали их легитимными. Получается – все, что делает сегодня еврейский художник, годится для исследования. А что же такое тогда еврейское искусство?
З.А. – М.: Еврейское искусство – это прежде всего то, что делается руками евреев или для нужд евреев, как это было, например, в средневековье. И плюс к этому – присутствие Jewish experience, неважно положительный это опыт или отрицательный.
И.В. – Г.: На выставке «Европа, Европа» в Бонне был раздел еврейского искусства, которое рассматривалось как искусство страны, не существующей в пространстве, а присутствующей в мире лишь в духовном плане; такое духовное государство в Восточной Европе. Станиславский – куратор выставки – представил там работы Гончаровой на еврейские темы. Что вы думаете о таком подходе?
З.А. – М.: Мне не кажется, что Гончарову можно отнести к еврейскому искусству. Следует представлять себе, в связи с чем возникла эта тема у Гончаровой и Ларионова. Произведения на еврейскую тему были созданы ими в период между концом 1911 и 1913 годом, то есть в период суда над Бейлисом. В России это было время либералов, к которым принадлежали и Гончарова с Ларионовым. Вся богема была либеральной и была настроена против этого суда. Дело получило широкую огласку, было много статей в газетах; конечно, ближе всего это касалось евреев. На этом фоне и возник интерес русских художников к еврейской теме. Этот период очень важен для русского авангарда, в котором участвовали вместе писатели и художники, христиане и евреи. Но продолжалось все это очень недолго: как только дело Бейлиса утихло, большинство художников – в том числе и Гончарова – оставили эту тему и больше никогда к ней не возвращались. Для нее это все-таки была этнография, да и то лишь как единичные случаи. Говорили, что она ходила и наблюдала еврейские типы. Именно – наблюдала. Она пишет евреев так, как Гоген писал таитян; некоторые ее картины даже напоминают его работы. Она смотрит на евреев очень со стороны, она хочет показать, какие они симпатичные… и в таком современном стиле… Интересно другое – вопрос, который до сих пор не был исследован: откуда они – Гончарова и Ларионов – все это взяли. В тот период – я говорю именно о промежутке времени в полтора года – в России почти еще не существовало современного еврейского искусства. Лисицкий был в Германии; Альтман уже вернулся, но он еще не показывал своих вещей, когда Гончарова начала выставляться с этой темой, и он был очень удивлен, увидев эти ее работы. Единственный, с кем они могли соприкасаться, был Шагал, который из Парижа посылал свои работы на выставки. К сожалению, связь между Шагалом и Ларионовым с Гончаровой пока что не подтверждена, у нас даже нет писем, хотя совершенно ясно, что эта связь была. Есть еще одна возможность – деятельность Ан-ского. Правда, Ларионов и Гончарова были, в основном, в Москве, а Ан-ский в Петербурге. Но в 1912 году он приехал в Москву в связи с экспедицией. Эти экспедиции наделали шуму и Ан-ский привлекал к ним не только евреев: он читал лекции в самых разных местах, показывал диапозитивы. Однако пока что это все – только предположения. Точных сведений у нас нет.
И.В. – Г.: Но в то время художественные круги были заполонены евреями. С начала века в России евреев среди интеллигенции было очень много – и в университетах, и в художественных кругах.
З.А. – М.: Но ведь это не была еврейская деятельность, и российские художники-евреи начала века практически не изображали евреев. Разве что иногда встречались отдельные работы; например, у Пастернака были несколько рисунков, относящихся к периоду погромов. Но это скорее исключение. Это очень странное явление, что евреи не изображали евреев.
И.В. – Г.: Еврейская тематика проявилась очень четко во времена Первого русского авангарда – идишистский кубофутуризм, например, оказал влияние на развитие еврейского искусства во всем мире. Ведь и израильское искусство имеет в сущности российские корни: большинство из тех, кто здесь работал в самом начале, были выходцами из России. В связи с этим у меня возникает такой вопрос: не кажется ли вам странным, что сегодня израильский музейный истеблишмент делает все, чтобы не допустить «русских» художников в израильские музеи? И в результате израильтяне знают о русском искусстве только одно – что это китч.
З.А. – М.: Проблема не в русских художниках, проблема в конфликте между еврейским искусством и израильским. Причем этот конфликт существует не везде. Вот Музей Израиля – он «анти» в первой степени. Настолько, что, когда они уговаривали меня сделать выставку о Катастрофе, я сказала: она вам не понравится, потому что я собираюсь выставить картины известных еврейских художников. И каждый раз, когда я кого-то предлагала, его не принимали. Мартин Вайль сказал, например, что Бен Шан – художник, которого не выставит ни один уважающий себя музей. Я ответила: ну, должно быть, Музей современного искусства в Нью-Йорке не уважает себя, потому что он его выставляет. К моему огромному удивлению, Тель-Авивский музей гораздо более открыт в этом смысле, хотя Тель-Авив – уж такой израильский город. Я все жду, когда же, наконец, израильские музеи поймут, что израильское – это часть еврейского. Но они до сих пор рассматривают израильское искусство только с одной определенной точки зрения, и выбор всегда очень точен и тщательно продуман. Как представлено израильское искусство в наших музеях? Зарицкий, Гутман; Рубин – такой еврейский художник, у него столько работ на еврейские темы, а в экспозиции всегда одно и то же – арабы, Восток. И это не только в Музее Израиля, везде то же самое. Концепция должна измениться. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время: музеи не могут сделать того, к чему не готово общество, потому что тогда люди просто не станут в эти музеи ходить. Это очень серьезная проблема.
И.В. – Г.: Еврейский музей в Нью-Йорке попытался взять на себя задачу представить еврейское российское искусство и даже классифицировать его. Но концепция выставки выражена неотчетливо, набор имен случаен и акценты не соответствуют истинному положению в русско-еврейском искусстве. Каково ваше мнение по этому поводу?
З.А. – М.: Куратор выставки Сюзан Гутман делала это в первую очередь именно для Нью-Йорка. Нужно принять во внимание, что художественный мир Нью-Йорка, несмотря на большое количество галерей, представляющих русское искусство, несмотря на выставки современного искусства, действительно – и тут вы совершенно правы – плохо представляет себе, что на самом деле происходит в русском искусстве. Все, что они знают: Шагал, «Утопия», сталинские репрессии; а в современном русском искусстве – Кабаков, Комар и Меламид и еще несколько человек, которые живут в Нью-Йорке. И это все.
И.В. – Г.: Какова все же была концепция – представить еврейское искусство из России или художников-евреев?
З.А. – М.: Концепция была – показать искусство российских евреев. С точки зрения музейного дела, это было очень интересно: искусство до Второй мировой войны было размещено на нижнем этаже. А то, что начинается с периода гласности, – на верхнем. Это несет очень важную смысловую нагрузку: такое ощущение, что поднимаешься в другой мир. И были люди, которые вообще не поднимались на второй этаж, потому что они не знали, что там продолжение выставки.
И.В. – Г.: Но эта идея двух авангардов уже была выдвинута еще в 1988 году Михаилом Гробманом, и она была реализована Марком Шепсом, тогдашним директором Тель-Авивского музея, на выставке, которую он сделал у себя в музее: «Авангард – Революция – Авангард». Правда, речь шла не об искусстве после гласности, а о Втором русском авангарде.
З.А. – М.: В нью-йоркской выставке другая идея: Второй авангард – с точки зрения еврейского искусства – не связан с Первым. В Первом авангарде для художников-евреев их еврейство стояло на первом месте. Все остальное было потом – следование за Малевичем, примитивизм, кубизм еврейских художников. Во Втором авангарде, несмотря на то, что там такое количество евреев, почти совершенно нет еврейских тем. Это было очень отчетливо показано. И здесь очень не хватало Гробмана. Это была ошибка – не выставить его работы, потому что у него как раз этот момент присутствует. А у остальных – или он есть только в какой-то одной вещи, или, у большинства, его нет вообще.
И.В. – Г.: Тогда почему это еврейская выставка, если там нет еврейских вещей, нет Jewish experience? Только по национальному признаку?
З.А. – М.: По тому признаку, что это евреи из России. А их experience, т. е. experience Второго авангарда – это ощущение свободы, попытка освободиться. Ощущать себя в России другими, не стопроцентно русскими, несмотря на отсутствие еврейского образования, знания традиций и так далее. Евреи были среди тех, кто вернул в Россию свободу художественного творчества. Если среди всего этого попадалась еще и еврейская тема, – очень хорошо: но не это главное. Выставка не исследование, выставка только может вызвать исследование; каталог выставки – это, конечно, научная работа, однако специфическая: все, что там написано, – это приблизительная картина. Но она может послужить толчком к тому, что появятся люди, которые начнут этим заниматься.
«Зеркало» № 1–2, 1996 г.«Это европейская культура призывает вас умереть»
Беседа Ирины Врубель-Голубкиной с математиком Михаилом Деза
Ирина Врубель-Голубкина: Расскажи вначале немножко о себе…
Михаил Деза: Я был создан на границе трех цивилизаций, я был русским математиком, русским интеллигентом и евреем вроде бы. Я быстро понял, что все эти культуры, все эти ордена религиозные предлагают знания в обмен на принадлежность, и у меня с самого начала было желание получить знания, их мощь, но не стать – не стать ни математиком, ни русским интеллигентом, ни евреем. На границе трех культур, соскальзывая из одной в другую, я собрал себя по каким-то крохам. И вот это уехало куда-то на Запад. На Западе я быстро разобрался, что это не «отечество нам Царское Село», потому что была война в Ливане, спасибо арабам, спасибо злу, которое нас кует. Во время Ливанской войны я осознал, где я живу.
И тогда я поехал в Японию, стал больше космополитом, потому что мне удалось не просто переспать с японской культурой, а почувствовать, что я прекрасно могу быть японцем. Я мог бы быть и арабским человеком, я имею в виду стиль жизни. Я действительно считаю себя космополитом, потому что умею надевать на себя культуру и чувствовать себя в ней хорошо. Например, в Бомбее (3 месяца я жил в Бомбее) я стал таким бомбейским мальчиком, таким плейбоем, с друзьями, конечно. Культурные метаморфозы у меня проходили много раз, поддавки чисто женские. Женщины умеют: поддаться и уйти целыми. Это я имею в виду. Я поддавался и оставался целым.
Мои занятия математикой – это каждодневное удовольствие. Мое творчество – это интрожексия, я ввожу в себя беспокойство. Есть что-то непонятное, то есть зло – сила разделения, потерявшая функцию разделения, ввожу это в себя и пытаюсь в маленьком таком математическом вопросе получить ясность. Переход в ясность – это приятно. С одной стороны, это к вечному относится вроде, а с другой, можно каждодневно себе урвать очаровательную неясность, которая станет ясностью.
Таких, которые так живут и делают, что хотят, не так много, потому что я остался как был – русская богема, а русская богема, которая получает удовольствие от делания математики, – довольно редкое явление. Я тоже получаю зарплату, хотя не преподаю ничего, но это, как художник, которому платит хорошая галерея, который как бы свободен, но на самом деле должен производить свои картины.
Наша тема, как я чувствую, происходящее сейчас с Израилем?
И.В. – Г.: Нет, не происходящее с Израилем, на самом деле тема – евреи.
М.Д.: Я так и думал сказать: то, что происходит сейчас с Израилем, происходит не только с Израилем, а со всем еврейским народом вообще.
Мне кажется, что отношение к Израилю – за или против – во многом сейчас связано с отношением к воображаемому или существующему еврейскому народу. Так было часто, но сейчас особенно. Я совершенно не понимаю в тактических вещах – кто должен быть с кем, я просто не знаю. Я в каком – то смысле типичный ИТР, немножко поэт, немножко еврей, в общем, научный работник, международный, живущий довольно космополитической жизнью. И вот сейчас мне 62 года. Я говорю только о том, как сквозь мою душу проходит все это.
Мои симпатии к Израилю интенсивны, в основном из страха за то, что с нами произошло. Мне кажется, что происходит трудная для нас – тебя, меня – вещь. Есть стабильная, глубокая корневая ненависть к Израилю со стороны арабского мира, и в каком-то более глухом, перемешанном виде – со стороны европейского мира. На эту глухую ненависть, которая совсем не соответствует представлению, что наступили новые времена, очень трудно реагировать.
Я, как любой другой еврей, парализован ужасом этого вневременного явления, но, как ученый человек, я привык без страха признавать, что я чего-то не знаю. Мне кажется, что громадность антисемитизма идет не от конкретных сегодняшних дней, что есть какие-то постоянные вещи. Так устроены люди – скажем, гомосексуалов всегда было 4 процента, есть какие-то постоянные структуры человеческого поведения, и вот в структурах поведения, европейского или, я думаю, христианского, исламского и православного, еврейство – вечная жертва. Нет такого в Азии, в Китае, в Индии, хотя евреи у них были. Я не хочу обсуждать почему – это очень сложный вопрос.
Сейчас, казалось бы, начался новый мир, будет Интернет, будем все братья, – ладно, у русских не вышло, так в Европе вышло, казалось, вместе со всеми будем радостно жить. Ан, нет, – как в прошлые века, как 3000 лет назад, такой же глухой ропот подступающих орд.
Вот моя короткая модель мира: я считаю, что средние века не кончились и нового ренессанса не произошло, по крайней мере, что касается евреев, – основные тенденции продолжаются. Многие еврейские люди очень сильно поверили в хаскалу, отделились от религии, думали, если снять пейсы, все будет хорошо. Но этого не случилось. По-прежнему в европейском мире господствует крупный католицизм, протестантство, а вот там – православные берега, а на юге – ислам.
Это мы решили, что все по-новому, и оттого у нас такая паника. Надо меньше верить, что новый мир пришел, вернуться к методам психологической защиты, которые на долгое время рассчитаны. Осознать, что мы есть, что мы отличные от большинства и большинство нас не любит. А выжить надо, любой ценой. Это простая идея, безумно простая, которая нас объединяет.
Антисемитизм меняет форму, и он развивается, как и еврейство. Это великолепная формула Лессинга, что антисемитизм – это патриотизм дураков. Мы забываем, что это не только ненависть к евреям, но и любовь к чему-то, к какой-то чистоте, которую они воспринимают как отсутствие евреев. Это конструктивная модель, связанная с каким-то патриотизмом, каким – нам трудно понять, потому что мы тараканы у них, так? И этот антисемитизм всегда был, есть и будет – сильная такая, создающая штука, которая идет по миру и сближает народы.
Что же можем мы? Мы! Какие-то воображаемые мы. Мне кажется, что еврейство будет продолжать развиваться. Оно является во многом продуктом этого антисемитизма, во многом еврейская личность сложилась благодаря ненависти, которая на нее лилась. Надо использовать ситуацию и сейчас. Продолжать жить и стараться минимально врать себе. Но если не можешь, то можно немножко врать себе в религиозном или левом плане. И постараться часть этой ненависти, часть этого ужаса превратить во что-то положительное для нас.
Я, например, свое время распределяю теперь иначе. Людей, которые сейчас ненавидят Израиль, я просто не вижу, не трачу мое время. Короче говоря, я стал тем, кого я презирал, когда был молодым, – человеком, который любит своих. Это очень конкретно.
Теперь: об израильтянах. Осмелюсь учить. Надо начать присматриваться друг к другу. Эти три личности, которые есть в Израиле: левые – основная личность, вторыми нужно назвать все-таки религиозников, и третье – ликудство, они все-таки всегда друг друга ненавидели ужасно. Если сейчас, перед лицом осознанной смертельной угрозы, эта работа взаимного понимания не начнется, тогда действительно опасно. Неправда, что нужно смотреть только на арабов и Европу, сейчас, как никогда, нужно посмотреть друг на друга.
Первое, о чем я хочу сказать, – о реакции так называемых израильских левых. Чем больше идет время, тем лучше я понимаю, что это естественная реакция подлинных, настоящих евреев на этот невероятный ужас, это вера, что надо в себе что-то изменить, ввести в себя не просто равнодушие, но какую-то любовь, доверие к арабам и что это нас защитит и тактически, и стратегически. Я теперь начинаю чувствовать, что в этом было что-то красивое, жертвенное, не обязательно такое уж глупое, которому можно было даже и поучиться. Я, такой правоватый, говорю, что в этом была какая-то мудрость, как мудрость есть в религии. Конечно, это было самообманом, но громадность ощущения ненависти, которая на нас идет, такова, что она не может не порождать религиозного типа реакции.
Адекватное ощущение опасности убивает животное. Человек не может жить с ощущением, что его должны убить сегодня утром. Мы должны воспринимать вещи реально, а когда реальное восприятие нам мешает, нужно добавлять мифы, перемешивать реальное восприятие с мифами. Мифы были, есть и будут, у нас в науке это называется парадигмой. Когда мы наблюдаем что-то, мы никогда не можем устроить чистое, объективное наблюдение, как у прибора, никогда ничего не выйдет. Мы должны иметь ноль-гипотезу или парадигму. И вот когда мы перемешиваем нашу ноль-гипотезу – парадигму с наблюдениями, мы приходим ко второй – один-гипотезе, которая чуть ближе к реальности, и так далее. Введение мифов, чтобы решить трудные проблемы, – это нормальный процесс у людей. Тот факт, что левые ввели миф, что нам надо похорошеть, мне кажется понятным. Это про левых.
Раньше я думал, что опасность велика, и был такой ликудник легкий – будем голосовать за правых и тогда защитимся от врагов. Сейчас я понял, что моя реакция была преувеличением тактической опасности, чтобы не видеть громадности стратегической опасности. Сегодня моя временная модель, которая, может, не оправдается, такова: нужно осознать громадность вызова, нового вызова в судьбе Израиля. Он прекрасненько устоит против этой интифады, но она придет опять – через три года, через пять. Придет опять, опять, опять, сколько угодно… В этих условиях каждый должен сказать себе: еврей ты или нет? Я сейчас не говорю о доброте и хорошести.
И.В. – Г.: Ты считаешь, что есть выбор?
М.Д.: Есть выбор. Я считаю так, что большинство евреев, в том числе из Израиля, убежит из еврейства. Из семьи один станет евреем, а остальные просто об этом забудут. Забывают. Я сравню с китайцами. Число евреев 3000 лет назад было таким же, убивали евреев много, старались, китайцев тоже, но почему китайцев сейчас миллиард, а евреев меньше? Я считаю, значительно больше, чем убиение евреев, на это число повлиял естественный отход от еврейства. Это всем известно, что евреем становятся…
Мы должны перестать обижаться, пусть они убегают. Я не смог улизнуть, даже не говорю – не хотел, не получается у меня. Но тем, кто хочет убежать, дай Бог им счастья индивидуального, они ведь нам ничего не должны, никто ничего никому не должен, и, может быть, так еврейский народ и выжил, и дух живет.
Но вернемся к нам, потому что важно, кто такие мы. Мы-таки одни. Единство еврейского народа – чисто литературная фраза: единство, потому что других нет. Единственность, в том смысле, что никто другой не придет и не поможет. По тактическим соображениям может помочь Америка. Ненависть к евреям не такая, чтобы прямо приходить и убивать, но достаточная для того, чтобы позволить убить. Так что я считаю, никаких друзей у евреев нет, кроме них самих.
Отдельные евреи были гениальными, вообще отдельные люди гениальны, а народы в целом глуповаты. Но в чем была сила евреев? В том, что гениальность отдельных людей, маймонидов, моисеев, каким-то путем растворилась и стала частью всего народа. Перед нами сейчас та же ситуация. Под давлением новых ужасов надо, чтобы чуточку поумнел весь народ. На миллиграмм какой-то… Поумнение заключается в том, чтобы у всех людей появилась маленькая добавка.
И.В. – Г.: Давай поговорим о еврействе как части Европы и о том, почему существует ненависть к нему.
М.Д.: Я считаю, что враждебность по отношению к еврейству больше всего идет от католического мира и его современных последователей. Может, это людям кажется нетривиальным, а мне это кажется истиной. Я считаю, что так называемое социал-демократическое движение на Западе – это неокатолицизм, особенно во Франции. Хотя он себя принимает за неопротестантство.
И. В. – Г.: Подожди, подлинная социал-демократия вышла из гетто…
М.Д.: Да, вышла и ушла. Как христианство.
Мне кажется, в Европе большинство людей ни о чем не думают, как они не думали никогда, но думающие люди продолжают жить либо в мире католической идеи, и поэтому евреи – плохиши, или, по идее протестантской, по которой евреям есть какое-то место, либо по идее исламской. Источник ненависти все-таки католицизм. Парадоксальная вещь: я не чувствую той же злобы к евреям от протестантства и ислама, даже от ислама.
И.В. – Г.: Несмотря на протестанта Лютера…
М.Д.: Да, был и Лютер, и есть страшные жидоненавистники в исламе, и все-таки я не чувствую в них такой страшной ненависти, как у католиков, я, который любил Францию и который сейчас ее не любит, потому что увидал, что у нее в глубине. Я живу во Франции, мне там лучше, но я теперь расстался с идеей принадлежности, понял, что я в гетто останусь до конца моей жизни. Точка.
И. В. – Г.: Ты разлюбил Европу?
М.Д.: Европа большая, там есть много приятных, милых людей, но идеология… В Европе сейчас есть две идеологии. И одна из них очень ненавидит Америку как носительницу протестантской идеи, в которой евреям есть место. В Северной Европе антиизраилизм с меньшей дозой антисемитизма – из протестантских соображений. Но антиизраилизм без антисемитизма – очень редкий теперь продукт во Франции.
Европа искренне ненавидит эту протестантско-жидовскую Америку, и вот тут мой пунктик, который будет сравнительно оригинальным, чувство такое: общий антисемитизм – ненависть европейской прессы и европейских правительств – питается подспудной ненавистью народа, но в тактическом плане она будет ненавистью к Америке. Израиль рассматривается как кончик хуя Америки. Как американская гвардия.
Европа потеряла свою экономическую релевантность, а также интернационализм и волю к жизни, они перекочевали в Америку – так? Европа строится из суммы национальных эгоизмов. На этом основана их ненависть к Америке.
Я немножко преувеличиваю, но я очень разочаровался в Европе и не вижу там никакого выхода. Поэтому я не считаю, что европейская ненависть превратится завтра в убиение евреев. Но по крайней мере проголосовать за уничтожение Израиля – это они всегда сделают, хотя бы как подарок арабскому населению.
Когда были средние века, кто евреев защищал? Сильные. Императоры защищали, папы. И всегда маленькие локальные княжества были против. В империи интернациональный космополитический элемент евреев всегда был полезен, как дрожжи, на которых замешивался имперский человек. А тем, кто защищал местнический интерес, интерес определенной группы, им евреи были вредны. Это такая простая штука. По этим соображениям огромному котлу американскому евреи по-прежнему полезны и выполняют эту функцию. В Европе евреи эту функцию дрожжей потеряли, они ее уже выполнили, проблема стоит – если кого-то нужно вписать, то арабов, но тут евреи им не в помощь.
Очень трудно чувствовать, что мы без друзей и пока нас не убили потому, что просто не собрались с духом, не было времени, потому, что, как правильно говорят палестинские вожди: «Топчется Запад». А я чувствую, что это так. Может, я тоже буду защищаться мифом. Можно защищаться мифом, уменьшая опасность, можно это делать, акцентируя, преувеличивая опасность. Я, как большинство людей славянского мира, ликудник и русский поэт какой-никакой, может быть, преувеличиваю опасность, но у меня впечатление, что эта ненависть не достигла своего максимума и что действительно нужно быть готовым, что уничтожат Израиль. Уничтожат…
Почему я считаю, что нужно любить Америку? Это как любить папу в средние века, потому что, если кто-то будет защищать евреев от уничтожения или спасать, если Израиль будет уничтожен как страна, – это Америка, которая пришлет 200 кораблей, Америка, которая даст территорию штата Вайоминг для поселения, это Америка, которая договорится с арабскими странами… на вывоз 1 500 000 евреев. Этого не сделает Европа…
И.В. – Г.: Ты думаешь, что европейская поддержка арабов не построена на общем таком очумелом гуманизме, как некая плата за прошлые грехи, а основывается на старом… на уничтожении евреев?
М.Д.: Очень хороший вопрос. Я не знаю подлинного ответа. Мне кажется, элемент этого есть. Поддержка арабов – глубоко католическая позиция. Неокатолицизм в действии. Конечно же, формула, по которой нужно уничтожить евреев, спасение детей, которых эти евреи жгут. В этом смысле арабы выполняют свою роль. Но я думаю, что ненависть к евреям не является основной идеей католицизма. Он рассматривал это важным делом, но не самым главным. Самым главным было перебить соседей, протестантов зарезать, арабам, кстати, врезать, если можно. А когда есть свободное время, и евреев пожечь. Они не думают все время, что нужно убить евреев, но убить евреев хорошо, полезно, и когда кто-то этим займется, то ему помогут. Как помогут? Добрым словом, советом.
И тут я осмелюсь спорить с теми, кто считает, что культурные изменения влияют на изменения экономические, стратегические. В этой мировой культуре нет наций, там – лучшие люди всего мира, там же моральные ценности, и это нас спасет. Такая точка зрения мне кажется верной, нормальной методологической реакцией, сравнимой с реакцией левых, но это индивидуальная штука. Я тоже так думал, кстати, но думал не столько на уровне культуры, а на уровне науки, для меня культура – все-таки наука. Я считаю науку самым сердцем культуры. Я нахожусь в этой области. Есть надежда в культуре? Я считаю, что нет, нет и нет! Признавая с теплотой оригинальность конструкции, я все-таки признаю, что никакого спасения оттуда не может быть. Будут, конечно, всегда отдельные крики протестующих, очень малозначительные.
Тут у меня разница с тобой. Ты действительно живешь культурой как страной, иначе нельзя, мы, русские интеллигенты, жили культурой как географическим понятием. Это старое русское явление. Я по-прежнему немножко под этим чувством, но я не вижу в культуре моральной основы. Как и в науке. Наука прекрасно может служить злу. Наука не порождает добра, хоть убейся. Я могу представить парки, дворцы, красивую архитектуру, с блестящими учеными, с великолепной литературой, с поэзией тончайшей – и с евреями, посаженными на кол. Потому что плохие должны сидеть на колах.
И. В. – Г.: Хорошо. А что же тогда спасет от колов? Если культура – нет, наука – нет?
М.Д.: Отвечаю. Во-первых, такой глубинный ответ: не знаю. Во-вторых, чуточку более тонкий ответ: надо искать синтез, что-то такое… Религия имеет часть ответа. Может быть, еврейство вообще растворится и превратится просто в оттенок человечества, я не знаю, не знаю…
И. В. – Г.: Почему ты говоришь о религии?
М.Д.: Я считаю, что кое-чему удастся научиться и у харедим. Я не говорю, что их надо слушать на сто процентов, они сами не слушают ни черта, для меня религия – это продолжающийся процесс. Например, израильские левые – это нормальное мессианское движение, без которого еврейской карты не существовало бы. Я себя считаю ликудником и думаю, что мы тоже являемся какой-то верой перед громадностью ненависти.
И. В. – Г.: Так религия для тебя – любой моральный дискурс?
М.Д.: Дискурс, который включает мифы. Наука, даже самая совершенная, всегда включает ноль-гипотезу – то есть наблюдателя. Эйнштейн прекрасно эту теорию развил. Не существует чистого наблюдателя. В религии это принимает форму мифа. Мы смотрим не на мир, а на мир, перемешанный с нашими желаниями.
И. В. – Г.: Да, но произошла деконструкция мифа.
М.Д.: Она не произошла. Просто осознали, что это есть, есть влияние наблюдателя на то, что он видит, и, когда говорится «деконструкция», пытаются сузить область этой ноль-гипотезы и свести ее к минимуму. Честный деконструктор никогда не скажет, что это ему удалось. Он скажет: я работал, я чистил, и у меня уровень чистоты повысился.
Вот ложная ситуация. Никто не знает, может, действительно евреи – тараканы человечества и созданы демоном. Человечество, такое светлое и хорошее, никогда не сможет прийти к светлым глубинам, пока последняя жидовская морда не будет вырвана с лица земли. Это такая ноль-гипотеза у антисемитов. Мы почему-то эту ноль-гипотезу взяли и убрали…
Правда, ее очень трудно воспринять, реакция на это может и должна включать мифы. Один ответ на такую глобальную ненависть – глобальное, какое-то внутреннее строительство.
Скажу, как я лично из этого дела выходил. Во-первых, я долгое время отрицал опасность. Я пытался увернуться, ускользнуть, старался быть неевреем, пытался использовать положительные стороны этой ненависти к себе, я все эти штучки делал, но не вышло. Я все-таки еврей. Точка. Это меня ненавидят. Я знаю, что ненавидят меня. Как реагировать? Я осознал простые вещи, немудреные.
Первое: как я уже говорил, я решил, что времени нет, все, что происходит, – это старое, и это будет. Второе: я решил, что я должен жить, даже еще больше жить, чем до осознания этого. Как-то желание жить я должен увеличить, потому что желание смерти, которое посылается в народ, прибыло ко мне.
Я слышу крик: «Умри, умри, умри!» Он направлен, может быть, не прямо ко мне, но я слышу, что он направлен ко мне. Я слышу этот крик, такой постоянный, не то что крикнуло, а потом замолчало, я слышу: «Умри, умри, умри», и мне хочется создать в себе такую машинку, которая отвечает: «А я буду жить, я буду жить». Я думаю, что таким ответом будет создание в себе желания жить, соответствующего по тональности, художник сказал бы: по цвету, этому пожеланию смерти. Ответить на каком-то эстетско-житейском аргументе. Во всяком случае, услышать это «умри», и как-то пропустить сквозь уши, и ответить, может быть, каким-то шепотом… Я сейчас не пытаюсь сделать стихи.
Я знаю только одно, что я должен… Что должен? Жить и любить самого себя и заниматься тем евреем, которого мне доверила жизнь, заниматься мной, – так? Вот, ответ такой. Я, как ни странно, часть этого крика рассматриваю как радость жизни, радуйся, пока живешь, сейчас, каждую секунду… Может быть, это будет слишком наивно… Ах, раз вы нас так ненавидите, я пойду и пересплю с женой. Получается, я не просто пересплю с женой, а религиозно. В ответ на вашу ненависть. Так я защищаюсь. Совершенно я не считаю виноватыми тех, кто из Израиля убегает. Уж не говоря о тех, кто в Израиль не прибежал. Я хочу еще раз об этом сказать, это важно, потому что они убежали не просто за длинным рублем, они спрятали, увезли ценное еврейское тело, свой еврейский страх. Пусть они его берегут.
И. В. – Г.: А приезд такого количества неевреев в Израиль меняет еврейское тело?
М.Д.: У меня такое искреннее ощущение, хотя, боюсь, что я не прав, тот, кто приехал потому, что ему нравится страна, и решил здесь жить, женился здесь, при этих условиях – это новый еврей. Спасибо, что вошел в это племя, вошел в этот страх и понес эту племенную муку, и принял эту ненависть.
И что с этой глобальной ненавистью делать? Я могу сейчас точно описать, что, по моему мнению, надо делать. Это только про мою индивидуальную защиту. Она заключалась вот в чем. Во-первых, я решил: вот это желание убить еврея я должен осознать. Для этого я постарался почувствовать в себе нацистского палача. У меня всегда была раньше мечта, что надо пытать палачей. Но сейчас мне нужно было совершить внутреннее путешествие в роль пыточника. Это давнишняя история, но это продолжается у меня всегда, нетрудно вызвать в себе что-то внутреннее, чтобы превратиться в пытателя. Я в себе создал личный образ пыточника – это маленькая старая реакция.
Теперь к этой реакции я прибавил другое: я должен был интеллектуально осмыслить антисемитизм, в его, так сказать, худших проявлениях. Не только пыточник, это ведь только часть, а вообще эту спокойную ненависть. И, когда я говорил, что мы, может быть, тараканы, я действительно спокойно, долго воображал, мусолил на языке эту идею: мы – тараканы. И есть у меня несколько поэтических опытов, есть моя шутка такая: почему мы такие умные? Потому, что, когда еврейских женщин насиловали гайдамаки, только сильный здоровый гайдамак мог свою сперму оставить в ней. Я часто такую шутку говорю. Это все из той же области. Мне надо было защититься тем, что у меня есть некая интеллектуальная свобода и это меня отличает от других. Правда, я думаю, так многие делают.
Эти ментальные путешествия – моя индивидуальная защита. Потому что я не могу защититься так: антисемиты плохие, а мы хорошие – и задрапироваться в хорошесть. У меня хорошесть и плохость зарезервированы для других вещей. Мне кажется хорошим албанец, мне кажется хорошим какой-то отдельный араб. Категория хорошего и плохого для меня просто не действует здесь. Я решил ее сберечь для более тонких измерений. Пред лицом такого громадного тектонического явления, как антисемитизм, мне приходится защищаться иначе.
И тут я хочу сказать: нам нужно осознать, что такие три народа – харедим, ликудники и левые – мы все, в общем-то, созданы одним и тем же криком: «Умри, умри, умри». Мы все – дети этого крика, как дети единого Бога. Дети единого страха. Это сейчас моя новая идея: я не буду говорить, что левые не то что предатели или там дураки, просто отец у них Европа, а мать – крик «Умри». И вот мы, дети единой матери, мы должны друг друга слышать. Я сейчас говорю про религию, не про то, есть Бог или нет, – мне кажется, это вопрос совершенно второстепенный. А вопрос о том, что есть религиозная реакция на крик.
То, что сейчас есть харедим, по-моему, – это древняя, старая, доказавшая себя форма реакции на «умри», и в их ответе: «Живу, живу, живу» – я почувствовал их общность со мной. Мне далеки эти люди, я поверхностно религиозен, поэтски религиозен, но религиозность как форма выживания перед «умри» мне далека. Но я ее там вижу. Я считаю, что, если хочет Израиль жить и не умереть скоро, нужно услышать и это. Во всяком случае, самое простое для нас, интеллигентов еврейских в Израиле или израильствующих еврейских интеллигентов, – это увидать наше единство реакции перед «умри».
Я должен был договориться сам с собой: почему это я такой еврей-еврей, а в Израиле не живу? Договорился. Я решил осознать такой ужас, что я боюсь. Я, например, не даю денег на Израиль. Моя хорошая Мария считает, что нужно давать деньги на Израиль, а я не даю. Не хочется. Я ни на что не даю. Да, я такой. И в то же время крик «Умри…» я слышу, ох, еще как. Хотя никто не кричит мне его. Перед лицом опасности я, как любое животное, прижимаю ушки и пытаюсь лучше глядеть, у меня глаза прямо из орбит вылезают. И моя реакция на этот крик, этот ужас из меня не уходит никуда. В моих стихах даже написано, что я – скульптура страха, я всю жизнь чего-то боялся и всю жизнь превращал мой страх в творческую штуку. Может быть, это было до того, как я стал евреем, а может, это связано с еврейством. Не знаю. Не знаю – это у меня самое научное, как раз когда я говорю – не знаю, тут-то я и есть ученый. Я горжусь тем, что я скажу, что не знаю причины антисемитизма. Потому что то, что у меня рвется с губ, слишком залапано моими эмоциями, и моя наблюдательная сила ослабевает. Во всяком случае я знаю только одно: я слышу «умри», идущее сквозь века. Что-то очень страшное. Но, может быть, это все не так на самом деле, никакого антисемитизма нет, и если мы отдадим то, другое, третье, то будет все хорошо, а я слышу… Может, я не прав. Я думаю, мы должны углубиться в «живу…», то есть в свое еврейство. Я в это дело включаю железной рукой тех, кто, как я, слышит это крик.
…Сейчас в Европе такой человек, который мне говорит: «Что там происходит? Я ничего не понимаю!», для меня хороший, значит, он не поддался вранью, я таких людей люблю и уважаю. Хороший европеец – он чувствует, что явно врут, и хочет спросить…
Надо устоять против крика. Помнишь, как убивал Соловья-разбойник? Свистом. И я сейчас слышу, как Европа свистит, – это страшный свист. Я его слышу и гнусь к земле. Но мне уже поздно убежать, я, может быть, не убегаю только потому, что поздно, у меня уже ноги так не бегают, а хочется убежать, и в этом смысле только Европа так поет.
И. В. – Г.: А Америка не поет?
М.Д.: Америка? Просто есть такой богатый город, у которого свои интересы, и он хочет быть богатой, хорошей империей, веселой, римской. Они когда-нибудь страшным образом накроются, но, пока этот город говорит: да подите вы все… – у них нет ненависти к евреям. Американский антисемитизм очень маленький, он есть, есть такое слово «кайк», знаете? Как же, надо знать, кто мы такие есть. «Кайк» – по-американски «жид», этого в словарях не пишут. И по-японски «жид» есть.
И.В. – Г.: А что Россия свистит?
М.Д.: Временно Россия ослабла. Именно из России должны были непосредственно прийти и убить. Русский – как заказной убийца. Должен прийти такой Иванов и влепить из пистолета Макарова две пули. Сейчас у этого заказного убийцы свои проблемы, и у власти стоят американцы. Россия будет всегда страшной, конечно. Но в России кричат бандюжки, и это пока не так ужасно. А настоящий свист, чтобы между ушами, – это Европа.
Европа очень страшно поет. Почему страшно? Многие думают, что Европа – защита. Так думают все левые, среди остальных так думают те, кто любит культуру. Но этот крик потому и страшный, что идет из глубин европейской культуры.
Это европейская культура призывает вас умереть. Это от имени Микеланджело вам кричат хулиганы, это вам церковь кричит, понимаете, это вам кричит чистота Европы…
«Зеркало» №№ 17–18, 2002 г.Все прочее – литература
Круглый стол журнала «Зеркало»
Участники:
Ирина Врубель-Голубкина, главный редактор журнала «Зеркало»
Александр Бараш, поэт
Александр Гольдштейн, литератор
Михаил Гробман, художник, поэт
Яков Шаус, литературный критик
Ирина Врубель-Голубкина: Формальным поводом для нашей беседы стала подготовка десятого выпуска толстого журнала «Зеркало», не считая 32 тонких ежемесячников. «Зеркало» появилось из возможности совместного разговора, и круг этого общения за почти десять лет существования журнала очень расширился.
Александр Гольдштейн: Рубеж обязывает к подведению некоторых итогов. Возникла общая потребность в разговоре о том, что является предметом наших профессиональных интересов. Хочется поговорить о самой плоти современной литературы, а не о социальных, культурных обстоятельствах, в которых существует словесность, – хотя и от них, от контекста, никуда не деться. Сама наша речь определяется всевозможными контекстами. И все же попытаемся сосредоточиться на литературе как таковой. Что для каждого из присутствующих является в ней перспективным, интересным, действенным, что он хотел бы видеть в современной литературе?
Александр Бараш: Меня больше всего интересует опыт, пережитый кем-то и донесенный в той форме, которая каким-либо образом доступна. И в том, что пишу, я пытаюсь заниматься тем же: «прокручиванием» жизни для распутывания психологических узлов, завязывая художественные, – для того, чтобы понять, кто я сейчас, кем был раньше, что такое в целом это подвижное во времени единство, определяемое понятием «я», какие там внутренние связи и есть ли они. Единственный способ понимания – процесс письма. То же самое интересует меня и у других.
Для того, чтобы нащупать свой опыт, зафиксировать его и жить с этим дальше, я должен вырабатывать «попутно» новые средства осознания и фиксации. Подтверждение подлинности говорения – красота высказывания. Красивое высказывание – в первую очередь свежее высказывание, но, благодаря его точности, ты вспоминаешь себя и мир, в самом широком смысле слова «вспоминаешь». Красота – это точность отработки человеческого опыта и реализации его в тексте.
Яков Шаус: Последние десятилетия двадцатого века в русской литературе были периодом использования самых разных способов письма. Было много очень интересного – на всех уровнях: от самых изобретательных стилевых экспериментов до попыток эксплуатировать масскультуру. В литературе, по моему наивному убеждению, чередуются периоды агрессивного отрицания «надоевшего» и, соответственно, интенсивного генерирования новых форм – и эпохи «опрощения». В какой-то момент литература вроде бы отказывается от нацеленности на новизну и как бы возвращается к «прежним ценностям». Но, конечно, все приобретения остаются с писателем – просто они не выставляются напоказ.
В поэзии последних десятилетий мы видели массу экспериментов. Но сегодня хочется возвращения к личному – тому, что всегда составляло сущность поэзии.
То же самое в прозе. Невозможно реанимировать старой модели романа, автор которого все знает о своих героях и сам за них все рассказывает. Рядовой читатель, сам того не подозревая, стал грамотней – так же, как самому необразованному, но просмотревшему сотни фильмов кинозрителю через сто лет после братьев Люмьер не надо объяснять, почему на экране «отрезанная голова», что такое наезд, монтаж. Даже «простая» проза сегодня очень уплотнена, многослойна. Но уже раздражают изящные цитаты, словесные кружева – испытываешь потребность в чем-то основательном, первичном – в романе как модели бытия. В наши дни в России все политизировано, а здесь, в Израиле, от политических пертурбаций вообще зависит твоя жизнь – в прямом и трагическом смысле. Я – за подпитку литературы самой актуальной политикой.
Михаил Гробман: Но при всем нашем желании, чтобы литература была качественной, существуют вещи, которые гораздо важней самой литературы, и именно они придают ей общественную значимость. Чтобы литература всерьез настигла читателя, она должна прежде всего иметь конкретное отношение к нашему существованию, к пространству, в котором мы находимся. Если этой связи нет, то литература может быть красивой, увлекательной, но живет она жизнью мотылька.
Все это очевидно, и потому я хотел бы обсудить две темы. Первая – это журнал «Зеркало», который в современной словесности ни на кого не похож. У него свой язык, свое концептуальное отношение к действительности и к письму. Как мы отбираем материалы для «Зеркала»? Почему одни тексты соответствуют нашим критериям, а другие отвергаются, хотя сделаны достаточно профессионально? Вторая тема: литература возникает на базе того, что мы проживаем и чего мы хотим от этой жизни. Без литературы, даже самой красивой, – как и без любого искусства – человек вроде бы может обойтись. Но, как только мы перестаем думать о том, что происходит с нами и нашим обществом, перестаем искать слова для выражения своих мыслей, наступает паралич личности.
Вопрос: как мы – литераторы круга «Зеркала» – определяем себя в пространстве современной литературы, как отделяем важное от банального?
И.В. – Г.: Что такое литература вообще и что такое русская литература? Что означает наша принадлежность к определенной культуре? Что собой представляем мы? Вопрос языка и стиля – один из главных в нашей ситуации. Мы знаем западную классику и модернизм, но остаемся людьми русской культуры. А то, что отдельные «знаковые» произведения современной литературы с опозданием дошли до людей, ничего не значит. Мы многое впитали не прямо, а опосредованно – из других книг, в которых были использованы находки писателей, запрещенных в Союзе. Многие прочли Селина поздно – и наряду с сильным впечатлением было ощущение знакомости текста. Мы сохраняем накопленный искусством опыт и развиваемся вместе с литературой.
Темы русской литературы и темы нашего русско-израильского существования – это то, что мы хотим понять и исследовать. И написать. Творчество невозможно без сознания уникальности твоей судьбы, твоей ситуации, твоего литературного жеста. Одна из главных составляющих нашей оригинальности – психология еврея, сформированного русской культурой и попавшего в контекст своего национального существования с русским опытом – и с русским языком.
Мы можем делать литературу на русском языке, содержание которой составляет проверка наших базовых понятий на границе между двумя культурами. Сегодня, когда в литературе, казалось бы, все проговорено, описано – и гуманизм, и политкорректность, – вдруг появились и интеллектуальные антагонизмы, и просто нечто звериное, созвучное самым жестоким эксцессам окружающей жизни. После торжества разума, либерализма опять из пещеры полез зверь, и мы тут – первые, на кого он полез. Мы можем это описать, причем именно мы – люди, не укладывающиеся в рамки местных обстоятельств, – способны осмыслить данное явление не на уровне межэтнического конфликта, не в сиюминутном политическом запале.
А.Г.: Я позволю себе вернуться непосредственно к литературе. Следя за литературными дискуссиями, появляющимися как в печатных изданиях, так и в Интернете, я с удивлением замечаю, что очень редко речь идет о самой литературе. Единственным отрадным и продуктивным исключением стала полемика между Александром Ивановым, главой издательства «Ad marginem», и прозаиком Ольгой Славниковой. Полемика, правда, была односторонней: Славникова написала статью, Иванов ей ответил.
Славникова выступила в защиту того, что «формалисты» называли «литературностью» литературы, – ее эстетической составляющей, особых выразительных средств, в частности метафоры. Она напомнила, что именно совокупность этих средств отличает литературу от нелитературных способов высказывания с их установкой на сообщение.
Иванов заявил, что эта позиция архаична и свидетельствует разве что о любви писательницы и ей подобных к литературе как таковой – что опять-таки старомодно. По его убеждению, надо отталкиваться от литературы – он привел хрестоматийные примеры, в том числе Льва Толстого, который в позднем творчестве низвергал кумиров и преодолевал «литературность». Иванов напомнил о нынешних опытах скрещивания литературы с массовым сознанием, рекламой, общественной мифологией – он считает этот путь единственно перспективным, позволяющим выйти на прямой контакт с миром, преодолев замкнутость, нарциссизм литературы (это пренебрежение напоминает о верленовском «Все прочее – литература», хотя у поэта смысл был иной).
В этой полемике я всецело на стороне тех, кого защищает Славникова. Мне кажется, что ситуация вновь перевернулась: литература – в уничижительном, верленовском, смысле, как штампованное писчебумажное производство, не цепляющее реальность, – имеет гораздо больше общего с тем, что прокламирует Александр Иванов. И стала она такой как раз вследствие одобряемых им и уже абсолютно приевшихся, весьма архаичных методов работы с материалом: клишированного оперирования общественными мифами, навязшего в зубах использования семиотики общества потребления с его газетами, телевидением и видео. Вся эта, как пишет Иванов, опора на знак, а не на символ, вполне истеблишизировалась и стала действительно литературой в кавычках. А радикальной, если угодно, революционной, линией является сейчас отстаивание собственно литературных средств выразительности. И в защиту этого, а отнюдь не в поддержку уорхоловских канонов, хороших сорок лет назад, отнюдь не сейчас, я хотел бы высказать несколько соображений.
Мне кажется, что сегодня возможными и перспективными являются два пути. Один из них – это путь прямого высказывания: то, что я когда-то назвал «литературой существования». В современной русской словесности такой подход представлен «Бесконечным тупиком» Галковского и книгами Лимонова, в том числе последними, написанными в тюрьме, – называю лишь два наиболее примечательных для меня образца из не короткого списка достойных. Это действенный метод, он цепляет сознание читателя.
Но есть и то, что я назову эстетизмом, без всяких кавычек стеснения. В нас все еще живет тяга к литературе, к красоте. Конечно, осознание красоты у каждого разное, но интуитивно мы понимаем прелесть и обаяние текста, эстетически законченного – и экзистенциально наполненного, ибо красота экзистенциальна. И тут можно было бы назвать авторов, которые писать перестали, так как путь этот очень труден: это прежде всего Саша Соколов, это Алексей Цветков в оборванной, незавершенной римской поэме «Просто голос».
Почему я считаю этот путь продуктивным? Эстетизм, красота, литературность – такие слова кажутся в наши дни неприличными. Но только эти критерии сохраняют литературу – наперекор мнению, принятому в поставангардистской среде. Нам говорят, что никакого качества текста нет – есть только соответствие, адекватность автора поставленной им задаче. Нам говорят, что нет красоты – есть внутренняя чистота, определяемая авторской установкой: «Кубанские казаки» на такой ярмарке берут первый приз, ибо в сталинском папье-маше идеально материализована поставленная задача. Нам говорят, что вообще текст как эстетический продукт не важен и не нужен, так как все уже написано, – а имеет значение только программа автора, так называемый «проект». И с этой точки зрения нет разницы между проектами Акунина и приходом в телестудию некогда подлинного писателя, а ныне занимающегося совсем другой деятельностью, поиском контакта с «массовым бессознательным».
Нам говорят опять-таки, что форма не важна, а важно содержание как аспект моды, как попадание в центр общественных ожиданий, как выполнение задания, гарантирующее писателю социальный успех, – опять уорхоловская идеология на русской почве. Именно поэтому я хотел бы реабилитировать хотя бы в пределах этого разговора такие «неприличные» понятия, как красота текста, выполнение эстетического – а не социального – задания.
А.Б.: Похоже, вновь на литературную жизнь наваливается тяжелая тень вроде бы уже покойного дедушки: авторитарность, вертикаль критериев, иерархия… Все, что не в фокусе внешних эффектов, оказывается бессмысленным, маргинальным. Причем это маргинальность не в западном понимании, когда такой статус приемлем и достаточно уважаем. В постсоветском обществе ты, если ты маргинал, только жалок, недотепа, шлимазл, а другие – «а люди» – живут «настоящей жизнью». Это не здорово: вместо расчленения литературы на социальные уровни и, собственно говоря, разыгрывания подмен для полностью внелитературных целей стоило бы инициировать единовременное сосуществование разных изводов литературы и разных стилей жизни ее «носителей», – литературы как таковой, раз о ней идет речь и ее именем все делается.
По тому, что здесь говорилось, кажется, что круг «ЗЕРКАЛА» в целом – по ту же сторону, где Славникова, но это как бы оптический обман. «ЗЕРКАЛО» – я во всяком случае – лишь НЕ ТАМ, где то, что условно можно обозначить как «позиция Александра Иванова». Традиция – вещь живая в живой литературе – перестраивается «ретроактивно» с появлением новых текстов, вышедших из нее же, в соответствии с этими текстами. Декларации о сохранении «литературности» как сердцевины словесности («позиция Славниковой») безблагодатны без интереса к новой серьезной литературе («экспериментальной» – на языке известного типа критиков) и подтверждения текстами. Если этого нет, то нет и, строго говоря, литературы – и тут оппонирующие силы, представленные условно как «Иванов» и «Славникова», трогательно смыкаются друг с другом…
Кстати говоря, знаменательна, что называется фраза Сорокина в одном из недавних интервью – она близка тому, что говорит Иванов. «Для меня теперь содержание важней формы» – это такой эвфемизм, отсылающий к штампам советской средней школы. Но имеется в виду по существу, что не важна сама литература. Последние события – с судебными исками по поводу «порнографии» и проч. – это, получается, лишь логическое продолжение того, что было заявлено самим автором и его издателем.
А.Г.: А чем, интересно, все они занимаются, если не литературой?
А.Б.: Да. Сорокин стал крупнейшей фигурой последних двадцати лет именно потому, что необыкновенно хорош как писатель, демиург – и раб тех самых форм.
Сегодня ситуация примерно такая же, как в петровские времена или чуть позже. После провала лет в пятьдесят – из-за подавления ее в тоталитарном социуме – литература находится почти в первобытном состоянии. И не развивается. Есть два варианта: либо она должна двинуться вперед, обратившись к собственно литературным задачам, разрабатывать новые формы речи, исследовать новые формы опыта, соотношения человека с миром, либо, не пережив всего этого, не переварив с помощью собственных ферментов, вернется к чему-то нелитературному, надлитературному. Сейчас явно берет верх второе. Не продолжается наиболее сущностная, феноменальная линия: когда создаются новые формы, потом они постепенно становятся общедоступными – и нормальный человек, средний читатель ретранслирует новые цитаты в качестве девизов своей жизни. Вместо этого, возникла угроза такого поворота, как если бы писатели-предшественники в аналогичных обстоятельствах 18-го века, ощутив, по личным и общественным причинам, невозможность креативного, созидательного действия, обратились бы к медвежьей охоте, кулачным боям и проч. – кровь, азарт, массовые зрелища, ристалища, узилища, уебища – и манифестировали бы к тому же, что это ВЫШЕ литературы.
Для определенной категории людей, для меня в частности, первая реальность – литература. Именно она вызывает самые сильные чувства, именно она – моя жизнь. Без нее я не выживаю.
А.Г.: Я согласен с Барашем, что литература – часть жизни, для некоторых из нас – ее главная часть, компенсирующая недостачу других частей. А подчас – и не компенсирующая, но тем не менее являющаяся наиболее самоценной и живительной ее частью. Когда я говорил о красоте, то имел в виду красоту как форму передачи нового опыта – обживания жизни. Новые эстетические возможности всегда дают нам новые экзистенциальные возможности и новые средства для перемогания своей жизни, ее переделывания.
А.Б.: Просто литература – для определенной антропологии – это первая реальность. В этом случае она ничего не компенсирует. Как, по мне, совершенно не обязательно должна возникать тень такого тупо-конвенционального, инфантильного культурологически, рассмотрения, чту раньше или больше – жизнь или литература, кто сильнее – жук или «жучица».
М.Г.: Я все-таки поставил бы проблему достаточно конвенциональным способом. Мне нравится такая пылкая присяга моих товарищей на верность подлинной литературе. Но вот Саша Бараш сказал сейчас: «Литература, она – моя жизнь». Стало быть, все по жизни меряется. А сказать: «Моя жизнь – это литература», – получается ерунда.
Но я вообще не об этом. Литература, как всякий живой организм, регулярно устает, начинает работать вхолостую. Эти бесполезные маховики могут маскироваться и псевдоинтеллектуализмом, и птичьим языком, а могут покрыть себя павлиньими перьями якобы чистой эстетики, чистой красоты. Так на базе некогда нового и смелого слова вырастают поганки банальности и пошлятины. И вот тогда литература обращается за помощью к подлинностям типа дневников, писем, к воспоминаниям, политическим лозунгам, текстам рок-музыки, производственным описаниям и вообще ко всякому жизненному мусору. Сколько раз писатели становились золотарями и въезжали в литературу на бочке говна.
Короче, литература не в состоянии сама себя спасти от развала. Есть только один способ уцелеть – дотронуться до грязной кормилицы Геи. Есть первичное – семья, народ, страна, а искусство многократно усиливает, углубляет, совершенствует наше бренное и прекрасное существование, благодаря ему, мы осознаем себя хоть немного.
Литература, конечно же, не отражение жизни. Литература – способ строительства жизни.
Но что такое новая литература? Когда-то официально признанные советские писатели паразитировали на «классике», «реализме». Потом неофициальные писатели стали паразитировать на более изощренных материалах. Но за этой деформированной картиной стояла культура, в которой шел процесс поиска способов выражения. Сегодня опять масса писателей паразитирует на открытиях 60 – 80-х годов. Есть только один способ решительно дистанцироваться от этой некрофилии – это соединение чистоты слога, прозрачности формы с определением своего места как литератора, как гражданина в нашем новом жизненном пространстве. Я настаиваю: самое главное – при всей важности искусства, без которого жить просто невозможно, – это судьбоносные вопросы общества, которое мы составляем. Только ответ на вопрос «Что делать?» может вызвать эстетический взрыв, появление новых слов, новых форм.
Я.Ш.: Хочу вернуться к упомянутой полемике Иванова и Славниковой. Они ломятся в открытую дверь. Еще в 20-е годы 20-го века Ортега-и-Гассет в «Дегуманизации искусства» заявил, что новое искусство должно отказаться от «мимесиса», искать свой особый язык. Массовое сознание он презирал и считал, что истинное искусство доступно немногим.
О том, что метафора – главная клеточка «литературности», еще Аристотель говорил. А Ортега-и-Гассет пишет, что «метафора становится субстанциальной».
А.Г.: Это не совсем так. Ортега хотел обосновать модернистское искусство.
Я.Ш.: Оно было тогда высшей точкой. Он не располагал нашим опытом. Но сама постановка проблемы не изменилась: искусство и жизнь, специфика художественного языка. Кстати, Иванов передергивает: Лев Толстой насиловал себя – но легче уйти из дома, чем из искусства. Он до конца жизни не мог отказаться от «литературности».
И должен сказать, что меня коробит от слов «форма» и «содержание» – это знакомая схоластика. «Художественный язык» – это не Бог весть как научно, но все же звучит нормальней.
А.Г.: О форме и содержании говорил в своем уже упоминавшемся интервью Владимир Сорокин. Эти условные термины у него были не игрой. Форма для Сорокина – это дальнейшие эксперименты, поиски в области собственно художественного языка – то, чем он занимался первые 15–20 лет своей работы. Под так называемым содержанием он подразумевал то, что является для него нынче самым животрепещущим, кроветворным, насущным, а именно: социальную эффективность своей вещи, позволяющую ему, в частности, выпустить роман 30-тысячным тиражом в модном издательстве, прийти на телепередачу, которую смотрят много миллионов человек в прямом эфире, чтобы его впервые по-настоящему узнала страна. Это все то, что дает «содержание» его романа, в результате чего, как написал критик, молодые, по пояс голые люди стоят на четвереньках и лают друг на друга: «Говори сердцем, говори сердцем!» – повторяя фразу из сорокинской книги. Под содержанием Сорокин имел в виду вполне ясную вещь, позволяющую ему войти в сердце современного мира, то есть, выражаясь терминами уже покойного Бурдьё, заполучить свою часть символического капитала, социального пирога, свою долю власти. В действительности любая литература занимается этим: она претендует на власть, то есть на читательское внимание и на свое место в мире. Но данная ситуация, данное содержание отличаются от предыдущего своей необычайной, джунглевой обнаженностью – это не скрывается, более того, выставляется в качестве перла создания, в качестве примера, достойного подражания. Хотя нужно учесть и такой момент. Лидия Гинзбург писала в «Человеке за письменным столом» о Григории Гуковском: «У Г. была сокрушительная потребность осуществления, и он легко подключался к актуальному на данный момент и активному. Это называется – следовать моде, на языке упрощенном, но выражающем суть дела. Мода – это всегда очень серьезно, это кристаллизация общественной актуальности».
Я.Ш.: С какой стати мы должны разбираться, какой смысл вкладывается здесь в понятие «содержания»? Это пошлость, это издержки нынешнего существования российской жизни и российской литературы. Писатели уже тоскуют по тем временам, когда государство их кормило, им хочется какой-нибудь другой гарантированной кормежки. Но какое отношение это имеет к литературе? Литература сама возражает! Говоря о современной русской словесности, мы упомянули Сашу Соколова и Владимира Сорокина. Соколов пишет мало, но его «содержание» – боль, жалость, доброта. Сорокинская эксплуатация собственных приемов уже сегодня воспринимается достаточно вяло. Если переживание и мысль подменяются резвостью и коммерческим расчетом, то более молодые и шустрые без труда забьют автора «Голубого сала» и перехватят вожделенные тиражи.
И.В. – Г.: Я думаю, что со всеми несентиментальными блоками литературы надо обращаться поосторожней. Во-первых, так называемое экспериментальное, образно говоря, научное, творчество функционирует как колоссальный катализатор, а во-вторых, оно не только расчищает дебри стандартной литературы, но и оплодотворяет художественную мысль на много лет вперед.
Что сейчас происходит в России? Делается попытка строительства какого-то нового вида государственной литературы. Та литература, которая выполняет эту роль, должна быть едина. То, о чем говорит Иванов, еще более четко, прямолинейно изложил Дмитрий Ольшанский в нашумевшей статье «Как я стал черносотенцем». Он откровенно предлагает заменить уваровскую триаду ее новым вариантом – на его эпатажном языке это звучит: «упромысливать, гнобить и не петюкать». Имперский интерес требует сведения культуры к общему знаменателю.
Я.Ш.: Отсюда особенно заметны попытки создать в России новую идеологию. Но империи нет, государство разворовано – поэтому нет и имперской литературы. Это или неосоцреализм Александра Проханова, или современные сказки вроде «Укуса ангела» Павла Крусанова.
И.В. – Г.: Да, литература уже не готова маршировать в ногу. Двадцатый век практически испробовал все стили, все языки искусства – и уперся в бесконечные игры, ставшие самоцелью. Сегодня нет нелегитимных форм. Зато есть другое понимание культуры. Писатель ищет для себя те формы, которые соответствуют его видению себя в культуре. Я хотела бы показать это на более конкретных примерах, хорошо мне знакомых.
Из того, что было в последнее время опубликовано в «Зеркале», я выделила бы две особо важные формы: «Странствие в Ган Элон» Дмитрия Гденича и дневники Михаила Гробмана. Это два способа выражения, две крайние возможности литературного существования.
«Странствие в Ган Элон» – это герметичная жизнь литературы самой по себе, виртуозное владение словом, абсолютный стиль. Жизнь и судьба в формообразовании не участвуют – читающий ничего не узнает о нашем бытии, ничему не научится. Зато будет пребывать в эйфории первоклассного эстетического потребления, в нирване совершенства. Гденич строит новую реальность, внутри которой нет тени фэнтези.
Дневниковая проза Гробмана – это вообще новый жанр: жизнь как таковая, факты как таковые, история как таковая. Казалось бы, идет перечень самых мелких событий, бытовых подробностей. Но в сумме складывается историческая панорама, картина русского искусства исключительно важного периода. Здесь и самые важные культовые фигуры нашего времени, и личная история, любовь, сантименты, сплетни, пульс живых людей. Факты порождают новый стиль, новый литературный язык.
М.Г.: О форме литературы. Уклон в сторону формы – это еврейское качество, потому что полностью соответствует сидению в синагоге и изощренным текстологическим комбинациям талмудистов. Утонченность современной литературы – не только русской, – ее отход от реальной жизни и погружение в абстрактные материи – это подхвачено от евреев, которые впитали данные свойства с молоком матери. А вот Зощенко, к примеру, – это чисто славянский тип письма и говорения.
Впрочем, в реализме евреи не менее сильны. Но реализм их никогда не однозначен, за ним всегда кроется какая-то жизненная тайна. И в других видах искусства нечто похожее. Исаак Левитан как реалист – очень русский художник, но у него присутствует флер энигмы. Русский пейзаж у него окутан еврейской тайной. И как человек он был таким же.
Мы говорим об очередной модернизации литературы и о литературе как жизнестроительстве. Но первым модернизатором был Талмуд, переосмысливший Библию для новых исторических обстоятельств. Свое литературное жизнестроительство евреи начали очень давно – мы написали заповеди для своей жизни три с лишним тысячи лет назад. Попытки жизнестроительства мы наблюдаем у самых чувствительных русских писателей – например, у Лимонова, который из-за этого оказался за решеткой. А мы пишем письма в его защиту. Это наш долг, хотя жизнестроительство Лимонова более чем сомнительно, более того – имеет вид агрессивного, членовредительского, типично русского сектантства. Сейчас в России много таких патриотов, мечтающих оскопить свое общество во имя будущего счастья.
И еще на одном моменте я хочу остановиться. Русская литература всегда была ангажированной. После революции она сначала была ангажированной, но гениальной. А потом стала ангажированной и бездарной. Но в целом было мнение, что литература обязана ставить себя в подчинение определенным социальным, политическим, культурным обстоятельствам и что-то делать для людей. Именно это сегодня свет в конце тоннеля для русской литературы. На этом пути она создаст и новые формы. Для того, чтобы ангажировать, нужно постоянно обновлять язык, искать новые выразительные средства.
А.Г.: Против такой ангажированности я ничего не имею, если за образцы брать Маяковского, Платонова, Брехта, Дёблина. Но сегодня мы видим изуродованную ангажированность, когда значительные по своему дарованию и прежней роли в литературе писатели сознательно используют литературный арсенал двадцатого века для получения конкретных материальных выгод. Великое понятие литературы, привлеченной людьми для того, чтобы она помогла им наладить их жизнь, низводится до фарса, а писатели становятся «слугами народа» с тайной надеждой вновь оказаться его хозяевами, т. е. подключиться к избранной касте массмедийных развлекателей, добивающихся посредством этих развлечений господства.
Я.Ш.: Я не совсем согласен с тем, что в двадцатом веке уже перепробованы, исчерпаны все художественные средства. Об этом говорят как минимум раз в столетие.
Период «игры» в русской литературе конца прошлого века был просто обязателен. После казенной литературы нужно было уничтожить это псевдоискусство эстетическими средствами. Отсюда оперирование советскими мифами, их деструктивное развинчивание, издевательское обыгрывание стандартных ситуаций советской прозы и поэзии. Но в определенный момент эта деятельность стала самоцелью – она исчерпала себя, так как объект ненависти исчез.
Сегодня новую литературу делать очень опасно – идешь как по минному полю: после всех экспериментов последних десятилетий в каждом абзаце может быть заложен подвох. Все время рискуешь повторить чьи-то слова, фразы, стилевые приемы. Выход для литературы – вернуться к первичной простоте человеческого чувства, к искренности. Конечно, сейчас писать «просто» – это гораздо сложней, чем 50 лет назад. Уже тогда простота Красовицкого скрывала неизведанные глубины.
А.Г.: Речь сегодня идет о мазохистическом растворении писателя в массовой культуре, о его устремленности к ней, чтобы она его допустила к своим прелестям. Проще говоря – налицо капитуляция перед ней. Это отнюдь не аналитическая работа с материалом массовой культуры, работа, которая началась еще в 19-м веке, как минимум с Эмиля Золя, исследовавшего в «Дамском счастье» и «Чреве Парижа» язык товарного потребления, а в «Нана» – символику сексуальной экономики. Нет, это всемерное потакание массовым ценностям и униженная просьба о входном билете, когда, как говорил наш общий друг Павел Пепперштейн, имея в виду одного известного, некогда элитарного автора, роман пишется для того, чтобы освоить рецепты, обеспечивающие успех голливудскому боевику, и воспроизвести их в повествовательном слове. Вспоминается характерная сценка из томас-манновского «Доктора Фаустуса». Там описана компания немецко-еврейских интеллектуалов, предвидящих контуры новой Европы, абрис надвигающейся эпохи: мировую войну, формирование тотальных государств, тотальных идеологий. И как было бы славно, сокрушается рассказчик, если бы эти прозорливцы, осознав грядущее и его опасности, предупредили о них публику, – ничуть не бывало: они упивались своими интуициями и мечтали участвовать в их осуществлении, страстно надеясь быть допущенными в храмы этого варварства (конечно, на заметные роли).
И.В. – Г.: Мы все-таки логически перешли к содержанию современной литературы. Бараш приводил в пример препарирование им его собственной жизни литературными средствами, главным из которых становится предельно точное слово. Я думаю, что сегодня выбор писателем такого материала закономерен.
Содержание литературы в прежнем понимании исчезло: писателю не надо наблюдать, описывать. В нынешние времена «содержание» само настигает писателя, проникает в него и незаметно меняет его мироощущение. Что такое события 11 сентября? Это прозрение: мы живем не в «конце истории», не в рамках комфортабельной и гуманной цивилизации – по-прежнему возможно возвращение к средневековью и откат еще дальше назад. Естественно, после этого нормальный писатель уже не может быть наивно-благодушным в изображении человека. Мы видим, чем занимаются пишущие люди в России: они должны создавать новую культуру, зная о ежедневном посягательстве на самый смысл литературы – об исчезновении многих моральных понятий, об убийствах на улицах и в собственном подъезде, о Чечне.
Мне кажется, что не только в России идет поиск национального лица. Унижение, пережитое Америкой, брожение в Европе, связанное с размыванием моноэтнических основ некоторых государств, – все это стимулирует национализм. И литература не останется в стороне от этого. Писатель не может скрыть свой генетически заданный менталитет, национальный темперамент. Естественно, еврей будет писать по-русски не так, как русский. В этом отношении русской литературе в Израиле присуща «чистота эксперимента», четко выявляющая названную мной тенденцию.
Что крайне важно – как результат всех этих процессов возникает совершенно новый взгляд на недавнее прошлое. Мы очень резко отталкивали от себя многое в советской жизни, были категоричны в своем презрении. Но мы сами воспитаны той средой, впитали многие понятия, позволившие жить, воспитывать детей, заниматься искусством. И в контексте нынешнего российского и мирового беспредела мы куда более терпимо относимся и к прежней эстетике, и к представлениям о красоте, и ко всей той культуре, против которой выходили на баррикады.
Вообще парадокс состоит в том, что, вопреки ухудшению нравственной атмосферы в России и в Европе, мы как раз становимся лучше – по крайней мере откровенней, честней, может, и умней. Просто когда-то все запихивалось под ковер: считалось «неинтеллигентным» говорить о деньгах, о жестокости, о национальных различиях и многом другом. Сегодня это не является табу и для литературы.
А.Б.: То, что мы сегодня называем «11 сентября», – просто возвращение мира в историю. Это позволяет и более четко осознать, что такое литература. Как сказал классик прошлого века, высший смысл литературы определяется тем, что человек тверже всего в мире. Литература – равно человек. Впервые после долгого перерыва человек начинает существовать не как часть «среды», а как индивид – пусть даже за счет возвращения к первобытному состоянию. На Западе реакция на моральный крах либерализма – это пробуждение человеческого в человеке. Что же в России? После той антиутопии, в которой она жила, ты пытаешься обращаться к человеку и в себе, и снаружи – и промахиваешься, проваливаешься… Приходится искать «предметность», точку опоры в том, что стоит ЗА индивидом: к национальному, государственному – или даже животному. Если же попытки говорить от себя все же производятся, масштаб чувств так мелок, что личность надо рассматривать в микроскоп… но то, что не без труда обнаруживается, бесформенно и пребывает в состоянии перманентной мутации в нефиксируемом направлении.
Будучи оптимистом, тут можно усматривать почву для нового рывка литературы с расчищенного плацдарма… Кстати говоря, очень многое могут сделать те, кто находится вне российского социума, те, кого можно назвать МЕЖДУНАРОДНЫЕ РУССКИЕ, в продолжение идеи МЕЖДУНАРОДНОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, о которой я говорил на нашем семинаре «Геополитика культуры…» (см. 9 – 10 номера «ЗЕРКАЛА»): западные люди с западной психологией, опытом, но пишущие по-русски. У них (в том числе у нас) есть чистая социокультурная возможность говорить о самом важном и в полный голос. И опираться на человеческое вокруг и внутри себя…
Я.Ш.: Хотел бы немного вернуться назад и коснуться «социального заказа» в литературе. Откуда взялся миф о всегдашней ангажированности русской литературы? Его придумали «революционные демократы», Добролюбов со своими жуткими принципами «реальной критики». Кто в русской литературе был ангажированным – Тютчев, Чехов?
Сегодня проблема российской литературы – не в политической или идеологической ангажированности, а в нравственной позиции. Эта позиция у писателя есть или ее нет. В качестве иллюстрации приведу Дмитрия Липскерова. Его роман «Пространство Готлиба» – красиво написан, даже изысканно. А вот в «Пальцах для Керолайн» Липскеров, видимо, решил: хватит эстетики – надо ориентироваться на рынок. И намешал всего – и примитивного «фэнтези», и дешевого детектива, и байки про «новых русских».
Уже образовалась дистанция, отделяющая нас даже от «новой» русской литературы периода развала империи, и появляется оценочный критерий: что осталось, что выжило из сотворенного тем или иным писателем? Мы видим, что сохранилась та поэзия, в которой был масштаб чувств, о чем говорил Бараш. Только сегодня ясны масштаб и значение Красовицкого, Сатуновского, Сапгира. И Бродский – о его роли и значении сегодня дискутируют, но, бесспорно: он создал картину личности, человеческой судьбы.
Для меня вопрос о читателе напрямую связан со спорами о массовой культуре и отношении к ней литературы. Учитывать опыт массовой культуры надо не для достижения коммерческого успеха, а для возвращения к родовым качествам литературы. Как ни крути, проза была и останется рассказом, отказавшись от нарратива, она сомкнется с философией, эссеистикой, но рискует потерять и себя, и читателя. Так же и поэзия не возможна без душевности, без лиризма. Именно массовая культура с ее эстетической недоразвитостью – а может быть, как раз в силу этой недоразвитости – напоминает о первоэлементах литературы.
А.Г.: Тут было сказано о звере, выползающем из пещеры, о крушении человечности, о позиции писателя. А что делать с тем, что большинство ценимых нами авторов двадцатого века сознательно отказывались от человеческого и обращались к тому, что находится вне или над человеком: к ценностям революции, нации, класса? Назову Платонова, Маяковского, Эзру Паунда, Селина, Бенна, Юнгера – этот ряд можно долго продолжать. Для них – человек промежуточная станция, а их тексты питает мощь надчеловеческих феноменов. И вот такая сознательно внечеловеческая – с либеральной точки зрения – установка привела к потрясающим художественным результатам. Некоторых из этих писателей послевоенное общество не просто осудило, а даже судило, например: Гамсуна, Паунда, Селина, хотя если бы оно повнимательней вчиталось в романы того же Гамсуна 20-х годов, то обнаружило бы в них весь набор инвектив (черным по белому, без эвфемизмов), столь изумивших это общество два десятилетия спустя, когда они зазвучали в гамсуновской публицистике. Как быть с тем, что великие произведения созданы благодаря тому, что зверя выпустили из пещеры и напитали его кровью и дыханием слово?
Я.Ш.: Опять меня заставляют употреблять термин «содержание». Дело в том, что в течение 19-го века целый ряд тем считался запретным для литературы. В 90-е годы в России не случайно заговорили о маркизе де Саде, и его книги появились на прилавках. Тем самым было признано, что литература до последнего времени была лицемерной и ханжески избегала многих неприятных вопросов. Примеры, приведенные Гольдштейном, на мой взгляд, отнюдь не свидетельствуют о внечеловечности этих писателей. Просто появляется новое понимание человечности – более откровенное, адекватное всему, что есть внутри человека. Раньше – во многом под влиянием христианской морали с ее противопоставлением божественной души и греховной плоти – писатели не осмеливались заглядывать в бездны грязи, жестокости. Но это тоже часть человека!
Гольдштейн спрашивает: что делать с «такими» писателями? А ничего не надо делать! Это литература для человека, а с каких позиций она написана? С ЛЮБЫХ: это наследие двадцатого века и его эстафета двадцать первому.
А.Б.: Приведенный Гольдштейном список писателей, предъявляемый как «мнение большинства», не убеждает. Нет неоспоримой универсальности в этом списке-рейтинге. Как, по мне, не большинство. Очень многим крупнейшим писателям не свойствен ницшеанский или еще более жесткий взгляд на человека – Пруст, Кафка, Набоков, Миллер, Лоренс Даррел… Ну, да, Сорокин в новой книге «Лед» как бы античеловечен.
А.Г.: Речь не о том, увлечен я этой литературой или нет, а о том, что она была, и с этим фактом мы должны считаться, еще лучше – как-то его истолковать.
А.Б.: Вы сказали – «большинство ценимых нами авторов двадцатого века». Под «мы» имеется в виду, вероятно, формула «Мы, Александр Гольдштейн», что я вполне поддерживаю, поскольку иначе это было бы несколько избыточной коллективной идентификацией… Итак, соответственно, вы считаете это литературной доминантой двадцатого века?
А.Г.: Я думаю, что это одна из сильнейших линий искусства прошлого века. Я не говорю об арифметическом большинстве или меньшинстве, но писателей, стоявших на осознанно антилиберальных позициях, было очень немало, и среди них – огромные фигуры, без которых невозможно представить литературу.
И.В. – Г.: Не стоит подходить с абстрактно-моральными мерками к этой проблеме. Надо учитывать, что в двадцатом веке поддерживавшие искусство институции требовали от литературы определенных стереотипов, а в знак протеста следовали революционные попытки разрушить лживый образ человека. Это было всегда личным вызовом, и, нарушая принятую мораль, писатель знал, что она все-таки существует. Сегодня в России, и не только там, разворачивается борьба против навязываемых институциями – в основном западными – представлений о том, что должно быть содержанием искусства. Это отчасти объясняет бессодержательность многих литературных произведений и то, что литература превратилась в вид игры. Сегодня идет разрушение этих игр, писатели пытаются куда-то вернуться, к каким-то первичным ценностям. Но вернуться некуда! Помощи ждать неоткуда. И снова писатель наедине с самим собой – с одной стороны, страшно, с другой, все позволено.
Русская литература пытается выйти из общей аморфности, за которой стоит ощущение отработанности культурных средств. Сегодня из разобранной на кубики культуры надо собрать что-то новое.
М.Г.: Разумеется, есть писатели, которые переступили определенную грань – прежние моральные запреты – и этим ужаснули нас. Но литература – духовный авангард общества, цивилизации, и она выражает не чей-то индивидуальный вызов, а созревший в недрах социума новый взгляд. К тому же с чисто литературной точки зрения, многие повторяющиеся ситуации, устаревшие языки надоедают и требуют свежей крови. Некоторые из писателей шокируют нас, потому что новое понимание мира и человека пугает. Они являются интегральной частью человеческого сообщества и в то же время отрицают многие базовые моральные понятия. Но, как ребенку, который дотрагивается до горячей плиты и плачет, нам необходимы Эзры Паунды, чтобы предупредить, как страшно и опасно идти в определенных направлениях.
Писатели не могут жить понятиями толпы, обывательскими стереотипами, их предназначение – видеть больше, как кубисты увидели предмет с другой стороны. Наша цивилизация достигла замечательных результатов в области практического гуманизма, появился целый институт политкорректности. Формально он направлен на защиту дискриминируемых, но на деле нередко поднимает много мути, грязи. Гуманисты начинают защищать каннибалов, просят не обижать их, потому что они хорошие – просто несознательные. Трезвый подход к человеку – без фальшивой жалости – сегодня особенно необходим писателям. Писатель обладает влиянием на людей – лучше напугать, чем обманывать.
К примеру, в отличие от времен, когда создавался «Хаджи-Мурат», сегодня мусульманин – не жертва. Наоборот, ислам угрожает трем странам – Америке, России и Израилю, – жизням их граждан, материальным достижениям, духовным ценностям. То постоянное напряжение, в котором находится общество, требует писательской реакции на происходящее. Такая ситуация возникла в годы Второй мировой войны: все культурные силы были мобилизованы на отпор военной агрессии нацизма и его пропаганде. Этот подъем породил немало художественных ценностей. Сейчас тоже идет мировая война с исламом, и перед нами стоит главный вопрос: что произойдет с культурой стран, находящихся на переднем крае, удастся ли провести духовную мобилизацию? И, может быть, все наши разговоры о новых литературных формах, о красоте, о соотношении между искусством и жизнью окажутся весьма наивными декларациями интеллектуальных слепцов, уже зависших над пропастью.
А.Б.: У меня нет такого апокалиптического ощущения. Я живу в мире частном, литературном, занимаюсь там своим делом. Мир глобальной политики определяет многое, но совсем не обязательно – литературную деятельность. Да, многим показалось, что наступила всемирная идиллия, теперь приходится возвращаться в историю. Но это не значит, что мы все должны отказаться от своей литературной работы и дружно заняться батальной живописью.
Я.Ш.: Антиисламское выступление Гробмана у меня тоже сначала вызвало противодействие из-за своей оторванности от предмета разговора. Замечу, что я не согласен со списком из трех стран: Россия – не жертва террора, она сама его породила. Но не будем лезть в политику – на самом деле все это имеет прямое отношение к теме гуманизма и антигуманизма в литературе. Еще раз: нет никакого антигуманизма! Это просто другой ответ на тот же вопрос. Выдающиеся писатели, которые писали с «реакционных» позиций, в художественном отношении сделали гораздо больше для исследования эпохи и человека, чем многие их «душевные» братья и сестры по перу.
Конечно, во время Второй мировой войны было крайне важно организовать агитпроп. Но политическая актуальность и моральная правота не означали, что книги и фильмы эти были ценны в художественном отношении. В литературе двадцатого века нет настоящих Ленина и Сталина – у Солженицына получились злые карикатуры. Так же описывали Гитлера. А ведь именно то, что этот тип – из «моральных соображений» – не был исследован литературой, возможно, сыграло свою роль в преждевременном расслаблении культурного Запада, его неподготовленности к нынешнему столкновению с новым мировым злом. Я даже в документально-биографической литературе не мог найти адекватного портрета Гитлера. Меня не надо агитировать против Бин-Ладена. Я грамотный, и как грамотному человеку мне было бы гораздо интересней почитать романы не против исламского фундаментализма, а против Фукуямы, в которых было бы показано, почему милый ему западный либерализм лопнул и истек слюнями от восторга перед героическими борцами из ХАМАСа и «Исламского джихада».
А.Г.: Нынешняя социально-историческая ситуация чрезвычайно перспективна тем, что предоставляет литературе шанс еще раз не справиться со своей задачей – второй раз за последние 50–60 лет быть неадекватной обстоятельствам. Литература – условно говоря, до Второй мировой войны – худо-бедно справлялась с осмыслением происходивших событий. Мы знаем ответ на Французскую революцию в творчестве де Сада, о котором Шаус уже говорил. Мы знаем ответ литературы на технический переворот и революционное движение в 19-м веке. Мы знаем литературу, возникшую после Первой мировой войны, которая оказалась более или менее адекватной тому, что происходило на Западном фронте. Но литература застопорилась, не справилась с опытом Второй мировой войны, Катастрофы – ее поставила в тупик область иррационального. Литература попыталась как-то выпутаться, возникла теория о невозможности после этих событий стихов, вернее говоря, о невозможности стихов, в которых не отпечатался бы пережитый опыт, а поскольку, как было помыслено и решено, этот опыт не вмещается в слово, то уделом высказывающегося (по крайней мере того, кто способен отрефлексировать природу, прерогативы и сферу применения литературного высказывания) становится молчание – или максимально тяготеющая к нему речевая аскеза. Преимущество же сегодняшней ситуации в том, что, когда люди говорят о концептуально-философском тупике (а мой голос – это голос из хора), они тем самым топографически четко обозначают место кризиса и недостачи, то самое место зияния, где единственно может прорезаться новый смысл, из полноты ведь, что очевидно, не прорастающий.
А.Б.: Мне кажется, что тут пролетает тихий ангел. На этом можно было бы и закончить нашу беседу. Но все-таки хочу уточнить, что ситуация в Европе – и политическая, и литературная – не столь однозначна. Такой популярный – это важно в контексте нашего разговора – писатель, как Мишель Уэльбек, сделавший несколько заметных антимусульманских заявлений, пару месяцев назад должен был присутствовать на вручении ему одной из престижных международных премий (ее присуждают по рейтингу писателя в библиотеках разных стран). И он, и его издатель на этой церемонии не были – из-за того, что скрываются в связи с угрозами исламских экстремистов в их адрес. Это один из «властителей дум» Европы. Вот так обстоят дела и с адекватностью литературы и литературных деятелей историческому моменту, и с эстетическим отношением искусства к действительности, и с поиском своего языка – и не только во Франции…
«Зеркало» «№ 19–20, 2008 г.Собеседники
Эмма Герштейн (1903, Двинск – 2002, Москва) – историк литературы, писатель, исследователь биографии Лермонтова, публикатор и комментатор пушкинистских работ Ахматовой. Автор книгСудьба Лермонтова (М., 1964) иМемуары (М., 1998), удостоенной премий Малый Букер и Антибукер.
Станислав Красовицкий (1935, Москва) – поэт, одна из ведущих фигур Второго русского авангарда. Публикации: Грани, Левиафан, Ковчег, Эхо, Антология Гнозиса, Антология новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны и др. Ныне священник Русской Зарубежной церкви. Живет в Подмосковье.
Валентин Хромов (1933, Москва) – поэт, участник Второго русского авангарда. Принадлежал к группе С. Красовицкий – Л. Чертков. Автор нескольких стиховедческих работ и мемуарных эссе о художниках и поэтах. Публикации: Пирушка с Хромовым (М., 2002), Феникс (Грани, 1962), Левиафан (1975), Синтаксис (Париж), Новое литературное обозрение (1993), Новый мир и др. Живет в Москве.
Всеволод Некрасов (1943–2009, Москва) – поэт, участник Второго русского авангарда, автор книг: Стихи из журнала(М., 1989), Справка(М., 1991), Пакет(М., 1996) и др.
Геннадий Айги (1934, Чувашия) – поэт. Был близок к Борису Пастернаку. Автор около десятка стихотворных книг на чувашском языке, антологии французской поэзии в переводе на чувашский (премия Французской академии, 1972). Русские стихи Г. Айги с 70-х гг. переводятся на все основные европейские языки. Командор ордена Искусств и Литературы (Франция). Русские стихи публикуются в России начиная с 1988 г. Лауреат премии Андрея Белого (1987), первый лауреат премии имени Пастернака (2000). Живет в Москве.
Илья Кабаков (1933, Днепропетровск) – художник, участник Второго русского авангарда. Персональные выставки: Хиршхорн-музей, Вашингтон, 1990; Музей Людвига, Кёльн, 1992; Штедлик-музей, Амстердам, 1993; Центр Помпиду, Париж, 1995 и мн. др. Автор книги Альбом моей матери (Париж, 1995) и др. Жил в Москве, сейчас живет в Нью-Йорке.
Эрик Булатов (1933, Свердловск) – художник. Участник Второго русского авангарда. Многочисленные выставки в России, Европе и США, в том числе персональные: Центр Помпиду, Париж, 1988; Третьяковская галерея, Москва, 2006. С 1992 г. живет в Париже.
Саша Соколов (1943, Оттава) – литератор. Автор книг Школа для дураков, Между собакой и волком, Палисандрия. С 1975 г. в эмиграции: Европа, Америка, Израиль. Премии: Андрея Белого и Международная Пушкинская.
Михаил Гробман (1939, Москва) – поэт и художник. Участник Второго русского авангарда. Публикации: Воздушные пути(1965), Антология Гнозиса, Антология Голубой Лагуны, Ковчег, Строфы века, Russian Poetry: the Modern Periodи др. Основатель группы «Левиафан» и издатель одноименной газеты (1975–1981). Автор книгВоенные тетради(Тель-Авив, 1992), Левиафан(М.: Новое литературное обозрение, 2002), Последнее небо(М.: Новое литературное обозрение, 2006). Персональные выставки: Тель-Авивский художественный музей, 1971; Художественный музей Бохума, Германия, 1988; Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 1999; Московский музей современного искусства, 2009, 2013–2014 и др. Жил в Москве, в Израиле с 1971 г.
Герман Титов (1964, Череповец) – коллекционер, художник. Издатель Библиотеки московского концептуализма. Премия Инновация 2010. Живет в Вологде.
Павел Пепперштейн (Пивоваров) (1966, Москва) – писатель, художник, основатель и член группы «Медгерменевтика». Автор книг Великое Поражение и Великий Отдых (М., 1993), Идеотехника и рекреация (с С. Ануфриевым и Ю. Лейдерманом) (М., 1996), Диета старика (М., 1998), Мифогенная любовь каст (М., 2000) и др. Живет в Москве, Тель-Авиве и Крыму.
Леонид Гиршович (1948, Ленинград) – скрипач, писатель. С 1973 г. жил в Израиле. Публиковал прозу в различных литературных журналах и альманахах. Автор книг Обмененные головы, Бременские музыканты, Замкнутые миры доктора Прайса (М.: Новое литературное обозрение, 2001), Фашизм и наоборот (М.: Новое литературное обозрение, 2006) и др. Живет в Германии.
Михаил Деза (1939, Москва) – математик, поэт. С начала семидесятых живет в Париже.
Вадим Россман (1964, Чебоксары) – востоковед, философ. Приглашенный профессор китайской истории и русистики в университете Шринакаринвирот в Бангкоке. Публикации: Зеркало, Вестник Европы, Логос, Пушкин, Человек, Вопросы философии, Russian Review, Slavic and East European Journal, Points East, Forum für osteuropäische Ideen– und Zeitgeschichte, East European Jewish Affairs, Europa и др. Жил в Иерусалиме, Стамбуле, Москве, Остине, Хьюстоне, Чикаго, Детройте, Сан-Франциско, Брюсселе. Сейчас живет в Бангкоке.
Александр Гольдштейн (1957, Таллин – 2006, Тель-Авив) – литератор. Автор книг Расставание с Нарциссом (М., 1997, премии Малый Букер и Антибукер), Аспекты духовного брака (М., 2001), Помни о Фамагусте (М., 2004), Спокойные поля (М., 2006, премия Андрея Белого). Жил в Баку, с 1990 г. – в Израиле.
Александр Бараш (1960, Москва) – поэт, прозаик, эссеист. Автор книг: Оптический фокус (Иерусалим, 1992), Панический полдень (Иерусалим, 1996), Средиземноморская нота (Москва – Иерусалим, 2002). Публикации в антологиях: Строфы века, Самиздат, Crossing Centures, журналах: Зеркало (Израиль), Знамя, Арион (Москва) и др. Куратор литературного сайта Остракон. В 1985–1989 гг. издавал (совместно с Н. Байтовым) литературный альманах Эпсилон-салон, координировал деятельность группы Эпсилон и др. Жил в Москве, с 1989 г. – в Израиле. Живет в Иерусалиме.
Яков Шаус (1946, Вильнюс) – филолог, критик, журналист. Публикации: Знак времени, Звенья, Зеркало и др. Жил в Вильнюсе, в Израиле с 1990 г. Живет в Тель-Авиве.
Примечания
1
Rosalind Krauss, “Grids”, in The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, MA: The MIT Press, 1985. P. 9 – 22.
(обратно)2
Габриэль Мокед (1933, Варшава) – писатель, философ, литературный критик, издатель журнала «Ахшав», профессор Университета им. Бен-Гуриона. В Израиле с 1946 года. В рус. пер. см.: Габриэль Мокед. Избранные вариации. СПб., 1993.
(обратно)3
Мордехай Лейбович (1951, Израиль) – окончил факультет востоковедения Тель-Авивского университета, в настоящее время офицер израильской полиции.
(обратно)4
Эдуард Кузнецов (1939, Москва) – участник правозащитного движения в СССР, в 1961–1968 и 1970–1979 годах находился в заключении. С 1979 года – на Западе. Автор книг: Дневники (Paris, 1973), Мордовский марафон (Иерусалим, 1979), Русский роман (Иерусалим, 1982). С 1991 года – главный редактор израильской русскоязычной газеты «Время» (с 1992 года – «Вести»). Живет в Иерусалиме.
(обратно)5
Jewish – еврейский, experience – опыт, переживание; по-русски нет выражения, адекватного этому словосочетанию.
(обратно)



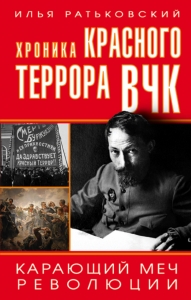
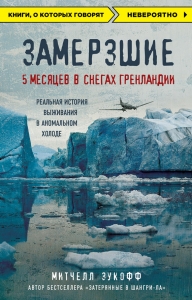






Комментарии к книге «Разговоры в зеркале», Ирина Врубель-Голубкина
Всего 0 комментариев