Николай Георгиевич Мельников О Набокове и прочем. Статьи, рецензии, публикации
ПРЕДИСЛОВИЕ
Погожим июньским днем, ровно двадцать лет тому назад, я присутствовал на защите дипломных студенческих работ, которая проходила на кафедре теории литературы филфака МГУ – в крохотной, убого обставленной комнатке на девятом этаже невзрачной сероватой коробки «первого гума» (первого корпуса гуманитарных факультетов), торцом выходящей на проспект Вернадского, к цирку, что всегда давало пищу для острот факультетским балагурам.
Помню манящую лазурь неба за окном, полузакрытым искалеченным жалюзи, жесткие и неудобные кресла с засаленной светло-зеленой обивкой, аляповатый портрет Белинского, выдержанный исключительно в грязновато-коричневых тонах, и недоуменное, немного испуганное выражение лица, с которым моя хорошая знакомая, профессор Л.В. Ч…ц, зачитала отрывок из обсуждавшегося диплома – с несколько расплывчатым, во вкусе кафедры, заглавием «Художественное миросозерцание писателя и его литературная личность. На материале русскоязычного творчества В.В. Набокова». В том отрывке перечислялись набоковедческие работы на русском языке, которых тогда, в 1993 году, было не так уж много: «…Из продукции, поставляемой уже народившимся отечественным набоковедением, наибольший интерес, на мой взгляд, представляют статьи А. Долинина, В. Федорова, И. Толстого, В. Пискунова, П. Кузнецова и, конечно же, – тут чтица запнулась, – блестящая работа одного юного, но многообещающего литературоведа, посвященная проблеме автора и персонажа в русскоязычных романах Набокова, удачно сочетающая в себе строгую научность, благородную бескомпромиссность критического анализа, поразительную философскую глубину, трепетный лиризм и восхитительную полемическую ярость, которой позавидовал бы и сам Владимир Владимирович».
«Это вы о себе, что ли?!» – спросила она сидящего поблизости худощавого студента с буйной поэтической шевелюрой и пушкинскими бакенбардами. Судя по его довольной ухмылке, именно он был автором двухсотстраничного диплома, и полушутливый, полусерьезный панегирик, зачитанный профессором Ч…ц, действительно посвятил себе, любимому.
Вскоре я познакомился с нахальным юношей и узнал, что в том пассаже он имел в виду свою прошлогоднюю курсовую, по его утверждению – первую о набоковском творчестве, написанную на постсоветском филфаке.
Как вы уже догадались, шутника звали Николай Мельников.
С тех пор много воды утекло. Юноша поступил в аспирантуру и после защиты кандидатской диссертации, частично посвященной всё тому же Набокову, остался работать на вышеназванной кафедре, профиль которой, скажем прямо, был далек от его набоковедческих занятий. Тем не менее в 1994 году он в качестве автора комментария участвовал в подготовке первого русского перевода непереводимой «Ады»; в 2000-м под его редакцией вышла антология «Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова», сразу же ставшая настольной книгой набоковоманов и набоковедов; в 2002-м подготовил к печати сборник интервью и критических статей «Набоков о Набокове и прочем», неожиданно вызвавший гнев набоковского наследника и едва не ставший причиной судебных разбирательств.
Были еще разные статьи, посвященные творчеству Владимира Набокова: в литературных энциклопедиях, журналах и даже таких газетах, как «Книжное обозрение» и «Ex Libris».
С конца девяностых годов Николай Мельников все чаще стал выступать в амплуа задиристого и въедливого критика, причем героями его статей были зарубежные, главным образом англо-американские авторы второй половины ХХ века, чьи произведения буквально хлынули на книжный рынок постперестроечной России в разного качества переводах. На вопросы типа: «Зачем тебе Апдайк или Оутс? Ты что – американист? Тебе разве мало Набокова?» – мой коллега по задорному литературоведческому цеху отвечал, что вовсе не изменяет любимому писателю, наоборот, интерес к его англоязычным собратьям по перу вызван желанием представить литературный фон «позднего», англоязычного Набокова, о котором мы имеем весьма смутное представление. Подготовив критическую антологию «Классик без ретуши», вторая часть которой была посвящена англоязычной набоковиане, он задался целью познакомиться с произведениями набоковских Зоилов и Аристархов, многие из которых если и не выбились в классики, то стали весьма уважаемыми писателями «первого ряда», а тогда, в эпоху l’affaire Lolita, начинали свою писательскую карьеру.
Таким образом, Набоков с полным основанием может считаться не только главным героем этой книги, но и ее композиционным стержнем, позволившим автору «Соединить в создании одном / Прекрасного разрозненные части».
***
В университетской среде России, да и западных стран, «есть ценностей незыблемая скала», согласно которой «монография располагается неизмеримо выше любого рода публикации, <…> хотя в глазах истинного ученого солидная архивная публикация, добросовестный перевод, подготовка библиографии или учебного пособия является подчас куда более важным вкладом в науку, чем очередная модная интерпретация, рискующая весьма скоро устареть»1. Нередко такие монографии лепятся из наспех переделанных кандидатских диссертаций и ради галочки в отчете о научной работе издаются за авторский счет (а потом, никому не нужные, годами пылятся в нераспечатанных пачках, сваленных где-нибудь в издательских закромах или кафедральных закоулках).
Хочу сразу предупредить читателей: у автора этой книги не было ни малейшего желания выдать ее за монографию. Меньше всего она похожа на выпекаемые из карьерных соображений «незрелые скороспелки, в которых многострадальные литературные тексты просто приносятся в жертву очередной новомодной концепции»2.
Перед вами – сборник литературоведческих и критических статей, публиковавшихся в разнокалиберных российских изданиях на протяжении двадцати лет. Своего рода отчет о проделанной работе, представленный в виде «собранья пестрых глав». Пестрых и по тематике, и по жанровым особенностям. Тут вы найдете и пространные эссе, и литературные портреты, и рецензии, и даже диатрибы, в которых автор хлещет поучительной лозой своих клеветников – тревожных арендаторов славы, «корыстью занятых одной».
Хорошо понимая разницу между критикой и литературоведением, Николай Мельников делает все возможное, чтобы «преодолеть границы, засыпать рвы» между ними. Литературоведческие работы он превращает в подобие остросюжетных новелл – с головокружительными перипетиями и неожиданными, но всегда внутренне оправданными и мотивированными развязками; при этом он чурается тяжеловесного наукообразного «дискурса», со времен структуралистов воцарившегося в трудах отечественных литературоведов, и предпочитает корявым сциентизмам и громоздкой терминологии живой и образный язык.
В критических статьях он не только опирается на теоретические положения Тынянова или Томашевского, но и восстанавливает процесс рецепции той или иной книги, соотносит свои оценки с мнениями первых рецензентов, иногда соглашаясь, иногда споря с ними. Во всех случаях его отличает независимость от громких имен и устоявшихся репутаций, а также редкое умение отличать, насколько успех писателя обусловлен модой, умело организованной рекламой или художественными достоинствами его сочинений.
Помимо жанрового многообразия книга отличается широким охватом литературного материала, который позволяет автору затронуть целый ряд важных литературоведческих проблем: житейские и литературные прототипы персонажей; публичная персона («литературная личность») писателя, во многом обусловливающая восприятие его произведений; взаимодействие и взаимовлияние двух полюсов литературной системы – «массовой» («тривиальной», «популярной») беллетристики с ее строгими жанрово-тематическими канонами и «элитарной», «высокой» литературы с ее культом новизны и формального совершенства.
Среди авторов, чьи произведения разбираются Николаем Мельниковым, – крупнейшие зарубежные писатели, без которых немыслима история мировой литературы ХХ века: Джон Апдайк, Энтони Бёрджесс, Марио Варгас Льоса, Ивлин Во, Вирджиния Вулф, Лоренс Даррелл, Айрис Мёрдок, Уильям Стайрон, Мартин Эмис и, конечно же, Владимир Набоков, которому посвящена бόльшая часть книги: если в первой части освещаются различные аспекты жизни и творчества писателя, то во второй Sine ira et studio разбираются труды его отечественных толкователей и биографов.
Несмотря на «набоковоцентричность» книги, по отношению к главному предмету своих литературоведческих штудий автор «О Набокове и прочем» занимает должную дистанцию, а порой бывает и не менее критичен, чем по отношению к поблекшим идолам постмодернизма, вроде Джона Барта и Дональда Бартельма.
Как верно заметила рецензент книги «Набоков о Набокове и прочем», исследовательскую манеру Николая Мельникова отличает «стремление к свободе оценок, беспристрастию, строгой переоценке признанных положений; <…> перед нами литературовед нового поколения. Независимый, ироничный, избегающий поверхностных определений, Н.Г. Мельников смотрит на творчество Набокова не как на что-то запретное для критики, гениальное и недостижимое, а как на объект научного исследования»3.
Подобный подход отличает его от многих набоковедов («набокоедов» – непременно сострит Мельников), напоминающих порой не ученых, а служителей культа, членов секты «избранных», которые не только бездумно перепевают «твердые суждения» набоковской персоны, имитируют интонацию писателя, подделываются под его стиль, но и мыслят себя то ли инкарнацией двуязычного гения, то ли полномочными представителями, временно исполняющими его обязанности на нашей грешной земле.
Держу пари: Владимир Набоков, случись ему прочесть собранные здесь статьи, не пришел бы в восторг от иных «сеансов с полным разоблачением», какие учиняет Николай Мельников. Но еще больше я уверен: при всем несогласии с теми или иными утверждениями и догадками, он не отнес бы его к презираемой им категории критиков, которые «разглагольствуют о книге, вместо того чтобы раскрыть ее душу». И уж тем более – к своим гротескным двойникам, которые, стремясь перенабоковить Набокова, «непременно начинают (уж во всяком случае, в письменном виде) уподобляться своему кумиру – шарадничать, высокомерничать и прочее – c переменным, как водится, успехом».
И вопреки заверениям пессимистов, вроде Эмиля Фаге, считавшего, что «всякая критика осуждена на полное забвение, и в этом нет вопиющей несправедливости», я убежден: многие работы Николая Мельникова, вошедшие в эту книгу, столь же ценны, как и произведения, ставшие объектом его исследования, а потому им суждено стать «вечными спутниками» тех из них, что не канут в Лету и будут волновать всё новые и новые поколения читателей.
Виссарион Ерофеев
Июль 2013 г.,
Москва
ОТ АВТОРА
Статьи, составившие книгу, дают представление о моей литературоведческой и критической деятельности за двадцать лет. Стремясь придать сборнику внутреннюю цельность и сюжетную стройность, я решил сгруппировать их по тематическому принципу, пожертвовав строгим хронологическим порядком и жанровым единством. В первой, набоковской, части статьи расположены не по мере их написания и публикации, а в соответствии с этапами творческого пути Владимира Набокова; во втором разделе второй части они сгруппированы, так сказать, по географическому принципу: сначала идут эссе, посвященные европейским писателям, и рецензии на первые переводы их произведений, затем – статьи об американских авторах.
Поскольку набоковедение – одна из самых бурно развивающихся отраслей отечественного литературоведения, ежегодно выбрасывающая на книжный рынок разнообразную и разнокачественную продукцию, я счел бессмысленным модернизировать свои набоковедческие работы, в частности, унифицировать их справочный аппарат, раздувая ссылками на новейшие публикации. В самом деле, странно выглядели бы статьи середины девяностых годов, уснащенные ссылками на позднейший русский перевод двухтомной бойдовской биографии или новопереведенной переписки Набокова – Уилсона!
Лишь в некоторых случаях я не удержался от соблазна переделок и улучшений: внес в тексты легкую стилистическую правку; снабдил мини-послесловиями, где рассказываю об истории их создания и о тех трагикомических последствиях, которые они вызвали; восстановил пропуски, сделанные редакторами без согласования со мной, а также заглавия, опущенные или измененные при первой публикации; дополнил подвальные примечания сведениями, прежде мне неизвестными или недоступными, но принципиально важными для раскрытия той или иной темы (эти вставки выделены квадратными скобками).
СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Классик без ретуши – Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. Критические отзывы, эссе, пародии / Под общей редакцией Н.Г. Мельникова. Сост., подготовка текстов Н.Г. Мельникова, О.А. Коростелева. Предисл., преамбулы, комментарии, подбор иллюстраций Н.Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
NWL – The Nabokov–Wilson Letters / Ed. by Simon Karlinsky. N.Y.: Harper & Row, 1979.
SL – Nabokov V. Selected Letters. 1940–1977 / Ed. by D. Nabokov and Mathew J. Bruccoli. N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich / Bruccoli Clark Layman, 1989.
SO – Nabokov V. Strong Opinions. N.Y.: McGraw-Hill, 1973.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О НАБОКОВЕ
Шарж Владимира Мочалова
КРИМИНАЛЬНЫЙ ШЕДЕВР ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА И ГЕРМАНА КАРЛОВИЧА
(о творческой истории романа В. Набокова «Отчаяние»)
Шарж Дэвида Левина
«Странно, что мы испытываем болезненную потребность (как правило, зря и всегда некстати) отыскивать прямую зависимость произведения искусства от “подлинного” события»4, – жаловался в свое время Владимир Набоков, рассуждая о реальной сюжетной подоснове гоголевского «Ревизора».
Не знаю, странно это или нет, а ведь и впрямь испытываем, особенно когда обращаемся к творчеству таких загадочных и непрозрачных писателей, как Набоков. На протяжении всего творческого пути он потратил немало сил и энергии, чтобы создать себе имидж «чистого художника» – ортодоксального эстета оскар-уайльдовской закваски, проповедующего бесцельность и самодостаточность литературного творчества, сторонника дегуманизированного искусства, отчужденного от «радостей и бедствий человеческих». «Реальность не является ни темой, ни целью истинного искусства, которое творит свою собственную реальность, ничего общего не имеющую со средней реальностью, доступной коллективному глазу»5 – эта броская декларация, вложенная в уста главного героя «Бледного огня», перекликается со многими программными заявлениями писателя, который порой грешил несносным эстетическим дидактизмом и догматизмом.
Оскар Уайльд, чьи эстетико-философские воззрения оказали большое влияние на «литературную маску» Набокова и его эстетические взгляды, утверждал: «Искусство вполне равнодушно к фактам, оно изобретает, воображает, грезит и сохраняет между собой и действительностью неприступную преграду красоты стиля, декоративности или идеальных устремлений»6. Все это до известной степени так, и, конечно, «жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство – жизни». И все же едва ли кто-нибудь из настоящих писателей всерьез способен на то, чтобы не на словах, а на деле – в своем творчестве – перерезать пуповину, соединяющую искусство с действительностью (которая так порой раздражает чуткие и впечатлительные творческие натуры), ограничиться «игрой в бисер» и тем самым – выхолостить свое творческое «я», «отрезать себя от собственных запасов, от всего питания, горючего, от всей энергии, источником которой <…> является человеческая жизнь» (Ж. Маритен)7, – та самая «живая жизнь», с ее грязью и убожеством, величием и красотой, жестокостью и милосердием, от которой подлинному художнику не отделаться «декоративностью и идеальными устремлениями», не спрятаться в пресловутую башню из слоновой кости, чтобы там, «подобно баядере среди благовоний, погрузиться в одинокие свои грезы» (мучительная мечта Гюстава Флобера). Это невозможно хотя бы потому, что любой писатель прежде всего – человек, а затем уже – художник. («Поэт умирает там, где кончается человек», – позвольте мне переиначить броский лозунг прославленного испанского дегуманизатора.)
Отношения между искусством и жизнью строятся на основе взаимодействия и взаимного отражения. Это, разумеется, азбучная истина. Вполне очевидно и то, что программные заявления и эстетические декларации имеют отношение скорее к «публичному имиджу», «литературной личности» писателя (то есть постулированному им самим авторскому образу, который строится в соответствии с нормами и типологическими формулами определенной формы литературного поведения), чем к его творческой индивидуальности. Тем более они не могут исчерпать смысл и значение произведений художника.
Именно поэтому, рассматривая творчество любого писателя – особенно такого «закрытого», как Набоков, – столь интересно бывает найти те нити, которые связывают его творения с «живой жизнью»: выявить жизненные прообразы персонажей, определить реальные события, положенные в основу сюжета. Нет, не из-за одной исследовательской дотошности, не ради злорадных уличений – «вот, мол, эстетом прикидывался… “башня из слоновой кости”… “одинокие грезы”… “гамаки из перьев колибри”, а сам-то…», – но для того, чтобы лучше понять, как, по каким законам создавался «выдуманный» мир литературного произведения, что повлияло на замысел писателя, во имя чего преображалась пресловутая «грубая реальность» его всесильным творческим воображением.
Нисколько не посягая на творческую фантазию Набокова, ни в малейшей степени не сомневаясь в оригинальности и индивидуальной неповторимости его творчества, не пытаясь навязать ему «почетный» титул заслуженного бытописателя и фотографа от литературы, я предлагаю рассмотреть реальную подоснову «Отчаяния», одного из лучших русскоязычных романов писателя, и поговорить также о возможных прототипах главного героя этого произведения (стараясь избегать прямолинейных уподоблений, на которые падки многие нынешние «набокоеды»).
***
«Отчаяние» – далеко не единственное произведение Набокова, сюжет которого восходит к событиям реальной жизни. Здесь можно вспомнить и одноактную драму «Полюс», воспроизводящую последний день полярной экспедиции Скотта, и такие, во многом автобиографические, произведения, как «Машенька» и «Подвиг», и, разумеется, роман «Дар», причем не только его знаменитую четвертую главу, где виртуозно перелицована биография злополучного Николая Гавриловича Чернышевского, но и «ненаписанную» историю путешествия отца Годунова-Чердынцева, при создании которой Набоков опирался на целый ряд документальных источников (путевые записки русских путешественников и естествоиспытателей Г.Е. Грум-Гржимайло и Н.М. Пржевальского), а также всю линию, связанную с Яшей Чернышевским, застрелившимся в Грюневальдском лесу, – как выяснилось, по примеру своего житейского прототипа: романтически настроенного русского студента, покончившего с собой в Тиргартенском парке8 (я уже не говорю об автобиографичности образа Федора Константиновича).
В качестве бесспорного примера можно привести рассказ «Уста к устам», написанный Набоковым в начале тридцатых годов. В нем обыгрывается скандальная история из литературной жизни русского Парижа, главными героями которой стали Николай Оцуп, редактор журнала «Числа» (в рассказе переименованного в «Арион»), активные сотрудники «Чисел» Георгий Иванов и Георгий Адамович (в начале тридцатых оба зарекомендовали себя как непримиримые литературные противники Набокова), а также богатый предприниматель, писатель-дилетант Александр Буров (А.П. Бурд), чей графоманский роман «Была земля» появился на страницах «Чисел», претендовавших на роль самого «элитарного» издания русской эмиграции. Буровский роман был опубликован в «Числах» по тем же корыстным мотивам и при тех же трагикомических обстоятельствах, что и «шедевр» Ильи Борисовича в рассказе Набокова (первая порция – всего в три с половиной странички, со странным подзаголовком «пролог к роману»).
Примечательно, что рассказ, где писатель, опираясь на реальный факт литературной жизни русского Парижа, уличал своих злейших литературных врагов в беспринципности, имел сложности с публикацией именно в силу своей злободневной актуальности и документальной достоверности (качества, за отсутствие которых обычно упрекали Набокова некоторые эмигрантские критики, в том числе и авторы «Чисел»). По оплошности и недосмотру «Уста к устам» едва не напечатали в газете «Последние новости» – главном оплоте Адамовича, – куда с невинным простодушием прислал манускрипт В. Сирин. В последний момент кто-то раскусил начинку опасного подарочка. Чтобы избежать неприятностей, пришлось едва ли не в самый последний момент рассыпать набор рассказа, как сообщает в предисловии к английскому переводу «Уста к устам» Владимир Набоков. По-русски «Уста к устам» были опубликованы с четвертьвековым опозданием в сборнике «Весна в Фиальте» (Нью-Йорк, 1956).
Другая скандальная история из жизни русской эмиграции легла в основу одного из первых англоязычных произведений Набокова, новеллы «Второй режиссер» (The Assistant Producer, 1943), написанной по еще не остывшим следам «дела Плевицкой» и построенной как пересказ туманного, малопонятного для американцев кинофильма «из жизни русских эмигрантов». В ней достоверно воспроизводится биография некогда знаменитой певицы Надежды Плевицкой и с протокольной точностью описывается похищение руководителя Русского общевоинского союза – престарелого и вполне безобидного генерала Е.К. Миллера, выкраденного в 1937 году из Парижа мстительными энкавэдэшниками при активном содействии мужа певицы – агента-перевертыша генерала Н.В. Скоблина. Изменены лишь имена и названия: Плевицкая выведена под именем Славской, честолюбивый карьерист Скоблин получил фамилию Голубков, генерал Миллер – Федченко, Русский общевоинский союз переименован в Союз белого воинства.
***
В сюжетную основу «Отчаяния» положена не менее интригующая криминальная история, которую писатель, по примеру так не любимого им Достоевского, взял из газетной уголовной хроники. Об этом факте, насколько мне известно, не писал еще никто из зарубежных, а тем более отечественных набоковедов.
Напомню содержание набоковского романа, написанного как повесть-исповедь нераскаявшегося убийцы Германа Карловича. Постараюсь изложить изрядно запутанный сюжет «Отчаяния» в хронологическом порядке (да простят мне это неизбежное кощунственное упрощение!).
Во время одной из деловых поездок Герман Карлович (на вид преуспевающий коммерсант, принадлежащий, как он сам себя рекомендует, к «сливкам мещанского класса», а на самом деле – эстет и романтик, внутренне не удовлетворенный жалким жребием серого обывателя), встречается со своим двойником – заурядным бродягой по имени Феликс. Правда, двойник этот – мнимый, о чем читатель (в отличие от зачарованного химерами собственного воображения Германа Карловича, нарцисса и мономана, с точки зрения которого подаются события романа) постепенно догадывается благодаря сложной системе подсказок и намеков «имплицитного автора», благодаря его многочисленным «подмигиваниям» за спиной ничего не подозревающего героя-повествователя, чья способность управлять ходом повествования постоянно дискредитируется разного рода неувязками, оговорками, неточностями. Например, во второй главе романа, в сцене увеселительной поездки на участок Ардалиона, летняя местность неожиданно начинает наполняться реалиями зимнего пейзажа (голые деревья, мурмолка снега на желтом дорожном столбе и т.д.) – немыми свидетелями преступления, о котором будет говориться почти в самом конце «Отчаяния». В этой же главе Лидия, жена Германа, во время встречи с мужем сбивающая гоголь-моголь, по забывчивости повествователя вдруг вместо этого начинает молоть кофе. Еще один временной наплыв в помутившемся сознании Германа мы видим в четвертой главе, где он не только путается с натюрмортом Лидиного кузена Ардалиона, но и принимает конный памятник какому-то немецкому герцогу за Медного всадника.
Герман – в полном смысле «ненадежный повествователь», обманывающий и себя, и читателей, выдающий желаемое за действительное. Это касается и пресловутого «идеального» сходства с Феликсом, и отношений с женой, той «безоговорочной, безоглядной» любви к нему – «умнице, смельчаку, идеалу мужчины», – о которой Герман распространяется на протяжении всего романа (то, что Лидия изменяет ему с Ардалионом, понятно даже самому неискушенному читателю – хотя бы из сцены на вокзале).
Несмотря на навязчивое подчеркивание своей «повышенной приметливости» и постоянные напоминания о чудной «фотографической памяти», мгновенно схватывающей все детали, Герман все время ошибается, все время путается. Назойливо доказывая читателю свое творческое всемогущество, он чем дальше, тем больше показывает полную неспособность адекватно воспринимать действительность. Герман Карлович настолько отрезан от мира, настолько безнадежно погружен в себя, в вязкое болото бесплодных фантазий и безумных мечтаний (подобно щедринскому Иудушке, погрязшему в «омуте фантастического праздномыслия»)9, чувство реальности в нем настолько ослаблено, что он не в состоянии отрешиться от власти упоительной мечты о существовании своего второго «я», идеального двойника, встреча с которым давала ему блестящую возможность творческой самореализации и одновременно – уникальный шанс разорвать постылый круг тусклого обывательского бытия.
Случайное знакомство с Феликсом – тупым и подозрительным люмпеном, считающим несправедливостью и обманом все то, что превосходит его понимание, —вдохновила набоковского мечтателя на осуществление акта «гениального беззакония», суть которого заключалась в следующем: застраховавшись на крупную сумму, убить своего двойника (предварительно поменявшись с ним одеждой), а затем бежать за границу, чтобы позже встретиться там с женой – «безутешной вдовой», благополучно получившей страховку, – и зажить с ней новой, безмятежной и счастливой жизнью.
После мучительных раздумий и колебаний, сравнимых с муками взыскательного художника, трепетно вынашивающего замысел своего произведения, после тягостных сомнений (озаряемых порой вспышками кратковременного прозрения, когда идея о сходстве с Феликсом кажется Герману навязчивым бредом) он все же приступает к выполнению намеченного плана: заманивает «двойника» в ловушку, в глухое лесное местечко возле малоезжего шоссе, меняется с ним одеждой, отдает ему документы, оставляет свой двухместный автомобиль, добиваясь полного сходства, прихорашивает его (бреет, стрижет ногти на ногах и на руках) и… неожиданным выстрелом в спину убивает наповал.
Уже за границей Герман, теперь выдающий себя за Феликса, с ужасом узнает о провале «гениального» замысла. «Едва ли не загодя решив, чтo найденный труп не я, никакого сходства со мной не заметив, вернее, исключив априори возможность сходства (ибо человек не видит того, что не хочет видеть), полиция с блестящей последовательностью удивилась тому, что я думал обмануть мир, просто одев в свое платье человека, ничуть на меня не похожего», – кипя праведным гневом, возмущается Герман, решив в оправдание своего криминального шедевра написать повесть, которая доказала бы миру его гениальность, раскрыла бы всю «глубину» его творения – то, что «все было задумано и выполнено с предельным искусством, что совершенство всего дела было в некотором смысле неизбежно, слагалось как бы помимо <…> воли, интуитивно, вдохновенно».
Безумная самонадеянность Германа, увязшего в болоте «умственного распутства» и умертвляющего мир своим творческим воображением, приводит его к ужасной катастрофе, тем более чудовищной из-за того, что он почти до самого конца уверен в собственной непогрешимости. Лишь после того как набоковский герой узнает о допущенной им самим грубой ошибке (оставил на месте преступления важную улику – палку Феликса, на которой было выжжено его имя и фамилия, что позволяло полиции легко выйти на след убийцы), он признал свое поражение. «Слушайте, слушайте! – отчаянно взывает к читателям раздавленный осознанием роковой ошибки Герман. – Ведь даже если бы его труп сошел за мой, все равно обнаружили бы палку и затем поймали бы меня, думая, что берут его, – вот что самое позорное! Ведь все было построено именно на невозможности промаха, а теперь оказывается, промах был, да еще какой, самый пошлый, смешной и грубый. Слушайте, слушайте! Я стоял над прахом дивного своего произведения, и мерзкий голос вопил в ухо, что меня не признавшая чернь, может быть, и права… Да, я усомнился во всем, усомнился в главном, – и понял, что весь небольшой остаток жизни будет посвящен лишь бесплодной борьбе с этим сомнением…»
Сомнение в полноценности «дивного своего произведения» было бы у Германа еще определеннее, если бы тот же мерзкий голос возопил ко всему прочему о плагиате и объявил о неоригинальности и пошлой банальности его замысла.
«Эти шуточки, господин хороший, со страховыми обществами давным-давно известны. Я бы даже сказал, что это халтура, банальщина, давно набившая оскомину»10, – упрек, который в своем гневном письме бросает Герману художник Ардалион (его постоянный соперник в любви и в искусстве), вполне справедлив: воплощая в жизнь зловещий замысел «гениального беззакония», набоковский герой эпигонски повторяет фабулу двух чудовищных по своей циничной жестокости преступлений, которые одно за другим прогремели в Германии весной 1931 года, взбудоражив общественность и прессу. О них взахлеб писали берлинские газеты, в том числе и русскоязычные, например «Руль», где активно сотрудничал В. Cирин, едва ли не еженедельно печатавший там сладко-ностальгические стихотворения и весьма ядовитые рецензии, одна из которых – разгромный отзыв на лирический сборник Бориса Поплавского «Флаги» – была опубликована всего за восемь дней до того, как в газетном номере за 19 марта 1931 года появился кричащий заголовок «Убийство в автомобиле». В довольно обширной статье, вышедшей под этим названием, рассказывалось о преступлении некоего Курта Тецнера11, которое, бесспорно, послужило образцом для «творения» набоковского героя. Дабы не показаться голословным, я подробно перескажу содержание этой статьи, проводя, где это необходимо, параллели между реальным и «вымышленным» преступлением.
***
Так вот, жил-был Эрих Курт Тецнер, бездельник и лоботряс, в молодости успевший отсидеть за мошенничество и воровство. Женившись, Тецнер стал владельцем небольшого кафе, но дела у него не ладились, и к 1929 году он разорился. В один прекрасный день он твердо решил разбогатеть и обеспечить себе и своей горячо любимой жене счастливую и безбедную жизнь (в общем-то, законное и всем нам понятное желание). Поскольку «пряников сладких всегда не хватает на всех», а разбогатеть честным путем было невозможно (Германия переживала тогда примерно такой же экономический кризис, какой сейчас – Россия), мысли Тецнера заработали в определенном направлении. Решено было провернуть дело со страховкой. На это Тецнера подтолкнула внезапная кончина его тетки, которую он, совсем незадолго до ее смерти, предусмотрительно застраховал на кругленькую сумму. (Умерла ли она действительно от рака, как официально считалось, или нетерпеливый племянник оказал ей посильную помощь для скорейшего перехода в лучший мир – это до сих пор остается невыясненным.) Так или иначе, ее своевременная смерть вдохновила Тецнера на осуществление давно лелеемого замысла: «убить на шоссе во время автомобильной поездки какого-нибудь встречного бродягу, сжечь труп и затем скрыться, так чтобы все думали, что сгорел в автомобиле он, Тецнер. Безутешная “вдова” должна получить страховую премию, уехать за границу, там встретиться со своим “покойным” мужем, который обещал жениться на ней вторично <…>, и тогда молодожены должны были зажить новой, спокойной и счастливой жизнью»12.
(Те же радужные картины рисовал в своем воображении и Герман Карлович: «В один прекрасный день наконец приехала ко мне за границу Лида <…>. Теперь я женился на ней, на вдовушке, живем с ней в тихом живописном месте, обзавелись домиком, часами сидим в миртовом садике, откуда вид на сапфирный залив…»)
Застраховавшись на 145 тысяч марок, Тецнер стал разъезжать на своем двухместном автомобиле между Плауеном и Байретом, в ожидании встречи с одиноким пешеходом (в отличие от Германа у него не было на примете подходящего кандидата на роль загробного заместителя). Вскоре Тецнеру встретился одинокий путник. Им оказался слесарь Отнер, пешком добиравшийся до Мюнхена. «Тецнер сам любезно предложил его подвезти, при этом выказав удивительное расположение к своему “случайному” пассажиру – дал ему несколько марок, и во время одной из остановок попросил его побриться, купить воротничок и галстук»13.
(Сравним обходительность Тецнера с той неестественной любезностью, с которой Герман назойливо предлагал тупоумному люмпену Феликсу сначала «интересную работу», а потом – участие в очень выгодном дельце, вспомним жутковатую сцену бритья и переодевания, предшествующую убийству, оценим сходство еще некоторых деталей (двухместный автомобиль) и продолжим наше увлекательное криминально-литературоведческое исследование.)
«В Байрете убийца и его будущая жертва хорошо пообедали и затем поехали дальше по направлению к Ингольштадту. Наступил вечер, и путешественники оказались на уединенном шоссе, посреди леса»14. Внезапно Тецнер затормозил, сказав, что в автомобиле что-то испортилось. Отнер охотно вызвался устранить неисправность и полез под автомобиль. Выждав удобный момент, Тецнер ударил его по голове тяжелым гаечным ключом. Удар оказался неудачным – Отнер вскочил и, мгновенно убедившись, что его новый знакомый настроен весьма серьезно, стал активно сопротивляться, вероломно срывая выполнение детально разработанного плана. Между недавними приятелями завязалась отчаянная борьба: один спасал свою жизнь, другой – мечту о мирном мещанском благополучии (которое частенько созидается «железом и кровью»). Жажда жизни оказалась сильнее меркантильных мечтаний – тяжело раненному Отнеру удалось вырваться из рук Тецнера и убежать в лес. Целую ночь проблуждав по лесу, под утро он вышел к городку Гаймерсгойм и обо всем рассказал тамошним полицейским, которые, однако, отнеслись к его сообщению с прохладцей и даже пальцем не пошевелили, чтобы предотвратить новое преступление.
Тецнер тем временем не унывал. Продолжив поиски, он вскоре встретил какого-то бродягу, которого любезно пригласил к себе в автомобиль. Там он «обработал» гостя должным образом: плотно закутал в одеяло, когда пассажир пожаловался на холод, а затем задушил, внезапно накинув ему веревку на шею. Подогнав автомобиль к берегу реки, к самому обрыву, Тецнер поджег его, инсценируя несчастный случай. Предварительно он отрубил у оставленного в автомобиле трупа ноги по колено: «двойник» оказался слишком высокого роста.
Автомобиль с обгорелым до неузнаваемости телом был вскоре найден. По сохранившимся номерам полиция определила имя его владельца, однако изуродованный труп с отрубленными ногами вызвал у нее подозрение. После экспертизы, проведенной крупнейшим в Германии специалистом по судебной медицине Рихардом Кокелем, подозрение переросло в уверенность: под видом Тецнера собираются похоронить неизвестного мужчину15. Плюс ко всему стало известно о крупной сумме денег, на которую незадолго до своей «смерти» застраховался Тецнер, воспользовавшийся услугами сразу двух страховых обществ: «Нордштерн» и «Аллианц».
Тем не менее обгорелый труп официально похоронили как Курта Тецнера. На похоронах госпожа Тецнер бурно рыдала, довольно правдоподобно изображая убитую горем вдову. Бедняжка не знала, что на недоверчивую полицию эта комедия никак не действует, что за каждым ее шагом следят опытные детективы. Расторопным сыщикам вскоре удалось подслушать ее телефонный разговор с неким Краспелем, находившимся в Страсбурге. Краспеля отыскали, схватили и моментально установили, что он и «погребенный» Тецнер – одно и то же лицо.
На суде Тецнер не обнаружил никакого раскаяния (в этом он похож на героя «Отчаяния»). «Он сожалел только, что недостаточно продумал преступление и не оставил на трупе своих документов и серебряных денег. Это придало бы, по его словам, больше правдоподобия»16.
«На войне перебили столько народу. Одним больше, другим меньше – не имеет никакого значения. А работают только дураки», – с жутковатым цинизмом говорил он во время следствия.
Суд приговорил его к смертной казни, чему, впрочем, Тецнер был рад. «Самое лучшее, если меня казнят, – говорил он своим тюремщикам. – Ну что будет, если я просижу 25 лет в каторжной тюрьме, а затем выйду на свободу? Мне придется просить милостыню. Уж лучше казнь…» (Эти слова любопытно сопоставить с рассуждениями Германа Карловича, уже сломленного, уже осознавшего свое поражение в отчаянной борьбе против абсурдной жестокости судьбы, уже ждущего скорой развязки: «Убить себя я не хочу, это было бы неэкономно, – почти в каждой стране есть лицо, оплачиваемое государством, для исполнения смертной услуги. И затем – раковинный гул вечного небытия. А самое замечательное, что все это может еще продлиться, – то есть не убьют, а сошлют на каторгу, и еще может случиться, что через пять лет подойду под какую-нибудь амнистию и вернусь в Берлин, и буду опять торговать шоколадом. Не знаю, почему, – но это страшно смешно».)
В то время как Тецнер с тупым равнодушием человека, лишенного воображения, ожидал приглашения на казнь, в другом немецком городе, Бартенштейне, начался судебный процесс по аналогичному делу. Судили владельца мебельного магазина коммерсанта Фрица Сафрана и двух его сообщников: Кипника (служащий Сафрана) и Эллу Августин (его любовница). Испытывая серьезные финансовые затруднения, Сафран решил поправить дела с помощью фокуса со страховкой и имитацией своей смерти (на эту мысль, кстати, его натолкнуло сообщение о преступлении Тецнера). По примеру Тецнера Сафран и его команда стали разъезжать по пригородному шоссе в поисках одиноких путников.
Так же, как и Тецнера, с первым «кандидатом» их постигла неудача. Им удалось заманить к себе в автомобиль случайного прохожего, некоего Фридеричека. Кипник ударил его кастетом по голове, тяжело ранил, но потом, в самую решительную минуту, когда осталось довершить начатое и добить свою жертву, у Сафрана сдали нервы. «Потеряв присутствие духа» – как выразился газетный обозреватель, – он резко затормозил, и Фридеричек, обливаясь кровью, выскочил из автомобиля. Перепуганный Сафран дал газ, и преступники скрылись, оставив лежать окровавленного Фридеричека на пустынном шоссе.
Следующей жертвой неутомимой троицы стал рабочий по фамилии Даль, застреленный то ли Сафраном, то ли Кипником (на судебном процессе, ход которого подробно освещал «Руль» и другие эмигрантские газеты17, оба до последнего сваливали вину друг на друга). Труп Даля положили в одну из комнат мебельной фабрики, которую затем подожгли. Рядом с телом бросили часы Сафрана. Все шло очень удачно и гладко для преступников: благодаря часам тело, найденное в сгоревшей фабрике, приняли за убитого Сафрана, который тем временем готовился незаметно покинуть Германию. Он уже купил билет, сел в поезд и – горькая насмешка судьбы! – столкнулся там с человеком, хорошо его знавшим. Он был опознан и арестован. Вскоре были схвачены и его сообщники, чья дальнейшая судьба нас мало интересует18.
***
Ознакомившись с фабулой двух реальных преступлений, мы видим: оснований для того, чтобы обвинить Германа Карловича в плагиате, более чем достаточно. Слишком много схожих моментов сразу бросается в глаза, особенно если вспомнить дело Тецнера: двухместный автомобиль, в котором, мирно беседуя, разъезжают убийца и его будущая жертва, переодевание «двойника», наконец, время и место преступления: и в жизни, и в романе – это март 1931 года19, уединенное пригородное шоссе у леса. (В пользу того, что Герман учел опыт своих предшественников, говорит следующий факт: Набоков начал писать «Отчаяние» примерно в июне 1932 года20, то есть спустя сравнительно небольшой временной отрезок после того, как в газетах появились сообщения о злодеяниях Тецнера и Сафрана.)
Правда, вот мотивы убийства… Недаром Герман Карлович, болезненно переживающий то, что «досужие борзописцы, поставщики сенсаций, строящие свои балаганы на крови», отзывается о своих предшественниках с нескрываемым презрением: «Был, например, такой, который сжег свой автомобиль с чужим трупом, мудро отрезав ему ступни, так как он оказался не по мерке владельца. Да, впрочем, черт с ними! Ничего общего между нами нет».
И по большому счету Герман прав! Несмотря на сходство преступлений, между утонченным набоковским эстетом и его низменно корыстными прототипами действительно мало общего уже хотя бы потому, что денежный куш меньше всего интересовал Германа, озабоченного прежде всего совершенством и изяществом своего «вечно правдивого произведения», о чем он сам не раз с гордостью говорит читателям: «Знаю, знаю, – оплошно с беллетристической точки зрения, что в течение всей моей повести (насколько я помню) почти не уделено внимания главному как будто двигателю моему, а именно корысти. Как же это я даже толком не упомянул о том, на что мертвый двойник был мне нужен? Но тут меня берет сомнение, уж так ли действительно владела мною корысть, уж так ли мне было важно получить эту довольно двусмысленную сумму (цена человека в денежных знаках, посильное вознаграждение за исчезновение со света) <…>. Я, гениальный новичок, еще не вкусивший славы, столь же самолюбивый, сколь взыскательный к себе, мучительно жаждал, чтобы скорее это мое произведение, законченное и подписанное девятого марта в глухом лесу, было оценено людьми, чтобы обман – а всякое произведение искусства обман – удался; авторские же, платимые страховым обществом, были в моем сознании делом второстепенным. О да, я был художник бескорыстный».
Еще Владислав Ходасевич указывал на то, что преступление Германа – как и шахматная мания Лужина, другого набоковского мономана, – прозрачная метафора художественного творчества. Безумный убийца, без тени сомнения усматривающий в другом человеке (пусть даже таком ничтожном, как Феликс) лишь податливого «большого мягкого истукана», послушное орудие, «ветошку», – прежде всего взыскательный художник, мучимый «изощреннейшим желанием» бескорыстного творчества, мыслящий свое преступление как чисто эстетический феномен, недосягаемый образец изысканно-утонченного обмана, «дивное произведение» высокого искусства.
О том, что артистическую натуру Германа Карловича давно сжигает неотвязный зуд «изысканного самоистязания» творчеством, в романе говорится вполне определенно. В детстве Герман сочинял стихи и длинные истории, «ужасно и непоправимо, и совершенно зря порочившие честь знакомых». В гимназии, из той же необоримой страсти к «вдохновенной лжи», он «творчески перерабатывает» сюжеты классических произведений, виртуозно выворачивая их наизнанку: при пересказе пушкинского «Выстрела», например, он «без лишних слов» убивает противника Сильвио, а вместе с ним и всю фабулу. (В английской версии романа Герман проделывает нечто похожее с «Отелло».) Об этой же страсти говорят и многочисленные примеры «литературных забав» Германа: изящная пародия на Бальмонта из третьей главы, «псевдоуайльдовская сказочка» из шестой, да и сам текст романа, тождественный тексту той исповедальной повести, которую Герман Карлович пишет в надежде спасти репутацию великого художника и пояснить непонятливому человечеству, в чем заключается оригинальность и глубина его криминального шедевра.
Вынашивая свой замысел, Герман рассчитывал на гораздо большее, чем просто получить крупную сумму по страховому полису. Убивая Феликса, он не только хотел самоутвердиться как художник и, показав всему миру божественное всемогущество своего творческого дара, доказать свою гениальность и исключительность, но и страстно желал изменить свою тусклую жизнь, придать ей смысл и значение, бежать от самого себя, от навязанной ему роли благополучного обывателя, тупо довольного уютным убожеством окружающего мира: «глупой, но симпатичной» женой, новеньким автомобилем, прекрасным пищеварением и даже «круглым, натуженным, седовласым кактусом», «успешно, хоть и медлительно» растущим на балконе «славной» мещанской квартиры.
Уничтожить с помощью опрокинутого самоубийства свою изношенную, опошленную оболочку, низшую, оподлившуюся часть своего «я» и, волшебно обманув судьбу, остаться при этом в живых, воскреснуть в двойнике для новой, более полной и осмысленной жизни, самому стать ее полновластным творцом и хозяином – такова была заветная цель Германа. Стремление к ослепительной минуте «творческого торжества, гордости, избавления, блаженства», к «какой-то необыкновенной, ликующей, все разрешающей» точке высшего бытия, а не к «двусмысленной сумме» по страховому полису – это одухотворяло бредовый замысел набоковского мономана, образ которого, конечно же, слишком сложен и трагичен, чтобы мы могли исчерпать его сравнением с двумя посредственными немецкими преступниками, чьи имена выужены мной из небытия лишь по чистой случайности. Да и сам жизненный факт, заимствованный Набоковым из газетной хроники, подвергся настолько мощной творческой переплавке, что, войдя в сюжетную основу романа, потерял малейший привкус унылого жизнеподобия и банальной фактографичности. (Не случайно многие современники Набокова, его эмигрантские собратья по литературному труду, восприняли «Отчаяние» как откровенно фантастическую, целиком «выдуманную» историю.)21
В своем романе Набоков кардинально переосмыслил примитивный сценарий преступления, предложенный Тецнером и Сафраном, если и пожертвовав при этом кое-где внешним правдоподобием, то во имя высшей правды той железной логики абсурда, которая управляет миром и обусловливает человеческую жизнь. В то время как реальные преступники, имитируя свою смерть, тщательно скрывали факт несходства со случайными «двойниками», уродуя, сжигая их трупы, набоковский мономан одержим идеей сходства с Феликсом и на протяжении всего повествования настаивает на этом сходстве (даже тогда, когда уже самому недогадливому читателю становится ясно, что он убил и переодел в свою одежду совершенно не похожего на него человека).
Оттолкнувшись от вполне заурядного уголовного происшествия, Набоков, этот «фокусник» от литературы, бездуховный «формалист», якобы озабоченный лишь совершенством своих словесных аттракционов, этот «канатоходец», как часто его любят называть с любезной подачи одного англизированного поэта-лауреата, создал оригинальный роман-притчу, где осмысляется целый ряд философских, нравственных, экзистенциальных проблем, проходящих через всю русскую литературу. Именно поэтому для более глубокого проникновения в образ Германа Карловича, преломившего в себе такие фундаментальные темы русской литературы, как «гений и злодейство», «преступление и наказание», а также для того, чтобы полнее представить идейно-художественное своеобразие романа в целом, необходимо обратиться к литературным предшественникам набоковского героя. Полноценный анализ образа Германа Карловича немыслим без сопоставления с такими его литературными прототипами, как Герман, неудачливый злодей из «Пиковой дамы», «одержимые» герои Достоевского, ницшеанствующий доктор Керженцев из рассказа Леонида Андреева «Мысль», гоголевский Поприщин и, отчасти, Акакий Акакиевич, как и набоковский убийца придающий, в общем-то, заурядному событию статус грандиозного метафизического действа.
Особенно очевидна близость Германа «надзвездным мечтателям» Достоевского, прежде всего – бескорыстному убийце-теоретику Раскольникову (о «карикатурном сходстве» с которым подсознательно догадывается и сам Герман Карлович) и закомплексованному философу из «Записок из подполья», в напряженной, исповедально-истеричной повествовательной манере которого есть много общего с взвинченным, «кривляющимся» стилем набоковского протагониста. (Не случайно первая редакция «Отчаяния» имела эпиграф из Достоевского и рабочее название «Записки мистификатора», прямо отсылающее к «Запискам…» подпольного парадоксалиста22.)
Впрочем, тема литературных предков набоковского героя слишком обширна и требует отдельного серьезного разговора. «Это могло бы составить тему нового рассказа, – но теперешний рассказ наш окончен» – так, по примеру Ф.М. Достоевского, можно было бы завершить наше криминально-литературоведческое приключение, если бы не оставался еще один важный прототип Германа Карловича. Ничего не сказать о нем я не имею права, ибо это – сам «Пимен всей криминальной летописи»… Прошу любить и жаловать: Владимир Владимирович Набоков!
***
Хочу успокоить читателей, напрасно, совершенно напрасно всполошившихся из-за этого неожиданного сюжетного поворота: у меня нет ни малейшего желания прямолинейно отождествить Набокова с его злополучным героем, по примеру иных, не слишком разборчивых критиков, не видящих никакой разницы между точкой зрения повествователя романа, реальной биографической личностью писателя, его «публичным имиджем», «литературной маской» и, наконец, имплицитным автором, главной оценочной инстанцией художественного произведения.
К тому же Набоков, писатель скрытный, всегда упорно защищавший неприкосновенность своего внутреннего мира и своей личной жизни, едко высмеивал излишне «наивных» критиков, смело ставящих знак равенства между ним и его героями23. Опытный мистификатор, виртуоз перевоплощения, он поставил подобных умников в сложное положение: любители четких схем и навязчивых параллелей, литературные сыщики и специалисты по окололитературной сексопатологии целыми стадами озадаченных буридановых ослов трагически разрываются между соблазнительными, исключающими одна другую версиями. В самом деле, что лучше: признать Набокова гомосексуалистом – в оглядке на пылкого ураниста Кинбота, одновременно Дедала и Минотавра набоковского лабиринта в прозе под названием «Бледный огонь»? Или обвинить в педофилии, ссылаясь на злополучного нимфетколюба Гумберта Гумберта? Или просто объявить сумасшедшим, сексуально неудовлетворенным невротиком, уподобив центральному персонажу пьесы «Изобретение Вальса»?
По примеру Гюстава Флобера, любившего сравнивать себя с улиткой, спасающейся от грязи и жестокости мира в своей раковине, Набоков-прозаик старался избегать исповедальности и интимных излияний; «совершенный диктатор» в «приватном мире» литературного произведения, он всегда дистанцировался от героев и называл их не иначе как «послушные марионетки», «галерные рабы».
Все это так: литературные персонажи не исчерпывают содержания творческого «я» художника, а тем более не объясняют его реальную биографическую личность. Однако известно и другое: бледные призраки литературных персонажей питаются кровью своих создателей, «послушные марионетки» порой проговариваются, невольно разбалтывая сокровенные тайны всесильного кукловода. Поэтому все вышесказанное только обостряет желание сблизить фигуры Владимира Владимировича и Германа Карловича, доказать то, что кое в чем они – «одного поля ягодки», что в «Отчаянии» скрытный и сдержанный Набоков позволил себе порезвиться на краю глубоко личной пропасти.
Столпник эстетизма, утративший способность различать границу между искусством и действительностью, протагонист «Отчаяния» во многом является зеркальным отражением Набокова, гротескно преломив в себе черты его «литературной личности» или, точнее, «литературной маски»: пародийно воссоздав особенности той роли, которую писатель разыгрывал в соответствии с законами определенного эстетико-мировоззренческого кодекса, выставляя себя холодным эстетом, капризным снобом и гордецом, самовлюбленным нарциссом, каким он не был в своем творчестве, но каким мы видим его на страницах какого-нибудь жеманного предисловия к собственным произведениям, в том или ином ядовитом критическом эссе или в интервью, в тех бесчисленных интервью, где стареющий, начинающий уже исписываться писатель, теряющий жар, блеск и хватку (если судить по его поздним вещам), нарочито бодро старался показать (подобно известному персонажу Джека Лондона) «брожение закваски».
Многие характерные черты Германа (павлинье высокомерие, подчеркнутое равнодушие к «мерзкой гражданской суете», насмешливое презрение к людям, нарциссическое самолюбование и самовосхваление) позволяют с полным правом назвать его автокарикатурой Набокова.
Наиболее комичные нарциссические заявления Германа предвосхищают некоторые эпатирующие высказывания самого Набокова.
«Если бы я не был совершенно уверен в своей писательской силе, в чудной своей способности выражать с предельным изяществом и живостью…»24 – так начинает свою повесть Герман Карлович. В другом месте читаем: «Нужно признать: восхитительно владею не только собой, но и слогом».
«Я мыслю как гений, я пишу как выдающийся писатель…» – спустя сорок лет вторит ему Владимир Владимирович, открывая этой не очень скромной фразой предисловие к сборнику статей и интервью «Твердые суждения»25.
Помимо всего прочего Набоков наделяет главного героя «Отчаяния» многими особенностями своего эстетического сознания: ироничной насмешливостью, вниманием к выразительной детали, чувством юмора («Горе тому воображению, которому юмор не сопутствует», – говорит он устами Германа Карловича), страстью к словесным перевертышам, каламбурам, пародии.
Как и Владимир Владимирович, Герман Карлович довольно пренебрежительно отзывается о других писателях и люто ненавидит Достоевского, то и дело изливая желчь но поводу «мистического гарнира нашего отечественного Пинкертона» в натужных и неостроумных каламбурах, вроде «Шульд унд Зюне» – «Кровь и слюни». Колкими выпадами против «нашего специалиста по душевным лихорадкам и аберрациям человеческого достоинства» Герман опять-таки предвосхитил ту яростную атаку, которую спустя некоторое время предпринял сам Набоков в лекции о Достоевском, где, открыто заявив о намерении «развенчать Достоевского», подверг его творчество разгромной и откровенно тенденциозной критике26.
Примеров подобных совпадений между «литературной личностью» Набокова и его героем можно привести еще очень много: для этого достаточно рассмотреть, скажем, авторский образ «Других берегов», где «с полной силой сказался феноменальный эгоцентризм Набокова, временами граничащий с дурным вкусом»27.
Автопародийный образ эгоцентричного Германа Карловича, пленника отвлеченной идеи прекрасного и сладостно-мучительных грез об «идеальном» преступлении, в своем стремлении к «творческому» насилию над миром доходящего до полной духовной и нравственной деградации, – лишнее доказательство тому, что Набоков, как и всякий настоящий художник, вполне был способен нарушать правила «литературной игры» (пусть им же и установленные), выходя за сковывающие рамки своего «имиджа», освобождаясь от власти своих же эстетических установок, высмеивая свою же «публичную персону».
Впрочем, есть и другие точки соприкосновения между Набоковым и его героем, уже на более глубоком, экзистенциальном уровне. Это не только страстный прорыв к мрачному величию абсолютной свободы (в начале шестой главы романа), не только мучительный комплекс творческой неполноценности, подсознательная боязнь провала, своей несостоятельности как художника, маскируемая нарочито самоуверенными заявлениями о творческом всемогуществе и неискренним, снисходительно пренебрежительным тоном по отношению к другим писателям, не только «отчаяние творца, не способного поверить в предмет своего творчества» – одна из главных тем, проходящая через лучшие набоковские произведения, как проницательно заметил Владимир Вейдле28, – но и сладкий соблазн солипсизма, необоримый соблазн растворить, расплавить тягостные оковы бытия – весь мир, всех людей – в «священном огне высокого искусства».
Холодок солипсизма, чувство разложения обесценившегося мира, мучительное противоречие между сказочной прелестью грез и отталкивающим безобразием, увы, так никем и не отмененной действительности – все это ощутимо во многих произведениях Набокова, не только в прозе, но и в лирике. Вот, например, мое любимое:
Что за ночь с памятью случилось? Снег выпал, что ли? Тишина. Душа забвенью зря училась: во сне задача решена. Решенье чистое, простое (о чем я думал столько лет?). Пожалуй, и вставать не стоит: ни тела, ни постели нет.Искусство как единственное средоточие жизни, как высшая реальность, перед которой отступает все человеческое – расплывается образ мира, унылыми и вполне условными призраками мельтешат другие люди (им невозможно сострадать, их невозможно понять, их уже нельзя любить – разве можно любить призрачное порождение твоего воображения?!), – взгляд на жизнь как на ряд чисто художественных переживаний всеобъемлющего сознания богоподобного художника, отвергающего «дурные сны земли», – эти идеи, сокровенно близкие Набокову (по сути, основа его эстетического мировоззрения), мучившие, соблазнявшие его на протяжении всего творческого пути, в «Отчаянии», как и в других, наиболее значительных его произведениях («Защита Лужина», «Лолита», «Бледный огонь»), подвергаются суровой проверке и… беспощадному разоблачению.
Крах безумного мечтателя Германа Карловича, эстетически умерщвляющего бытие, без тени сомнения воспринимающего «других» как материал для «произведения искусства», перешедшего ту страшную черту, за которой между ним и любым заурядным головорезом можно смело поставить знак равенства, – это ли не разоблачение идеологии эстетизма, доведенной до своего логического предела?
Трагедия художника, одержимого собственным даром, не способного к творческому выходу из темницы своего «я», – это ли не опасность, угрожавшая самому Набокову, божественно-легкомысленному канатоходцу, обреченному на безумный танец – на зыбком канате, волшебно соединяющем хрупкую реальность сказочно прекрасных грез и несокрушимый мираж этого «темного, зря выдуманного мира».
Волшебная гора. 1994. № 2. С. 151–165.
«ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ ЧЕРНИЛ…»
Владимир Набоков и «Числа»
Шарж Дэвида Левина
Набоков и «Числа»? Согласитесь, достаточно неожиданное, странное сближение, особенно если учесть, что на страницах знаменитого парижского журнала, сплотившего лучшие литературные силы поколения «эмигрантских сыновей», не было напечатано ни строчки из произведений «берлинца» Сирина (его весьма уклончивые и немногословные ответы на анкету о Прусте, помещенные в первом номере «Чисел», в счет, конечно же, не идут)29. К тому же Набоков (Сирин) и «обер-офицеры» «Чисел» (выражение Василия Яновского) Георгий Адамович и Георгий Иванов находились в состоянии необъявленной литературной войны – затяжной, беспощадной войны «до последней капли чернил», которая, в отличие от других аналогичных конфликтов русского зарубежья – например, многолетней критической схватки Адамовича с Владиславом Ходасевичем30 или ожесточенной борьбы за «бедное, потертое кресло первого поэта русской эмиграции» между Георгием Ивановым и все тем же Ходасевичем31, – мало изучена отечественным литературоведением.
Впрочем, стоит ли, в самом деле, по прошествии стольких лет воскрешать былые литературные баталии, вновь сталкивая таких самобытных и по-своему значительных художников, как Георгий Иванов и Владимир Набоков, чье творчество вроде бы никак не зависело от перипетий той или иной литературной войны? «Так ли уж нужны, – как выразился бы Христофор Мортус, – эти экскурсии в область прошлого с их стилизованными дрязгами?»
Думаю, все-таки нужны. И дело тут не в бесстыдном исследовательском любопытстве, падком на пряные лакомства литературных войн и скандалов, чьи отсветы приятно оживляют уже покрывшиеся хрестоматийным классическим глянцем фигуры великих писателей, а в том, что подобные конфликты, как ни бейся, – неотъемлемая часть живой литературной жизни, неоспоримый и, вероятно, необходимый фактор литературной эволюции. Срывающийся тон погромной рецензии, ядовитые критические стрелы, пущенные в противника во время жаркой журнальной перебранки, не только красноречиво свидетельствуют о литературных нравах эпохи или эстетических установках какой-нибудь писательской группировки, но и многое говорят об особенностях творческой индивидуальности и психологии конкретного участника «боевых действий», автора той или иной критической инвективы, причем гораздо более правдиво, чем его же программные заявления или автокомментарии (как правило, являющиеся достоянием «публичной персоны» писателя, точнее – того постулированного им же самим идеального, предельно эстетизированного авторского образа, который вслед за Юрием Тыняновым мы будем называть «литературной личностью»).
Именно поэтому столь важным мне представляется тщательное изучение малоизвестной у нас литературной войны, в которой участвовали, с одной стороны, Владимир Сирин – «самый одинокий и самый заносчивый из всех писателей, вылупившихся за границей» (ироничная набоковская автохарактеристика из книги «Speak, Memory»), щеголявший подчеркнутым равнодушием к «религиозному проникновению и гражданскому пафосу», неустанно дразнивший эмигрантских литераторов эпатирующими заявлениями типа: «к писанью прозы и стихов не имеют никакого отношения добрые человеческие чувства, или турбины, или религия, или “духовные запросы” и “отзыв на современность”»32, а с другой – группировавшиеся вокруг «Чисел» писатели-монпарнасцы, приверженцы совершенно иных взглядов на литературное творчество, утверждавшие, что «любовь к искусству – пошлость, подобная пошлости поисков красивой жизни» (Б. Поплавский), а «литература есть прежде всего аспект жалости» к «малым мира сего», «человеческий документ», «психоаналитическая стенограмма», фиксирующая малейшие движения внутренней жизни художника.
* * *
Начало литературной войны между Набоковым и «Числами» обычно относят к 1930 году (хотя лидеры «Чисел» начали антисиринскую кампанию еще до возникновения этого издания), когда в первом же номере новорожденного журнала появилась разносная статья Георгия Иванова, в которой тот в пух и прах «раздраконил» (любимое словечко одного из набоковских персонажей) «хорошо сработанную, технически отполированную до лоску» прозу В. Сирина, обвинив писателя в эпигонском подражании второстепенным образцам западноевропейской беллетристики: «В “Короле, даме, валете” старательно скопирован средний немецкий образец. В “Защите Лужина” – французский. Это очевидно, это бросается в глаза – едва перелистаешь книги. И секрет того, что главным образом пленило в Сирине критиков, объясняется проcто: “Так по-русски еще не писали”. Совершенно верно, – но по-французски и по-немецки так пишут почти все…»33
Вдобавок ко всему этому Иванов без особых церемоний объявил Сирина литературным самозванцем и причислил его к типу «способного, хлесткого пошляка-журналиста, “владеющего пером” на страх и удивление обывателю, которого он презирает и которого он есть плоть от плоти»34. Найдены были и соответствующие русские литературные предки Сирина: князь Касаткин-Ростовский, Дмитрий Цензор, Анатолий Каменский, Борис Лазаревский… Как видим, Георгий Иванов на славу потрудился, выстраивая литературную генеалогию своего недруга (коронный ивановский прием, с блеском использованный и во время войны с набоковским союзником Владиславом Ходасевичем: уже в следующем номере «Чисел» «Жорж опасный» (так, не без основания, называл Иванова Дон Аминадо) умело навязал сопернику литературное родство с поэтами «второго ряда модернизма», поставив его «в один ряд с такими величинами, как С. Соловьев, Б. Садовской, Эллис, Тиняков-Одинокий»)35.
Справедливости ради надо заметить: обвинения, предъявленные Ивановым «способному» и «хлесткому пошляку-журналисту», не отличались особой оригинальностью и новизной: они лишь повторяли упреки Георгия Адамовича, который, будучи присяжным критиком «Последних новостей», с ревнивым любопытством следил за творчеством «одного из самых интереснейших писателей» эмиграции и, отмечая рассудочную «искусственность», «ремесленность», «назойливую композиционную путаницу» «холодной и опустошенной» прозы Сирина, нередко указывал на его творческую зависимость от иноязычных литературных образцов (при этом, как и Георгий Иванов, не слишком утруждая себя подбором каких-либо веских аргументов и серьезных доказательств): «“Защита Лужина” – вещь западная, европейская, скорей всего французская. Если бы напечатать ее в “Нувель Ревю Франсэз”, например, она пришлась бы там вполне ко двору. Думаю только, что во французском журнале она произвела бы значительно меньшее впечатление, чем в “Современных записках”»36.
Едва ли не единственным «новшеством» в ивановской статье был тот разнузданно-грубый, нарочито вызывающий тон, та безапелляционная резкость суждений (уже без всяких адамовических извинений, оговорок и реверансов), доходящая порой до прямых оскорблений – «самозванец, кухаркин сын, черная кость, смерд», – которые покоробили многих в литературных кругах русской эмиграции.
В эмигрантской печати антисиринский демарш, предпринятый «Жоржем опасным», вызвал резко негативную реакцию. Появились негодующие отклики. Многие высказывали мнение, что Георгий Иванов запятнал своей погромной рецензией критико-библиографический отдел «Чисел»37.
«Числа» ответили «литературными размышлениями» Антона Крайнего (псевдоним Зинаиды Гиппиус), выразившего «искреннее» удивление относительно того, что «сравнительно мягкая, только прямая, заметка Г. Иванова, да еще о таком посредственном писателе, как Сирин, вызывает… бурю негодования»38. Защищая позицию Георгия Иванова и его «очень стройно и прямо выраженное мнение», Зинаида Гиппиус апеллировала к свободе слова и вспоминала литературные нравы Серебряного века, когда «свобода мнений признавалась, и даже если дело шло не о каком-то Сирине, но о Леониде Андрееве»39. «В “Весах”, – авторитетно заявляла Гиппиус, – заметка Иванова показалась бы нежным мармеладом»40.
Стоит ли говорить о том, что выступление Зинаиды Гиппиус было вызвано отнюдь не одним беспокойством за «свободу мнений» в эмигрантской прессе: среди авторов «Чисел» она была самым старым литературным врагом Владимира Набокова, кровно заинтересованным в уничтожении его писательской репутации. Еще в 1916 году, после появления первого стихотворного сборника Набокова – «исключительно плохого», по признанию автора «Других берегов», – Зинаида Гиппиус, встретившись на заседании Литературного фонда с В.Д. Набоковым, отцом начинающего поэта, произнесла «пророческую» фразу, которую потом «лет тридцать не могла забыть»: «Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет».
Между тем, несмотря на возмущенные протесты и обвинения в сальеризме, прозвучавшие во многих изданиях эмигрантской прессы, Георгий Иванов не успокоился и – воспользуемся трогательно-глуповатым жаргоном газетных передовиц эпохи застоя – продолжал нагнетать напряженность в эскалации конфликта. Так, в статье «Без читателя», напечатанной в пятом номере «Чисел», он не удержался от того, чтобы, горестно сетуя на упадок эмигрантской литературы, снова не ужалить своего недруга. Указывая на то, что «Сирин “блестящими” романами роняет “Современные записки” (как мы помним, в этом журнале были опубликованы практически все значительные русскоязычные произведения Набокова) и занимается литературой исключительно с «плоской целью написать “покрепче”», «потрафить» низменным вкусам читательской массы, ищущей в искусстве «развлечения и условности», Георгий Иванов патетически восклицал в конце статьи: «Даже страшно подумать, под какой ослепительный прожектор истории попадем когда-нибудь все мы, и <…> если нам что и зачтется тогда, то уж, наверное, не охрана буквы Ъ и не художественное описание шахматных переживаний»41, – прозрачно намекая на «Защиту Лужина», и без того так немилосердно разгромленную им в предыдущем критическом опусе.
Чуть позже в игру включились и представители «младшего» поколения эмигрантских писателей: поэт и критик Юрий Терапиано и прозаик Bладимир Варшавский – будущий автор одной из лучших книг о русском зарубежье «Незамеченное поколение» (Нью-Йорк, 1956), в которой, кстати, большое место уделено серьезному и вдумчивому разбору набоковского шедевра «Приглашение на казнь». Согласно мемуарам Василия Яновского «Поля Елисейские», Варшавский, «заслуживший репутацию “честного” писателя», написал «ругательную статью о Сирине» с подачи Георгия Иванова. (Если верить тому же Яновскому, спустя двадцать лет, в частной беседе с ним, Варшавский «наивно сокрушался» по поводу того, что пошел на поводу у Иванова.)42
Разумеется, Владимир Варшавский не позволял себе выходок «Жоржа опасного» и придерживался более сдержанного тона – в духе Георгия Адамовича, почти всегда сластившего свои горькие критические пилюли медовыми комплиментами, – однако в целом его отзыв о творчестве В. Сирина не отличался особой дружелюбностью. Как и Георгий Иванов, Варшавский обвинял Набокова в литературной коммерции, причисляя его к «мелкой», но «гибкой и живучей» рace литераторов, «успешно овладевших искусством» писать легко и ни о чем, к породе литературных дельцов, которые сменяют «вымирающую, неприспособившуюся расу» подлинных художников вроде И.А. Бунина. Повторяя основной лейтмотив сиринских недоброжелателей – о бездуховности, холодности, душевной опустошенности писателя, сочетающейся с пристрастием к «литературным упражнениям» и «трюкачеству», – Варшавский писал об «утомительном изобилии физиологической жизненности», отличающей произведения Сирина, о «разлившемся в даль и ширь» половодье ярких красок, выразительных образов и оригинальных стилистических находок, за которым ему виделась лишь «пустота, не бездна, а плоская пустота, пустота как мель, страшная именно отсутствием глубины»43. «Это как бы сырой материал непосредственных восприятий жизни, – развивал свою мысль Варшавский, анализируя роман «Подвиг». – Эти восприятия описаны очень талантливо, но не известно, для чего. Все это дает такой же правдивый и такой же ложный, ни к какому постижению не ведущий образ жизни, как, например, ничего не объясняющее, лишенное реальности графическое изображение движения. Хорошо написано, доставляет удовольствие. Но дальше ничего. Читателя приглашают полюбоваться, и это все. Его никуда не зовут. После чтения в его душе ничего не изменилось. Живописец или кинематографический оператор из Сирина вышел бы, вероятно, очень хороший, но вряд ли ему удастся создать un nouveau frisson44. <…> Темное косноязычие иных поэтов все-таки ближе к настоящему серьезному делу литературы, чем несомненная удача Сирина»45.
В этом же духе была выдержана и рецензия на роман «Камера обскура», появившаяся в последнем номере «Чисел». Автор ее, Юрий Терапиано, авторитетно заявлял следующее: «Чувство внутреннего измерения, внутренний план человека и мира лежат вне восприятия Сирина. Энергия его все время бьет мимо цели, замечательная способность – тратится лишь на то, чтобы с каким-то упоеньем силой изобразительного дара производить лишь поверхностные и потому произвольные комбинации. <…> Резко обостренное “трехмерное” зрение Сирина раздражающе скользит мимо существа человека»46.
Как реагировал на все эти укусы Владимир Набоков? В десятой главе набоковской автобиографии мы можем прочесть, что история с безграмотным, нуждающимся журналистом Л., возжелавшим отблагодарить В.Д. Набокова за какое-то денежное пособие восторженным панегириком о злополучном стихотворном сборнике его сына («Строк пятьсот, сочившихся приторными похвалами», – с ужасом вспоминал автор «Других берегов»), стала «причиной того почти патологического равнодушия к “рецензиям”, дурным и хорошим, умным и глупым», которое якобы навсегда лишило писателя «многих острых переживаний, свойственных <…> авторским натурам».
Соответствовала ли реакция Набокова на атаки «Иванова и К°» этому утверждению? Увы, нет. Видимо, тогда, в начале тридцатых, «патологическое равнодушие» к «дурным» рецензиям еще не грозило Набокову – как не грозило и впоследствии, о чем свидетельствуют и гневные отзывы писателя на книгу его первого «гудмэна» Эндрю Филда47, и ссора с Зинаидой Шаховской, позволившей себе не слишком лестно отозваться о «Лолите»48, и язвительные издевки над фрейдистскими заморочками Уильяма В. Роу, автора одной из первых монографий, посвященных набоковскому творчеству (Nabokov’s Deceptive World. N.Y., 1971)49.
По воспоминанию В.Е. Набоковой, уязвленный разнузданным тоном ивановской статьи (содержащей, помимо всего прочего, оскорбительные намеки на недворянское происхождение матери Набокова), писатель вознамерился вызвать обидчика на дуэль. К счастью для русской литературы, друзья отговорили Набокова от этой затеи и дуэль не состоялась. Это не означало, что Набоков просто-напросто проглотил обиду и отказался от мести. Нет, вызов был принят. Только вот борьбу Набоков перенес в иную, литературную сферу. Отбивая наскоки Георгия Иванова и его союзников, он вел ее чисто художественными, литературными средствами, очень редко опускаясь до журнальной полемики.
Хотя не пренебрегал Набоков и лобовыми критическими атаками на своих противников. Так, в отзыве о тридцать седьмом номере «Современных записок» (за год до ивановского выпада) он боднул Георгия Адамовича, объявив, что «этот тонкий, подчас блестящий литературный критик пишет стихи совершенно никчемные»50, а в ядовитой рецензии на сборник молодых парижских писателей «Литературный смотр» больно задел сразу двух своих заклятых врагов: Зинаиду Гиппиус и Георгия Иванова. Всласть поиздевавшись над Гиппиус – главным редактором сборника, Набоков обрушился на скандальный шедевр Георгия Иванова, «поэму в прозе» «Распад атома»: «…эта брошюрка с ее любительским исканием Бога и банальным описанием писсуаров (могущим смутить только неопытных читателей) просто очень плоха», – и в довершение всего заявил: «…и Зинаиде Гиппиус, и Георгию Иванову <… > никогда не следовало бы баловаться прозой»51.
Гораздо больше, впрочем, от Набокова доставалось молодым «парижанам», даже тем, кто не принимал непосредственного участия в антисиринской кампании. Достаточно было близости к «Числам» и принадлежности к кругу Адамовича и Иванова, чтобы получить от свирепого В. Сирина хорошую трепку. По всей вероятности, именно этими соображениями можно объяснить появление разносной набоковской рецензии на «Флаги», лирический сборник «монпарнасского царевича» Бориса Поплавского, выпущенный издательством «Числа», – рецензии, своей тенденциозностью, глумливостью тона и безапелляционностью суждений перещеголявшей все антисиринские опусы, вместе взятые: «Что тут скрывать – Поплавский дурной поэт, его стихи – нестерпимая смесь Северянина, Вертинского и Пастернака (худшего Пастернака), и все это еще приправлено каким-то ужасным провинциализмом. <…> Как стихотворец Поплавский до смешного беспомощен, – иногда даже кажется <…>, что это четверо не очень образованных людей сыграли в буриме»52.
О том, что эти выпады были вызваны стратегическими соображениями, убедительно говорят горькие признания, сделанные Набоковым по прошествии некоторого времени. В «Других берегах» он кается в том, что в своих «посредственных критических заметках» «слишком придирался к ученическим недостаткам Поплавского и недооценил его обаятельных достоинств». В последней англоязычной версии своей автобиографии писатель был еще более эмоционален: «Я не встречал Поплавского, который умер молодым, дальняя скрипка среди близких балалаек. <…> Его гулких тональностей я никогда не забуду, и никогда я не прощу себе раздражительной рецензии, в которой нападал на него за тривиальные ошибки в его неоперившемся стихе»53. А еще раньше, почти сразу после переезда в США, в письме к одному из своих новых американских знакомых, Джеймсу Лафлину, он назвал Бориса Поплавского выдающимся поэтом и советовал включить его стихи в готовящуюся антологию русской поэзии54.
Но в боевые тридцатые Набоков не церемонился ни с Поплавским, ни с другими монпарнасцами – например, с Василием Яновским, чей роман «Мир» – «скучный, шаблонный, наивный, с парадоксами, звучащими как общие места, с провинциальными погрешностями против русской речи, с надоевшими реминисценциями из Достоевского…» – он безжалостно растерзал в очередной рецензии55.
И все-таки гораздо чаще Набоков прибегал к более изощренным методам литературной борьбы. Со своими врагами он расправлялся при помощи многочисленных пародий, мистификаций, издевательских каламбуров, ироничных замечаний и колких намеков. Уже вскоре после появления «сравнительно мягкой, только прямой, заметки» Георгия Иванова в «Руле» было опубликовано стихотворение, выданное Набоковым за перевод из поэмы «Ночное путешествие» некоего Вивиана Калмбруда. В стихотворении (истинное авторство которого определялось достаточно просто, так как имя мифического поэта – Vivian Calmbrood – представляло собой англоязычную анаграмму имени и фамилии Набокова) доставалось и Георгию Владимировичу – «Дни Ювенала отлетели. / Не воспевать же, в самом деле, / как за крапленую статью / побили Джонсона шандалом? / Нет воздуха в сем мире малом…», – и Георгию Викторовичу, регулярно терзавшему набоковские творения в четверговых подвалах газеты «Последние новости»:
К иному критику в немилость я попадаю оттого, что мне смешна его унылость, чувствительное кумовство, суждений томность, слог жеманный, обиды отзвук постоянный, а главное – стихи его. Бедняга! Он скрипит костями, бренча на лире жестяной, он клонится к могильной яме адамовою головой…Чуть позже неутомимый Набоков изготовил еще одну симпатичную поэтическую бомбочку, предназначенную на этот раз специально для Георгия Иванова:
«Такого нет мошенника второго во всей семье журнальных шулеров». Кого ты так?– «Иванова, Петрова. Не все ль равно…» – «Постой, а кто ж Петров?»Хорошо известна и забавная ловушка, в которую коварный Набоков заманил потерявшего бдительность Георгия Адамовича: стихотворение «Поэты», опубликованное под псевдонимом Василий Шишков. В своем отзыве об этом стихотворении56 «почтенный критик» (всегда довольно кисло принимавший лирику В. Сирина) «с таким красноречивым энтузиазмом приветствовал появление «таинственного нового поэта», что Набоков – цитирую его примечание к «Поэтам» из книги «Poems and Problems» – «не мог удержаться от того, чтобы не продлить шутку», описав свои встречи с несуществующим поэтом в рассказе «Василий Шишков», «в котором, среди прочего изюма, был критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича».
Но самым излюбленным средством, использовавшимся Набоковым в борьбе против «Жоржей» и их монпарнасских клевретов, было создание сатирических персонажей, за нарочито окарикатуренными образами которых легко угадывались реальные прототипы. Здесь больше всего доставалось многострадальному Георгию Адамовичу, появлявшемуся у Набокова то в роли Христофора Мортуса – зловредной критикессы, не оставившей камня на камне от «сказочно остроумного сочинения» Годунова-Чердынцева, то в сатирическом образе влиятельного литературного критика Жоржика Уранского – продажного писаки из романа «Пнин», в одном из своих feuilleton воспевшего (за кругленькую сумму, разумеется) вирши бездарной Лизы Пниной, «на чьи каштановые кудряшки он преспокойно возложил поэтическую корону Анны Ахматовой»57, – то в обличье Адама Антроповича, «незабвенного лидера» «талантливых, необразованных новых критиков-интуитивистов», – проходного персонажа из последнего набоковского романа «Look at the Harlequins!». He забудем упомянуть и язвительный пассаж из тринадцатой главы «Других берегов» о «даровитом, но безответственном» лидере одной из литературных группировок «русского Парижа», совмещавшем «лирику и расчет, интуицию и невежество, бледную немочь искусственных катакомб и роскошную античную томность».
Непосредственное отношение к теме прототипов набоковских персонажей имеет рассказ «Уста к устам», трагикомическая история о коммерсанте Илье Борисовиче, который под старость разродился на редкость бездарным романом, густо начиненным замусоленными литературными штампами и клише сентиментальной бульварной беллетристики.
Возжелав опубликовать свое творение (названное «Уста к устам» – отсюда и название набоковского рассказа), доверчивый Илья Борисович попадается на удочку двум ловким дельцам от литературы – критику Евфратскому и писателю Галатову, редактору элитарного парижского журнала «Арион» (сразу же после выхода первого номера оказавшегося на грани закрытия по причинам финансового порядка). Щедро расточая безудержные похвалы автору «подкупающего своей искренностью произведения» (а за глаза глумливо потешаясь над ним), Евфратский и Галатов предлагают Илье Борисовичу напечатать «Уста к устам» в «Арионе» – с тем чтобы, коварно мизерными порциями выпуская злополучный роман, вытянуть у своей простодушной жертвы как можно больше денег для дальнейшего издания журнала.
Присланный в «Последние новости» набоковский рассказ уже был набран для печати, но… В самый последний момент набор был спешно рассыпан – «Уста к устам» не были напечатаны ни в «Последних новостях», ни в каком-либо другом эмигрантском издании того времени. Написанный в начале тридцатых годов, рассказ был опубликован лишь четверть века спустя, войдя в сборник «Весна в Фиальте» (Нью-Йорк, 1956).
Причины? Да все в той же необъявленной войне «до последней капли чернил» между Набоковым и «Числами», ибо этот рассказ был одним из самых разительных ударов, нанесенных писателем своим литературным недругам. Изменив несущественные детали, Набоков почти с документальной точностью воспроизвел в нем скандальную историю, прогремевшую в литературном мире русской эмиграции. Главными ее героями были: редактор «Чисел» Николай Оцуп, «обер-офицеры» Георгий Иванов и Георгий Адамович и писатель-дилетант, богатый и удачливый предприниматель Александр Буров (настоящее имя – Александр Павлович Бурд-Восходов), один из тех «несчастных дойных господ, которые, чтоб печататься, должны платить да платить». Как и набоковский герой, он высидел совершенно несъедобный роман (в подтверждение этой оценки позвольте предъявить вам несколько особенно мне понравившихся «перлов» авторского стиля: «подполковник легко мог видеть и слышать разорванные трупы, кровь, стоны агонизирующих…»; «спазмы вдруг перекосили горло и несколько жестких слез застлали выцветшие глаза»). Новоиспеченный опус нужно было где-нибудь издать, и вот тут-то его автор был взят в оборот предприимчивыми «Жоржами», чей журнал, подобно «Ариону» рассчитанный на «требовательного читателя», из-за финансовых трудностей стоял в то время перед угрозой закрытия. За соответствующую денежную помощь буровский роман «Была земля» – повторяю, явно не блещущий художественными достоинствами – был напечатан в «журнале авангардистов новой послевоенной формации» (так называл «Числа» Борис Поплавский), причем при тех же комических обстоятельствах, что и опус Ильи Борисовича. Первый отрывочек буровского романа, напечатанный в пятом номере «Чисел», был всего в три странички, точно так же, как и в случае с бессмертным творением набоковского героя. В шестом номере «Чисел» предыдущий отрывок получил название «пролог к роману» – точно такой же трюк проделали с убогим детищем Ильи Борисовича и издатели «Ариона», сатирическими образами которых Набоков отомстил своим заклятым литературным врагам, показав их беспринципность и делячество. Получили свое и Георгий Викторович, чья благожелательная рецензия на отдельное издание романа «Была земля» (что самое приятное, помещенная в том же номере, где продолжал печататься буровский «шедевр»)58, вероятно, послужила образцом для лицемерных похвал Галатова роману Ильи Борисовича, и Георгий Владимирович (судя по воспоминаниям современников, он был одним из самых активных действующих лиц этой трагикомедии)59, чьи коварные повадки и, главное, внешность Набоков подарил неразборчивому в средствах Евфратскому: «тощий, густобровый, с двумя брезгливыми складками, идущими от рысьих ноздрей к опущенным углам рта, из которого косо торчит еще незажженная папироса». (А теперь возьмите томик ивановского собрания сочинений и взгляните на суперобложку, на хрестоматийно известный анненковский портрет Георгия Иванова… Сходство-то изумительное, господа!)
Именно из-за своей злободневности, из-за своего – как это ни странно звучит в применении к Набокову – обличительного пафоса «Уста к устам» были опубликованы лишь с четвертьвековым опозданием, когда «все, в ком можно было заподозрить отдаленное сходство с действующими лицами этого рассказа, благополучно и бесследно умерли»60.
* * *
Мы достаточно подробно рассмотрели ход боевых действий одной из самых ожесточенных литературных войн русского зарубежья. Настало время поговорить о причинах, вызвавших этот многолетний конфликт, а заодно и выяснить истинные мотивы, которыми руководствовались его участники.
«Войти в литературу – это как протиснуться в переполненный трамвай. А заняв место, вы в свою очередь норовите спихнуть вновь прицепившегося», – может быть, любимое изречение Георгия Иванова (его приписывают Гумилеву) и раскрывает суть той многолетней свары, в которую были втянуты Набоков и «парижане», сплотившиеся вокруг «Чисел»? Не объясняется ли все это – бесконечные взаимные нападки и обвинения, колкости, язвительные шутки, переходящие порой все рамки приличия, – с одной стороны, элементарной завистью Иванова и его союзников-монпарнасцев к более удачливому и плодовитому – неприлично плодовитому! – современнику, одним своим существованием опровергавшему все разговоры о «конце литературы» и исчерпанности искусства, а с другой – агрессивным нарциссизмом и чудовищным высокомерием Владимира Набокова, принадлежавшего, по мнению Василия Яновского, «к тому весьма распространенному типу художников, которые чувствуют потребность растоптать вокруг все живое, чтобы осознать себя гениями»61? Впрочем, сам Яновский (а его-то уж вряд ли можно заподозрить в набокофильстве) объяснял причины «безобразной травли Сирина в “Числах”» именно завистью62. Этой же точки зрения придерживалась и Нина Берберова, ехидно отмечавшая «печальную неподготовленность» писателей «младшего поколения» «к самой возможности возникновения в их среде чего-то крупного, столь отличного от других, благородного, своеобразного, в мировом масштабе – значительного, в среде все-европейских Башмачкиных»63.
Многие склонны видеть источник конфликта исключительно в интригах «Жоржа опасного», разозленного издевательской рецензией Набокова на роман Ирины Одоевцевой «Изольда». Во всяком случае, сам Набоков в одном из интервью, а также в письмах к Эдмунду Уилсону и Глебу Струве объяснял ивановские выпады именно этим: «Единственным поводом к этой атаке было следующее. Мадам Одоевцева послала мне свою книгу (не помню, как называлась – “Крылатая любовь”? “Крыло любви”? “Любовь крыла”?) с надписью: “Спасибо за «Король, дама, валет»” (то есть спасибо, дескать, за то, что я написал “Короля, даму, валета” – ничего ей, конечно, я не присылал). Этот роман я разбранил в “Руле”. Этот разнос повлек за собой месть Иванова. Voila tout»64.
Набоковскую версию безоговорочно, как им и положено, поддержали практически все набокоеды65, априори исключившие возможность того, что язвительный набоковский отзыв об «Изольде» был только поводом для развертывания Георгием Ивановым крупномасштабной антисиринской кампании. К тому же сторонники данной версии не учли одного важного факта: первая критическая атака на Набокова была предпринята Ивановым за два года до инцидента с романом Одоевцевой – в отзыве на тридцать третий номер «Современных записок»; разбирая стихотворный отдел журнала, он жестоко раскритиковал «Университетскую поэму» В. Сирина, уничижительно назвав ее «гимназической»: «Такими вялыми ямбами, лишенными всякого чувства стиха, на потеху одноклассников, описываются в гимназиях экзамены и учителя. Делается это, нормально, не позже пятого класса. Сирин несколько опоздал – он написал свою поэму в Оксфорде»66.
Как бы ни была сильна обида Георгия Иванова за высмеянный роман Одоевцевой, каким бы он ни был «зловредным интриганом», как бы ни был оскорблен Набоков «очень стройно и прямо выраженным мнением» Иванова, какие бы эмоции и чувства ни были здесь примешаны, безусловно, помимо соображений о мести, борьбы уязвленных самолюбий и хищного стремления столкнуть потенциального соперника с подножки переполненного литературного трамвая, помимо зависти (хотя какая там может быть зависть у поэта к прозаику? ведь, как ни крути, тогда, в 1930-е, Набоков всерьез воспринимался только как прозаик), помимо личной неприязни (настолько сильной, что во время одного из своих приездов в Париж Набоков, случайно встретив Иванова на квартире у И.И. Фондаминского, демонстративно не подал ему руки)67, – помимо всего этого существовали иные, куда более веские основания и для непримиримой вражды Иванова и Набокова, и для возникновения многолетней литературной войны, втянувшей ведущих авторов «Чисел».
Как справедливо замечал Борис Поплавский: «Журнал не есть механическое соединение людей и талантов, людей даже самых крупных, талантливых, даже первоклассных. Журнал есть идеология или инициатива идеологии»68. Исходя из подобного понимания феномена «Чисел» (а именно этот журнал имел в виду Поплавский), едва ли мы сможем согласиться с теми, кто в качестве главной причины исследуемого нами конфликта будет выставлять козни Георгия Иванова, обиду Набокова или личные свойства соперников. Многие особенности войны «до последней капли чернил» позволяют говорить не только о столкновении двух не слишком симпатизирующих друг другу творческих личностей, не только об интригах и зависти, но и о противоборстве антагонистичных эстетико-философских мировоззрений, если хотите – литературных идеологий.
Безусловно, эстетические взгляды Набокова и «парижан» в чем-то совпадали. И Набоков, и авторы «Чисел» неизменно отстаивали принцип свободного творчества и ратовали за искусство, не зависящее ни от «политического террора эмигрантщины» и «невыносимого лицемерия общественников» (Б. Поплавский), ни от «тяжеловесных проповедей» профессиональных моралистов и патентованных пророков. «Навязывать искусству воспитательные задачи – значит ошибаться в его природе, именно в свободе искусства, и только в ней, есть что-то высоко моральное», – нет, это не Набоков, но, думаю, под этой фразой, взятой из статьи Николая Оцупа69, писатель охотно бы поставил свою подпись (если бы ему не сказали, что ее автор – главный редактор «Чисел»).
Живя в двух сосуществовавших мирах – русском прошлом и эмигрантском настоящем, – и Набоков, и его «идеологические противники» из «Чисел» в равной степени вбирали в себя культурные и философские традиции России и Запада. Открещиваясь от литературных староверов, с их «бесконечными описаниями березок» (Б. Поплавский), они живо откликались на новые веяния европейской литературы, поклонялись одним и тем же «литературным богам»: Прусту, Джойсу, Кафке… Наконец, их объединяла – должна была объединять! – общая судьба никому не нужных, полунищих эмигрантских литераторов, отвергнутых родиной. Общими были многие темы и сквозные мотивы их произведений: тема герметичного одиночества современного человека, «не могущего приспособиться не только к какой-либо социальной среде, но и ни к какому вообще общению с людьми» (В. Варшавский), мучительное чувство любви-ненависти к России, «бремя памяти» (М. Кантор), позволяющей вызвать из небытия драгоценные подробности прошлого и преодолеть безличное течение повседневной действительности, и т.д.
И в то же время слишком многое – как в плане эстетических взглядов и мировоззренческих принципов, так и в плане творчества – разделяло Набокова и его парижских собратьев по перу непреодолимой стеной враждебного отчуждения.
Не секрет, что Набоков резко отрицательно относился к основным эстетическим положениям «парижской ноты» – поэтического и философского мироощущения, которое, при всей своей зыбкости и неопределенности, претендовало на роль литературной идеологии и в целом разделялось большинством литераторов, определявших творческое лицо «Чисел». Формальный аскетизм «парижан», их стремление «откровенно покончить с фетишизмом “художественной цельности”», с гипнозом «совершенства» (Г. Адамович), отказ от всякой «красивости», «кукольной безмятежности», «музейного благополучия» «хорошо сделанных» по классическим рецептам произведений, равно как и от безоглядного новаторства – во имя исповедальности и беспредельного самораскрытия внутреннего «я» писателя, апология безыскусности «человеческого документа», – все это было глубоко чуждо Набокову, разделявшему, вслед за Владиславом Ходасевичем, мысль о необходимости бесстрастной холодности и разумной уравновешенности художника.
«Нет ничего более убогого, чем вкладывать в искусство свои личные переживания»; «поэзия не должна быть пеной сердца» – в соответствии с этими флоберовскими аксиомами Набоков старался избегать в своих книгах исповедальности и интимных излияний, всегда тщательно маскировал неизбежно прорывавшиеся откровения с помощью всепроникающей иронии, отстраненности авторского образа от эмоционально-оценочной позиции персонажей, сложной игры с «ненадежными повествователями», вроде Смурова и Германа Карловича, и т.п. Поэтому все призывы к «простоте» и дневниковой исповедальности, звучавшие со страниц «Чисел» в программных статьях Адамовича или Поплавского (и находившие затем воплощение в произведениях поэтов «парижской ноты» и писателей-монпарнасцев), вызывали у Набокова ироничную усмешку. Не случайно в статье, посвященной Владиславу Ходасевичу, он горько сетовал на господство в эмигрантской литературе «того особого задушевного отношения к поэзии, при котором от нее самой, в конце концов, остается лишь мокрое от слез место»70.
«Искусство, подлинное искусство, цель которого лежит напротив его источника, то есть в местах возвышенных и необитаемых, а отнюдь не в густо населенной области душевных излияний, выродилось у нас, увы, в лечебную лирику, – утверждал в той же статье Набоков. – И хоть понятно, что личное отчаяние невольно ищет общего пути для своего облегчения, поэзия тут ни при чем, схима или Сена компетентнее»71.
Болезненное переживание разлада между творческой личностью и миром, «чуткость к омертвению, охватывающему все большие слои культурных тканей»72, «коллективное уныние» монпарнасцев – для Набокова, как и для его литературного союзника Владислава Ходасевича, все это было лишь мазохистской демонстрацией собственной творческой неполноценности, опасной – и порядком поднадоевшей – игрой в декаданс, «сладострастным смакованием безнадежной обреченности», «сознательным, хоть надрывным и истерическим растрачиванием какой бы то ни было веры во что бы то ни было – прежде всего веры в <…> поэзию»73. Вспомним, какую уничижительную оценку дал Набоков русскому Монпарнасу в «Других берегах»: «В этом мирке, где царили грусть и гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом тлеющих лириков, общим местом с наружным видом плеяды…»
Весьма скептически Набоков относился и к мистико-религиозным исканиям монпарнасцев, с их «метафизическим беспокойством» и «религиозной напряженностью духа». Несмотря на то что тема «потусторонности», тайного знания «какой-то абсолютной правды, разящей величием и при этом почти абсолютной в силу высшей своей простоты» проходила через все творчество Набокова и напряженное чувство сверхреального одухотворяло лучшие его произведения (прежде всего «Приглашение на казнь» и «Ultima Thule»), писатель с нескрываемым сарказмом отзывался о «чересчур стройных» мистических видениях, отличавших творчество многих монпарнасцев (особенно, конечно, Бориса Поплавского).
Подчинение художественных произведений прямолинейным решениям сложнейших метафизических проблем, самоуверенно-фамильярные рассуждения о «горних делах» или сомнительные откровения о мистическом сопереживании «мировому Абсолюту» неизменно вызывали у Набокова глухое раздражение, которому он давал выход в язвительных литературных пародиях на оккультную литературу, на туманные пророчества счастливцев, находящихся в коротких отношениях с влиятельными потусторонними деятелями (рассказы «Занятой человек» и «Сестры Вейн», отчасти – повесть «Соглядатай»), или в своих задиристых рецензиях довоенного периода, например, в уже упоминавшемся отзыве на «свободный сборник» монпарнасцев «Литературный смотр»: «Попытки Терапиано, Кельберина и Мамченко разрешить побольше метафизических задач с наименьшей затратой мысленной энергии литературными достоинствами не богаты; зато в этих горних облаках ютится самая дрянная злободневность, вроде того, как альпинист находит на казавшейся неприступной скале рекламу автомобильных шин»74.
Стоит привести и характерный ответ, данный Набоковым в одном из интервью на лобовой вопрос: «Верители вы в Бога?»: «Я знаю больше того, что могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выражено, не знай я большего».
Со своей стороны Набоков («чудовище» – по известному бунинскому определению) не мог не отталкивать «парижан» намеренно вызывающим поведением своей «литературной личности», старательно выстраивавшимся в соответствии с типом литературного поведения, выработанным в европейской литературе к концу XIX века. Экстравагантный – и несколько архаичный для двадцатых–тридцатых годов нашего столетия – имидж «чистого художника», отрешенного от «мерзкой гражданской суеты» (выражение Германа Карловича, главного героя и одновременно набоковской автопародии из романа «Отчаяние»), стоящего «выше мира и страстей» и глубоко равнодушного к «радостям и бедствиям человеческим», не мог не раздражать монпарнасцев, воспитанных Адамовичем в духе неприятия малейшей искусственности и «игры» как в творчестве, так и в литературном поведении. Мечтая о полном слиянии жизни и творчества, стремясь «расправиться <…> с отвратительным удвоением жизни реальной и описанной» (Б. Поплавский), монпарнасцы (да и не только одни они) никак не могли разглядеть за малоприятным набоковским имиджем капризного эстета и сноба, с неизменным презрением отзывающегося о своих литературных предшественниках и писателях-современниках, истинное творческое «я» писателя, которое реализовывалось в конкретных литературных произведениях, причем зачастую вопреки его же броским эстетическим декларациям и мировоззренческим принципам (особенно явно – в повести «Соглядатай» и романе «Отчаяние», где «безыдейный формалист» и «бездушный эстет» обратился к нравственно-философской проблематике русских классиков XIX века, в том числе и ненавистного ему Ф.М. Достоевского).
Эстетизм Набокова, с его пониманием искусства и литературы только как забавной, ни к чему не обязывающей игры, та роль, которую Набоков – в оглядке на Оскара Уайльда и Нормана Дугласа – прилежно исполнял на протяжении всей писательской карьеры (с особым рвением и целеустремленностью – в поздний период своего творчества, в эпоху «Ады» и «Твердых суждений»), взгляд на художественное творчество как на сочинение «причудливых загадок с изящными решениями», – всё это не могло не раздражать и главного застрельщика разбираемого нами конфликта, Георгия Иванова. Отдав в свое время – в эпоху «директориата» эгофутуризма и гумилевского «Цеха поэтов», «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов», «Отплытья на о. Цитеру» и «Горницы» – немалую дань идеям «чистого искусства», в эмиграции, во время своего «судорожного перерождения» из искусного мастера, автора игриво-декоративной лирики, воспевающего «мечтательные закаты Клода Лоррена» или «легкие созданья Генсборо», в певца эмигрантской трагедии, «поэта Великого Русского Распутья» (К. Померанцев)75, обладающего «гениальным даром интимности» и «талантом двойного зрения», умеющего «тихим шепотом, почти на ухо сказанным, прорезать человека как бритвой» (Р. Гуль)76, Георгий Иванов преодолел, перерос свой юношеский эстетизм, более того, язвительно высмеял былые идеалы в гениальном «Распаде атома» (о котором, как мы помним, с таким пренебрежением отзывался Набоков). Выступив в «Распаде атома» с «рискованным манифестом на тему умирания современного искусства»77, вдоволь поиздевавшись – при поддержке комичных зверьков-размахайчиков – над «массовым петербургским эстетизмом», Иванов открыто полемизировал в своей поэме с Владимиром Набоковым: «Я завидую отделывающему свой слог писателю, смешивающему краски художнику, погруженному в звуки музыканту, всем этим, еще не переведшимся на земле людям чувствительно-бессердечной, дальнозорко-близорукой, общеизвестной, ни на что уже не нужной породы, которые верят, что пластическое отражение жизни есть победа над ней. Был бы только талант, особый творческий живчик в уме, в пальцах, в ухе, стоит только взять кое-что от выдумки, кое-что от действительности, кое-что от грусти, кое-что от грязи, сравнять все это, как дети лопаткой выравнивают песок, украсить стилистикой, как глазурью кондитерский торт, и дело сделано, все спасено, бессмыслица жизни, тщета страданья, одиночество, мука, липкий тошнотворный страх – преображены гармонией искусства».
«Отделывающий свой слог писатель», твердо верящий в то, что «пластическое отражение жизни есть победа над ней»78, – это, конечно, собирательный образ. Однако многое в нем напоминает Набокова, его «литературную личность». По крайней мере – набоковский (сиринский) тип литератора, к которому автор «Распада атома» относится с горько-ироничной насмешкой: «Блаженны спящие, блаженны мертвые. Блажен знаток перед картиной Рембрандта, свято убежденный, что игра теней и света на лице старухи – мировое торжество, перед которым сама старуха ничтожество, пылинка, ноль. Блаженны эстеты. Блаженны балетоманы. Блаженны слушатели Стравинского. Блаженны тени уходящего мира, досыпающие его последние, сладкие, лживые, так долго баюкавшие человечество сны».
Я не случайно дал такую большую цитату: этот отрывок лишний раз подтверждает нашу догадку о том, что одним из главных прообразов представителя «чувствительно-бессердечной» породы был Владимир Набоков (Сирин). Дело в том, что в этом фрагменте иронично обыгрывается концовка одного из ранних набоковских рассказов «Драка» (1925), риторический вопрос, обращенный героем-повествователем, случайным свидетелем кровавой потасовки в берлинской пивной к самому себе и к нам, читателям, – всего одна фраза, которая тем не менее является ключом ко всему эстетическому мировоззрению писателя, наиболее полным и открытым выражением (в русскоязычном творчестве) его «литературной личности»: «А может быть, дело вовсе не в страданиях и радостях человеческих, а в игре теней и света на живом теле, в гармонии мелочей, собранных вот сегодня, вот сейчас единственным и неповторимым образом».
К счастью, Набоков был слишком большим и оригинальным художником, чтобы подчинять все свое творчество какому-либо философско-эстетическому принципу – пусть даже и очень ему близкому. Хотя рецидивы подобного эстетического догматизма, а порой и дидактизма можно найти как в русскоязычном, так и в англоязычном творчестве Набокова (особенно в конце писательского пути, когда выбранная маска окончательно приросла к лицу, волшебство иссякло, выродившись в безвкусное фокусничество, в «тяжеловесные ужимки сумасбродного шута», и набоковская «персона» неуклюже погубила его дивный творческий дар).
Завершая анализ причин заинтересовавшего нас с вами конфликта, я, подобно Христофору Мортусу и Георгию Адамовичу, хочу еще раз оговориться: если оставить уровень эстетических деклараций и философско-мировоззренческих установок – сферу писательской преднамеренности и его «литературной личности» – и обратиться к конкретным набоковским произведениям (вспомним хотя бы замечательный рассказ «Ужас» с его безысходным экзистенциальным отчаянием перед «страшной наготой, страшной бессмыслицей» жизни и темной угрозой небытия, вспомним страстные богоборческие пассажи из «Отчаяния», лирическое визионерство и мистические прозрения в «Приглашении на казнь» и «Ultima Thulе» и «многое, многое другое»), то мы найдем немало общего в творчестве Набокова и его заклятых литературных врагов из «Чисел».
Как эффектные позы и броские лозунги «литературной личности», не вмещающей в себя всей противоречивой творческой индивидуальности писателя, не могут объяснить неповторимое своеобразие и глубинную суть набоковских произведений, так и внимательно рассмотренная нами литературная война не исчерпывает всей сложности тех отношений, которые сложились у Набокова с авангардом молодой эмигрантской литературы, ядром которого был авторский круг «Чисел».
Тщательное изучение литературных связей Набокова и писателей-монпарнасцев, выявление точек соприкосновения, неожиданным образом сближающих творческие пути таких непримиримых литературных врагов, какими были Георгий Иванов и Владимир Набоков, – всё это задача для специального литературоведческого исследования. По этой причине, как ни соблазнительны открывающиеся перед нами просторы для роскошных литературных сопоставлений («Тема экзистенциального отчаяния в творчестве Георгия Иванова и Владимира Набокова», «“Поиски утраченного времени” Гайто Газданова и Владимира Набокова», «Влияние идей Анри Бергсона на концепцию времени и памяти в произведениях В.В. Набокова и В.С. Яновского» и т.д. и т.п.), я плавно закругляюсь: возделывать эту, смею надеяться, многообещающую и плодотворную литературоведческую целину не входило в мои планы, равно как и давать какие-либо оценки участникам литературной войны «до последней капли чернил».
Спор этот не канул в Лету, не закончился со смертью оппонентов – прославленного на весь мир писателя и нескольких литературных «неудачников», чье творчество с большим опозданием получило заслуженное признание и подобающую оценку, – он длится и теперь, не потеряв своей остроты и – извините за затасканное словосочетание! – животрепещущей актуальности. Будет он продолжаться и дальше, вероятно, до тех пор, пока будет существовать литература – вечный спор, без твердых аргументов и неоспоримых доказательств, без победителей и побежденных.
А теперь – кода.
«Блаженны спящие, блаженны мертвые…» Блаженны эстеты, неистовые ревнители «высокого и прекрасного», «из тяжести недоброй» и бездушного хаоса бытия творящие «удивительно ладные мирки, проникнутые тихим светом чистейших красок», волшебно преобразующие бесформенную, бессмысленную пестрядь жизни в «чудный стройный образ», в «нечто несомненное, настоящее»…
Блаженны и их противники, пленники великих иллюзий, подвижники от литературы, осознающие личную ответственность за состояние мира и упрямо стремящиеся к его преображению с помощью слова; скорбные романтики с их горькими размышлениями об умирании искусства – «о сиянии ложных чудес, поочередно очаровывавших и разочаровывавших мир», – с их пониманием того, что «старуха бесконечно важнее Рембрандта», с их «мучительным желанием ее спасти и утешить» и «ясным сознанием, что никого спасти и ничем утешить нельзя», – с их святой верой в то, что «грубая красота мира растворяется – и тает в единой человеческой слезе, что насилие – грязь и гадость, что одна отдавленная заячья лапа важнее Лувра и Пропилей»…
Литературное обозрение. 1996. № 2. С. 73–82.
«ДЕТЕКТИВ, ВОСПРИНЯТЫЙ ВСЕРЬЕЗ…»
Философские «антидетективы» В.В. Набокова
Шарж Дэвида Левина
«Есть некоторые виды художественной литературы, к которым я вообще не прикасаюсь, например, детективы, которых я терпеть не могу», – признался в интервью журналу «Плейбой»79 Владимир Набоков, к тому времени – март 1963 года – знаменитый на весь мир автор супербестселлеров, занимавших высшие места в книжных хит-парадах и удостоившихся похвал высоколобых критиков. О своей неприязни к детективу писатель неустанно твердил и в последующих интервью: «Я ненавижу детективный роман» (интервью Пьеру Домергу)80; «За крайне небольшими исключениями, детективная литература представляет собой некий коллаж более или менее оригинальных загадок и шаблонной литературщины» (интервью 1969 года журналу «Тайм»)81.
Трудно вообразить что-либо более далекое друг от друга, нежели Набоков и «шаблонная литературщина», хотя, если верить автору «Других берегов», в детстве он зачитывался произведениями корифея детективной литературы Артура Конан Дойля. Главный герой бесконечной конан-дойлевской эпопеи – неутомимый борец со злом Шерлок Холмс, «придававший логике прелесть грезы, <…> составивший монографию о пепле всех видов сигар, и с этим пеплом, как с талисманом, пробирающийся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к единственно сияющему выбору», – не только поразил воображение маленького Лужина, но и покорил сердце юного Набокова.
О том, что автор «Записок о Шерлоке Холмсе» был одним из его любимых писателей, Набоков признался и в интервью Альфреду Аппелю, выпускнику Корнеллского университета, впоследствии ставшему исследователем и пропагандистом набоковского творчества, с которым позволял себе быть более откровенным, чем с другими интервьюерами:
« – Кто-то назвал новый роман “детективом, воспринятым всерьез” <…>. Пародируя этот жанр или нет, но вы относитесь к нему вполне “серьезно”, если принять во внимание, сколько раз вы преобразовывали возможности этого жанра. Скажите, почему вы так часто обращаетесь к нему?
– В детстве я обожал Шерлока Холмса и отца Брауна, может, в этом разгадка»82.
О любви к Шерлоку Холмсу Набоков говорил (точнее – писал) и в упомянутом выше интервью «Плейбою», правда, он добавил при этом, что Конан Дойль и некоторые другие авторы, высоко ценимые им в юные годы (Эдгар По, Жюль Верн и др.), со временем поблекли, утратили для него «прежнее очарование и способность волновать»83.
Но что бы ни утверждал Набоков в своих интервью, как бы ни старался сбить со следа дотошных следопытов, вопрос о детективе возник не случайно: на протяжении своего творческого пути писатель не раз использовал приемы одного из самых почтенных и популярных жанрово-тематических канонов массовой литературы ХХ века.
Как известно, одним из главных сюжетообразующих элементов детектива является мотив тайны, загадки; при этом, в отличие от готических романов и замешенных на мистике триллеров, «в детективе предполагается заранее, что тайна носит не абсолютный, а относительный характер, будучи следствием сочетания объективных обстоятельств и некоего злого умысла, а ее разрешение возможно и посильно для человека, способного собрать воедино рассеянную по частям информацию и правильно осмыслить ее»84. Помимо мотива тайны и четко выстроенного сюжета, связанного с этапами ее разгадки, детектив характеризуется обязательным набором персонажей, подчиненных строго заданным сюжетным функциям: преступник, жертва, сыщик, его недогадливый помощник (часто выступающий в роли повествователя), ложно подозреваемый, свидетели и т.д.
Легко догадаться, что строго регламентированная система персонажей, внимание к причинно-следственным связям между явлениями, равно как и присущий многим детективам уголовно-бытовой колорит, несвойственны художественному миру Набокова, тогда как сюжетная модель расследования, разгадки тайны, лежит в основе его лучших романов.
«В произведениях искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем»85, – читаем в тринадцатой главе «Других берегов» – в той самой главе, где литературное сочинительство сравнивается с составлением головоломных шахматных задач. В соответствии с этим принципом Набоков довел до совершенства «сложное, восхитительное и никчемное искусство» изящно-хитроумной игры с читателем, перед которым воздвигаются головокружительные словесные лабиринты, полные каверзных ловушек и соблазнительно-ярких приманок, отвлекающих (как это и положено в настоящих детективах) читательское внимание от настоящих улик, – сбивающих его с верного следа, мешающих прийти к «единственно сияющему выбору». Другое дело, что в набоковских произведениях сюжетные схемы детектива постоянно пародируются и выворачиваются наизнанку, а одухотворяющий его пафос обязательной победы человеческого разума над злом либо подвергается сомнению, либо вовсе отсутствует.
***
В русскоязычном творчестве Набокова выделяется несколько произведений – рассказ «Месть», романы «Король, дама, валет», «Отчаяние»,– сюжеты которых замешены на криминальных происшествиях: убийство из ревности, покушение на убийство, убийство мнимого двойника с целью получить страховку. Однако в них нет главной составляющей детективной формулы: разгадки тайны, определяющей сюжетное развитие.
Нагляднее всего квазидетективная повествовательная стратегия проявилась в повести «Соглядатай» (1930), с которой, по мнению Нины Берберовой, началась творческая зрелость «одного из крупнейших писателей нашего времени»86.
В предисловии к английскому переводу «Соглядатая», получившего заглавие «The Eye», писатель признался в том, что «своей фактурой повесть имитирует детективную литературу», но при этом упорно открещивался от сопоставлений с детективным жанром, отрицая «какое бы то ни было намерение сбить со следа, озадачить, одурачить или еще как-нибудь надуть читателя»87.
Формально Набоков прав. В «Соглядатае» отсутствуют важнейшие составляющие детективной формулы: нет преступления, нет противоборства между сыщиком и преступником. Зато налицо жанрообразующая формула детектива – расследование, – пусть и перенесенная из уголовно-криминальной сферы в иную, философско-психологическую, если хотите, метафизическую плоскость. Поиск и разоблачение преступника многоопытным сыщиком заменен не менее увлекательным и интригующим поиском идентичности своего «я», предпринятым русским эмигрантом Смуровым – полунищим, одиноким, болезненно-самолюбивым неудачником с искрой творческих способностей и неутоленной жаждой любви, признания, славы.
Начиная со второй главы, после неудачного самоубийства героя-повествователя, избитого и опозоренного ревнивым мужем его любовницы, повесть представляет собой любопытное психологическое расследование, которое повествователь предпринимает с целью «докопаться до сущности Смурова» – знакомого семейства Хрущовых, влюбленного, как и сам набоковский соглядатай, в Ваню (так шутливо прозвали младшую сестру «хозяйки дома» Варвару). С настойчивостью и дотошностью опытного сыщика (не брезгуя подслушиванием и чтением явно не ему предназначенных писем) набоковский соглядатай при встречах ловит каждое движение своего «подопечного» и особенно внимательно следит за тем, как воспринимают его знакомые, что о нем думают. Однако, несмотря на его старания, образ Смурова распадается на несколько ипостасей, на нескольких совершенно не похожих друг на друга Смуровых.
По ходу действия противоречащие друг другу версии Смурова множатся и множатся, а герой-повествователь (равно как и читатель, воспринимающий все события с его точки зрения) так и не может составить хоть сколько-нибудь цельный образ. И лишь постепенно, по некоторым косвенным уликам, разбросанным то тут, то там хитроумным автором, внимательный читатель начинает догадываться, что Смуров и охотящийся за ним «холодный, настойчивый, неутомимый наблюдатель» – одно и то же лицо.
Подозрения на сей счет возникают у читателя задолго до того, как в конце повести героя-повествователя встречает его давний обидчик и окликает по фамилии: «Смуров!» Подозрительно уже само нездоровое влечение, которое на протяжении всего повествования проявлял набоковский соглядатай по отношению к Смурову, а также следующий факт: сообщая доверчивому читателю о своей любви к Ване, повествователь в то же время откровенно симпатизирует возможному конкуренту; проявляя уже во второй главе странную заинтересованность, хорошее ли впечатление производит Смуров на Ваню, он всячески старается приукрасить смуровский облик, придает ему налет загадочности и романтической исключительности: «Был он роста небольшого, но ладен и ловок, его скромный черный костюм и черный галстук бантиком, казалось, сдержанно намекают на какой-то тайный траур. Его бледное, тонкое лицо было молодо, но чуткий наблюдатель мог бы в его чертах найти следы печали и опыта. Он держался прекрасно, улыбался спокойной, немного грустной улыбкой, медлившей у него на губах. <…> Казалось, что он не мог сразу же не понравиться Ване, – именно этой благородной, загадочной скромностью, бледностью лба и узостью рук…»
Но мало того что портрет Смурова, данный повествователем, выдержан в строгом соответствии со стандартами, принятыми в мелодрамах и любовных романах, где «рокового» героя изображают в точно таких же ярко-аляповатых красках, – набоковский соглядатай то и дело проявляет кровную заинтересованность в том, чтобы именно Смуров стал избранником прекрасной Вани. Старательно притворяясь бесстрастным наблюдателем, повествователь тем не менее приходит в ярость, когда, пробравшись в пустую квартиру Хрущовых в надежде узнать, сохранила ли Ваня смуровский (то есть его собственный) подарок – «желтую, пятнистую, чем-то похожую на лягушку, орхидею», – вместо «заветных останков» обнаруживает обрезанную фотографию, где от запечатленного рядом с Ваней и Мухиным Смурова остался только черный локоть: «Улика поразительная! На Ваниной кружевной подушке вдруг появилась звездообразная мягкая впадина – след от удара моего кулака…» Увидев эту «поразительную улику», впавший в уныние соглядатай пытается успокоиться и с трогательной непосредственностью внушает себе: «…иногда отрезают, чтобы обрамить отдельно».
Сообщение в начале третьей главы о том, что Смуров, сменив «негодного старика», устроился приказчиком в книжной лавке Вайнштока, также настораживает внимательного читателя: ведь во второй главе именно к Вайнштоку отправился вышедший из больницы герой-повествователь, и именно при этой встрече Вайншток сообщает ему о намерении рассчитать старого, «абсолютно негодного» помощника и взять кого-нибудь помоложе.
Наконец, еще одна улика, после которой у читателя вряд ли остаются сомнения в идентичности Смурова и героя-повествователя: набоковского соглядатая выбивает из колеи сообщение в перехваченном письме Романа Богдановича о том, что Смуров – либо клептоман, либо заурядный воришка, присвоивший серебряную табакерку Филиппа Иннокентьевича Хрущова. Начало следующей, шестой главы открывается мучительной сценой объяснения между Смуровым (о содержании письма Романа Богдановича вроде бы ничего не знавшим) и Хрущовым, – разговором, который, оказывается, приснился задетому за живое повествователю (то бишь самому Смурову).
Казалось бы, сюжетный узел, завязанный в начале повести, благополучно развязывается, однако расследование, которое «прогоняет героя через ад зеркал и кончается его слиянием с образом двойника», так и не дает ключ к разгадке Смурова. В конце повести, как и в ее начале, читатель все так же разрывается между отрицающими друг друга толкованиями и вынужден довольствоваться калейдоскопом беспрестанно сменяющих друг друга смуровских личин – мешаниной обманчивых отражений, порожденных зеркалами чужих душ: легковесный авантюрист и донжуан (которому достается-таки от разъяренного рогоносца-мужа со зловещей фамилией Кошмарин); «сексуальный левша», «несчастный в половом смысле субъект», как аттестует его «проницательный» Роман Богданович; пошлый и мелкий враль, позорно уличенный во лжи во время цветистого рассказа о том, как красные чуть не расстреляли его на «ялтинском вокзале»; бессовестный жулик, который преспокойно вскрывает чужие письма и деловито роется в пустой квартире своих знакомых, при этом по-передоновски уплетая изюм, – «вор, вор в самом вульгарном смысле этого слова» (как утверждает лишившийся табакерки Хрущов); влюбчивый, впечатлительный, одаренный к тому же редким писательским даром романтик и фантазер, вопреки всем бедам и неурядицам кричащий нам, жестоким и самодовольным, о том, что он счастлив, счастлив…
В «настоящем» детективе, выстроенном в строгом соответствии с каноническими правилами, мы имеем дело с конечным набором версий – он включает и правильную. В «Соглядатае» же одна версия тут же опровергается другой, так что образ Смурова остается все таким же зыбким и неопределенным. Ключ к тайне Смурова, как и к любой другой, неповторимой, ни на кого не похожей, не равной самой себе человеческой индивидуальности, – этот ключ так и не будет найден.
В повести «Соглядатай» Набоков использовал классическую детективную формулу как кривое зеркало из комнаты смеха, чтобы более точно отразить неопределенность, алогичность и таинственность человеческого «я».
***
Примерно то же самое можно сказать и о первом англоязычном произведении Набокова – романе-загадке «Истинная жизнь Себастьяна Найта» («The Real Life of Sebastian Night»), написанном в 1938–1939 годах во Франции и изданном в декабре 1941-го, уже после переезда писателя в Америку.
Подобно «Граненой оправе» – литературному дебюту Себастьяна Найта, набоковский роман, пользуясь изысканно-витиеватым слогом героя-повествователя В., «взлетает в высшие сферы серьезных чувств <…>, отталкиваясь от тонко пародируемых штампов литературной кухни»88, – в данном случае от «кухни» детективной литературы.
Несмотря на отсутствие важнейшего компонента детективной формулы – преступления, роман написан с учетом сложившихся законов детектива, и, на первый взгляд, Набоков строго соблюдает «правила игры», главная цель которой – «создать напряженность, увлечь читателя извилистыми ходами сюжета, натолкнуть его на ряд ложных догадок, с тем чтобы затем поразить эффектом неожиданной развязки» (Д. Жантиева).
Этим условиям в полной мере соответствует повествование набоковского романа: оно предлагает вниманию читателя захватывающее расследование, которое предпринимает герой-повествователь, решивший написать книгу об «истинной» жизни своего сводного брата Себастьяна Найта.
Новоиспеченного биографа не смущает то обстоятельство, что к моменту написания книги он не в состоянии составить цепочку хоть сколько-нибудь связных воспоминаний о недавно умершем брате, чей образ представляется ему в виде сумятицы «считаных ярких пятен», запечатлевшихся в памяти, напоминая «случайные кадры, выхваченные ножницами из кинофильма и ничего общего не имеющие с нитью драмы».
Настойчиво пытаясь воссоздать из осколков разрозненных впечатлений, смутных воспоминаний и противоречивых свидетельств цельный образ Себастьяна Найта, повествователь тщательно вычитывает биографический подтекст в книгах своего брата, ловит в них «редкие проблески личных признаний» и в то же время с дотошностью заправского сыщика разыскивает немногих Себастьяновых знакомых, способных добавить хотя бы одну драгоценную черточку к создаваемому портрету.
Скупой на подробности Себастьянов приятель по Кембриджу; уклончивый и скользкий мистер Гудмэн (оказавшийся пронырливым литературным дельцом и, ко всему прочему, конкурентом героя-повествователя, автором наспех состряпанной биографии «Трагедия Себастьяна Найта»); художник, как-то изобразивший Себастьяна в виде Нарцисса, пристально смотрящего на водяную гладь озера; Наташа Розанова, первая любовь будущего писателя, волею судьбы также оказавшаяся в эмиграции; мадам Лесерф, она же – Нина Речная, ради которой ослепленный страстью Себастьян бросил любящую его Клэр Бишоп, – эти и другие свидетели, которых, колеся по всей Европе, разыскал неутомимый набоковский следопыт, дают весьма куцые и противоречивые показания, так что вместо чаемого портрета, с тщательно прописанными деталями и умело наложенной светотенью, у В. получается небрежно набросанный эскиз.
Вновь, как и в случае со Смуровым, мы сталкиваемся с разноголосицей мнений и причудливым переплетением несходных друг с другом версий. Почти каждый из героев романа имеет особое мнение о его «истинной» жизни, так что «чем дальше мы продвигаемся в поисках Себастьяна, тем меньше о нем знаем»89.
В книге мистера Гудмэна – ее пристрастному язвительному разбору повествователь уделяет целую главу – Себастьян Найт практически лишается неповторимо-индивидуальных черт и загоняется под трафарет «типичного представителя» «потерянного» послевоенного поколения.
Сам же В. предлагает, естественно, совершенно иную версию Себастьяна. Книгу, которую он создает по ходу развития сюжета, смело можно было бы озаглавить «Триумф Себастьяна Найта». Старательно, хотя и не всегда удачно, затушевывая все отрицательные черты своего героя, порой даже умиляясь его недостаткам и слабостям, свирепо терзая «недальновидных» и «нерадивых» критиков, которые когда-то недооценили найтовские шедевры, повествователь порой превращает биографическое исследование в восторженный панегирик – столь же далекий от объективной истины, как и велеречивый опус мистера Гудмэна.
В романе (наряду с «Соглядатаем» – одном из самых полифоничных набоковских произведений) дается еще одна точка зрения на Себастьяна Найта. Принадлежит она обворожительной мадам Лесерф, выдающей себя за хорошую знакомую и поверенную в любовных делах той самой La Belle Dame Sans Merci, которая, подобно героине знаменитой баллады Китса, не раз упоминаемой в романе, разбила сердце впечатлительному Себастьяну Найту. В изображении мадам Лесерф (как выясняется чуть позже, она и «охочая до развлечений красотка», Себастьянова роковая любовь, – одно и то же лицо) Себастьян предстает угрюмым и претенциозным занудой, который (в духе лермонтовского Грушницкого) «слишком был поглощен своими чувствами и мыслями, чтобы понимать чувства и мысли других людей». По ее мнению, Себастьян – это «утонченный холодный умник», которого необоримые женские чары заставили-таки потерять свою спесь – «опуститься на все четыре лапы и завилять хвостиком».
И как ни возмущается герой-повествователь игриво-насмешливым рассказом очаровательной кокетки, выставляющей объект его преклонения в довольно неприглядном виде позера и сноба, уничтожить, перечеркнуть этот портрет, равно как и привести образ Себастьяна к единому и общезначимому знаменателю, монополизировать право на «завершающее слово» о нем, он не в состоянии. «Ветреная капризница», у которой «один из самых замечательных писателей своего времени» очень скоро стал вызывать лишь приступы томительной скуки, имела полное право на собственную версию Себастьяна Найта – как и сам В., как и Гудмэн, как и любой другой имярек, в чьей душе он оставил неизгладимый отпечаток.
Человеческая душа – «всего лишь способ бытия, а не какое-то неизменное состояние» – именно эта мысль венчает поиски героя-повествователя, усвоившего, по его мнению, одну из важнейших тайн человеческого существования, смысл которой заключается в том, что «всякая душа станет твоей, если уловить ее биение и следовать за ним».
Однако, придя к этому важному выводу, повествователь так и не смог выполнить задуманное – вопреки всем правилам детективной игры ключ к тайне Себастьяна Найта так и не был найден.
Более того, еще до этого несколько обескураживающего финала, по мере развития действия, в голове у читателя все больше и больше растет сомнение: существовал ли Себастьян Найт на самом деле, не вымысел ли он героя-повествователя и, наконец, не пишет ли неутомимый В. (то есть сам Найт) вместо биографии хорошо замаскированную автобиографию, выдавая себя за несуществующего сводного брата.
Оснований для подобного рода подозрений более чем достаточно. Начнем с того, что в своей биографии мистер Гудмэн ничего не говорит о существовании сводного брата Себастьяна Найта. Дважды упоминая об этом обстоятельстве (в первой и шестой главах), повествователь уже в самом начале романа горько жалуется на то, что может показаться читателю «каким-то ложным родственником, говорливым самозванцем».
О тождестве Себастьяна и В. говорят и незыблемая уверенность повествователя в романтической исключительности и гениальности «одного из самых замечательных писателей своего времени», и неумеренные дифирамбы его писательскому мастерству, ненавязчиво перерастающие в пышную рекламу, и исступленная ненависть к литературным противникам Себастьяна – «эти кувшиные рыла глумились над его гением…», – и, наконец, постоянные заявления о духовном родстве с предметом исследования, – о «внутреннем знании его характера», о том, что все Себастьяновы книги он знает так, «будто написал их сам».
Еще одна важная причина, позволяющая отождествить биографа с предметом его исследования: по сюжету и композиции «Истинная жизнь Себастьяна Найта», автором которой является В., отчасти повторяет «Граненую оправу» – первый роман Себастьяна Найта, в котором пародийно обыгрываются штампы классического детектива.
В первую очередь – тот «модный фокус» (растиражированный в бесчисленных опусах Агаты Кристи и ее подражателей), когда место действия, сосредоточенного вокруг загадочного убийства, ограничивается небольшим и по возможности замкнутым пространством – будь то уединенная загородная вилла, занесенная снегом гостиница, прогулочная яхта, трансъевропейский экспресс или палуба первоклассного парохода, – где волей автора собирается разношерстная публика, в действительности, как выясняет впоследствии многоопытный сыщик, состоящая из людей, так или иначе связанных между собой – узами родства, дружбой или деловыми интересами. Вдобавок едва ли не каждый из них хорошо знал убитого (убитую) и так или иначе был заинтересован в его (ее) смерти. Все члены этой компании автоматически становятся подозреваемыми. Вычислить настоящего убийцу, выбрав его из ограниченного круга лиц, – такова задача сыщика, который иногда (как, например, Эркюль Пуаро в романах Агаты Кристи «Смерть на Ниле» и «Убийство в “Восточном экспрессе”») «случайно» оказывается в том же месте, где совершается убийство.
Как и самому Набокову, автору «Граненой оправы» «анатомирование банальностей доставляло <…> некое мрачное удовольствие». Обнажая условности одного из самых популярных канонов массовой литературы, он доводит до абсурда формулу детектива, где и без того логика и психологическая достоверность часто приносятся в жертву разного рода неожиданным эффектам.
Схема, уже насмерть изъезженная в бесчисленных детективных романах и повестях двадцатых–тридцатых годов (но тем не менее успешно эксплуатируемая и по сей день), не просто подвергается в «Граненой оправе» (и, соответственно, в набоковском романе) язвительному осмеянию, но и травестируется, превращается в забавный фарс. Обитатели пансиона, где один из постояльцев, некто Г. Эбсон, найден убитым в своей комнате, все поголовно оказываются родственниками, а в довершение всего главный подозреваемый (кроткий старик Носбэг) и мнимая жертва оказываются одним и тем же человеком.
Сюжет найтовского квазидетектива, лишь слегка преломляясь, отражается в псевдобиографии В., по воле Набокова затеявшего головокружительную кадриль, во время которой автор, повествователь и герой постоянно меняются местами – с тем, чтобы в конце концов слиться в единое целое.
Помимо «Граненой оправы» и другие произведения Себастьяна Найта отбрасывают отблеск на повествование В.
Чудаковатый детектив в отставке господин Зильберманн, чудесным образом вмешивающийся в расследование В. и добывший для него адреса предполагаемых возлюбленных Себастьяна, как две капли воды похож на мистера Зиллера, персонажа найтовской повести «Обратная сторона Луны». Еще один любопытный штрих, на который указал американский литературовед Дэбни Стюарт, посвятивший добрую треть своей книги «Набоков: измерения пародии» «тщательному прочтению» «Истинной жизни Себастьяна Найта»90: оказав существенную помощь потерявшему было верный след В., Зильберманн (подобно сыщику из «Граненой оправы», он забавно коверкает английскую речь) принялся горячо отговаривать повествователя от затеи найти таинственную возлюбленную Найта: «Нельзя видеть обратна сторона луны (курсив мой. – Н.М.). Пожалуйста, не ищите эта женщина. Что прошло, то ушло…»
Помимо пары Зильберманн – Зиллер, можно найти еще соответствия между отдельными сценами или персонажами «Истинной жизни Себастьяна Найта», автором которой формально является русский эмигрант В., и произведениями самого Найта.
Старый шахматист Шварц, проходной персонаж из «бесспорного шедевра» Себастьяна Найта «Сомнительный асфодель», «обучающий мальчика-сироту ходам коня», соотносится с молчаливым кузеном Пал Палыча Речного, с которым тот во время визита В. играл в шахматы. Шварц (Schwarz) по-немецки значит «черный». Вспомним, что, упоминая соперника Пал Палыча по шахматной партии, повествователь все время использует метонимический образ «черные»: «Черные поклонились <…>. Я могу взять твою ладью, – сказали мрачно Черные, – но у меня есть ход получше. <… > Я с вами пить не буду, – сказали Черные <…>. – Я лучше с мальчиком прогуляюсь» – и т.д. на протяжении всей пятнадцатой главы.
В том же романе «Сомнительный асфодель» упоминается швейцарский ученый, который «выстрелом из пистолета убивает в гостиничном номере свою молодую любовницу, потом себя». Немного раньше, в тринадцатой главе, несговорчивый портье блаубергского отеля «Бомон» в ответ на расспросы повествователя о Себастьяне и его спутнице ни к селу ни к городу сообщает, что в соседней гостинице в двадцать девятом году покончила с собой «швейцарская парочка».
Примечателен и эпизод из автобиографического романа Себастьяна «Стол находок», где описывается посещение городка Рокбрюн, в одной из гостиниц которого когда-то умерла его беспутная мать. Себастьян медитирует в саду возле найденного пансиона и благодаря силе воображения обращает время вспять и почти материализует облик давно умершей матери – чтобы чуть позже узнать: его мать умерла в другом пансионате, в другом городе, пусть и с тем же названием. Единственным источником иллюзии явилось его богатое воображение.
Практически та же самая история описывается в последней главе «Истинной жизни Себастьяна Найта». Проведя несколько часов возле постели смертельно больного брата и пережив при этом целую бурю чувств и эмоций, впервые в жизни остро ощутив неразрывную духовную связь с ним, повествователь вскоре обнаруживает, что сидел он возле какого-то англичанина со схожей фамилией, а Себастьян умер еще прошлым вечером.
Вышеупомянутый Д. Стюарт находит еще ряд образно-тематических соответствий между книгами Себастьяна Найта и повествованием В. И пусть некоторые из них, что называется, притянуты за уши, в целом вывод, сделанный американским исследователем, выглядит обоснованным: «Детали произведений Себастьяна преобразуются в элементы жизненного опыта самого повествователя, и дознание о Себастьяне, предпринятое повествователем при помощи изучения его книг, превращается в поиск самого себя <…>. Когда повествователь изучает особенности Себастьяновых романов, он исследует узоры собственной жизни. <…> Изучая Себастьяна, он смотрит в зеркало и видит там самого себя»91.
Мысль об идентичности В. и Себастьяна Найта вроде бы подтверждается и концовкой романа – тем признанием, которое делает автор биографической (или автобиографической?) книги «Истинная жизнь Себастьяна Найта»: «Посмертное существование – это, может быть, наша полная свобода осознанно поселяться в любой душе по выбору, в любом числе душ, – и ни одна из них не заподозрит об этом попеременном бремени. Вот почему Себастьян Найт – это я. У меня такое чувство, будто я воплощаю его на освещенной сцене, а люди, которых он знал, приходят и уходят. <…> Мне не выйти из роли, нечего и стараться: маска Себастьяна приросла к моему лицу, сходство несмываемо, Себастьян – это я, или я – это Себастьян, а то, глядишь, мы оба – суть кто-то, не известный ни ему, ни мне».
Принимая во внимание финальное признание В., учитывая многочисленные переклички между его повествованием и произведениями Себастьяна Найта, мы, казалось бы, смело можем поставить знак равенства между биографом и его героем, интерпретировав жизнеописание Себастьяна Найта как историю о Нарциссе, любующемся собственным отражением.
Однако подобного рода идентификация была бы поспешна и прямолинейна. Несмотря на свою внешнюю эффектность, она не может считаться единственно возможным решением загадки набоковского романа, изначально не рассчитанного на применение универсальных отмычек «единственно верной» интерпретации. («Искусство должно быть отчетливым, но при этом должно оставлять некоторый простор, где читатель мог бы поупражнять свое воображение» – так, комментируя другой свой релятивистский шедевр, «Бледный огонь», утверждал Владимир Набоков92.) К тому же, наряду с многочисленными точками соприкосновения между В. и Себастьяном Найтом, существует немало различий, причем факты совпадения и несходства будут выявляться нами на основе рассказа повествователя, весьма далекого от объективного всеведения и олимпийской беспристрастности.
Плюс ко всему, приняв вышеизложенную версию, мы так и не сможем решить: кто же – В. или Себастьян Найт – является подставным лицом, вымыслом, личиной? Да и может ли подобная идентификация составить окончательное, объективное представление о сущности человеческой личности, о его «истинной» жизни – не важно, обозначим ли мы этого человека «Себастьян Найт», или «В.», или как-нибудь еще?
Как нельзя свести прихотливый узор человеческой жизни к убогой схеме, точно так же невозможно исчерпать содержание одного из самых сложных и загадочных набоковских романов какой-либо из версий относительно того, кому в действительности принадлежит авторский голос, представляет ли «Истинная жизнь Себастьяна Найта» хитроумно замаскированную автобиографию, порой выливающуюся в панегирик, или же – биографическое исследование, которое оборачивается для автора поиском самого себя.
И именно поэтому, несмотря на родовую связь с одним из самых «строгих» жанрово-тематических канонов массовой литературы, «Истинная жизнь Себастьяна Найта» – это своего рода роман-загадка, философский «антидетектив», в котором есть «следователь» и «следствие», но нет преступления и преступника, а стоящая перед читателем загадка принципиально не имеет однозначного решения. Автор, обманывая читательские ожидания, не дает окончательного ответа на поставленный вопрос и вместо этого «дает нам понять, что хотя живущий должен разгадать тайну бытия, ответ – если он вообще существует – можно найти, лишь захлопнув книгу жизни»93.
Формула классического детектива в очередной раз подвергается «деконструкции» в романе «Лолита» (1955): в тех главах второй части, в которых рассказывается о «фарсовом путешествии» к мексиканской границе, когда сначала Гумберта и его юную спутницу преследует таинственный незнакомец (им был, как выяснилось впоследствии, развратник Клэр Куильти), а затем, после исчезновения коварной нимфетки, разъяренный Гумберт пытается настичь беглянку и ее сообщника.
В этих главах автором «расчетливо задействована техника детективного романа, когда улики раскладываются на самых видных местах, только поспевай подбирать»94.
Особенно обильна этими уликами двадцать третья глава. В ней Гумберт устремляется по следу «похитителя» Лолиты и с маниакальной настойчивостью изучает регистрационные книги гостиниц и мотелей, пытаясь расшифровать издевательские криптонимы, которые оставил после себя его остроумный соперник: «Гарри Бумпер, Шеридан, Вайоминг», «Др. Китцлер, Эрикс, Мисс.», «Боб Браунинг, Долорес, Колорадо» и т.д. Но эти «дьявольские головоломки» оказываются псевдоподсказками, псевдоуликами и, ставя в тупик самых наблюдательных и эрудированных читателей, еще больше опутывают «демонической сетью» помутившееся сознание набоковского протагониста.
Впрочем, Гумберт Гумберт напрасно жалуется на коварного «Мак-Фатума», когда с умилением вспоминает читанный в далекой юности «детективный рассказ, в котором наводящие мелочи были напечатаны курсивом». Ведь немного раньше, в девятнадцатой главе, когда он перехватывает адресованное Лолите письмо от ее подруги (и сообщницы) Моны Даль, хитроумный Мак-Фатум (то есть автор романа) дает-таки ему одну, правда хорошо замаскированную подсказку. Цитируемый стихотворный отрывок из «Зачарованных охотников» Клэра Куильти и впрямь заключает в себе «какие-то мерзкие намеки», которые, к своему несчастью, «проницательный ревнивец» не смог разгадать вовремя:
Пусть скажет озеро любовнику Химены, Что предпочесть: тоску иль тишь и гладь измены…Еще более недогадливым оказывается нанятый Гумбертом частный сыщик: затребовав порядочный аванс, он «в продолжение двенадцати месяцев <… > занимался тем, что кропотливо проверял <… > явно вымышленные данные», оставленные похитителем Лолиты, и в конце концов смог обнаружить лишь то, что «Боб Браунинг действительно живет около поселка Долорес в юго-западном Колорадо и что он оказался краснокожим киностатистом восьмидесяти с лишком лет».
На этой фарсовой ноте наметившаяся было детективная линия романа начинает неумолимо хиреть. Поиски, предпринятые Гумбертом, ничего не дали. Судьба, уготованная автором злополучному нимфолепту, и впрямь «не схожа с теми честными детективными романчиками, при чтении коих требуется всего лишь не пропустить тот или иной путеводный намек». Встретить свою «Карменситу» и выйти на след «похитителя» набоковский герой смог лишь после того, как Лолита, спустя три года после побега, прислала ему письмо с просьбой о денежной помощи.
***
Как мы видим, при всей своей нелюбви к детективу Набоков неоднократно обращался к арсеналу его композиционных приемов и сюжетных схем. Одна из самых популярных разновидностей массовой литературы привлекала его внимание и как строительный материал его лучших романов, и как объект пародии. Формула детектива – «пожалуй, наиболее эффективной структуры художественной литературы, придуманной для того, чтобы создать иллюзию рационального контроля над тайнами жизни»95, – целенаправленно подвергалась деконструкции, поскольку противоречила глубинным мировоззренческим установкам Набокова, агностика и релятивиста, не признававшего непреложности фактов и причинно-следственных связей, считавшего, что реальность – это «бесконечная последовательность шагов, уровней восприятия, ложных днищ, а потому она неутолима, недостижима»96, и свято верившего в то, что «величайшие достижения поэзии, прозы, живописи, театрального искусства характеризуются иррациональным и алогичным, тем духом свободной воли, что хлещет радужными пальцами по лицу самодовольной обыденности»97.
Вопросы литературы. 2005. Вып. 4 (июль–август). С. 76–91.
«ЛОЛИТА» – СКАНДАЛЬНЫЙ ШЕДЕВР ВЛАДИМИРА НАБОКОВА
Шарж Дэвида Смита
История мировой литературы знает немало примеров того, как произведения, подвергавшиеся судебным гонениям и цензурным запретам, вызывавшие у современников обвинения в безнравственности, со временем признаются бесспорными шедеврами, а их создатели причисляются к светлому лику классиков. Именно это произошло с романом Владимира Набокова «Лолита», который далеко не сразу был признан одной из вершин художественной литературы ХХ века и до сих пор является поводом для скандалов (вспомним недавние выходки петербургских «казаков»).
Роман, принесший своему создателю мировую славу и сыгравший решающую роль в утверждении его творческой репутации, имеет длительную предысторию. Его фабульный зародыш содержится уже в третьей главе «Дара» – в прочувствованном рассказе «бравурного пошляка» Щёголева: «Вот представьте себе такую историю: старый пес, но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, – знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума можно сойти»98. Год спустя после журнальной публикации «Дара» «первая маленькая пульсация» «Лолиты» воплотилась в новеллу «Волшебник» (1939). Забраковав свою «пра-Лолиту» (при жизни автора новелла так и не была опубликована), Набоков вернулся к разработке прежнего замысла, уже будучи американским писателем. В 1946-м был написан черновик первых двенадцати глав романа, получившего рабочее название «Королевство у моря». По признанию писателя, сделанному в предисловии к американскому изданию «Лолиты» 1958 года, «книга подвигалась медленно, со многими перебоями <…>. Раза два я чуть было не сжег недописанного черновика, и помню, как я уже донес мою Жуаниту Дарк почти до вечерней тени мусоросжигалки, криво стоявшей на газоне двора, когда меня остановила мысль, что дух казненной книги будет блуждать по моим картотекам до конца моих дней. <…>. Гумберт Гумберт написал ее в тридцать раз быстрее меня. Я перебелил ее весною 1954 года в Итаке, жена перестукала ее на машинке в трех экземплярах, и я тотчас стал искать издателей»99.
Последующие злоключения «Лолиты» (которую Набоков предполагал издать под псевдонимом) неоднократно описывались и самим автором, и его многочисленными исследователями. Первые попытки издать «Лолиту» в США окончились полным провалом: роман был последовательно отвергнут четырьмя издательствами. Первым от набоковского детища отказался редактор нью-йоркского издательства «Вайкинг пресс», мотивируя это тем, что в случае публикации романа «мы все отправимся за решетку». Вслед за «Вайкинг пресс» «Лолита» была отвергнута издательствами «Саймон энд Шустер» и «Нью дирекшнз». Представители первого издательства сочли ее «чистейшей порнографией», а старый приятель Набокова, издатель его первых англоязычных произведений Джеймс Лафлин признал, что «“Лолита” – это проза высочайшей пробы» и что ее следует опубликовать, однако сделать это наотрез отказался, поскольку тревожился о «возможных карах, ожидающих и издательство, и автора»100.
Получив отказ от Лафлина, Набоков тут же предложил рукопись Роджеру Страусу, главе издательства «Фаррар, Страус энд Жиру»: «Дорогой г-н Страус. Некоторое время назад в своем письме Вы любезно проявили интерес к моему новому роману. В то время я не мог Вам ничего обещать, так как у меня было обязательство перед Джеймсом Лафлином из “Нью дирекшнз” показать ему рукопись первым, хотя я и не ожидал, что он захочет ее опубликовать. Он только что прислал мне ожидавшийся ответ, и я попросил его переслать рукопись Вам. По причинам, кои Вам станут очевидны по прочтении рукописи, я бы хотел опубликовать книгу под псевдонимом. И по той же самой причине я бы хотел попросить Вас о любезности прочитать эту рукопись самому и больше никому ее не давать, если только по ее прочтении Вы не решите, что книга представляет интерес для публикации. Надеюсь на Ваш скорый ответ»101. «Скорый ответ» не заставил себя долго ждать. Осторожный Страус деликатно отклонил рукопись: он не меньше других опасался скандального судебного разбирательства, способного подорвать престиж его издательской фирмы. Под впечатлением от прочитанной рукописи он написал набоковской знакомой, писательнице Мэри Маккарти, которой было поручено передать рукопись взрывоопасного романа редактору журнала «Партизэн ревью» Филипу Раву: «Что касается набоковского романа, то здесь я согласен с Вами: невзирая на его литературные достоинства или недостатки, никто не посмеет взяться за издание. Я говорил о нем с Филипом, и он собирается обдумать план, как опубликовать некоторые главы романа. Похоже, ему он понравился больше всех, исключая разве что Елену Уилсон, которая просто обожает его. Чертова книга! Теперь, когда я иду по Мэдисон-авеню, то по меньшей мере за три квартала способен распознать нимфетку, или подросшую нимфетку, или перезрелую нимфетку»102.
Филипу Раву роман очень понравился, однако по совету адвоката он вернул рукопись – на том основании, что вещи подобного рода не могут быть напечатаны анонимно, как того хотел Набоков, в то время опасавшийся, что публикация его «аскетически строгого создания» (как он аттестовал «Лолиту» в одном из писем) может катастрофическим образом сказаться на его репутации в чинном Корнеллском университете, повредив успешно складывавшейся преподавательской карьере.
Отчаявшись издать «Лолиту» в Америке, Набоков пристроил ее в парижском издательстве «Олимпия Пресс», наряду с книгами авангардных писателей выпускавшем порнографические опусы.
Главу «Олимпии» Мориса Жиродиа «сразу покорило неотразимое очарование книги». «Я был поражен и захвачен этим невероятным феноменом, – вспоминал позже Жиродиа, – как это он, по видимости, без всяких усилий, смог перенести русскую литературную традицию в современную английскую прозу. Это уже само по себе было проявление гения, но и повествование было магической демонстрацией чего-то такого, о чем я сам только мечтал, но никогда не обнаруживал в реальности: изображения одной из запретнейших человеческих страстей в совершенно искренней и абсолютно пристойной форме. Я сразу почувствовал, что “Лолите” суждено стать величайшим произведением современной литературы, которая раз и навсегда покажет как всю бесплодность цензуры по моральным соображениям, так и неотъемлемое место изображения страсти в литературе»103.
Так ли уж Жиродиа был уверен тогда в счастливой судьбе «Лолиты» – проверить трудно, однако факт остается фактом: рукопись была незамедлительно послана в набор, и уже летом 1955 года Набоков вычитывал корректуру, присланную ему из Парижа. В благодарственном письме Морису Жиродиа (с которым ему очень скоро предстояло насмерть разругаться) писатель настойчиво советовал издателю развернуть в Америке рекламную кампанию «Лолиты», которую назвал «серьезной книгой, написанной с серьезной целью»104. «Надеюсь, – добавлял Набоков, – публика воспримет ее именно в этом качестве. Меня огорчил бы succès de scandale»105.
Выйдя из печати осенью 1955-го, «Лолита» поначалу не привлекла к себе особого внимания – до тех пор, пока вокруг нее не разгорелся бурный скандал в английской прессе. После того как Грэм Грин назвал набоковское произведение одной из лучших книг 1955 года106, редактор газеты «Санди экспресс» Джон Гордон обрушился на роман с гневной критикой: «Без сомнения, это грязнейшая книжонка из всех, что мне доводилось читать. Это отъявленная и неприкрытая порнография. Ее главный герой – извращенец, имеющий склонность развращать, как он их называет, “нимфеток”. Это, как он объясняет, девочки в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет. Вся эта книга посвящена откровенному, бесстыдному и вопиюще омерзительному описанию его похождений и побед. Книжка вышла во Франции. Всякий, кто осмелился бы напечатать или продать ее в нашей стране, несомненно, отправился бы за решетку»107.
В ответ Грин опубликовал ироничное письмо в журнале «Спектейтор», предлагая организовать «Общество цензоров Джона Гордона», которое будет «проверять и при необходимости запрещать все неприличные книги, пьесы, живописные полотна и керамические изделия»108. От слов Грин перешел к делу и 6 марта 1956 года действительно организовал первое заседание «Общества Джона Гордона».
Вся эта история (очень скоро она стала известна во Франции и в Америке) сделала «Лолите» такую рекламу, о которой Набоков не мог и мечтать. Заинтригованные английские читатели в момент раскупили пятитысячный тираж книги. Цена на экземпляры «Лолиты», полулегально привезенные туристами из Франции, дошла у спекулянтов лондонского Сохо до десяти фунтов (по пять фунтов за каждый том). Просачиваясь сквозь таможни, «Лолита» прибыла в Америку, куда благодаря многочисленным откликам в прессе докатилась ее скандальная слава.
Ажиотаж вокруг «Лолиты» усилился еще больше после того, как в конце декабря 1956 года министерство внутренних дел Франции по личной просьбе британского министра внутренних дел наложило арест на книжную продукцию «Олимпии Пресс», в том числе и на «Лолиту». На ее защиту, равно как и на борьбу против цензуры, дружно встала вся французская пресса. Между тем в Англии «Лолита», в свою очередь, угодила в пекло парламентских дебатов о новом цензурном законе.
В Америке все складывалось менее драматично: несколько экземпляров романа были перехвачены бдительными таможенниками, однако затем благополучно возвращены своим владельцам, поскольку мудрые чиновники не усмотрели в «Лолите» никакой «непристойности». Ничего непристойного не нашли в ней и ее первые американские рецензенты.
В то время как в Англии «аскетически строгое создание» Набокова стало предметом парламентских разбирательств, а во Франции Морис Жиродиа отчаянно бился против судебного запрещения «Лолиты», в Америке фрагмент набоковского романа (где-то около трети текста) появился на страницах журнала «Энкор ревью».
За Набоковым уже начали охоту издатели, засыпавшие его заманчивыми предложениями о приобретении прав на американское издание романа. Наиболее расторопным среди них оказался Уолтер Минтон из нью-йоркского издательства «Дж. Патнэмз санз», которое и выпустило «Лолиту» летом 1958 года.
К моменту выхода книги читательская публика была так накручена, что с молниеносной быстротой смела весь тираж. Только за первые три недели было продано более 100 тысяч экземпляров – рекорд, перекрывший прежнее достижение «Унесенных ветром». «Лолита» в мгновение ока сделалась бестселлером (она продержалась на первом месте вплоть до сентября, пока, к досаде Набокова, не была оттеснена на второе место английским переводом «Доктора Живаго»), принесла своему создателю целое состояние (только за права на ее экранизацию он получил от компании «Харрис-Кубрик-Пикчерз» 150 тысяч долларов) и превратила «незаметнейшего писателя с непроизносимым именем»109 (как шутливо аттестовал себя сам Набоков в интервью 1964 года) во всемирно известного автора.
Немногочисленные лолитофобские отзывы – в них довольно безапелляционно утверждалось, что «Лолита» не что иное, как «омерзительная высоколобая порнография»110, – были заглушены дружным хором со стороны подавляющего большинства рецензентов, воспринявших «Лолиту» как образец «в высшей степени живой, образной и прекрасной английской прозы»111. Писательская репутация Набокова выросла настолько, что уже в июне 1958-го рецензент из журнала «Нью рипаблик» с полным основанием утверждал: «Владимир Набоков – художник первого ряда, писатель, принадлежащий великой традиции. Он никогда не получит Пулитцеровскую или Нобелевскую премию, но тем не менее “Лолита” – вероятно, лучшее художественное произведение, вышедшее у нас <…> со времен фолкнеровского взрыва в тридцатых годах. Он, по всей вероятности, наиболее значительный из ныне живущих писателей нашей страны. Он, да поможет ему Бог, уже классик»112.
В Англии, однако, битва за «Лолиту» и не думала утихать. Выходу лондонского издания «Лолиты» предшествовала жаркая дискуссия в английской прессе. В поддержку «Лолиты» и ее издателей от имени видных английских литераторов и критиков было послано письмо в старейшую газету Британии «Таймс»: «Мы встревожены предположением, что английское издание “Лолиты” Владимира Набокова может так и не состояться. Наши мнения по поводу достоинств этого произведения различны, однако мы считаем, что будет крайне прискорбно, если книга, представляющая значительный литературный интерес, благосклонно принятая критиками и получившая поддержку в солидных и уважаемых изданиях, подвергнется запрету в нашей стране»113.
Примечательно, что лондонского издателя скандального романа, Найджела Николсона, политические враги объявили «скрытым Гумбертом Гумбертом», а его родители, известные литераторы Гарольд Николсон и Виктория Сэквилл-Вест, забрасывали письмами, в которых умоляли не публиковать «непристойный» роман. Накануне выхода английского издания «Лолиты» имена Николсона и его компаньона, Уэйденфельда, «ежедневно мелькали в прессе, <…> их биографии изучались на предмет выискивания возможных аморальных фактов, явно свойственных сторонникам такой книги, как “Лолита”. <…> Со смесью бесшабашности и страха Уэйденфельд с Николсоном устроили накануне выхода книги, во вторник 5 ноября, торжественный вечер в отеле “Ритц”, куда было приглашено триста влиятельных доброжелателей. Издатели достаточно рисковали, назвав торжество вечером встречи с мистером и миссис Набоков; о книге не упоминалось. Устроители имели все основания опасаться, что назавтра их привлекут к суду»114. В разгар вечеринки до Николсона дозвонился клерк из министерства внутренних дел и сообщил о решении британского правительства не возбуждать против «Лолиты» и ее издателей судебного дела. Обрадованный Николсон вскочил на стол и возвестил благую весть гостям.
Таким образом, в Англии после выхода лондонского издания «Лолиты» тема борьбы против цензуры в какой-то мере потеряла свою остроту – чего не скажешь о многих других странах, причем не только тех, где в то время правили авторитарные режимы (Аргентина, Испания, ЮАР). Цензурным гонениям «аскетически строгое создание» Набокова подверглось и в таких демократических странах, как Австралия и Новая Зеландия.
В русском зарубежье роман Набокова вызвал самый живой отклик. Одним из первых на «Лолиту» откликнулся критик Марк Слоним: «Говорить о том, что “Лолита” – неприличный и даже “скабрезный” роман, могут только те, кто не понимает серьезного замысла произведения и его выдающихся литературных достоинств. <…> Никакой особой половой смелости в “Лолите” нет, и в этом отношении ее далеко опередили десятки американских и французских романов, не вызывающие протестов. <…> По существу, “Лолита” – не эротический роман в обычном смысле этого слова, а печальный рассказ о человеческих страстях и силе пошлости. Безумие Гумберта, не раз попадавшего в специальные учреждения для душевнобольных, не сводится к физическому влечению к тринадцатилетним “маленьким нимфам”. Предмет его страсти не так уж важен: главное – это стремление человека вырваться из обыденного рассчитанного мира, страсть – как источник поэтического преображения действительности, общая природа творческого порыва и болезненного извращения. Ненормальность шахматиста Лужина и безумие Гумберта – явления одного и того же порядка. Вот почему в новом произведении Набокова так много печального и глубокого о темных корнях человека. Герои Набокова пытаются, каждый по своему, совершить прыжок в царство свободы, их привлекает “предел” возможного или дозволенного, и их деяния – прорыв из духоты и тесноты этого мира.
И именно эту духоту, фальшь и пошлость жизни Набоков описывает с большим блеском»115.
Ответом на эту вдумчивую рецензию стало возмущенное «письмо в редакцию» Ксении Деникиной, которая принялась распекать и автора «аморальной» книги, и благодушного рецензента: «…Нужно ли восхвалять описание “клинического случая”, даже если “в рукописи нет ни одного неприличного выражения”? Ведь и без таких выражений само описание страсти сорокалетнего мужчины к девочке “не моложе девяти и не старше четырнадцати лет” – есть уже не только неприличие, но нечто гораздо худшее. В мире разврата и нездоровых страстей бывают “клинические случаи”, так зачем их выносить в широкую печать? Такая книга общедоступна, ее могут купить и прочесть и дети, которых она отравит навсегда, подняв из бездны низкие страсти… Всякое культурное человеческое общество боролось и борется с подобной порнографией как с моральным наркотиком. А что даже г. Набоков сознает, что это именно порнография, доказывает его согласие отдать свое произведение издательству, специальность которого – эротика»116.
Эстафету в борьбе против набоковской «порнографии» на страницах «Нового русского слова» подхватил Георгий Александров. В статье, красноречиво озаглавленной «Грустные размышления», он сравнил «Лолиту» с «печальной памяти произведениями Анатолия Каменского, “Саниным” Арцыбашева и Вербицкой» и, признав талант и эрудицию Набокова, дал пугающий диагноз его детищу: «Книга Набокова в своих деталях и высказываниях конкурирует с известной книгой по половой психопатологии Крафт-Эбинга, учебником, написанным для врачей-психиатров. <…> 318 страниц книги Набокова, описывающих забавы и развлечения его героя, вполне достаточно для того, чтобы сделать нашими пациентами десятки психически неустойчивых и наследственно отягощенных людей»117.
Печально, но даже давняя поклонница Набокова и его хорошая знакомая, Зинаида Шаховская, не слишком ласково обошлась с «бедной американской девочкой»; в рецензии на французский перевод «Лолиты» она утверждала: «Набоков стоит большего, чем споры, вызванные вокруг этого, не самого лучшего его романа. Вырванный из-за скабрезности его сюжета из числа предыдущих книг и, может быть, и тех, которые за ней последуют, роман “Лолита” угрожает Набокову легкомысленным причислением его к эротическим авторам»118.
Набоковский роман не был по достоинству оценен и многими другими эмигрантскими литераторами, о чем свидетельствуют «непечатные отзывы» в их приватной переписке: «…только что закончил “Лолиту”, и мое общее впечатление отрицательное: я бы не назвал это порнографией pur et simple119, хотя это и противная вещь, но как в ней обнаруживается набоковская пошлость: это “Камера обскура” в энной степени!» (из письма Глеба Струве Владимиру Маркову от 27 июня 1956 года)120; «А вот что Вы думаете о “Лолите”, если ее читали? Я прочел недавно, и самое удивительное в ней, по-моему, то, что при восклицаниях о любви на каждой странице в ней любовь “и не ночевала”. Это совершенно сухая, мертвая книга, хотя и блестящая (даже чувственности нет, ничего: все выдумано)» (из письма Георгия Адамовича Владимиру Варшавскому от 6 декабря 1959 года)121; «Эта “Лолита” Сирина, разве настоящий русский писатель мог такую книгу написать! И совсем не потому, что она якобы “аморальная”. Вовсе она не аморальная. Наоборот, автор “моралист”… что и понижает ее ценность. Большой русский писатель пишет без ненависти к людям, это не типично для русской литературы. Кроме того, русский писатель – религиозен (как поэт, иногда даже против воли. Даже Бунин по-своему религиозен). Прочтите в “Лолите” воспоминания героя о русском шофере, который отбил у него жену. Какая ненависть против всех нас!» (Ольга Можайская – Роману Гринбергу, письмо от 26 июля 1961 года)122.
В СССР, куда скандальная слава «Лолиты» докатилась уже в конце пятидесятых, роман был заклеймен как порнографический, как исчадие бездуховной культуры Запада. Отзывы в печати были немногочисленны, но забористы: «Лолита – героиня модной и разрекламированной повести. Маленькая двенадцатилетняя девочка. В повести ее называют нимфой. Прочтя первые страницы, читатель убеждается в том, что ребенок понадобился автору книги для того, чтобы надругаться над ним перед лицом всей Америки. Он растлевает свою героиню, а заодно и молодых читателей – американских юношей и девушек. Сцены растления он смакует с такими подробностями, какие покоробили бы даже профессионального содержателя дома свиданий. <…> Журнал “Ньюсуик” <…> напечатал пространное интервью с Набоковым, его портрет, сообщил кстати, с искренней радостью, что растлитель юношества, создатель известной садистской повести, является профессором Корнеллского университета и что студенты стоят в очередях за его книгой.
Где выкопали американские издатели такое могучее пополнение для литературы, где отыскали они Набокова? На эмигрантской помойке. Белогвардеец Набоков, до того как он стал наставником и духовным отцом американского студенчества, промышлял антисоветской стряпней, выступая в пресловутом “Голосе Америки”»123.
Даже будущая диссидентка Раиса Орлова в обзорной статье «Давайте разберемся! Что нам дорого в американской литературе» дала уничижительную оценку набоковскому творению: «Одной из наиболее ходовых и шумно рекламируемых книг в США (и не только в США) был роман русского эмигранта Набокова “Лолита”. Но ведь нельзя же поверить, что блестящее по форме описание того, как двенадцатилетняя эротоманка изощренно соблазняет пожилого мужчину, действительно является сегодняшним днем американской словесности»124.
Разумеется, о публикации в СССР «садистской повести» не могло быть и речи. Это хорошо понимал и сам «белогвардеец» Набоков, тем не менее создавший русскую версию «Лолиты». «Вопрос же – для кого, собственно, “Лолита” переводится, относится к области метафизики и юмора. Мне трудно представить себе режим, либеральный или тоталитарный, в чопорной моей отчизне, при котором цензура пропустила бы “Лолиту”. <…> Издавая “Лолиту” по-русски, я преследовал очень простую цель: хочу, чтобы моя лучшая английская книга – или скажем еще скромнее, одна из лучших моих английских книг – была правильно переведена на мой родной язык. Это – прихоть библиофила, не более» – так меланхолично рассуждал Набоков в «Постскриптуме» к русскому изданию «Лолиты» (N.Y.: Phaedra, 1967).
Экземпляры русской «Лолиты» довольно быстро просочились сквозь ржавеющий железный занавес и стали нелегально распространяться как среди представителей всемогущей советской номенклатуры, так и среди фрондерствующей интеллигенции Питера и Москвы. Более двадцати лет сохраняя сладкий привкус запретного плода, «Лолита» (как и другие книги писателя – главным образом довоенные романы, выпущенные издательством «Ардис») проникала на его «чопорную отчизну» нелегально. Благодаря ей Набоков сделался очень популярным в среде диссидентствующей столичной интеллигенции. Каноническая набоковская фотография (а бытование любого классика литературы немыслимо без утверждения канонического изображения, закрепляющего его образ) – ироничный наклон головы, лукавый прищур, откровенно декоративное пенсне – очень скоро вытеснила из интеллигентского иконостаса бородатого «старика Хэма», а романы Набокова вошли в «джентльменский список» просвещенной советской элиты.
Широкой читательской аудитории «Лолита» стала доступна лишь в перестроечную эпоху, когда с потоком «возвращенной» и «разрешенной» литературы книги Набокова хлынули на родину. Разумеется, и в эту благословенную эпоху гласности «Лолита», изданная миллионными тиражами, была неоднозначно воспринята читателями. В недавно вышедшей книге «ТамИздат» приводится весьма показательное письмо в редакцию «Литературной России», автор которого, обычный советский гражданин, «после получасового торга» приобрел у спекулянта некогда запретную «Лолиту», выпущенную «не шуточным 100-тысячным тиражом» издательством «Иностранная литература». «Романчик белоэмигранта Владимира Набокова» вызвал у гражданина приступ праведного гнева: «Роман о сорокалетнем двоеженце, совращающем свою 12-летнюю падчерицу, их половых отношениях, преступных оргиях и прочих прелюбодеяниях, – это фактически приговор по нескольким статьям Уголовного кодекса!!! Не знаю, жив ли господин Набоков, но если жив – нам немедленно надо обращаться в Интерпол с требованием задержать этого литературного садиста и извращенца»125.
По вполне понятным причинам ни Интерпол, ни КГБ, ни ЦРУ – никакая, даже самая могучая, разведка мира не могла бы задержать «литературного садиста и извращенца». За четырнадцать лет до появления этой забавной кляузы (она датируется 28 сентября 1991 года) создатель скандального романа отступил «в ту область ночи, откуда возвращенья нет», и, если там ему и его героям пришлось бы предстать перед грозным судом крылатых присяжных заседателей, я уверен, он был бы оправдан по всем статьям обвинения.
Высочайший уровень художественной трансформации пикантно-эротической фабулы, сам метод изложения вызывающе неприличной истории «неслыханного, безнравственного сожительства» сорокалетнего педофила и его двенадцатилетней падчерицы, – все это позволяет отмести от романа и по сей день раздающиеся обвинения в непристойности. И хотя некоторые «мускатно-сладкие эпизоды», по признанию самого писателя, «имеют отчетливо чувственный характер», это произведение не имеет ничего общего с той «порнографической дрянью», к которой ее приравнивали иные недоброжелатели. Даже при передаче довольно откровенных сцен автор счастливо избежал дотошной «анатомической дословности» и присущего порнографии «вульгарного описания сексуальной техники»126, подчинив эротические мотивы теме нравственного прозрения героя-индивидуалиста, мучительно изживающего наваждение «бесплодного и эгоистического порока».
Как и его литературные предшественники (к ним могут быть причислены, например, «подпольные» герои Ф.М. Достоевского, особенно Свидригайлов и Ставрогин), протагонист «Лолиты» подчиняет реальность прихоти безумной фантазии, проецируя на обесцененный мир «других» необузданные желания своего гипертрофированного «я». Стремясь к поэтическому преображению действительности, пытаясь «остановить мгновенье» и воскресить райское блаженство обожествленной им детской любви, набоковский нимфолепт эгоистически калечит судьбу своей избранницы, в которой видит воплощение давней эротической грезы: нимфетку, «маленького смертоносного демона», обладающего «сказочно-странной грацией, <…> неуловимой, переимчивой, душеубийственной прелестью». Превращая Лолиту в бесправную рабыню «гнусной, жгучей мечты», в «лишенный воли и самосознания – и даже всякой собственной жизни» – объект приложения преступной страсти, «старый павиан» Гумберт поначалу совсем игнорирует ее человеческую сущность и лишь по ходу повествования, будучи действительно талантливым художником, правдиво воссоздает облик своей возлюбленной, сочетавшей в себе «нежную мечтательную детскость и жутковатую вульгарность».
Символ поруганной и опошленной красоты (в современном массовом сознании уже утративший метафорическую сложность и глубину, выродившийся в банальную эмблему сексапильной девочки-подростка), Лолита, безусловно, является самым совершенным женским образом Набокова. Показанная с точки зрения одержимого неотвязным влечением героя-повествователя, она обладает двойственной природой – реальной и мифологической – и выступает на страницах покаянной исповеди Гумберта в нескольких обличьях: обольстительной нимфетки, наделенной «баснословной властью» над набоковским «очарованным странником», и капризной американской школьницы, уже тронутой пошлостью и развратом и в то же время скрывающей за броней «дешевой наглости» и «невыносимых подростковых штампов» страдающую душу тягостно одинокого и беззащитного ребенка. Продукт пошловатой мещанской среды, персонификация бездумной массовой культуры, она соотносится эрудированным повествователем со множеством литературных и мифологических персонажей: с апокрифической Лилит, с Лесбией (адресатом любовной лирики Катулла), с Дантовой Беатриче, Жюстиной маркиза де Сада, Кармен и т.д.
Столь же многопланов и образ Гумберта Гумберта, который показан автором в двух ипостасях: непосредственного участника описываемых событий – мученика неразделенной любви и одновременно «сорокалетнего изверга», «старого тирана», выставленного в довольно непривлекательном, а порой и комическом свете, – и отделенного от него временной и эмоциональной дистанцией повествователя, который если и не преодолел до конца губительную власть «рокового вожделения», то, во всяком случае, сумел осудить собственный эгоцентризм.
Раздвоение героя-повествователя усугубляется введением мотива удачливого соперника-«двойника». Циничный развратник Клэр Куильти – это не только реальное лицо – популярный драматург и сценарист, «в частном порядке» сделавший «фильмы из “Жюстины” Сада и других эскапакостей восемнадцатого века», – но и своего рода «черный человек», порочная тень Гумберта, олицетворение его низменных страстей.
Принцип смысловой амбивалентности и контраста, лежащий в основе системы персонажей, проявляется на всех формально-содержательных уровнях «Лолиты», где напряженный драматизм «неотразимо увлекательной фабулы» сочетается с «дьявольской закрученностью приемов»127, едкая сатира на сытое общество массового потребления с его стандартизированным жизненным укладом и духовным убожеством, уживается с озорной интертекстуальной игрой и изощренной лингвистической эквилибристикой, реалистическая разработка характеров – с элементами фарса и гротеска, а живописная красочность и пластичность описаний дополняется экспрессивностью, свойственной поэтической речи. В исповедальном монологе Гумберта, разрывающегося между самобичеванием и попытками собственной реабилитации перед воображаемым судом присяжных заседателей, совмещаются проникновенный лиризм и ядовитый сарказм, высокая патетика и фамильярное многословие, находящее выражение в бесчисленных каламбурах и насмешливых обращениях к предполагаемому читателю, «крылатым господам присяжным» и даже типографскому наборщику еще не завершенной книги.
Точно так же и автор, стоящий за спиной героя-повествователя, сплавляет воедино элементы противоположных эстетических систем, умело балансируя между условностями массовой литературы и пародией на ее формулы и стереотипы. Иронично обыгранные и лукаво «остраненные» автором стандартные ситуации и расхожие приемы популярных жанрово-тематических канонов (в частности, сенсационного эротического чтива, мелодрамы и детектива) во многом обусловливают своеобразие сюжетного развития и образного строя набоковского романа, который, по замечанию Станислава Лема, «покоится на шатком основании, где-то между триллером и психологической драмой; <…> между литературой “для масс” и элитарной литературой»128.
Именно поэтому любимое детище Набокова с равным успехом покоряет сердца рядовых читателей и литературных гурманов. Став предметом тщательного литературоведческого препарирования и вызвав к жизни множество противоречащих друг другу интерпретаций, «Лолита» по праву занимает место «среди самых тонких и сложных литературных творений нашего времени, сохраняя за собой при этом, естественно, и репутацию книги скандальной. Но тот факт, что первые читатели разглядели только это последнее, а отнюдь не ее достоинства – сегодня очевидные для всякого мало-мальски восприимчивого человека – весьма поучителен»129.
Про книги. 2013. № 1 (25). С. 32–45.
РОМАН-ПРОТЕЙ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА
Шарж Дэвида Левина
Роман «Ада или Эротиада» – итоговое произведение В.В. Набокова. «Итоговое» не в плане хронологии – после «Ады» было опубликовано еще два, причем не самых удачных набоковских романа: «Просвечивающие вещи» (1972) и «Посмотри на арлекинов!» (1974), – а в плане творческой эволюции, развития уже заявленных ранее художественных идей и наиболее полного воплощения тех эстетических принципов, которыми писатель руководствовался на протяжении всей своей литературной деятельности. По верному замечанию Брайана Бойда: «“Ада” суммирует все то, что было значимо для Набокова: Россия, Америка, изгнание. Привязанность к семье, романтическая страсть, первая влюбленность, последняя любовь. Три языка, три литературы: русская, английская и французская. Все его профессиональные занятия: помимо писательства, – энтомология, переводы, преподавание»130.
Работа над этим произведением продолжалась (со значительными временными перерывами) около десяти лет.
Первый импульс был дан в феврале 1959 года, когда Набоков взялся за написание философского трактата «Ткань времени» (впоследствии он был отдан в авторство Вану Вину и вошел в четвертую часть «Ады»). В ноябре того же года писатель загорелся идеей создать научно-фантастический роман (он получил рабочее название «Письма на Терру», а затем трансформировался в «Письма с Терры» – очередную книгу набоковского протагониста). Увлеченный другими проектами (среди них – создание сценария по роману «Лолита»), Набоков оставил и этот замысел. Последующая пятилетка оказалась для него поистине ударной. Помимо переводов собственных произведений («Лолиты» – на русский, «Дара», «Соглядатая», «Защиты Лужина» – на английский), Набоков был занят реализацией давнего замысла, получившего окончательное воплощение в форме необычного литературного кентавра «Pale Fire» (1962, в русских переводах: «Бледный огонь» и «Бледное пламя»), а затем – созданием очередной версии автобиографии, вышедшей в 1966 году под названием «Speak, Memory» («Память, говори»). Тем не менее в этот период писатель спорадически возвращался к «Ткани времени». Всерьез за новый роман Набоков взялся в феврале 1966 года, решив связать воедино «Письма на Терру» и «Ткань времени» с историей о «страстной, безнадежной, преступной, закатной любви»131 между братом и сестрой – отпрысками одного из наиболее знатных и богатых семейств вымышленной страны Эстотии, возникшей по его воле на мифической планете Антитерра.
В октябре 1968 года был закончен последний фрагмент «Ады» – рекламная аннотация (blurb), против всех правил помещенная ироничным автором непосредственно в самом тексте «семейной хроники».
Роман появился на свет в мае 1969-го. Предваряя книжное издание, фрагменты «семейной хроники» (ч. I. гл. 5, 6, 9, 15, 16, 18, 19, 20) были напечатаны в апрельском номере журнала «Плейбой».
Хотя выход книги не сопровождался той истеричной атмосферой сенсационности, которая возникла после публикации «Лолиты», интерес к ней был огромен: ведь ее автором был всеми признанный мэтр, завоевавший себе громкое литературное имя и почетное звание прижизненного классика, капризный законодатель литературной моды, осаждаемый в своей швейцарской резиденции тучей любопытных журналистов и кинопродюсеров, алчущих заполучить права на экранизацию свежеиспеченного шедевра. (Информация к размышлению: еще до публикации романа права на его экранизацию были приобретены компанией «Коламбия пикчерз» за 500 тысяч долларов.)
Интерес к «Аде» был подогрет мощной рекламной кампанией, умело организованной главой издательства «McGraw-Hill» Фрэнком Тейлором. Живое участие в ней принял и сам Набоков. Об этом свидетельствуют некоторые опубликованные письма, относящиеся к интересующему нас периоду зимы–весны 1969 года. Обратимся к одному из писем, адресованных Фрэнку Тейлору: «Дорогой Фрэнк, мне не хотелось бы каким-либо образом мешать твоим планам по рекламе. “Эротический шедевр” звучит неплохо. <…> Подстегнутый твоим вопросом, я быстро выбросил из статьи такие эпитеты, как “фантастический”, “радужный”, “демонический”, “таинственный”, “волшебный”, “восхитительный” и т.п.; но позволь мне повторить: я полностью полагаюсь на твой вкус и опыт» (14 января 1969 года)132.
Отдадим должное «дорогому Фрэнку»: он и впрямь обладал немалым опытом в области книжного маркетинга. «Ада» еще не успела выйти из печати, а уже в марте расторопный издатель прислал писателю экземпляры двух журналов133 с превосходной «Адорекламой», как выразился в благодарственном письме Фрэнку Тейлору польщенный автор134. Кампания по раскрутке набоковского романа на этом не закончилась. «Ада» еще не успела дойти до прилавков книжных магазинов, а уже крупнейшая американская газета «Нью-Йорк Таймс» салютовала Набокову хвалебной рецензией влиятельного критика Джона Леонарда: «Он [Набоков] – единственный ныне живущий литературный гений. Никто, кроме него, не мог написать этот антидетерминистский шедевр, исполненный презрения к Фрейду <…> и Марксу (здесь нет ни политики, ни экономики, ни даже какой-либо истории); вместе с тем это эротический и философский роман, великолепная научная фантастика, внушающая благоговейный страх пародия <…>. Если он [Набоков] и не получит Нобелевскую премию, то единственно потому, что она недостойна его»135. Спустя три дня на страницах литературного приложения к «Нью-Йорк Таймс» появилась восторженная рецензия Альфреда Аппеля, бывшего набоковского ученика по Корнеллскому университету, ставшего одним из самых вдумчивых исследователей и рьяных пропагандистов творчества писателя: «“Ада” – это великая сказка, в высшей степени оригинальное создание творческого воображения <…> – любовная история, эротический шедевр, райская фантазия, философское исследование времени»136.
День в день с выходом книги из печати (5 мая) в популярном еженедельнике «Ньюсуик» американский критик с не очень-то американской фамилией Соколов благоговейно сравнивает «Аду» с «Поминками по Финнегану», честно предупреждая, что по достоинству оценить набоковский роман смогут далеко не все читатели137. Спустя пять дней «Ада» удостоилась похвал наиболее авторитетного американского критика того времени Альфреда Кейзина: «Наш Владимир Владимирович – выдающийся художник <…>. “Ада”, вышедшая в свет после “Лолиты” и после другой, гораздо более сложной и замечательной книги – “Бледный огонь”, вместе с ними образует своего рода трилогию, не имеющую аналогов по выразительной силе деталей, по своей увлекательности, по архитектонике формы и, наконец, по капризной изысканности языка. Она просто изумительна. Как любовная история она скорее необычна и символична, нежели достоверна, но необычность и символизм – это именно те факторы, особую любовь к которым приписывают Набокову. По богатству фантазии и изобретательности это, пожалуй, самое удачное из сумасбродных созданий со времен “Алисы”»138.
К концу мая кампания по раскрутке «эротического шедевра» достигла своего апогея. 23 мая выходит очередной номер многотиражного, глянцевитых кровей журнала «Тайм». Его обложка украшена портретом Набокова и броским рекламным слоганом: «Роман жив, и обитает он на Антитерре». Далее следовало интервью с писателем, в котором тот знакомил читателей с историей создания своего «эротического шедевра».
Фейерверк радужных славословий, озаривший выход «Ады» – «великого произведения искусства, необходимой, лучезарной, восхитительной книги, утверждающей власть любви и творческого воображения» (А. Аппель), – возымел свое действие: одно из самых «непрозрачных» творений Владимира Набокова попало в список бестселлеров за 1969 год и заняло там почетное четвертое место, немного отстав от таких «хитов» книжного сезона, как «Крестный отец», «Любовная машина» и «Болезнь портного». (Во Франции, где несколько лет спустя вышел отредактированный самим Набоковым перевод романа, «Ада» добилась еще больших успехов и стала бестселлером № 2 в книжном «хит-параде» за 1975 год.)
Но я погрешил бы против истины, если бы стал настаивать на том, что «Ада» получила единодушное одобрение критиков. Наоборот, ни одно набоковское произведение (за исключением разве что «Бледного огня») не вызвало таких противоречивых, взаимоисключающих критических отзывов.
Бурная рекламная кампания, вознесшая «Аду» на вершину коммерческого успеха, очень скоро вызвала активное противодействие. Многие американские, а тем более консервативные английские критики посчитали «Аду» откровенной неудачей писателя и, более того, «изменой тому Набокову, который написал “Лолиту” и “Пнина”»139. «Гениальная книга – перл американской словесности»140 (так, с присущей ему скромностью, оценил «Аду» сам Владимир Владимирович, сделав соответствующую надпись на форзаце авторского экземпляра) была воспринята ими как непонятный, амбициозный, чрезмерно растянутый опус, написанный Набоковым исключительно для себя (в последнем утверждении они были близки к истине), как бесцельное «упражнение в лингвистической пиротехнике» (П. Брендон)141, лишенное значительного содержания. Обозвав «Аду» каждый на свой лад – «оргия социосексуального вуайеризма» (К. Шортер)142, «мешанина всевозможных эффектов, “Улисс” для бедных» (М. Дикштейн)143, «образчик непрекращающегося эксгибиционизма» (Ф. Тойнби)144, – рецензенты наперебой обвиняли Набокова в холодной рассудочности, заносчивом эстетизме, самодовольном щеголянии «суетливой эрудицией», а главное – в нарциссическом самолюбовании и снобистском презрении к читателю. Много писалось об эгоцентризме главных героев, о нарочито карикатурной аляповатости большинства персонажей, о психологической неубедительности некоторых эпизодов романа, о чрезмерной перегруженности его повествования утомительными трехъязычными аттракционами, «редакторскими» вставками и примечаниями, указывалось на недопустимый тон многих авторских шуток и пр. и пр.
Не избежал Набоков и обвинения в порнографии. Так, один из рецензентов (Морис Дикштейн), пристрастно разбирая «жеманный» и «оранжерейный» стиль эротических описаний романа, пришел к выводу, что его «претенциозные метафоры и аллюзии не могут скрыть порнографической стратегии» автора: «Если “Лолита” рассказывала о стареющем развратнике, то некоторые эпизоды “Ады” читаются так, будто они написаны им самим <…>. Секс в “Аде”, как и в большинстве порнографических произведений, сводится к спазмам и эякуляциям, к изобилию оргазмов»145. Это же обвинение, пусть и высказанное менее категорично, прозвучало и в рецензии английского критика Джиллиана Тиндэлла, обнаружившего в «Аде» «время от времени появляющуюся порнографию»146.
Характерно, что «эротический шедевр» Набокова был забракован даже теми критиками, кто прежде восторгался другими набоковскими работами. Например, писательница Мэри Маккарти, давняя знакомая Набокова, в свое время написавшая комплиментарную рецензию на «Бледный огонь», была настолько разочарована «Адой», что посчитала необходимым сделать полную переоценку всех набоковских произведений147.
Как мы видим, литературная судьба «Ады» была далеко не безоблачной. И по сей день по ее поводу не утихают споры. Даже в стане англоязычных набоковедов нет единства. Одни исследователи расценивают «Аду» как «наивысшее достижение Набокова-романиста, наиболее полное выражение всех его интересов и пристрастий» и даже как «апофеоз одной из величайших традиций западной литературы»148 – традиции «высокого модернизма» Джойса и Пруста; для других (например, для Эндрю Филда и Дэвида Рэмптона) «Ада» – это свидетельство творческого упадка писателя.
Подобный разброс оценок неудивителен. «Ада» – это своего рода эпохальное произведение: одна из «первых ласточек» постмодернизма, с его стремлением к жанрово-стилевому эклектизму и установкой на ироничную игру с топосами предшествующих литературных направлений. Во всяком случае, именно так это произведение интерпретируется современными теоретиками и пропагандистами постмодернистского искусства149. Отчасти с ними можно согласиться. «Ада» действительно напоминает многослойный постмодернистский пирог, если хотите – волшебный сундучок фокусника с двойным дном, где под упаковкой скандально-эротического сюжета можно обнаружить не только виртуозное владение литературной техникой, но и философские медитации о природе времени (в духе Анри Бергсона), и энциклопедизм, который по плечу лишь идеальному, в жизни едва ли существующему знатоку литературы, живописи, философии, истории, ботаники, энтомологии и проч.
«Ада» – это уникальный роман-протей, не вписывающийся в традиционные жанрово-тематические классификации, – грандиозный роман-музей, в котором каталогизированы, прокомментированы и пародийно обыграны образцы едва ли не всех литературных направлений, жанров и поджанров. Семейная хроника, научно-фантастический роман, любовно-эротический роман с примесью мелодрамы (romance), философский трактат, романтическая баллада, критическая рецензия и даже рекламная аннотация (blurb) – все эти жанровые разновидности (принадлежащие как «высокой», так и «массовой» литературе), причудливо смешиваясь, образуют диковинный литературный гибрид под названием «Ада».
Художественное своеобразие набоковского романа-протея во многом определяется тем, что его «главным героем» является сама литература, его ведущей темой – процесс создания литературного произведения. По этой причине традиционные романно-эпические факторы (психологическая разработка характеров, точное и правдивое воспроизведение реалий окружающей действительности, анализ общественных, нравственных, биологических закономерностей человеческой жизни, более или менее реалистически убедительные мотивировки поведения персонажей) оказались вытесненными на периферию повествования: они либо пародийно переиначены, либо предельно редуцированы – низведены до уровня карикатурного схематизма и нарочитой условности. Вместо них на первый план выдвигаются элементы интертекстуальной игры, которая сопровождается напряженной литературной рефлексией. Каталогизация стертых литературных приемов и клише, имитация чужих стилей, пародийные переложения и перепевы хрестоматийных поэтических произведений – все это характерно для многих романов Набокова – особенно для «Отчаяния», «Дара», «Истинной жизни Себастьяна Найта», «Лолиты», строящихся на определенном напряжении между жизнью и искусством, реальностью и вымыслом. В «Аде», где шаткое равновесие нарушено и «жизнь» полностью растворяется в искусстве, в самодостаточной творческой фантазии художника, интертекстуальность и литературная рефлексия занимают доминирующее положение; из средства художественного изображения они становятся его главным объектом – смысловым нервом, обусловливающим и композиционное построение, и фабульное развитие, и саму словесную фактуру произведения.
Вся художественная система набоковской «семейной хроники» насквозь литературна. В основе ее лежит принцип литературных отсылок (зачастую «ложных») и реминисценций, образующих своеобразную призму, сквозь которую читатель – в силу творческой фантазии и эрудиции – воспринимает разворачивающиеся перед ним события.
Перипетии головокружительного романа набоковских протагонистов, Вана и Ады, обусловлены не столько жизненной логикой или требованиями психологической достоверности, сколько прихотью автора и «жанровой памятью». Отсюда и вытекает произвольность некоторых сюжетных поворотов и условность многих ситуаций. Например, кровавый поединок между Ваном и капитаном Тэппером практически ничем не мотивирован как с точки зрения обыденного здравого смысла, так и с точки зрения фабульного развития; происходит он потому, что «дуэль является одним из обязательных ритуалов русской литературы» ХIХ века, как остроумно заметил канадский набоковед Дэвид Рэмптон150. Ироничной игрой с разного рода литературными условностями и обрядами можно объяснить и карикатурный схематизм большинства персонажей «семейной хроники», зачастую откровенно подчиненных определенной сюжетной функции (например, «препятствия» между возлюбленными).
Выстраивая сюжет «Ады», автор жонглирует устоявшимися фабульными схемами и мотивами (счастливое детство в родовом поместье, любовная идиллия, неизбежное расставание главных героев, измена, разрыв, дуэль, примирение, новые непреодолимые препятствия, разлука, окончательное воссоединение). Многие эпизоды «семейной хроники» представляют собой развернутые цитаты из Шекспира, Марвелла, Шатобриана, Пушкина, Толстого, Флобера, Бодлера, Рембо, Чехова, Пруста, Джойса – из тех писателей, которых Набоков с полным основанием мог считать своими литературными предшественниками («каждый писатель сам создает своих литературных предшественников» – вспомним знаменитую формулу Борхеса).
«Ада» – роман, обремененный чудовищно тяжелым грузом «литературной памяти»: все его герои имеют не по одному литературному и окололитературному прототипу. Ван Вин совмещает в себе черты галантного распутника из мемуарной литературы XVIII века («Ада» не случайно изобилует отсылками к «Мемуарам» Джакомо Казановы), байронического героя, героя-повествователя многотомной эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», сластолюбивого и агрессивного супермена – любимого персонажа массовой беллетристики; напоминая о судьбе Байрона (известного своей страстной привязанностью сразу к двум сестрам – к кузине Мэри Чэворт и к сводной сестре Августине Ли), он близок и публичной персоне самого Набокова. Демон Вин является гротескной копией лермонтовского Демона и близким родственником «невинно»-эгоцентричных аристократов Габриэля Д’Аннунцио (вроде неутомимого дуэлянта и ловеласа Андреа Сперелли из романа «Наслаждение»). Марина – травестийный вариант Татьяны Лариной и Раневской из «Вишневого сада»; Дэн – персонаж юмористического комикса; печальная судьба Люсетт сближает ее образ с шекспировской Офелией и пушкинской Русалкой.
Главные тематические линии «Ады» неизбежно вовлекают в художественную орбиту романа целый ряд литературных спутников. Бурный роман Демона и Марины развивается под знаком пушкинского «Евгения Онегина». Всепоглощающая страсть Ады и Вана контрастно противопоставлена трагической любви Рене и Амели, героев повести Ф.Р. Шатобриана «Рене, или Следствия страстей». Тема памяти, вызывающей из туманного небытия драгоценные мгновения ускользающей жизни, и творческого воображения, с помощью которого человек выходит за рамки обыденной действительности, сближает «Аду» с эпопеей Марселя Пруста. Поиски «чистого», универсального времени, синтезирующего прошлое и настоящее – предмет научных штудий Вана, – отсылают читателей к философской прозе Блаженного Августина и Анри Бергсона. Наконец, тема «обретенного рая», восходящая к библейскому мифу об Адаме и Еве и их идиллической жизни в Эдемском саду до грехопадения (сам мотив «падения» травестийно обыгрывается в пятнадцатой главе первой части романа, где юные герои исследуют свое «Древо познания», завезенное в Ардис, как утверждает Ада, из «Эдемского национального парка»), эта, по сути, главная тема «Ады», отличающая ее от всех предыдущих набоковских произведений, посвященных как раз безуспешному поиску «утраченного рая» – детства, родины, безмятежно счастливой любви, – соотносится с двумя поэтическими шедеврами: «Садом» Эндрю Марвелла и «Приглашением к путешествию» Шарля Бодлера.
К числу «претекстов» «Ады» смело можно отнести и многие произведения самого Набокова; в первую очередь – автобиографию «Другие берега» (особенно одиннадцатую главу, в которой рассказывается о романтической любви между Владимиром и Тамарой (Валентиной Шульгиной), а также «Лолиту» (вспомним страстный детский роман Гумберта и Аннабеллы).
В «Аде» Набоков окончательно отказывается от миметического принципа отображения «реальной действительности». Придавая описываемым событиям привкус нарочитой условности и ирреальности, он помещает своих героев в искусственный, откровенно фантастический мир, весьма косвенно соотносящийся с повседневностью. Действие «Ады» протекает на мифической планете Антитерра (она же – Демония), которая, как кривое зеркало, гротескно преломляет географические и исторические реалии нашей старушки Земли, Терры, являющейся, по представлениям демонийцев, не более чем фантазмом, горячечным бредом, плодом воспаленного воображения безумцев и мечтателей.
В набоковском зазеркалье причудливо смещены, вывихнуты привычные пространственно-временные координаты; факты реальной истории прихотливо перетасовываются и налагаются друг на друга. Так, военная экспедиция в Крым против хазарских повстанцев, во время которой гибнет соперник Вана, юный граф Перси де Прэ, одновременно напоминает о далекой Крымской войне (1853–1856) и о вьетнамской авантюре США, а «катастрофа-Эль», после которой антитерровская Россия отделилась от всего остального мира и превратилась в Татарию – варварскую империю, расползшуюся от Курляндии до Курил, – недвусмысленно намекает на Октябрьскую революцию 1917 года, приравненную автором к татаро-монгольскому нашествию ХIII века.
Эстотия, родина набоковских героев, сочетает в себе атрибуты индустриальной американизированной цивилизации ХХ века – небоскребы, автомобили, самолеты, кинематограф, психоанализ – с реалиями дореволюционной России. Последние особенно значимы в первой части романа, почти целиком посвященной любовной идиллии Вана и Ады в их родовом поместье Ардис-Холл. Неторопливый, размеренный быт роскошной усадьбы, обслуживаемой многочисленной челядью, чинные семейные обеды – с водочкой, салфеточной икрой и рябчиками, шумные и веселые пикники на буколических лужайках, неизбежные темные аллеи родового парка – свидетели жарких поцелуев, пылких объятий и куда более изощренных ласк, которыми одаривают друг друга набоковские герои, – весь этот дачно-усадебный рай вновь воскрешает неправдоподобно идеальную, сказочную Россию набоковского детства, воспетую писателем в «Машеньке» и «Других берегах».
Воссоздание прошлого, извлекаемого из туманного забвения фантазией художника, обретение цельности бытия в творчестве – именно эти темы одухотворяют лучшие страницы «Ады», которая местами воспринимается как вдохновенная лирическая поэма, поэтическая утопия о бесконечном блаженстве идеальной любви.
В то же время (чего уж тут греха таить) «оптимистическая вариация “Лолиты”» (так называл «Аду» сам автор) представляет собой крепкий орешек. Пышно разукрашенный россыпью двух– и трехъязычных каламбуров (зачастую непереводимых, типа мадемуазель Кондор – соn d’оr), расцвеченный красочной лингвистической пиротехникой, перенасыщенный литературными шарадами и диковинными анаграммами, набоковский текст предполагает не жадное заглатывание, а усидчивое и неторопливое чтение и перечитывание.
Как уже было сказано, для путешествия по набоковскому лабиринту требуется сверхподготовленный читатель: хорошо знающий мировую литературу (причем не только произведения классиков – Шекспира, Пушкина или Пруста, но и опусы малоизвестных и ныне забытых писателей вроде Франсуа Коппе), историю (хотя бы для того, чтобы разобраться, чьими пародийными двойниками являются антитерровские политические деятели – милорд Голь, Шляпвельт и Дядя Джо), а также обладающий обширными познаниями в области философии, ботаники, энтомологии, географии, живописи.
Особенно живописи! «Ада» – одна из самых «живописных» книг Набокова – изобилует экфрасисами (развернутыми описаниями различных произведений искусства – картин, эстампов, литографий, – уже несущих в себе изображение действительности), ссылками на творения Босха, Тициана, Бронзино, Пармиджанино, Сурбарана, Рембрандта, Тулуз-Лотрека, Врубеля…
Весьма примечательны частые ссылки на живопись итальянских маньеристов. Внимание будущих интерпретаторов «Ады» (свято помнящих рассуждения Умберто Эко: «…не является ли постмодернизм всего лишь переименованием маньеризма как метаисторической категории»151) должны привлечь факты типологического сходства художественно-эстетических принципов Набокова и маньеристов. Отметим некоторые из них. Образ человека как объект изображения утрачивает содержательность и самостоятельное значение, человек теряет роль главного героя произведения (виртуозно, с натуралистической иллюзорностью выписанные аксессуары платья на портретах упоминаемого в «Аде» Бронзино обладают большей выразительностью, чем человеческие лица, чья безжизненная застылость едва ли специально подчеркивается художником, – как и в статичных описаниях Набокова); нарочитое противопоставление искусства и действительности, которая, причудливо искажаясь, целиком подчиняется прихотливой фантазии художника, его «внутреннему рисунку» (по выражению теоретика маньеризма Федерико Цуккари); авторское стремление выдержать дистанцию между живописным/литературным образом и зрителем/читателем: сравним приемы «авторской игры» и «остранения» у Набокова и, например, у Пармиджанино в его знаменитом «Автопортрете в зеркале» (ок. 1522–1524, Вена, Художественно-исторический музей), где блестяще решена задача изображения не самого человека, а полусферического зеркала, своеобразно преломляющего его облик, то есть не действительности, а искажающего ее эффекта.
Но главное, что необходимо для адекватного восприятия «Ады», – это хорошее знание литературного творчества самого Набокова, представление о его эстетических взглядах, пристрастиях в литературе и искусстве; без этого многие места романа могут вызвать лишь досадное недоумение.
Многочисленные автоцитаты и автореминисценции занимают важное место в художественной системе «семейной хроники». Цитируя поэму «Бледный огонь» Джона Шейда, комично переиначивая названия собственных произведений (так, «Invitation to Beheading», английский вариант заглавия одного из лучших набоковских романов, трансформируется в «Invitation to a Climax», что с равным успехом можно перевести как «Приглашение на вершину», «Приглашение к оргазму» и «Приглашение к климаксу»), то и дело внедряя в текст своих полномочных представителей – анаграммированного двойника БAPOHa КЛИМа АВИДОВа, «блестящего, но таинственного В.В.», арабского писателя Бен-Сирина, – Набоков подчеркивает искусственность, вымышленность описываемых событий и разрушает инерцию наивно-реалистического, миметического восприятия «семейной хроники». Подобного рода вторжения и «самовыставления», равно как и многочисленные метатексты (вроде критического отзыва на «Письма с Терры», одну из книг Вана Вина, или ироничной саморекламы в финале романа) создают эффект авторского присутствия в созданном им мире, выдвигают на первый план не сюжетное действие, а авторское «я» с его субъективными вкусами, капризами и фантазиями. Благодаря им в романе создается глубинное смысловое течение, определяющее своеобразие сюжетного развития и особенности персонажей – в самом деле, бесправных «галерных рабов» (известное набоковское определение), послушно исполняющих прихоти всесильного кукловода.
Открыто демонстрируя свои литературные пристрастия и вкусы, а заодно и авторское всевластие, Набоков то и дело «забывает» о фабуле, замедляет ее движение бесконечными разговорами сверхэрудированных протагонистов, заинтересованно обсуждающих различные литературные проблемы.
Особое внимание Набоков и его словоохотливые герои уделяют проблеме художественного перевода. На протяжении всего повествования автор ведет настоящую войну против нерадивых переводчиков, позволяющих себе небрежное обращение с оригиналами. Боевым действиям отведены целые эпизоды романа. Возьмем хотя бы вторую главу первой части, в которой вместе с одним из главных героев, Демоном Вином, мы присутствуем на премьере «дрянной пьесы-однодневки», состряпанной на основе «известного романа в стихах» (как можно легко догадаться, пьеса представляет собой пародию на либретто оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин»). Описание балетного интермеццо из этой гротескной постановки – с веселыми садоводами в грузинских национальных одеждах, уплетающими малину, – содержит в себе издевку над тем, что сотворил из мандельштамовского стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…» американский поэт и переводчик Роберт Лоуэлл. Например, последние строчки – «Что ни казнь у него – то малина / И широкая грудь осетина…» – были переданы Лоуэллом следующим образом: «After each Death he is like a Georgian tribesman / putting a raspberry in his mouth».
Неудивительно, что Набоков продолжил в своем романе наскоки на Лоуэлла и вывел его в виде посредственного переводчика Лоудена, скрестив фамилию жертвы с фамилией еще одного, уж не знаю, где и как провинившегося, поэта и переводчика – Уистена Хью Одена, то есть «Лоуден» представляет собой контаминацию: Лоу[элл] + [О]ден.
В «Аде» вообще много подобных гибридов, «слов-портмоне», как сказал бы кэрролловский Шалтай-Болтай, а также анаграмм, в которых зашифрованы имена тех писателей, художников или переводчиков, кто имел несчастье чем-либо не угодить Набокову.
Английский прозаик Кингсли Эмис, постоянный набоковский недоброжелатель, за отрицательные отзывы о «Лолите»152, «Пнине»153 и переводе «Приглашения на казнь»154 безжалостно превращен в комичного персонажа с анаграммированным именем Сиг Лимэнски155. Корифей американской литературы тридцатых годов Джон Стейнбек пренебрежительно упоминается как «старина Бекстейн». Фамилии особо не любимых Набоковым представителей «литературы Больших идей», Уильяма Фолкнера и Томаса Манна, сплавлены в Фолкнерманн. Борхес, c которым в шестидесятых годах многие критики сравнивали Набокова, предстает в романе как Осберх, «создатель претенциозных сказок и мистико-аллегорических анекдотов». Классик модернистской литературы Томас Стернз Элиот за свои антисемитские высказывания раздваивается автором «Ады» на две пародийные ипостаси: старого стихоплета Кифара К.Л. Суина и бывалого еврейского банкира Милтона Элиота (тем самым Набоков приравнял Элиота к его же сатирическому антигерою Суини). Имя и фамилия некогда популярного английского скульптора и художника Генри Мура (Henry Moore), о чьих творениях – «полированных чурбанах с полированными дырами» и «уродливом обрубке плебейского красного дерева в десять футов высотой под названием Материнство» – с таким пренебрежением отзывается привередливая Люсетт, германизируясь, преображается в Генрих Хейделанд (Heinrich Heideland): английское moor (моховое болото, вересковая пустошь), созвучное Moore, протягивает руку равнозначному немецкому слову Heideland.
Столь же фантастические изменения претерпевают в «Аде» и многие топонимы: Америка и Россия сплавляются в причудливое Амероссия; Аю-Даг шутливо переименовывается в Алтын-Таг; канадский городок Уайтхорс (Whitehorse) – в Белоконск; Ла-Манш (английское название – English Channel) – в «только что проложенный Канал».
«Сложное, восхитительное и никчемное» искусство изящных розыгрышей, коварных мистификаций и обманчивых словесных миражей, которое так любил Набоков, доведено в романе до «дьявольской тонкости», что превращает процесс его чтения в азартное и захватывающее предприятие, сравнимое разве что с блужданием по умопомрачительному лабиринту, полному хитрых ловушек и западней, – в горячечных поисках несметных сокровищ, с лихвой вознаграждающих нашедшего их смельчака за перенесенные испытания.
Поспешу успокоить склонных к панике читателей: все-таки «Ада» – это не рассудочный ребус в духе Джеймса Джойса и не литературная викторина для докторов филологических наук; это в первую очередь (простите мне пафосное выражение) образец высокого искусства, в котором увлекательность пикантно-эротической фабулы парадоксально сочетается с приемами интеллектуальной прозы, ирония и желчь снобистской критики в адрес литературных врагов Набокова – с трепетным лиризмом, воспевающим земную красоту и счастье взаимной любви, литературная рефлексия и интертекстуальные забавы – с красочной живописностью, удивительной пластичностью описаний, блеском неожиданных метафор и сравнений – характерными достоинствами изысканного набоковского стиля.
Несмотря на все свои постмодернистские аксессуары, «Ада» представляется мне ярчайшим манифестом абсолютной творческой свободы писателя, словно вопреки угрюмым пророчествам постструктуралистских шаманов о конце литературы, «размывании категории качества», «нейтрализации коммуникации» и «смерти автора» создавшего уникальную художественную вселенную, свою оригинальную мифологию. Виртуозно жонглируя речевыми кодами и стилями, иронично обыгрывая традиционные фабульные схемы и повествовательные стратегии (вплоть до модернистского «потока сознания»), Набоков лишний раз доказал: истинный писатель – это «совершеннейший диктатор» в «приватном мире» литературного произведения, это всемогущий демиург, умело подчиняющий себе безликую стихию «письма», творящий «из ничего» – из обмусоленных штампов и клише – дивные миры, горящие «звездной славой и первозданною красой».
Любимый набоковский писатель Пьер Делаланд сказал как-то о романе, теперь совершенно забытом: «В нем есть все для всех. Она вызывает у ребенка смех, у женщины – трепет. Светскому человеку он дарует целительное головокружение, а тем, кто не грезил, внушит грезы». Подобно этому роману, «Ада», я надеюсь, удовлетворит все категории читателей. В этой книге есть все для всех. Она обрадует элитарного читателя, влюбленного в головокружительные интертекстуальные лабиринты. У легкомысленных же постмодернистских критиков и уцелевших доктринеров-постструктуралистов, ретивых клевретов густо перехваленного французского фельетониста, авторитетно объявившего о «смерти автора», словно у нашкодивших школьников, «Ада» вызовет суеверный ужас, страх и трепет запоздалого прозрения. Светскому человеку она предоставит прекрасную возможность щегольнуть своей начитанностью; любителю клубнички и дешевого эротического чтива в пестрых обложках дарует целебное головокружение (а возможно, и исцеление). А тем, кто не имеет вредной привычки грезить, тем, кто никогда прежде не погружался в благодатную стихию набоковской прозы, внушит упоительные грезы, по сравнению с которыми унылый маразм нашей серой действительности – не более чем случайное крохотное пятно на золотом диске ослепительно сияющего солнца.
Постскриптум
Данная статья является расширенной версией предисловия к русскому переводу романа, выполненному Оксаной Кириченко156. Готовя книгу к печати, я дополнил ее фрагментами статьи «Безумное чаепитие с Владимиром Набоковым»157, приуроченной к выходу двух переводов «Ады», а также преамбулой к моим комментариям.
Кстати, пришла пора открыть маленький секрет: Н.Г. Синеусов, автор комментария к первому переводу «Ады»158, – c’est moi. К подготовке этого перевода я был привлечен едва ли не сразу после поступления в аспирантуру филфака МГУ, в конце 1993 года. Напомню: то был самый разгар дикого ельцинского капитализма, время головокружительной свободы, необузданной анархии и ужасающей разрухи (в Ленинку книгочеи ходили со своими лампочками – за недостатком таковых в читальных залах, выстаивая дикие очереди в гардероб и копировальный центр, вечно не справлявшийся с наплывом заказов).
Изучать и комментировать набоковский роман было захватывающе интересно, хотя при этом и приходилось сталкиваться с трудностями, которые едва ли могут представить себе нынешние набоковеды. Английского текста у меня на руках не было – за ним и приходилось каждый раз пробираться в спецхран Ленинки; не было и никакой доступной библиографии не то что по роману «Ада» – по творчеству Набокова. Разумеется, Интернета, лучшего друга современных российских эрудитов, не было и в помине.
Во время работы над комментарием, изучая доступную мне на тот момент набоковедческую литературу, я чем дальше, тем яснее осознавал, что переводчики явно недооценивают сложность набоковского текста и порой весьма вольно обращаются с оригиналом (особенно это касается перевода второй части, пестрящей анекдотическими ошибками). Всерьез влиять на своих старших коллег я, двадцатичетырехлетний аспирант, разумеется, не мог. С другой стороны, качество перевода меня не слишком устраивало. Писать комментарий, никак не согласуясь с версией переводчиков, расшифровывать те или иные аллюзии, вступая в заведомое противоречие с русским текстом, было бессмысленно да и невозможно: редактором перевода был маститый, всеми уважаемый американист, который, собственно, и привлек меня к работе (за что я ему благодарен), но который в спорных случаях далеко не всегда принимал мою сторону. В итоге я пришел к компромиссному решению: работу над комментарием закончить, но подписаться каким-нибудь броским псевдонимом. Выбор пал на фамилию героя незаконченного набоковского романа (что по прошествии стольких лет кажется мне символичным: в тот раз моя работа над «Адой» не была закончена, и спустя некоторое время она возобновилась).
И меня, и переводчиков постоянно торопили работодатели, что явно не улучшало качество перевода. Правда, готовый текст, как это часто бывает в наших издательствах, мариновался ими больше года. Как объяснил мне редактор, заминка вышла с оформлением книги. Честолюбивые издатели замышляли осчастливить человечество шикарным подарочным фолиантом с изящными иллюстрациями, но художник (заблаговременно получивший жирный гонорар) предоставил такие примитивно-натуралистические рисунки, что решено было, плюнув на потраченные деньги, искать ему замену. Новых добужинских и билибиных не сыскали; с деньгами, по всей видимости, возникли проблемы. В конце концов с полуторагодовым опозданием книга была выпущена мифическим киевско-кишиневским издательством – вероятно, специально основанным для того, чтобы миновать тенета российских налоговых служб, – без иллюстраций, на жухлой газетной бумаге серого цвета, в мрачной черной обложке, закамуфлированной под шестой том «огоньковского» собрания сочинений159. Впрочем, чего еще можно было ожидать от эфемерного издательства с таким безвкусным языческо-лошадиным названием!
За исключением пары-тройки отзывов (причем один из них был моего изготовления) киевско-кишиневская «Ада» не вызвала никакой реакции в прессе. Издатели не озаботились разослать экземпляры потенциальным рецензентам и даже передать положенное количество в Книжную палату. Если я не ошибаюсь, это издание не числится даже в картотеке Российской государственной библиотеки.
Вскоре подоспел перевод С. Ильина, выпущенный мотыльковым издательством того же сорта, что и «Кони–Велес»160, а затем вошедший в «симпозиумовский» пятитомник, безграмотно названный «Собрание сочинений американского периода» (вообще-то «Ада» писалась не в Америке, а в Швейцарии, как и два следующих романа).
Закрывая глаза на качество ильинского перевода (в упомянутой статье, опубликованной в одном из последних номеров разваливающегося «Литобоза», я намеренно не занимался анализом работы переводчиков – это увело бы меня чересчур далеко), замечу: авторы комментария «симпозиумовского» издания внимательно прочли труд злополучного Н.Г. Синеусова, но обошлись с ним весьма бесцеремонно – прямо как та гоголевская свинья, которая, «разгребая кучу сора, съела <…> мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком». Если при упоминании расшифровок и догадок, предложенных западными набоковедами – Брайаном Бойдом, Карлом Проффером и др., – соавторы честно давали ссылки, то, перепевая синеусовские комментарии, использовали такие вот обтекаемые формулы: «как известно», «высказывалось предположение» и т.п. Например: «Высказывалось предположение, что Набоков обыгрывает здесь название автобиографической книги З. Шаховской “Свет и тени”»161. Да, высказывалось. И не кем-нибудь, а г-ном Синеусовым – мне ли не знать!
Впрочем, меня беспокоило не столько беззастенчивое воровство, сколько осознание, что «киевско-кишиневская» «Ада», к выходу которой был причастен и я, весьма далека от совершенства. Неудивительно, что у меня созрел план: переиздать переработанный вариант перевода с расширенными комментариями. У двух членов переводческого триумвирата мое предложение вызвало недоумение и даже обиду: зачем переделывать, когда и так всё замечательно? Лишь О.М. Кириченко согласилась с тем, что перевод сыроват и нуждается в серьезной переделке. Было решено, что она внесет исправления в свою часть, а затем переведет заново остальной текст романа. Я же брался написать предисловие и подготовить расширенный вариант комментария. В результате свет увидел новый перевод «Ады», который выдержал несколько переизданий и нарушил гегемонию «симпозиумовского» фаворита.
Возможно, этот перевод не идеален, возможно, переводчице не удалось преодолеть (а мне – откомментировать) все ловушки, запрятанные коварным автором. Зато выполнен он с куда бόльшим уважением к читателю и автору, чем ильинский: без неуклюжих стилистических вычур, неуместной архаизации и нарочитой отсебятины, вызванной суетным желанием перещеголять Набокова «в отношении затейливости прозы». Тексты, подобные «Аде», предполагают множество исследовательских прочтений, переводческих интерпретаций и комментариев. Надеюсь, мой «скорбный труд» хоть немного поможет нынешним и будущим толкователям «Ады» приблизиться к ее пониманию. Ради этого, пожалуй, стоило ходить в Ленинку со своей лампочкой и часами просиживать в холодном читальном зале.
ГУМАНИСТ НАБОКОВ ПРЕПАРИРУЕТ «ДОН КИХОТА»
Шарж Джона Спрингса
«Мои университетские лекции (Толстой, Кафка, Флобер, Сервантес) слишком сыры и хаотичны и никогда не должны быть опубликованы. Ни одна из них!» – такое категорическое распоряжение сделал Набоков в апреле 1972 года после ревизии материалов, оставшихся от его преподавательской поденщины в Корнелле и Гарварде. При жизни писателя из его лекций не было опубликовано ни строчки. Но уже три года спустя после кончины Мастера его волю нарушили: к радости набокофилов и набоковианцев, на свет божий были извлечены лекции о западноевропейских писателях (Джейн Остин, Диккенс, Флобер, Стивенсон, Пруст, Кафка, Джойс); чуть позже появились «Лекции по русской литературе», а в 1983 году – «Лекции о “Дон Кихоте”», прочитанные Набоковым весной 1952 года в Гарвардском университете.
Во второй половине девяностых «Издательство Независимая газета» одарило российских читателей превосходными переводами двух первых томов набоковских лекций и благодаря им завоевало себе репутацию одного из самых интеллигентных издательств постсоветской России (обе книги сделались бестселлерами и выдержали несколько переизданий). Теперь нашему вниманию предлагаются «Лекции о “Дон Кихоте”»162 – третья панель литературоведческого триптиха Владимира Набокова. Знакомясь с ней, во избежание разочарований и недоразумений будем помнить и о завещании писателя, и о том, что перед нами действительно «сырые и хаотичные» лекционные материалы, сведенные в единое целое после кропотливых текстологических изысканий.
Ругать набоковские лекции – проще простого, тем более что и сам лектор частенько дает для этого повод. Чего стоит хотя бы господствующий в книге описательно-парафрастический метод, до боли напоминающий высмеянный в «Даре» линёвский прием «межцитатных мостиков», когда авторская речь сводится к тощим прокладкам между внушительными цитатными блоками. (Добрую треть лекций занимает поглавный конспект «Дон Кихота», да и в основном тексте пространный пересказ и обильное цитирование занимают слишком большое место.)
Многих читателей может покоробить неистребимый снобизм Набокова, его тенденциозность, неспособность отрешиться от собственных эстетических установок, равно как и нарочитая эпатажность некоторых заявлений, откровенно рассчитанных на неискушенных американских студентов: «“Дон Кихот” был назван величайшим из романов. Это, конечно, чушь». Историзм, объективная беспристрастность – качества едва ли знакомые эксцентричному профессору Набокову, всегда подходившему к шедеврам далеких литературных эпох с собственной меркой и ценившему в них главным образом то, что было созвучно его писательскому опыту.
Как мы помним из «Комментария к “Евгению Онегину”», Сервантес не входил в число любимцев Набокова и аттестовался как один из «глиняных идолов академической традиции». Неудивительно, что автор «Лекций о “Дон Кихоте”» особо с ним не церемонится и порой выступает не столько в роли исследователя, сколько в качестве пристрастного критика и ревнивого соперника, жадно подмечающего слабости и изъяны у потенциального конкурента: придирчиво выискивает примеры «безжизненного, искусственного, шаблонного описания природы»; ехидно указывает на композиционную неслаженность, громоздкие вставные новеллы и разного рода сюжетные неувязки; бракует сцену рокового поединка Дон Кихота с Самсоном Карраско («Весьма невыразительная сцена. Автор устал. По-моему, он мог бы вложить в нее гораздо больше выдумки, сделать гораздо забавнее и увлекательнее. Эта сцена должна была бы стать кульминацией романа, самой яростной и упорной битвой в целой книге!»). Сам роман объявляется «сущим пугалом среди шедевров», «лоскутной, бессвязной историей, спасенной от распада лишь изумительным инстинктом автора».
Добавьте сюда терминологическую небрежность (лектор благополучно отождествляет понятия «тема» и «структурный прием»), ритуальные выпады против Достоевского – автора «совершенно безответственных и старомодных романов, где десяток людей устраивают грандиозный скандал в купе спального вагона – который никуда не едет», – и у вас сложится впечатление, что перед нами – всего лишь очередной набор набоковских «твердых суждений».
Но воздержимся от поспешных выводов. Тот, кто даст себе труд внимательно прочитать «Лекции о “Дон Кихоте”», найдет в них немало любопытного и даже неожиданного – того, что разрушает шаблонный образ холодного и жестокосердого насмешника Набокова.
Первая неожиданность: вопреки прежним декларациям, третирующим «так называемую реальную жизнь» как презренный «мир общих мест», убогую абстракцию, абсолютно чуждую литературе, профессор Набоков воссоздает историко-культурный контекст «Дон Кихота» (две первые главки, «Где? “Дон Кихота”» и «Когда? “Дон Кихота”», – едва ли не самые лучшие в книге) и не забывает о нем на протяжении всего цикла лекций, проводя интересные параллели между вымышленной вселенной романа и его реальным фоном (так, ночное бдение над оружием «новообращенного» Рыцаря печального образа вызывает у лектора ассоциацию с Игнатием Лойолой, который «накануне основания Общества Иисуса провел ночь перед престолом Девы Марии подобно совершающим бдение рыцарям» из романов).
Еще один приятный сюрприз: разбирая «Дон Кихота», профессор Набоков все больше и больше увлекается «лоскутной, бессвязной историей» и, дезавуируя собственные приговоры, все чаще и чаще одаривает Сервантеса восторженными похвалами: «Какой мастерский прием!», «восхитительный, гениальный ход», «превосходно написанная глава», «тонкое искусство, с которым Сервантес чередует приключения своего героя, выше всяких похвал…». Перед нами уже не высокомерный критикан, а чуткий и взыскательный Мастер, который способен отрешиться от предубеждений и по достоинству оценить удачу собрата по перу. В конце концов Набоков признает гениальной удачей образ главного героя, который «благодаря художественному и нравственному гению своего создателя стал художественной реальностью для читателей всех времен». Подобные признания с лихвой искупают все прежние снобистские выходки.
Но самая главная неожиданность заключается в том, что Набоков проникается настоящей любовью к злополучному Рыцарю печального образа. «Борец с неправдой», «светоч и зерцало всего странствующего рыцарства», «враг чародеев», «защитник страждущих влюбленных», «покровитель обиженных девиц» настолько очаровывает лектора, что тот начинает горько сетовать на частые поражения своего любимца и, наоборот, простодушно радуется донкихотовым победам, безоговорочно оправдывая чудачества обаятельного безумца: «В интересах художественного равновесия нашему рыцарю совершенно необходимо одержать легкую и красивую победу в девятнадцатой главе. Участники похоронной процессии получили по заслугам – незачем было рядиться в ку-клукс-клановские балахоны и зажигать факелы». Щедро раздавая уничижительные эпитеты всем противникам «избавителя принцесс», гуманист Набоков обвиняет в «омерзительной жестокости» и самого Сервантеса, и его персонажей. Увлекаясь, автор «Камеры обскуры» и «Под знаком незаконнорожденных» называет роман Сервантеса «настоящей энциклопедией жестокости», «одной из самых страшных и бесчеловечных из написанных когда-либо книг». На наших глазах происходит настоящее чудо: холодный эстет и формалист, заклейменный критиками как бездушное чудовище, превращается в «убежденного моралиста, изобличающего грех, бичующего глупость, высмеивающего пошлость и жестокость, – утверждающего главенство нежности, таланта и чувства гордости».
И хотя бы ради этой волшебной метаморфозы вам просто необходимо прочитать «Лекции о “Дон Кихоте”». Тем более что после них у вас непременно появится желание перечитать роман Сервантеса («сокровищницу наслаждений», «залежи утех», как сказал бы сервантесовский герой) и вслед за Набоковым ощутить «безымянный озноб искусства» и «трепет эстетического удовольствия». Ради этого и стоило нарушить запрет великого художника.
Ex Libris НГ. 2002. 24 января. С. 5.
ВЛАДИМИР НАБОКОВ И ВЗБЕСИВШИЕСЯ ЛОШАДИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Шарж Винта Лоуренса
При взгляде на толстенный том «Полного собрания рассказов»163 Владимира Набокова сердца пылких набокофилов наверняка преисполнятся восторгом и умилением: «благодаря многолетней работе исследователей Набокова», широковещательно гласит рекламная аннотация, впервые под одной обложкой «удалось собрать все шестьдесят восемь рассказов, написанных им в 1920–1951 годах в европейской эмиграции и Америке».
Правда, книгочеи со стажем, с перестроечных времен составившие целую библиотеку набоковских и набоковедческих изданий, со скептической усмешкой могут заметить: из шестидесяти восьми рассказов и новелл, вошедших в книгу, шестьдесят четыре неоднократно перепечатывались, в том числе и в двух собраниях сочинений – «огоньковском» четырехтомнике 1990 года с его баснословным тиражом 170 тысяч экземпляров и в «симпозиумовском» десятитомнике, – а поскольку «Полное собрание рассказов» является точным аналогом сборника «The Stories of Vladimir Nabokov» (1995), выпущенного под редакцией Дмитрия Набокова, возникает законный вопрос: в чем же заключалась «многолетняя работа» не названных в аннотации «исследователей»? И имеет ли смысл приобретать, причем за немалые деньги, книгу, в которой содержится только три рассказа, ранее неизвестные российскому читателю? (Рассказ 1924 года «Наташа», не опубликованный при жизни Набокова и не входивший в названные собрания сочинений, был напечатан в «Новой газете»164, при желании его без труда можно выловить в Сети; три другие новинки – «Говорят по-русски» (1922), «Звуки» (1923) и «Боги» (1923) – до сего времени были доступны только в переводах на английский, выполненных сыном писателя для «The Stories of Vladimir Nabokov»; представляя несомненный антикварный интерес, они явно не блещут художественными достоинствами: не случайно взыскательный автор так и не решился напечатать их при жизни – ни по-русски, ни по-английски.)
Может быть, книгу стоит приобрести ради набоковедческого обрамления? Тем более что оно здесь не только отличается многослойностью, но и сдобрено изрядной долей веселого абсурда. Судите сами.
«Итоговый конволют» (воспользуемся словечком составителя) открывается переводом предисловия Д.В. Набокова к упомянутому изданию 1995 года. В начале этого забавного текста перечисляются все прижизненные англоязычные сборники набоковской «малой прозы». Затем Набоков-младший садится на своего любимого конька и горько сетует на «колоссальных масштабов пиратство» в СССР и постперестроечной России, лишающее его кровных роялти (скромно умалчивая о том, что Россия присоединилась к Бернской конвенции о правах лишь в 1995 году, да и то – с определенными оговорками165, так что советские и российские издатели, благодаря которым произведения некогда запретного автора стали доступны миллионам читателей, строго говоря, действовали в рамках существовавшего на тот момент правового поля). Излив душу, автор предисловия сообщает потенциальным покупателям «The Stories…», что «короткий роман» («short novel») «Волшебник» не включен в сборник, потому что уже был издан в Америке отдельной книгой в 1991 году, зато «одиннадцать из публикуемых впервые тринадцати рассказов прежде не переводились на английский язык» (информация чрезвычайно важная и актуальная для нас!), и за их перевод на английский «несет ответственность» только он, Д.В. Набоков, и никто другой. (На 694-й странице набоковский наследник вновь повторяет – для непонятливых: «Если почти все из пятидесяти двух рассказов, включенных в предыдущие сборники, переведены мною под руководством моего отца, то за переводы этих тринадцати, выполненные после смерти Владимира Набокова, ответственен я один».)
Порадовавшись за англоязычных читателей середины девяностых и оценив вклад переводчика предисловия в жанровую терминологию (вообще-то «короткий роман» – чистой воды оксюморон, вроде «крохотной эпопеи»; «short novel» применительно к «Волшебнику», конечно же, означает «повесть»), спросим составителя «конволюта»: стоило ли так рабски копировать англоязычное издание 1995 года, снабжая книгу, предназначенную современным русским читателям, малосодержательным опусом Набокова-младшего (между нами говоря, никак не проявившего себя в области критики и, тем более, литературоведения) – текстом, писавшимся именно в расчете на англоязычную аудиторию? И так ли уж было необходимо перепечатывать рассказы «Mademoiselle O» (1936) и «First Love» («Первая любовь», 1948), коли их русские версии стали главами «Других берегов»? И не странно ли, что на 584-й странице нас ждет еще одно мини-предисловие: «предуведомление переводчика» англоязычных рассказов Набокова? В отличие от предисловия № 1 «предуведомление» хотя бы обращено к русскому читателю (его автор извиняется за свои прежние переводы, которые составили сборник «Быль и убыль» (СПб.: Амфора, 2001), и уверяет нас в том, что свежеизготовленные версии «при всех своих недостатках» (о коих скажем чуть позже) «во всех отношениях» превосходят предыдущие). Однако и этот текст, как и заметка Набокова-младшего, конечно же, не тянет на полноценное введение в мир «малой прозы» двуязычного гения.
Зато в книге есть целых три разновидности примечаний. Переводы английских рассказов снабжены глоссами и краткими пояснениями переводчика (не столько информирующего читателя, сколько навязывающего ему собственное истолкование того или иного рассказа), а в конце издания нас ожидает знакомство с «двуглавой невидалью»: двучленным разделом «Примечания», по своей структуре напоминающим сиамских близнецов. Сначала идут переводы мини-предисловий, которыми писатель снабжал англоязычные версии довоенных рассказов, опубликованные в книгах семидесятых годов: «A Russian Beauty and Other Stories» (1973), «Tyrant Destroyed and Other Stories» (1975), «Details of a Sunset and Other Stories» (1976) (эти метатексты, где скучные, да и не всегда точные, библиографические справки украшены блестками авторских пояснений и автоинтерпретаций, логичнее было бы поместить в основной корпус книги, а не убирать на ее задворки); вперемежку с ними даны библиографические заметки его сына Дмитрия – к произведениям, не включенным в прижизненные авторские сборники, после чего следуют куцые примечания составителя, который вновь потчует читателя сведениями о том, когда был написан и где издан тот или иной набоковский рассказ. На десерт предлагается «Приложение», составленное из библиографических заметок Владимира Набокова к упомянутым изданиям, где снова перечисляются названия рассказов, «удостоившихся англизации», и в очередной раз даются полные выходные данные его англоязычных сборников (видимо, чтобы их выучили наизусть).
Конечно, повторение – мать учения, однако хотелось бы, чтобы читатели, впервые открывающие для себя «малую прозу» Владимира Набокова (на которых, вероятно, в первую очередь рассчитана книга), были снабжены полноценным комментарием – своего рода путеводителем по миниатюрным набоковским лабиринтам. Увы, в «Полном собрании рассказов» нет хоть сколько-нибудь полного комментария, где, в частности, пояснялись бы архаизмы и экзотизмы, которыми писатель инкрустировал словесную парчу своих произведений (знаете ли вы, дорогие друзья, что такое «терпентин», «плесницы», «било» или «гратуар»?), указывались возможные прототипы персонажей, наконец, выявлялись многочисленные аллюзии и реминисценции, порой дающие ключ к авторскому замыслу, – сведения, без которых едва ли возможно адекватное понимание многих набоковских рассказов.
Например, кто из неискушенных читателей догадается, что заглавие рассказа «That in Aleppo Once» («Что как-то раз в Алеппо», 1943) – цитата финального монолога Отелло, прозрачно намекающая на неизбежное самоубийство измученного ревностью набоковского протагониста? Так же как и фраза из последнего абзаца (в оригинале она выделена курсивом), представляющая собой реминисценцию из четвертого действия шекспировской трагедии: «[But] yet the pity of it[, Iago!]»
За подробными комментариями автор примечаний № 3 отправляет любознательных читателей «к комментированному собранию сочинений Набокова в издательстве “Симпозиум”, а также к примечаниям Д. Набокова» (С. 714). Последние, прямо скажем, не отличаются информативностью и не блещут историко-литературными находками. Помимо библиографических данных там можно найти разве что такие вот «малодоступные» для нас сведения: «Упомянутый в тексте Майн Рид – это Томас Майн Рид (1818–1883), автор приключенческих романов. “Господин Ульянов” – это Владимир Ильич Ульянов, вошедший в историю под сценическим псевдонимом В.И. Ленин. ГПУ, первоначально именовавшаяся ЧК, а позднее НКВД, МВД и КГБ, – большевистская охранка» (С. 694).
Достойно сожаления и то, что в примечаниях составителя практически ничего не говорится о рецепции «малой прозы» писателя в современной ему русской и англо-американской критике, как это и положено в книгах, претендующих на статус серьезных научных изданий, а не массовых лотошных поделок. Лишь один раз автор примечаний № 3 разражается пространной цитатой из восторженного отзыва Георгия Адамовича на журнальную публикацию рассказа «Лик» (1939) – не приводя при этом десятков разноречивых суждений, которыми одаривала набоковские рассказы сначала эмигрантская, а затем и англоязычная критика.
Любопытно, что в отзывах на книжные и журнальные публикации рассказов Владимира Сирина многие критики русского зарубежья, даже из числа его недоброжелателей, как правило, ставили их чрезвычайно высоко, порой даже выше романов. Так, капризный и переменчивый Адамович, попортивший Сирину немало крови, назвал «прелестный» рассказ «Пильграм» эскизом к «Защите Лужина» и пришел к выводу, что он «лучше романа, острее и трагичнее его»166; Петр Балакшин, раздраконивший «Камеру обскуру»167 и весьма неприязненно отзывавшийся об ее авторе в письмах, по прочтении «Весны в Фиальте» (1936) был вынужден признать, что это – «пожалуй, один из лучших рассказов В. Сирина. Во всяком случае, значительнее некоторых его больших вещей»168; С. Нальянч (С.И. Шовгенов) в рецензии на сборник «Возвращение Чорба» (1930) утверждал, что «большие полотна Сирину меньше удаются, чем малые <…>; автор небольших рассказов сборника “Возвращение Чорба” несравненно выше автора романов “Машенька”, “Защита Лужина”, “Король, дама, валет”. В больших произведениях Сирин слишком увлекается эффектами внешнего свойства; мастерство, словесная виртуозность становятся самоцелью; писатель превращается в раба мелочей, подробностей. Этого нельзя сказать о стихах и рассказах Сирина. Здесь блестящие технические приемы являются не самоцелью, а служебной частью повествования»169.
А вот англоязычная критика реагировала на набоковские рассказы куда более сдержанно. Согласно библиографии Джексона Брайера и Томаса Бёргина170, «Nine Stories» (1947), первый сборник «малой прозы» Набокова, вышедший в Америке, удостоился лишь шести тусклых откликов в американской прессе (главным образом, в периферийных малотиражных изданиях вроде «New Mexico Qarterly Review» и «Nashville Tennessean»); «Набокова дюжина» («Nabokov’s Dozen», 1958) привлекла внимание семнадцати английских и американских рецензентов. (Поверьте, это не слишком много по меркам пятидесятых годов прошлого века; для сравнения отметим: число критических эссе, упоминаний в обзорных статьях, рецензий, вызванных к жизни набоковскими романами, исчисляется десятками, а в случае с «Лолитой» – сотнями.)
Правда, широкая читательская аудитория, что эмигрантская, что англоязычная, в первую очередь интересовалась романами, а не рассказами писателя. И не верьте рекламной аннотации, голословно заявляющей, будто многие набоковские рассказы «стали событием еще при жизни автора». Не стали – ни в литературном мире русской эмиграции, ни тем более в англоязычных странах, где воспринимались критиками в лучшем случае снисходительно – как любопытный, но необязательный довесок к его романам, как предтеча, предзнаменование его художественных свершений 1950–1960-х годов.
Некоторые зоилы, нехотя отдавая должное прогремевшей на весь мир «Лолите», отыгрывались на рассказах Набокова, объявляя их вторичными по отношению не только к его романам, но и различным литературным образцам. Например, английский прозаик Энгус Уилсон в своем желчном отзыве на «Набокову дюжину», куда, между прочим, вошли переводы таких жемчужин, как «Пильграм» (1930), «Весна в Фиальте» (1936), «Облако, озеро, башня» (1937), уличал писателя в отсутствии оригинальности и беззастенчивом использовании «старых формул», опробованных в творчестве Чехова, Мопассана и Пруста, причем не зрелого, а раннего Пруста, автора «Утех и дней», «еще не освободившегося от условностей литературы fin de siècle»171.
Допустим, ревнивый британец был пристрастен и, противопоставляя автора «Набоковой дюжины» Мопассану и Прусту (а также сравнивая с Марией Башкирцевой и Гарольдом Николсоном – причем не в пользу Набокова, разумеется), пытался принизить потенциального конкурента. Но ведь и близкие Набокову литераторы часто пренебрежительно отзывались о рассказах, которые он не без оснований причислял к своим лучшим созданиям. Так, Эдмунд Уилсон (везло же Набокову на Уилсонов!), до сенсационного успеха «Лолиты» – один из ближайших набоковских приятелей, весьма прохладно отозвался о русскоязычном шедевре «Весна в Фиальте» (в письме от 22 мая 1942 года): «…ему не хватает интриги. От истории, действие которой происходит в Фиальте, ждешь большего»172. А редактор журнала «Нью-Йоркер» Кэтрин Уайт, с которой у Набокова сложились весьма приязненные отношения, наотрез отказалась печатать рассказ «The Vane Sisters» (в переводе Г. Барабтарло – «Сестры Вэйн», 1951).
Много позже, в интервью 1971 года, именно эту вещь (вместе с «Весной в Фиальте» и «Облаком, озером, башней») Набоков отнес к «тройке» своих любимых рассказов: «Они точно выражают всё, что я хотел, и делают это с тем величайшим призматическим очарованием, на которое способно мое искусство»173.
В том же интервью писатель указывал на изоморфизм произведений «малой» и «большой» формы, назвав «Весну в Фиальте», равно как и особо почитаемые им рассказы – «Даму с собачкой» Чехова и «Метаморфозу» Кафки, – «романами в миниатюре»: «Многие виды бабочек, широко распространенные за пределами лесной зоны, производят мелкое, но вовсе не обязательно хилое потомство. По отношению к типичному роману рассказ представляет собой такую мелкую альпийскую или арктическую разновидность. Отличаясь внешне, он принадлежит к тому же виду, что и роман, с которым связан несколькими переходными формами»174.
В самом деле, едва ли возможно воспринимать рассказы и новеллы Набокова отдельно от его романов. Помимо стилевого изящества и языкового богатства, их сближают сквозные темы и мотивы; в их основу положены общие композиционные приемы и повествовательные принципы: варьирование лейтмотивов, складывающихся в изящные «тематические узоры»; утонченная авторская игра с читательскими ожиданиями и пародийное переиначивание литературных условностей и стереотипов; парадоксальные на первый взгляд развязки, в тщательной мотивировке которых можно убедиться только при внимательном перечитывании произведения; введение «ненадежного» повествователя, чьи мнения и оценки противоречат логике изображаемых событий, благодаря чему создается атмосфера смысловой зыбкости и амбивалентности, которая позволяет с равной степенью убедительности предлагать взаимоисключающие версии относительно описываемой действительности (среди набоковских рассказов в этом плане особенно показателен «Terra incognita» (1931), где прошлое и настоящее, явь и галлюцинации сливаются в единое целое).
Порой между большими и малыми формами набоковской прозы прослеживается прямая генетическая связь. Хорошо известно, что рассказ «Круг» (1934) отпочковался от романа «Дар», рассказы «Mademoiselle O» и «Первая любовь» были инкорпорированы в набоковскую автобиографию, а прославленную «Лолиту» писатель не без основания называл «развитой окрыленной формой» повести «Волшебник» (1939). Иные «мелкие разновидности» набоковской прозы оказались более живучими, нежели их крупные собратья. В частности, лирические этюды «Благость» (1924) и «Письмо в Россию» (1925) изначально были фрагментами так и не состоявшегося романа «Счастье», а рассказы «Solus Rex» и «Ultima Thule» (1940) – главами незаконченного романа, который, по словам автора, должен был «решительно отличаться» от всей его русской прозы.
Как и прославленные романы Набокова, его «малая проза» поражает широтой тематического диапазона, богатством эмоциональной палитры, своим жанровым и стилевым разнообразием. Избегая шаблонов и самоповторов, писатель с равным успехом обращался и к исполненным ностальгической грусти бессюжетным «стихотворениям в прозе» («Благость», «Письмо в Россию»), и к изысканным психологическим этюдам («Музыка», «Ужас»), и к пародийным новеллам с острой сатирической начинкой («Подлец», «Уста к устам», «Забытый поэт»). В лучших набоковских рассказах психологизм и реалистическое жизнеподобие уживаются с гротескной фантастикой и пародийно-игровой стихией, лирические медитации – с черным юмором, анекдот и фарс – с трагедией.
Но даже самые мрачные, самые трагические рассказы («Возвращение Чорба», «Памяти Л.И. Шигаева», «Облако, озеро, башня», «Посещение музея») одухотворяет, как верно заметил один эмигрантский критик, «радость творческого воссоздания мира», которая «покрывает его реальную печаль»175 и заставляет чуткого читателя вновь и вновь прирпадать к благодатному источнику набоковской прозы, «большой» и «малой».
Лишний раз в этом можно убедиться, прочитав подряд «Полное собрание рассказов», которое, при всех изъянах справочного аппарата, будет полезно тем читателям, кто в своем познании одного из крупнейших писателей прошлого века ограничивался его романами.
***
А теперь позвольте сказать несколько слов о переводах десяти английских рассказов Набокова.
Несмотря на то что начиная с конца восьмидесятых к набоковским short stories неоднократно обращались разные переводчики, именитые и не очень, в «итоговом конволюте» представлены модернизированные версии только одного из них, Геннадия Барабтарло, прежде публиковавшиеся в уже упомянутом сборнике «Быль и убыль».
Со страхом и трепетом приступал я к их чтению. И не только из-за многообещающего «предуведомления», автор которого в припадке самокритики аттестовал первые редакции переводов весьма нелестно, поскольку при их пересмотре «обнаружилось столько погрешностей против обоих языков, особенно же русского», что их пришлось кардинально переделать: «перепроверить, перекроить, перефразировать и перекрасить». Скажу по секрету: среди нынешних российских поклонников Набокова у Г. Барабтарло незавидная репутация эксцентричного «фрика», уродующего набоковские тексты нарочитой архаизацией лексики и к тому же беззастенчиво вчитывающего в них собственные (порой весьма странные) ассоциации и интерпретации.
На тематических форумах знатоки Набокова с мазохистским сладострастием смакуют стилистические ляпы из барабтарловских переводов. Вот вам пример из перевода первого англоязычного романа Набокова «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (в версии Барабтарло – «Севастьяна Найта»): «– Хорошо, но только езжайте побыстрее, – сказал я, и, ныряя в автомобиль, у меня слетела шляпа» (здесь и далее курсив мой. – Н.М.). В стилистике подобная грамматическая рассогласованность частей фразы или сложного предложения называется анаколуфом. Чаще всего эта фигура применяется при передаче спонтанной, безграмотной речи персонажа. Помните «Жалобную книгу» Чехова: «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа»? В оригинале набоковского романа, разумеется, нет ничего подобного: «“Well, try and go fast”, I said, and knocked my hat off as I plunged into the car». (Для сравнения приведу версию из превосходного и, к сожалению, давно не переиздававшегося перевода А. Горянина и М. Мейлаха: «– Что ж, едем, только скорее, – сказал я и, ныряя в автомобиль, сбил себе шляпу»176.) И еще – из той же, заключительной главы романа, где описывается визит повествователя в Сен-Дамьерский госпиталь: «За дверями послышалось шарканье и сопенье, и меня впустил толстый старик в толстом сером свэтере (sic!) вместо пиджака и в сношенных шлепанцах. <…> Он смотрел на меня, моргая, его припухшее лицо блестело сонною слизью». (В оригинале: «I heard a shuffling and wheezing behind the door and a fat old man clad in a thick grey sweater instead of a coat and in worn felt slippers let me in. <…> The man looked at me blinking, his bloated face glistening with the slime of sleep»; Горянин и Мейлах, слава богу, обошлись без слизи на лице: «За дверьми зашаркали, засопели, и тучный старик в заношенных войлочных шлепанцах и плотном сером свитере вместо униформы впустил меня внутрь. <…> Старик, часто мигая, воззрился на меня; его оплывшее лицо противно лоснилось со сна»177.)
А вот как выглядит в передаче Г. Барабтарло начало романа «Пнин» – «The elderly passenger sitting on the north-window side of that inexorably moving railway coach, next to an empty seat and facing two empty ones..”»: «Пожилой пассажир у северного окна неумолимо мчащегося вагона поезда, с которым никто не сидел ни рядом, ни напротив…» (в качестве альтернативы привожу перевод Б. Носика: «Немолодой пассажир, сидевший у окна неумолимо мчавшего его вагона по соседству с пустым креслом и напротив сразу двух пустых кресел…»178).
А ведь есть еще печально знаменитый перевод черновика «Лауры», из которого книжным дельцам удалось раздуть сенсацию, все эти очаровательные барабтарлизмы – «стряхивал с дерева подглядатая», «хихикающая плёха», «Флоре было четырнадцать лет невступно» («Flora was barely fourteen…») – и другие стилистические кошмары («английские поэты, у которых в предмете вечер в деревне»), превращающие выдающегося стилиста в претенциозного графомана179.
Неудивительно, что после подобных переводческих «подвигов» сетевые блоги и форумы пенятся от возмущенных отзывов: «Купил вчера набоковскую “Истинную жизнь Севастьяна Найта” в напыщенном переводе Геннадия Барабтарло. Тут не “километры”, а “вёрсты”, не “Тринити”, а “Троицкий”, не “беспокойный” и “беспечный”, а “безпокойный” и “безпечный”, и вместо “не совсем” – “несовсем”… Когда я читаю эту книгу, мне всё кажется, что передо мной не столько произведение классика, сколько бенефис г-на Барабтарло. “Найт” определенно дает выход его внутренней подчеркнутой старорежимности…» (); «Господин Барабтарло, ваш перевод “Пнина” – натурально редчайшая дрянь, весьма посредственная попытка перенять блестящий язык Набокова. Очень редкими прояснениями я улавливала руку маэстро ВВН в вашем паршивом, циничном изложении, кое фраппирует читателя, искажает его восприятие оригинального текста…» (); «слово “барабтарло” должно стать ругательством для любителей ВВН» (http://ru-nabokov.livejournal.com/272883.html) – и т.д., в том же духе. Прогуляйтесь сами, на досуге, по сетевым закоулкам, и вы поймете, почему я с такими опасениями подступал к переводам англоязычных рассказов в «Полном собрании…».
К тому же из многословного послесловия к злосчастной «Лауре» я знал, что г-н Барабтарло ведет долгую и упорную войну против современной русской орфографии – «вследствие искреннего отвращения от всякого советского даже мало-мальски изобретения»180. (Интересно, долго бы удержался в Университете Миссури профессор Барабтарло, много бы напечатал научных трудов, если бы столь же яростно боролся в Америке за возвращение к нормам среднеанглийского, а еще – лучше древнеанглийского языка, не оскверненного проклятыми норманнами? Для справки: сам Набоков, в отличие от г-на Барабтарло, спокойно относился к послереволюционной орфографии. По ней, между прочим, печатались все его послевоенные русскоязычные тексты, что в «Новом журнале», что в «Опытах», что в «Воздушных путях», что в «Издательстве имени Чехова».)
Следы этой войны видны и на страницах «Полного собрания…». Публиковать переводы набоковских произведений по дореволюционной орфографии, с «ятями» и «ерами», как хотел бы напористый архаист, не позволило даже покладистое издательство «Азбука»: на русскую орфографию ему, в общем-то, наплевать, но, поскольку по техническим причинам воплотить идею фикс переводчика-старовера было бы слишком накладно, на свет божий под видом набоковских текстов явились компромиссные, межеумочные варианты – языковые ублюдки, напоминающие олбанский йезыг падонкоф, свирепствовавший на просторах Интернета лет пять тому назад, а сейчас, кажется, вышедший из моды.
Таким образом, даже на уровне орфографии в «азбучном» «конволюте» нет единства. Если русские тексты Набокова печатаются в соответствии с современными нормами, то в разделе «Рассказы, написанные по-английски» то и дело наталкиваешься на таких орфографических уродов, как «безпрерывно», «безсмертие», «галлерея», «нещастлив», «обезпокоенный», «пре-рафаелиты», «разсказ», «разстояния», «разстегнутый», «троттуар», «шоффер» и т.п.
Именно они портят впечатление от барабтарловских переводов, которые в целом, к моему удивлению, оказались ничуть не хуже, чем переводы Д. Чекалова, составившие сборник «Со дна коробки», а тем более неряшливые переложения С. Ильина, заполонившие «симпозиумовское» собрание сочинений.
Конечно же, новые редакции переводов Г. Барабтарло, несмотря на все подчистки, перекраски, усушки и перефразировки, далеки от идеала. Вновь автор грешит манерной отсебятиной: например, передавая название рассказа «Scenes from the life of a double monster» как «Двуглавая невидаль. Сцены из жизни сросшихся близнецов» (откуда взялась эта «двуглавая невидаль»? в каком кошмарном сне привиделась?); или навязывая читателю аллюзию – тавтологически переводя фразу «…but he was always there, a freak, a young creature of clay» (P. 584)181 таким вот образом: «но всегда там был, молодой уродец, глиняный Голем» (С. 639), – видимо, забывая, что герой известной легенды и есть «глиняный человек».
Отсебятиной подпорчена и финальная сцена рассказа «Conversation piece, 1945» («Жанровая картина, 1945 г.»), в которой протагонист, обескураженный внезапным визитом незваного гостя (платонического, а может быть, и не совсем платонического гитлеровца), пытается найти его шляпу, по ошибке взятую накануне вечером: «I could not remember where I had put his fedora, and the feverish search I had to conduct, more or less in his presence, soon became ludicrous» (P. 596). В переводе Барабтарло фраза звучит так: «Я забыл, куда я положил его фетровую шляпу, и лихорадочные поиски, которые я принужден был затеять более или менее в его присутствии, скоро стали напоминать водевиль» (С. 643). Отметим не слишком изящный буквалистский повтор местоимения «я» в первой части предложения, а заодно напомним, что слово «водевиль», заменившее «ludicrous» (смехотворный), означает легковесную комедийную пьесу с танцами и песенками. Кто помнит содержание набоковского рассказа, согласится со мной, что некстати выбранное слово, помимо всего прочего, явно противоречит эмоциональной окраске всего эпизода: в указанной сцене рассказчику явно не до развеселых куплетов и танцев. Может быть, переводчик перепутал «водевиль» с «фарсом», словом, которое, как известно, означает не только разновидность комического действа, но и шутовскую выходку, непристойное, постыдное зрелище? Но неужели же г-н Барабтарло, уехавший из СССР в 1979 году – не на «философском пароходе» 1922-го и не с Врангелем в ноябре 1920-го, – настолько забыл родной язык, что путается в простейших понятиях?182
Помимо неуклюжих лексических подмен встречаются нам в обновленных переводах и синтаксические корявости («чем дальше мы бежали, тем становилось яснее, что то, что гнало нас…» (С. 604) – в оригинале: «and the father we fled, the clear it became that what was driving us…» (P. 562)183), и манерная архаизация имен собственных, которой, кстати, от него заразился и составитель. Вопреки современным нормам транслитерации, они пишут не «Генри Джеймс», а «Генри Джемс», не «Эдмунд Уилсон», а «Эдмунд Вильсон», вместо «Оскар Уайльд» – «Оскар Вайльд»… (Дай им волю, они бы, как в эмигрантских газетах тридцатых годов, писали «Хитлер», «Ольдус Гексли» и «Чанкайшек».)
Я не ставил перед собой задачу тщательного изучения переводов Г. Барабтарло. Повторяю, несмотря на отмеченные огрехи и несуразности, они не выглядят совсем уж безнадежными по сравнению с версиями его предшественников, у которых тоже при желании можно найти немало забавных перлов. Но, может быть, стоило для «итогового» сборника набоковских рассказов отказаться от пагубного принципа монополии одного переводчика? (Тем более если этот переводчик известен своими эксцентричными взглядами на перевод, на орфографию, да и на русский язык в целом.) Не лучше ли было бы представить в «Полном собрании рассказов» труды разных переводчиков? Ведь компетентный редактор смог бы отобрать наиболее удачные варианты из множества переводов и перепереводов, разумеется, еще раз перепроверив их, устранив ошибки и стилистические неуклюжести, – чтобы читателю, отправившемуся на прогулку по бархатным лужайкам набоковской прозы, не пришлось спотыкаться об орфографические колдобины и увязать в трясине неясности и неряшливости.
Весьма желательно, чтобы в этой прогулке нас сопровождали квалифицированный специалист по набоковскому творчеству и толмач, который способен адекватно передать очарование подлинника, не делая его творца жертвой сумасбродных теорий.
Жаль, что в «Полном собрании рассказов» в роли посредников между русскими читателями и автором выступили поднаторевший на саморекламе халтурщик да взбесившаяся лошадь просвещения.
Иностранная литература. 2014. № 3. С. 237–250.
Шарж Дэвида Левина
Шарж Ричарда Андерсона
ЗЛЕЙШИЕ ДРУЗЬЯ
О переписке Владимира Набокова и Эдмунда Уилсона
Владимир Набоков один из тех писателей, чей литературный канон в значительной мере состоит из посмертно изданных текстов. Помимо стихотворений и пьес, полностью собранных и изданных лишь после смерти автора, здесь можно вспомнить и новеллу «Волшебник», миниатюрную прото-«Лолиту», написанную по-русски осенью 1939 года и впервые опубликованную по-английски в 1989-м; три тома лекций по литературе; наконец, черновик незаконченного романа «Лаура и ее оригинал», недавно опубликованный вопреки воле Мастера – после изощренной рекламной кампании, в ходе которой предприимчивый наследник около года держал в напряжении набокофилов, поливая их контрастным душем противоречивых публичных заявлений, будто бы не решаясь расставить точки в тексте нехитрой арии: СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ИЗДАТЬ СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ИЗДАТЬ СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ИЗДАТЬ СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ИЗДАТЬ СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ИЗДАТЬ…
Среди этих замогильных публикаций, во многом обязанных своим появлением на книжном рынке желанию лишний раз заработать на громком имени, особое место занимает переписка Набокова с американским критиком Эдмундом Уилсоном (1895–1972). Замысел этого издания возник у Набокова еще в шестидесятые годы, когда отношения между корреспондентами уже разладились. Впервые он упомянул о нем в письме представителю издательства «Боллинген-пресс» (27 августа 1964 года). Сообщив о нежелании видеть Уилсона в качестве рецензента готовящегося издания «Евгения Онегина», Набоков тем не менее выразил надежду, что их переписка «когда-нибудь будет опубликована»184. Как опытный художник Набоков осознавал, что она таит в себе потенциальные качества интригующего эпистолярного романа – с двумя яркими протагонистами, четкой композицией и драматичной историей о многолетней дружбе-вражде, в которой причудливо переплелись искренняя душевная приязнь и взаимное непонимание, благородный альтруизм и жгучая зависть, общность интересов и принципиальные разногласия едва ли не по всем основным аспектам политики, эстетики, художественного перевода, стиховедения, лингвистики…
***
История эта началась в августе 1940 года, когда русский литератор, только что прибывший в США и нуждавшийся в заработке, послал одному из ведущих американских критиков письмо с просьбой о встрече. Во время встречи, состоявшейся 8 октября, влиятельный критик, временно занимавший пост литературного редактора журнала «Нью рипаблик», заказал незнакомцу несколько рецензий на книги, так или иначе связанные с русской темой, – предложение, за которое тот с радостью ухватился (эти рецензии стали его первыми публикациями в Америке). Незнакомцем, как вы уже догадались, был Владимир Набоков (подозреваю, читатели знают, кто это такой и почему в мае 1940 года он вместе с семьей бежал из Европы в Америку); заказчиком, естественно, Эдмунд Уилсон – критик, публицист, драматург, поэт, прозаик, короче говоря, стопроцентный the man of letters, «литератор до мозга костей» (Д. Эпстайн), о котором хотелось бы рассказать чуть более подробно, поскольку без этого не будет ясна прихотливая интрига эпистолярного романа о дружбе-вражде.
Родился он, как и Набоков, в богатой и просвещенной семье. Отец его был преуспевающим адвокатом и занимал ряд государственных должностей в Нью-Джерси при тогдашнем губернаторе Вудро Вильсоне (будущем президенте США), рассчитывая со временем стать членом Верховного суда. Замыслам этим не суждено было сбыться, и Эдмунд Уилсон-старший, и без того склонный к меланхолии, впал в депрессию, отгородившись от других членов семьи, которая, увы, не была столь безоблачно счастлива, как набоковская. Той душевной гармонии между сыном и родителями, о которой вспоминал Набоков в «Других берегах», здесь не было и в помине. Мать Уилсона, судя по его воспоминаниям, была особой недалекой и приземленной. Именно ей он был обязан дурацким прозвищем, приторно сюсюкающим словечком «Bunny»185: она называла его так не только дома, но и в школе, что не могли не взять на вооружение ехидные одноклассники. С той поры кличка намертво прилипла к несчастному, и, как он ни боролся с ней, все его близкие знакомые – и в школе, и в Принстонском университете, и позже, когда он был признан «Плутархом Америки» (А. Кейзин), «самым умным и проницательным критиком нашей эпохи» (К. Госс), – величали его Bunny: кролик, зайка, детка186.
Как это часто бывает с ранимыми и одинокими детьми, маленький Эдмунд нашел единственную отдушину в запойном чтении и сделался страстным книголюбом, благо отец собрал огромную библиотеку. Вот вам, кстати, еще одна общая черта между будущими корреспондентами. Правда, в отличие от своего русского друга-врага Эдмунд Уилсон никогда не увлекался спортом. «Рассказывают (это, возможно, апокриф, но весьма правдоподобный), что миссис Уилсон, обеспокоенная чрезмерной любовью сына к книгам, купила ему форму бейсболиста, надеясь, что игра со сверстниками отвлечет мальчика от книг. Эдмунд послушно облекся в бейсбольные доспехи, но через час мать обнаружила его сидящим под деревом – в полной форме и с книгой в руках»187.
По окончании школы Уилсон, как и полагалось молодому человеку его круга, совершил путешествие по Европе и продолжил образование в престижном университете. В Принстоне, где его однокашником был знаменитый в будущем писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд, на Эдмунда Уилсона большое влияние оказал преподаватель французской и итальянской литературы (впоследствии – декан университета) Кристиан Госс, с которым он поддерживал дружеские отношения вплоть до смерти последнего. Своему принстонскому наставнику, приобщившему его к европейской литературе, Уилсон во многом обязан широтой литературных вкусов и впечатляющим диапазоном культурных интересов (от психоанализа и марксизма до русской литературы и Кумранских рукописей), который так поражал собратьев-литераторов, сравнивавших его с гигантской, не перестающей расти секвойей, величественно возвышающейся над ландшафтом американской литературы. Именно от Госса, поклонника Тэна и Ренана, Уилсон, по собственному признанию, воспринял «понимание того, чем должна быть литературная критика, – историей человеческих понятий и представлений на фоне условий, определяющих их становление».
Однако окончательно сформировали характер и мировоззрение будущего «генерального секретаря американской литературы» (так шутливо стали называть Уилсона в шестидесятые) не просторные аудитории и тихие библиотечные залы Принстона, а больничные палаты и операционные американского госпиталя в Лотарингии. В 1917 году, после вступления США в Первую мировую войну, Банни, несмотря на отвращение к армейской службе, добровольно записался санитаром в воинскую часть, сражавшуюся во Франции. Находясь далеко от передовой, он не подвергался непосредственной опасности, однако, ухаживая за ранеными и перетаскивая тела умерших, на всю жизнь проникся отвращением к войне и причинам, ее породившим. Позже он напишет рассказ, в котором передаст свои впечатления от увиденного главному герою и вложит в его уста клятву: посвятить себя служению «великим человеческим ценностям: Литературе, Истории, созданию Красоты, поискам Истины».
Этой «аннибаловой клятве» Эдмунд Уилсон старался следовать всю жизнь, полную духовных поисков и метаний, заблуждений и прозрений, пылких увлечений и тягостных разочарований.
После демобилизации Уилсон поселился в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж, в ту пору считавшемся центром интеллектуальной жизни Америки. Он стал сначала сотрудником, а вскоре и редактором самого модного тогда журнала «Vanity Fair», в котором печатались его друзья: прозаики Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Джон Дос Пассос, поэты Джон Пил Бишоп и Стивен Винсент Бенэ, – и вскоре занял видное место среди нью-йоркских интеллектуалов. Отличаясь независимостью суждений и свободолюбием, в литературных джунглях Америки он был «волком-одиночкой»: держался в стороне от группировок и школ, «никогда не был прочно связан ни с одним из университетов, никогда не подчинял свое творчество каким бы то ни было методам и направлениям»188 (хотя периодически отдавал дань то фрейдизму, то культурно-исторической школе) и благодаря твердому характеру «поставил себя в такое положение, что мог зарабатывать на жизнь, оставаясь свободным критиком и не идя при этом на интеллектуальный компромисс»189.
Всеобщее признание ему принес сборник эссе «Замок Акселя» (1931), посвященный малоизвестным в тогдашней Америке авторам, которые ныне считаются классиками ХХ века: Полю Валери, Джойсу, Прусту, Йейтсу, Т.С. Элиоту, Гертруде Стайн и др. В книге, утвердившей за Уилсоном репутацию первоклассного критика, был дан глубокий анализ новейших течений европейской словесности и рассмотрены «проклятые» вопросы – о смысле литературного творчества и роли писателя в современном обществе. По твердому убеждению Уилсона, главное качество, присущее настоящему художнику, – «сила, опирающаяся на глубокое знакомство с жизнью, интерес и сочувствие к людям, тесная связь с общественным мнением и участие в общественной жизни через литературу». Выводы, которые предлагались читателям «Замка Акселя», не только помогли сформулировать эстетическое кредо Уилсона и определили характер всей его дальнейшей литературно-критической деятельности, но и заложили фундамент для будущих споров и конфликтов с Владимиром Набоковым, который, как мы помним, вставал на дыбы при малейшем упоминании об общественной жизни и неустанно повторял, что «к писанью прозы и стихов не имеют никакого отношения добрые человеческие чувства, или турбины, или религии, или духовные запросы, или “отзыв на современность”» (из письма З.Н. Шаховской)190.
Будь они знакомы в середине тридцатых, Набоков еще более резко отнесся бы к очередному увлечению Уилсона: марксизму.
Отгремел, отблистал суматошный и беспечный «век джаза», наступили «новые времена». Нагрянувшая Великая депрессия, установление в Европе фашистских (Италия, Германия) и авторитарных режимов (Польша времен Пилсудского, Венгрия в период «регентства» Хорти), а еще раньше – скандальное дело Сакко и Ванцетти, – всё это заставило изрядно «полеветь» многих американских интеллектуалов, усомнившихся в ценностях буржуазной демократии. Позитивным противовесом «загнивающему Западу» им виделся Советский Союз, в котором под мудрым руководством коммунистической партии созидался «дивный новый мир», где «так вольно дышит человек».
В «красные тридцатые» модное поветрие не минуло и Уилсона. Он сблизился с американскими коммунистами, начал активно штудировать работы Маркса и так увлекся красивой теорией, что решил проверить, как она воплотилась на практике в стране победившего сталинизма. В мае 1935 года, получив субсидию от фонда Гуггенхайма, с рекомендательным письмом Дос Пассоса, тогдашнего друга Советского Союза, Уилсон оправился за правдой и идеалами в страну большевиков, где пробыл несколько месяцев: осмотрел стандартные достопримечательности Питера и Москвы, насладился мейерхольдовской постановкой «Пиковой дамы», поглазел на парад физкультурников и совершил хадж в Ульяновск, к Дому-музею В.И. Ленина. Конечно, Уилсон был слишком здравомыслящим человеком, чтобы во время своего паломничества не обратить внимание на уродства сталинского режима. Общаясь с аборигенами, он не мог не почувствовать, что они словно окутаны плотным облаком страха и подозрительности. Едва ли не единственным исключением оказался Дмитрий Святополк-Мирский, потомок Рюриковичей, белоэмигрант, ставший коммунистом и при посредничестве Максима Горького вернувшийся в Советскую Россию. Именно «товарищ князь» (ему оставалось гулять на свободе всего лишь два года) по-настоящему заинтересовал заморского гостя русской литературой и особенно творчеством Пушкина, что, кстати, и предопределило знакомство и многолетнюю дружбу Уилсона и Набокова.
Пожалуй, встреча с Мирским оказалась главнейшим событием в советской эпопее Уилсона191. Заниматься в Институте марксизма-ленинизма и изучать по первоисточникам историю русского революционного движения ему, несмотря на рекомендательные письма Дос Пассоса, не разрешили. Зато Америка получила одного из самых вдумчивых исследователей и пылких пропагандистов русской литературы (роль, которую до него, как правило, играли иммигранты-евреи, еще до революции покинувшие Россию в детском или юношеском возрасте: Александр Каун, Джон Курнос (Коршун), Авраам Ярмолинский).
Всерьез взявшись за изучение русского языка (которым, судя по его письмам Набокову и язвительным шуткам последнего, он овладел лишь пассивно, то есть мог читать, но не умел свободно на нем изъясняться), Уилсон как никто другой из тогдашних американских интеллектуалов углубился в русскую литературу и культуру. Уже через год после своего паломничества в СССР он пишет прочувствованное эссе о Пушкине, в котором попытался «объяснить англоязычным читателям его роль и значение». Позже из-под его пера выйдут интересные эссе о Гоголе, Тургеневе и Чехове, а также статьи о неведомых даже культурному американскому читателю русских драматургах: Грибоедове и Сухово-Кобылине. К сожалению, в своем постижении богатств русской литературы он ограничился исследованием ее Золотого века и совершенно пренебрег веком Серебряным – возможно, под влиянием модного среди американских «большевизанов» Льва Троцкого, автора книги «Литература и революция», едва ли не всю русскую литературу после 1905 года объявившего «упадочной».
Не без влияния работ опального наркомвоенмора Уилсон написал нашумевшую в свое время книгу «К Финляндскому вокзалу» (1940), в которой прослеживал развитие социалистических идей: от зарождения в трудах итальянского философа Джамбаттисты Вико до их «торжества», ознаменованного приездом Ленина на Финляндский вокзал и победой Октябрьской революции.
В год издания книги жизнь Уилсона была отмечена двумя событиями: в декабре от сердечного приступа умер его давний приятель Скотт Фицджеральд; а еще раньше, в августе, к нему с просьбой о встрече обратился никому не ведомый в Америке русский писатель, с которым ему суждено было подружиться, на многие годы став его наперсником, корреспондентом, соавтором, проводником в журнально-издательском лабиринте и, конечно же, вызывающим полемический задор оппонентом.
***
Обаятельный экспатриант с труднопроизносимой фамилией «Na-bo-kov» при первой же встрече произвел на Уилсона чарующее впечатление, которое еще больше усилилось, когда он прислал свои остроумные рецензии. В письме к старому другу и наставнику Кристиану Госсу (от 4 ноября 1940 года) Уилсон с восторгом отозвался о новом знакомом: «…Хочу также напомнить тебе о Владимире Набокове, про которого я рассказывал, когда был в Принстоне… Его английский превосходен (он учился в Кембридже). Я поражен великолепным качеством его рецензий. Он отличный малый и считается русскими самым значительным талантом среди эмигрантских писателей после Бунина, который старше его. Некоторые из его романов переведены и изданы у нас. Он хочет прочесть лекцию “Искусство и пропаганда в России” – его уже пригласили в Корнелл и Уэллсли. Его воззрения ни белоэмигрантские, ни коммунистические. Он из семьи либеральных помещиков, представлявших интеллектуальную вершину своего класса. Отец его был знаменитым лидером кадетской партии. Владимир сейчас в довольно сложном положении. У него жена, кажется, полуеврейка; он бежал из Франции, когда туда пришли немцы»192.
Дальнейшие встречи еще больше усилили взаимную симпатию. За ужином у их общего знакомого, предпринимателя Романа Гринберга, будущего редактора «Опытов» и «Воздушных путей», лучших послевоенных изданий первой эмиграции, Уилсон предложил Набокову перевести на английский «Моцарта и Сальери», на что тот с энтузиазмом согласился. К тому времени, когда был опубликован их совместный перевод пушкинского шедевра193, оба, по свидетельству наблюдавшей за ними Мэри Маккарти, тогдашней жены Уилсона, «просто души не чаяли друг в друге».
Они сошлись: волна и камень, / Стихи и проза, лед и пламень / Не столь различны… Впрочем, на различия, не замедлившиеся проявиться при более близком общении, в медовые месяцы их знакомства они почти не обращали внимания – упиваясь интеллектуальной близостью и сходством литературных пристрастий, среди которых первое место занимали идолы европейского модернизма (Кафка, Джойс, Пруст) и классики русской литературы: Пушкин, Гоголь, Толстой, которых только-только открыл для себя любознательный Банни.
Уилсон нашел в Набокове не только остроумного и интересного собеседника, не только знатока русской литературы и талантливого переводчика, но и самобытного писателя, по масштабу равного Джозефу Конраду или Вирджинии Вулф (сравнения, от которых Volodya, наверное, внутренне передергивался). Он пришел в восторг от первого англоязычного романа Набокова «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и написал к нему хвалебную рекламную аннотацию, что стало лучшей рекомендацией если не для широкого читателя (которому в 1941 году, после нападения японцев на Пёрл-Харбор, явно было не до изящной словесности), то для литературной элиты; а в 1944 году откликнулся доброжелательной рецензией на эксцентричную литературоведческую книгу «Николай Гоголь».
Напомню: по той роли, которую Уилсон играл в американской культуре тридцатых–сороковых годов прошлого века, его смело можно сопоставить с нашим «неистовым Виссарионом». Писатели с трепетом ждали его критических приговоров, которые могли создать или, наоборот, погубить их репутацию. Для новичков хвалебный отзыв Уилсона был равнозначен признанию в литературных кругах, разносная рецензия – равносильна черной метке. Например, литературные акции Сола Беллоу резко пошли вверх, после того как Уилсон одобрительно отозвался о его дебютном романе «Между небом и землей»194. А вот с писательницей Карсон Маккалерс, по воспоминаниям очевидцев, прямо посреди улицы случилась настоящая истерика, когда она купила номер «Нью-Йоркера» и прочла там разгромную рецензию Уилсона на ее роман «Гостья на свадьбе»195.
«Генеральный секретарь американской литературы» был не только губителем, но и делателем репутаций, открывателем новых имен в отечественной литературе (своим успехом у публики ему во многом были обязаны такие писатели, как Хемингуэй, Дос Пассос и Скотт Фицджеральд); благодаря его советам, его хлопотам, его связям в издательствах и журналах перед никому не известным русским автором открылась дорога в мир большой литературы: его художественные произведения и переводы стали печатать в ведущих американских журналах: «Атлантик», «Нью рипаблик», «Нью-Йоркер». Уилсон выступил не только в качестве внутреннего рецензента и редактора, тактично исправлявшего стилистические погрешности в первых англоязычных творениях Набокова (которые тот на первых порах предъявлял ему на суд), но и в роли своеобразного литературного импресарио: пристраивал рукописи, знакомил с издателями, защищал от мелочных придирок редакторов «Нью-Йоркера», пекущихся об интеллектуальном комфорте «среднего читателя» и оправдывающих свое существование топорной правкой набоковских текстов. Так, например, 12 ноября 1947 года он послал сердитое письмо литературному редактору «Нью-Йоркера» Кэтрин Уайт, в котором возмущался тем, как ее коллеги обошлись с набоковским рассказом «Знаки и символы»: «Ума не приложу, как кто-то может не понять рассказ, подобно вашим редакторам, или возражать против отдельных подробностей; а тот факт, что по их поводу возникли сомнения, наводит на мысль о поистине тревожном состоянии редакторского ступора. Если редакция “Нью-Йоркера” будет утверждать, что рассказ написан как пародия, я рассержусь точно так же, как, по твоим словам, рассердился Набоков (удивляюсь, что он до сих пор никого не вызвал на дуэль). <…> Ужасно, что рассказ Набокова, такой тонкий и ясный, в глазах редакторов “Нью-Йоркера” превратился в заумный психиатрический опус. (Как могут они заявлять о том, что рассказ грешит литературщиной?) Он может показаться таким по сравнению с теми бессмысленными и пустоватыми анекдотами, которые выходят из-под механического пресса “Нью-Йоркера” и о которых читатель забывает две минуты спустя после прочтения»196.
Разумеется, не стоит закрывать глаза и на серьезные расхождения между новыми друзьями, которые выявились почти сразу же после их знакомства и постепенно, исподволь стали подтачивать их дружескую идиллию.
«Большевизан» Уилсон, несмотря на антипатию к Сталину еще не изживший многие розовые иллюзии197, и стойкий антикоммунист Набоков не могли не разойтись на политической почве. Поводом стала уилсоновская книга «К Финляндскому вокзалу», не свободная от сентиментальной идеализации Ленина и «старых большевиков». Одолев ее, Набоков отправил автору пространное письмо (по сути, отповедь), в котором попытался разрушить розовый «Замок Эдмунда» и покусился на святая святых всех западных «левых»: светлый лик вождя мирового пролетариата и его учение: «…Чудовищный парадокс ленинизма заключается в том, что эти материалисты считали возможным пожертвовать жизнью миллионов конкретных людей ради гипотетических миллионов, которые когда-нибудь будут счастливы»198.
Вежливые возражения и оправдания Уилсона (в письме от 19 декабря 1940 года): мол, к Ленину Набоков пристрастен, поскольку видит в нем только чудовище, а не человека; в изображении Ленина «я пытался уйти от официальных стереотипов» и опирался на надежные источники: семейные мемуары, сочинения Троцкого, воспоминания Горького и Клары Цеткин, и вообще, «я не верю, что Горький, столь серьезно расходясь во мнениях с Лениным, мог бы дружить с человеком, которого Вы воображаете»199 – эти и другие, по выражению Бориса Парамонова, «благоглупости высокопросвещенного западного интеллектуала»200 (например, уверенность в том, что Ленин был «великодушным гуманистом, свободолюбивым демократом и чутким критиком литературы и искусства») еще больше раззадоривали «аполитичного» Набокова и провоцировали его на новые публицистические атаки и разоблачения.
Помимо расхождений в политических вопросах у корреспондентов всё чаще стали выявляться противоположные взгляды на литературу и искусство. Уилсону, видевшему в литературе прежде всего «наиболее важное свидетельство человеческих дерзаний и борьбы», претил догматичный эстетизм Набокова, твердо убежденного в том, «что значимо в литературе только одно: (более или менее иррациональное) shamanstvo книги», что «хороший писатель – это в первую очередь шаман, волшебник». Постепенно выяснилось, что добровольному импресарио и литературному агенту, так помогавшему «дорогому Володе» освоиться в литературном мире Америки, не пришлись по душе многие его творения. Да, ему понравились «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и, с оговорками, «Николай Гоголь» и англоязычная версия «Камеры обскуры» «Смех во тьме» (как позже – «Пнин» и «Убедительное доказательство»); однако он не оценил по достоинству один из лучших русскоязычных романов Набокова, «Отчаяние», и не осилил «Приглашение на казнь», как и другой набоковский шедевр: «Дар». Первый американский роман Набокова «Под знаком незаконнорожденных» его и вовсе разочаровал, о чем он честно написал в пространном письме, представляющем собой въедливую рецензию (надо полагать, она уязвила самолюбие автора).
Со своей стороны Набоков, известный чудовищным эгоцентризмом201 и нелюбовью едва ли не к большинству общепризнанных литературных авторитетов (как классиков, так современников), не раз и не два расхолаживал «дорого Банни» язвительными отзывами о его любимых писателях. Человек увлекающийся, привыкший щедро делиться с друзьями литературными впечатлениями и открытиями новых имен, Уилсон пытался приобщить «Володю» к творчеству Фолкнера, Мальро, Томаса Манна, Т.С. Элиота и прочих тогдашних знаменитостей, которых тот неизменно третировал как посредственностей, «банальных баловней буржуазии», представителей ненавистной ему литературы «Больших идей». (Столь же неприязненно Набоков отзывался и об именитых авторах прошлого: Филдинге, Стендале, Достоевском, Тургеневе, Генри Джеймсе… Пожалуй, только в случае с Диккенсом и Джейн Остин Уилсону удалось переубедить капризного приятеля, который, поворчав, всё же включил их произведения в свой университетский курс.) Впрочем, восторженные эпитеты, которыми Уилсон награждал очередного фаворита (вроде того, что Мальро – «крупнейший современный писатель» или Фолкнер – «это самый замечательный современный американский прозаик»), не могли не казаться бестактными «самоупоенному виртуозу»202, который хорошо знал, кто на самом деле «крупнейший современный писатель».
Не могло не раздражать Набокова и странное упрямство, которое его американский друг самонадеянно проявлял в тех вопросах, в которых был малокомпетентен. Чего стоят, например, мягко говоря, странные теории Уилсона об особенностях русской версификации или трактовка пушкинского «романа в стихах», согласно которой главный герой злонамеренно убил своего юного приятеля. Поначалу Набоков, как мог, терпеливо разъяснял Уилсону его ошибки: посылая ему целые трактаты о русском стихосложении (письмо от 24 августа 1942 года) или включая в свои эпистолы мини-эссе о неписаных правилах русских поединков (письмо от 4 января 1949 года). Однако у того появлялись все новые вопросы и замечания – по поводу этимологии и произношения тех или иных слов, по поводу «нелепых отклонений от нормы, которыми так богата русская грамматика»; он даже пытался писать по-русски – «А у нея по шейку паук»203; «Ну, завозы боку держали дам»204, – комично перевирая слова, коверкая грамматику, путая латиницу и кириллицу, вместо «Бог» получая «Вог», что вряд ли всегда вызывало умиление у «глубокоуважаемого Вовы». И если в посланиях «дорогому Банни» он старался воздерживаться от чересчур резкой критики, то в письмах к общим знакомым порой недвусмысленно высказывал свое отношение к нему как к специалисту по русскому языку и литературе: «Прочел Эдмундову книжицу. Есть кое-что милое; <…> но все, что касается России, так вздорно, так с кондачка, так неправильно» (из письма Роману Гринбергу от 5 октября 1952 года)205.
Вряд ли случайно, что так и не был осуществлен проект их совместной книги о русской литературе, которую они обсуждали на протяжении нескольких лет (и за которую даже получили аванс от издательства «Даблдей»); вряд ли случайно, что после сдержанно-уважительной рецензии на «Николая Гоголя» Уилсон не откликнулся в печати ни на одну из набоковских книг, вышедших в сороковых–пятидесятых, хотя порой грозился прочесть все сочинения приятеля и написать «эссе, которое, боюсь, разозлит его»206.
В конце концов даже любимый обоими Пушкин стал для них яблоком раздора: все чаще разговоры о нем выливались в ожесточенные прения относительно того, знал ли он английский язык и как правильнее перевести ту или иную строчку из «Евгения Онегина».
К середине пятидесятых напряжение между друзьями нарастает, в некогда прочном здании их дружбы появляется всё больше трещин; письма всё гуще щетинятся колкостями и упреками; за дежурными комплиментами в них то и дело сквозит холодок взаимного раздражения и непонимания.
Вероятно, по мере того, как Набоков обретал репутацию крупнейшего мастера англоязычной прозы, оставляя в тени своего друга и благодетеля и все обиднее подтрунивая над ним в письмах, в чувства Уилсона к «дорогому Володе» стали примешиваться писательская ревность и элементарная зависть.
Взаимное охлаждение усилилось после того, как Уилсон, проницательный критик и, кстати, автор сборника новелл «Воспоминания об округе Геката», запрещенного за «аморальность», счел «Лолиту», любимое детище Набокова, самым слабым его романом207. Феноменальный успех «Лолиты», принесшей своему создателю богатство и славу, ознаменовал начало конца их многолетней дружбы. Уилсон не простил Набокову его триумфа. Тот, в свою очередь, был недоволен восторженной уилсоновской статьей о «Докторе Живаго». Уилсон имел наглость назвать «одним из величайших явлений в истории человеческой литературы и нравственности»208 роман, который вытеснил «бедную американскую девочку» с первого места книжного хит-парада за 1959 год и по поводу которого «мистер-“Лолита”» (как окрестили Набокова журналисты) неустанно изливал желчь в письмах и интервью: «Доктор Живаго – произведение удручающее, тяжеловесное и мелодраматичное, с шаблонными ситуациями, бродячими разбойниками и тривиальными совпадениями»209; «неуклюжая и глупая книга, мелодраматическая дрянь, фальшивая исторически, психологически и мистически, полная пошлейших приемчиков…»210; «среднего качества мелодрама с троцкистской тенденцией»211 – и т.д.
После переезда Набокова в Европу влиятельный критик и прославленный романист формально поддерживали приятельские отношения: изредка обменивались письмами и поздравительными открытками, в которых, однако, не осталось и следа от интеллектуального блеска и сердечного тепла, согревавшего послания «ранней, светозарной эры» их отношений. Некогда бурный поток их переписки мельчает и вырождается в хилый ручеек.
В январе 1964-го Уилсон навестил Набокова в его шикарной швейцарской резиденции «Монтрё-Палас», и это свидание, казалось бы, воскресило былую приязнь, однако последовавшее вскоре L’affaire Onéguine поставило крест на их дружбе.
Шарж Брюса Макгиллири
***
Набоков и Уилсон уже давно ломали копья по поводу пушкинского «романа в стихах», но одно дело – приватные споры где-нибудь на крылечке загородного коттеджа, за бутылкой шампанского, другое – публикация придирчивой статьи, в которой объявлялось, что как переводчик и комментатор «Евгения Онегина» Набоков потерпел сокрушительное фиаско212.
Разгромная рецензия Уилсона на «абсолютно буквальный» набоковский перевод «Онегина» вызвала раздраженный ответ уязвленного переводчика. Защищая «своего бедного монстра», он выразил недовольство «странным тоном статьи», назвал ее «смесью напыщенного апломба и брюзгливого невежества»213 и с легкостью уличил рецензента в нескольких языковых ошибках, сведя дискуссию к тому, что тот плохо знал русский язык (последнее было верно, хотя и не делало менее ухабистой ту «честную дорожную прозу», в которую ради чистоты буквалистской теории был превращен поэтический шедевр Пушкина). «Охочий до журнальной драки» «Кролик» показал волчьи зубы и вступил в полемику, которая вскоре перекинулась со страниц «Нью-Йоркского книжного обозрения» на другие англоязычные издания и чем дальше, тем больше напоминала «Шоу Щекотки и Царапки», а не те «жаркие, блещущие остроумием споры», которые лет двадцать назад «лишь вдохновляли этих двух упрямых, воинственных и яростно независимых интеллектуалов»214.
Разгоревшаяся в англо-американской прессе литературная война (в которой многие авторитетные литературоведы встали на сторону Уилсона) Набокова явно не вдохновляла. Статью Уилсона (скажем откровенно, несмотря на ошибки в частностях, справедливую в целом) он воспринял как предательство и личное оскорбление – в то время как тот искренне «считал свою рецензию здоровой и честной критикой, а вовсе не злобным поклепом»215. Сказался ли тут «феноменальный эгоцентризм»216 Набокова, или здесь особенно ярко проявились принципиальные различия в том, как относятся к литературной критике западные и русские литераторы, – это уже не важно. Главное, что после тех оплеух, которыми противники обменялись в ходе «Онегинской» контроверзы, их дружба приказала долго жить. Вместе с перепиской…
Правда, Уилсон довольно неуклюже попытался примириться и пару раз одарил оппонента рождественскими открытками, в которых выражал сожаление по поводу завершения полемики, доставившей ему «столько наслаждения». Набоков, оказавшийся более тонкокожим, чем, вероятно, рассчитывал Уилсон, «ответил с натянутой вежливостью: «Хотя мне наша “полемика” отнюдь не доставила того наслаждения, которое, как ты говоришь, она доставляла тебе, я хотел бы поблагодарить тебя за поздравление с Рождеством»217. Когда же упрямый Банни через их общего приятеля Романа Гринберга обратил внимание обиженного пушкиниста на обстоятельную (и куда более критичную, чем уилсоновская) рецензию гарвардского профессора Александра Гершенкрона218, развенчавшего буквалистскую теорию Набокова и раздраконившего его перевод «Онегина», тот прочитал «статейку» и ответил, отбросив всякую вежливость: «…а Уилсону, подсунувшему ее тебе, передай, что он прохвост»219.
На несколько лет экс-друзья прекратили всякие контакты. Набоков, ставший международной знаменитостью, один за другим издавал на английском свои довоенные произведения и все прочнее утверждался на литературном Олимпе в статусе живого классика. Уилсон, поостывший к русской литературе, да и к изящной словесности вообще, все так же был по-кроличьи плодовит и много печатался, но обращался преимущественно к социокультурным и общественно-политическим темам.
Кстати, в области политики они занимали прямо противоположные позиции. Уилсон, всегда питавший антипатию к американскому истеблишменту, горячо протестовал против вьетнамской авантюры США и, не стесняясь в выражениях, отказался от предложения Линдона Джонсона участвовать в официальной встрече. Напротив, Набоков, лишь два раза выбравшийся из своего монтрейского убежища в США, исправно играл роль американского патриота в многочисленных интервью, выражая недоверие вьетнамским репортажам Мэри Маккарти220 и сожалея о «позиции недалеких и бесчестных людей, которые смехотворным образом сравнивают <…> Освенцим с атомной бомбой и безжалостный империализм СССР с прямой и бескорыстной помощью, оказываемой США бедствующим странам»221. В октябре 1965 года он даже послал верноподданническую телеграмму заболевшему Линдону Джонсону с пожеланием «выздоровления и скорейшего возвращения к той восхитительной работе, которую Вы делаете» (автор послания не уточнил, имеет ли он в виду бомбежки Северного Вьетнама или интервенцию в Доминиканскую Республику)222.
***
После долгой паузы Набоков, видимо, оправившийся от болезненной перепалки по поводу «Евгения Онегина», попытался возобновить переписку и, что называется, протянул Уилсону руку дружбы: в марте 1971 года он послал ему любезное письмо, на которое тот откликнулся столь же теплым посланием. Казалось бы, согласие между двумя незаурядными личностями восстановится и после бурных перипетий сюжет их долгого эпистолярного романа разрешится благополучной развязкой. Увы, этого не произошло. «Контрастно-тематическая» фуга их переписки, в которой два голоса на равных вели свои партии, увенчалась не гармоничным синтезом, а зловещим диссонансом. Дневниковый отрывок из книги Уилсона «На севере штата Нью-Йорк. Записки и воспоминания» (1971), в котором он описал визит к Набоковым в мае 1957 года и дал нелицеприятную характеристику своему злейшему другу в терминах фрейдовского психоанализа, сделал примирение невозможным. Монтрейский небожитель, болезненно реагировавший на любые попытки копаться в его сокровенном «я», обрушился на непрошеного психоаналитика в гневном письме, напечатанном в книжном обозрении «Нью-Йорк Таймс»: «…Мне известно, что здоровье моего бывшего друга оставляет желать лучшего, однако в борьбе между обязанностью проявлять сострадание и защищать собственную честь побеждает честь. Так вот, следовало бы, на мой взгляд, ввести правило или закон, согласно которому публикация “старых дневников”, (предпринятая, хочется надеяться, чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего дня, который в пору их написания был днем завтрашним), где живые люди являются не более чем дрессированными пуделями, действующими по указке автора, была бы невозможна без формального согласия, полученного от жертв сомнительных догадок, невежества и измышлений»223.
Как и в середине шестидесятых, в эпоху L’affaire Onéguine, их переписка вышла на всеобщее обозрение. Правда, у тяжело больного Уилсона уже не было сил для борьбы, и он ответил кратко (и, на мой взгляд, достойно), процитировав фразу, с которой Дега обратился к англо-американскому художнику Уистлеру: «Ты ведешь себя так, как будто у тебя нет таланта»224.
Набоков, конечно, не был лишен таланта. Не был он и настолько злопамятным и жестокосердым, чтобы бесконечно питать недоброе чувство к давнему другу и покровителю. Весной 1974 года, спустя два года после смерти Уилсона, он по просьбе вдовы, собиравшей корреспонденцию мужа, перечитал всю многолетнюю переписку, расчувствовался и предложил издать ее отдельным томом. Договорившись с Еленой Уилсон, в 1976 году Набоков обратился в издательство «Макгроу-Хилл» и даже нашел редактора будущей книги, выдающегося литературоведа Саймона (Семена Аркадьевича) Карлинского (1924–2009), автора блистательных эссе о набоковской прозе. Занятый другими проектами, Карлинский отложил работу над изданием и смог приступить к ней лишь после того, когда заказчик отступил «в ту область ночи, откуда возвращенья нет», и оба корреспондента наконец-то встретились и, возможно, примирились – хотя бы и по ту сторону «дымчатого занавеса».
Под присмотром двух вдов, вымаравших наиболее резкие замечания о современниках (в частности, пренебрежительные отзывы Набокова о Солженицыне, Василии Яновском и американском журналисте Солсбери), Карлинский подготовил к печати внушительный том из 264 писем, снабженный вдумчивым предисловием и содержательными примечаниями225. Впрочем, этот эпистолярный корпус оказался неполным: после смерти обеих вдов Карлинскому с помощью набоковского биографа Брайана Бойда удалось наскрести по архивным сусекам ни много ни мало еще пятьдесят девять писем, которые были включены в исправленное издание, вышедшее в 2001 году.
«Переписка Набокова – Уилсона» вызвала разноречивые отклики. Некоторые англоязычные рецензенты восприняли ее лишь как любопытную хронику противостояния двух капризных «литературных примадонн»226, «поле битвы тщеславия, художнического самомнения и педантизма»227. Протоирею Александру Шмеману она показалась «неинтересной, поверхностной», отмеченной чрезмерной «одержимостью литературой»228. Не слишком лестно отозвался о ней известный славист Жорж Нива: «Я прочел эти письма сразу по выходе в свет первого английского издания 1979 г., и у меня осталось неприятное впечатление: к самолюбованию корреспондентов вскоре присоединяется глухое взаимное непонимание, которое постоянно усугубляется новыми недоразумениями. Особенно раздражал меня Уилсон: он идиотски пытался учить Набокова русской просодии и <…> так часто оказывался, сам того не желая, в роли высокомерного невежды, что вся переписка показалась мне чем-то на редкость негармоничным»229.
Тем не менее, «Переписка Набокова – Уилсона» прочно вошла в культурный обиход Запада. Она не только была растащена на цитаты профессиональными «набокоедами» и стала незаменимым сырьем для многочисленных диссертаций по творчеству Набокова, но и была инсценирована в нью-йоркском театре, причем роль Владимира Набокова играл его сын.
К сожалению, «Переписка Набокова – Уилсона» долгие годы не была переведена на русский язык; российские читатели могли судить о ней разве что по пристрастным пересказам набоковских биографов. Между тем для любознательного читателя она представляет несомненный интерес – и как захватывающий рассказ о вживании выдающегося русского писателя в американскую культуру, и как экскурс в интеллектуальную жизнь Америки сороковых–пятидесятых годов прошлого века, и как своеобразный эпистолярный роман между знаменитыми литераторами, друзьями-антагонистами, которые, несмотря на этнокультурные стереотипы и всплески себялюбия, достаточно долго поддерживали взаимообогащающий диалог и в меру своих сил способствовали перекрестному опылению двух великих культур.
Время приглушило остроту их разногласий по политическим вопросам; их литературные симпатии и антипатии у каждого из нас могут вызвать недоумение, а споры по поводу русской просодии – скуку. Однако запечатленная в переписке драма зарождения, расцвета и угасания дружбы двух незаурядных личностей будет актуальна во все времена и привлечет не одних поклонников Набокова, но каждого, кто хоть один раз в жизни познал хрупкое счастье дружеской приязни и вкусил сладкую горечь ее увядания.
Иностранная литература. 2010. № 1. С. 80–96.
Шарж Джона Спрингса
СЕАНС С РАЗОБЛАЧЕНИЕМ, ИЛИ ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В СТАРОСТИ
Как? Великий человек? – Я все еще вижу только актера собственного идеала.
Фридрих НицшеЧеловек менее всего оказывается самим собой, говоря о собственной персоне. Позвольте ему надеть маску, и вы услышите от него истину.
Оскар УайльдЯ замечаю, что во всех искусствах, и особенно в искусстве писательском, стремление доставить некое удовольствие нечувствительно уступает стремлению внушить публике желаемый образ автора.
Поль ВалериЛет тридцать назад, когда на английском один за другим публиковались русские романы и рассказы Владимира Набокова, американские критики сравнивали реинкарнированные набоковские творения с изящными мелодиями из мюнхгаузеновской сказки, которые – к удивлению правдивейшего барона и его спутников, пригревшихся у камина, – внезапно полились из почтового рожка. Начиная с баснословных перестроечных времен нечто похожее наблюдают и российские читатели. Подобно оттаявшим мюнхгаузеновским мелодиям, сначала зазвучали русскоязычные творения Мастера. Вскоре к их красочному многоголосию присоединился чистый напев «Лолиты», «бедной американской девочки», прославившей писателя на весь мир, но в нашей «чопорной отчизне» долгие годы влачившей жалкое подпольное существование, – «Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та…»
Чуть позже – в интерпретации самоотверженных энтузиастов-переводчиков – заиграли и другие англоязычные произведения Набокова. К настоящему времени практически все они обрели второе рождение и, «оттаяв», исполняют свои партии уже на русском языке: одни звонко и отчетливо, другие глуше и бесцветнее, а кое-кто и вовсе фальшиво, греша корявыми кальками и безвкусными американизмами, сбиваясь на фальцет беспардонной отсебятины, достойной разве что снисходительного сочувствия да поощрительной «премии Ливанской Академии» (так один поспешно канонизированный переводчик передал игривый перевертыш из «Ады»: Lebon Academy Prize).
По мере знакомства с необъятным творческим наследием писателя вслед за вершиной айсберга – романами, переведенными едва ли не на все языки мира и изъезженными вдоль и поперек целой армией набоковедов, – нам открылась (и продолжает открываться) его внушительная подводная часть: до сих пор не собранные полностью и не изданные письма, среди которых попадаются настоящие шедевры уже умершего эпистолярного жанра, эссе, критические статьи и литературоведческие штудии. Благодаря им перед нами предстает «другой Набоков»: не только удачливый создатель сенсационных бестселлеров, но и дотошный исследователь, эссеист, ученый, практик и теоретик перевода, автор блистательного литературоведческого труда о Гоголе, циклопических комментариев к «Евгению Онегину» и лекций по западноевропейской и русской литературе – сочинений, далеких от канонов академического литературоведения: часто пристрастных, напитанных полемическим ядом, порой разжиженных многословными пересказами и непомерно длинными цитатами, но всегда ярких, завораживающе убедительных, поражающих новизной авторского видения, меткостью наблюдений и точностью формулировок, заставляющих отрешиться от стереотипов и, преодолев благоговейную оторопь, по-новому взглянуть на хрестоматийные произведения.
Все вышеперечисленные достоинства присущи и критическим работам Владимира Набокова, без которых немыслимо полноценное осмысление его творческого «я», но которые даже для многих исследователей все еще – terra incognita.
В сознании современного читателя Набоков-критик (как и Набоков-поэт, Набоков-драматург, Набоков-переводчик) заслонен Набоковым-романистом. В какой-то степени это справедливо. Не приходится спорить с тем, что удивительный творческий дар Набокова с наибольшей полнотой выразился именно в жанре романа. Да и сам писатель не обижался, когда иные американские журналисты именовали его «мистер “Лолита”», а о своих литературоведческих и критических работах часто отзывался довольно пренебрежительно. Рецензии берлинской поры он аттестовал как «посредственные критические заметки» («Другие берега», гл. 13, 3), «Николая Гоголя» назвал «довольно поверхностной книжкой»230, к корнеллским лекциям же отнесся еще строже: долгое время (начиная с 1951 года) лелеял мысль об их издании, постоянно откладывал и затем снова возобновлял работу над ними, чтобы в 1972 году, после очередной ревизии, оставить в своих бумагах записку с категорическим указанием: «Мои университетские лекции (Толстой, Кафка, Флобер, Сервантес и проч.) слишком сыры и хаотичны и никогда не должны быть опубликованы. Ни одна из них»231.
К счастью, запрет был нарушен. После смерти писателя «хаотичные» университетские лекции были подготовлены к печати и изданы тремя томами, вызвав широкий резонанс в англоязычной прессе; спустя пятнадцать лет они нашли благожелательный прием и у российских читателей.
Англоязычной критике и эссеистике Набокова повезло гораздо меньше. В то время как статьи и рецензии двадцатых и тридцатых годов были бережно собраны и опубликованы уже в конце восьмидесятых232, образчики англоязычной non-fiction 1940–1970-х годов по большей части оставались неизвестными российским читателям и находились на периферии интересов отечественных исследователей. Впрочем, что там злополучные «отечественные исследователи», когда даже на Западе критические статьи Набокова до сих пор не собраны, не изданы и не откомментированы.
А между тем свой «американский период» Владимир Набоков начинал именно как критик. Переехав в США в мае 1940 года, он долго не мог пристроить «Истинную жизнь Себастьяна Найта» (первый англоязычный роман, написанный еще в Париже в декабре 1938 – январе 1939 года) и на первых порах был востребован лишь как автор рецензий.
В американскую литературу Набоков вошел не через гостеприимно распахнутые парадные ворота, а через узенькую калитку (если не через черный ход для прислуги), и то лишь благодаря покровительству влиятельного американского критика Эдмунда Уилсона, в то время – сотрудника «левого» журнала «Нью рипаблик», на страницах которого были опубликованы первые набоковские статьи: сначала посвященные русским, а затем и другим темам. Рецензии Набокова так понравились Уилсону (напомню: ведущему американскому критику тридцатых–сороковых годов), что очень скоро тот рекомендовал своего нового знакомого редакторам многотиражных газет «Нью-Йорк Таймс» и «Нью-Йорк Сан».
Завоевывая имя в газетно-журнальном мире США, Набоков проявил себя многопрофильным литературным обозревателем, с равным успехом писавшим о беллетристике и эссеистике, исторических и философских трудах, биографических сочинениях и проблемах перевода. Как и в прежних, русскоязычных, статьях (большинство из них вряд ли следует числить по разряду «посредственных заметок»), в своих американских рецензиях Владимир Набоков всегда оставался прежде всего взыскательным художником. Никогда не позволяя себе опускаться до легковесной халтуры, он воспринимал разбираемые сочинения как исходную точку для нового творчества, как повод для создания собственного произведения, пусть и облеченного в скромные одежды рецензии или критического обзора.
По всем параметрам Набоков соответствовал уайльдовскому идеалу критика-художника, не признающего «тех упрощенных художественных явлений, в которых смысл сводится к какой-то одной идее и которые оказываются выпотрошенными и ненужными, едва эта идея высказана, – такой критик ценит в искусстве все, что обладает богатством фантазии и настроения, блеском воображения и красотой, делающей небезосновательной любую интерпретацию, а вместе с тем ни одну интерпретацию не признающей как окончательную»233; в качестве интерпретатора критик-художник «вкладывает в произведение не меньше, чем черпает из него», а свои мысли по поводу прочитанного «способен воплотить в форме не менее законченной, а может быть, и более замечательной», сделав «красоту еще прекраснее, еще совершеннее, потому что она у него предстанет по-новому выраженной»234.
Творческое, художническое начало критических работ Набокова проявлялось не только в композиционной собранности и сюжетной выстроенности, изящной раскованности стиля, филигранной отделке и взвешенности каждого слова, но и в безупречном чувстве формы и языка, умении выделить существенное и ценное, наконец – в независимости высказываемых суждений, часто противоречивших литературной моде и господствовавшей иерархии ценностей.
Уже в первой рецензии – на мемуарную книгу Сержа Лифаря, посвященную кумиру европейских и американских эстетов, С.П. Дягилеву, – Набоков святотатственно утверждал, что Дягилев не был подлинным творческим гением. В 1944 году, в разгар кратковременного, но бурного советофильства американцев, он саркастически отозвался о рассказе советского писателя Александра Полякова и о советской литературе в целом, что наверняка было воспринято как возмутительная бестактность по отношению к союзной державе235. А в конце сороковых годов Набоков одарил разносной рецензией сверхпопулярного тогда Ж.-П. Сартра. В общем, Набокова-критика можно обвинять в чем угодно – в пристрастности, безапелляционности, пренебрежении благопристойными правилами литературного поведения, – но только не в литературном делячестве и конъюнктурщине.
Критические приговоры и оценки Набокова были обусловлены его собственным писательским опытом и художественными принципами, выстраданными на протяжении двадцатилетнего «русского» периода, причем выстраданными в буквальном, а не переносном смысле, поскольку долгие годы он вынужден был вести ожесточенную литературную войну с адептами «парижской школы», возглавляемой и вдохновляемой такими авторитетными фигурами, как Георгий Адамович, Георгий Иванов и Зинаида Гиппиус.
«Ценностей незыблемая скала», с которой Набоков подходил к рецензируемым англоязычным книгам, была та же, что и в его статьях двадцатых–тридцатых годов. «Дерзкая, умная, бесстыдная свобода» в выборе тем и слов, «острая неожиданность образов», зоркость к малоприметным, но выразительным деталям, «закономерность, законченность, гармония», художественная соразмерность – именно этих качеств прежде всего искал придирчивый критик в разбираемых произведениях, будь то эссе, роман или биографическое сочинение. Помимо «упоительной игры вымысла» (без которой он вообще не мыслил искусства), Набоков считал неотъемлемым свойством литературных шедевров их нарочитую сделанность, «сочиненность» («затрудненность формы», если воспользоваться термином формалистов), ту «благородную искусственность» (В. Ходасевич), которую он предпочитал исповедальной открытости, размашистой спонтанности и простоте (последнее качество он воспринимал сугубо негативно и, полагая, что «величайшее искусство фантастически сложно и обманчиво», категорично утверждал: «“суровый реализм” и “простота” часто оказываются синонимами самых банальных и искусственных литературных условностей, какие только можно вообразить»).
«Истинный крупный мастер не способен представить себе, что можно показывать жизнь и творить красоту не теми способами, которые он избрал для самого себя. <…> Для великого поэта существует только одна музыка – его собственная»236, – в соответствии с изящной формулой Оскара Уайльда любые литературные явления оценивались Набоковым в зависимости от того, насколько они были близки его идеалу «вдохновенного и точно выверенного произведения искусства»237, в котором воплощен неповторимый духовный опыт художника, создана уникальная, самоценная, гармонично упорядоченная художественная вселенная, дарующая читателю «эстетическое блаженство» – «особое состояние, при котором чувствуешь себя – как-то, где-то, чем-то – связанным с другими формами бытия, где искусство (то есть любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма»238.
По верному замечанию Джона Апдайка, Набоков «требовал от своего искусства и от искусства других чего-то лишнего – росчерка миметической магии или обманчивого двойничества – сверхъестественного и сюрреального в коренном смысле этих обесцененных слов. Где не мерцало это произвольное, надчеловеческое, неутилитарное, там он делался резок и нетерпим, обрушиваясь на безликость, невыразительность, присущие неодушевленной материи»239.
Рассматривая книги с точки зрения оригинальности мировидения автора и самобытности его стиля, Набоков был беспощаден к тем, у кого обнаруживал «принаряженные банальности» или контрабанду модных литературных клише, не одухотворенных искрой творческого воображения.
Неудивительно, что в качестве рецензента Набоков проявил себя не Аристархом, отличающимся терпимостью и широтой вкуса, а самым настоящим Зоилом: требовательным, въедливым, часто откровенно предвзятым, «злокачественным» критиком (как выразился бы не любимый им Ф.М. Достоевский). Высокомерно распекая второстепенных англоязычных авторов, которым посчастливилось попасть под его горячую руку, или планомерно изводя принципиальных антагонистов, представителей ненавистной ему «Литературы Больших Идей» вроде «ангажированного» Ж.-П. Сартра, он не щадил никого и позволял себе пускать пропитанные желчью стрелы в общепризнанных классиков.
Запальчивая резкость тона, категоричность «твердых», а порой и твердокаменных суждений, неприятие инакомыслия и инакочувствия, неумение судить об авторе «по законам, им самим над собою признанным», – эти особенности критической манеры Набокова можно объяснять и его бойцовским темпераментом, и, что более вероятно, болезненно острым желанием самоутверждения в малознакомом, пугающе чуждом мире американской культуры. В своих критических и литературоведческих штудиях (особенно в лекциях, рассчитанных на неискушенных американских студентов) «Набоков говорил тоном мэтра, уверенного в собственном литературном величии, – мэтра, которым он хотел быть, но еще не был»240.
По большому, по «гамбургскому» счету автор «Защиты Лужина», «Отчаяния», «Приглашения на казнь» и «Дара» с полным основанием мог считать себя если не мэтром, то уж, во всяком случае, литературной фигурой первой величины. Другое дело, что для самодостаточной и прагматичной Америки ничего не значили те громкие титулы, которые Набоков (точнее – Сирин) завоевал в литературном мире русского зарубежья. «Оправдание и утверждение эмиграции» (Ю. Мандельштам)241, «один из наиболее блестящих и талантливых романистов нашей эпохи» (Н. Резникова)242, после переезда в Америку он превратился в никому не известного автора, чьи романы (вольный авторский перевод «Камеры обскуры» и написанная еще в Париже «Истинная жизнь Себастьяна Найта») не привлекли широкого читательского внимания и распродавались довольно вяло. (Эта же участь постигла и «Под знаком незаконнорожденных» – первый и, пожалуй, самый слабый «американский» роман Набокова, который он вымучивал с декабря 1941 по июнь 1946 года, то и дело отвлекаясь на энтомологические изыскания в «лабораторном раю» Гарвардского университета.)
Невозможность жить на литературные заработки вынудила Набокова окунуться в педагогическую деятельность, обеспечивавшую ему сносное существование, однако не позволявшую свободно заниматься сочинительством. По сравнению с «берлинским» и «парижским» периодами в первые американские годы творческая активность Набокова заметно снизилась – и не потому только, что педагогическая нагрузка отвлекала от писательства. С трудом привыкая к новому статусу, социально-культурному и психологическому климату Америки, Набоков воспринимал как трагедию отказ «от природной речи», от «ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного <…> русского слога»243. При всей фантастической работоспособности и кипучей творческой энергии, при всем том, что он с детства владел английским, писатель мучительно переживал перевоплощение своей Музы, все еще настроенной на «музыкально недоговоренный русский лад», тогда как ей упорно «навязывался другой лад, английский и обстоятельный». Да и этот, так тяжело дававшийся «обстоятельный лад» порой резал слух и доброжелательным набоковским редакторам244, и тем более придирчивым американским критикам, окатившим Набокова ледяным душем язвительных замечаний и придирок. Так, в 1942 году обозреватель из литературного приложения «Нью-Йорк Таймс» назвал «Истинную жизнь Себастьяна Найта» «глупой книгой», а язык автора – звучащим «неестественно и довольно жалко», подходящим «разве что для любителей Уолта Диснея»245. Спустя четыре года Диана Триллинг, рецензируя «Под знаком незаконнорожденных», диагностировала «надуманную, вычурную образность и глухоту к музыке английской речи»246.
Сам Набоков осознавал, что английский язык его первых американских произведений явно уступал мощи и естественной гибкости «индивидуального, кровного наречия», на котором он писал в течение двадцати лет. Он словно потерял прежний кураж. Если роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» был написан в один присест – всего за два месяца вдохновенного затворничества в крошечной парижской квартирке (а точнее – в ванной, где письменным столом служил чемодан, положенный на биде), – то первая американская книга, «Николай Гоголь», хоть и создавалась в идеальных условиях (главным образом на даче М.М. Карповича и в горном отеле издателя, Джеймса Лафлина), отняла у Набокова целый год и стоила ему «гораздо больших усилий, чем любая из его прежних вещей»247 – как он признавался в письме Лафлину, уже отчаявшемуся получить рукопись.
Объясняя издателю причину задержки, Набоков указывал на безобразные переводы гоголевских произведений: «Я сам вынужден переводить все цитаты: многое у Гоголя (письма, статьи и проч.) вообще не переведено, а остальное переведено до такой степени отвратительно, что я не могу это использовать»248. Правда, в письме Уилсону Набоков называл иную причину затруднений – «Книга продвигается медленно главным образом потому, что я все больше и больше недоволен своим английским»249, – но все же и объяснение, данное Джеймсу Лафлину, не было простой отговоркой. Сетования на ужасные переводы Гоголя и других русских классиков уже с первого года пребывания в Америке стали лейтмотивом многих набоковских писем.
«…Я прохожу через довольно мучительный период, так как выяснилось, что приходится переводить не только стихи, но и прозу – например, “Шинель”. Существующий перевод – мерзость и срам»250, – писал Набоков М.М. Карповичу летом 1941 года, когда готовил курс лекций по русской литературе. Этот же мотив звучит в письме от 23 июля 1941 года другому русскому эмигранту, В.М. Зензинову: «Пропасть перевел и прозы и стихов на английский, и написал о паршивых переводчиках в New Republic. Скажем, нужно знакомить студентов с “Шинелью”, а перевод пердовый – и приходится заново переводить»251.
Сердитая статья о «паршивых переводчиках», упомянутая Набоковым, появилась в августовском номере «Нью рипаблик»252. В ней, как и во многих других статьях, так или иначе затрагивавших тему «английской квадратуры русского круга», Набоков выработал и обосновал принципы буквалистского перевода, предполагающего «передачу точного контекстуального значения оригинала столь близко, сколь это позволяют сделать ассоциативные и синтаксические возможности другого языка». С наибольшей полнотой и последовательностью набоковская теория «идеального буквализма» была реализована в нерифмованном переводе «Евгения Онегина», вызвавшем в англоязычной прессе ожесточенную полемику, в которой «охочий до журнальной драки» Набоков принял живейшее участие.
Проблемы теории и практики перевода, по-видимому, всегда волновали Набокова, вошедшего в литературу автором вольных переложений кэрролловской «Алисы» и роллановского «Кола Брюньона». В сороковые годы они были для него сверхактуальны: на протяжении долгого периода литературная деятельность Набокова так или иначе была связана с переводами – будь то переводы собственных произведений или же творений русских классиков253.
Проблеме перевода была посвящена большая часть литературно-критической продукции Набокова. Объем ее сокращался по мере того, как писатель, превозмогая «муки и корчи литературной метаморфозы», все более и более успешно реализовывал себя как англоязычный прозаик.
Литературная рефлексия – неотъемлемое свойство творческого сознания Набокова – чем дальше, тем активнее внедрялась в художественные тексты. В конце сороковых, когда Набоков дописывал книгу воспоминаний «Conclusive Evidenсe» («Убедительное доказательство»), он решил завершить ее авторецензией, которая в нарочито отстраненной форме сообщала бы дополнительные сведения об авторе и его семье, а также обратила бы читательское внимание на прихотливый узор тематических линий, проходящих через повествование и образующих «некое подобие шахматной композиции».
К сожалению, Набоков не опубликовал остроумную авторецензию, хорошо показывающую, что автору несколько прискучило таиться «под примитивной маской незаметного профессора литературы», «слегка чудаковатого таксономиста», известного в кругу лепидоптерологов склонностью «скорее к анализу, нежели к обобщению».
«Убедительное доказательство» имело некоторый успех в литературных кругах Америки и Англии, но сенсацией не сделалось и продавалось вяло. Набокову предстояло еще несколько лет прозябать в роли профессора литературы, пока наконец, после долгих мытарств и проволочек, после трусливых отказов и отнекиваний американских издателей, по другую сторону Атлантики не взорвалась заботливо приготовленная им «бомба замедленного действия» и на мир не обрушился ураган с мелодичным именем «Лолита».
* * *
Об этой книге написаны горы исследований. О зарождении замысла, о первой маленькой пульсации будущего шедевра – русскоязычной повести «Волшебник», написанной в октябре–ноябре 1939 года и прочитанной в узком кругу близких знакомых, – о «новой обработке темы» и «добывании местных ингредиентов», позволивших автору «подлить небольшое количество средней “реальности” <…> в раствор <…> личной фантазии», наконец о бесплодных скитаниях рукописи по американским издательствам и скандале, вспыхнувшем после того, как книга вышла в Париже благодаря стараниям «короля порноизданий» Мориса Жиродиа, – обо всем этом подробно рассказал сам Набоков в послесловии к американскому изданию «Лолиты» 1958 года, «Постскриптуме» ее русской версии 1967 года и сварливом памфлете «Лолита и г-н Жиродиа», в котором свел счеты с «крестным отцом» своего любимого детища.
Эта книга дала писателю все, чего он добивался на протяжении долгих лет: славу, материальное благополучие, возможность заниматься любимым делом, не отвлекаясь на преподавательскую рутину. С докучливой ролью незаметного профессора литературы было покончено. Феерический успех «Лолиты» принес писателю немалое состояние и сделал его имя известным миллионам читателей.
Помимо воли «чудаковатый таксономист» оказался в эпицентре общественной и литературной жизни. За ним охотились газетные репортеры, фотографы и тележурналисты; его заваливали письмами поклонники и разъяренные ревнители морали; зачарованные корнеллские студенты тщетно вымаливали автографы; прозревшие издатели соблазняли заманчивыми предложениями, а кинокомпания «Харрис-Кубрик пикчерз» отвалила 150 тысяч долларов за права на экранизацию скандального шедевра.
Конец пятидесятых – время триумфального шествия «Лолиты» по всему миру и утверждения писательской репутации Набокова, которому пришлось всерьез подумать о собственном имидже и выработке стратегии литературного поведения.
Человеческое сознание мифологично. Появление на литературном Олимпе новой фигуры неизбежно влечет рождение нового мифа или легенды. Шлейф домыслов и сплетен – необходимый атрибут литературной славы, и если сам автор не позаботится о создании собственной легенды (пусть и не имеющей ничего общего с реальным содержанием его внутреннего мира), то об этом позаботится Ее Величество Публика.
Писатель, долгие годы известный лишь небольшому числу литературных гурманов, впервые предстал перед широкой аудиторией в ореоле скандала – как создатель пикантно-непристойной книги, выпущенной парижским издательством с сомнительной репутацией, да еще и написанной в форме исповеди (не мне вам объяснять, как часто читатели и критики склонны отождествлять автора с героем-повествователем).
«Сердца первых своих страстных приверженцев “Лолита” завоевала тем, что была запрещена», а «шумная молва, разнесшаяся о героине, превратила имя ее создателя в некое подобие клише»254. Когда в октябре 1959 года писатель посетил Париж, где готовилось издание французского перевода «Лолиты», для заинтригованной окололитературной публики «настоящей сенсацией явилось то, что мистер Набоков разгуливает по Парижу отнюдь не с аппетитной двенадцатилетней девчушкой»255, а с седовласой супругой. Примерно в это же время по другую сторону Ла-Манша происходили вещи не менее увлекательные: тень подозрения в педофилии и сексуальной разнузданности легла на лондонских издателей «непристойного» романа. Накануне выхода английского издания «Лолиты» имена Найджела Николсона и Джорджа Уэйденфельда «ежедневно мелькали в прессе, <…> их биографии изучались на предмет выискивания возможных аморальных фактов, явно свойственных сторонникам такой книги, как “Лолита”»256. Найджела Николсона, члена Консервативной партии, баллотировавшегося в парламент (и в конце концов проигравшего выборы в своем пуритански настроенном округе), газетные писаки ославили «скрытым Гумбертом Гумбертом» (можно только догадываться, что они думали по поводу автора «грязной» книги).
Благодаря имевшему международный резонанс l’affaire Lolita автор сенсационного бестселлера был просто обречен на то, чтобы помимо романов и рассказов, наконец-то востребованных на книжном рынке, предложить публике еще одно творение: идеальную версию собственного «я», очищенную от шелухи слухов и наговоров, полностью соответствующую его эстетическим и мировоззренческим установкам.
Долгожданное, но так внезапно свалившееся бремя славы, жадное внимание публики, назойливость падких на сенсации журналистов – плюс законное желание закрепить успех, защитить себя от заклубившихся было нелепых предположений и огульных обвинений в безнравственности – все это привело Набокова к формированию публичной персоны – рафинированного эстета и сноба, исповедующего идеалы «чистого искусства», с аристократическим высокомерием отворачивающегося от низменной житейской суеты и нарочито равнодушного к политике, религии, вопросам морали и социальным проблемам (в том числе и к борьбе против ханжеских цензурных запретов, на волне которой он и обрел всемирную известность).
Колоритная «литературная личность», предъявленная писателем «граду и миру», отчасти была сочинена (в оглядке на Оскара Уайльда и других эксцентричных эстетов рубежа веков), а отчасти являлась утрированным выражением его житейских представлений и идеалов. Щеголяя броскими декларациями и эпатажными заявлениями, в мелкие черепки разбивая идолов тогдашней литературной и культурной моды, Набоков не только привлекал к себе внимание публики, но и доказывал, что перед ней отнюдь не писатель-однодневка, бойкий поставщик клубничного чтива, по воле случая вознесенный на гребень успеха, а, напротив, знающий себе цену Мастер, проживший долгую литературную жизнь, не зависящий от прихотей моды и не подверженный каким-либо влияниям.
Реализуя стратегию успеха, «литературная личность» Набокова выполняла еще одно сверхзадание: она организовывала и направляла читательское восприятие конкретных сочинений – той же «Лолиты», ославленной недоброжелателями «отъявленной и неприкрытой порнографией»257, – выводя их из-под ударов привередливых зоилов и избавляя от превратных толкований, противоречащих исходному замыслу.
Не будем забывать, что в подавляющем большинстве своих произведений (лирика в счет не идет) Набоков, со свойственной ему душевной целомудренностью, избегал «самовысвечивания». Враг «душевных излияний», он умело путал следы: либо растворяясь в сознании персонажей, заведомо чуждых ему и духовно, и культурно, и этнопсихологически (как это происходит в квазинемецких романах «Король, дама, валет» и «Камера обскура»), либо прячась за подставными фигурами героев-повествователей: закомплексованного неудачника, униженного и оскорбленного русского эмигранта (Смуров из «Соглядатая», Виктор из рассказа «Памяти Л.И. Шигаева»), убийцу-мономана (Герман Карлович, фиктивный автор «Отчаяния»), снедаемого преступной страстью нимфолепта (Гумберт Гумберт), безумца-филолога, одержимого манией величия и пылкими гомосексуальными грезами (Чарльз Кинбот, одновременно Дедал и Минотавр замечательного лабиринта в стихах и прозе «Бледный огонь»). Следуя флоберовско-чеховскому принципу бесстрастного, объективного искусства, Набоков-прозаик редко позволял себе прямолинейную оценочность и однозначность, сфокусированность авторской позиции, что и вызывало обвинения в «атрофии нравственного чувства»258, в холодности и бессердечии.
Подобные оценки, безусловно, были неприятны самолюбивому писателю, хоть он и не подавал виду – утверждая, что его «никогда не волновала глупость или желчность критиков». Впрочем, надо полагать, гораздо больше его волновало и раздражало другое. Добившись всемирной славы, писатель волей-неволей стал общественным достоянием и в какой-то мере оказался безвластным по отношению к собственным творениям: зажив самостоятельной жизнью, все больше отрешаясь от породившей их авторской воли, они обрастали множеством противоречивых толкований и превращались в орудия чужого творчества – творчества воспринимающих. Мог ли примириться с этим эгоцентричный художник, мог ли он, уподобляясь Смурову, довольствоваться «зеркальным состоянием», когда самая сокровенная часть его личности – творческое «я», воплотившееся в художественном мире произведения, – живет, причудливо искажаясь и преломляясь в сознании других людей, становясь объектом интерпретаций педантов-литературоведов и газетных критиканов, над которыми он так любил потешаться, утверждая, что пишет исключительно для себя и «сотни маленьких Набоковых»259?
«Если я не хозяин своей жизни, не деспот своего бытия, то никакая логика и ничьи экстазы не разубедят меня в невозможной глупости моего положения», – слова, вложенные Набоковым в уста Германа Карловича, в полной мере характеризуют и его собственное мироощущение. Не случайно же тема самоидентификации, обретения и утраты человеком собственного «я» проходит через все творчество писателя, по-разному осмысляясь в его лучших произведениях («Защита Лужина», «Соглядатай», «Отчаяние», «Дар», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Бледный огонь»).
Таким образом, созданная Набоковым «публичная персона» может восприниматься не только как средство для реализации стратегии успеха и защиты от произвола чужих интерпретаций, но и как способ самоидентификации, оформления и воссоздания писателем своего многоликого и текучего «я».
* * *
С пугающей убедительностью «литературная личность» Набокова материализовалась на страницах предисловий к английским переводам его русских произведений (сюда же можно приплюсовать послесловие к американскому изданию «Лолиты» и предисловие к третьему изданию «Под знаком незаконнорожденных»), а также в многочисленных интервью, щедро раздававшихся корреспондентам разнокалиберных изданий – от глянцевитых монстров, типа «Тайм» и «Вог», до малотиражных литературоведческих ежеквартальников.
На русском термин «интервью» имеет два значения. Первое – «предназначенная для печати, радио или телевидения беседа журналиста с каким-либо лицом»; второе – «газетная (журнальная) статья, излагающая содержание такой беседы».
Ранние набоковские интервью в полной мере соответствуют второму значению. Как правило, они представляют собой пресловутые «интервью-эссе», когда словоохотливый журналист, выдав элементарные биографические и библиографические данные, рассказывает читателям о встрече с творцом «Лолиты», описывает его внешность, его произношение, его манеру смеяться, его жену и т. п. (Позже, когда «мистер «Лолита»» обосновался на берегу Женевского озера в роскошном «Монтрё-Палас», к обязательным пунктам программы прибавились описания гостиничных апартаментов и красот швейцарских пейзажей.) Самого Набокова в таких «интервью» не слишком много. Пересказывая содержание беседы, журналисты лишь изредка давали слово своему подопечному, прибегая к косвенной речи и вкрапляя в рассказ лишь несколько закавыченных набоковских фраз. Для начального этапа становления писательской репутации и такие «интервью» были полезны: как-никак, они привлекали читательское внимание и давали кое-какую информацию об авторе нашумевшего романа. Особенно много таких интервью было взято у Набокова в период «l’affаire Lolita», когда он сделался героем светских хроник и, соответственно, законной добычей пронырливых газетных репортеров. Только за три недели рекламного парижско-лондонского турне осени 1959 года писатель дал более десяти интервью – для таких изданий, как «Жур де Франс», «Нувель литтерер», «Франс суар», «Франс обсерватёр», «Леттр нувель», «Иль джиорно», «Обсёрвер», «Ивнинг стэндарт», «Спектейтор» и т. д.
Очень скоро Набокову порядком надоели подобного рода пересказы: чаще всего они, словно заезженная пластинка, повторяли одни и те же сведения и строились по одинаковой схеме, а иногда (что было особенно неприятно Набокову) в них перевирались его слова или же ему приписывалось то, чего он не говорил (вариант: говорил не для печати). Поначалу «мистер “Лолита”» боролся с журналистскими вольностями post factum: писал сердитые письма в редакции газет и журналов, поправляя, а при необходимости опровергая завравшихся интервьюеров, но вскоре, убедившись в малоэффективности подобных усилий260, решил выбрать иную тактику и коренным образом изменить поведение с журналистами. По мере того как росла его известность и укреплялась писательская репутация, Набоков уже не нуждался в такого рода рекламе и был заинтересован не столько в количестве, сколько в качестве публикуемых интервью. Первую скрипку должен был играть не какой-нибудь газетный щелкопер со своей банальной отсебятиной, а он, великий и неповторимый Владимир Набоков, законодатель литературной моды и непогрешимый арбитр в вопросах искусства, «чистый художник», чьи книги «отличает не только полное и благословенное отсутствие всякого общественного значения, но и совершенная мифонепроницаемость».
После того как уставшие от богемно-кочевой жизни супруги Набоковы поселились в Швейцарии, в качестве постоянной резиденции выбрав «Монтрё-Палас», писатель стал более привередливым и разборчивым в общении с представителями прессы. Целиком посвятив себя сочинительству и переводу довоенных произведений на английский, он вел довольно замкнутый образ жизни и старался избегать навязчивого внимания любопытных. Доступ к нему был затруднен. На телефонные звонки и письма отвечала жена, гостиничная прислуга была строго проинструктирована насчет возможных посетителей, так что добиться аудиенции у монтрейского отшельника и получить согласие на интервью стало не так-то просто.
Постепенно выработалась сложная и громоздкая процедура доступа к светлому лику «великого мандарина американской прозы» (М. Скэммел)261. Журналист заранее договаривался о возможности и сроках проведения интервью с Верой Набоковой, бессменным менеджером и пресс-секретарем писателя. После улаживания финансовых вопросов интервьюеру давалось принципиальное согласие, и он знакомился с условиями, на которых мог брать интервью. Помимо обычных требований (вроде просмотра корректуры) выдвигались «три абсолютных условия», которые позже были изложены в предисловии к сборнику нехудожественной прозы «Твердые суждения» (1973): «Вопросы интервьюера должны быть посланы мне в письменном виде, я даю письменные ответы, и они должны воспроизводиться дословно»262. Строго-настрого запрещалась журналистская отсебятина при передаче слов Набокова: та «чудовищная алхимия», примешивающая к его «твердым суждениям» «искусственную окраску гуманных чувств»263.
Приняв условия, интервьюер составлял список вопросов и высылал его по почте – с тем, чтобы в должное время явиться в Монтрё, поглазеть на небожителя и забрать карточки с ответами. При этом визитер мог обнаружить, что на многие вопросы Набоков отвечать не пожелал, а от других увильнул, словно юркая ящерица, которая при малейшей опасности скрывается в расщелине скалы. Более того, некоторые журналисты (например, Алан Леви264) жаловались, что Набоков позволял себе переписывать их вопросы, заменяя и редактируя их по своему усмотрению.
Неудивительно, что у некоторых интервьюеров общение с Набоковым оставило неприятное впечатление. «Русско-американский писатель ведет беседу, как будто играет в шахматы, – сетовал итальянский журналист, попытавшийся было взять у Набокова «импровизированное» интервью. – Его прозрачно-голубые, но холодные глаза спрятаны за стеклами очков, на лице постоянное выражение подозрительности и осторожности; он притворяется, что не понял слов собеседника, и заставляет его повторить, или же уходит в сторону, чтобы выиграть время, а когда ответ подготовлен, быстро и уверенно наносит удар ясными, точными словами. Он возвел шахматную технику в своего рода философию: “Мои ответы будут более спонтанными, если вы мне дадите время на их обдумывание”, – его слова только кажутся парадоксом. Или же: “У вас прекрасные вопросы, но мне нравится уходить в сторону”. Единственное его нововведение, отличающее разговор от игры в шахматы, отказ отвечать, в то время как в шахматной партии нельзя не решаться делать ход на протяжении долгого времени: так, он отказывается отвечать на мои вопросы о разнице между эротикой и порнографией, о Джеймсе Джойсе, о современных писателях. <…> Спрашиваю его, каких из современных писателей он уважает больше всего. Отвечает: “Шекспира”. Настаиваю: “Я же сказал «современных писателей»”. Ответ: “Все равно Шекспира”. <…> Сомневаюсь, что Владимир Набоков был искренен в буквальном смысле слова. Наблюдательный, многоликий и неуловимый, он взвешивает каждый свой поступок, каждое свое слово – все, что делает»265.
Утверждая свою литературную личность, писатель все более и более энергично подавлял фигуру интервьюера, добиваясь полного господства и единоначалия, превращая диалогический жанр в собственный монолог. Мало того что он мог с издевательской откровенностью игнорировать вопросы собеседника или же откликаться не на чужие суждения, а на собственные мысли, возникшие в связи с той или иной темой, – экспансия набоковской персоны приводила к полному вытеснению интервьюера. Канонический журналистский жанр, с трудом поддающийся художественной метаморфозе, преобразовывался Набоковым до неузнаваемости, как это произошло, например, при публикации фрагментов из телеинтервью Курту Хоффману: вытравив чужие реплики, Набоков превратил свои ответы в миниатюрные эссе, снабженные подзаголовками.
Апогеем этой тенденции следует считать два псевдоинтервью, впервые появившиеся на страницах «Твердых суждений». Первое из них, по сути, представляет собой стилизованное под интервью авторское предисловие к «Просвечивающим предметам» (1972). Роман был без особого энтузиазма встречен подавляющим большинством рецензентов, раскупался вяло, поэтому Набоков решил (в который раз!) выступить в роли толкователя собственного произведения, объяснив недогадливым читателям и близоруким критикам «его простую и изящную суть». Другой материал целиком и полностью был посвящен «пастернаковскому» вопросу: писатель наконец-то решился развернуто высказаться об одном из главных своих литературных соперников, чей роман, попав в октябре 1959 года в американские списки бестселлеров, моментально вытеснил «Лолиту» с первого места.
Затронутые темы были слишком болезненны для Набокова, чтобы обсуждать их с кем-то посторонним. Пространные разъяснения в первом «интервью» о том, как надо и как не надо воспринимать «Просвечивающие предметы», у реального собеседника могли вызвать законное подозрение в том, что автор задним числом хочет восполнить недостатки своего недооцененного творения, а это, в свою очередь, породило бы целый ряд «неудобных» вопросов. Во втором же случае Набоков легко мог быть уязвлен обвинениями в завистливой предвзятости по отношению к удачливому конкуренту и вдобавок уличен в лукавстве: ведь, несмотря на заверения об отказе писать «сокрушительную статью» о «Докторе Живаго» из «страха навредить автору», в некоторых интервью он неприязненно отзывался о пастернаковском романе – «мрачном произведении, тяжеловесном и мелодраматичном, с шаблонными ситуациями, бродячими разбойниками и тривиальными совпадениями»266.
В 1972 году писатель сделал решающий шаг к тому, чтобы увековечить монументальный образ «великого В. Н.» и максимально точно, без чьего-либо посредничества изложить свои жизненные принципы и эстетическое кредо.
Из тщательно отобранных и отредактированных интервью, статей, заметок и полемических писем в редакции журналов и газет был составлен внушительный сборник, которому суждено было стать чем-то средним между «Евангелием от Набокова» и изощренной ловушкой для восторженных почитателей (главным образом – подозрительно легковерных диссертантов, частенько сводящих свои исследования к иллюстрации того или иного «твердого суждения» набоковской персоны).
Литературная личность Набокова, предлагавшаяся читателям в качестве идеального двойника, достигла в «Твердых суждениях» наивысшей степени эстетической завершенности и оформленности. Не завися больше от своеволия интервьюеров и редакторских капризов, Набоков наконец-то получил возможность представить в надлежащем виде собственную персону и закрепить в сознании читателей каноническую версию своего «я»: ярого индивидуалиста, питающего отвращение ко всякого рода общественным мероприятиям и коллективным акциям, эксцентричного ниспровергателя «дутых репутаций» в литературе и искусстве, самодостаточного и самодовольного художника-нарцисса, озабоченного исключительно вопросами стиля и писательского мастерства.
Готовя сборник к печати, Набоков старательно убирал все, что не соответствовало постулированному образу и хоть как-то могло намекнуть на несоответствие между декларациями и реальными фактами его жизни и творчества. Для этого он придирчиво отобрал половину из имевшихся на то время сорока с лишним интервью, еще раз тщательно прополол их, выкинул «неудобные» вопросы и, естественно, все комментарии и лирические отступления интервьюеров (исключение было сделано для правоверного набоковианца Альфреда Аппеля), отшлифовал собственные ответы, убрав или существенно изменив некоторые из них, добившись того, что они «трансформировались в более или менее разделенные на абзацы эссе, что является идеальной формой, которую должно принимать письменное интервью»267.
Столь необычную форму интервью Набоков объяснял косноязычием. «Я мыслю, как гений, я пишу, как выдающийся писатель, и я говорю, как дитя, – писал он в предисловии к «Твердым суждениям». – В Америке за время моего академического восхождения от тощего почасовика до полного профессора я ни разу не выдал слушателям и крупицу сведений, заранее не напечатанных и не лежащих перед моими глазами на ярко освещенной кафедре. Мои меканья и хмыканья во время телефонных разговоров заставляют междугородних абонентов переключаться с родного английского на душераздирающий французский. На вечеринках, если я пытаюсь развлечь гостей увлекательным рассказом, мне приходится возвращаться к каждому предложению для вставок и исправлений. <…> При этих обстоятельствах никому не следует просить у меня согласия на интервью, если под “интервью” подразумевается беседа двух нормальных человеческих существ»268.
Эти же аргументы писатель повторял на протяжении многих лет, что не позволяет усомниться в его искренности, – скорее здесь можно говорить о замалчивании главной стратегической задачи, которую выполнял автор «Твердых суждений».
Вероятно, из Набокова и впрямь был «плохой говорун». Несколько раз поэкспериментировав (одно из его первых телеинтервью, данное в ноябре 1958 года канадской компании Си-би-си, было спонтанным и записывалось вживую), он окончательно разуверился в своих ораторских способностях и впоследствии режиссировал телевыступления: заготавливал карточки с ответами на предварительно полученные вопросы и на реплики собеседника отвечал, по-брежневски уткнувшись в бумажку. По-видимому, вынужденные инсценировки теле-«бесед» подсказали писателю форму и для «обычных» газетно-журнальных интервью. Подняв до невообразимой высоты языковую и стилистическую планку в художественных произведениях, он не захотел опускать ее и здесь, в рамках маргинального для высокой литературы жанра.
По тонкости словесной отделки, смелости метафор и сравнений, богатству и выразительности интонаций – от едкого сарказма до элегической грусти – набоковские ответы интервьюерам не уступают лучшим образчикам его филигранной прозы. Многие фрагменты набоковских интервью производят впечатление самостоятельных художественных произведений. Иные из них представляют собой лирические миниатюры в прозе, иные – портативные трактаты по философским и эстетическим проблемам или же микропамфлеты, исполненные восхитительной полемической злости, а красочный рассказ о фокуснике Мерлине, прочитанный во время телебеседы с Бернаром Пиво, – не что иное, как компактная новелла, наделенная системой персонажей, забавным сюжетом и неожиданной развязкой.
Строгая вопросно-ответная форма, конечно же, накладывала некоторые ограничения и предъявляла свои условия. Отмеченная у Пруста и присущая самому Набокову «склонность распространять и заполнять предложения до предельной полноты и длины, заталкивать в чулок предложения неимоверное множество вставных фраз и придаточных»269 обуздывалась законами жанра, предполагающего диалог и живую реакцию на высказывания собеседника. Набоков считался с ними и поэтому добивался иллюзии непринужденной разговорности: уравновешивал сочиненность, упорядоченность, структурную замкнутость отлакированных до зеркального блеска периодов отрывочными репликами, восклицаниями, вводными словечками и междометиями-паразитами вроде «ну». В то же время, донося до читателей программные эстетические установки, он не пренебрегал риторическими эффектами: делая фразы предельно емкими и лаконичными, придавал им афористическую точность и остроту.
Разумеется, не все набоковские интервью являются шедеврами остроумия и занимательности. Некоторые из них грешат утомительными повторами, другие отличаются анкетной сухостью. Набоков частенько увиливал от прямого ответа, отделывался цитатами из собственных художественных произведений, а вместо развернутого высказывания, к которому его подводил интервьюер, бросал бесцветное «да», «нет», «мне это абсолютно безразлично». Порой в подобных ответах чувствуется усталость и еле сдерживаемое раздражение писателя, которому, видимо, осточертели назойливые предположения о возможных влияниях, будоражившие воображение каждого второго интервьюера, и стандартные вопросы о распорядке дня или правильном произношении его неудобовыговариваемой (для англичан и американцев) фамилии.
Несмотря на иерархическую привилегированность по отношению к собеседникам, Набоков все же зависел от них: пусть и не без сопротивления, но вынужден был дрейфовать в заданном направлении. Далеко не все интервьюеры соответствовали культурному и интеллектуальному уровню великого монтрейского старца, далеко не все вопросы были корректны и внятны. Как, например, прикажете отвечать на вопросы, подобные тому, каким открыл свое дознание журналист Израэль Шинкер: «Что вы делаете, чтобы приготовиться к суровым испытаниям жизни?» Вероятно, только в том утрированно-гротескном ключе, который предпочел Набоков: «Перед тем как принять ванну и позавтракать, каждое утро я бреюсь, чтобы по первому требованию быть готовым к полету». Обмен такого рода высказываниями больше напоминает диалог глухого с идиотом, и нам остается только радоваться тому, что писателя никогда не покидало чувство юмора и присутствие духа.
Едва ли случайно, что наиболее содержательными и интересными получались те интервью, где Набоков имел дело не с пронырливыми репортерами и не с собственной тенью, а с достойными собеседниками: писателями (Герберт Голд), литературоведами (Альфред Аппель), критиками (Мартин Эсслин, Бернар Пиво, Роберт Хьюз) – теми, кого он мог с полным основанием считать своими настоящими читателями, «читателями-художниками», которым, собственно, и предназначались его книги. Наиболее искусным интервьюерам удавалось войти в доверительные отношения с престарелым мэтром и вызвать его на откровенность, импровизацию, неожиданное признание.
С годами им становилось все сложнее разговорить Набокова и пробить брешь в защитном панцире ледяной надменности и гордыни. После выхода «Твердых суждений», этого катехизиса для начинающих набокофилов (как уже было сказано, две трети книги было отдано под интервью), писатель крайне неохотно шел на контакт с журналистами, ссылаясь на занятость и на то, что ему «боязно растратить энергию, припасенную для своих книг».
* * *
Мы знаем, что маски имеют обыкновение прирастать к лицам, постепенно преображая, как выразился бы Николай Евреинов, «самый стержень лицедейской души». Заигравшийся актер постепенно подчиняется когда-то выбранному амплуа. Нечто похожее произошло и с «поздним» Набоковым. Персонаж, роль которого он, по собственному признанию, «обычно исполнял в Монтрё» перед осчастливленными интервьюерами и благоговейными почитателями, все больше детерминировал художественное творчество, вторгаясь в образную систему его романов – с особой бесцеремонностью в «Аде», этом «скопище пунктиков и предрассудков автора» (Э. Долтон)270, и «Смотри на арлекинов!», расцененном враждебно настроенными критиками как «корпоративный роман в самом чистом виде, подчиненный священным интересам одной личности, ну разве еще интересам его нескольких академических прихлебателей» (Д. Белл)271.
Исследователи уже неоднократно указывали на то, что набоковская публичная персона «не была настоящим Набоковым», что это – «отчасти игра, пародия, беспрерывная шутка, отчасти – средство отпугнуть охотников за сенсациями, уверенных в своем праве бесцеремонно отнимать его время только потому, что он стал знаменитым»272.
С этими утверждениями трудно не согласиться. Хорошо зная обстоятельства жизненного и творческого пути писателя, нельзя с простодушной доверчивостью полагаться на эстетические декларации и программные заявления его персоны, предназначавшиеся главным образом для англоязычной, а еще точнее – американской аудитории, в большинстве своем ничего не знавшей о русском писателе Владимире Сирине, который, вопреки заверениям «В. Н.», вовсе не чурался общественных организаций и коллективных мероприятий. Как бы упорно ни выставлял себя Набоков гордым одиночкой, избегавшим собратьев по перу и никогда не принадлежавшим к какому-либо объединению и клубу, доподлинно известно, что Владимир Сирин состоял в берлинском Клубе писателей и Союзе русских журналистов и литераторов в Германии, а также был членом еще нескольких литературных объединений: «Веретено», «Братство круглого стола», кружок Юлия Айхенвальда. Более того, в двадцатых годах он принимал активное участие едва ли не во всех литературных и культурных мероприятиях русского Берлина (вплоть до заседаний в жюри при выборах «мисс русская колония» на балу русской прессы). Помимо многочисленных литературных вечеров и собраний Союза русских журналистов и литераторов (послуживших моделью для гротескных сцен «Дара»), укажем еще на несколько общественно-культурных мероприятий, где «засветился» Сирин. Наиболее известные – чествование русской общиной Германии нобелевского лауреата Ивана Бунина, на котором «талантливейший из молодых зарубежных писателей»273 произнес приветственную речь и читал бунинские стихи, а также два любительских спектакля: шуточное разбирательство по поводу нашумевшей тогда пьесы Николая Евреинова «Самое главное» (Набоков выступил в роли Волшебника, защищавшего главную идею произведения – подчинение реальности вымыслу художника) и суд над «Крейцеровой сонатой», где будущий автор «Отчаяния» с потрясающей силой сыграл Позднышева, оправдывавшего свое преступление.
Существенные коррективы к антиобщественному облику писателя вносят и такие факты, как организация (совместно с Юлием Айхенвальдом и Иваном Лукашем) писательского кооператива «Арзамас», вхождение в антибольшевистскую группу ВИР под руководством Николая Яковлева (правда, просуществовавшую очень недолго), подпись под коллективным письмом с протестом против вторжения советских войск в Финляндию (среди других подписантов – Марк Алданов, Бердяев, Бунин, Зинаида Гиппиус, Мережковский, Рахманинов, Ремизов, Тэффи).
Весьма уязвимы и неоднократные заявления Набокова о том, что он в высшей степени равнодушен к мнению критиков и нисколько не заботится о реакции читательской аудитории, которую представлял в виде комнаты, наполненной людьми с набоковскими личинами вместо лиц. На самом деле Набоков как никто другой знал, какую роль могут сыграть в судьбе писателя критики, эти «привратники в преддверье храма литературной славы» (Л. Шюккинг).
Настойчивые просьбы о достойной рекламной поддержке его книг – лейтмотив набоковских писем издателям. Так, в письме Морису Жиродиа (от 18 июня 1958 года) Набоков дает подробнейшую инструкцию, что тот должен сделать для «паблисити» «Лолиты» в Америке: непременно послать экземпляры в «Партизэн ревью» Филипу Раву, «поклоннику “Лолиты”», в «Нью-Йоркер» Эдмунду Уилсону, в литературное приложение «Нью-Йорк Таймс» Харви Брайту – «единственному, кого я знаю в этом заведении»274.
Недовольство вялой рекламной поддержкой набоковских книг (а ведь реклама предполагает в первую очередь умело организованный издателем всплеск хвалебных рецензий) было одной из главных причин разрыва с нью-йоркским издательством «Патнэм».
Руководитель издательства «Макгро-Хилл» Фрэнк Тейлор, под чье крыло с конца 1967 года перешел Набоков, уделял рекламе своего подопечного гораздо больше внимания. Зазывные рецензии на «Аду», вышедшую в начале мая 1969 года, появились уже в конце марта275. Набоков лично ознакомился с вариантом заказной рецензии, присланной ему Фрэнком Тейлором. Поблагодарив за «превосходную Адорекламу»276 и одобрив ключевое определение – «эротический шедевр», он скромно попросил выкинуть чересчур пышные эпитеты: «фантастический», «радужный», «демонический», «таинственный», «волшебный», «восхитительный» и т.д.277
На волне восторженных отзывов «Ада» взлетела к вершине книжного хит-парада, но вскоре, вызвав ответную реакцию со стороны неангажированных критиков и набоковских зоилов (назвавших ее «самым перехваленным романом десятилетия», «мешаниной всевозможных эффектов, “Улиссом” для бедных»278), стала медленно, но верно сползать с первых строчек списков бестселлеров, уступая первенство «Крестному отцу», «Любовной машине» и «Болезни Портного». 5 сентября встревоженный Набоков пишет расторопному издателю послание, которое завершает пожеланием насчет «Ады»: «Надеюсь, Вы не перестанете ее рекламировать, ведь сейчас она цепляется всеми своими хрупкими передними лапками уже за четвертое место списка бестселлеров, оккупированного вздорными порнографами»279.
В иной тональности было выдержано письмо лондонскому издателю Джорджу Уэйденфельду. Набоков, явно забыв об олимпийской невозмутимости богоподобного «В. Н.», устроил Уэйденфельду форменную выволочку: «Как Вы можете догадаться, я не очень доволен тем, как мои книги продаются в Англии. И чем больше я размышляю, тем больше делаюсь уверенным в том, что в значительной мере виной этому отсутствие рекламы. “Аду”, например, Ваш рекламный отдел практически замолчал. <…> Я царственно равнодушен к глуповатым статьям в британских газетах, но в коммерческом плане я чувствителен к рекламе, проводимой моими издателями»280.
Заметим, что «царственное равнодушие» к враждебной критике не раз оставляло Набокова, ввязавшегося, например, в ожесточенную полемику с Эдмундом Уилсоном и другими рецензентами, «имевшими наглость» критиковать его перевод «Евгения Онегина».
Продолжая наш сеанс с полным разоблачением, можно было бы заметить, что роль ревностного американского патриота, на протяжении шестидесятых–семидесятых старательно разыгрывавшаяся Набоковым перед интервьюерами, – не более чем игра, изощренная мистификация, с помощью которой писатель старался сохранить расположение американской аудитории: как-никак, его финансовое благополучие зависело в первую очередь от американского книжного рынка.
Упорно называя себя американским писателем и утверждая, что Америка – единственная страна, где психологически и эмоционально он чувствует себя как дома, писатель не имел ничего общего с традицией американской литературы (на что прямо указывали многие критики). Перекати-поле и космополит, он при первой возможности покинул США и поселился в Швейцарии. Регулярно делая вылазки из своей швейцарской резиденции, Набоков много путешествовал по Европе, но лишь дважды (в июне 1962-го и весной 1964-го) посетил Америку с короткими деловыми визитами: первый раз это была премьера кубриковской «Лолиты», второй – презентация набоковского «Онегина». И если в начале шестидесятых набоковские заверения о скором возвращении в благословенную Америку, к «ее библиотечным полкам и горным вершинам», могли восприниматься всерьез, то с течением времени эти клятвенные обещания все больше и больше стали походить на утонченное издевательство над простодушными американскими поклонниками.
Не вполне надежны и горделивые заявления «В.Н.» о своей абсолютной непроницаемости по отношению к любого рода литературным влияниям. Спору нет: банальные ассоциации с Джозефом Конрадом и Беккетом, назойливые (и порой откровенно кинботовские) предположения о возможных «заимствованиях», с которыми приставали к Набокову иные интервьюеры, маниакальные поиски «параллелей» и «аналогий», нивелирующие художественное своеобразие набоковских произведений, превращающие их в подобие гигантского каталога заимствованных приемов и цитат, – все эти вульгарные компаративистские ухищрения (которыми пробавлялось и продолжает пробавляться подавляющее большинство препараторов набоковского творчества) вызвали бы законное возмущение у любого мало-мальски уважающего себя художника.
Нынешним любителям «странных сближений» и интертекстуальных опылений, с прокурорским рвением уличающим Набокова во всевозможных «заимствованиях» (и невольно низводящим его до жалкой роли какого-то литературного клептомана), стоит всерьез прислушаться к некоторым признаниям моего подзащитного, который в гораздо большей степени был обязан «многими своими метафорами и чувственными ассоциациями северорусскому ландшафту своего отрочества», личным житейским впечатлениям и уникальному духовному опыту, чем мифическому воздействию Ариосто, Амброза Бирса, Данте, Андре Жида, Кафки, Конрада, Кузмина, По, Розанова, Л. Рубиновича, Сведенборга, Сологуба, Леонгарда Франка и т.д. и т.п.
И все же, признавая за писателем своеобразную «презумпцию невиновности», трудно отделаться от впечатления, что порой он слишком рьяно отказывался от наималейшей возможности литературного родства и преемственности каким-либо традициям – как от черта открещиваясь от Гоголя или изничтожая Достоевского (о глубинной связи с которым писали уже первые рецензенты В. Сирина281).
Указывая на несоответствия творимой легенды и истинной жизни Владимира Набокова, подозрения и улики можно множить и множить. Замалчивая неоспоримые биографические факты и раздувая, с каждым годом все настойчивее, сомнительные генеалогические гипотезы о родстве с Чингисханом и Скалигерами, затушевывая одни и расцвечивая другие грани своей творческой индивидуальности, мифотворец и лицедей сам дал повод к недоверию. Не случайно иные горячие головы, освобождаясь от чар созданного Набоковым мифа, призывали к полному неповиновению на том основании, что «все, или почти все сказанное Набоковым “открытым текстом” надо <…> понимать наоборот. Декларируется любовь к Андрею Белому – значит, писателю на него наплевать. С явным презрением пишется о Зигмунде Фрейде – значит “венская делегация” задела Набокова за живое…»282.
В целом разделяя и одобряя разоблачительный пафос (подобные атаки помогают освободить от произвола авторских комментариев и объяснений неисчерпаемое смысловое богатство художественных произведений Набокова), я все же хочу отвести от писателя огульные обвинения в беспросветной неискренности и позерстве. Если допускать, что даже самых отталкивающих и комично-нелепых персонажей Набоков одаривал сокровищами заветных желаний, мыслей и впечатлений, то невозможно представить, будто он совсем обделил ими того колоритного персонажа, которого изображал во время интервью. Как и всякий настоящий художник, Набоков был искренен в своем лицедействе; он верил (хотел верить!) в «нас возвышающий обман» и «вдохновенную ложь» собственного мифа, так что даже в откровенно эпатажных декларациях и самых что ни на есть уклончиво-скользких ответах чувствуется внутренний пульс его бытия.
К тому же далеко не всегда писатель лукавил. Он действительно ненавидел насилие и деспотизм тоталитарных режимов; он никогда не был сторонником авангарда с его крикливым культом автоматической новизны, нигилистического разрушения традиции и «рассеянья смысла»; ему и впрямь претил самодовольный редукционизм «венского шамана» и его эпигонов, превращающих фантастически сложные и прихотливые узоры литературных шедевров в убогие схемы.
Что же касается программных эстетических деклараций и комментариев к собственным текстам – конечно, они не исчерпывают всего смыслового многообразия набоковских творений, конечно же, к ним стоит подходить критически (а порой и скептически), но все же их нельзя не учитывать при осмыслении творчества Владимира Набокова, тем более – «позднего» Набокова, сделавшего все возможное, чтобы максимально соответствовать разработанной концепции искусства и слиться со своим «сублимированным» идеальным двойником.
В конце концов стилизованная «литературная личность» Владимира Набокова, возникающая на страницах предисловий, эссе и интервью, – не менее интересное и художественно совершенное творение, чем его прославленные романы и рассказы. В нем искусно сплавлены бесхитростная правда и утонченный обман, исповедальная открытость и лукавое притворство, эфемерность фактов уравновешивается непреложностью мифов, а редкие блестки личных признаний почти неразличимы на фоне пышного фейерверка мистификаций и нарочитого эпатажа.
Вечно ускользающий Протей, «мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств» – таким предстает перед нами Владимир Набоков, человек, чья «истинная жизнь» была неразрешимой загадкой даже для близко знавших его людей.
«Он любит говорить вам неправду и заставить вас в эту неправду поверить, но еще больше он любит, сказав вам правду, сделать так, чтобы вы думали, будто он лжет»283, – обиженно жаловался Эдмунд Уилсон, общавшийся с Набоковым не один год, но так и не сумевший раскусить его до конца.
Уверен, это не удалось бы и любому другому следопыту, вздумай он разгадать тайну «В. Н.» и запечатлеть его цельный и законченный облик. Боюсь, такому смельчаку придется нелегко. Он должен будет преодолеть тысячу соблазнов, которыми его станет искушать демон поспешных и однозначных ответов, а в конце концов ему откроется перспектива умножающихся до бесконечности отражений или же круговерть калейдоскопически сменяющих друг друга личин, одна из которых лишь на мгновение покажется истинным лицом великого мага и мистификатора, открывшего нам новые миры, но все сделавшего, чтобы скрыть от посторонних глаз вселенную своего «я», оставившего нас обреченно биться над неразрешимым вопросом.
Кто он, этот хитроумный Протей? Фокусник от литературы, ошеломляющий читателя каскадом изысканных словесных трюков и сюжетных головоломок, или философ-метафизик, пытающийся высмотреть «луч личного среди безличной тьмы по обе стороны жизни»? Язвительный сатирик, безжалостный препаратор человеческих пороков и слабостей, по-флоберовски бесстрастно подходящий к людям как к «мастодонтам и крокодилам» (и заспиртовывающий в своих книгах целые армии самодовольных пошляков и тупиц), или же тонкий лирик, воспевающий земную красоту, счастье любви и творчества? «Одинокий король», ищущий уединения и гордо презирающий почести и литературную славу, или же тщеславный ревнивец, досадующий на ее отсутствие, обрушивающий бурный ливень цианистой критики на литературных недругов и соперников, постоянно поддерживающий интерес к собственной персоне эпатажными заявлениями и эффектными декларациями?
Пожалуй, и то, и другое, и третье, и десятое, и двадцать пятое – и еще то, не понятое и не различимое нами, что предстоит понять и в должной мере оценить будущим поколениям.
Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе / Сост., предисл., коммент., подбор иллюстраций Н.Г. Мельникова. М.: Издательство Независимая газета, 2002. С. 7–47.
Постскриптум
Статья, которую вы имели удовольствие прочесть, предваряла сборник интервью и критических статей Набокова, подготовленного мной для «Издательства Независимая газета».
Примерно год спустя после выхода книги Д.В. Набоков (очень много унаследовавший от высокомерной публичной персоны «великого В.Н.», но слишком мало – писательского таланта своего отца) затеял тяжбу против меня, ее редактора-составителя, и издательства. Со страниц печатных и сетевых изданий в меня полетели увесистые булыжники вздорных обвинений. Авторы откровенно заказных статей, а затем их бездумные пересказчики объявляли, будто в моем предисловии «много высказыванияй, порочащих память Набокова»284.
В иске к издательству владелец «The Vladimir Nabokov Estate» выдвинул требование «о признании нарушения неимущественных авторских прав составителем книги» – цитирую одну из статей, полную шулерских передержек и нелепых инсинуаций: «“В предисловии и комментариях Николая Мельникова содержится очень много оскорбительных выпадов в адрес Владимира Набокова, поэтому он заявлен в иске в качестве соответчика”, – заявил в интервью журналистам г-н Усков (стряпчий Набокова fils. – Н.М.). Особое недовольство фонда и лично Дмитрия Набокова вызвала вступительная статья “Сеанс с разоблачением, или Портрет художника в старости”, в которой говорится, что писатель “вошел в американскую литературу через узенькую калитку, если не через черный ход для прислуги, и то лишь благодаря покровительству влиятельного американского критика Эдмунда Уилсона”. Литературовед – и в жизни страстный поклонник творчества Набокова – объективности ради утверждает, что писатель признавался в любви к Америке лишь для того, чтобы завоевать среди ее граждан новых читателей, а одно из интервью Набокова иностранному журналисту называл диалогом “глухого с идиотом”. Таким образом Николай Мельников хотел показать, как Набоков формировал свой имидж, которому традиционно уделял очень много внимания. <…> Возможно, именно поэтому истцы настаивают на том, что Николай Мельников должен стать соответчиком по данному делу. По словам Вадима Ускова, располагающего доверенностью на представление в России интересов Дмитрия Набокова, в случае признания правоты истцов литературовед и издательство “Независимая газета” должны будут выплачивать сумму ущерба пополам. Кстати, размер компенсации уже определен. Адвокат исходил из того, что тираж контрафактной книги составил 6 тысяч экземпляров, а ее отпускная цена равнялась 120 рублям. Умножив эти цифры, Усков получил сумму в 720 тысяч рублей, или 24 тысячи долларов»285.
Скандал, разразившийся вокруг злополучного «Набокова о Набокове», подарил мне весьма своеобразные «пять минут славы»: сообщения о моих злодеяниях появились едва ли не на всех интернет-порталах.
Целую бурю ругани вызвало даже упоминание о моей рецензии на жэзээлку А.М. Зверева редактором англоязычного сайта Nabokov–L, куда частенько захаживал Набоков-младший, дабы свести счеты с проштрафившимися переводчиками и толкователями отцовских произведений. Мешая грязные оскорбления с угрозами судебного преследования, хозяин империи «VN» перешел все мыслимые границы приличия, что в конце концов вынудило меня опубликовать на сайте Nabokov-L такой вот «ответ лорду Керзону»:
«Господин Набоков-мл.!
Признаюсь, я был неприятно удивлен тем малопривлекательным грязеизвержением, которое невольно спровоцировала моя библиографическая заметка. Хотелось бы знать: что именно Вы имели в виду, говоря о “подлых инсинуациях”, будто бы обнаруженных кем-то в моих набоковедческих работах?! Прежде чем швыряться этими и подобными обвинениями, неплохо было привести хоть один вразумительный аргумент. Грязные оскорбления, которыми Вы одариваете меня уже не впервые, согласитесь, никак не тянут на “убедительные доказательства”: они запятнали не меня, а лично Вас и громкое имя Вашего отца, которое не дает Вам права вести себя подобным образом! Использованные Вами выражения создают впечатление (думаю, не у меня одного), что я имею дело не с сыном большого писателя, [а с лагерным паханом или буйнопомешанным, которому забыли дать успокоительного!]286.
Литературная критика и реклама – не одно и то же: пора бы Вам это усвоить. Допуская, что некоторые мои оценки личности и творчества Вашего отца далеки от суеверного благоговения (видимо, единственный род эмоций, приемлемый для Вас), хочу заметить, что я имею полное право высказываться так, как считаю нужным, и по поводу В.В. Набокова, и по поводу любого другого писателя. И не Вам, никак не проявившему себя на неблагодарном литературоведческом поприще, указывать мне, что и как я должен писать. Тем более что, высказывая критические суждения в адрес В.В. Набокова (творчество которого, уж поверьте, ценю не меньше Вашего), я, в отличие от Вас и Ваших подловатых прихвостней, не переступал ту черту, за которой критика превращается либо в наглую клевету, либо в истошный маразматический вой. Утверждать всерьез, будто бы я завидую Вашему отцу (да это все равно что завидовать Бунину или Достоевскому!), может либо больной человек, либо злонамеренный лжец. Советую Вам, прежде чем Вы в очередной раз извергнете на меня лавину огульных обвинений, выбирать выражения и хотя бы бегло знакомиться с теми статьями, которые Вы пытаетесь обгадить, даже не прочитав их. Подобная стратегия применялась в стародавние коммунистические времена (например, во время травли Пастернака: «Я “Доктора Живаго” не читал, но скажу…»), теперь же она выглядит несколько комично. Кстати, не менее комичны и Ваши постоянные выпады против неугодных Вам переводчиков. Самоутверждаться за счет переводчиков В.В. Набокова легко: благо не существует эталонного перевода англоязычных набоковских текстов (если не считать вольного переложения «Лолиты») – ругать и придираться можно сколько угодно! Только вот ведь какая заминка: насколько я знаю, Вы никак себя не проявили как переводчик на РУССКИЙ язык, поэтому все Ваши “твердые суждения” на эту тему выглядят не слишком убедительно».
Впрочем, постепенно скандал угас и, насколько я знаю, до суда дело не дошло. Вероятно, адвокаты объяснили дряхлеющему плейбою, что ему не удастся взыскать двенадцать тысяч долларов с преподавателя эмгэушного филфака, явно не разбогатевшего после выхода книги non-fiction, изданной шеститысячным тиражом.
ПРИЛОЖЕНИЕ
«ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ ПИСАТЕЛЕМ?..»287 Из интервью Владимира Набокова 1950–1970-х годов
Шарж Исмаэля Ролдана
Набоковский бум, который начался в нашей стране с журнальной публикации «Защиты Лужина», судя по всему, и не думает утихать. Набоков – перефразируя афоризм Сальвадора Дали – это наркотик, без которого уже нельзя обходиться. Русско-американский писатель до сих пор является культовой фигурой, властно притягивающей хватких издателей, киношных и театральных перелагателей, алчных диссертантов, полубезумных комментаторов и толкователей, вульгарных компаративистов и, естественно, «рядовых читателей», простых смертных вроде нас с вами, еще не утративших вкус к полнокровной литературе.
Представители всех вышеперечисленных категорий, вероятно, уже приобрели недавно вышедший сборник «Набоков о Набокове и прочем» (названный так по примеру одного из журнальных набоковских интервью), куда вошли переводы набоковских эссе, критических статей и интервью сороковых–семидесятых годов. Добрая половина материалов, взятых из англо-американской, французской и итальянской периодики, никогда не переиздавалась ни на одном языке мира.
Львиную долю «Набокова о Набокове» составляют интервью – образчики маргинального для Большой литературы жанра, кардинально переосмысленного и преобразованного Набоковым. Движимый соображениями высшей литературной стратегии, писатель превратил интервью в удобное средство для создания своей публичной персоны – отчасти мифологизированной фигуры, с одной стороны, призванной оградить от любопытных частную жизнь «великого В. Н.», с другой – предельно точно выразить те эстетические законы и правила, по которым читателям нужно было судить о его произведениях.
Даже в рамках журналистского жанра Набоков оставался взыскательным художником, заботящимся об изящной точности выражения мысли и выразительности каждой фразы. «Прежде всего я писатель, а мой стиль – это всё, что у меня есть», – писал он одному интервьюеру, настаивая на значительных сокращениях в импровизированных фрагментах интервью. Вот почему Набоков придирчиво отбирал (иногда браковал, иногда редактировал, а то и вовсе переписывал) вопросы интервьюеров и отвечал на них в письменном виде. Ответы интервьюерам (порой напоминающие самодостаточные микроэссе или мини-памфлеты) Набоков заносил на те же самые справочные карточки, на которых писал свои романы.
Правда, подобная система создания интервью была выработана не сразу. На рубеже пятидесятых–шестидесятых годов, когда с приходом всемирной славы Набоков сделался законной добычей журналистов, он раздавал интервью направо и налево, не так жестко, как это будет позже, контролируя своих собеседников. Очень скоро спонтанные интервью перестали удовлетворять Набокова. И неудивительно. Как правило, они лишены строгой вопросно-ответной формы и, по сути, представляют собой очерки с воспроизведением отдельных реплик и высказываний писателя, тонущих в рассуждениях словоохотливого интервьюера. Диалог в них подменялся стандартным рассказом журналиста об авторе «Лолиты» (о его внешности, о его жене, о распорядке дня и проч.), а набоковский текст сводился к минимуму. Помимо банальной журналистской болтовни Набокова раздражали грубые ошибки, вольные пересказы и намеренные искажения его слов, в чем он публично обвинял некоторых интервьюеров. Именно поэтому в авторский сборник нехудожественной прозы «Твердые суждения» (1973) было взято только 22 интервью – примерно половина из опубликованных на то время в западной прессе.
С учетом авторитетного мнения Набокова, а также жанровых особенностей спонтанных интервью, многие из них не вошли в книгу «Набоков о Набокове и прочем». Печальная необходимость не могла радовать составителя, для которого даже отдельные реплики и замечания писателя – при всей их стилистической шероховатости – не менее интересны, чем вылизанные и отлакированные абзацы из «канонических» интервью.
Однако то, что не подходит для книги, хорошо вписывается в параметры журнальной публикации. А посему было решено перевести набоковские ответы и высказывания из отбракованных газетных и журнальных материалов (кстати, весьма редких и недоступных даже специалистам-набоковедам) и слепить из них сборное интервью, в сжатой форме представляющее эстетическое кредо и житейские воззрения писателя. Композицию этой публикации подсказал сам Набоков, который иногда выкидывал вопросы интервьюеров и группировал свои ответы под тематическими заголовками.
Так что не гнушайтесь угощением: перед вами не обидные крохи с барского стола, а лакомые цукаты и изюминки, намеренно не использованные при приготовлении роскошного литературного пирога. Бог знает, доживем ли мы до полного академического собрания сочинений Набокова и будут ли где-нибудь републикованы эти «твердые суждения», добавляющие новые штрихи к портрету выдающегося писателя.
О своем творчестве
У художника нет обязательств перед читателем. В том случае, если между ними нет контакта, либо виноват читатель, либо творение писателя настолько бездарно, что он не имеет права называться художником.
Художник продолжает жить, преодолевая время и пространство. Во время университетских занятий я в первую очередь стараюсь выкорчевать идею, согласно которой художник – продукт культуры. На меня вот не повлияло ни мое окружение, ни время, ни общество. Как и на всякого настоящего писателя. <…>
Английский – богатейший язык мира. Он очень гармоничен по духу и одинаково великолепен для выражения абстрактных понятий и для обозначения предметов. Но, конечно, мой английский – всего лишь эхо моего русского.
Cornell Daily Sun. 1958. September 25.
Наивысшее достоинство писателя, вообще любого художника, – способность возбуждать в других душевный трепет.
Стиль в литературе должен быть прежде всего ясным, даже когда говорится о чем-то непонятном; он должен стать неповторимым выражением того, что чувствует художник… Для писателя он должен быть предметом постоянного поиска.
Ivy magazine. 1959. February. P. 28.
В отличие от Джозефа Конрада, прежде я писал на своем родном языке и был по-настоящему известным писателем эмиграции. Переселение из роскошного русского дворца в тесную квартирку моего английского напоминало переход от одного темного здания к другому – в беззвездную ночь, во время забастовки факельщиков и изготовителей свечей. После периода паники и блужданий впотьмах мне удалось вполне комфортно устроиться, но теперь я знаю, чтó должна чувствовать гусеница во время мучительной метаморфозы, находясь в смирительной рубашке куколки.
Из неопубликованного интервью марта 1959 г.
Критикам-моралистам, добродетельным, ранимым людям, преисполненным сочувствия к самим себе и жалостью к человечеству, вообще не стоит прикасаться к моим книгам. У тех, кого я приглашаю, желудки должны быть такими же крепкими, как кожа у винных бурдюков, и они не должны просить бокал божоле, когда им выставляют бочонок Шато Латур д’Ивуар.
Из неопубликованного интервью ноября 1959 г.
Я отталкиваюсь не от идеи, но от образа… Затем я прилагаю все усилия, чтобы в точности воспроизвести всё то, что пришло ко мне как внезапное озарение… Это длинная и трудная работа. <…>
Творчество – это не дисциплина. Это – состояние. Не имеет значения ни место, ни время, ни окружение. Я часто сочиняю в ванне. Я могу работать утром, после полудня или ночью. Иногда я одновременно пишу две книги или сразу много страниц, относящихся к разным главам. Я всегда ношу с собой справочные карточки и карандаш. <…> Часто я работаю и в автомобиле. Например, я сочинил почти всю «Лолиту» под платанами, на обочине шоссе. <…>
Nice-Matin. 1961. Avril 13. P. 5.*
Да, я играю с читателем, но не как кошка с мышкой. Допустим, в моих произведениях много ухищрений, но для меня они вполне естественны. Как только промелькнет одна сторона или грань, ее тотчас же сменяет другая. Но нет никакого поддразнивания. На самом деле я очень искренний.
National Observer. 1964. June 29. P. 17.
Мои романы и рассказы избавлены от элементов дидактики. Они не предназначены для развлечения читателя. Некоторые мои сюжеты и миры связаны воедино одним лишь волшебством.
Не думаю, что пародия – главный герой всех моих романов. Например, «Бледный огонь» – предельно ясная, реалистическая история.
Интервью 1971 г. // Russian Literature Triquaterly. 1991. № 24. P. 70.
О книге «Убедительное доказательство»
Это книга воспоминаний. Но в ней, конечно, много отобрано. Что интересовало меня, так это тематические линии моей жизни, напоминающие художественный вымысел. Книга воспоминаний стала точкой схождения формы безличного искусства и очень личной истории жизни.
Имелись ли прецеденты среди мемуаров, которые бы в определенной мере перетасовывались, сочинялись и замышлялись как роман?
Я не знаю таких прецедентов. Это литературное приближение к моему прошлому. Прецеденты были в романах, скажем, у Пруста, но не в жанре мемуаров. Для меня это разновидность сочинительства. Я ведь составитель шахматных задач. Никто еще не решил шахматную задачу из «Убедительного доказательства».
О романе «Камера обскура»
Это что-то вроде триллера, но зато – единственная книга, которая время от времени давала мне хоть немного денег. Она не особенно хороша. Немного грубовата. Думаю, переписав книгу еще раз, я бы сделал из нее нечто необычное.
New York Times Book Review. 1951. July 16. P. 17.
О романе «Лолита»
Можно извлечь из «Лолиты» некую символику, только вот я ее туда не вкладывал. Если же люди все-таки проделывают это – что ж, значит, им так удобнее.
Но если серьезно, «Лолиту» нужно воспринимать как бесстрастное упражнение интеллекта. Не надо лить над ней слезы. Наслаждайтесь ею с легкой дрожью в позвоночнике…
Cornell Daily Sun. 1958. September 25.
«Лолита» – патетическая книга, рассказывающая о печальной судьбе ребенка: вполне обыкновенной маленькой девочки, захваченной отвратительным и бессердечным человеком. Но из всех моих книг больше всего я люблю именно «Лолиту».
Niagara Fall Gazzette. 1959. January 11. P. 10-B.
Если этот роман содержит какой-то нравственный урок, благослови Бог тех, кто сумеет его найти! <…>
Мое определение порнографии – это «совокупление клише», где автор вводит читателя в привычную обстановку, а затем пытается прямо спровоцировать в нем самый низменный отклик. С «Лолитой» дело обстоит иначе. <…>
Мои знания о нимфетках не выходят за пределы научного интереса, уверяю вас. Я равнодушен к маленьким девочкам. У меня двадцатипятилетний сын, так что, наверное, мне бы больше пристало писать о маленьких мальчиках. <…>
Что вы думаете о секс-символах Америки – Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд? Олицетворяют ли они идею секса для автора «Лолиты»?
Мисс Монро – одна из величайших комедийных актрис нашего времени. Я никогда не видел мисс Мэнсфилд. Что же до общепринятого идеала цветущей женственности, то он не находит во мне своего приверженца. Для меня сексуальная привлекательность – нечто гораздо более тонкое.
Отвечая на вопрос о возможном продолжении «Лолиты»:
Лолита умерла. Я не собираюсь оживлять ее.
American Weekly. 1959. October 4. P. 13.*
Я думаю, как и наш друг Флобер, что человек – ничто, а его творение – всё. Я ничто, «Лолита» – всё.
Paris-Soir. 1959. Octobre 21.*
Теперь мне не нужно зарабатывать на жизнь; у меня есть девочка, которую зовут Лолита – она зарабатывает за меня. Я старый сводник, и у меня есть девочка, которая ходит на панель – нет, не пишите так! А, ну да ладно…
Arts. 1959. Octobre 28 – Novembre 3. P. 4.*
Господин Набоков, какая из ваших книг наиболее вам дорога?
Обычно последняя. То есть «Бледный огонь». Но еще и та, которая потребовала больше всего работы и позволила мне в наибольшей степени почувствовать себя творцом: «Лолита» – ребенок, принесший мне немало хлопот… Ее я люблю сильнее всех.
Я ее выдумал. Возможно, где-то в мире она и существовала, но не в литературе. С первых же изданий моего романа она стала жить самостоятельной жизнью, например, в статьях американских и итальянских словарей, где слово «нимфетка» обозначает «порочную девочку».
Полагаете ли вы, что кинофильм «Лолита» привнес что-то новое в книгу?
Абсолютно ничего. Экранизациянеизбежно привела к упрощению сюжета и идеи моей книги. Однако фильм, который я смотрел три или четыре раза, мне нравится. Джеймс Мейсон и Сью Лайон удачно исполнили главные роли.
Journal de Montreux. 1964. Janvier 23. P. 1.*
Что огорчает меня больше всего, так это убеждение, будто «Лолита» – сатира на Америку. По-моему, это просто смешно. Не представляю, как люди могут находить это в книге. С другой стороны, мне не нравятся люди, которые рассматривают роман как нечто эротическое. Еще больше мне не по душе те, кто, не прочитав «Лолиту», считают ее непристойной.
Не думаю, что «Лолита» – религиозная книга, но я уверен, что она нравственна. И я убежден также, что в заключительной сцене Гумберт Гумберт – высокоморальный человек, поскольку понимает, что любит Лолиту так, как и нужно любить женщину. Но уже слишком поздно – он разрушил ее детство. Конечно, в книге содержится именно такого рода мораль.
National Observer. 1964. June 29. P. 17.
Работа над сценарием «Лолиты» немало меня позабавила, а пребывание в Голливуде навсегда останется прекрасным воспоминанием. С самого начала мне казалось, что фильм получится хорошим… Разумеется, я не вполне согласен с тем, что вышло, но, признаюсь, в какой-то мере я этого и ждал. И сознательно пошел на риск.
Journal de Genève. 1965. No. 60. P. IV.*
Если бы у меня была дочь, то я сделал бы Гумберта педерастом. <…> Сначала я написал небольшой рассказ на эту же тему. Главного героя звали Артуром. Они путешествовали через всю Францию. Но я не опубликовал ту вещь. Девочка была неживой. Она едва говорила. Постепенно я смог придать ей подобие жизни. Однажды, взяв рукопись, я уже направился к мусоросжигалке, но Вера сказала: «Подожди немного». И я послушно вернулся к работе. <…> Но труднее всего было заставить себя… Вы же видите, я нормальный человек. Я заходил в школы под предлогом устроить туда свою дочь. У нас же нет дочери. Для Лолиты я брал у одной маленькой девочки, заходившей в гости к Дмитрию, руку, а у другой – коленную чашечку.
Vogue. 1966. Vol. 148. № 10 (December). P. 280.
Единственный автобиографический элемент в «Лолите» – череда мотелей, схожих с теми, где в сороковые и пятидесятые годы мы с женой останавливались во время нескольких летних отпусков, которые мы провели, проехав по Америке тридцать тысяч километров в поисках бабочек. Подобных совпадений нет в «Аде», может быть, за исключением разведения диковинных гусениц, чем я весьма прилежно и успешно занимался в детстве.
Panorama. 1969. № 8. P. 54.
О романе «Бледный огонь»
Думаю, «Бледный огонь» – совершенно простой роман. Ярче всего человек раскрывается в творческой работе, которая доставляет ему удовлетворение. Здесь же поэт раскрывается в своей поэме, а комментатор – в комментарии… Эта книга гораздо веселее других, в ней запрятано много изюминок, и я надеюсь, кто-нибудь их обнаружит. Например, малосимпатичный комментатор – вовсе не бывший король Земблы и не профессор Кинбот, а сумасшедший русский профессор Боткин (Botkine). В его комментарии много замечаний, касающихся энтомологии, орнитологии и ботаники. Рецензенты утверждают, будто я втиснул в роман мои любимые темы. Но они не заметили, что Боткин в них ничего не смыслит и все его замечания чудовищно ошибочны… Никто не заметил, что мой комментатор покончил с собой, прежде чем завершил указатель к книге: в последнем пункте нет постраничных ссылок. И даже Мэри Маккарти, которая обнаружила в книге больше, чем остальные рецензенты, столкнулась с трудностями, определяя источник заглавия, и ошибочно нашла его в шекспировской «Буре». А он в «Тимоне Афинском»: «The moon’s an arrant thief she snatches her pale fire from the sun»288. Надеюсь, указания на подобные вещи помогут читателям получить еще большее удовольствие от романа.
New York Herald Tribune (American edition). 1962. June 17. P. 5.
Эта книга, в основу которой положены новые литературные приемы, в своей первой части повествует о жизни и творчестве вымышленного поэта, затем же следуют бредовые комментарии его исследователя, безумца и главного героя романа.
Journal de Montreux. 1964. Janvier 23. P. 1.*
Отвечая на вопрос о своих любимых рассказах:
Лидирующая тройка представлена рассказами «Облако, озеро, башня», «Сестры Вейн» и «Весна в Фиальте». Они точно выражают всё, что я хотел, и делают это с тем величайшим призматическим очарованием, на которое способно мое искусство.
Интервью 1971 г. // Russian Literature Triquatery. 1991. № 24. P. 68.
О писателях
О Чосере
На самом деле Чосер мне не нравится. Конечно, он был очень хорошим писателем для того времени, в котором жил, но ведь тогда было трудно, должно было быть трудно, вообще написать хоть что-нибудь.
Los Angeles Times. 1977. August 7. Section IV. P. 1–2.
О Томасе Манне
Крошечный писатель, писавший гигантские романы.
Arts. 1959. Octobre 28 – Novembre 3. P. 4.*
О Стендале
На мой взгляд, его нельзя назвать в полной мере художником, ему недостает стиля.
О Джозефе Конраде
Верите ли вы, что можно сравнить вашу судьбу <…> со случаем Конрада? <…> Оба вы – иностранцы, поляк Конрад и вы русский, и оба решили писать на английском языке, который вам не родной.
Я не принимаю подобного сравнения. <…> Для начала, Конрад писал произведения исключительно на английском языке, в то время как я, еще до «Лолиты», написал восемь русскоязычных книг, которые обеспечили мне если и не известность, то определенную литературную репутацию. Во-вторых: я считаю себя автором для взрослых, а Конрада – скорее юношеским писателем, уступающим в мастерстве Киплингу. Более того, у него тяжеловесный английский, его глухие периоды не скрывают грубой работы ремесленника.
Il Giorno. 1959. Novembre 19. P. 5.***
О Роберте Фросте
Не всё, что он написал, было хорошо. Довольно много хлама. Но я считаю, что даже довольно бесхитростное его стихотворение про лес («Остановка снежным вечером у леса») – одно из величайших, написанных когда-либо.
Об Эрнесте Хемингуэе
Хемингуэй создал несколько замечательных вещей. Но его длинные романы – «По ком звонит колокол» и другие – мне кажется, они ужасны. Прежде всего он был мастер короткого рассказа.
Об Уильяме Фолкнере
Я абсолютно равнодушен к Фолкнеру. Не понимаю, что в нем находят. Его просто выдумали. В действительности его и не было.
National Observer. 1964. June 29. P. 17.
О французских писателях
Подобно тому, как Пушкин питался вашими авторами XVIII столетия (питался почти до плагиата – добровольного или невольного), так и мне приходилось читать много французов. Мне очень нравится Андре Шенье, которого Пушкин знал наизусть. Дидро меня восхищает, Сад – навевает тоску, Мариво для меня лишь журналист, как, впрочем, и Стендаль, и Бальзак.
Les nouvelles litteraires. 1959. Octobre 29. № 1678. P. 2.*
Мой лучший друг – Гюстав Флобер. Разумеется, я храню верность и Марселю Прусту, которого страстно любил в молодости. Должен вам сказать, что недавно с удовольствием прочитал «Отдых воина» Кристиан Рошфор.
Journal de Genève. 1965. No. 60. P. IV.*
О Габриеле Д’Аннунцио
Д’Аннунцио был персонажем, как и Байрон, а когда персонажи гибнут, умирают и писатели. <…> Я его читал в молодости. Мне нравился «Дождь в сосновом лесу». Мне не известен никто другой, чья голова так восхитительно напоминала бы яйцо, как у Д’Аннунцио.
Messagero. 1969. Novembre 2. P. 3.**
О Герберте Маркузе
Я прочел несколько выдержек из его произведений и нашел их абсолютно бессмысленными. Интересно, не является ли Маркузе на каком-нибудь африканском или азиатском наречии уменьшительным от Маркса? Вероятно, самого юного из братьев Маркс289.
Panorama. 1969. Novembre 6. P. 56.***
Об Алексее Толстом
«Петр Первый», «Хождение по мукам» виртуозно написаны, но ряд глав там искусственно приспособлен к «генеральной линии». Все же Толстой, конечно, большой талант.
Новое русское слово. 1961. 5 февраля. С. 8.
О Борисе Пастернаке
Пастернак – поэт, а не прозаик. Как роман «Доктор Живаго» – ничто, он полностью соответствует консервативному стилю советской литературы. Он плутает, подобно «Унесенным ветром», и к тому же переполнен мелодраматическими ситуациями и всевозможными ляпами. По сравнению с Пастернаком мистер Стейнбек – гений.
Ivy magazine. 1959. February. P. 28.
Меня интересует только художественная сторона романа. И с этой точки зрения «Доктор Живаго» – произведение удручающее, тяжеловесное и мелодраматичное, с шаблонными ситуациями, бродячими разбойниками и тривиальными совпадениями. Кое-где встречаются отзвуки талантливого поэта Пастернака, но этого мало, чтобы спасти роман от провинциальной пошлости, столь типичной для советской литературы. Воссозданный в нем исторический фон замутнен и совершенно не соответствует фактам.
Niagara Fall Gazzette. 1959. January 11. P. 10-B.
Как переводчик Шекспира он очень плох. Его считают великим только те, кто не знает русского языка. <…> Сам же Пастернак сильно выигрывает при переводе. Когда вы переводите клише – ну, например, «нет худа без добра», – на другом языке они звучат не хуже, чем у Мильтона.
Vogue. 1966. Vol. 148. № 10 (December). P. 280.
«Доктор Живаго» – всего лишь политическая мелодрама, не имеющая художественной ценности.
Panorama. 1969. Novembre 6. P. 56.***
О Евгении Евтушенко
Я ознакомился с его творчеством. Оно вполне второразрядно. Он правоверный коммунист.
О советской литературе
Хороших романов нет. Все они либо политизированы, либо мелодраматичны, весьма банальны и консервативны по стилю, полны обобщений и набивших оскомину персонажей, возвращающих нас к Диккенсу. Даже романы, тайком вывезенные из России и якобы представляющие оппозиционные режиму тенденции, часто вывозятся с молчаливого согласия начальства. Сегодня русские власти считают, что им нужно нечто вроде лояльной оппозиции. У нас же стараются найти в произведениях молодых советских писателей то, что укажет на подтаивание ледяной политической глыбы. Но в действительности оттепель весьма незначительна и неизменно регулируется Государством.
Каким образом может появиться в России хорошая и оригинальная литература, коль скоро писатели понятия не имеют о том, что такое Запад, о том, что такое настоящая свобода? Даже те немногие авторы, которые посещают Англию и Америку, видят только то, что обычно доступно туристу: Британский музей, Центральный парк, твист; ничто не меняет представления, которое они сформировали о нас, прежде чем приехать. Для некоторых первое дуновение свободы – когда они видят небрежно развалившихся в креслах американцев: ноги вытянуты, руки в карманах. Но, к сожалению, они не способны почувствовать в этом одно из проявлений демократии. Они думают, это некультурно. Они говорят: «Американцы… ну что с них взять».
New York Herald Tribune (American edition). 1962. June 17. P. 5.
О преподавании
Нашим студентам нужно быть более собранными, почаще оставаться в одиночестве и побольше спать. Слишком уж много клубов и коллективных мероприятий. Университетские городки должны быть более тихими; многим студентам не повредили бы уютные кельи со стенами, обитыми войлоком.
Cornell Daily Sun. 1958. September 25.
У меня шесть часов занятий в неделю. Когда десять лет назад я впервые появился в Корнелле, число моих студентов достигало трехсот человек. Предполагаю, они думали, что со мной им будет легко. Ну, я-то их оставил в дураках. Теперь на моих лекциях максимум сто пятьдесят учащихся.
Мы анализируем самую сущность романа. Я хочу научить их понимать, как писатель творит свое произведение, добавляя деталь, другую деталь, еще одну деталь.
Niagara Fall Gazzette. 1959. January 11. P. 10-B.
Идеальный способ обучения – прослушать курс лекций, тщательно подготовленных преподавателем в тишине кабинета и записанных на пленку. При существующей системе лектор разрушает эффект воздействия хмыканьем и покашливанием, в то время как студенты, возможно, расшифровывают названия, даты, закорючки. <…>
Ivy magazine. 1959. February. P. 28.
Девушки созревают намного раньше юношей. Их развитые формы и привычка носить облегающие свитера сильно отвлекают внимание. Это уничтожает весь процесс обучения.
The American Weekly. 1959. October 4. P. 13.*
О ловле бабочек
Не могу вообразить, что может быть интересного в том, чтобы лицезреть меня на грязной дороге, охотящимся после дождя на бабочек. Нет существа более угрюмого, замкнутого и раздражительного, чем энтомолог, преследующий свою добычу…
В семь тридцать я завтракаю. Без пятнадцати восемь, взяв сачок, я неторопливо выхожу из отеля и выбираю одну из четырех или пяти возможных тропинок. В зависимости от погоды моя прогулка может длиться три или пять часов. В среднем за день я прохожу пятнадцать километров. В конце сезона я довольно часто пользуюсь фуникулером. Кстати, кресло-подъемник – чудесное изобретение. Ты просто скользишь вперед. Однажды в Италии я поднимался на кресле-подъемнике под музыку – причем не просто под музыку, а под Пуччини и «Травиату».
Бывает ли так, что живущий в вас эстет мешает Набокову-ученому убить бабочку, если она особенно красива?
Не потому, что она красива. Бабочки, как и люди, красивы и в то же время безобразны. Я позволяю улететь старым и потрепанным особям или тем бабочкам, которые не нужны для моей коллекции. Я терпеть не могу убивать не нужных мне бабочек. Вообще это неприятное чувство: вы механически умерщвляете их, а после чувствуете себя виноватым.
Die Welt. 1974. September 26. P. 3.
Приятное времяпрепровождение, когда-то столь же банальное, как уроки музыки и акварельной живописи, со времен моего нежного детства превратилось в страсть, наконец, в профессию и научные занятия, которые продолжались в лабораториях Гарварда и во время моих путешествий. Это чистая наука безо всякой эстетики.
L’Express. 1975. June 30 – Juillet 6.
Об Америке
В то время как американские писатели предпочитают жить во Франции, сами вы выбрали Америку?
В этой восхитительной стране я свил уютное гнездышко, где забываешь о ее размерах. Во время недавней поездки в Америку Грэм Грин…
…который первым в Англии сказал о «Лолите», что это лучшая вещь из того, что он прочел за последние десять лет…
…позвонил мне из Нью-Йорка и уже через час был у меня дома – я живу в одноименном штате, Нью-Йорк, так вот, он не мог поверить, что нас разделяет пятьсот километров. Там всё так хорошо организовано, от универмагов до культуры!
Les nouvelles litteraires. 1959. Octobre 29. № 1678. P. 1.*
Моя Америка довольно маленькая: университетская Америка и дикие горы, куда я хожу охотиться за бабочками. И моя Россия тоже очень маленькая. Дорожка там, пару деревьев здесь, небо. Это сундучок с сокровищами, к которому возвращаешься снова и снова.
Observer. 1959. November 1. P. 21.
Теперь Америка мой дом. Это моя страна. Ее интеллектуальная жизнь подходит мне гораздо больше, чем в других странах. Здесь у меня больше друзей и родственных душ, чем где бы то ни было. Заметьте, я вовсе не в восторге от американской кухни. Мороженое и молоко хороши в меру. А американский бифштекс – это какое-то недоразумение (вот вам каламбур)290. Но все это из области материального и по большому счету не важно. Нет, есть еще что-то в американской жизни и в американцах, что делает меня по-настоящему абсолютно счастливым.
National Observer. 1964. June 29. P. 17.
О суде над бандой Чарльза Мэнсона
Знаете, если бы я был журналистом, я написал бы репортаж о Мэнсоне. Меня сильно притягивает его судебный процесс. Так много можно было бы из этого сделать! <…>
Мэнсон и его девки – они кретины! Они не способны думать. (Имитируя ответы обвиняемых.) «Мы воткнули ей вилку в живот, чтобы ее ребенок никогда не участвовал в войнах». Что за война? <…> Вы думаете, эти девицы и Мэнсон знают что-нибудь о войне во Вьетнаме? Да, для них она существует, у них есть о ней некое представление, но не более. Они говорят о ней, но сами не понимают, о чем говорят. <…>
У меня пристрастие к подобного рода судебным историям, и мне бы очень хотелось увидеть искру раскаяния у этого слабоумного монстра и у этих скудоумных бестий, его девиц. И еще я хотел бы узнать побольше о тех идиотах, которые восхищаются подобными тварями.
New York Times Magazine. 1971. October 31. P. 32, 36, 38.
О Париже
Город стал декорацией за стеклом автомобиля, с Эйфелевой башней или базиликой Сакре-Кёр вместо задника. Не то чтоб я ворчал, я люблю такси, но почему они уже не желтые, как перед войной? Жаль. И куда пропал запах опавшей листвы? Полагаю, деревья обрабатываются инсектицидами, и это убивает запах осени, или бог знает что еще. Есть только три вещи, которые я узнаю: комиссариаты полиции (какой восхитительный фарс там разыгрывался!), площадь Согласия, вечер, огни и теплый воздух метро. Восхитительно.
Arts. 1959. Octobre 28 – Novembre 3. P. 4.*
О жизни в Швейцарии
Мы очень любим Монтрё, его местоположение, игру цвета в любое время года, дома, высящиеся над озером. И потом, здесь жило столько писателей: Байрон, Руссо, не говоря уже о Казанове…
Отсюда я веду переписку с издателями по поводу переводов моих книг, которые мне предстоит редактировать. Только одно вызывает сожаление: опасное и чрезмерное движение транспорта на кантональной дороге!
Journal de Montreux. 1964. Janvier 23. P. 1.*
Это самая приятная и поэтичная страна Европы. Здесь бывали Гоголь, Толстой, Байрон, Достоевский. Гоголь писал здесь «Мертвые души». Достоевский очутился здесь без гроша, а Толстой подхватил венерическую болезнь. Как я уже сказал, поэтичная страна…
National Observer. 1964. June 29. P. 17.
Я выбрал Швейцарию, потому что это очаровательная и чрезвычайно уютная страна. Здесь в горах восхитительные бабочки. Ловить бабочек возле Симплона или Гризона – восхитительное наслаждение, и некоторые из знаменитых районов – Понтрезино, Цермат, Лакинталь, долина Роны – классические места охоты, всё еще чреватые неожиданными находками, несмотря на поколения английских и немецких собирателей, бродивших здесь прежде.
Die Zeit. 1966. November 1. P. 19.
Не нахожу ничего более скучного, чем политические страсти в странах менее удачливых, чем Швейцария. Здесь мир и справедливость. Готов признаться, что предпочитаю честного швейцарского торговца дюжине поэтических посредственностей любой другой страны. Улицы швейцарского города такие же оживленные, как и улицы Бостона или Багдада. Я не согласен с тем, что процветание и механизация нечто анонимное и нивелирующее. Нет ничего более безликого и нивелирующего, чем бедность. Мой выбор вызван не только отсутствием политических бурь, но и предпочтениями семьи.
Corriere della Sera. 1969. Ottobre 30. P. 12.***
Конечно, я предпочел бы собственный дом – с садом, высокими деревьями, красивой мебелью, старой прислугой. Но где его найти? И потом, он никогда бы не достиг того совершенства, которое было присуще Вырскому имению под Санкт-Петербургом, где я провел детство.
La Stampa. 1969. Ottobre 30. P. 3.**
Любой англичанин, независимо от имени и удостоверения личности, оказывается определенного сорта журналистом, но мне все равно приятно разговаривать с ними. Американцы, которые мне встречались, стремятся получить от собеседника гораздо больше, чем сами дают, так что я стараюсь быть осторожным. Не так давно некто, судя по имени – американец, по всему Монтрё наоставлял для меня кучу невразумительных сообщений. Я тоже стал писать письма, из которых следовало, что я занят. Затем я получил еще одно послание – клочок бумаги, на котором было написано: «F… you». Ну, это уже было настолько конкретнее всего остального, что я спросил у портье, какого вида персона оставила сие послание. И портье ответил: «Это была не персона, сэр, это были две американские девушки диковатого вида». Я был заинтригован еще больше и взглянул на клочок бумаги еще раз. И тут я обнаружил в конце послания кое-что, не замеченное мною при первом чтении: вопросительный знак!
New York Times Magazine. 1971. October 31. P. 30.
Почему Швейцария? А почему бы и нет? Ее горы, разнообразие флоры, ее гладкие дороги и очаровательные гостиницы напоминают мне мою любимую сельскую местность на американском Западе. Единственное, что по-настоящему меня раздражает в Швейцарии, – то, что слишком часто и поспешно выкашиваются луга среднего альпийского пояса. А мне ведь нужны полевые цветы – мои французские переводчики норовят перевести это выражение как «fleurs sauvages», – они нужны мне для энтомологических экскурсий, величайшего наслаждения моей жизни. Разумеется, чтобы разыскивать бабочек, я всегда могу, сидя в волшебном кресле, подняться на высоту две тысячи метров, при этом стараясь избегать тех высокогорных склонов, где эдельвейсы сменились коровьими лепехами.
Вот вам диалог на альпийской тропинке с так называемым «защитником природы». Он: «А вы знаете, что ловля бабочек запрещена?» Я: «Что вы называете бабочкой?» (Показываю ему одну довольно маленькую особь.) «Нет, это что-то вроде мухи, а я имел в виду тех, из которых делают ювелирные украшения, больших голубянок». Бедняга полагал, что он в Бразилии.
L’Express. 1975. June 30 – Juillet 6.
Вовсе я не знаменитый писатель. Лолита была знаменитой маленькой девочкой. Знаете, что такое быть знаменитым писателем в Монтрё? На улице к вам подходит американка и восклицает: «Господин Маламуд! Я вас везде узнáю!»
People. 1975. March 17. P. 63.
Иностранная литература. 2003. № 7. С. 208–217.
Шарж Хэнка Хинтона
НАБОКОВ, БАБОЧКИ И ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
Шарж Винта Лоуренса
<Rosalie Macrae «Nabokov, butterflies and the Coted’Azur» // Daily Express. 1961. April 8. P. 6.>
Владимир Набоков хорошенько подумал, бриться ему или нет, и, несмотря на приятные ощущения, которые доставляет ему процесс бритья, откинулся в своем викторианском кресле. За окном квартиры, снятой Набоковыми в Ницце, каштановокудрые девушки прогуливаются по Променад-дез-Англе.
Набоков с любовью смотрит на Веру, седовласую женщину, на которой женат вот уже 33 года.
«Эх, моя американская Лолита, – вздыхает он, – я не нахожу тебя здесь, моя Лолита. Ты не появишься на этом Лазурном Берегу.
Все вы здесь пост-Лолиты. Вы Бардотиты, а не Лолиты. Слишком уж вы искушенные. Для вас Америка и лолитизм – это культ. У вас нет ничего общего с той Лолитой, которую выдумал я».
Повсюду
Набоков вопросительно поворачивается к жене: «В действительности я не встречал никаких Лолит, не правда ли, дорогая?
Не думаю, чтобы я даже когда-нибудь разговаривал с двенадцатилетней школьницей. У меня двадцатишестилетний сын, и у всех моих друзей – сыновья. Но я был уверен, что они где-то поблизости.
А вот мотели я знаю. Я часто жил в них. У нас ведь никогда не было своего дома.
В моей книге американские девочки подобного рода изредка встречаются. Теперь Лолиты повсюду. Посмотрите на Сен-Тропе – каждая девчушка пытается выглядеть как Лолита, моя Лолита, однако ни у кого не выходит. И тем не менее в Ривьере что-то есть. Возможно, это радостное чувство восходит к тому времени, когда маленьким мальчиком, приехавшим на отдых из Санкт-Петербурга, я смотрел на пышную шоколадно-кремовую Ривьеру из окна проносящегося мимо поезда люкс».
Его поэма
«Вероятно, я приехал сюда из-за бабочек. В 1939 году, высоко в горах, я открыл здесь новый вид бабочек, и сегодня выхожу на охоту, все еще надеясь сделать очередное открытие.
Но теперь все здешние бабочки – мои старые знакомые.
Карикатура Мориса Анри
Помнится, я написал стихотворение, посвященное открытию той бабочки».
Через всю гостиную он идет к книжному шкафу и извлекает оттуда текст стихотворения «Открытие».
«Да, – говорит Набоков, – может быть, бабочки, а может быть, и чудесное море, или то, что здесь говорят по-французски, а я обожаю французский, и еще изменчивая тропическая растительность. А может быть, и сама возможность снять вот эти апартаменты – в викторианской вилле, которая похожа на чудовищный именинный торт желтого цвета, но прекрасно смотрится посреди белых уступов современных домов.
Вот я здесь на отдыхе. Но у меня свой, особый Лазурный Берег. Я избегаю людей. Ненавижу рестораны и кафе. Для того чтобы поесть, я иду к старому отелю возле дороги. Он такой тихий, величественный и какой-то барственный.
Я остановился здесь в это время, чтобы писать – о человеке, который сочинил поэму в 999 строк и погиб, прежде чем добрался до тысячной строки. А после его приятель пытается интерпретировать поэму и по ходу дела втискивает туда свою жизнь».
Бритьё
Набоков протягивает мне сигарету. «Я не позволяю себе отдыхать. Даже когда я пытаюсь расслабиться, Муза сражается со мной и заставляет снова взяться за работу.
Я все время пишу по-английски. Сейчас для меня писать по-русски – все равно что играть в хоккей на траве после хоккея на льду. Мне необходим этот американский привкус эксперимента.
Когда я узнал, что вы придете, я решил не бриться. Возможно, сделаю это завтра. Это такое прекрасное ощущение. Посмотрите-ка на мой белый льняной колпак – как раз специально для моей лысой головы».
Госпожа Набокова, которая, полузакрыв глаза, расположилась на диване, вежливо улыбается, пока ее муж берет с вешалки в холле конус из белого льна.
«С непокрытой головой никогда не чувствую себя комфортно, – говорит он. – В постели я всегда надеваю ночной колпак. Однажды мой сын Дмитрий – он оперный певец, превосходный баритональный бас – собирался на лыжную прогулку и оставил свою лыжную шапочку на кровати. Горничная увидела шапку, решила, что это ночной колпак еще одного из этих сумасшедших Набоковых, и сунула его под подушку. Бедный мальчик пошел кататься без шапки».
Набоков беспомощно заливается смехом. Затем он прощается и уходит, для того чтобы ловить бабочек перед обедом.
Московские новости. 2002. № 21. С. 31.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ О ПРОЧЕМ
Шарж Дэвида Левина (на Джона Апдайка)
Шарж Ричарда Уилсона (на Айрис Мёрдок)
Шарж Ричарда Уилсона (на Энтони Бёрджесса)
Шарж Ричарда Уилсона (на Ивлина Во)
Шарж Николя Дженнингс (на Мартина Эмиса)
Шарж Дэвида Левина
I. О НАБОКОВЕДАХ И ПРОЧИХ «ВЕДАХ»
УПУЩЕННЫЙ СЮЖЕТ, ИЛИ PRO SINE CONTRA
Творческая биография любого неординарного художника напоминает сюжет авантюрно-приключенческого романа или лихо закрученного боевика, где герою приходится преодолевать бесчисленные препятствия и козни коварных врагов. Писателю, мало-мальски выходящему из ряда удобочитаемой, но не задерживающейся в памяти посредственности, почти всегда выпадает нелегкая доля: с боем пробиваться к литературному Олимпу, отражая критические наскоки соперников, укрощая строптивых редакторов и опасливых издателей, попутно соблазняя привередливую, неизбывно «ленивую и нелюбопытную» публику – ленивую настолько, что заслуженные лавры классика и лакомый титул властителя дум чаще и вернее всего достаются уже лишенным честолюбия покойникам. В отличие от героев приключенческих романов писателю далеко не всегда гарантирован уютный прижизненный happy end, да и своенравная и переменчивая Муза, по верному замечанию Флобера, – это «девственница с плевой из бронзы, и надо быть ох каким хватом, чтобы…».
Выдающийся русско-американский писатель Владимир Набоков, которому посвящена очередная книга из серии «Pro et contra»291, безусловно, был хватом что надо. Однако и его путь к сияющим высотам мировой славы мало походил на беззаботную прогулку под бравурный аккомпанемент велеречивых славословий. Это сейчас, накануне столетнего набоковского юбилея, каждый уважающий себя любитель изящной словесности твердо знает: автор «Приглашения на казнь» и «Лолиты» – всеми признанный классик литературы ХХ века. Однако далеко не все представляют, каким трудным было его восхождение наверх.
Перипетии литературной биографии Владимира Набокова поражают своим драматизмом. Один из самых ярких прозаиков первой волны русской эмиграции, уже после выхода «Защиты Лужина» завоевавший репутацию «самого цельного и интересного представителя новой русской прозы» (Н. Андреев) и к середине тридцатых заставивший даже литературных врагов (например, взыскательного Георгия Адамовича) писать о себе с уважением, в 1940 году он резко изменил свой статус. Переехав из воюющей Европы в несокрушимо благополучные Соединенные Штаты, Набоков, как известно, переквалифицировался в американского литератора, отказавшись при этом от «кровного наречия», «ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного <…> русского слога ради второсортного английского языка».
Будучи по самому складу своего творческого «я» чуждым господствовавшей тогда в Америке социально ангажированной литературе, этот вечный перекати-поле и космополит вплоть до умопомрачительного успеха «Лолиты», то есть примерно пятнадцать лет, довольствовался весьма скромной литературной репутацией. Его первые англоязычные романы – «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и «Под знаком незаконнорожденных» – вызвали вялую реакцию критиков, многие из которых и вовсе отнеслись к ним враждебно, обрушившись на писателя за то, что «его техническая виртуозность не подкреплена адекватным содержанием» (Уолтер Аллен), а «лишенный фантазии стиль отличается вымученной образностью и глухотой к музыке английской речи» (Диана Триллинг).
Несмотря на признание и поддержку немногочисленных литературных гурманов, несмотря на публикации в престижных журналах вроде заповедного «Нью-Йоркера», достаточно долгое время наш герой оставался неизвестным массовому читателю и был «темной лошадкой» для американских издателей, не пожелавших рисковать, когда «незаметнейший писатель с непроизносимым именем» (так кокетливо назвал себя Набоков в интервью 1967 года) предложил им «бомбу замедленного действия» – «серьезную книгу с серьезным замыслом», рассказывающую о безрассудной страсти сорокалетнего интеллектуала к «маленькому смертоносному демону» в обличье двенадцатилетней школьницы.
Грустная ирония судьбы: опасавшийся «успеха скандала», Набоков добился читательского признания именно благодаря нездоровому ажиотажу, возникшему вокруг его «аскетически строгого создания» – благодаря судебным разбирательствам, цензурным гонениям (во Франции тираж «Лолиты» был арестован) и истеричным обвинениям со стороны присяжных блюстителей нравственности в «отъявленной и неприкрытой порнографии» (Джон Гордон).
Разразившийся по обе стороны Атлантики скандал помог писателю завоевать громкое литературное имя и сделал его известным и в нашей целомудренной отчизне, заклеймившей «создателя известной садистской повести», грязного порнографа, «смакующего сцены растления <…> с такими подробностями, какие покоробили бы даже профессионального содержателя дома свиданий» (Ю. Чаплыгин).
Литературная репутация В.В. Набокова в СССР – тема для особого разговора; это отдельная сюжетная линия – весьма любопытная, даже если учесть, что в советской печати отзывы о Набокове – «писателе, лишенном корней, отвернувшемся от великих традиций родной литературы» (В. Пронин, А. Чернышев) – были немногочисленны и, как правило, не отличались ни особой вдумчивостью, ни дружелюбием, ни разнообразием.
Иное дело – англоязычная набоковиана, куда более обширная и многоцветная. После впечатляющего триумфа «Лолиты» высокий статус Набокова был непоколебим, и тем не менее практически все его последующие произведения (включая и переводы извлеченных из незаслуженного забвения русских книг) вызывали разноречивые отклики у рецензентов, придирчиво браковавших порой не только откровенно слабые и проходные вещи, наподобие вымученных «Просвечивающих предметов», но и безусловные шедевры (каким смело можно назвать хотя бы замечательный литературный гибрид «Бледный огонь»).
О феномене Набокова писали ведущие американские и английские критики (я перечислю наиболее именитых: Джон Апдайк, Энтони Бёрджесс, Альфред Кейзин, Дэвид Лодж, Мэри Маккарти, Дуайт Макдональд, Говард Немеров, Эдмунд Уилсон, Лесли Фидлер, Кингсли и Мартин Эмисы (этот семейный дуэт изрядно попортил нервы нашему герою), Деннис Джозеф Энрайт и многие другие), большинство из которых, как мы видим, сами являлись профессиональными писателями, что еще больше увеличивает историко-литературную ценность их «неакадемических» и зачастую нелицеприятных суждений о набоковском творчестве.
В нашей стране, где в разгар горбачевской перестройки творчество Набокова наконец-то стало доступным широкой читательской аудитории, литературная репутация писателя утверждалась с большими сложностями. В конце восьмидесятых на внезапно «разрешенного» Набокова низвергался ядовитый ливень всевозможных обвинений – в безнравственности, бездушном формализме, аполитичности, забвении гуманистических традиций русской литературы и проч. Любопытно, кстати, что некоторые особо бдительные американские критики, несмотря на заявления самого писателя, в свою очередь считали его «русским волком в американской шкуре» (Р. Крофтс).
***
К моему глубокому сожалению и разочарованию, составители недавно вышедшего талмуда «В.В. Набоков: Pro et contra», вопреки выбранному названию (кое к чему обязывающему) перевели разговор об одной из самых противоречивых и экстравагантных литературных фигур ХХ столетия в болотистое русло «благородной скуки и канонизирования объекта изучения». Интригующие коллизии творческой биографии Набокова (их я попытался пунктирно наметить выше), разноголосица, сопровождавшая появление каждой новой его книги, особенности восприятия набоковского творчества в англоязычном литературном мире – всего этого лишен потенциальный «просто любознательный читатель», к которому обращаются авторы предисловия.
Вся беда в том, что повитухами первой в нашей стране (и, дай бог, не последней) набоковской антологии стали литературоведы, кормящиеся Набоковым и посему органически неспособные на беспристрастную и объективную оценку многогранного и, чего греха таить, неравноценного творческого наследия писателя. Составители пошли по пути наименьшего сопротивления и не удержались от щекочущего соблазна: отбросив все «contra», устроили уютный набоковедческий междусобойчик.
Лишь мизерная часть пухлого девятисотстраничного монстра действительно отвечает названию, да и духу серии «Pro et contra». Раздел «Русская эмигрантская критика о В. Набокове-Сирине» в какой-то мере спасает все это аморфное, плохо продуманное по композиции издание. До неприличия куцый, наполовину составленный из легкодоступных, неоднократно публиковавшихся в отечественной печати критических работ, он все-таки дает некоторое представление о том, как воспринималось набоковское творчество в русском зарубежье. Другое дело, что составители ограничились статьями двадцатых–тридцатых годов, посвященных довоенному творчеству писателя (писавшего тогда под броским псевдонимом В. Сирин). Вся послевоенная набоковиана русской эмиграции практически осталась «за кадром». Затасканная от постоянных перепечаток статья Г. Адамовича (автора более тридцати спорных, но чрезвычайно любопытных отзывов о набоковских произведениях), взятая из хрестоматийно известного сборника критических этюдов «Одиночество и свобода», фрагмент из опять-таки уже изданной в нашей стране книги Глеба Струве «Русская литература в изгнании» да темпераментное, хотя и трогательно-архаичное своим ультрамодернистским пафосом эссе Нины Берберовой (по недоразумению отторженной от критиков эмиграции и отнесенной в раздел «Статьи отечественных и зарубежных авторов…») – вот и все, что позволили себе составители, не забывшие, однако, включить в антологию собственные опусы и даже откровенно ученические штудии своих аспирантов, представляющие собой бесхитростные перепевы работ англоязычных исследователей. (В статье К. Басилашвили, например, выражения типа: «…пишет американский исследователь Дж.В. Коннолли», «по мнению Коннолли», «Коннолли отмечает», «Дж.В. Коннолли исследует», повторяются раз десять, что наводит на определенного рода размышления: не проще ли было перевести соответствующую главу из монографии американского ученого, нежели сбивчиво ее пересказывать?)
При жизни Набоков едко высмеивал исследователей, неспособных к самостоятельному анализу и поэтому беспорядочно мечущихся «в поисках более или менее пылких сопоставлений». Словно в пику ему большая часть опусов, включенных в «Pro et contra», написана компаративистски озабоченными «набокоедами» – людьми, которые обычно «разглагольствуют о книге, вместо того чтобы раскрыть ее душу». В поисках эффектных, но чаще всего произвольных и ничего не проясняющих в набоковском творчестве аналогий они лихорадочно перерывают литературные кладовые и с неугасающим азартом забрасывают своего подопечного ворохом разнокалиберных имен. В ход идут: Андрей Белый (с чьим «капустным гекзаметром» вроде бы распрощался автор «Дара»), Амброз Бирс, Константин Вагинов, Гомбрович, Максим Горький, Замятин, Ясунари Кавабата, «Евангелие Истины», Пастернак, Леонгард Франк (на том основании, что он одновременно с Набоковым жил в Берлине, затрагивал в своих произведениях тему инцеста и как-то описал магазинную витрину с движущимися манекенами, которую можно встретить и в «Короле, даме, валете»), Шалтай-Батай, Виктор Шкловский и даже Виссарион Ерофеев. Стоит ли говорить, что темпераментных охотников за параллелями не терзают сомнения: так ли уж упорно Набоков, создавая «Приглашение на казнь», штудировал гностические тексты (как мы помним, в большинстве своем найденные в 1945 году), были ли ему доступны произведения Вагинова (и в СССР-то известные далеко не каждому специалисту по литературе), не могли ли они с Франком описать одну и ту же примечательную берлинскую витрину просто в силу совпадения и т.п.
Разумеется, некоторые работы – А. Долинина, М. Липовецкого, Дж. Коннолли, Л. Сараскиной и особенно Г. Савельевой – содержат в себе немало, как сказал бы Фома Опискин, «зернистых мыслей» и представляют интерес если не для пресловутого «широкого круга читателей», то уж, по крайней мере, для специалистов. Однако отдельные удачи, увы, не могут искупить главных изъянов антологии: композиционной рыхлости, отсутствия продуманной концепции (которая придала хотя бы подобие цельности составленной из разношерстного материала книге), и, главное, того отпугивающего духа корпоративности, который губит даже самое благое начинание.
Книжное обозрение. 1997. 25 ноября. С. 5.
Постскриптум
К сожалению, объем газетной рецензии не позволил подробно разобрать достоинства и недостатки набоковедческих статей, составивших основу антологии. Как и обратить внимание читателей на чудовищные ошибки в куцей библиографии, составленной М.Э. Маликовой (куцей даже по меркам девяностых годов, когда отечественное набоковедение уже вышло из пеленок). Закрыв глаза на пробелы в перечне рецензий, критических статей и набоковедческих работ (особенно разительные в разделах «Литература о В. Набокове на русском языке» и «Основные зарубежные иноязычные публикации о В. Набокове»), я непременно отметил бы, что «Последние новости» – главная газета русского зарубежья двадцатых–тридцатых годов, иметь представление о которой обязан любой мало-мальски уважающий себя историк литературы ХХ века, – вопреки неоднократным указаниям Маликовой (С. 942, 946) выходила в Париже, а не в Берлине; что Набоков был автором очерка «Брайтенштретер – Паолино», а не «Брайтенитретер – Паолино» (С. 940) и его перу принадлежит роман «Король, дама, валет», а не «Дама, король, валет» (С. 953); что Дикс – это псевдоним одного из ведущих эмигрантских критиков «первой волны» Владимира Вейдле, а не мифического Б.А. Лемана (С. 947); что о «Приглашении на казнь» не мог появиться отзыв в парижском журнале «Грань» за 1930 год (С. 943): роман печатался в «Современных записках» в 1935–1936 годах (№ 58–60), а журнал «Грань» выходил в 1939-м; что автором отзыва на журнальную публикацию «Соглядатая», появившемся в газете «Россия и славянство» (1930. 15 ноября. С. 4) был Константин, а не Борис Зайцев (С. 948); что статья Петра Бицилли «Возрождение аллегории» была опубликована в «Современных записках» в 1936-м, а не в 1935 году (С. 944), что…
Впрочем, «поздно пить боржоми…». Меня успокаивает только то, что «преполезнейшая библиография набоковедения» М. Маликовой (как аттестовал ее видный набоковед В. Курицын) принесла минимальный вред начинающим исследователям Набокова: ее вытеснил из научного обихода пятисотстраничный труд Г.Г. Мартынова (В.В. Набоков. Библиографический указатель. СПб.: Фолио-Пресс, 2001).
В завершение хочу предъявить читателям пару шпилек – пару аллюзий, из озорства запрятанных в тексте моей добродушной рецензии и предназначенных определенным адресатам.
Упоминание «Виссариона Ерофеева» – первая шутка над составителями и авторами антологии, доводящая до абсурда их страсть к «странным сближениям», сличениям и сопоставлениям. Разумеется, с ним, равно как и с Шалтаем-Батаем, «просинеконтровцы» Набокова не сопоставляли. «Виссарион Ерофеев» – моя литературная маска, фантом, созданный под влиянием игриво-карнавальной атмосферы девяностых. Когда я стал сотрудничать с журналом «Волшебная гора», в первых номерах которого печатался роман «Ерофея Венедиктова» (В.В. Ванчугова) «Добрый молодец», то решил продолжить игру и публиковать некоторые критические опусы под похожим псевдонимом, скрестив имя «неистового» критика с фамилией небезызвестного литератора (в нулевые он пробавлялся смердяковскими статейками, а затем мутировал в ведущего скучноватого телешоу). «Если в литературе процветает В. Ерофеев № 2, – рассуждал я, впечатлившись его навязчивой и беспардонной саморекламой, – то почему бы не появиться В. Ерофееву № 3, № 4, № 5?» Каждую критическую статью я планировал подписывать всё новыми вариациями: вслед за «Виссарионом Ерофеевым» должны были появиться клоны: Виталий, Владилен, Вонифатий – вплоть до полной девальвации сочетания «В. Ерофеев». От этой затеи я отказался, но «Виссарион Ерофеев» некоторое время влачил фантомное существование на журнальных страницах и даже обзавелся пародийной биографией (типовой для фрондерствующего литератора-вольнолюбца), которая была опубликована в разделе «Сведения об авторах» шестого выпуска «Волшебной горы». Поскольку «Волшебная гора» (выходившая мизерным тиражом – героическими стараниями ее главного редактора Артура Медведева) ныне является библиографической редкостью, привожу этот шутейный Curriculum Vitae полностью:
Ерофеев Виссарион Самуилович (р. 1951) – критик, литературовед. С конца 70-х активно печатался в «самиздатовских» и «тамиздатовских» журналах и альманахах («Сало», «33», «Мишин журнал», «Отголосок» и др.). В 1984 г. после публикации литературно-психоаналитического исследования «Вольтиманд Курицын – Ум, Честь и Совесть нашей эпохи» был вынужден эмигрировать в Израиль. С 1986 г. живет в США, преподает русскую литературу в Колледже им. Чарльза Мэнсона (Виргиния) В. Ерофеев является автором ряда исследований: «Сопоставительное синтактико-стилистическое исследование индивидуальных стилей Ф. Куорлза и Г. Пинфолда», «Тезаурологический подход к поэзии Петра Пустоты», «Изучение фольклорных мотивов в ранней лирике Дж. Шейда». [Для справки: Вольтиманд – третьестепенный персонаж «Гамлета»; в штате Виргиния имеется Университет Джорджа Мейсона – не без влияния набоковской «Ады» я выдумал альтернативное учебное заведение, заменив одного из отцов-основателей США на печально знаменитого основателя «Семьи», до сих пор отбывающего тюремное заключение.]
Похвала Г. Савельевой – еще одна невинная шутка, оценить которую могли разве что составители: статья Г.Т. Савельевой «Кукольные мотивы в творчестве Набокова» была указана в примечаниях – вместе с данными об авторе (С. 925), но в книге отсутствовала. Лишь четыре года спустя она была напечатана во втором томе квазиантологии, по подбору материала еще больше смахивающем на сборник статей и материалов набоковедческой конференции, проведенной в провинциальном (во всех смыслах!) вузе.
О НАБОКОВЕ, НАБОКОВЕДАХ И НАБОКОЕДАХ
Шарж Ричарда Уилсона
Сравнительно недавно – всего каких-то там десять лет назад – произведения В.В. Набокова еще сохраняли аромат запретного плода и таили в себе магическую притягательность для «рядового читателя» (ныне довольствующегося винегретом из Чейза и Барбары Картленд); их появление на страницах зачитывавшихся до дыр «толстых» журналов вызывало ожесточенные споры среди критиков. Ценители и знатоки набоковского творчества, взявшись за перо, волей-неволей вынуждены были играть роль изворотливых адвокатов и защищать своего подопечного от угрюмых нападок тогда еще влиятельных набокофобов, без устали славших бедному Владимиру Владимировичу «Приглашения на суд» с грозными обвинениями в порнографии, аполитичности, космополитизме, бездушном трюкачестве и эстетизме, моральном релятивизме и проч.
В наши благодушно-всеядные времена, когда литературные страсти и скандалы отошли в область преданий, обширное творческое наследие Набокова – уже признанного классика уходящего века – больше не нуждается ни в рекламных, ни в адвокатских услугах «задорного цеха» критиков, этих «наемных убийц идей и репутаций»; оно стало законной добычей специалистов по тщательному наукообразному препарированию литературных шедевров, прошедших суровую проверку временем. Короче говоря, пришло время обстоятельных литературоведческих исследований.
На Западе (да простят меня за это публицистическое клише) творчество Набокова давно уже питает целую литературоведческую индустрию, которая только к 1995 г. выпустила более 50 монографий, более 15 литературно-критических сборников и специальных журнальных выпусков, сотни – если не тысячи – статей, рецензий, эссе. В США выходят два набоковедческих журнала – «Nabokovian» и «Nabokov Studies», – а пару лет назад появился на свет толстенный том своего рода набоковской энциклопедии – «The Garland Companion to Vladimir Nabokov» (1995).
В общем, там дело поставлено на широкую ногу. Как предмет литературоведческого изучения и теоретической рефлексии, казалось бы, неисчерпаемое и необъятное творчество Набокова все больше и больше становится похожим на намертво вытоптанный выгон для крупного рогатого скота, где не встретишь уже и живой былинки.
В настоящее время отечественное набоковедение проходит стадию экстенсивного освоения набоковского феномена. Наверстывая упущенное, наши «набокоеды» и «набоковианцы» успешно догоняют и перегоняют своих западных коллег по выпуску литературоведческих штудий на душу населения. Однако, вопреки законам гегелевской диалектики, количество пока не переходит в качество, и по своему уровню многие набоковедческие опусы российского производства находятся, как сказал бы Владислав Ходасевич, «ниже нуля». Большинство из них либо откровенно вторичны (как, например, шикарно изданная книга Бориса Носика «Мир и дар Владимира Набокова», две трети которой представляют собой старательный пересказ биографических сочинений Эндрю Филда и Брайана Бойда), либо совершенно нечитабельны, поскольку призваны выполнить одну задачу: загнать многогранную и противоречивую творческую индивидуальность писателя в прокрустово ложе той или иной теоретико-литературной концепции.
Среди представителей славной когорты отечественных (да и зарубежных) «набокоедов» особенно популярны сейчас постулаты одной из самых заскорузлых литературоведческих доктрин – «вульгарного компаративизма», – в соответствии с которыми главная цель исследователя – неустанный поиск тематических и образных параллелей, а также обнаружение следов «влияний»; чем эффективнее и неожиданнее найденная (или притянутая за уши) аналогия, тем лучше. (Почитайте хотя бы ради любопытства статьи, включенные в набоковский номер «Звезды» (1996. № 11), или печально известную антологию «В.В. Набоков: pro sine contra», – и у вас непременно сложится впечатление, что Набоков, словно способный попугай, только и мог подражать другим авторам.)
Зловещие симптомы «вульгарного компаративизма» различимы и в «Феномене Набокова» (1992) – первой отечественной монографии о Набокове, автор которой, будучи профессиональным американистом, просто не в силах был удержаться от того, чтобы, бросив Владимира Владимировича на произвол судьбы, не поразглагольствовать вдоволь на излюбленные американские темы. «Каково было отношение Набокова к Американской мечте? Читал ли он Дос Пассоса? Трогали ли его готика новоанглийских картин Готорна или величественный урбанизм Сэндберга? Почему он предпочитал Фулмерфорда Фолкнеру и Стейнбеку?» – и дальше следуют пространные рассуждения о мотиве дороги в американской литературе, а затем – блаженное купание в потоке ассоциаций и аналогий, все дальше и дальше уводящих от постепенно уменьшающегося Набокова в «бесплодные земли» Т.С. Элиота, Кафки, Оруэлла, Хаксли…
К счастью, А.С. Мулярчик, один из первых российских исследователей В.В. Набокова, обладает стойким иммунитетом к подобного рода литературоведческим «изыскам». В отличие от сумбурной и многословной монографии Н.А. Анастасьева292 его «Русская проза Владимира Набокова»293 не заражена опасным вирусом того или иного «изма», хотя и выражает вполне определенную исследовательскую концепцию.
Главная цель, которую поставил перед собой автор, – рассмотрение русскоязычной прозы Набокова как противоречивого, «многослойного», многомерного, динамично развивающегося целого, несводимого к какой-либо одной эстетико-литературной парадигме.
«Авторская индивидуальность не есть статическая система, литературная личность динамична, как литературная эпоха, с которой и в которой она движется. Она – не нечто подобное замкнутому пространству, в котором налицо то-то, она, скорее, ломаная линия, которую изламывает и направляет литературная эпоха», – осознанно или нет А.С. Мулярчик следует этим основополагающим тыняновским положениям, отказываясь покорно плестись по обкатанной западными «набоковианцами» дороге и судить о межвоенном Набокове по тем же критериям и в духе тех параметров, которые прилагались к автору «Бледного огня» и «Ады».
Исходя из того, что «набоковская проза являла собой противоборство двух творческих установок: изначально присущего ей живого отклика на реальные проблемы (в какие бы причудливые одежды они ни рядились) и – искусственного, формализирующего, игрового начала», автор «Русской прозы Владимира Набокова» решительно восстает против «иссушающего воздействия формалистических и узко взятых лингвостилистических трактовок», сводящих цветущую сложность набоковского творчества к однообразной серии самодостаточных и герметичных металитературных головоломок, к бесплодной и бесцельной «игре самочинных приемов».
К сожалению, доказывая, что Набоков и впрямь «не был легкомысленной жар-птицей», завороженной своим же умением ткать изощренные стилистические узоры, исследователь не избежал крайностей. Порой его явно зашкаливает – на попытках культурологического философствования и рассуждениях об «атмосфере русской душевности, домовитости, своего рода общинной доброжелательности» как «общих особенностях художественного колорита» некоторых набоковских романов.
Несколько произвольным, да и необязательным, представляется мне и разделение межвоенных романов писателя на две тематические подгруппы, в одной из которых якобы доминирует «русская субстанция», «русская духовность», а в другой – «западная приземленность». Конечно, «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут», но все же при анализе набоковской прозы подобные оппозиции едва ли уместны и плодотворны.
Спорны и, на мой вкус, чересчур «социологичны» и некоторые интерпретации русскоязычных произведений Набокова, например – романа «Отчаяние», автор которого, по мнению А.С. Мулярчика, «фактически смыкался с марксистской трактовкой острых конфликтов капиталистического общества».
Впрочем, несмотря на отдельные перехлесты, в целом позиция исследователя не вызывает особых возражений. В случае с таким опытным мистификатором и актером, каким был Набоков (выработавший себе имидж «чистого художника», отрешенного от «радостей и бедствий человеческих»), разрушение устоявшихся стереотипов и «творимых легенд», подобно панцирю оковывающих живое средоточие творческого «я» художника, не только оправданно, но и насущно необходимо: без этого практически невозможно полноценное осмысление художественного мира писателя и истолкование его произведений. Поэтому мне глубоко симпатично то, что А.С. Мулярчик, призывая судить о феномене русской прозы Набокова «не на основании авторского самокомментария, а по его подлинному, глубинному содержанию», последовательно сокрушает расхожие штампы англоязычной «набоковианы» и убедительно опровергает довольно живучий и скучный миф о Набокове – «игроке в бисер». При этом исследователь не боится противоречить публичным декларациям набоковской персоны и, что особенно важно, не избегает критических замечаний в адрес своего героя (в частности, вполне резонно называя «Под знаком незаконнорожденных» – второй англоязычный роман писателя – «самым слабым набоковским творением» или безжалостно указывая на «отпечаток литературщины», от которой начинающий прозаик не уберегся в «Машеньке»).
Благодаря умело выбранной отстраненно-трезвой и независимой позиции по отношению к предмету исследования А.С. Мулярчику удалось показать разнокачественность и разноплановость русской прозы Набокова – весьма неоднородной по своим формально-структурным особенностям и художественно-эстетической значимости.
Единственное, о чем можно всерьез пожалеть (если закрыть глаза на безобразное качество фотоматериалов книги), – так это о том, что А.С. Мулярчик изначально ограничил себя рамками межвоенной прозы писателя и в силу необходимости оставил за кадром еще сравнительно малоизвестное у нас англоязычное творчество Набокова. По этой причине многие важные проблемы, обозначенные исследователем, оказываются рассмотренными не так полно, как хотелось бы, многие вопросы, поставленные во «Введении», остаются без ответов.
«Насколько естественным и органичным было набоковское двуязычие? …Можно ли говорить о цельности двуязычного набоковского эстетического феномена или же существуют демаркационные линии между “Набоковым-русским” и “Набоковым-американцем”?» – ответы на эти нелегкие вопросы мы, вероятно, получим в следующей монографии исследователя, которую, хочется надеяться, не придется ждать слишком долго.
Книжное обозрение. 1997. 16 декабря. С. 25.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАЙНЕ
Среди множества набоковедческих опусов, обрушившихся на головы российских читателей за последние годы, книга М. Шульмана294 приятно выделяется своей принципиальной «ненаучностью» – нежеланием затаскивать Набокова в прокрустово ложе какой-либо литературоведческой школы, какого-либо «изма», и отсутствием того громоздкого понятийно-терминологического аппарата – всех этих замшелых «бинарных оппозиций», «инвариантов», «пермутаций» и «нонселекций», – без которого ныне не обходится ни один уважающий себя специалист по литературной вивисекции. Представьте себе: во всей книге (на двухстах с лишним страницах, товарищи!) ни разу мне не встретились заветные слова, ласкающие слух всех «продвинутых» отечественных гуманитариев: «дискурс», «интертекстуальность», «деконструкция», «постмодернистская чувствительность» (или «бесчувственность»?!) [Негодующие вопли и глумливое улюлюканье в критико-библиографическом отделе «НЛО]». Ни разу не упомянуты Р. Барт, Ж. Деррида, Д. Фоккема, И. Хассан или, на худой конец, М. Рыклин.
Словно нарочно подзадоривая будущих рецензентов, автор уже с первых страниц заявляет, что его книга – это «личное определение краеугольных камней и ориентиров, где творчество Набокова берется в качестве иллюстрации своим уже готовым, прежде рассмотрения сформировавшимся идеям, а не как объект беспристрастного научного исследования».
Предупреждаю заранее: в этой декларации нет ни капли кокетства. Автор ничуть не лукавит, когда пишет о том, что его работа «в меньшей степени о Набокове и в большей степени о некотором знании, растворенном в окружающей нас жизни, говорящем нам о бытии, которому мы предстоим». Предметом исследования (точнее – лирической медитации, облеченной в форму литературно-критического эссе) являются не столько набоковские произведения, сколько сущностно важные для автора (впрочем, так же, как и для Набокова, и для Вас, уважаемый читатель) проблемы, имеющие скорее метафизическую, нежели литературную окраску.
Неслыханное дело: вместо чеканных определений и четких схем, вместо уютного препарирования специально отобранных набоковских «текстов» (извините за этот трогательно-архаичный термин) и методичного их раздергивания на ниточки и волокна «кодов», «срезов» и «вырезов» нам предлагается взволнованный монолог, автор которого (он же – «лирический герой») пытается максимально точно сформулировать и выразить «какую-то трудноопределимую мысль о природе искусства, о том волнении, которое не вторично, а равноценно и даже первично по отношению к жизни, – о положении и должности человека в мире, о той таинственной связи бог весть с чем, которая и дает только вздохнуть глубоко и начать жить вновь».
Поиску жизненных прототипов набоковских персонажей, интертекстуальному опылению (превращающему произведения писателя в унылые каталоги аллюзий и пародий), конструированию бинарных оппозиций, типа «реальное/воображаемое», «Россия/Запад» (посредством которых, как считают иные ученые мужи, можно исчерпывающим образом объяснить набоковское творчество) – всем этим увлекательным затеям М. Шульман предпочел иное, более сложное занятие: эстетическое вчувствование, вживание в исследуемого писателя, постижение сокровенного ядра его творческого «я» и в то же время – интуитивный поиск некоего тайного знания, которое одухотворяет лучшие творения Мастера.
Один из немногих авторов, пишущих о Владимире Набокове (тут нужно, скромно потупившись, прибавить, что в силу ряда причин мне пришлось одолеть с десяток набоковедческих монографий и сборников как на русском, так и на английском), М. Шульман не претендует на всеобъемлющие трактовки и по большей части удачно избегает прямолинейных решений. Не доверяясь причинному объяснению (которое еще не означает понимания), он подходит к набоковскому творчеству как к тайне, изначально непостижимой, неисчерпаемой, не поддающейся ни одной «универсальной» – компаративистской, мифопоэтической, деконструктивистской и проч. – отмычке, и убеждает читателя, что в случае с Набоковым (как и с любым другим настоящим писателем) «определенность, пусть даже близкая к правде, отпугивает истину».
Мудрое смирение перед тайной высокого искусства (а не самодовольство опытного медвежатника от литературоведения), поиск трепетно-живого плода непредвзятой истины (а не выдавливание синтетического джема натужных теорий и новомодных методологий), богатый, образный язык (а не убогий постструктурдуралистский волапюк) – все это в полной мере отличает книгу М. Шульмана и позволяет оценить ее как несомненную удачу.
Шарж Владимира Терлицкого
ОТГОЛОСОК, ИЛИ О ВРЕДЕ МИМИКРИИ
Осилив брошюру М. Шульмана (благо ее объем не слишком велик), я долго не мог отделаться от странного впечатления: мне казалось, что автор этого сюрреалистического сочинения – не кто иной, как представитель той идеальной читательской публики, которую не страдающий от избытка скромности Владимир Владимирович воображал в виде скопления людей с набоковскими личинами вместо лиц295 – эдакое столпотворение маленьких набоковых.
М. Шульман настолько «эстетически вжился» в Набокова, настолько безоглядно проникся его мировоззрением, что обрек себя на незавидную роль зеркального отражения, скучной копии, глухого отголоска. С нездоровым энтузиазмом сокрушая недоброжелателей своего кумира (то есть всех, кто имел неосторожность высказывать критические замечания в адрес писателя), старательно копируя интонации, стиль Набокова (и, как всякий эпигон, невольно окарикатуривая его безвкусным нагромождением вычурных сравнений и метафор, например: «засалить дыру замазкой бытового соображения» (С. 206); «остаток сна сметается холодом по позвонкам» (С. 14), автор брошюры незаметно для себя самого перевоплощается в набоковского персонажа. (Больше всего он напоминает мне повествователя «Истинной жизни Себастьяна Найта», который, как мы помним, в конце повествования сливался с героем своего «биографического» сочинения и потому органически не был способен на беспристрастную объективность.)
Перепевая автокомментарии и эстетические декларации набоковской персоны и при этом не желая замечать ни их намеренной эпатажности, ни того, что они не исчерпывают своеобразия многомерной творческой личности писателя (а тем более смыслового потенциала его произведений), М. Шульман оказался во власти общих мест современного набоковедения. Неспособный добавить чего-то существенно нового – хотя бы один штрих! – к творческому портрету Набокова, он топчется на уже вытоптанном пятачке и одаривает нас целой россыпью дешевых трюизмов: «Чистой фактографии в писаниях Набокова нам не найти» (С. 33) [А у любого другого подлинного художника можем?]; «Проза Набокова насквозь лирична» (С. 77); «Набоков стремился изучать не людей, но человека, его позицию в мире, а не в обществе» (С. 82); «Ценность писателя определяется не фактурой изображенных событий и т.п. внелитературных компонентов, – а качеством языка» (С. 185) – и т.д., в духе чеховского персонажа: «Волга впадает…»
По ходу дела автор «манифеста» (больше смахивающего на плоский панегирик) демонстрирует довольно остроумную систему аргументации – вот вам характерный пример: «…Чтобы доказать это положение, потребовалось бы разлагать самый воздух набоковской прозы. Поэтому мы оставим его голословным» (С. 185) – и допускает множество нелепейших ошибок. Некоторые из них я просто не могу не взять «под критический ноготь» (любимое выражение М. Шульмана). Так, Клэр Куильти совершенно напрасно называется «Джоном Куилти» (С. 152); «Заманиловка» (см.: «Мертвые души», гл. 2) в горячке неряшливого цитирования переименовывается в «Замалеевку» (С. 50); финальная строка набоковского шедевра «Что за ночь с памятью случилось?..» искажается дважды (что не позволяет говорить о нерадивости наборщика): «ни стула, ни постели нет» (С. 153 и 195) вместо «ни тела, ни постели нет». Заявление о том, что «русский перевод “Лолиты” <…> написан необыкновенно скорой рукой, когда автор не особенно задумывался над каждым словом» (С. 107), звучит несколько странно, если вспомнить о качестве перевода и учесть то обстоятельство, что работа над ним длилась, пусть и с перерывами, около двух лет, с 1963 по 1965 год. Да и утверждение, будто все критики русской эмиграции недооценивали Набокова (Сирина) и дружно отказывали ему «в связях с русской традицией» (эта, несколько двусмысленно выраженная мысль М. Шульмана повторяет излюбленный мотив западных набокоедов), также, мягко говоря, не совсем справедливо. Уже рецензенты «Машеньки» причисляли главного героя романа к тургеневскому типу «лишнего человека»; в отзывах на повесть «Соглядатай» уже тогда, в начале тридцатых, не без основания отмечалось, что она написана «в духе Достоевского»; литературовед П. Бицилли в статье «Возрождение аллегории» сравнивал Набокова с Салтыковым-Щедриным; и даже придирчивый Г. Адамович, как ни трепал нервы Владимиру Владимировичу, возводил его литературную генеалогию к Гоголю.
Но главная беда М. Шульмана заключается в том, что, устремляясь в метафизические глубины (и заманивая туда Набокова), он не избежал банального редукционизма – профессиональной болезни подавляющего большинства литературоведов. Лет десять назад один из них, американец Дж. Мойнаган, утверждал в предисловии к парижскому изданию «Приглашения на казнь», что на протяжении всей литературной деятельности Набоков совершал «круговое движение вокруг неподвижной точки – исходного пункта всего его творчества <…>, описывая более широкие, более отдаленные от неподвижной точки круги». Точно такие же рассуждения – о некоей все покрывающей и объясняющей точке, в которой якобы «сходятся линии набоковских романов», – находим и в разбираемом нами «манифесте». Его автор безжалостно пришпиливает Набокова, словно злополучную бабочку, к одной «главной» теме – «потусторонности» – и тем самым обесцвечивает, упрощает «цветущую сложность» набоковского творчества.
О том, к каким трагикомичным последствиям приводит подобный редукционизм, читатель может узнать, прочитав книгу М. Шульмана (и попутно представив себе безумного дирижера-экспериментатора, который вознамерился исполнить Девятую симфонию Бетховена, имея в своем распоряжении контрабас, барабан и тубу). Впрочем, стоит ли говорить о том, что для писателя такого ранга, как Владимир Набоков, нет тем «главных» и «неглавных»: они все главные, коль уж звучат в его литературной партитуре, все являются необходимыми элементами неразложимого на составные части целого, – фрагментами, слагающими грандиозную мозаику, из которой нельзя выковырнуть и осколочка, чтобы не испортить всей картины.
И надо ли говорить, что подлинный художник не похож на бестолкового ночного мотылька, с тупым упрямством вьющегося вокруг горящей лампы: «Пошел, пошел! Кыш-ш!» Скорее (я позволю себе удовольствие закончить мою добродушную рецензию на умиротворенно-лирической ноте) – это большой дом, комната, где стоит письменный стол с той самой лампой, которая, в гармоническом соответствии с порханием любознательного ночного гостя, наполняет комнатное пространство нервной игрой света и тени – бледными призраками, смутно трепещущими перед рассеянным взором святого полуночника, совершающего тайную работу творческого созидания: разжигающего этот неверный зыбкий свет в дивный фейерверк оживших воспоминаний и чувств, в ослепительные молнии неожиданных мыслей, в многоцветные картины ярких, восхитительно ярких образов, способных волшебно раскрасить, одухотворить и этот бессмысленный колеблющийся мрак, безмолвно стоящий за спиной, и эту отчужденно мертвую комнату, и этого глупого мотылька, случайно залетевшего на огонек из небытия чужой, недоговоренной цитаты…
Знамя. 1999. № 4. С. 228–230.
Постскриптум
Любой из нас, читателей и критиков, неизбежно сталкивался с тем, что не может однозначно оценить то или иное произведение. (Перефразируя Чехова, глубокомысленно замечу: между безусловно «плохо» и безусловно «хорошо» порой лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец.) Книжка М. Шульмана вызвала у меня весьма противоречивые чувства. Типичной для подобных случаев уклончиво-извилистой, мутновато-византийской манере во вкусе Георгия Адамовича – «да, всё это замечательно, но…» – я предпочел чистоту и беспримесность критического высказывания. Вместо одной рецензии решено было написать две: в первой сказать о том, чем книга понравилась, во второй сосредоточиться на ее недостатках. Редакцию журнала моя невинная розановщина не отпугнула. В итоге оба отзыва были опубликованы рядышком, в рубрике «Дважды», причем второй – под псевдонимом Виссарион Ерофеев.
МЕТОДЫ М.Д. ШРАЕРА
Жанр книги296 не указан, хотя в «Предисловии переводчика» она несколько расплывчато именуется «литературоведческим исследованием». Определение не совсем верное: книга М. Шраера не является связным текстом, реализующим оригинальную научную концепцию или предлагающим целостное изучение набоковского творчества. «Темы и вариации» – это сборник статей и заметок, отличающихся друг от друга и по тематике, и по формально-жанровым принципам (то, что автор назвал их «главами» и «интерлюдиями», дела не меняет). Сравнительно-сопоставительные опусы («главы» «Набоков и Чехов: от “Дамы с собачкой” к “Весне в Фиальте”» и «Набоков и Бунин: поэтика соперничества») соседствуют с публикацией деловых набоковских писем переводчику П.А. Перцову; пустопорожние рассуждения в «интерлюдии четвертой» «Почему Набоков не любил писательниц?» (стоит ли добавлять, что поставленный вопрос остается безответным?) сменяются публицистическим по заданию и исполнению сочинением «Еврейские вопросы в жизни и творчестве Набокова» («глава» шестая). Подробно обсуждать каждую из шести «глав» и пяти «интерлюдий» вряд ли имеет смысл. Далеко не все из них относятся к литературоведению (и, стало быть, с трудом поддаются критериям строго научной оценки); еще меньшая часть может претендовать на статус «исследования»: в своих штудиях М. Шраер, как правило, идет торными дорогами – рассуждает ли он вслед за В.Е. Александровым о теме «потусторонности» или как о свежей новости сообщает о набоковской мистификации 1939 года, когда под псевдонимом Василий Шишков в «Современных записках» было опубликовано стихотворение «Поэты», вызвавшее восторженный отзыв зазевавшегося Георгия Адамовича.
Говоря о «Темах и вариациях», гораздо продуктивнее будет указать на те методологические принципы, которые задействованы автором. Первый – бесхитростный метод излишне подробного пересказа набоковских произведений, пригодный в сочинениях популяризаторского толка или в учебных пособиях-шпаргалках для нерадивых студентов, но уж никак не в книге, которая аттестуется в рекламной аннотации как «оригинальное исследование различных аспектов поэтики и биографии Набокова». Особенно густо «парафрастический» метод представлен в «интерлюдии третьей». «Одиннадцать заметок о рассказах Набокова», по сути, представляют собой беглый пересказ «Дракона», «Венецианки», «Мести», «Удара крыла», «Бритвы» и других образчиков «малой прозы» В. Набокова, опубликованной как на русском, так и на английском языке (The Stories of Vladimir Nabokov. N.Y.: Vintage Books, 1997) и вполне доступной не только специалистам, но и рядовым читателям. Сдобренный обильным цитированием развернутый пересказ англоязычного рассказа «Образчик разговора, 1945» дается М. Шраером «вместо заключения» пятой главы «Еврейские вопросы…» (С. 269–271). Едва ли это адекватная замена авторским заключениям и выводам (если таковые имелись): с содержанием набоковского рассказа читатель может спокойно ознакомиться и без посреднических услуг, а вот зачем и к чему завел М. Шраер разговор на темы, подходящие разве что для этнографических сборников или общественно-политических журналов, насколько приложимы подобные «вопросы» к творчеству писателя, которому «вообще было решительно наплевать на распределение людей по породам и на их взаимоотношения», – все это остается без внятного ответа.
Наряду с пересказами М. Шраер злоупотребляет описательно-перечислительным методом. Сам по себе он не плох и не хорош, но в «Темах и вариациях» порой становится самодостаточным. Перечисляет ли автор «оригинального исследования» женщин-писательниц, с которыми так или иначе сталкивался Набоков, или эротические мотивы набоковских произведений (глава «Сексография Набокова»), или персонажей-евреев, бережно отделенных от персонажей-неевреев (глава «Еврейские вопросы…»), – в этих и других случаях перечислениями все и ограничивается; они никуда не ведут, не сопровождаются проблемным анализом и обобщающими выводами.
Порой эти перечни производят впечатление недобросовестной подтасовки. Например, в главе «Еврейские вопросы в жизни и творчестве Набокова» М. Шраер перечисляет эмигрантских и американских писателей, издателей и критиков, евреев по национальности, с которыми имел дело Набоков. Перечисляются почему-то только те, с кем у писателя сложились хорошие отношения: Иосиф Гессен, Саша Черный, Юлий Айхенвальд, Илья Фондаминский, Марк Алданов… Упоминаются фигуры достаточно известные, и сообщения о том, что с ними общался Набоков (как и о том, что его жена была еврейкой), вряд ли могут считаться научным открытием. Правда, для полноты картины можно было бы добавить, что далеко не со всеми литераторами-евреями у Набокова обязательно складывались радужные отношения. Достаточно вспомнить Марка Вишняка, зарубившего четвертую главу «Дара», или Марка Слонима, с которым Набоковы порвали всяческие отношения, поскольку считали его чуть ли не советским шпионом. О творчестве многих литераторов-евреев писатель отзывался крайне пренебрежительно (помимо Пастернака – о Раисе Блох, Юрии Мандельштаме, Довиде Кнуте, Соле Беллоу, Филипе Роте и др.); с другой стороны, некоторые набоковские зоилы – Александр Бахрах, Петр Пильский, Морис Фридберг, Альфред Честер – были… Впрочем, не будем уподобляться М. Шраеру, видимо «сломавшемуся» на национальном вопросе, не будем подсчитывать процентное соотношение еврейской и нееврейской крови у набоковских друзей и недругов, у Владислава Ходасевича и Георгия Адамовича, Альфреда Кейзина и Романа Якобсона, делая при этом скоропалительные и голословные заявления – например, о том, что «в романе “Дар” охвачены ключевые аспекты еврейской истории и мысли» (С. 256), или выдвигая бездоказательные предположения о «воздействии религиозной философии иудаизма на набоковские модели потустороннего существования» (С. 254). Укажем лишь на то, что метод выборочных перечислений, взятый на вооружение М. Шраером, весьма далек от идеала строгой научности, а муссирование определенного рода тем (под каким бы соусом они ни подавались) отдает дурной публицистикой и свидетельствует о предвзятости автора, скорее отрабатывающего некий социальный заказ, нежели стремящегося к достижению объективной истины.
Вообще, предвзятость и неизбежно вытекающая отсюда схематичность – отличительные свойства «Тем и вариаций». Обоснованность и аргументированность тех или иных авторских положений, мягко говоря, не самое сильное место М. Шраера. Часто он просто не утруждает себя какой-либо аргументацией, в лучшем случае отделываясь дежурной ссылкой на работы предшественников или собственные опусы, не вошедшие в сборник; в худшем – прибегает к безотказному приему: манипулируя за уши притянутыми «параллелями» и невнятными «перекличками», объявляет возможность – вероятностью, вероятность – очевидностью, зыбкую гипотезу – непогрешимой истиной.
Наиболее ярко схематичность и догматическая заданность суждений проявляются в «компаративистских» главах, построенных по одному сценарию. Автор выдвигает тезис (например, о том, что Набоков – «продолжатель чеховских традиций в русской литературе ХХ века», периодически вступавший в «многоступенчатый диалог с Чеховым, диалог, который вылился в творческое перечитывание и переписывание “Дамы с собачкой”» (С. 85)), затем ищет и, разумеется, находит аналогии и «ситуативные рифмы» в рассказах «Дама с собачкой» и «Весна в Фиальте» (щедро сыпля словами «отзвук», «отголосок», «перекличка», «параллель», которые понимаются предельно широко и употребляются скорее метафорически, нежели терминологически); в качестве неопровержимых улик предъявляются: 1) ситуация «треугольного желания» (так, несколько высокопарно, переименован банальный «любовный треугольник», не играющий особой роли ни в набоковском, ни тем более в чеховском рассказах; 2) «сходство» героинь, стыдливой чеховской Анны и ветреной набоковской Нины – «отметим фонетическое сходство их имен – три из четырех букв совпадают. Кроме того, обе бездетны. Наконец, внешнее сходство героинь также налицо: оба повествователя упоминают их небольшой рост и стройность» (С. 90), – и такое же «сходство» их мужей, модного беллетриста Фердинанда и неказистого провинциального чиновника, прозябающего на сюжетной периферии «Дамы с собачкой»: они сближаются на том основании, что «Фердинанд… может быть частичной анаграммой “Дидериц” (ерд..д / д..дер)» (С. 90), и наконец 3) «параллели вербальных мотивов», то есть десять слов, выдернутых дотошным «исследователем» из повествовательной ткани двух рассказов: «лестница», «север», «судьба», «жалость»/«жалкое», «сиреневый цвет»/«сиреневая сизость», «чернильница» и т.д. Далее ловкий интерпретатор превращает свои сомнительные «параллели» и аналогии в прямую зависимость одного автора от другого и, не заботясь о фактах, не замечая явных несообразностей, выводя следствия из следствий, плавно подводит читателя к уже известному тезису о «диалоге» и «соревновании» Набокова с Чеховым.
Точно такой же процедуре прямолинейных сопоставлений и навязывания случайных ассоциаций Набоков подвергается и в других статьях, сличаясь с Ариосто, Шкловским, Кафкой, Данте, Буниным… Точно так же, предельно размыто, лишаясь конкретных смысловых очертаний, употребляются автором термины «аллюзия», «пародия», «диалог».
Охотой за параллелями сейчас увлечены многие набоковеды – тут М. Шраер не одинок. Метод этот удобный и в какой-то мере беспроигрышный: взять завравшегося «параллелиста» за руку и уличить в подтасовке литературного материала, в отсутствии элементарного исследовательского такта и эстетического чутья – задача крайне сложная (и неблагодарная). В конце концов, давно известно: сравнивать можно все со всем. Другое дело – зачем, с какой целью и на каких основаниях.
Цель М. Шраера вполне понятна. О ней можно судить уже хотя бы по всплескам наивной саморекламы, забавно оживляющим наукообразный «дискурс»: «В заключение я бы хотел отметить, что мои находки и предположения, основанные на прочтении писем, дневников и художественной прозы Бунина и Набокова, добавляют нечто новое не только к теперь уже классическим представлениям формалистов, но и к более современным теоретическим представлениям о динамике литературного процесса» (С. 191) ) [курсив мой. – Н.М.]. А венчается сборник хвалебными выдержками из рецензий… на предыдущую книгу М. Шраера «The World of Nabokov’s Stories» (Austin: University of Texas Press, 1999), откуда, кстати, взяты «чеховская» и «бунинская» главы. (Это творение М. Шраера уже рецензировалось на страницах «НЛО» (2000. № 42. С. 406–408).) «Книга Шраера – это блестящее прочтение рассказов Набокова <…>. Я восхищаюсь Шраером и завидую его редкому таланту» (Ирвинг Мэйлин); «…Шраер преподнес нам исследование, которое основано на глубоком знании русской литературной культуры» (Д. Бартон Джонсон). К этим похвалам я бы присовокупил мудрый «совет начинающим критикам» Саши Черного: «Если у автора написано “солнце садилось”, не кричи, что это украдено у Пушкина или Шекспира, – автор мог сам до этого додуматься».
Но уже поздно что-то советовать. Книга очередных «блестящих прочтений» благополучно издана. Другое дело, что «глубокое знание русской литературной культуры» не спасло автора от грубых ошибок: утверждений о том, что «в 1955 году Георгий Адамович <…> опубликовал том мемуаров “Одиночество и свобода” (С. 239), а в «Крейцеровой сонате» «Толстой приводит читателя в дом Позднышева, где любовники гибнут под его кинжалом» (С. 181) (курсив мой. – Н.М.). Нет, по-своему я тоже «восхищаюсь Шраером» и завидую его «редкому таланту», хотя и не совсем понимаю: можно ли считать «оригинальным исследованием» череду механических сопоставлений, а «блестящим прочтением» неуклюжее вычитывание из произведений Набокова модных в нынешней Америке журналистских тем? И стоит ли относить к литературоведению все эти бесконечные скрещивания хорька со штопором, всерьез, в духе кэрролловского Болванщика, задаваясь вопросом: «Чем ворон похож на конторку?»
Загадку эту, как известно, много лет спустя после первого издания «Алисы» решил ее автор, изрекший: «С помощью того и другого можно давать ответы, хоть и плоские». Чего-чего, а плоских ответов, как и априорных суждений, в «Темах и вариациях» предостаточно. Нет, увы, другого: правильно поставленных вопросов, глубокого проникновения в творческое сознание писателя, нет тщательно продуманной, по-настоящему оригинальной научной концепции, связной и убедительной аргументации, основанной на реальных фактах, а не произвольных ассоциациях и домыслах.
Новое литературное обозрение. 2001. № 49. C. 487–490.
Постскриптум
При публикации в «Новом литературном обозрении» рецензия не имела заглавия. Никаких серьезных претензий к ее содержанию у заказчика – главы библиографического отдела – не было; он лишь посетовал на резкость некоторых выражений и внес незначительную стилистическую правку (в частности, сократил финальный абзац, убрав кэрролловскую цитату, зато сдобрил его несъедобным сциентизмом «нерелевантный»).
Каково же было мое удивление, когда я узнал, что в редакцию «Нового литературного обозрения» пришло истеричное письмо от М.Д. Шраера с ультимативным требованием – опубликовать в следующем номере журнала его ответ на мою рецензию, – иначе он раструбит на весь свет, что это издание – оплот мракобесия и антисемитизма (привет Абраму Ильичу Рейтблату!). Главный редактор журнала, разумеется, ответила отказом. Как и редакторы других изданий, куда обратился бостонский специалист по еврейскому вопросу. Спустя некоторое время в Рунете нашелся доброхот, который не только предоставил Шраеру возможность опубликовать безумный и косноязычный пасквиль, но и добавил пару ласковых слов от себя лично, ненавязчиво обвинив меня в антисемитизме, а редакцию журнала – в недостатке бдительности. Вот это забавное письмо, появившееся на сайте некогда модного литературного критика, сделавшего себе имя благодаря назойливой пропаганде «…изма» – одного из тех фантомов, которые не имеют прямого отношения к реальной истории литературы и живут разве что в воображении пронырливых окололитературных дельцов и простодушных провинциальных диссертантов. Орфография и пунктуация автора сохранены.
О невыпячивании пятого пункта
В номере 49 (2001) «Нового литературного обозрения» помещена враждебно-тендециозная (так! – Н.М.) рецензия Николая Мельникова на мою книгу «Набоков: темы и вариации» (Санкт-Петербург: Акaдемический проект, 2000). Более всего прочего в моей книге г-на рецензента взбудоражила глава 5, “Еврейские вопросы в жизни и творчестве Набокова”. Ранние варианты этой главы публиковались (по-английски) в сб. Nabokov and His Fiction: Nеw Perspectives, ed. Julian W. Connolly, Cambridge, 1999. P. 73–91, и (по-русски) в ежегоднике Weiner Slawistischer Almanach, 43 (1999), стр. 109–128.
В главе рассматривается формирование взглядов Владимира Набокова на еврейство под воздействием воспитания в семье его отца В.Д. Набокова, общения с евреями в России и в эмиграции и женитьбы на еврейке В.Е. Слоним. В главе дается разбор еврейских тем и персонажей в романах «Дар», «Настоящая жизнь Себастьяна Найта» и «Пнин» и в рассказах «Знаки и символы» и «Образчик разговора, 1945». Особое место в жизни и творчестве Набокова занимают антисемитизм, еврейско-христианские отношения и Холокост.
Вот, как в своей рецензии г-н Мельников охарактеризовал мою главу «Еврейские темы в жизни и творчестве Набокова» (цитирую как можно полнее):
«Сдобренный обильным цитированием развернутый пересказ англоязычного рассказа “Образчик разговора, 1945” дается М. Шраером “вместо заключения” пятой главы “Еврейские вопросы…” (С. 269–271). Едва ли это адекватная замена авторским заключениям и выводам (если таковые имелись): с содержанием рассказа читатель может спокойно ознакомиться и без посреднических услуг, а вот зачем и к чему завел М. Шраер разговор на темы, подходящие разве что для этнографических сборников или общественно-политических журналов, насколько приложимы подобные “вопросы” к творчеству писателя, которому “вообще было решительно наплевать на распределение людей по породам и на их взаимоотношения”, – все это остается без внятного ответа». […] И далее: «Впрочем, не будем уподобляться М. Шраеру, “сломавшемуся” на национальном вопросе, не будем подсчитывать процентное отношение еврейской и нееврейской крови у набоковских друзей и недругов, […] делая при этом скоропалительные и голословные заявления, например, о том, что “в романе “Дар” охвачены ключевые аспекты еврейской истории и мысли” (С. 256), или выдвигая бездоказательные и голословные заявления о “воздействии религиозной философии иудаизма на набоковские модели потустороннего существования” (С. 254). Укажем лишь на то, что […] муссирование тем, нерелевантных творчеству писателя, отдает дурной публицистикой и свидетельствует о предвзятости» […]. И, наконец, в конце рецензии Н. Мельников обвиняет меня в «неуклюж[eм] вычитывании из произведений Набокова модных в нынешней Америке журналистских тем».
Тут дело не только – и не столько – во мне и во мнении г-на рецензента о моей книге, которую он волен любить или презирать; дело в том, что Н. Мельников искажает факты творчества и мировозрения самого Набокова. Но еще страшнее то, что в оценках Н. Мельникова звучит антиеврейская риторика.
Кощунственно сомневаться в том, “приложимы” ли к Набокову еврейские вопросы. Ведь речь идет о человеке, отец которого был автором знаменитой статьи о Кишиневском погроме и одним из ведущих защитников прав угнетенных евреев Российской империи, о человеке, который был включен русскими фашистами в список подлежащих уничтожению еврейских художников (см. статью А. Гафта «Литературные пеленки», опубликованную в берлинском «Новом слове» 20 марта 1938 года), о человеке, который обрывал знакомства и хлопал дверьми при малейшем намеке на юдофобство, о человеке, который бежал из Европы с еврейкой-женой и евреем-сыном в 1940 году, о человеке, близкие и друзья которого умерли в нацистских концлагерях – писать о Набокове то, что написал Мельников в своей вредоносной рецензии, есть ни что иное как надругательство над памятью не только Набокова-человека, но и еврейского народа и его шести миллионов, погибших в Холокосте.
Более того, безнравственно называть исследование еврейских персонажей «муссирование[м] тем, нерелевантных творчеству писателях». Напоминаю, что речь идет о писателе, перу которого принадлежат тонкие художественные исследования всей многослойной проблематики русско-еврейских и иудео-христианских отношений и особенно любви и брака между евреями и неевреями («Дар»), о писателе, который одним из первых в послевоенной литературе заговорил прямым текстом и во весь голос о грядущих попытках отрицания и фальсификации Холокоста («Образчик разговора, 1945»), о писателе, создавшем, быть может, самые пронзительные страницы о жертвах нацистских концлагерей, о Холокосте и невозможности – перефразируя Адорно – писать стихи после Аушвица («Пнин»). Называть потрясающие по верности интонации, благородству, силе художественного воздействия еврейские темы и образы в произведениях Набокова «модными в Америке темами» – в высшей степени непристойно.
Выпады Н. Мельникова подозрительно отдают не только советской риторикой о еврейском вопросе, но и систематическим, возведенным в ранг государственной политики СССР, умалчиванием Холокоста и его геноцидно-антиеврейской природы. Не оттого ли г-на рецензента так разъярила моя глава «Еврейские вопросы в жизни и творчестве Набокова», что в ней черным по белому дается определение подобных Н. Мельникову – и глубоко отвратительных Набокову – деятелей культуры: «антисемитизм опасен ещё и тем, что он часто бывает завуалирован риторикой, приятной для слуха интеллигентов и патриотов» (см. «Набоков: темы и вариации», С. 271).
Помните, из советской риторики по еврейскому вопросу: «не надо выпячивать пятый пункт»? Вспомнили? Теперь перечитайте в «Новом литературном обозрении» рецензию Н. Мельникова, который преуспел в невыпячивании. В начале 21 века, в новой России, невозможно представить более ретроградское и – позвольте сказать без обиняков – анти-еврейское заявление о Набокове, чем рецензия Николая Мельникова на мою новую книгу.
Максим Д. Шраер (Boston College)297
Глупость, да еще помноженная на подлость и хамство, – гремучая смесь, которая может вывести из себя даже такого мирного и терпеливого человека, как я. Неудивительно, что я не сдержался и разразился филиппикой, в которой высказал всё, что думал и об авторе кляузы, и о публикаторе:
С опозданием прочитал крикливо-истеричную кляузу М. Шраера, по тону, да и по содержанию напоминающую статьи-доносы в советской печати 1920–1940-х годов. Забавно. В начале сентября, на книжной ярмарке, я случайно встретился с Ириной Прохоровой, которая рассказала мне о шантажном письме Шраера, пришедшем в редакцию журнала «НЛО»: или опубликуете, или я разошлю его по городам и весям, всем расскажу, как в Москве злобствуют антисемиты, и проч. Судя по всему, ни одно уважающее себя «бумажное» и «электронное» издание печатать шраеровскую ахинею не стало. И лишь Курицын, этот постмодернистский Буренин, охотно приютил у себя эту гнусность, да еще и от себя добавил, инкриминировав мне «антисемитскую риторику». Но о Курицыне чуть позже. (NB. Не забыть растолковать Курицыну, кто такой Буренин!)
Обвинение в антисемитизме давно уже стало безотказным средством сведения литературных счетов. Причем пострадать от этого оружия могут и евреи. Так мракобесы из журнала «Commentary» ославили антисемитом чистокровного американского еврея Филипа Рота, автора сатирического романа «Portnoy’s Complaint». Так, кстати, тот же Набоков, стремясь выбить из седла Пастернака (чей «Доктор Живаго» обошел «Лолиту» в книжном хит-параде за 1959 год), назвал его роман антисемитским – если верить свидетельству Г. Струве (см.: Звезда. 1999. № 4. С. 34).
Если бы Шраер был, скажем, индейцем племени сиу, то он объявил бы, что я виноват в геноциде коренного населения Америки; если бы оказался «вагиноамериканкой» – заклеймил бы меня как «шовиниста», женоненавистника и проч.; если бы был геем, обвинил бы в «гетеросексуальной тирании» (как это проделывал Гор Видал, борясь со своими литературными недругами). Но Шраер, видимо, не гей, и даже не индеец из племени сиу, а потому решил прибегнуть к банальному «гусинскому» трюку и попытался выставить меня антисемитом, поскольку я «преуспел в невыпячивании» еврейского вопроса в набоковском творчестве и не пришел в восторг от халтурной шраеровской книжонки, кишащей нелепыми домыслами и чудовищными ошибками – в том числе и стилистическими, о которых в своей «вредоносной рецензии» я скромно умолчал: «Художественный метод Чехова заключался в смешении его собственных воспоминаний с наслоениями коллективной памяти, хранящейся в языке» (С. 88); препарируя финал чеховского рассказа «Гусев», М. Шраер утверждает, что, после того как зашитое в парусину тело умершего Гусева выброшено за борт, «сознание рассказчика <…> сливается с точкой зрения и сознанием Гусева» (С. 81) – и т.д., выписывать можно страницами.
Шраер может обвинять меня в чем угодно – хоть в кишиневском погроме, хоть в сентябрьских взрывах, но я все равно буду стоять на своем: отношение Набокова-художника к пресловутому еврейскому вопросу было примерно таким же, как к армянскому, арабскому или чукотскому. Один-единственный рассказ («Образчик разговора, 1945» – кстати, далеко не самый лучший у Набокова) еще можно подверстать (если уж очень постараться) к излюбленной шраеровской теме, но разве можно на этом основании делать широковещательные заявления о «многослойной проблематике русско-еврейских и иудео-христианских отношений», на которой будто был повернут Набоков? М. Шраер настолько близорук и (или тенденциозен), что не различает житейскую биографию и творческое «я» художника? Публицистические статьи Набокова-старшего, женитьба на еврейке – разве имеет это прямое отношение к книгам Владимира Набокова? Для автора «Лолиты» и «Дара» скорее уж был актуален зембланский вопрос, а не еврейский. Недаром же, говоря о болезненной гордыне полукровки Зины Мерц, он, устами своего alter ego Годунова-Чердынцева, признается в том, что ему «решительно наплевать на распределение людей по породам и на их взаимоотношения».
Когда я писал свою «вредоносную рецензию», то наивно думал, что Шраер – банальный графоман, пробавляющийся псевдолитературоведческим скрещиванием хорька со штопором, или безвредный сумасшедший. Что-то вроде Хирама Бурмана. (Помните этого комичного персонажа из «Золотого теленка», который знать ничего не хотел, кроме еврейского вопроса. Впрочем, может быть, и Ильф с Петровым были антисемитами?) Теперь же я вижу, что М. Шраер – законченный подлец и провокатор, равно опасный для евреев и «гоев». Разве не подлость спекулировать на смерти миллионов евреев, делая себе рекламу? И разве одни евреи гибли в нацистских концлагерях? Как насчет русских, белорусов, поляков? Их память не боится оскорбить расист Шраер?
«Теперь о Борщёве…» (вспоминаем соответствующую сцену из «Афони»). То есть я хотел бы пару ласковых сказать о другом лимитчике – Курицыне, сыгравшем во всей этой истории довольно гнусную роль (то ли стукача, то ли бойкой и бестолковой интернетской мухи, которая садится на всякое …о и разносит заразу). Способный молодой человек. На многое способный. Далеко пойдет. То он играет в литературоведа: выдавливает отдающие графоманией рефераты, косноязычно разглагольствуя о «плотной визуальной сугубости» и «постмодернизме» (термин, обессмысленный и вконец опошленный такими, как Курицын); то он подхалтуривает в глянцевитых журналах и, пробуя себя в роли paper back writer’а, сооружает во всех смыслах похабный роман; то, «пересекая границы вербального и традиционного», кропает сценарий рекламного фильма о г-не Черномырдине – «Двадцать три минуты про лидера блока “Наш дом – Россия” (какой хороший лидер и какой хороший блок, врать можно сколько угодно, лишь бы Черномырдин выиграл). Костя сейчас приедет, и мы будем сочинять страничку» (НЛО. 1995. № 16. С. 402). Небрезгливый ты наш… Теперь вот связался со Шраером и решил стать экспертом по еврейскому вопросу. Безапелляционно обвиняет меня в антисемитизме. Ход выигрышный. «Врать можно сколько угодно…» Только не кажется ли вам, что «атрибутировать мне таковую нелюбовь – это попытка изжить свои собственные комплексы» (я позволил себе посмаковать еще один стилистический перл Курицына). По-моему, сам он – антисемит. Выловил откуда-то расиста и параноика Шраера, чтобы выставить евреев в неприглядном свете. Смотрите, мол, какие это склочные и беспринципные твари!
Впрочем, мотивация курицынского поступка меня мало волнует. Хуже, когда эта «фельетонная букашка» пытается рассуждать о набоковедении, в частности – об «околонабоковской» книге, которая при моем непосредственном участии вышла в издательстве «НЛО» («Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова», 2000) и тираж которой давным-давно разошелся. Читал я его глупую (и, как всегда, хамски развязную) рецензию – ту самую, где наш специалист по постмодернизму назвал английского писателя Энтони Бёрджесса «американским гражданином». Это даже покруче того случая, когда он приписал стихотворение Анатолия Штейгера «У нас не спросят – “Вы грешили»… ”» Роману Виктюку! (см.: НЛО. 1995. № 16. С. 400). Название книги ему, видите ли, не нравится!298 Ваял бы дальше свою порнуху или строчил очередные сценарии Черномырдину. С таким-то рылом – и в наш калашный ряд!
Но довольно об этом полуграмотном прохвосте. И Курицын, и его клиент не заслуживают даже презрения. Брезгливое отвращение – только это могут вызвать у нормального человека (независимо от национальности и вероисповедания) обе гротескные фигуры и их диковинный союз: продажного писаки и параноика, воюющего с собственной тенью.
Благодарю за внимание. Автор «вредоносной рецензии» Николай Мельников
Несколько месяцев текст антишраеровского письма висел на моей страничке (на сайте кафедры теории литературы филологического факультета МГУ: /~tlit/texts/nm_otvsh.htm), но потом был убран – по настоянию осторожного кафедрального начальства: «кабы чего не вышло…» Ничего и не вышло. Бостонский кляузник продолжает подвизаться на набоковедческой ниве, пробавляясь поисками «ситуативных рифм» и «палиндромических анаграмм»; другой клеветник, хотя изрядно полинявший и потускневший, потерявший прежний вес и влияние в литературных кругах, изредка всплывает на поверхность, то пробуя себя в роли беллетриста, то выступая в обличье набоковеда. Я же с тех пор не изменил своего мнения об обоих, а посему с чистой совестью публикую свою давнюю филиппику – в качестве своеобразного приложения к рецензии, в которой и сейчас готов подписаться под любым словом.
Шарж Ричарда Уилсона
ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ ПОССОРИЛСЯ С ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ
Как известно, писатели не любят биографов и биографических сочинений. Владимир Набоков не был исключением, даром, что ли, он излил столько желчи по поводу biographie romancée и в «Истинной жизни Себастьяна Найта» вывел отталкивающий образ биографа – торопливого халтурщика мистера Гудмэна.
«Я не выношу копания в драгоценных биографиях великих писателей, не выношу, когда люди подсматривают в замочную скважину их жизни, не выношу вульгарного “интереса к человеку”, не выношу шуршания юбок и хихиканья в коридорах времени, и ни один биограф даже краем глаза не посмеет заглянуть в мою личную жизнь»299, – самоуверенно вещал с кафедры еще мало кому известный в Америке профессор Набокофф. «Романист – не публичная фигура, не экзотический князек, не международный любимец… Я вполне понимаю людей, стремящихся изучать мои книги, но мне неприятны те, кто норовит изучать меня»300, – много лет спустя вдалбливал очередному интервьюеру прославившийся на весь мир автор «Лолиты».
И напрасно, ведь хорошо известно, что во все времена, а особенно в эпоху упадка художественной, «вымышленной» литературы, нет жанра более популярного и притягательного, чем биография. Спрос рождает предложение, и нет ничего удивительного в том, что коридоры времени угрожающе содрогаются от гулких шагов целой орды биографов, а в России вышла очередная биография Владимира Набокова: писатель, по меркам Большой литературы сравнительно недавно возведенный в ранг классика, представляет законную добычу для исследователей и толкователей.
Так уж случилось, что книга А.М. Зверева301 вышла практически одновременно с переводом первого тома монументальной биографии Брайана Бойда, в литературоведческих кругах снискавшей репутацию образцового сочинения, которое, как утверждал восторженный рецензент, «превращает всякого пишущего на тему жизни Набокова либо в академического маргинала, либо в самоуверенного выскочку»302. На самоуверенного выскочку и тем более академического маргинала А.М. Зверев, известный американист и переводчик, зам. главного редактора «Иностранки», явно не тянет, и поэтому не ждите от меня само собой напрашивающегося уничижительного сопоставления. Не будет вам рецензии-кентавра: во-первых, в оригинале книга Бойда была издана более десяти лет назад и она уже читана-перечитана всеми уважающими себя набоковедами; во-вторых, она неоднократно рецензировалась в советской и постсоветской печати303; в-третьих, переведен пока только первый том; в-четвертых, опусы Бойда и Зверева – разной весовой категории, сопоставлять их – все равно что выпустить на ринг поджарого боксера легчайшей весовой категории и стокилограммового тайсонообразного гиганта. Обе книги принадлежат к разным жанрам, точнее – жанровым разновидностям того рода сочинений, которые покрываются эластичным термином «биография».
Легко догадаться, что отечественные и зарубежные набоковианцы будут разочарованы биографическим сочинением А.М. Зверева. Насторожит их уже то, что книга вышла в популярной серии «Жизнь замечательных людей», изначально рассчитанной отнюдь не на литературоведов, – призванной разъяснять, разжевывать, популяризировать, в общем, просвещать то аморфное и загадочное существо, которое принято называть «рядовым читателем». Опасения не напрасны. В книге нет и следа от научного аппарата: ни одного примечания, ни одной сносочки. Про отсутствующий именной указатель я и не говорю. Взамен – раздолье парафрастического метода: пространные пересказы (лишенные, увы, обаятельной убедительности подлинника), переведенные в косвенную речь фрагменты из набоковских произведений и опубликованных писем, парафразы работ предшественников, о чьих догадках и открытиях сообщается (естественно, без упоминания имен) как о чем-то само собой разумеющемся, так что недоброжелателям, если таковые имеются у А.М. Зверева, впору обвинять его в плагиате.
По части фактологии в книге нет ничего нового. Здесь она откровенно вторична по отношению к биографии Бойда. О введении в оборот новых фактов и материалов, об архивных изысканиях и речи нет. Основная мысль, положенная в основу авторского подхода к творчеству Набокова, тоже не отличается оригинальностью. «Писатель Набоков оставался достойным своего таланта только до тех пор, пока сохранялась его причастность русской художественной традиции» (С. 292) – этот же тезис разрабатывался в монографиях А.Н. Анастасьева304 и А.С. Мулярчика305, а еще раньше – в работах некоторых эмигрантских критиков (тезис сам по себе не бесспорный, если помнить о том, что традиция – не ошейник и не оковы, а, скорее, путеводная звезда, да и, чего греха таить, «традиция русской литературы – не слишком дорожить традициями», как остроумно заметил Михаил Осоргин).
Все суждения современных Набокову критиков взяты автором из объемистого тома «Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова» (М., 2000), причем, передавая содержание той или иной статьи, автор порой проявляет странную небрежность, которая лишний раз доказывает, что с материалом он знаком из вторых рук. Так, например, Марк Слоним, написавший один из самых благожелательных отзывов на последний (не самый удачный) роман Набокова «Посмотри на арлекинов!», сгоряча назван «сердитым критиком» (видимо, по той причине, что биограф цитирует единственный критический пассаж из его рецензии), а Джон Апдайк, автор двусмысленной, выдержанной едва ли не в пародийном ключе рецензии на «Аду, или Эротиаду», оказывается, «превозносил» (С. 425) набоковскую «семейную хронику». Еще бóльшая небрежность допущена (автором? редактором?) в подписях к фотографиям, где мы встречаем Юрия Айхенвальда; а фотография пожилого Набокова, запечатленного на фоне швейцарского шале – надменная улыбка, небрежно спущенные гольфы, руки засунуты в карманы шорт, – весьма неопределенно (и неточно!) помечена как «60-е гг.», хотя во втором томе бойдовской книги, откуда и был взят снимок, черным по белому написано: «Сентябрь 1972».
Имеются в книге и более существенные фактические ошибки. Роман «Смех во тьме» (авторский перевод «Камеры обскуры») был выпущен в США издательством «Бобс-Меррил» (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1938), а не издательством «Нью дирекшнз», как утверждается на 204-й странице (с главой этого издательского дома Джеймсом Лафлином писатель познакомился лишь в 1941 году, уже после переезда в Америку). Здесь же забавный персонаж из «Камеры обскуры» – бесталанный беллетрист Зегелькранц, чья тягучая повесть совсем доконала беднягу Кречмара, – переименован зачем-то в Зигенфельда. А на 290-й странице уже реальное лицо, С.Л. Бертенсон, безуспешно пытавшийся соблазнить Голливуд произведениями Сирина, превращается в «Бертельсона». Когда же доверчивый биограф старательно пересказывает набоковский комментарий к стихотворению «К кн. С. М. Качурину» («Качурин, твой совет я принял…»), он и вовсе плюхается в лужу: о вымышленном адресате стихотворения – очередном набоковском фантоме вроде Вивиана Калмбруда или Джона Рэя – нам всерьез сообщается как о реально существовавшем «полковнике Белой армии, окончившем свои дни на Аляске, в монастыре» (С. 247).
Впрочем, всё это мелочи, скучные игры в деда-буквоеда, которые так любят филологи и которыми при желании можно извести любого, даже самого старательного и педантичного автора. И тысячу раз будет не прав тот сноб, который отложит разбираемую нами книгу, пренебрежительно бросив: «Набоковедческая попса». Да, если хотите, попса! Но вряд ли это может служить упреком А.М. Звереву. Претензии можно предъявлять к кому и чему угодно – Максиму Горькому, жанровому канону серии, но уж никак не к автору, которого, хотим ли мы, жрецы «строгой науки», или нет, должно судить по законам, им самим над собою признанным.
В рамках избранного жанра популярной биографии А.М. Зверев сделал всё, что можно было от него требовать: создал, что называется, яркий портрет знаменитого писателя и выдал увлекательное, живое повествование, которое, надо полагать, удовлетворит запросы значительной части читательской аудитории. Книгу не без удовольствия прочтут не только школьники, студенты или газетные обозреватели (они-то все пересказы воспримут как откровение), но и специалисты-литературоведы, знающие наизусть раскавыченные цитатные лоскутки, из которых она сшита.
А сшита книга действительно крепко. Да и скроена ладно. По всем статьям проигрывая двухтомнику Бойда в информационной насыщенности, в новизне и объеме освоенного материала, она выигрывает в литературном плане – благодаря верно найденному ритму, стремительному темпу повествования, строгой композиции и концентрическому сюжету. Это, как выразился бы один критик, «хорошо сработанная, технически ловкая, отполированная до лоску литература».
Питательные библиографические ссылки, обилие внешне непримечательных фактов, подробностей (драгоценных для специалиста, но зачастую неинтересных и непонятных «рядовому читателю»), обстоятельные выяснения отношений с оппонентами, педантичный хронометраж – эти и другие достоинства научной биографии Бойда одновременно являются и недостатками, поскольку неизбежно утяжеляют повествование, разрыхляют композицию и тормозят сюжетное действие. Такие добросовестно-тяжеловесные труды не столько читают, сколько изучают, благо там имеются подробнейшие примечания и циклопический предметно-именной указатель. А вот жэзээлку Зверева можно прочесть в один присест, тем более что написана она хорошим русским языком, не замутненным заковыристыми словечками из некогда модного, а теперь по инерции воспроизводимого квазинаучного «постструктурдуралистского» жаргона. Согласитесь, для современного отечественного литературоведения это большая редкость.
Удачно сочетая жизнеописание и литературоведение, изложение фактов и разборы главных набоковских произведений, А.М. Зверев выдерживает основной контур житейской и творческой биографии писателя, не увязает в мелочах, не загромождает книгу рискованными гипотезами и, надо отдать ему должное, не копается в грязном белье своего подопечного. В книге нет и намека на дешевую сенсационность, отличающую ныне устаревшие работы Эндрю Филда306 и разухабистую компиляцию Бориса Носика «Мир и дар Владимира Набокова» (М., 1995).
Отрадно, что автор не навязывает читателю эффектных, но по сути фантастических литературных параллелей и не мучает его вульгарнокомпаративистскими выкладками, коими сейчас пробавляется 90 процентов литературоведов. Напротив, он достаточно скептически отзывается о любителях «странных сближений» – тех набоковских исследователях и комментаторах, «для которых поиски всевозможных аллюзий и подтекстов давно стали своего рода спортивным соревнованием: кто обнаружит их больше? кто укажет самые малоправдоподобные? кто перещеголяет всех, интерпретируя не только метафоры, а чуть ли не любую подробность как скрытую цитату?» (С. 186–187). Правда, изредка и сам биограф не может удержаться от компаративистских соблазнов и, на мой вкус, слегка перебарщивает, навязчиво сопоставляя Набокова с Виктором Шкловским или рассуждая «об уроках Марселя Пруста» и «прустовском времени» в «Машеньке». (Возражая Алексею Матвеевичу, Владимир Владимирович мог бы процитировать свои ответы интервьюерам, частенько пытавшимся завести его на зыбкую почву литературных вливаний и влияний, и повторил бы, что его чувство места и времени «скорее набоковское, чем прустовское»307, что между его и прустовскими романами нет ни малейшего сходства: «Пруст вообразил человека (“Марселя” из его бесконечной сказки под названием “В поисках утраченного времени”), который разделял бергсоновскую идею прошедшего времени и был потрясен его чувственным воскрешением при внезапных соприкосновениях с настоящим. Я не фантазирую, и мои воспоминания – это специально наведенные прямые лучи, а не проблески и блёстки»308.)
Но спорить о «влияниях» можно до бесконечности. Укажем лучше еще на одно немаловажное достоинство книги: в отличие от «Мира и дара…» Бориса Носика в ней нет безвкусных лирико-автобиографических интерлюдий на тему «Я и Набоков», и она избавлена от подобострастного сюсюканья перед «великим» – от того приторного, благостно-умильного тона, которым у нас пропитывают (словно сиропом – именинный торт) многие набоковедческие работы школы «Рro sine contra». Сияние мировой набоковской славы не ослепляет биографа, а, наоборот, заставляет пристальнее вглядываться в прихотливые узоры житейской и творческой судьбы писателя, выискивая там всевозможные изъяны. По отношению к своему герою А.М. Зверев держится без всякого пиетета и с легкой совестью указывает на художественные просчеты и неудачи русско-американского классика. Чем дальше мы отходим от русскоязычного Набокова и приближаемся к американскому и швейцарскому периодам его творчества, тем суровее становится автор и тем беспощаднее звучат критические приговоры, по сравнению с которыми придирки набоковских зоилов, приведенные в том же «Классике без ретуши», кажутся мармеладными комплиментами.
Как правило, оценочные суждения автора опираются на подробные разборы набоковских произведений и выглядят достаточно убедительно. Но иногда, в пылу скрытой полемики, которая на протяжении всей книги ведется против Владимира Владимировича, Алексей Матвеевич чересчур увлекается и рубит сплеча, безапелляционно заявляя, что «Университетская поэма» – «довольно пустенькая» (С. 69), драма «Изобретение Вальса» «оказалась не слишком удачной» (С. 282), финал рассказа «Рождество» «по безвкусной иллюстративности вполне подходит для наставительного рассказика из журнала “Чтец-декламатор”, источавшего слезы у чувствительных барышень на ранней заре века. И “Письмо в Россию” <…> испорчено концовкой, невольно заставляющей вспомнить самого скверного Брюсова» (С. 166–167). А в «Аде», оказывается, «страницы о любви непременно подкрашены тем особенным оттенком, который Толстой, говоря о французской фривольной прозе, точно назвал гадостностью» (С. 440). По мере накопления такого рода «твердых мнений» у читателя может возникнуть впечатление, что перед ним не биография великого писателя, а стенограмма вступительного экзамена, на котором придирчивый экзаменатор шпетит нерадивого абитуриента (что, впрочем, придает книге пикантность и делает ее чтение еще более занимательным).
Но если в отношении большинства набоковских произведений профессор Зверев всё же проявляет снисхождение, то за «литературное поведение» ставит своему подопечному жирный неуд.
Во всех литературных войнах и конфликтах, очных и заочных полемиках, которые вел темпераментный Владимир Владимирович, он неизменно берет сторону набоковских оппонентов. Перенимая тональность и стилистику набоковской лекции о Достоевском, Алексей Матвеевич с прокурорским рвением предъявляет Владимиру Владимировичу – воспользуемся фразеологией биографа – «массу бездоказательных и порой просто пошлых обвинений». Например, в том, что пародия на несколько жеманную манеру ранней Ахматовой и ее многочисленных подголосков, которая дается в романе «Пнин»309 (заметим: написанном по-английски и вышедшем отдельным изданием в 1957 году, одиннадцать лет спустя после знаменитого ждановского доклада и шесть лет спустя после восстановления Ахматовой в Союзе писателей), говорит о моральной нечистоплотности пародиста, якобы «добивающего отверженную» (С. 371). Нелицеприятные высказывания Набокова о «темном рифмоплетстве» Цветаевой или пресловутом пастернаковском шедевре «Доктор Живаго» также вызывают у биографа праведный шестидесятнический гнев (у кумиров юности не может быть ни одного изъяна!), и на писателя в очередной раз обрушиваются глыбы обвинений в сальеризме и подловатом желании подыграть советским чиновникам от литературы. Характерно, что Алексей Матвеевич как-то легко забывает, что в ХХ веке, да и прежде, литературный мир скорее был похож на плот «Медузы», чем на веселый прогулочный катер с добродушными туристами на борту, что ожесточенные войны и полемики, сопровождающиеся всякого рода эксцессами, придуманы отнюдь не зловредным Набоковым, что писатели, так или иначе от него «пострадавшие», – и Анна Андреевна, и Марина Ивановна, и тем более другой Владимир Владимирович (Маяковский, выведенный, по мнению Зверева, в рассказе «Занятой человек» в образе пошловатого писаки Граф Ита, что, разумеется, является святотатством по отношению к нашему «крикогубому Заратустре»), – эти и другие авторы (тот же Сартр!) сами не отличались терпимостью, так же были резки в критических суждениях и пристрастны в своих оценках. (Вспомним хотя бы, как отзывалась Цветаева об одном из лучших набоковских рассказов. В письме Анатолию Штейгеру от 29 июля 1936 года она писала: «Какая скука – рассказы в “Современных записках” – Ремизова и Сирина. Кому это нужно? Им – меньше всего, и именно поэтому – никому»310. «Никому не нужный» рассказ Сирина назывался «Весна в Фиальте».)
Даже напечатанное в 1942 году продолжение пушкинской «Русалки» воспринимается нашим биографом-иконоборцем как бестактность и «трудно объяснимая жестокость», допущенная Набоковым по отношению к собственному литературному союзнику Владиславу Ходасевичу. Объяснение, правда, дается довольно замысловатое: «Ведь как раз с “Русалкой” связан, пожалуй, самый неприятный, конфузный эпизод за всю его [В. Ходасевича] литературную жизнь. Увлекшись биографическими трактовками художественных текстов, Ходасевич в книжке “Поэтическое хозяйство Пушкина”, написанной еще в России, доказывал, что сюжет “Русалки” основан на реальном эпизоде молодости ее автора <…>. Пушкинисты тут же подвергли эту версию сокрушительной критике, доказав полную ее фантастичность» (С. 275).
Подобного рода выпады и критические атаки красноречиво свидетельствуют о предвзятости автора и вызывают подозрение о том, что вся книга, подобно своему прообразу – «Жизни Чернышевского», – создавалась исключительно с полемическими целями.
Но чем же так разозлил Владимир Владимирович Алексея Матвеевича? Чем провинился? По какой причине биограф готов обвинить своего героя чуть ли не во всех смертных грехах? Личные счеты? Исключено. Рабское копирование скандальной, но и, согласитесь, эффектной манеры, выработанной в эссеистике и литературоведческих штудиях Набокова? И это вряд ли.
Рискну предположить, что Алексей Матвеевич ведет тяжбу не столько против Владимира Владимировича лично, сколько против эстетики и литературной идеологии, которые ассоциируются с его именем (и с которыми он, в своих лучших творениях, имеет мало общего). Не против Набокова, а против «набоковщины»: жуликоватых литераторов-«постмодерьмистов», якобы покончивших с «миром значений» и с «традиционной литературой», в которой они видят лишь кладбище выпотрошенных сюжетных формул и стилистических клише (поскольку сами не способны предложить читателю ничего иного); напористых и самоуверенных, но весьма недалеких критиканов, вызубривших наизусть лозунги набоковской персоны о «феномене языка, а не идей», но не имеющих ни малейшего представления об «идеях» и катастрофически не владеющих «языком»; мощной литературоведческой индустрии, год за годом выпекающей выхолощенные опусы, в которых набоковские тексты произвольно разлагаются на скрытые «анаграммы» и едва ли не каждая запятая проверяется насчет интертекстуальных связей.
Если так, если главной целью автора было «развенчать» не талантливого писателя, а влиятельную эстетико-мировоззренческую доктрину, то тогда многое в этой неровной, но, безусловно, интересной книге объясняется и оправдывается. Вполне очевидно, что автором двигало отнюдь не суетное желание эпатировать правоверных набоковианцев и сыграть роль библейского Иакова, борющегося с Богом. Понятно, что тут определенная концепция. Понятно, что она не бесспорна. Но ничего бесспорного (и здесь я полностью согласен с автором), «когда дело касается столь сложных личностей, как Набоков, появиться и не может».
Новый мир. 2003. № 7. С. 155–160.
Постскриптум
Рецензия была опубликована в паре с безоговорочно отрицательным отзывом рьяной набоковской поклонницы – как своеобразный противовес. «У вас по крайней мере есть хоть что-то хорошее о книге», – сказала мне тогдашняя редактор критического отдела «Нового мира» – хрупкая старушка с железным характером и седоватыми усами, придающими ей сходство с ветераном наполеоновской гвардии.
Толстожурнальный цикл долог. Номер с моей кисло-сладкой рецензией подоспел как раз к смерти А.М. Зверева. Помню, в Рунете появились негодующие отклики на мою рецензию зверевских учениц и поклонниц. Как будто я специально подгадал к его смерти!
На этом странные фокусы судьбы не закончились. В 2009 году за серию критических статей, напечатанных в журнале «Иностранная литература», я был награжден… премией имени А.М. Зверева!
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ В ТОРОНТО
Книга торонтского профессора Леонида Ливака311 поначалу обнадеживает: серьезные концептуальные работы о литературе русского зарубежья можно перечесть по пальцам, да и те в основном посвящены творчеству «литературных генералов» вроде Бунина, Цветаевой или Набокова, давно питающих целые отрасли литературоведческой индустрии. Главными же героями «Как это делалось в Париже» являются представители «младшего поколения» эмигрантских писателей, большинство из которых не то что в англоязычном мире – и в России известны далеко не каждому просвещенному читателю.
Одна из главных задач, которую поставил перед собой автор, – «вновь ввести в литературный обиход – как для читателей, так и для литературоведов – несправедливо забытую группу русских писателей, показав, что “незамеченное поколение” на самом деле представляет одну из самых интересных, оригинальных и ярких страниц в истории русской литературы» (P. 4) – не может не вызывать сочувственного отклика. Как не может не вызывать уважения внушительный научный аппарат, занимающий чуть ли не треть книги. Всё как положено: подробный предметно-именной указатель, примечания (чуть ли не каждая страница книги пестрит от сносок!), список использованной литературы в 680 наименований, на трех языках – русском, английском и французском, – в котором разве что законченный буквоед обнаружит две досадные опечатки: первое американское издание «Лолиты» вышло, конечно же, не в 1955 году, как указано на 287-й странице, а три года спустя, после судебных запретов во Франции, скандальных разбирательств в британском парламенте и жаркой полемики в американской и европейской печати; статья Иветт Лоурии о Набокове и Прусте не могла быть написана и опубликована в 1947 году (P. 299) – тут явное недоразумение: Набокова тогда в Америке почти никто не знал – где уж тут взяться компаративистским опусам.
Но оставим мелочные придирки и отдадим должное начитанности автора. Мало того, что Л. Ливак одолел всего Пруста и десяток-другой французских беллетристов «второго ряда» вроде Дриё Ла Рошеля и Поля Морана, с которыми сопоставляет эмигрантских писателей, мало того, что прошерстил едва ли не всю периодику русского зарубежья 1920–1930-х годов, – судя по примечаниям, он основательно изучил малодоступные нам архивные сокровища: переписку литераторов «первой волны» эмиграции, собранную в хранилищах американских университетов и колледжей, сами названия которых ласкают слух и будоражат воображение отечественных грантозавров: Амхёрст, Йейль, Стэнфорд…
Оценим также тот факт, что канадскому ученому пришлось пробираться по непаханой целине, совмещая функции аналитика, интерпретатора и «почтовой лошади просвещения»: почти все цитаты из разбираемых произведений ему приходится давать в собственном переводе (исключения – набоковский «Дар» (1938), переведенный под присмотром писателя в 1963 году, и роман Гайто Газданова «Вечер у Клэр» (1930), удостоившийся перевода на английский 58 лет спустя после выхода в свет).
В общем, закрыв глаза на то, что из всего «незамеченного поколения» замечены лишь четыре писателя – Борис Поплавский, Гайто Газданов, Юрий Фельзен, Василий Яновский (правда, наряду с их творчеством в книге анализируются произведения В. Сирина (Набокова) и Георгия Иванова), – «Как это делалось в Париже» можно было бы расценить как безусловную удачу, если бы эрудированный автор не грешил «вульгарным компаративизмом» и так явно не искажал историко-литературный ландшафт во имя априорных теоретических установок.
Л. Ливак не довольствуется скромной ролью первопроходца, закрашивающего белые пятна на карте русской литературы ХХ века, и толмача, объясняющего канадским и американским читателям ценность и своеобразие литературных творений, созданных в разреженной атмосфере изгнания. Помимо историко-литературных задач он поставил перед собой еще одну: «проанализировать специфическую позицию “незамеченного поколения” в контексте французской модернистской литературы, исследуя пути влияния французской литературы на творчество и художественную идентичность эмигрантов» (P. 4). Возражения вызывает, конечно же, не поставленная задача, а способы ее решения: к сложнейшей теоретико-литературной проблеме канадский славист подходит с готовым ответом, превращая «исследование» в чисто формальную процедуру, в ходе которой литературный материал подгоняется к простейшей компаративистской формуле. В стремлении доказать ключевой тезис – о зависимости младоэмигрантской литературы от французской (утверждение, которое имело бы куда бóльшую ценность как вывод, а не исходный пункт) – Л. Ливак ступает на скользкий путь поспешных обобщений и явных натяжек, что обусловлено изъянами избранной им компаративистской методологии: наивным литературоцентризмом, выводящим все литературные явления исключительно из самой литературы и напрочь игнорирующим другие факторы – биографические, психологические, социально-исторические и проч.; представлением о художественном произведении как о сумме литературных влияний, не оставляющем места авторской фантазии и самобытности; отсутствием четких критериев для различения сознательного или бессознательного заимствования от простого совпадения и поверхностного сходства.
И хотя Ливак сам неоднократно признает, что «эмигрантские Гамлеты», следуя французской модели, перенимали у своих французских учителей лишь то, что было созвучно их собственным интересам и чаяниям, избранная им компаративистская стратегия вынуждает деформировать объекты изучения, затушевывая их индивидуальное своеобразие и выпячивая сходства.
Глупо было бы спорить с тем, что французская литература оказала определенное влияние на некоторых представителей «незамеченного поколения», в том числе и на тех, чье творчество разбирается в книге (Поплавского, Яновского, Фельзена): учиться у французов призывал властитель дум эмигрантской молодежи Георгий Адамович и другие авторитетные критики, да к этому сознательно стремились и многие из литераторов «эмигрантского призыва». Однако не следует абсолютизировать французское влияние и инкриминировать его всем без разбору, ставя на одну доску и «прустианца» Юрия Фельзена, и куда менее подверженного влияниям «берлинца» Набокова, чье творчество правомернее рассматривать в контексте не одной только французской, а всей европейской литературы ХХ века.
Свою задачу Ливак пытается решить, не уяснив для себя самого принципиальный вопрос – что следует понимать под «влиянием», чем оно отличается от типологической общности, обусловленной схожими психологическими или социально-историческими факторами, – и не объяснив толком, кого он относит к «незамеченному поколению», кого называет «эмигрантскими Гамлетами»: всех без исключения авторов, вошедших в литературу после отъезда из России? Русских парижан, входивших в Союз молодых поэтов и писателей? Или относительно небольшую группу писателей-монпарнасцев, сформировавшуюся вокруг журнала «Числа» и так или иначе тяготевшую к эстетике «парижской ноты», инспирированной Георгием Адамовичем? Весьма пестрое по своим эстетическим воззрениям поколение «эмигрантских сыновей» (используя лотмановский термин, его можно обозначить как «систему с большой внутренней неопределенностью») Ливак подает в виде цельной эстетико-мировоззренческой «модели», выкроенной по французским лекалам. Между тем даже в русском Париже было несколько литературных групп: склонные к экспериментам «формисты», правоверные адепты «парижской ноты», опекаемые Владиславом Ходасевичем «неоклассики» из литературного «Перекрестка». А ведь кроме Парижа были еще и другие культурные центры эмиграции со своими литературными объединениями, такими как пражский «Скит поэтов», во многом ориентированный на советский авангард двадцатых годов, или дальневосточные «Чураевка» и «Шатер». Были, наконец, писатели, стоявшие вне школ и направлений, вроде Агеева (кстати, ни разу не упомянутого Ливаком) или того же Набокова, которого (без особого успеха!) автор пристегивает к Андре Жиду, старательно сличая «Дар» и «Фальшивомонетчиков».
Навязывая «эмигрантским сыновьям» предельно жесткую схему à lа Виктор Шкловский (литературные «отцы» и «дети», «разрыв с традицией», «ход коня» и проч.), Л. Ливак забывает о том, что «живой литературный процесс никогда не обладает такой жесткой и последовательной системностью, которую приписывает ему наблюдающий его теоретик»312.
Когда, в оглядке на культурологические построения Лотмана и Успенского, канадский славист работает с абстрактными «моделями» и доказывает вторичность одной по отношению к другой, все получается более или менее гладко и убедительно. Вычерчиваются траектории развития литературного процесса, со структуралистской четкостью выстраиваются бинарные оппозиции, призванные исчерпывающим образом объяснить особенности литературной жизни русской эмиграции: эмигрантские «отцы» и «дети», «французский модернизм» и литература «незамеченного поколения» «французский модернизм» и «традиция русской литературы» и т.д. Но стоит отвлечься от абстракций и, спустившись с теоретических высей на грешную землю, перейти к литературной конкретике, как возникают вопросы. Что, например, автор разумеет под «традицией русской литературы» (еще одна абстракция!), от которой так настойчиво отрывает «эмигрантских сыновей», привязывая их к французскому модернизму? (Можно ли вообще всерьез говорить о поэтах «парижской ноты», оторвав их от Лермонтова и Анненского, при анализе набоковского творчества забыть о Пушкине и Гоголе, а разбирая романы Яновского, не упомянуть Достоевского?) Кого именно из эмигрантских «отцов» имел в виду автор, утверждая, что те, в отличие от более гибкой и восприимчивой молодежи, выбравшей французскую литературную «модель», «утратили основное различие между собой и советскими писателями» [lost the main distinction between themselves and Soviet writers] (P. 40) – Шмелева? Бунина? Ремизова? Зайцева? Тэффи? Гиппиус?!
Заставляя «эмигрантских сыновей» платить по долгам, которые большинство из них не делало, канадский компаративист часто теряет чувство меры и выдает желаемое за действительное, что особенно заметно при сопоставительном анализе художественных текстов, когда интерпретатор увлекается погоней за «параллелями», «отзвуками», «отголосками» и выжимает все, что можно и невозможно, из совпадения отдельных мотивов и деталей.
Стоит Николаю Соседову, повествователю «Вечера у Клэр», вспомнить комнату возлюбленной и картину с Ледой и лебедем, как канадский компаративист намертво впивается в злосчастного, мельком упомянутого лебедя и выдает его за многослойную аллюзию, отсылающую аж к трем «предтекстам»: бодлеровскому «Лебедю», «чье посвящение Виктору Гюго и чей лейтмотив воспоминания и изгнания предвосхищает будущее Николая, совмещающее неутоленное желание и изгнание» (P. 114), андерсеновской сказке «Дикие лебеди» – «образ безгласного лебедя изображает положение эмигрантского писателя» (P. 115) – и, разумеется, к прустовскому Свану, «чье имя, благодаря англофильству Одетты, произносилось à l’anglaise» (P. 114).
Безотказный прием многоступенчатых ассоциаций, выдаваемых за неопровержимое доказательство, с успехом применяется и в «набоковской» главе, где в ходе сопоставительного анализа «Дара» с «Фальшивомонетчиками» блестяще подтверждается выдвинутая автором аксиома, согласно которой Набоков (к 1933 году, началу работы над «Даром», уже сложившийся писатель) «использовал роман Жида как модель, предтекст» (P. 203). Как же иначе?! «Набоков не мог позволить себе игнорировать такого писателя, как Жид» (P. 166) – после такого вступления трудно допустить, что интерпретатор не найдет нужных аргументов, пусть это будут аргументы типа circulus vitiosus313. (Заметим, что Набоков Андре Жида, безусловно, читал, хотя и не слишком жаловал314.)
По мнению Л. Ливака, о зависимости Набокова от Андре Жидаговорит уже его рассказ «Королёк», «само название которого вторит заглавию романа Жида – на воровском жаргоне “королёк” означает “фальшивомонетчик”» (P. 166). А тут еще тематические и композиционные сходства между двумя романами: и в «Даре», и в «Фальшивомонетчиках» есть вставные тексты и задействован принцип «зеркальной композиции»; и там и там герои открывают двери ключами, рассуждают на литературные темы, а некоторые из них придерживаются гомосексуальной ориентации (Яша Чернышевский у Набокова, Эдуар, Оливье, Робер де Пассаван у Жида). О возможности случайного совпадения или типологического сходства и речи быть не может!
Да что там! Русскому сюрреалисту Борису Поплавскому автор «Как это делалось в Париже» даже умереть самостоятельно не позволил без французского влияния! Согласно канонической, во многих мемуарах зафиксированной версии, «монпарнасского царевича» отравил наркоман Сергей Ярхо, пригласивший его и еще несколько человек на оказавшийся роковым наркотический сеанс: решив отправиться в «лучший мир», из подлости или из трусости он захотел прихватить туда кого-нибудь за компанию. Ливак же утверждает (не выдвигает гипотезу, а именно утверждает, будто свечку держал!), что Поплавский покончил жизнь самоубийством, инсценировав смерть от несчастного случая. Откуда такая уверенность?! Видите ли, в 1919 году в Париже умерли от передозировки наркотиков (а на самом деле целенаправленно покинули сей грешный мир – подсказывает всеведущий автор) богемный юноша Жак Ваше и два его приятеля. Поплавский был близок к сюрреалистам (с этим не поспоришь), те мыслили самоубийство как творческий акт, и многие из них покончили с собой, инсценировав случайное самоубийство; Поплавскому всегда была близка идея жизнетворчества, но самое главное, «оба художника (имеется в виду не только Поплавский, но и Ярхо, к литературе и искусству никакого отношения не имевший. – Н.М.) были достаточно осведомлены о мифологии сюрреалистов, чтобы последовать примеру “случайного самоубийства” Ваше» (P. 88).
Каюсь, мне подобная логика кажется сомнительной, да к тому же мучает любопытство: неужели профессор из Торонто всерьез полагал, что у человека, решившего свести счеты с жизнью (на минуту примем суицидальную версию), не было для этого более серьезного повода, нежели стремление следовать «поведенческому коду» французских сюрреалистов с их пресловутой программой «случайного самоубийства»?
Помимо весьма своеобразного «дедуктивного метода» не пренебрегает Л. Ливак и тем, что недоброжелатели назвали бы откровенной подтасовкой.
Так, в «теоретической» главе «Опыт изгнанничества как культурное построение», в которой автор заводит речь о построенной по французским образцам «идеальной модели эмигрантской литературы», утверждается, что многие критики русского зарубежья отчетливо осознавали зависимость молодых эмигрантских писателей от французской литературы (P. 28). Мысль сама по себе вполне здравая, хотя и никак не подтверждается цитатами. Автор ограничивается сноской (уже 78-й по счету), отсылающей в примечания к первой главе (P. 222), где дается только перечень статей – Владимира Вейдле, Константина Мочульского, Юрия Мандельштама, Марка Слонима, – по всей видимости, подтверждающих авторский тезис. Из исследовательской дотошности я решил проверить автора и заказал номера газет с указанными статьями… И что же вы думаете: ни в одной из них – ни в кисловатых рецензиях Юрия Мандельштама на «Дневник обманутого человека» Дриё Ла Рошеля и «Дневник писателя» Жюльена Грина, ни в памфлете «Гибель литературы» Марка Слонима, направленном против пессимистичных воззрений Георгия Адамовича на литературу и смысл творчества, ни в статьях Константина Мочульского («Кризис воображения», «Романтизм и мы», «Новый человек») и Владимира Вейдле («Человек против писателя» и «Новое во французской беллетристике») – нигде нет ни слова, которое не то чтобы подкрепляло авторское утверждение, но хоть как-то соотносилось с ним! Разве что шпилька, которую походя Слоним подпустил Адамовичу: «В одной из своих книг Андре Жид, под сильным влиянием которого находится Адамович…» И всё! Из десятка статей – одно вскользь брошенное замечание. Так это делается в Торонто?!
Допускаю, что тут не злой умысел, что произошел чисто технический сбой: автор просто запутался в собственных ссылках и из чистой экономии места свои суждения далеко не всегда подкрепляет цитатами, предпочитая дать сноску и отправить не в меру любопытного читателя сначала в примечания, где указываются несколько фамилий и названий, затем в список литературы, где даются полные выходные данные книги или статьи, затем… (Впрочем, я не уверен, что кто-либо из англоязычных читателей повторит мой однократный подвиг и, дабы проверить точность и обоснованность того или иного утверждения, потащится в библиотеку перерывать эмигрантскую или французскую периодику семидесятилетней давности.) Однако после таких проколов меня уже не оставляло подозрение, что автор просто-напросто дурачит англоязычную публику.
Некоторые умозаключения, извлекаемые Ливаком из художественных текстов, иначе как розыгрышем и назвать нельзя.
Вот, например, как своеобразно интерпретируется пассаж из «Вечера у Клэр». Рассуждения газдановского протагониста Николая Соседова о блудливых офицерских вдовах – «Знания их были изумительно скудны; страшная душевная нищета и смутная мысль о том, что жизнь их должна была бы идти иначе, делали их неуравновешенными; и по типу своему они больше всего походили на проституток, но проституток с воспоминаниями», – произвольно проецируются на литературную жизнь русской эмиграции; по мнению исследователя, которому чрезвычайно важно лишний раз столкнуть лбами «старших» и «младших» писателей эмиграции, «в контексте литературной жизни эмиграции» слова эти метят в писателей старшего поколения «и их искусство» (P. 110).
Такой же прием неоправданных и немотивированных проекций из художественных текстов в «литературный быт» находим в главе о Поплавском, когда абсурдистско-сюрреалистическое стихотворение «На белые перчатки мелких дней…» (1926) выдается за полемику «с более традиционной поэтикой парижского “Цеха поэтов” (P. 55), а в четвертой строчке первого четверостишия – «На белые перчатки мелких дней / Садится тень как контрабас в оркестр / Она виясь танцует над столом / Где четверо супов спокойно ждут» – усматривается «сатирический намек» на Николая Оцупа. Допустим, Газданов весьма сдержанно относился ко многим писателям старшего поколения, допустим, Поплавский был чужд неоклассицизму «Цеха поэтов» и не любил Оцупа, однако зачем подкреплять свою концепцию такими, из пальца высосанными, «аргументами», которые могут только дискредитировать ее в глазах мало-мальски сведущего читателя?
Подрывает доверие к компаративистской концепции и тенденциозная оценочность автора: чем ближе эстетические воззрения и творческая практика того или иного писателя «французскому модернизму», чем чаще припадает тот к животворному источнику, тем выше оценивает его произведения канадский профессор. Прямо какой-то «Олег Михайлов-наоборот»!
Взять хотя бы главу «Сюрреалистическое приключение Бориса Поплавского». По мере того как сюрреалистическое приключение подходило к концу и поэт, пренебрегая благодетельным влиянием Бретона и К˚, стал сближаться с «парижской школой» Адамовича и Георгия Иванова, Ливак оценивает его творчество все более и более строго, сетуя на сходство с «сентиментальной образностью Блока» и увлечение «чрезмерно сентиментальной темой Христа» (P. 72).
Об однотонных, пресных, абсолютно нечитабельных творениях правоверного «прустианца» Юрия Фельзена пишется в дифирамбических тонах как о «наиболее интересных и оригинальных произведениях русской литературы, созданных в изгнании» (P. 134) – тогда как даже житейски близкие Фельзену критики, высоко ценившие его человеческие качества, без особого восторга писали о «душно-комнатной атмосфере его романов» и «призрачных, анемичных героях» (Г. Адамович). В то же время, расхваливая откровенно эпигонские опусы Фельзена (вероятно, именно потому, что они являют собой пример бесспорного влияния французского образца), Ливак не слишком тепло отзывается о «Вечере у Клэр», одном из лучших газдановских романов. Доверяя клятвенным заверениям Гайто Газданова и допуская, что тот и впрямь не читал «В поисках утраченного времени», когда создавал «Вечер у Клэр», Ливак тем не менее говорит о стилистической зависимости одного автора от другого, причем «газдановское видение прустианской фразы», по его мнению, обязано своим происхождением не знакомству с текстом, а обсуждениям романа в эмигрантской прессе: «…то, что для Пруста было делом художественного видения, для Газданова было знаком литературного родства с мэтром. Языку его романа недостает семантической ауры прустовского стиля…» (P. 104). То есть автор «Вечера у Клэр» выставляется примитивным эпигоном, ухитрившимся к тому же подражать стилистической манере «мэтра», не читая его текстов.
Не менее строг Ливак и по отношению к скандальному шедевру Георгия Иванова «Распад атома»: он усматривает в нем «недостаток оригинальности» (P. 156) и упрекает автора в том, что тот наполнил свою «поэму в прозе» «литературными клише» того времени (P. 156). Что ж, о вкусах не спорят, и Ливак волен выстраивать перед доверчивыми англоязычными читателями какую угодно экстравагантную иерархию ценностей, благо те не читали ни Газданова, ни Фельзена, ни Иванова. Хотя вряд ли бы он решился на подобные экстравагантности при работе с англоязычным материалом: едва ли стал бы прославлять, скажем, Арчибальда Кронина, упрекая при этом в недостатке оригинальности Т.С. Элиота или Вирджинию Вулф.
Куда менее оправданна оценочность, продемонстрированная на концептуально-теоретическом уровне: один из членов выделяемых автором бинарных оппозиций представляется в сугубо положительном свете как нечто сверхпрогрессивное, обладающее несомненной художественной ценностью, а другой – как что-то архаичное, косное, антихудожественное. Нетрудно догадаться, как распределяются оценки при противопоставлении (порой надуманном) «младшего» поколения эмигрантских писателей – «старшему», «автоматического письма» сюрреалистов – «человеческому документу» русских монпарнасцев, французского модернизма – «традиции русской литературы», которая к тому же часто отождествляется с «реализмом».
Термин «реализм» в лексиконе Ливака имеет сугубо негативные коннотации и является чем-то вроде аллергена, поскольку ассоциируется у него лишь с плоским бытовизмом и фотографическим воспроизведением обыденной жизни. Не случайно профессор из Торонто так лихо расправляется с реализмом и «реалистической эстетикой» в главе «Искусство романа», где в качестве дубинки использует Владимира Набокова. Уже первая фраза «Дара», в которой не указывается точная дата, – «Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192… года…», – по Ливаку, знаменует разрыв с реализмом и свидетельствует об «авторском отказе быть рабом внелитературной реальности в ее наиболее определенном аспекте – историческом времени», «<…> читателя приглашают оставить свойственное реалистам занятие историей» (P. 189) – весьма спорное заявление, так как даже при плохом знании истории и большой нелюбви к ней нельзя хотя бы примерно не представить время действия набоковского романа, отнеся его к двадцатым годам ХХ века, а не к эпохе Великого переселения народов или временам Эхнатона, благо автор «Дара» не только воспроизвел реалии межвоенного двадцатилетия, но и насытил текст множеством аллюзий и полемических шпилек, актуальных именно для его современников. Твердя об «антиреалистической позиции» Набокова и его разрыве «с условностями реализма ХIХ века», Ливак истолковывает набоковский роман по меньшей мере односторонне. Если уж использовать Набокова как оружие против какого-либо «изма» (а сам Набоков в общем-то был равнодушен к любым «измам»315), то его с тем же успехом можно выдать и за «антимодерниста», поскольку пародийная стратегия «Дара» прежде всего направлена против условностей и клише модернизма. Как верно заметил набоковед А. Долинин, посвятивший пародийной поэтике «Дара» целое исследование, «создавалась она в полемике с теми течениями в современной прозе, которые, следуя завету Шкловского, “боролись за создание новой формы” и канонизировали небольшой набор резко маркированных, “модернистских” нарративных приемов»316.
И в «набоковской» главе, как и в других главах книги, теоретико-методологическая предвзятость играет с Ливаком злую шутку. Соблазненный «демоном теории», он попытался систематизировать еще толком не освоенный литературный материал, залихватски орудуя кувалдой там, где следовало бы осторожно использовать скальпель и пинцет. Что и не могло не вызвать целый ряд претензий и полемических выпадов, относящихся, впрочем, не столько к работе канадского слависта (которая, при всех своих недостатках, представляет несомненный интерес для исследователей литературы русского зарубежья), сколько к той железобетонной «вульгарнокомпаративистской» методологии, которая даже самого добросовестного исследователя заводит в тупик механических сличений и поверхностных аналогий.
Вопросы литературы. 2004. № 4 (июль–август). С. 313–323.
НОВОЕ О БУНИНЕ
Современное буниноведение – не такая мощная и не столь резво развивающаяся отрасль литературоведческой индустрии, как, скажем, набоковедение и бродсковедение. Как-никак, в нашей стране бунинские книги, пусть и изрядно прореженные, пусть и под конвоем идеологически выдержанных предисловий, издавались с середины прошлого века – говорить об эффекте запретного плода, приманивавшем читателей и обеспечивавшем интерес критиков, как это было с произведениями Пастернака, Набокова или Бродского, явно не приходится. Тем не менее работа по литературоведческому освоению бунинского наследия не прекращается, свидетельством чему – увесистый том «И.А. Бунин: новые материалы. Вып. I»317, подготовленный совместными усилиями отечественных и зарубежных исследователей.
В книгу вошли материалы из малодоступных бунинских фондов, хранящиеся в закромах англо-американских архивов и университетов. Библиотеки Йельского, Лидского, Редингского, Сассекского и Эдинбургского университетов, гуверовский и бахметьевский архивы, отделы рукописей Британской библиотеки – эти солидные заведения содержат в своих хранилищах несметные буниноведческие сокровища, которых, как считают редакторы-составители, хватит на то, чтобы заполнить несколько выпусков «Новых материалов». Из предисловия явствует, что перед нами – первый том продолжающегося буниноведческого издания: готовятся к печати записные книжки писателя, а также полный текст дневников И.А. и В.Н. Буниных и их переписка с ведущими авторами эмигрантской литературы.
Эпистолярному наследию Бунина отведена и бóльшая часть рецензируемого издания. Помимо переписки Бунина с фигурами первого ряда – некогда сверхпопулярным в России датским критиком Георгом Брандесом и двумя ведущими критиками русского зарубежья, Георгием Адамовичем и Владиславом Ходасевичем, – нашему вниманию предлагаются: бунинские письма сороковых годов к С.А. Циону (секретарю Шведско-русского общества друзей русской культуры) с их горестным лейтмотивом – «я очень, очень беден – почти голодаю»; переписка Бунина и Галины Кузнецовой с Леонидом Зуровым, едва ли не единственным прозаиком поколения «эмигрантских сыновей», которого без особого риска можно назвать бунинским учеником, а также, видимо, в качестве десерта, переписка двух писательских жен, В.Н. Буниной и Т.М. Ландау (супруга Марка Алданова), содержащая немало любопытных подробностей частной жизни знаменитых авторов.
Если оценивать письма Бунина и его корреспондентов с эстетической точки зрения, приходится признать, что им далеко до уровня классиков эпистолярного жанра: Пушкина, Флобера или Чехова. Не случайно же в своих литературных завещаниях престарелый писатель так настойчиво заклинал: «Все мои письма (ко всем, кому я писал во всю мою жизнь) не печатать, не издавать. С просьбой об этом обращаюсь и к моим адресатам, то есть к владельцам этих писем. Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал – в силу разных обстоятельств…» И все же и здесь встречаются стилистические блестки, показывающие, что при желании Бунин мог писать письма не менее ярко, чем рассказы. В этом плане особенно примечательны бунинские послания Адамовичу, с которым, как видно, у Бунина сложились приязненные отношения. Иные из них так и брызжут полемическим задором; иные инкрустированы шутливо обыгранными цитатами и даже стихотворными вставками, вроде перепева пушкинских строк в письме 1947 года:
«Дорогой поэт, милый друг Егор Викторович. Не раз обижали Вы меня в моей молодости <…> и не раз хотелось мне —
Монпарнассом погулять, Девок взором пострелять, Руку в юбках их потешить, Шаршуна с Пегаса спешить И башку с широких плеч Адамовичу отсечь…»На богатыря субтильный «Егор Викторович» явно не тянул (в этом можно убедиться, посмотрев фотографии, украшающие прекрасно изданный сборник), так что оценим чувство юмора, не изменявшее писателю даже в тяжелые послевоенные годы.
Впрочем, независимо от своих стилистических достоинств опубликованные письма не только позволяют полнее представить внешний и внутренний облик русского классика, но и дают ценные сведения об особенностях литературного и окололитературного быта русской эмиграции «первой волны». В некоторых же публикациях можно отыскать те зерна, из которых досужий «вед» может порастить не одну новую концепцию. Например, в письме Галины Кузнецовой Леониду Зурову от 27 июля 1929 года (как раз когда Бунин работал над «Жизнью Арсеньева») сообщается о том, что обитатели грасской виллы вовсю читают Пруста: «Это замечательный писатель, хотя сначала немного трудный. Но зато он открывает новую дорогу в искусстве. Мы все им очень заняты» (С. 267). Это ли не пища для компаративистов? Это ли не лишний повод для сопоставления бунинского шедевра с «Поисками утраченного времени»?!
Впрочем, и в первом выпуске «Новых материалов» имеются два историко-литературных исследования, претендующие на концептуальность: статья А. Рогачевского «И.А. Бунин и “Хогарт Пресс”», на богатом документальном материале показывающая взаимоотношения русского писателя с англоязычным литературным миром, и монументальный опус Д. Риникера «“Литература последних годов – не прогрессивное, а регрессивное явление во всех отношениях…” Иван Бунин в русской периодической печати (1902–1917)», интересный не столько даже воспроизведением двадцати пяти бунинских интервью и ответов на анкеты, затерянных в дореволюционной периодике, сколько осмыслением малоизученных пока тем: становление писательской репутации Бунина и его «стратегия успеха», помимо всего прочего подразумевающая беспощадное изничтожение на газетных страницах литературных соперников, будь то «петербургские “литераторы-хлысты” – Мережковский и Розанов с братией их» или «миннезингер народа» Златовратский, автор пренебрежительных отзывов на первые бунинские книги.
Как и во всех тщательно откомментированных материалах сборника, на «твердые суждения» Бунина бросает отсвет богатейшая информация, содержащаяся в сопроводительном научном аппарате: благодаря ей можно понять причину того или иного воинственного выпада, а также проследить, как менялось отношение Бунина к его собратьям по цеху, насколько оно было неоднозначным. Параллельное чтение републикованных текстов и циклопических примечаний порой напоминает контрастный душ. Так, едва оправившись после очередной порции антисимволистских филиппик, в одном из примечаний читаем, что на самом деле консерватору Бунину символисты были куда ближе, нежели «знаньевцы» и «упертые народники» из «Русского богатства» с их «провинциальной пошлостью» и «слишком определенной политической физиономией»: «Все эти разговоры о каком-то самобытном пути, по которому Россия пойдет в отличие от европейского Запада, все эти разговоры об исконных мужицких началах и о том, что мужичок скажет какое-то свое последнее мудрое слово – в то время, когда мир бешено мечется вперед по пути развития техники, – все это чепуха, которая только тормозит дело. Писатель, дорожащий своей карьерой и оригинальностью, сюда уже не идет, потому что это значит погубить себя навеки. В конце концов и Горький сделает то же со сборниками “Знания” (да и сделал уже), их вот-вот перестанут читать. <…> Я не декадент и не выношу их вычурности, их юродства и пошлости, но считаю, что во многом они делают полезное дело. Ни Эредиа, ни Леконт де Лиль, ни Бодлер не вяжутся с “Русским богатством” – а это вершины поэтического искусства последнего времени. А декаденты их перетаскивают к нам! Их темы, стиль вносят в наш быт новые чувства, обогащают нас» (С. 517). Такого рода признания (а их немало рассыпано в сборнике) позволяют скорректировать многие устоявшиеся мифы, до сих пор определяющие наше восприятие бунинской персоны.
В подборке газетных выступлений писателя прослеживается несколько сюжетных линий, каждая из которых тянет на отдельное исследование: Бунин и Горький, Бунин и «подмаксимки», Бунин и критика, Бунин и символисты. Хочется верить, что эти и другие темы, связанные с жизнью и творчеством русского классика, будут разрабатываться в последующих выпусках «Новых материалов».
Во вступительной заметке «От редакции» скромно говорится о том, что сборник представляет собой подготовительные материалы к будущему академическому собранию сочинений И.А. Бунина. Но даже если никакого академического издания не будет (не дай бог, конечно), задуманное предприятие не утратит своей ценности: как утверждал один американский постмодернист, «ключ к разыскиваемому сокровищу и есть само сокровище», а в том, что рецензируемая книга – одно из лучших литературоведческих изданий последнего времени по истории русского зарубежья, у меня лично нет сомнений.
Новое литературное обозрение. № 73. 2005. С. 413–415.
ШАРЫ ФРАНСУА ВИЙОНА
На протяжении многих столетий слово «антология» означало сборник образцовых произведений, преимущественно стихотворных, представляющих литературу того или иного периода или направления.
Составители «Возвращенного мира»318, абсурдно назвавшие себя «коллективом авторов» (будто это их шедевры представлены в книге), кардинально переосмыслили устоявшийся термин и без всякого разбора понапихали в свою «антологию» обрывки разножанровых текстов, из которых по крайней мере треть не имеет никакого отношения к литературе русского зарубежья. Стихотворения и рассказы соседствуют здесь с выдержками из мемуаров, дневников и писем, критические статьи и философские эссе перемежаются фрагментами богословских трудов. В одну кучу с писателями свалены общественные деятели, певцы, белые генералы, изобретатели, художники, иерархи Зарубежной церкви, балерины и химики-органики.
Трудно понять, по какому принципу осуществлялся отбор текстов и имен. Почему, например, в «антологии» нашлось место множеству третьестепенных литераторов вроде Николая Рощина и Нины Федоровой, а такие яркие поэты, как Георгий Иванов, Довид Кнут или Юрий Одарченко остались за бортом? И как сочетаются друг с другом, скажем, стихи Бориса Поплавского и выдержки из деникинских «Очерков русской смуты», исторический очерк М.Д. Каратеева «Русь и татары» и литературоведческая статья П.М. Бицилли «Литературные эксперименты Зощенко», отрывок из воспоминаний Феликса Юсупова и предисловие к дореволюционной работе Льва Шестова «Достоевский и Ницше. Философия трагедии» (1903)?
Видимо, при составлении книги «коллектив авторов», возглавляемый О.Н. Михайловым, следовал методе ноздревского повара – «катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выйдет». Иначе чем объяснить и дикую жанрово-тематическую мешанину книги, и стилевую чересполосицу вступительных статей: одни, объемом в пять-шесть строк, выдержаны в сухой справочной манере, другие – независимо от значимости представляемой фигуры – расползаются на несколько страниц и представляют собой краткие биографические очерки с лирико-патетическими пассажами, типа: «Надо сказать, что как личность он [И.И. Фондаминский] был существом исключительно добрым до кротости, чутким до забвения и физически не способным причинить кому-либо страдание» (С. 576).
О качестве «научного аппарата» – предисловия и преамбул – надо сказать особо: число всевозможных ляпов и стилистических огрехов превышает в них все допустимые нормы: «Айхенвальд… сосредоточился как критик в газете “Руль”» (С. 29); «[Альфред Бем] работал лекции по русскому языку в Карловом университете в Праге» (С. 94); «Истоки поэзии Штейгера восходят к творчеству И. Анненского и акмеистов, где более всего он был обязан Г. Адамовичу и “парижской ноте”» (С. 676).
Помимо шедевров косноязычия в преамбулах встречаются и грубые фактические ошибки. Так, в предисловии О.Н. Михайлова (текст этот на моей памяти перепечатывался раз десять в различных квазилитературоведческих изданиях) утверждается, что журнал «Современные записки» выходил с 1920 по 1939 год (С. 22), в то время как последний, 70-й номер журнала вышел в 1940 году. Нина Берберова не могла выехать из Советской России в Берлин «вместе с мужем поэтом Ходасевичем» (С. 109, кстати, запятая перед «поэтом» потеряна не мной!): на тот момент Ходасевич был женат на А.И. Чулковой (по первому браку – Гренцион), так что в лучшем случае его можно было назвать гражданским мужем Берберовой. Владимир Набоков закончил свой первый англоязычный роман не в 1938 году (С. 402), а в январе 1939-го. Наконец, год рождения Георгия Адамовича – 1892-й, а не 1894-й (С. 29).
Вообще Адамовичу особенно не повезло в «Возвращенном мире»: на первой вклейке с иллюстрациями под фотографией Ю.И. Айхенвальда красуется подпись: «Г. В. Адамович», а на следующей странице под изображением Адамовича, соответственно, – «Ю.И. Айхенвальд».
Впрочем, подобного рода ляпы выскакивают буквально с первой страницы «антологии», в которой вовсе не 752 страницы, как указано на обороте титульного листа, а 702. Дальше – больше: «Варшавский дебютировал рассказом “Шум шаров Франсуа Вийона”» (С. 157, «шаров» вместо «шагов»!). А как вам кощунственное «Главнокомандующий вооруженными Сипами на юге России» (С. 196, это они так барона Врангеля!) или главный герой набоковского романа «Машенька» «Ранин» (С. 104)?
В предисловии к этой увеселительной книжке заявляется, что она «без преувеличения, дает уникальную возможность познать тот великий вклад, который внесла первая российская эмиграция в сфере науки, искусства и литературы в мировую цивилизацию» (С. 5). Ознакомившись с «антологией», я так и не понял: на какого дремучего невежу она рассчитана и в чем заключается «уникальность» предоставленной мне возможности? Любой мало-мальски заинтересованный читатель уже давно мог в полном объеме ознакомиться с текстами, куце представленными на страницах «Возвращенного мира»; за редчайшим исключением все они неоднократно издавались в нашей стране. Чаще всего компиляторы «Возвращенного мира» паразитируют на двухтомнике «Библиотека русской критики. Критика русского зарубежья» (М.: АСТ, Олимп, 2002) и составленной В. Крейдом антологии «Вернуться в Россию – стихами» (М., 1995), причем в выходных данных упрямо не указывают номера томов, откуда выдраны те или иные статьи, а название крейдовской антологии то и дело переиначивают: сначала пишут «В Россию – стихами» (С. 244), а затем предлагают еще более усеченный вариант «Вернуться стихами» (С. 335, 366, 407).
Просветители из «Московского Дома соотечественники», под эгидой которого выпущена эта бездарная и никому не нужная компиляция, опоздали со своей затеей лет эдак на пятнадцать. Правда, и тогда, в эпоху эфемерных издательств-однодневок, «Возвращенный мир» побил бы все мыслимые рекорды издательской халтуры.
Вопросы литературы. 2005. Вып. 5 (сентябрь–октябрь). С. 374–375.
ЦЕНТОН
Самое интересное в этой книге319 – цитаты. А цитат здесь много – едва ли не две трети от общего объема книги, жанр которой, кстати, даже не обозначен: перед нами – то ли научная монография, то ли учебное пособие для студентов, то ли разбухший от цитат реферат.
Авторский текст по большей части играет роль, как выразился бы Набоков, «межцитатных мостиков» или, если хотите, прокладок между цитатными блоками. Прокладки эти весьма однообразны и почти всегда строятся по схеме «имярек считает / полагает / отмечает, что…». Далее громоздятся цитаты – анализом и интерпретацией цитируемого материала автор себя, как правило, не утруждает: «М.Л. Гофман полагает, что хотя Карамзин…» (С. 57); «Кн. Д. Святополк-Мирский сожалеет, что…» (С. 56); «В статье Е. Ляцкого “Пушкиноведение в России” обращается внимание на то, что…» (С. 62); «А. Изюмов в статье “Пушкин и декабристы” выдвигает мысль о том, что…» (С. 65); «Б. Зайцев считает, что…» (С. 67); «Д. Мережковский печатает свою статью “Федор Михайлович Достоевский”, где отмечает, что…» (С. 74); «Е. Аничков, касаясь вопроса об отсутствии положительного учения у Достоевского, с глубоким отчаянием отмечает, что…» (С. 74); «Ю. Айхенвальд замечает, что…» (С. 74); «Ю. Айхенвальд отметил, что Некрасов…» (С. 88); «Критик отмечает, что…» (С. 88); «Критик полагает, что…» (С. 88); «В выступлении И. Гессена отмечалось, что…» (С. 98); «А. Ященко видит уникальность Толстого в том, что…» (С. 99); «М. Алданов отмечал, что…» (С. 104); «Из учения Толстого Ильин делает вывод, что…» (С. 106).
Примеры взяты лишь из одной главы, «Русская классическая литература в критике русского Берлина», в которой излагается содержание газетно-журнальных статей о русских писателях, от протопопа Аввакума до Чехова. В других главах, во многом повторяющих композицию и содержание четвертого тома «Литературной энциклопедии Русского зарубежья 1918–1940»320, хлипкие «межцитатные мостики» В.В. Сорокиной столь же удручающе однообразны, а цитатные потоки низвергаются на читателей столь же бурно: «Вследствие своих рассуждений критик приходит к выводу, что…» (С. 112); «…критик вынужден признать, что…» (С. 112); «Н. Ашукин полагает, “чтобы понять и верно оценить то или иное произведение литературы, нужно стать на точку зрении автора…”» (С. 113); «Е. Лундберг пришел к выводу, что…» (С. 113); «М. Слониму представляется совершенно очевидным, что…» (С. 115); «Ф. Иванов отмечает, что…» (С. 118); «А. Толстой в статье “О новой русской литературе” обращает внимание на то, что…» (С. 119); «Критик полагает, что…» (С. 120) и т.д.
Довольствуясь изложением чужих мыслей, В.В. Сорокина так стремительно перепрыгивает от темы к теме, от статьи к статье, так дробно, словно заправский клипмейкер, монтирует цитаты из берлинской периодики двадцатых годов, что у читателей начинает рябить в глазах. Но когда она выбирается из накатанной стилистической колеи – «имярек считает/полагает/отмечает, что…» – и пытается самостоятельно, без цитат и пересказов, сформулировать мысль, получается еще хуже – либо коряво по форме, либо мутно по содержанию, либо… то и другое. Что-нибудь в таком духе: «…литературная критика (здесь и далее курсив мой. – Н.М.) зарубежья является также наследницей русской критики ХIХ в. с ее обращением к конкретному читателю и желанием оказывать на него воздействие, формировать общественно-политическую позицию, с необходимостью учитывать и специфику европейской литературной жизни, которая повлияла на повышение интереса критики (круг замкнулся. – Н.М.) к психологии и биографии писателей» (С. 8); «Предметом особого внимания Айхенвальда был его собственный литературный стиль, складывающийся из особой организации текста своих очерков, которая постоянно менялась в зависимости от идейного и эмоционального содержания» (С. 32); «Таким образом, пушкиноведение, начиная с “берлинского” периода постепенно из строго академического превращалось в общедоступное, изложенное простым и чистым языком…» (С. 68); «И всё же главным вниманием берлинской критики была русская литература ХIХ века» (С. 57); «Драматическое движение литературной критики русского зарубежья становится самстоятельной (так! – Н.М.) отраслью историко-литературного знания» (С. 230); «В Берлине пришлось отказаться от строго научного литературоведения в вопросах классической литератур» (ей-богу, так! – Н.М.) (С. 230).
Но стилистические ляпы и опечатки (коих немало) – это полбеды. Куда важнее, на мой взгляд, концептуальный изъян книги. Опорное понятие – «литературная критика русского Берлина» – трактуется в ней предельно (хочется написать – беспредельно) широко. Знакомя читателей с литературной критикой русского Берлина, автор щедро цитирует и пересказывает не только критические статьи, литературные обзоры и рецензии, но и мемуарные очерки, некрологи, архивные публикации вроде публикаций писем И.С. Тургенева, «справочно-библиографические сведения» (С. 109), юбилейные заметки, работы по поэтике, стиховедению и текстологии (в частности, статью «Пятистопный ямб Пушкина» Б.В. Томашевского из сборника «Очерки по поэтике Пушкина» (Берлин, 1923) или «скрупулезное исследование» Г.М. Бараца «О составителях “Повести временных лет” и ее источниках, преимущественно еврейских»), а также «репортажи с юбилеев, хроники праздничных мероприятий и выставок и речи общественных и культурных деятелей диаспоры» (С. 98) – в общем, все мыслимые газетно-журнальные жанры, к критике, строго говоря, не относящиеся.
Мешая в одну кучу публицистику и мемуаристику, литературоведение и литературную критику, В.В. Сорокина размывает базовое понятие и, отклоняясь от заявленной темы, производит подмену: вместо критики ведет речь о печати русского Берлина в целом, без различия жанров и стилевых регистров (а порой и нарушая обозначенные в заглавии пространственно-временные границы).
Весьма показательна здесь вторая глава, «Русская классическая литература в критике русского Берлина». Повествуя о восприятии творческого наследия русских классиков, В.В. Сорокина на одном дыхании цитирует и пересказывает тексты, как написанные в двадцатых годах в Берлине, так и изданные в России до и после революции. Заходит речь о Ф.М. Достоевском – В.В. Сорокина обращается к литературно-философскому этюду Розанова «Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» (1891) – при этом она каждый раз дает неполное название, отсекая «Ф.М. Достоевского» (С. 72, 76–77), – и к двум дореволюционным работам Льва Шестова: «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» (1900) и «Достоевский и Ницше» (1903); в связи с юбилеем Н.А. Некрасова автор «Литературной критики русского Берлина» не может не процитировать знаменитую анкету Чуковского «Некрасов и мы», опубликованную в петроградской «Летописи дома литераторов», а затем перепечатанную в берлинском «Руле»; среди публикаций о Л.Н. Толстом в одном ряду с «Силуэтами русских писателей» Ю. Айхенвальда упоминаются и цитируются: рецензии Ю. Офросимова на театральные постановки «Живого трупа» и «Власти тьмы» (пусть и театральная, но все же критика!), «беллетризованный эскиз жизни писателя в Ясной Поляне» А. Дроздова, стихотворение В. Сирина «Толстой», а также опубликованные в русскоязычной берлинской периодике «отзывы западноевропейских писателей и критиков» (С. 103), причем не только немцев, которых хоть как-то можно привязать к русскому Берлину – Г. Гауптмана, С. Цвейга, Т. Манна, – но и французского театроведа А. Пакэ.
Если во второй главе В.В. Сорокина группирует газетно-журнальный материал вокруг русских писателей ХVIII–ХIХ веков – Радищева, Державина, Карамзина, Жуковского, Грибоедова, Баратынского, Пушкина, Тютчева, Тургенева, Островского (примечательно, что драматург награждается инициалами Н.А. (С. 94)), Достоевского, Толстого, Чехова, – то в четвертой главе, «Западноевропейская литература глазами берлинской критики», «среди разножанрового потока публикаций о западноевропейской литературе» в первую очередь выделяет публикации, посвященные Шекспиру, Лессингу, Гёте, Клейсту, Мериме, Гофману, Байрону, Гейне, Уайльду (которого несколько раз зачем-то величает «Уальдом»), Мопассану – авторам, которых едва ли можно считать активными действующими лицами литературного процесса 1920-х годов.
По сути, непосредственное отношение к заявленной теме имеет лишь половина четвертой главы, где речь идет о восприятии европейских писателей ХХ века (Рильке, Франса, Роллана, Шоу), и третья глава, «Проблемы и темы современного русского литературного процесса в освещении берлинской критики», в которой не только излагаются и цитируются статьи, посвященные творчеству тех или иных эмигрантских и советских авторов, но и делается робкая попытка проанализировать ряд существенных вопросов, поднимавшихся в берлинской периодике 1920-х годов: суть и предназначение литературной критики в условиях эмиграции, граница между классикой и современностью, взаимоотношения между двумя потоками русской литературы, между метрополией и эмиграцией. Правда, и здесь В.В. Сорокина верна своей реферативно-цитатной манере и продолжает заваливать читателя глыбами цитат. Порой она пытается высечь из них искры осмысленных выводов, но, увы, как правило, ее умозаключения неубедительны либо просто-напросто звучат банально.
«В Берлине был сделан важный прорыв по включению русской классики в контекст европейской литературы. Переводы на европейские языки и популяризация их творчества (так у автора. – Н.М.) были не только надежным куском хлеба для литераторов, но и возможностью познакомить европейцев с русской литературой и культурой» (С. 231), – утверждает В.В. Сорокина. Но разве не занималась этим же «включением» русская критика на протяжении всего своего существования? И как могли повлиять на европейцев, на их восприятие русской литературы статьи, появлявшиеся в русскоязычных изданиях Берлина?
И к чему это надуманное противопоставление критики русского Берлина Парижу, которое дается в «Заключении»? По мнению В.В. Сорокиной, «ядро критики в Париже составляла деятельность “толстых” журналов, с их неспешным темпом и внушительной объемностью материала», а «в Берлине центр литературно-критической мысли располагался в ежедневных газетах “Руль” и “Дни”» (С. 230). Да, в Париже, не в пример Берлину, выходило гораздо больше журналов, где были сильные критико-библиографические разделы (взять хотя бы «Современные записки» – самый внушительный и самый долговечный из «толстых» журналов эмиграции – или эстетские «Числа»), но не меньшую роль играли и газеты, особенно «Возрождение» и «Последние новости»; во второй половине тридцатых годов, когда «толстяки», словно динозавры, стали вымирать, и даже «Современные записки» выходили по два-три номера в год, именно там находились главные литературно-критические площадки зарубежья, где выступали лучшие критики русского Парижа: Г.В. Адамович, В.Ф. Ходасевич, З.Н. Гиппиус, В. В. Вейдле, М.А. Осоргин, Ю.В. Мандельштам.
Отсутствие именного указателя – еще один немаловажный минус этой перенасыщенной именами и цитатами книги, напечатанной «по постановлению редакционно-издательского совета филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова» – при благодушном попустительстве аж трех рецензентов-профессоров (доктора культурологии и двух докторов филологических наук, чьи имена не называю из присущей мне деликатности). Вместо указателя нам предлагается странный раздел «Персоналии», в котором даются биобиблиографические справки избранным, шибко избранным литераторам, упомянутым в книге (разумеется, без привязок имен к страницам). Справки эти составлены весьма прихотливо: биографические сведения даются выборочно, а некоторые определения так и вовсе бросают в оторопь. Например, отец знаменитого писателя, Владимир Дмитриевич Набоков, определяется как… энтомолог (!), а уж затем как политический деятель, юрист, публицист (С. 310); русско-немецкий критик, литературовед и переводчик Артур Лютер аттестуется как «бывший профессор Московских женских курсов» (С. 307) и лишается отчества (Федорович).
О хорошо известных авторах вроде Георгия Адамовича, Андрея Белого, Михаила Булгакова или Саши Черного (который в основном тексте именуется то как С. Черный, то как А. Черный) пишется пространно – на полстраницы и даже больше; о малоизвестных же фигурах – гораздо меньше, иногда даже без расшифровки инициалов, без указания дат рождения и смерти, например: «Быков П.В., журналист, сотрудник “Нивы”» (С. 294). О ком идет речь? Скорее всего, о Петре Васильевиче Быкове (1844–1930), поэте, прозаике, историке литературы, библиографе, о котором имеется весьма содержательная статья в словаре «Русские писатели. 1800–1917» (М., 1989. Т. 1. С. 381–382). В пятом томе этого же словаря можно было найти даты рождения и смерти прозаика Н.Н. Русова, а заодно уж узнать, что отец критика Д.П. Святополк-Мирского был не министром просвещения (С. 315), а министром внутренних дел.
Из столь же легкодоступных изданий В.В. Сорокина могла бы почерпнуть информацию о других лицах, обделенных в ее «Персоналиях», хотя бы даты жизни и смерти Августы Филипповны Даманской (1875–1959), Артура Федоровича Лютера (1876–1955), Бориса Семеновича Оречкина (1888–1943), Евгения Васильевича Спекторского (1875–1951) и «А. Савельева»: для мало-мальски квалифицированного специалиста по литературе русского зарубежья не секрет, что это псевдоним Савелия Григорьевича Шермана (1894–1948), так же как и то, что «Леонид Чацкий» – псевдоним поэта, одного из соучредителей берлинского Братства Круглого стола Леонида Ивановича Страховского (1898–1963).
Честное слово, я не люблю играть в игры деда-буквоеда, коими часто изводят авторов придирчивые рецензенты. Однако рецензируемое издание, рассчитанное «на специалистов по истории русского зарубежья, истории критики, студентов-филологов», бьет все мыслимые рекорды по количеству логических неувязок, фактических ошибок и стилистических корявостей.
Не стал бы я рекомендовать студентам-филологам опус В.В. Сорокиной, этот гигантский, неряшливо скроенный центон. Ну а специалистам по истории русского зарубежья и русской критики, увы, нередко приходится читать и не такое…
Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2012. Вып. 3. С. 606–610.
II. О ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЯХ
ИВЛИН ВО, СВЯЩЕННОЕ ЧУДОВИЩЕ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Ивлин Во (1903–1966) – из тех классиков, чьи произведения читаешь и, что еще важнее, перечитываешь не ради «галочки», не ради престижа и суетного желания щегольнуть эрудицией перед знакомыми, а ради чистого и беспримесного «удовольствия от текста». Наслаждаясь изысканно-ясным стилем (недаром же Во считается одним из величайших английских стилистов ХХ века), подчиняясь безупречно выверенному повествовательному ритму, смакуя гремучую смесь черного юмора и ядовитой сатиры, мы вновь и вновь самозабвенно погружаемся в неповторимый художественный мир, созданный великим мастером: хаотичный, жестокий и в то же время уморительно смешной мир, который, с одной стороны, обладает антикварным очарованием канувшей в небытие эпохи, а с другой – до боли узнаваем в своих мельчайших деталях и по сей день сохраняет обжигающую злободневность. Возможно, потому, что главными темами писателя были такие универсальные категории, как человеческая пошлость, алчность и варварство – во всех их многообразных проявлениях и ипостасях.
За многие десятилетия яд сатиры Ивлина Во не выдохся. Более того, в наши безалаберные буржуазно-демократические времена его произведения, несмотря на свой британский колорит, стали гораздо ближе и понятнее нам, чем раньше, в советскую эру, когда подавались под идеологическим соусом как разоблачение «загнивающего Запада» в целом и «буржуазной Англии» в частности. Многое из того, что было предметом язвительного осмеяния в творчестве Во, могло казаться диковинкой, принадлежностью загадочного Зазеркалья, таящегося за заповедной чертой. Переступив ее, мы сами оказались в Зазеркалье; его пугающие и манящие реалии сделались неотъемлемой частью сумбурной постсоветской действительности: дорогостоящие частные школы, с кондачка организованные велеречивыми пройдохами; таблоиды, дразнящие убогое воображение обывателей сведениями о шикарной жизни бомонда; беспринципные журналисты, жадные до шумных сенсаций и эффектных разоблачений; темные дельцы, умело прибирающие к рукам политиков и «прихватизирующие» целые страны; бестолковые реформаторы, в горячке скоропалительных «перестроек» сокрушающие чахлые организмы своих государств, и т.д. и т.п. Более того, некоторые сатирические герои Во воспринимаются теперь как злые карикатуры на всем известных российских государственных мужей эпохи горбачевской перестройки и ельцинского дикого капитализма.
Шарж Виктора Вейза
Разумеется, проза Ивлина Во сохраняет привлекательность для российского читателя не только благодаря щекочущим аналогиям, узнаваемости социальных типов и хирургической точности, с какой препарируются всевозможные общественные уродства и безобразия.
Терпкое вино своей сатиры писатель вливал в отнюдь не ветхие мехи одной из самых привлекательных разновидностей романного жанра – авантюрно-плутовского романа с его строгой кольцевой композицией, чередой нелепых случайностей, недоразумений (квипрокво), курьезных происшествий и неожиданных развязок, резко выписанными картинами нравов и паноптикумом колоритных персонажей, воплощающих общечеловеческие пороки (которые, как мы понимаем, практически не зависят от национальности или социально-политических систем).
Именно в этом ключе выдержан дебютный роман Ивлина Во «Упадок и разрушение» (1928), обративший на начинающего автора благосклонное внимание публики. В нем была задана базовая сюжетная схема, которая варьируется в большинстве довоенных произведений писателя: простодушного, не искушенного в жизни молодого человека внезапно подхватывает вихрь головокружительных приключений; после целого ряда забавных авантюр и трагифарсовых ситуаций он так же неожиданно возвращается в исходное положение, приобретя горький жизненный опыт и осознав жестокие законы абсурдного мира.
К концу повествования главный герой, скромный студент Оксфорда, изучавший богословие, убеждается, что «общепринятый кодекс чести, которым руководствуется любой британец, <…> разъедает червоточина», что традиционные этические ценности и высокие идеалы, вычитанные из книг, не выдерживают соприкосновения с некнижной реальностью. Случайная жертва разбушевавшихся великосветских оболтусов из привилегированного Боллинджер-клуба (прямо посреди улицы они стащили с него штаны), Поль Пеннифезер с позором выгоняется из колледжа «за непристойное поведение», так как не способен заплатить штраф; опекун, даже не удосужившись выслушать объяснения, лишает его денежного содержания (и прикарманивает деньги себе); образцовая закрытая школа для мальчиков, куда Поль устраивается преподавателем, основана, как утверждает ее директор, «на идеалах товарищества и служения общественному благу», но на самом деле оказывается убогим заведением (в духе диккенсовских школ из «Дэвида Копперфильда» и «Николаса Никльби»), где в качестве педагогов подвизаются невежественные неудачники. Побывав в роли школьного учителя, Поль становится репетитором одного из учеников и влюбляется в его мать, светскую львицу, овдовевшую при загадочных обстоятельствах. Любвеобильная дама вроде бы отвечает ему взаимностью и дает согласие на брак. Что не мешает ей впутать наивного простака в свои махинации (она содержит сеть подпольных борделей в Южной Америке и поставляет туда «белых рабынь», завербованных в Англии), а затем, когда буквально накануне свадьбы тот попадает в тюрьму, завести себе любовника и для полноты счастья выйти замуж за влиятельного политика…
И хотя в конце концов Полю удается выбраться из тюрьмы и даже вновь поступить в Оксфорд, на тот же факультет богословия, прежний миропорядок навсегда оказывается поколеблен – и в глазах самого протагониста, и в глазах автора, вовсе не случайно назвавшего свой роман в оглядке на классический труд Эдуарда Гиббона «Упадок и разрушение Римской империи» (1776–1788).
***
Как и Поль Пеннифизер, как и главные герои других романов (как правило, это не приспособленные к жизни «маленькие люди», беспомощные жертвы обстоятельств или энергичных негодяев, лишь пассивно противостоящие окружающему их злу), Ивлин Во, безусловно, осознавал себя очевидцем «упадка и разрушения» Британской империи: не столько ее политической и экономической мощи (для этого понадобилась Вторая мировая война), сколько скрепляющих ее духовных и нравственных ценностей.
К моменту издания романа он, младший сын известного критика и издателя Артура Во, окончил Хартфордский колледж Оксфорда, а до этого – закрытую школу для мальчиков в Лэнсинге, о которой оставил весьма нелицеприятные воспоминания. «Уровень нашего общего развития был таков, что разве что позволял решать кроссворды в “Таймс”»321, – утверждал Во в незаконченных мемуарах, красноречиво озаглавленных «Недоучка» (1964). Там же он цитирует свою юношескую статью, опубликованную накануне выпуска из Лэнсинга и поступления в Оксфорд. В этой, на мой взгляд, весьма любопытной статье, которую пожилой мемуарист назвал «абсурдным манифестом разочаровавшегося», юный Во писал о своем поколении, представители которого, вступая в жизнь, «будут смотреть на себя, возможно, с большей самовлюбленностью, нежели молодые люди девяностых годов, но одновременно и с циничной усмешкой», поскольку «старики оставили им странный мир, полный фальши, и у них будет мало идеалов и иллюзий, которые бы утешили их»322.
Неудивительно, что «странный мир», полный фальши и обесцененных идеалов, вызвал у Ивлина Во циничную усмешку, желание забыться в кутежах, попойках и экстравагантных выходках, вроде лая под окнами декана колледжа, спьяну заподозренного в зоофилии. Именно этим увеселениям отдавал предпочтение будущий классик английской литературы, в свои оксфордские годы вспоминавший об учебе изредка, как правило накануне экзаменов. Пренебрегая лекциями, немало времени он посвящал творчеству: исправно поставлял в студенческий журнал «Оксфордская метла» рассказы и очерки, а также снабжал это и другие издания рисунками, карикатурами, экслибрисами, виньетками. Основатель «Метлы», предводитель оксфордских эстетов, космополит, признанный законодатель мод Гарольд Эктон (отчасти ставший прообразом для Антони Бланша из «Возвращения в Брайдсхед») в своих «Мемуарах эстета» изображает юного Во «фавном, наполовину укрощенным в Средневековье, который, бывало, месяцами скрывался в некоем пригородном убежище, а потом внезапно появлялся <…> и откалывал забавные номера»323. Другой приятель Во, писатель и критик Питер Куиннел, долго еще помнил об одном из «забавных номеров», когда ночью стены баллиолского колледжа дрожали от громовых восклицаний подвыпившего Ивлина: «Декан Баллиола трахается с мужиками! Декан Баллиола трахается с мужиками!!!»324
О подобной же выходке с ужасом вспоминал и старший брат Ивлина, Алек Во. Изрядно набравшись во время одной из лондонских вечеринок и прозевав последний поезд до Оксфорда, Ивлин в поисках ночлега завалился в дом, где Алек снимал комнату. Шествуя по коридору, бесшабашный ночной гуляка останавливался перед каждой дверью и орал: «Здесь спит лысый развратник?!» На следующий день хозяин дома попросил Алека поискать себе жилье в другом месте325.
Развеселая студенческая жизнь, позже с ностальгией описанная в одном из лучших романов писателя, «Возвращение в Брайдсхед», завершилась печально: в 1924 году обремененный долгами «гуляка праздный» покинул Оксфорд с позорным дипломом третьей степени. Бесславно окончились и занятия живописью в Школе искусств Хартли. Продолжая по инерции вести разгульный образ жизни (и все глубже залезая в долги), тратя время, здоровье и силы «на какие-то неописуемые сборища, по большей части превращавшиеся в пирушки <…> в разных районах Лондона», Ивлин Во, как он сам вспоминал, «был неспособен воспринимать то, что нам преподавали»326.
Пытаясь разделаться с долгами и хоть как-то заработать на жизнь, Во устраивается преподавателем в закрытую школу для мальчиков (ставшую прообразом лланабской школы в «Упадке и разрушении»). Затем, когда его увольняют за пьянство, на короткое время становится репортером «Дейли экспресс» и всерьез подумывает о карьере дизайнера по мебели: к тому времени он обручился с Ивлин Гарднер, младшей дочерью лорда Бергклера, и лихорадочно искал средства к существованию.
К счастью для английской, да и мировой литературы, мебельщика из Ивлина Во не получилось: в поисках заработка он обратился к писательству. После нескольких рассказов, опубликованных в различных журналах и антологиях, он опубликовал биографию знаменитого поэта и живописца Данте Габриэля Россетти; за ней последовал роман «Упадок и разрушение», успех которого превратил «недоучку» и неудачника в одного из самых заметных английских прозаиков первой половины ХХ столетия.
Сатирическое блюдо, приготовленное молодым писателем, оказалось слишком острым для некоторых читателей, вспоенных на молочке благопристойной викторианской литературы: тут вам и торговля живым товаром, и преподаватели, пьющие горькую и вступающие в гомосексуальные связи с учениками, и продажные чиновники, и крушение веры в Бога… И обо всем этом автор пишет в холодновато-отстраненной, иронично-насмешливой манере, избегая прямолинейного морализаторства. Стоит ли удивляться, что благонамеренные редактора издательства «Дакворт», куда сначала обратился Во, с негодованием отвергли роман из-за его «непристойности». (Особенно их возмутил эпизод из «Прелюдии», когда бедняга Пеннифезер бежит по двору колледжа без штанов, – верх неприличия!)
Зато критики, в том числе и влиятельный литератор Арнольд Беннет, с энтузиазмом приветствовали появление на литературном небосклоне писателя, своей «бескомпромиссной и восхитительно злой сатирой» достойно продолжившего традиции английского комического романа, традиции Свифта, Смоллета, Диккенса и Теккерея.
***
Следующий роман, «Мерзкая плоть» (1930), в полной мере оправдал те авансы, которые начинающий автор получил от критиков. В новом сатирическом шедевре Ивлина Во зло высмеивались знакомые ему не понаслышке «яркие молодые штучки», ведущие вызывающе паразитический образ жизни и растрачивающие себя в бесконечных вечеринках и попойках. Досталось от автора и желтой прессе, которая взахлеб живописует сладкую жизнь богатых бездельников, оболванивая читателей высосанными из пальца сплетнями и сенсациями.
Как и в предыдущем романе (откуда перекочевали некоторые персонажи), в «Мерзкой плоти» перед нами разворачивается гротескная вселенная, живущая по законам парадокса, игры случая и веселого абсурда; в ней господствует буффонада, комическая эксцентрика. Если в «Упадке и разрушении» послевоенная европейская жизнь представала в образе бешено вертящейся карусели, то здесь она изображалась в виде суматошной толчеи аляповатых марионеток и идиотских автомобильных гонок по заколдованному кругу, из которого невозможно вырваться даже при большом желании.
Персонажи, населяющие роман, – в большинстве своем откровенно фарсовые и карикатурные; они не отягощены дотошным психологическим анализом и избавлены от нудных потоков сознания и подсознания (наподобие тех, которыми мучают читателей писатели-модернисты Джеймс Джойс и Вирджиния Вулф). Многие из них, как в комедии классицизма, наделены говорящими именами и фамилиями, например мисс Рансибл (Runcible, англ. – летящая сломя голову); их портреты эскизны, намечены несколькими выразительными мазками; характеры раскрываются в многочисленных диалогах, которые являются главным структурообразующим элементом повествования.
Представляя собой пестрый калейдоскоп курьезных ситуаций и алогичных поступков, роман построен по закону кинофарса. Вообще повествовательная манера «раннего Во», окончательно сложившаяся в «Мерзкой плоти», насквозь кинематографична. И этот, и последующие романы тридцатых годов построены по принципу монтажа небольших сценических эпизодов и комичных, живых диалогов, чередующихся с головокружительной лихостью и быстротой. Скупые пейзажные зарисовки и описания интерьеров напоминают сценарные ремарки. Авторская перспектива подвижна, вместе с ней мы то и дело переносимся из одного места действия в другое, не имея фиксированного центра восприятия и оценки, не замыкаясь в рамках сознания кого-либо из действующих лиц.
С некоторой натяжкой главным героем романа можно назвать начинающего писателя Адама Фенвик-Саймза, которому автор подарил кое-что из своей биографии. Как и самому Во, Адаму катастрофически не хватает денег на женитьбу. После того как туповатые британские таможенники конфискуют рукопись его романа – «чистейшая порнография, мы ее незамедлительно сожжем», – он вынужден вести светскую колонку в газете, причем, насыщая аппетиты «глотателей пустот» все более и более фантастическими сообщениями о жизни вымышленных им же знаменитостей, вскоре с удивлением обнаруживает, что выдуманные персонажи обретают призрачное бытие и начинают влиять на моду и образ жизни читателей. В конце повествования аморальный и абсурдный мир, в котором традиционная мораль не имеет ни малейшей цены и значимы лишь модные мнимости, наносит ему жестокий удар: его легкомысленная невеста Нина выходит замуж за другого.
Похожая история случилась и с автором «Мерзкой плоти»: в то время как он, уединившись, дописывал роман, его жена Ивлин Гарднер изменила ему с их общим знакомым. Попытка примирения не удалась, и скоротечный брак распался. По мнению биографов и наиболее близких друзей Ивлина Во, измена жены нанесла ему психологическую травму, изжить которую он не смог до конца своих дней. Отныне сюжетный мотив супружеской неверности звучит едва ли не в каждом втором его произведении (наиболее явственно – в трагикомическом рассказе «Любовь на излете», а также в романах «Пригоршня праха», «Не жалейте флагов», «Меч почета»).
Оказавшись в эмоциональном вакууме, писатель предпринял отчаянную попытку найти точку опоры. В год выхода «Мерзкой плоти» и разрыва с женой Ивлин Во, этот циничный насмешник, со студенческих лет склонявшийся к атеизму, неожиданно для всех обратился в католичество, сделав, как он выразился в одной из статей, «выбор между христианством и хаосом», в который, по его мнению, все безнадежнее погружался послевоенный мир. Не случайно в финале «Мерзкой плоти» разражается очередная военная катастрофа, а в последующих романах Во все большую роль играет мотив бессмысленно-жестокого варварства, носителями которого зачастую выступают представители духовно вырождающейся западной цивилизации.
***
Этот мотив доминирует в двух лучших довоенных романах Во, «Черная напасть» (1932) и «Пригоршня праха» (1934).
В «Черной напасти», произведении, отразившем впечатления Во от путешествия в Эфиопию, в убийственно комическом свете представлены поборники скоропалительных реформ, противоречащих исконному жизненному укладу страны и национальному менталитету. Главной движущей силой сюжетного действия является император вымышленной африканской страны Азания. Наивный поклонник прогресса, свято уверовавший, что введение утренней гимнастики, противозачаточных средств, вакцинации, женской эмансипации и других благ западной цивилизации в мгновение ока превратит его отсталую державу в преуспевающее государство, император Сет тщетно пытается обратить своих невежественных подданных в законопослушных граждан, строителей светлого капиталистического будущего. На роль главного реформатора он выбирает своего однокашника по Оксфорду, обаятельного лондонского повесу Бэзила Сила, олицетворяющего для него аристократический шик и утонченность европейской культуры. Став «министром модернизации» и активно внедряя «прогрессивные веяния» в жизнь злополучной Азании (то есть разворовывая всё, что еще можно было урвать), Бэзил Сил, этот литературный кузен нашего Великого комбинатора и потомок неунывающих героев плутовских романов, в самое короткое время доводит страну до полного краха.
Парадокс, но к концу романа мы приходим к выводу, что истинным воплощением варварства и анархии выступает не доктринер Сет и диковатые азанийцы, делающие из телеграфных проводов женские украшения и наконечники для стрел из рельсов единственной в стране железной дороги, а Бэзил Сил и ему подобные «цивилизаторы», нерадивые потомки строителей Британской империи, которых некогда воспевал Киплинг.
Имперская идея «бремени белого человека» развенчивается писателем столь же беспощадно, сколь и реформаторские амбиции Сета. Наиболее ярко тип измельчавшего колонизатора-бюрократа воплощен в гротескном образе придурковатого сэра Самсона Кортни, британского посла в Азании. «Неполномочный», как его ехидно величают сослуживцы, не способен не то что разобраться в хитросплетениях внутренней политики этой страны, но и запомнить имена азанийских государственных деятелей и своих коллег по дипломатическому корпусу. Своим прямым обязанностям он предпочитает вязание и младенческие забавы в ванной с резиновым змеем: «Неполномочный сел в ванну, бросил змея в воду, поймал его ногами. Схватил за хвост и, вспенив воду, стал возить его взад-вперед, изображая корабль в бурном море. Потом сел змею на голову, и тот, хвостом вперед, выпрыгнул у него между ног на поверхность воды; после этого сэр Самсон выпустил из змея немного воздуха, и по воде пошли пузырьки. С таких развлечений обычно начинался день посла, и его настроение во многом зависело от того, хорошо ли он наигрался утром…»
В романе «Пригоршня праха», который считается высшим достижением писателя, Во продолжает исследовать всевозможные «разновидности варварства у себя на родине и того беспомощного положения, в котором находится там цивилизованный человек»327. Главная тема произведения, как схематично сформулировал ее сам автор в письме одному из приятелей, – «готический человек в руках варваров»328. Для консерватора и традиционалиста, каким был Ивлин Во, готика являла собой квинтэссенцию европейской культуры и незыблемых христианских ценностей (недаром в одном из поздних интервью он заявил, что «был бы счастлив… в тринадцатом веке»329 – времени расцвета готического стиля).
Отчасти роман продолжал линию, начатую в «Упадке и разрушении». Узнаваем главный сюжетный конфликт. Подобно Полю Пеннифезеру, главный герой романа – мечтатель и романтик Тони Ласт (Last – еще одна говорящая фамилия!), спрятавшийся от городской суеты в идиллическом поместье Хеттон, становится жертвой порочного и бездуховного мира, в котором романтические идеалы и христианские добродетели – супружеская верность, умеренность, порядочность – считаются нелепым анахронизмом (вроде монументального псевдоготического особняка, на чье содержание Тони, к негодованию жены, тратит едва ли не все свои средства). Олицетворением алчного варварства, вторгающегося в пасторальный мирок Тони Ласта, является не только зловещая фигура мамаши Бивер (циничной сводни и перекупщицы), но и Бренда, изменница-жена, от скуки затеявшая любовную интрижку с откровенным ничтожеством, светским бездельником Джоном Бивером, а затем, когда дело дошло до развода, попытавшаяся лишить Тони его поместья. Столкнувшись с предательством любимого человека, наивный идеалист Тони, воображавший себя средневековым лендлордом, центром гармонично упорядоченной вселенной, с ужасом осознает, что его убежище обратилось в «пригоршню праха», что он живет в мире, лишившемся порядка, что «разумное и достойное положение вещей, весь накопленный им жизненный опыт был всего-навсего безделицей, по ошибке засунутой в дальний угол туалетного столика». Из-за преступного легкомыслия и эгоизма Бренды он теряет всё: любовь, душевное равновесие, а затем и свободу; в стремлении забыть семейные неурядицы он отправляется вместе с научной экспедицией в джунгли Амазонии и там попадает в плен к безумцу, который каждый день заставляет его читать вслух книги Диккенса.
Несмотря на сюжетную и тематическую преемственность с предыдущими работами, «Пригоршня праха» стала поворотным пунктом в творческом развитии писателя. Привечаемый критиками и любимый читателями, Во не хотел повторяться, тиражировать сам себя и намеренно решил отойти от прежней манеры. Переход этот дался не просто: роман, во многом построенный на автобиографическом материале330, продвигался с трудом. В письме к одной из своих знакомых писатель сетовал: «Писать его очень трудно, поскольку я впервые пытаюсь рассказать о нормальных людях, а не чудаках»331.
Новое творческое задание, которое поставил перед собой Во, обусловило трансформацию его художественного метода. Строже стал выдерживаться сюжетный рисунок. Изменилась тональность повествования: важную роль в нем играет трагический мотив «утраченного рая», связанный с символическим образом Дома, который воспринимается как убежище от житейских невзгод, островок гармонии среди анархии и всепоглощающего хаоса. Буффонада и эксцентрика, бушевавшие в прежних романах, уступили место элегической грусти пейзажных зарисовок. Наконец, более объемными, психологически сложными сделались персонажи: от изображения гротескных карикатур, ярко раскрашенных комедийных масок Во переходит к более глубокому и полному раскрытию характеров героев, гораздо чаще, чем раньше, показывает их изнутри, используя внутреннюю речь и даже своего рода драматизированный «поток сознания» (так в конце пятой главы воспроизводятся бредовые видения Тони, напоминающие о фантасмагорическом «Святом Антонии» Флобера и «Цирцее», одном из самых сильных эпизодов джойсовского «Улисса»).
И хотя следующие два романа – блистательная комедия ошибок «Сенсация» (1938), живописующая нравы западной прессы, и «Не жалейте флагов» (1942), бичующий косность и некомпетентность британской военной бюрократии периода «странной войны», – были выдержаны в травестийном, гротескно-фарсовом ключе, un nouveau frisson, заявивший о себе в «Пригоршне праха», во многом определил своеобразие произведения, которое принесло Ивлину Во всемирную известность и которое он считал своей главной книгой (в письмах к друзьям называя его не иначе как «М.О.» – Magnum Opus).
***
Речь идет о романе «Возвращение в Брайдсхед» (1945), написанном в разгар Второй мировой войны, когда «кажущееся прочным, терпеливо выстраивавшееся, великолепно украшенное здание западной цивилизации» в одночасье растаяло, «как ледяной дворец, оставив после себя лишь грязную лужу».
Во время войны писатель предстал «в новом качестве – Во-воителя, идеального солдата, силой оружия охраняющего ценности цивилизации, которые благодаря политикам находятся на грани уничтожения»332. Успешный литератор, имевший связи в высших политических кругах (его приятелем был Рэндольф Черчилль, сын тогдашнего премьер-министра), солидный землевладелец, отец семейства (в 1937 году он женился на Лауре Герберт и поселился в старинном поместье XVI века), Ивлин Во легко мог бы найти тепленькое местечко в тылу (чем и озабочены многие герои «Не жалейте флагов»). Однако он записывается в десантно-диверсионные части, в составе бригады Роберта Лейкока принимает участие в неудачном для англичан набеге на Ливию, а затем вместе с отрядом коммандос в тяжелых арьергардных боях прикрывает беспорядочную эвакуацию британских войск с острова Крит. В 1944-м, благодаря протекции Рэндольфа Черчилля, Во был зачислен в военную миссию и отправлен на Балканы – налаживать взаимодействие с югославскими партизанами.
В промежутке между этими событиями (позже они лягут в основу его последнего художественного произведения – трагикомической эпопеи о войне «Меч почета»), оправляясь от травмы, полученной во время учебного прыжка с парашютом, Ивлин Во принимается за роман, который он позже назвал «поминальной мессой» по довоенной Англии.
Написанный от первого лица, роман «Возвращение в Брайдсхед» является, пожалуй, самым лирическим и исповедально открытым произведением Ивлина Во, наделившего своего рассказчика, Чарльза Райдера, многими автобиографическими чертами: подарившего ему свои лучшие оксфордские воспоминания, страсть к рисованию, любовь к старинной архитектуре и патриархальному укладу загородных поместий, презрение к самодовольной пошлости нуворишей (здесь этот тип представлен в образе напористого и беспринципного дельца Рекса Моттрема). В романе по-прежнему ослепительно ярко блещет комический талант писателя с его умением подмечать житейскую нелепицу и создавать уморительно смешные сцены (чего стоит хотя бы описание домашней войны, которую ведут друг против друга Чарльз и его эгоистичный папаша). Однако в целом повествование, воскрешающее довоенную жизнь Англии, исполнено элегической грусти; в его эмоциональной палитре доминирует ностальгия, светлая печаль об увядшей юношеской дружбе и несостоявшейся любви.
В романе особенно значима тема обретения веры и незыблемости христианских ценностей. Поскольку Во был ревностным католиком и религиозное прозрение его протагониста, на которое намекается в конце произведения, связано именно с католицизмом, некоторые рецензенты упрекали писателя в тенденциозности и заявляли, что он загубил роман католической пропагандой.
Громче всех подобные обвинения (на мой взгляд, необоснованные) прозвучали в рецензии влиятельного американского критика Эдмунда Уилсона: похвалив первую, «оксфордскую» часть, в целом он расценил роман как «католический памфлет»333 и особенно раскритиковал финал – ту сцену, где умирающий лорд Марчмейн, когда-то порвавший с католицизмом, осеняет себя крестным знамением. Впрочем, в конце своей уксусной статьи критик предсказал, что «Возвращение в Брайдсхед», в отличие от довоенных сатирических романов, которым он отдавал предпочтение, станет в Америке бестселлером.
Так и случилось. Роман покорил огромную читательскую аудиторию (только в Соединенных Штатах за год было продано три четверти миллиона экземпляров) и вознес литературную репутацию писателя на невиданную высоту. На страницах популярного журнала «Лайф» Во выступил с программным эссе, в котором, отвечая на вопросы многочисленных поклонников «Возвращения в Брайдсхед» и полемизируя с его противниками, сформулировал свое творческое кредо: «Мистера Уилсона раздражает мой роман, в котором он уловил присутствие Бога. Увы, у моих будущих книг будут две черты, которые, скорее всего, сделают их непопулярными: интерес к стилю и попытка более объемного изображения человека, а это невозможно без изучения его отношения к Богу»334.
Таким образом, «Возвращение в Брайдсхед» открыл новый этап в творческой эволюции Ивлина Во, который все дальше стал отходить от довоенной манеры и все настойчивее стал обращаться к религиозной проблематике. Наиболее полное выражение его католические воззрения нашли в историческом романе «Елена» (1950), рассказывающем о легендарном персонаже европейской истории, матери императора Константина Великого, и в трилогии о Второй мировой войне «Меч почета», в которой автор попытался увязать религиозную символику и стоическую философию с едкой сатирой на одряхлевшую военную машину «старой доброй Англии» (работа над этим масштабным эпическим произведением длилась на протяжении многих лет, с начала пятидесятых до середины шестидесятых; окончательная редакция вышла в 1965 году).
Но ни «Елена», ни «Меч почета», при всех своих достоинствах, не стали главными творческими удачами «позднего Во».
Самым значительным среди послевоенных произведений писателя по праву считается исполненная сарказма повесть «Незабвенная» (1948), написанная под впечатлением от поездки в США. «Англо-американская трагедия», жестоко высмеивающая пороки бездушной потребительской цивилизации Америки и «скудную меблировку интеллекта» средних американцев, окрашена в тона мизантропической сатиры, вызывающей в памяти творения Свифта. Вновь, как и в довоенных шедеврах Во, здесь правят бал пародия и бурлеск. Действующие лица этой «черной комедии», за редчайшим исключением, откровенно карикатурны и, казалось бы, вызывают у автора лишь сардоническую усмешку. Но к трагическому финалу потешные марионетки всё больше очеловечиваются и плачут настоящими слезами, так что в душе читателя рождается странное чувство, в котором холодное презрение смешивается с состраданием.
***
Столь же неоднозначную реакцию вызывало и вызывает еще одно послевоенное творение Ивлина Во: его публичная персона, тот эксцентричный персонаж – анахорет, пьяница, сноб, ретроград, – каким он представал в глазах внешнего мира.
После войны писатель вел затворническую жизнь в своем поместье Кум-Флори, однако на людях, во время туристических поездок и вылазок в Лондон, а также в многочисленных письмах (опубликованные после его смерти, они составили два внушительных тома), статьях и путевых очерках последовательно создавал малоприятный образ жестокосердого грубияна и гордеца, отнюдь не обремененного теми христианскими добродетелями, которые он с пылом крестоносца защищал в своих романах.
В редких интервью, на которые сподобился Во, он словно нарочно поддразнивал журналистов «неполиткорректными» заявлениями: о том, что не любит возиться со своими детьми (у него их было шестеро) и предпочитает держаться от них подальше; что он – за сохранение смертной казни; что ему не по душе Америка и американцы; что Джойс «кончил сумасшествием» и «был допущен в академические святцы» именно благодаря «невразумительности» своих писаний; что настоящий «художник должен быть реакционером. Он должен выступать против своего века и не должен подделываться под него; он обязан оказывать ему хотя бы небольшое противодействие»335.
Рецензируя посмертно изданные дневники и письма Во, критики, многие из которых имели несчастье познакомиться с ним лично, словно сговорившись, приводят примеры его, мягко говоря, неджентльменского поведения. Одного шокировало, как тот грубо обращался с официантами круизного парохода336; другой с обидой вспоминал, что во время переговоров, когда передавал именитому автору приглашение от руководства Би-би-си выступить по радио, тот запросил триста фунтов и, получив неопределенный ответ, молча взял шляпу, трость и вышел, оставив ошеломленного журналиста в незнакомом ему помещении Уайтс-клуба337. Третий утверждал, что…
Впрочем, мы и так знаем, что великие художники не похожи на ангелочков, и «средь детей ничтожных мира…».
Сам Во относился к себе трезво и даже иронично, доказательством чему служит хотя бы его пародийный двойник мистер Пинфолд, главный герой романа «Испытание Гилберта Пинфолда» (1957), в комично-гипертрофированном виде представивший предрассудки и фобии своего создателя: «В нем был силен дух неприятия. Он ненавидел пластмассу, Пикассо, солнечные ванны и джаз, а в сущности говоря, всё, что осталось на его веку. Трепетный огонек милосердия, возжженный в нем религией, кое-как смягчил его омерзение и претворил его в скуку…»
Как и его комичный alter ego, Ивлин Во тщательно оберегал свое сокровенное «я», которое раскрывал лишь самым близким людям. Для остальных он усвоил себе бурлескную роль старого брюзги, являя «миру помпезный фасад неотесанной выделки, прочный, глянцевый, первозданный, как панцирь». Возможно, многим его современникам не удалось пробиться сквозь защитный панцирь, и пожилой писатель остался в их восприятии чудовищем, «задиристым, агрессивным, мстительным клоуном»338.
Пусть он и был таким в повседневном быту… Однако в истории Большой литературы, неподвластной житейской грязи, Ивлин Во останется как один из самых ярких художников ХХ века – «священное чудовище», «задиристый клоун», неустанно высмеивавший удручающую пошлость зла и варварства.
Сформировавшись в кризисную эпоху, ознаменованную крушением прежних, казавшихся незыблемыми ценностей и моральных устоев, писатель ясно отдавал отчет в том, что даже при благоприятных условиях «варварство никогда не бывает побеждено окончательно», что люди являются «потенциальными новобранцами анархии», а многовековая культура, противостоящая дикости и невежеству, – это, как выразился один гениальный безумец, всего лишь «тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом». И все же он не подчинял свое искусство железной логике абсурда, управляющей «шутовским хороводом» повседневности, и не пасовал перед «раскаленным хаосом», сохраняя – пусть и рассудку вопреки – веру в нетленность «яблочной кожуры», неуничтожимость порядочности и благородства, сострадания и любви.
Во И. Мерзкая плоть. Пригоршня праха. Возвращение в Брайдсхед: романы: [пер. с англ.] М.: АСТ, 2009. С. 5–16.
Шарж Эмвуда (Джона Масгрейв-Вуда)
МАЛАЯ ПРОЗА БОЛЬШОГО ПИСАТЕЛЯ
На сегодняшний день «Слепок эпохи»339 – самый полный сборник «малой прозы» Ивлина Во на русском языке. Рассказы Во печатались у нас уже в советское время (причем переводили их такие мастера, как М. Лорие, В. Муравьев, Р. Облонская), но давались они всегда выборочно, в приложении к его романам, так что для советских и постсоветских книгочеев Ивлин Во – прежде всего романист, создатель неувядающих сатирических шедевров, выдержанных в духе «черной комедии»: «Упадок и разрушение», «Мерзкая плоть», «Черная напасть», «Пригоршня праха» и др.
Надо признаться, в этом есть своя сермяжная правда: Ивлин Во – один из тех писателей, кому дано было максимально полно раскрыться в рамках «большой формы». Рассказы он писал с семилетнего возраста (образчиком его juvenilia, опубликованным, когда автору не было и десяти лет, как раз и открывается сборник), однако, как в свое время и Антоша Чехонте, относился к ним по большей части не слишком серьезно. Рассказы были для Ивлина Во либо средством заработка (а печатался он, между прочим, в жирненьких буржуазных журналах типа «Вог», «Эсквайр» и «Харперс»), либо своеобразным творческим полигоном, где опробовались литературные приемы и обкатывались сюжетные модели, которым суждено было воплотиться в его романах.
Весьма показательна здесь новелла «Вылазка в действительность» (1932) – на мой взгляд, одна из лучших в сборнике. В ней варьируется базовая сюжетная схема большинства довоенных романов писателя: простодушного, не искушенного в жизни молодого человека внезапно затягивает вихрь головокружительных приключений; после целого ряда нелепых недоразумений, курьезных происшествий и трагифарсовых ситуаций он так же неожиданно возвращается в исходное положение, приобретя горький жизненный опыт и осознав жестокие законы абсурдного мира, в котором царят алчность и предательство. В новелле роль добродетельного простака поручена начинающему литератору Саймону Ленту. Взбалмошный и невежественный киномагнат заказывает ему сценарий по «Гамлету», которого нужно подогнать под незамысловатые вкусы широкой публики: Шекспира предлагается «перевести на нормальный язык», королеву Гертруду – выбросить из сценария, так как «она тормозит события», а само действие трагедии – перенести в Шотландию, подключив к делу «горцев в юбках и сцену-другую со сборищем клана».
Еще крепче связаны с романами другие short stories Ивлина Во. Рассказ «Из жизни благородного семейства» (1927), в котором выгнанный из Оксфорда герой-повествователь устраивается воспитателем юного отпрыска аристократического семейства, тематически близок «Упадку и разрушению» (1929). (Характерно, что повествование, едва набрав обороты, внезапно обрывается, а повествователь сетует на Природу, которая, «совсем как ленивый писатель, вдруг резко закругляется, сводя к короткому рассказу всё, что изначально предполагала сделать экспозицией романа».) «Происшествие в Азании» (1932) можно считать сателлитом «Черной напасти» (1932): события здесь разворачиваются в одной и той же вымышленной восточноафриканской стране; «Поклонник Диккенса» (1933) почти без изменений вошел в роман «Пригоршня праха» (1934); а в рассказе «Бэзил Сил опять на коне, или Возвращение повесы» (1963) нашему вниманию предлагается один из самых ярких и обаятельных антигероев раннего Во: постаревший, обрюзгший, утративший былую прыть пройдоха из «Черной напасти» и «Не жалейте флагов» (1942). Тут же мы встречаем еще одного персонажа, фигурировавшего в довоенных романах Во, – Марго Метроленд. Изысканная прожигательница жизни и неутомимая сердцеедка из «Упадка и разрушения» предстает перед нами съежившейся старушкой, доживающей свой век у экрана телевизора.
По своему художественному качеству рассказы «Слепка эпохи» весьма неоднородны. Некоторые, например «Любовь на излете» (1932), «Коротенький отпуск мистера Лавдэя» (1935) – истинный шедевр черного юмора, прямо-таки обжигающий жестоким остроумием неожиданной развязки, – уже упомянутая «Вылазка в действительность», выдерживают сравнение с лучшими романами прозаика. Но наряду с ними и другими первоклассными сатирическими вещами, живописующими «упадок и разрушение» старой доброй Англии и духовное оскудение представителей высшего общества («Званый вечер у Беллы Флис» (1932), «Морское путешествие» (1933), «Дом англичанина» (1947)), в книге встречаются и откровенно слабые творения, обязанные своим долгожительством только громкому имени автора.
Увы, к этой категории принадлежат не только наивные детские поделки вроде «Multa Pecunia» (1912) и юношеские пустяки, которыми в начале двадцатых не слишком прилежный студент Хартфорд-колледжа питал оксфордские журналы («Фрагменты: ужин с прошлым» (1923), «Антоний – искатель утраченного» (1923), «Как Эдвард достиг невозможного» (1923) и др.), но и некоторые произведения зрелого мастера: в частности, вымученное «Возвращение повесы», эту малоудачную «старческую попытку» вернуться к былой манере и приспособить героев давних романов к «престранному новомодному миру» шестидесятых, в котором анахоретствующий писатель, избравший имидж эксцентричного сноба и архиконсерватора, уже мало что понимал.
Как говаривал пушкинский Савельич: «Быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается», посему не будем излишне строги ни к автору (тем более что он не переиздавал большинство своих скороспелых юношеских опусов), ни к безымянным составителям «Слепка эпохи», которые не озаботились предисловием и мало-мальски подробными комментариями да к тому же немного недоскребли по библиотечным сусекам, в результате чего сборник вышел все-таки неполным. (Законная придирка, если уж составители стремились представить максимально полно «малую прозу» Во.) Так, за пределами книги оказалось несколько ранних вещей, в том числе «The Curse of the Horse Race», удостоенный переиздания в одном из прижизненных сборников писателя, «The Balance: A Yarn of the Good Old Days of Broad Trousers and High Necked Jumpers» (1926), предвосхищающий кинематографическую повествовательную технику «Мерзкой плоти», а также фантастическая история в духе Герберта Уэллса «Out of Depth» (1933), в которой один из героев переносится во времена Средневековья, а другой попадает в Лондон XXV столетия. Невостребованным остался и рассказ «Compassion» (1949), повествующий о том, как доблестный британский майор Гордон пытается вывести из Югославии еврейских беженцев, бывших узников концлагеря. Позже рассказ был трансплантирован в роман «Безоговорочная капитуляция» – заключительную часть военной трилогии Во, однако в «воениздатовский» перевод И. Разумного и П. Павелецкого эпизод с беженцами не попал, так что составители могли бы проявить сострадание к злополучному рассказу и включить его в сборник.
Впрочем, несмотря на досадные пробелы, «Слепок эпохи» способен дать представление об Ивлине Во-новеллисте и, что гораздо важнее, подарить нам несколько часов занимательного чтения. И пусть далеко не все из собранных здесь новелл и рассказов явятся для кого-то откровением, большинству из них присущи «ясность, элегантность и индивидуальность», а ведь именно эта комбинация, как не без основания считал сам Ивлин Во, «дает состав, способный оставлять подобье вечного в неуловимом искусстве письма».
Иностранная литература. 2005. № 1. С. 283–284.
ЗАГАДОЧНАЯ АНГЛОСАКСОНСКАЯ ДУША ИВЛИНА ВО
Шарж Ричарда Уилсона
Сборник Ивлина Во, вышедший в мемуарной серии «Мой ХХ век»340, стоит приобрести прежде всего из-за включенной в него автобиографии «Недоучка» (1964), оказавшейся последним произведением английского писателя.
Читая ее, я не раз вспоминал ламентации из эссе «Кембридж», написанного в 1921 году студентом Тринити-колледжа Владимиром Набоковым: «Между ними и нами, русскими, – некая стена стеклянная; у них свой мир, круглый и твердый, похожий на тщательно расцвеченный глобус. В их душе нет того вдохновенного вихря, биения, сияния, плясового неистовства, той злобы и нежности, которые заводят нас Бог знает в какие небеса и бездны; у нас бывают минуты, когда облака на плечо, море по колено, – гуляй, душа! Для англичанина это непонятно, ново, пожалуй, заманчиво. Если, напившись, он и буянит, то буянство его шаблонно и благодушно, и, глядя на него, только улыбаются блюстители порядка, зная, что известной черты он не переступит. А с другой стороны, никогда самый разымчивый хмель не заставит его расчувствоваться, оголить грудь, хлопнуть шапку оземь… Во всякое время – откровенности коробят его».
Положим, и сам Набоков, сделавшись профессиональным писателем, не так чтобы уж очень часто «оголял грудь», и если по молодости позволял себе «расчувствоваться» в иных стихотворениях, то в прозе, особенно в зрелых вещах, сделал все, чтобы скрыть от читателей свою личную жизнь. Однако по сравнению с автобиографией Ивлина Во набоковские «Другие берега» – самая настоящая «исповедь горячего сердца» (да простят меня правоверные набоковоманы за реминисценцию из Достоевского).
По волнам своей памяти Во путешествует как истинный английский джентльмен – застегнутым на все пуговки, не позволяя управлять собой потоку воспоминаний и не заносясь ни в какие небеса и бездны. Любители лирических излияний и исповедальных саморазоблачений могут не беспокоиться: «Недоучка» написан явно не для них. Отказываясь идти «в кильватерной струе психологических спекуляций нового поколения» (как и Набоков, Во не слишком жаловал фрейдистских ищеек), писатель редко позволяет себе расслабиться и не балует читателей откровениями интимного характера. Стопроцентный англичанин, он обладал искусством скрывать истину, не сказав ни одного слова неправды. Так, повествуя о раблезианских развлечениях студенческой юности (из-за них он забросил учебу и в итоге вышел из Оксфорда, недоучившись до магистра, всего лишь с дипломом бакалавра), автор ни словом не обмолвился о своем гомосексуальном опыте (о том, «было или не было», заинтересованным лицам приходится судить, изучая посмертно опубликованные дневники и письма Во)341 и к тому же умолчал о многих скандальных проделках, которые, кстати, оставили неизгладимое впечатление в памяти его приятелей. (Один из них долго еще помнил, как ночью стены баллиолского колледжа дрожали от громовых восклицаний подвыпившего Ивлина: «Декан Баллиола трахается с мужиками! Декан Баллиола трахается с мужиками!!!»342)
Из книги мы узнаем куда больше о культурно-бытовом укладе и нравственном климате эдвардианской и георгианской Англии, нежели о внутренней жизни автора, так что «Недоучка» прельщает нас, как выразился бы Владислав Ходасевич, «силой колорита», а не «диалектикой души» и интенсивностью самокопания.
Автобиографический материал подобран так, чтобы наше внимание сосредоточилось на окружении юного Во и на подробностях внешнего мира, запечатлевшихся в его сознании. Эти подробности постоянно соотносятся пожилым автором с современными реалиями и фактами давней истории: неповторимая мелодия единичного существования вплетается в «шум времени», что позволяет воспринимать всю вещь не столько как автобиографию знаменитого писателя, сколько как культурно-исторический очерк английской жизни в период заката могущественной Британской империи.
Особенно богата такими сопряжениями вторая глава, «В кругу семьи», посвященная детству будущего классика английской литературы. Живописуя идиллические пейзажи лондонского пригорода и традиционные прогулки с отцом, автор показывает ландшафт, каждая деталь которого насыщена историческими реминисценциями. Вот перед нами «мрачный пустовавший дом, в котором некогда заточил себя Питт Старший. В доме, в башенке, была комната с двойными дверьми, туда ему приносили еду, когда он запирался там в приступе тоски и ярости»; далее мы видим «замок Джека Стро, возле которого… дважды были разбиты отряды мятежников, один раз во времена Уота Тайлера, когда они направлялись на Лондон, в другой – во время восстания Гордона, когда они шли на Кенвуд, чтобы сжечь его. Более свежий и действительно реальный случай произошел как раз за трактиром: Сэдлир, злостный железнодорожный спекулянт, который послужил прототипом диккенсовского Мердля, хлебнул синильной кислоты из серебряного кувшинчика для сливок и был найден на песчаном карьере – ноги его торчали из земли». Даже дерево, возле которого отец и сын регулярно встречали слепого нищего, имеет свою историю: его «посадили, чтобы отметить место, где стояла виселица, на которой казнили убийцу по имени Джексон там, где он совершил свое преступление».
В книге есть немало анекдотических эпизодов и исполненных едкого сарказма зарисовок (чего стоит хотя бы описание ненавистного декана Хартфорд-колледжа: «Он курил трубку, которая торчала из его толстых губ, словно приклеенная коричневой слюной. Когда он вынул ее изо рта и взмахнул, словно желая, чтобы мне стала понятней его невнятная речь, блестящая нить потянулась за мундштуком, пока не лопнула, оставив мокрый след на его подбородке. Когда впоследствии он говорил со мной, я ловил себя на том, что думаю, как далеко может протянуться эта нить слюны, и часто не слышал его»). И все же по контрасту с хогартовской манерой большинства произведений Во, тяготеющих к гротеску и карикатуре, «Недоучка» поражает обилием описаний, пристальным вниманием к вещному миру, окружавшему впечатлительного мальчика, который особенно трепетно относился к приметам, казалось бы, столь недавней, но уже едва ли не мифологической Викторианской эпохи, будь то «ширмы и шитые панно на резных ножках» в старом доме тетушек или увиденные там же архаичные газовые рожки, «шеффилдский фарфор, фамильные портреты кисти неизвестных живописцев», «два застекленных шкафчика, заполненные всяческими “древностями” – веерами, табакерками для нюхательного табака, орехами с выпиленным узором, старинными монетами и медалями»; и еще «заключенный в футляр, тщательно обложенный ватой и снабженный этикеткой обгорелый кончик трости, опираясь на которую некий родственник совершил восхождение на Везувий» и «прядь волос Вордсворта (подлинность под вопросом)».
В детских главах автобиографии прямо-таки с прустианско-бунинско-набоковской ностальгией воскрешаются те зрительные, осязательные и слуховые впечатления, которые по каким-то таинственным иррациональным причинам навсегда врезаются в память, образуя сокровенное ядро человеческого сознания. Воссоздавая в памяти викторианский дом своих тетушек, автор вспоминает целую симфонию запахов – «там вечно присутствовал неистребимый запах газа, масла для ламп, плесени и фруктов; в одной части дома пахло запущенной церковью, в другой – людным базаром»; рассказ о первых школьных годах вызывает образ немецкой учительницы, которая вдалбливала маленькому Во стишок о пуделе, выпившем молоко. «И тот бессмысленный стишок, – меланхолично замечает автор, – до сих пор звучит у меня в голове…»
Нечаянные лирические всплески, оттеняющие нарочито суховатый стиль изложения, придают автобиографии элегический тон и лишний раз позволяют нам увидеть в том жестоком и циничном насмешнике, каким Во представлялся многим современникам, тонкого и глубоко чувствующего человека, чья загадочная англосаксонская душа нет-нет да и подавала признаки жизни, прорываясь сквозь панцирь чопорной сдержанности и ледяной иронии.
При этом Ивлина Во нельзя обвинить в лакировке воспоминаний или подтасовке фактов из желания приукрасить себя, любимого. По отношению к самому себе в прошлом автор занимает трезвую, отстраненно-ироничную позицию и не скупится на критические замечания: «Большинство юношеских дневников наивны, банальны и претенциозны; мои в этом смысле просто ужасны… Если то, что я написал, – верный мой портрет, то я был самодовольным, бессердечным и осмотрительно злобным. Мне бы хотелось верить, что даже в этих личных записях я был неискренен, скрывал свою более благородную натуру, что тогда я абсурдно считал цинизм и злость признаками зрелости. Я молюсь, чтобы это было так. Но убийственное свидетельство вот оно, передо мной: фраза за фразой, страница за страницей, неизменно вульгарные. Я не чувствую ничего общего с мальчишкой, который написал все это». Шестидесятилетний мемуарист не только сурово оценивает свой претенциозный юношеский дневник, но и неоднократно показывает себя и своих школьных приятелей в довольно неприглядном виде: «Мы не были хулиганами в старомодном смысле этого слова, то есть теми, кто жесток по отношению к слабым. С младшими мы вели себя как благосклонные феодалы. Но одногодков и непосредственное начальство из их числа преследовали как небольшая свора собак».
Издевательства над однокашниками – неизбежные атрибуты закрытых школ, – студенческие дебоши и экстравагантные выходки, вроде лая под окнами декана колледжа, спьяну заподозренного в зоофилии, – подобных забав мы встретим немало на страницах «Недоучки».
Не обошлось в книге и без сенсационных признаний. Прочитав «Недоучку», друзья Во и даже его родной брат Алек с удивлением узнали о том, что в юности он едва не покончил с собой: хотел утопиться в море, оставив возле одежды записку с красноречивой цитатой из Еврипида: «Θάλασσα κλύζει πάντα Τ’ανθρώπων κακα»343; лишь прозаический ожог медузы вывел Ивлина из возвышенно-суицидального настроения и заставил его повернуть к берегу. Об этом инциденте сообщается в последней главе, рассказывающей о самом тягостном периоде в жизни Во, когда он, погрязший в долгах лоботряс и недоучка без каких-либо высоких жизненных целей и перспектив, вынужден был тянуть учительскую лямку в «образцовой до уныния» валлийской школе, ставшей прообразом лланабской школы в его дебютном романе «Упадок и разрушение» (1928).
Тем не менее подобные признания – скорее исключение, чем правило. Писатель как зеницу ока оберегал свое privacy и из-за него довел повествование лишь до 1925 года, так и не показав чудесное перерождение забубенного пьяницы и кутилы в одного из лучших английских прозаиков ХХ века.
«Недоучка» должен был стать первым томом автобиографической трилогии. Ивлин Во засел было за вторую часть, но, написав всего семь страниц, оставил затею: ему предстояло описать крах скоропалительного брака с Ивлин Гарднер (она изменила мужу, когда тот, уединившись, дописывал «Мерзкую плоть»). Изжить психологическую травму писатель так и не смог (не случайно отголоски адюльтерной истории различимы во многих произведениях Во: прежде всего в рассказе «Любовь на излете», романах «Пригоршня праха», «Не жалейте флагов», «Меч почета») и уж тем более не захотел бередить незаживающую рану перед публикой.
***
К сожалению, вторая вещь, вошедшая в сборник, мало что добавляет к автопортрету Ивлина Во, да и значительно уступает «Недоучке» по своим художественным достоинствам. Путевые очерки «Турист в Африке» (1960) были изготовлены по заказу пароходной компании «Union Castle Line», отвалившей писателю две тысячи фунтов и оплатившей двухмесячный круиз: Генуя – Порт-Саид – Аден – Момбасса – Занзибар – Дар-эс-Салам – Танганьика – Ндола – Солсбери (тот, что в Зимбабве, разумеется) – Кейптаун – Саутгемптон.
Книга, представляющая собой наспех обработанные дневниковые записи января – марта 1959 года, написана вялым пером отяжелевшего, усталого, не очень здорового человека, потерявшего вкус к приключениям и едва ли не через силу обозревающего достопримечательности Центральной и Восточной Африки. «Беженец от английской зимы» выше всего ценит комфорт и предпочитает экскурсиям покой корабельной каюты: в то время как его спутники совершают «изнурительный бросок к Сфинксу», он сибаритствует на пароходе. Когда же уютное однообразие плавания заканчивается, повествователю приходится окунуться «в ужасающую жару Танганьики» и совершить запланированное путешествие в глубь континента, во время которого он чаще всего проявляет «вялый интерес к окружающему».
«Безжизненная, раскаленная дорога, то и дело пересекающая железнодорожную ветку. Ничего интересного по сторонам»; «монотонный безлюдный пейзаж за окнами машины навевал скуку» – такого рода увлекательные наблюдения, разбавленные взятыми из вторых рук историко-этнографическими сведениями, в конце концов навевают скуку и на читателя.
А бесстыжие панегирики благодетельной пароходной компании («“Родезия” – пароход чистый, обладающий превосходными мореходными качествами, следующий точно по расписанию, располагающий плавательным бассейном, кинозалом и всеми современными удобствами, но без претензий на класс люкс. Меню было шикарное, с соблазнительными названиями блюд и, похоже, способное удовлетворить любой вкус… Плывя по морю, я сравнивал покой и простор каюты с грязью и теснотой, которые приходилось терпеть во время перелета за год до этого»), не слишком актуальные для нас советы «собратьям туристам, собирающимся в Восточную Африку» держаться подальше от «отелей, где управляющим британец» («Мы не рождены для этой профессии»), так же как и настойчивые рекомендации посетить тот или иной национальный парк придают путевым заметкам сходство с безнадежно устаревшим, а потому и бессмысленным рекламным буклетом, изданным департаментом по развитию туризма.
Несколько оживляют повествование публицистические рассуждения об апартеиде и колкости в адрес лейбористского правительства, чья близорукая политика, утверждает пристрастный автор, способствует развалу колониальной империи, что пагубно отразится и на судьбах белых колонизаторов, и на жизни аборигенов: «Ирония в том, что Британскую империю разрушают самими же нами импортированные чужеземные принципы либерализма девятнадцатого века. Основы империи часто являются причиной горя; их разрушение – всегда». Небезынтересны и некоторые исторические анекдоты, которые пересказывает автор. Вот один из них: с восставшим племенем кикуйю англичане боролись с помощью воинственного племени масаи; чернокожим наемникам приказали напасть на бунтовщиков и «принести сколько смогут оружия кикуйю; на другое утро вокруг палатки командира лежали груды отрубленных рук» – простодушные туземцы плохо знали английский язык, на котором слова «оружие» и «руки» пишутся и произносятся одинаково: arms.
В целом же «Турист в Африке» редко когда поднимается выше уровня заурядного путеводителя, так что по прочтении книги возникает законный вопрос: чем был обусловлен выбор составителей? Ведь даже доброжелательно настроенные английские критики посчитали «Туриста» слабейшим творением писателя, а тираж книги «распродавался по бросовой цене и пылился на полках книжных магазинов вплоть до семидесятых годов, пока, наконец, его не разыскали коллекционеры»344. Сам автор воспринимал это сочинение как ремесленную поделку, состряпанную исключительно ради денег, и, когда его многолетняя корреспондентка Нэнси Митфорд попросила прислать дарственный экземпляр, чистосердечно ответил: «Я не выслал тебе экземпляр моей африканской халтуры, потому что стыжусь ее и потому что не посылаю ее уважаемым мною друзьям»345.
Может быть, стоило отобрать для книги что-нибудь более интересное и содержательное, показывающее писателя с лучшей, а не с худшей стороны: избранные эссе и критические статьи, отрывки из дневников и писем или же фрагменты из антологии «Когда благом было уехать» (1947), вобравшей лучшее, что было написано Ивлином Во в жанре путевой прозы?
Культурная память не беспредельна, и вряд ли стоит загромождать ее переводами третьестепенных вещей пусть даже и первоклассных авторов.
Иностранная литература. 2006. № 2. С. 264–268.
Шарж Ричарда Уилсона
«ХУДОЖНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕАКЦИОНЕРОМ…»346
Интервью Ивлина Во Джулиану Джеббу
<Paris Review. 1963. Vol. 8. № 30 (Summer-Fall).>
Э.М. Форстер347 различал «плоских» и «объемных» персонажей; если вы принимаете это разграничение, согласны ли вы, что у вас не было «объемных» персонажей вплоть до «Пригоршни праха»?
Все вымышленные персонажи «плоские». Писатель может создать иллюзию глубины, дав стереоскопическое видение персонажа – показав его с нескольких точек зрения. Всё, что писатель может сделать, – так это предоставить более или менее полные сведения о герое, а не какую-то особую информацию.
Значит, для вас не существует принципиального различия между такими персонажами, как мистер Прендергаст и Себастьян Флайт348?
Существует. Есть главные герои и фоновые персонажи. Первый из упомянутых вами персонажей – всего лишь часть обстановки. Себастьян Флайт – главный герой.
В таком случае можете ли вы сказать, что Чарльз Райдер349 был персонажем, о котором вы дали наиболее полную информацию?
Нет, скорее это Гай Краубчек350… (немного взволнованно) Хотя, постойте, мне кажется, ваш вопрос имеет отношение главным образом к созданию персонажа и совсем не касается техники письма. Я считаю, что писание – это не исследование характера персонажа, а упражнение в использовании языка, и именно этим я одержим. Меня не особо интересует психология. Драматургия, разговорная речь, события – вот что мне интересно.
Значит ли это, что вы постоянно экспериментируете и неустанно занимаетесь отделкой ваших сочинений?
Экспериментирую? Боже упаси! Посмотрите на результаты экспериментирования в случае с таким писателем, как Джойс. Он начинал очень хорошо, затем его обуяло тщеславие. Кончил же он сумасшествием.
Из сказанного вами ранее я делаю вывод, что вы не считаете писание трудным процессом.
Я не нахожу его легким. Видите ли, в моей голове постоянно кружатся слова: одни люди мыслят картинами, другие – абстрактными понятиями. Я мыслю исключительно словами. К тому времени, когда я опускаю перо в чернильницу, слова достигают необходимой стадии упорядоченности.
Возможно, это объясняет, почему Гилберта Пинфолда351 преследовали голоса – развоплощенные слова.
Да, это так – слова требовали воплощения.
Можете ли вы сказать что-нибудь о прямых влияниях на ваш стиль? Кто из писателей девятнадцатого века повлиял на вас? Возможно, Сэмуэль Батлер?
Писатели девятнадцатого века были основой моего образования и в этом смысле, конечно же, повлияли на мой стиль. П.Г. Вудхауз непосредственно повлиял на мой стиль. Кроме того, была еще небольшая книжка Э.М. Форстера «Фарос и Фарийон» – очерк истории Александрии. Думаю, что в своем первом романе Хемингуэй новаторски использовал возможности языка. Меня восхищает то, как у него говорят пьяные.
А как насчет Рональда Фёрбенка352?
Юношей я обожал его. Теперь же я не могу его читать.
Почему?
Мне кажется, не всё в порядке с пожилым человеком, способным любить Фёрбенка.
Вполне очевидно, что вы глубоко уважаете авторитет таких официальных институтов, как католическая церковь и армия. Согласны ли вы с тем, что и «Возвращение в Брайдсхед», и военная трилогия явились прославлением этого чувства?
Нет. Конечно же нет. Я почитаю католическую церковь, потому что в ней – истина, а не потому, что она является официальным институтом. «Люди на войне»353 – нечто совсем противоположное возвеличиванию; это история разочарования Гая Краубчека в армии. У Гая были старомодные представления о чести, а также иллюзии относительно рыцарского духа. Мы видим, как эти сущности истощаются и уничтожаются во время его столкновения с реалиями армейской жизни.
Можете ли вы сказать, что это и есть мораль, лежащая в основе трилогии?
Да, я имею в виду, что в ней есть определенная нравственная цель; шанс на спасение, данный каждому человеку. Знаете ли вы старый протестантский гимн: «Once to every man and nation / Comes the moment to decide»354? Гаю дается этот шанс, когда он берет на себя ответственность за воспитание триммеровского ребенка – только чтобы не оставлять его беспутной матери. По существу, он неэгоистичный человек.
Не можете ли вы сказать что-нибудь о концепции, положенной в основу трилогии? Был ли у вас какой-либо план, когда вы начали ее писать?
Он существенно изменялся в процессе писания. Сначала я запланировал, что второй том, «Офицеры и джентльмены», будет состоять из двух частей. Затем я решил соединить их и завершить работу. Там еще есть крайне неудачная сцена на борту корабля, соединяющая обе части. Необходимость прояснить образ Людовича вызвала появление третьего тома. Как оказалось, во всех томах есть нечто общее, поскольку в каждом действует нелепый, смешной персонаж, который движет повествование.
Даже если, по вашим словам, основная идея трилогии не была ясна перед тем, как вы сели за работу, разве не было чего-то, что вы видели с самого начала?
Да, меч в итальянской церкви и Сталинградский меч.
Не могли бы вы рассказать о зарождении замысла «Возвращения в Брайдсхед»?
Во многом он явился продуктом своего времени. Если бы роман не был написан тогда – в ужасное военное время, когда нечего было есть, – он был бы совсем другим. Суть в том, что изобилие воскрешающих прошлое описаний и избыточность деталей – прямое следствие лишений и сурового аскетизма тех лет.
Не встречалось ли вам среди критических работ о ваших произведениях что-нибудь стоящее, проясняющее их суть? Например, у Эдмунда Уилсона?355
Он американец?356
Да.
Едва ли они способны сказать что-нибудь интересное, не правда ли?
Не кажется ли вам, что подобные высказывания характеризуют вас как реакционера?
Художник должен быть реакционером. Он должен выступать против своего века и не должен подделываться под него; он обязан оказывать ему хотя бы небольшое противодействие. Даже великие художники Викторианской эпохи, несмотря на давление, вынуждающее приспосабливаться, были антивикторианцами.
А как насчет Диккенса? Несмотря на свои проповеди о социальных реформах, он также добивался определенной репутации в обществе.
Ну, всё было несколько иначе. Диккенс обожал лесть и любил произвести впечатление. Тем не менее он был глубоко враждебен викторианству.
В каком историческом периоде, отличном от нашего времени, вы хотели бы жить?
В семнадцатом веке. Думаю, это было время величайших драм и любовных историй. Полагаю, что я был бы счастлив и в тринадцатом веке.
Несмотря на большое разнообразие персонажей, представленных в ваших романах, бросается в глаза, что у вас нет сочувственного или всесторонне-полного изображения выходцев из низших классов. Были ли для этого какие-либо причины?
Я не знаю их, и они мне не интересны. Вплоть до середины девятнадцатого столетия писатели изображали представителей простонародья не иначе как в виде гротескного или пасторального окружения. Позже, когда те получили права, некоторые писатели стали подлизываться к ним.
Как насчет Пистоля357… или Молли Фландерс358 и…
А, представители криминального мира. Это совсем другое дело. Они всегда обладали своеобразным обаянием.
Позвольте вас спросить: что вы пишете в настоящее время?
Автобиографию.
Будет ли она традиционной по форме?
В высшей степени традиционной.
Есть ли книги, которые вы хотели и в то же время не могли бы написать?
Всё что мог, я сделал. Всё лучшее я уже написал.
Ex Libris НГ. 2005. 8 сентября. С. 5.
ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ К МИССИС ВУЛФ
Шарж Уильяма Брэмхолла
Едва ли я ошибусь, если скажу, что Вирджиния Вулф долгое время была для российских читателей чем-то вроде блумсберийского привидения. В правоверных советских учебниках по «зарубежке» Вирджинию Вулф (тогда еще – «Вульф») вяло поругивали за аполитичность и «изощренное эстетство». Спорить или соглашаться с ними было трудно, поскольку произведения писательницы не переводились и были малодоступны для простых смертных. Многие, наверное, и имя-то ее узнали впервые благодаря интригующему названию некогда популярной пьесы Эдварда Олби и одноименному фильму.
Такое положение дел продолжалось вплоть до 1984 года, когда в «Иностранной литературе» был напечатан перевод «Миссис Дэллоуэй» (1925). Несколько лет спустя, в баснословные времена книжного и журнального бума, плотину прорвало: достоянием российских книгочеев стали рассказы (точнее – лирические миниатюры в прозе), эссе и, конечно, романы Вулф. В общем, к настоящему времени мы получили возможность составить более или менее цельный портрет писательницы, которая вместе со своими единомышленниками из творческого содружества «Блумсбери» во многом определяла эстетический и духовный климат в английской литературе первой трети ХХ века.
Тонкий и проницательный критик, яркий теоретик модернизма (собственно, этот термин закрепился в литературно-критическом обиходе не в последнюю очередь благодаря ее стараниям), Вирджиния Вулф вошла в Большую литературу благодаря экспериментальным романам двадцатых годов. Как известно, творческий эксперимент – далеко не всегда синоним литературной удачи. В литературе, как и в искусстве вообще, любые эксперименты чреваты досадными срывами вкуса и нарушением чувства художественного такта и меры. К тому же экспериментальные опусы обладают удивительным свойством скоропостижно дряхлеть, в лучшем случае превращаясь в экспонаты литературного музея, которые не вызывают у немногочисленных посетителей ничего, кроме почтительной скуки.
Думаю, вам ясно, куда я клоню. По «гамбургскому счету» большинство хваленых модернистских шедевров Вулф ныне представляют лишь некоторый музейный интерес как памятники давней литературной эпохи. В отличие от исчадий позднего модернизма (например, «антироманов» Роб-Грийе) их можно прочесть – но только один раз, из исследовательского любопытства. Вряд ли вам захочется перечитать их, как вы перечитываете любимые книги. Невозможно чувствовать себя как дома в музее или заброшенной лаборатории – уж больно там неуютно и холодно.
Холодно и неуютно в экспериментальных романах Вирджинии Вулф, с их неистребимым привкусом рассудочности и унылого эстетического догматизма (зачастую ему приносила в жертву свой несомненный творческий дар «королева модернистского романа»). Стремясь реализовать на практике свои эстетические установки – передать средствами языка непрерывную мелодию внутренней жизни человека, «изменчивый и постоянный дух» его глубинного «я», – писательница жертвовала слишком многим. Давно уже замечено, что в ее модернистских романах нет запоминающихся характеров359. Оно и понятно, ведь романистку интересовал не сам человек в его неразрывном единстве внутреннего и внешнего, личного и социального, а лишь фактура человеческого сознания, психологическая реальность как таковая: наплывающие друг на друга ассоциации и воспоминания, летучие мысли и неуловимые оттенки чувств, зыбкие настроения и всплески эмоций. Применяя к Вулф слова Павла Муратова, обращенные к французскому прозаику Жюлю Ромэну, можно сказать, что ее увлекала «чисто аппаратная, двигательная сторона душевного механизма»360.
В центре внимания автора «Миссис Дэллоуэй» и «На маяк» – «обычное сознание в течение обычного дня», которое составляют «мириады впечатлений – бесхитростных, фантастических, мимолетных, запечатленных с остротой стали» (цитирую программное эссе Вулф «Современная художественная проза»). Неудивительно, что главным и, пожалуй, единственным героем этих произведений является поток сознания. Все прочие персонажи (старательно высвеченные изнутри, но при этом лишенные пластической осязаемости и речевого своеобразия) растворяются в нем почти без остатка.
По этой причине романы Вулф населяют не англичане – живые люди из плоти и крови, – а странные, бесполые, одноцветные существа – «вулфиане», выполняющие функцию резервуара ощущений и восприятий автора. Эти существа практически ничем не отличаются друг от друга. «Они не только принадлежат к определенному классу – к средней интеллигенции, но и к общему <…> типу темперамента. Они тяготеют к одинаковому выражению мыслей и чувств, располагают какой-то общей суммой ощущений»361. Внутренняя речь Клариссы Дэллоуэй похожа как две капли воды на внутреннюю речь ее горничной: та же шелуха слов, тот же безличный осадок дневных впечатлений и сиюминутных переживаний; рассуждения степенного и пожилого джентльмена Уильяма Бэнкса точь-в-точь повторяют внутренние монологи другого персонажа романа «На маяк» – закомплексованного выходца из низов Чарльза Тэнсли; мысли и переживания профессора Рэмзи передаются в той же хаотичной манере, что и взбаламученные чувства несчастного безумца Септимуса Смита из «Миссис Дэллоуэй», и т.д.
Сколько мы ни плывем по мелководью вялотекущего повествования, перед нами все тот же, поразительно блеклый, «пейзаж души», все тот же пресный поток сознания – «без направления и напора, без конца и начала». «И не на чем отдохнуть взгляду, измученному однообразием бесконечной картины…»
Гнетущее впечатление скуки и однообразия усугубляется и общей сюжетной дряблостью экспериментальных романов Вулф, в которых, в соответствии с ее программными установками, «нет ни сюжета, ни комедии, ни трагедии, ни любовной интриги, ни развязки в традиционном стиле». Поскольку писательница считала, что настоящий «современный» роман должен представлять собой «не череду событий, а развитие переживаний», и в «Миссис Дэллоуэй», и в романе «На маяк» действие сведено к нулю, а время, соответственно, еле плетется, словно в сокурообразном фильме, сплошь состоящем из статичных планов и кадров замедленного действия. (Впрочем, во втором из терзаемых мной романов в качестве приятного исключения следует выделить изящную лирическую интерлюдию «Проходит время», охватывающую временной отрезок в десять лет.)
И все же главный недостаток метода, которого придерживалась Вулф в своих экспериментальных романах, – неумение (или нежелание) предложить читателю целостное видение человека (пусть человека, лишенного цельности, раздираемого «мильоном терзаний», конфликтов и противоречий), неумение воссоздать если не достоверный образ мира, то, во всяком случае, его убедительную иллюзию, соизмеримую с нашим внутренним опытом и поэтому заставляющую нас глубоко сопереживать, «мыслить и страдать», а не чувствовать себя скучающими экскурсантами возле витрины с диковинными литературными окаменелостями.
Похоже, что и сама Вулф смутно подозревала что-то неладное в выработанной ею манере. Об этом говорят, например, ее дневниковые записи: «Однако это верно, что у меня нет дара “реальности” <…>. Есть ли у меня сила для того, чтобы передать подлинную реальность? Или же я пишу этюды о себе самой?»
Красноречивым свидетельством того, что писательнице периодически надоедало писать этюды о себе самой, растягивая их до объемов романа, стали два произведения, которые долгое время не воспринимались всерьез многими критиками и которые, на мой взгляд, оказались гораздо более жизнеспособными и эстетически полноценными, нежели «серьезные» романы Вулф. Речь идет, во-первых, о замечательной «собачьей» повести «Флаш» (отчасти это травестия традиционного романа-воспитания, отчасти – едкая сатира на ханжеское викторианское общество «старой доброй Англии», «остраненно» представленного через восприятие спаниеля Елизаветы Браунинг), а во-вторых, о романе-розыгрыше «Орландо».
Примечательно, что оба произведения поначалу воспринимались самой писательницей в качестве ни к чему не обязывающей литературной шалости – освежающей передышки после изнурительной работы над «серьезными» модернистскими проектами. Так, повесть «Флаш» была написана в перерыве работы над биографией «блумсберийца» Роджера Фрая, а замысел «Орландо» возник сразу после выхода романа «На маяк».
Как и «Флаш», «Орландо» представляет собой пародию на биографические опусы, которые, по мнению ярой феминистски Вулф, наиболее полно выражают особенности мужского менталитета с его рационалистичностью и склонностью к логическому упорядочиванию жизни. С целью развенчать подобное мировоззрение на протяжении большей части повествования автор прячется за нелепую фигуру биографа-повествователя, свято верящего в правдивость всевозможных документов «исторического и частного свойства», стремящегося «твердо ступать по неизгладимым следам истины», но то и дело попадающего впросак, ибо описываемые события явно не укладываются в рамки привычного жизнеописания.
Начнем с того, что Орландо, главный герой этой странной биографии, по ходу развития сюжета становится героиней: будучи английским послом в Стамбуле, после пышных торжеств в честь пожалованного ему Карлом II ордена Бани и герцогского титула он впадает в многодневную спячку и просыпается женщиной. Но это еще не все. Родившись во времена правления королевы Елизаветы, Орландо – уже в облике тридцатилетней эмансипированной дамы – доживает до 11 октября 1928 года, времени, когда книга Вулф как раз появилась в продаже. Точно такой же живучестью отличаются и другие персонажи: например, язвительный критик Ник Грин, неизменно сетующий на упадок современной литературы и с лицемерным восторгом восхваляющий классиков прошлых времен только лишь для того, «чтобы живых задеть кадилом». В Елизаветинскую эпоху, ругая Шекспира, Марло или Бен Джонсона, он противопоставляет их Цицерону и другим античным авторам; в ХIХ веке, изничтожая Теннисона, Браунинга или Карлейля, с умилением вспоминает о Марло, Шекспире, Бен Джонсоне – «то-то были гиганты»362.
Фантастическое долголетие персонажей – лишь один пример того, как вольно автор обращается с законами биографического жанра. Иронично дистанцируясь от простодушного биографа, он творит игровое пространство, в котором фантастика, принцип комического алогизма, гиперболы опрокидывают скучную логику обыденного здравого смысла и с феерической легкостью отменяют требования объективного жизнеподобия. В результате мы узнаем, что с вершины холма, расположенного близ замка Орландо, «в уж очень хорошую погоду» открывался вид на всю Англию; что во время Великого холода (описание которого предвосхищает многие сцены «Ста лет одиночества») люди и звери на ходу превращались в ледяные изваяния, а «одна молодая крестьянка, пустившись через дорогу во всегдашнем своем крепком здравии, при всем честном народе была застигнута на углу ледяным вихрем, обращена в пыль и в таком виде взметена над крышами»; румынская эрцгерцогиня Гарриет Гризельда, назойливо нарушавшая поэтическое уединение Орландо – тогда еще благородного вельможи, «страдающего любовью к литературе», – в конце концов оказывается эрцгерцогом Гарри, весьма настырным типом, от чьих ухаживаний Орландо – уже дама, по возвращении из Турции ставшая завсегдатаем самых блистательных светских и литературных салонов Лондона, – избавляется только после того, как ей удалось сунуть ему за шиворот отвратительно липкую жабу; капитан Мармадьюк Шелмердин, замуж за которого Орландо выходит под воздействием ханжески-добродетельных викторианских нравов, как заведенный вечно носится на своем корабле вокруг мыса Горн, ибо волей автора его жизнь посвящена этой «опасной и блистательной задаче <…> – огибать мыс Горн под штормовым ветром».
Фантастичности, гротескной ирреальности содержания «Орландо» соответствует нарочитая многостильность повествования. От удручающе однотонных «серьезных» романов писательницы эта эксцентричная «биография» отличается виртуозно исполненной полифонией повествовательных голосов. Дидактический говорок болтливого биографа-повествователя (со стернианской непринужденностью постоянно отступающего от магистральной темы и доверительно обращающегося к читателям как к своим задушевным собеседникам) сочетается с нейтральным голосом автора, который, в свою очередь, то и дело растворяется во внутренних монологах и лирических медитациях Орландо.
Эффект полифонии усиливается за счет широкого использования стилизации: эпистолярной и мемуарной литературы XVII века (в третьей, «стамбульской», главе приводятся «цитаты» из дневника лейтенанта Бригге и письма экзальтированной Пенелопы Хартоп, описывающих церемонию награждения Орландо орденом Бани), а также газетных отчетов, исторических хроник, тяжеловесных юридических документов, хозяйственных реестров и проч. Характерно, что и сама книга, носящая обманчивый подзаголовок «биография», внешне была замаскирована под наукообразное сочинение и снабжена именным указателем, фотографиями Орландо (в его/ее роли позировала английская писательница Виктория Сэквилл-Уэст, подруга и, чего уж тут, любовница Вирджинии Вулф), а также пародийным вступлением, где автор с невозмутимой обстоятельностью благодарил за помощь и моральную поддержку всех участников творческого содружества «Блумсбери» (включая своих малолетних племянников Джулиана и Квентина) и выражал искреннюю признательность… Даниелю Дефо, Стерну, Вальтеру Скотту, Эмилии Бронте, Де Квинси, Уолтеру Пейтеру – всем любимым писателям Вирджинии Вулф. (К сожалению, переводчица Е. Суриц, работавшая, видимо, с массовым «мягкообложечным» изданием, не поддержала авторской игры: предисловие и именной указатель отсутствуют, что, на мой взгляд, равносильно тому, как если бы из «Героя нашего времени» выкинули предисловие к «Журналу Печорина» или оставили без комментариев «Пушкинский дом» Битова. Вдобавок из книги исчезло посвящение Виктории Сэквилл-Уэст, чья семейная хроника считается своеобразным «предтекстом» «Орландо»: многие обстоятельства многовековой жизни Орландо, описание его/ее замка, даже имена слуг Вулф позаимствовала из историко-документальной книги своей подруги «Кноул и Сэквилли».)
Помимо стилизации заметную роль в поэтике романа играет пародия. Ее объектом выступают не только биографические труды, аллегории барокко или слезоточивая викторианская лирика, но и прежняя творческая манера самой Вулф, ее вялая лирическая проза с путаной фразой и бесконечным нанизыванием сложносочиненных предложений.
Важным строительным материалом «биографии» являются многочисленные аллюзии и цитаты, благодаря которым фактура каждой из шести глав романа отражает особенности того или иного периода английской литературы. Так, в первой главе, относящейся к шекспировской эпохе, в духе хрестоматийной сцены из второго тома «Войны и мира» дается остраненное изображение театральной постановки «Отелло»: «Черный мужчина махал руками и орал. Женщина в белом лежала на постели. Актеры метались вверх-вниз по ступенькам, то и дело спотыкались…»; четвертая глава, рассказывающая о литературных знакомствах Орландо среди писателей-классицистов XVIII века, пестрит цитатами из Поупа, Свифта и Аддисона; ультраромантический пейзаж, на фоне которого в пятой главе происходит знакомство Орландо и ее будущего мужа, вызывает малиновые тени «Джейн Эйр»; в шестой главе, действие которой происходит уже в ХХ веке, помимо автопародийных пассажей нашему вниманию предлагается ироничный парафраз «Любовника леди Чаттерлей» или цитата из поэмы «Земля», написанной Викторией (Витой) Сэквилл-Уэст (в романе это произведение отдается в авторство Орландо и фигурирует под заглавием «Дуб»).
Таким образом, «Орландо», чья повествовательная ткань, расшитая изысканной вязью литературных аллюзий и цитат, превращается автором «в подобие искусной штопки», может рассматриваться как развитие идей, заложенных в знаменитом эпизоде «Улисса» «Быки Гелиоса» (к счастью, здесь нет и следа от Джойсовой зацикленности на утомительной лингвистической акробатике и самодовлеющем формальном экспериментаторстве), и в то же время – как предвосхищение интертекстуальных романов-лабиринтов постмодернизма. Подобно автору «Дара», Вирджиния могла бы с полным основанием говорить о своем романе: «Его героиня не Орландо, а английская литература»363.
Конечно же, мы бы неоправданно обеднили содержание романа, истолковав его как самодостаточный постмодернистский пастиш и сведя образ Орландо к аллегории английской литературы. Идейно-художественный потенциал «Орландо» гораздо богаче и многообразнее. Роман-розыгрыш Вирджинии Вулф – это не только веселый литературный капустник, беззаботное упражнение в стилистической мимикрии, пародия на биографические сочинения и травестийное переложение хроники аристократического семейства Сэквилл. Это еще и занимательный экскурс в историю культуры и нравов Англии, и философское, в духе Анри Бергсона и Пруста, исследование двойственной природы времени, и осмысление животрепещущих для самой писательницы вопросов – о смысле литературного творчества, месте художника в обществе и его сложных взаимоотношениях с «духом времени».
Сам образ Орландо в какой-то мере является лирическим «я» Вирджинии Вулф, выражающим ее сокровенные мысли и чувства. Своей двойственной природой Орландо выражает заветную идею писательницы (подхваченную у Колриджа и развитую в эссе «Своя комната») об андрогинности истинно творческого сознания, в котором гармонично уживаются рациональное (мужское) и интуитивно-чувственное (женское) начала.
Благодаря своей смысловой многослойности и стилевой полифонии «Орландо», этот нечаянный шедевр Вирджинии Вулф, предвосхитившей искания последующей литературной эпохи, и спустя шестьдесят с лишним лет после выхода в свет остается живым, излучающим неповторимое обаяние произведением, чтение и, что важнее, перечитывание которого доставит ни с чем не сравнимое наслаждение истинным любителям изящной словесности.
Столпотворение. 2003. № 8/9. C. 191–197.
КОПРОЛИТ ЭПОХИ МОДЕРНИЗМА
Нечитабельный шедевр Вирджинии Вулф
«У большой формы есть свои законы: здесь не только развитая, расчлененная фабула, здесь обязательны подъемы и спады, переменная нагрузка интереса… Помимо психологии в романе нужна оправданность каждого явления, нужна мотивированность каждого сюжетного поворота», – утверждал в 1924 году Юрий Тынянов, придирчиво разбирая сверхдинамичные, но легковесные романы-фельетоны Ильи Эренбурга.
Вирджиния Вулф (1882–1941), давно уже причисленная англоязычной профессурой к светлому лику классиков «высокого модернизма», считала иначе: ее «экспериментальный» роман «Комната Джейкоба» (1922)364 изготовлен так, словно она знать ничего не хотела о законах «большой формы». В нем нет не только «подъемов», «спадов», «перемены нагрузки интереса», но и элементарной фабулы. (В современном романе, считала Вулф, не должно быть «ни сюжета, ни комедии, ни трагедии, ни любовной интриги в традиционном стиле».) Боясь прослыть старомодной, писательница так рьяно вытравливала из своей поэтики приметы викторианского романа XIX века, что в итоге произвела на свет странного жанрового мутанта, лишь по издательской инерции сохранившего рыночную этикетку «роман».
«Комната Джейкоба» – это стихотворение в прозе, раздутое на двести с лишним страниц; перекрашенная в роман лирическая поэма, в которой главный герой больше смахивает на смутный силуэт, вырезанный из полиэтилена, нежели на человеческий образ. (О катастрофическом неумении Вулф создавать полнокровные и запоминающиеся характеры, о ее неспособности вдохнуть жизнь в героев писали едва ли не все англоязычные литераторы и критики, причем не только принципиальные антагонисты – Арнольд Беннет, Олдос Хаксли, Грэм Грин, Чарльз Перси Сноу, – но и литературные союзники вроде Дезмонда Маккарти и Э.М. Форстера.) «Комната Джейкоба» заселена людьми еще гуще, чем сталинские коммуналки, но все персонажи напоминают бесплотных призраков, то внезапно появляющихся, то вдруг исчезающих из поля зрения читателя. При этом отличить одного персонажа от другого практически невозможно, и уже к середине романа самый добросовестный читатель запутывается в их именах и фамилиях, вязнет в их пустопорожних и бессвязных диалогах, загромождающих повествование. Плоховато здесь и с психологизмом: если и можно говорить о какой-либо «психологии», то лишь о психологии автора: рафинированной и немного манерной дамы с крайне ограниченным жизненным опытом, неспособной, да и не желающей соединить разрозненные впечатления и наблюдения в единое целое.
Беспорядочно выхватывая отдельные эпизоды из жизни главного призрака – маленький Джейкоб резвится на пляже, студент Джейкоб катается на лодке с приятелем, двадцатипятилетний Джейкоб Фландерс скучает на светском рауте, читает Шекспира, путешествует по Италии и Греции, – Вулф топит мелко наструганные фабульные кусочки в сиропе «лирических отступлений», без особого на то основания претендующих на глубокомыслие: «Наверное, глубоких, беспристрастных и абсолютно справедливых суждений о себе подобных вообще не существует. Либо мы мужчины, либо – женщины. Либо равнодушны, либо увлечены. Либо молоды, либо стареем. В любом случае жизнь – это лишь шествие теней, и одному только Богу известно, почему мы так горячо их обнимаем и с таким страданием расстаемся, если мы все тени…» и т.д.
В общем, «Комната Джейкоба» – то еще чтиво. Роман любопытен тем, что в нем наглядно воплощены родовые черты модернистской поэтики (и ее роковые изъяны): холодный формализм – при полном отсутствии художественного вымысла и сюжетной занимательности, фрагментарность, судорожные, ничем не мотивированные временные скачки, обезличенные и обесцвеченные персонажи, переусложненная, хотя и рыхлая композиция и пр. и пр. Но вряд ли такие вещи можно читать, а тем более перечитывать, что называется, «для души». Рекомендовать «Комнату Джейкоба» я могу только в качестве археологического экспоната, – эдакого копролита эпохи модернизма – безумного, изломанного, дегуманизированного искусства все дальше уходящего в прошлое ХХ века.
Ex Libris НГ. 2004. 29 июля. С. 4.
Шарж Дэвида Левина
Шарж Ричарда Уилсона
БЕДНЫЙ УИЛЛИ, БЕДНЫЙ ЭНТОНИ…
И все-таки прав был прозорливый вождь мирового пролетариата: «Из всех искусств важнейшим для нас является кино». Творческая судьба Энтони Бёрджесса (1917–1993) в полной мере подтверждает эту максиму. Судите сами.
Бёрджесс (полное имя Джон Энтони Бёрджесс Уилсон) стал профессиональным литератором в конце пятидесятых. Старался, экспериментировал с языком не хуже Джойса, перепробовал все мыслимые разновидности романного жанра: колониальный, сатирический, психологический, исторический, биографический… Писал, писал, писал, но добился известности лишь в 1971 году, после того как Стэнли Кубрик снял изысканно садистский фильм по его восьмому роману «Заводной апельсин» (1962). Сенсационный успех кубриковской картины сделал писателя культовой фигурой для нескольких поколений продвинутой западной молодежи. Правда, слава его оказалась несколько двусмысленной. Один из самых плодовитых английских прозаиков второй половины XX века, наваявший тридцать романов (плюс десяток биографических и литературоведческих сочинений), остался в читательском сознании как автор одной-единственной книги, осчастливленной кинематографом.
Во всяком случае, именно так воспринимается Бёрджесс в постсоветской России. Выходившие с начала девяностых переводы некоторых его романов, увы, ситуации не изменили. Мрачноватая антиутопия «Вожделеющее семя» (1962), пророчащая воцарение тоталитаризма и узаконенный каннибализм, несмотря на всплески великолепного юмора, оказалась откровенно вторичной по отношению к произведениям Хаксли и Оруэлла; «Трепет намерения» (1966) – тускловатой вариацией на тему суперагента 007 с тщетными потугами на пародийное преодоление заскорузлых канонов шпионского боевика; «Человек из Назарета» (1979) – чей перевод вышел в прошлом году, – старательным и совершенно никчемным пересказом Евангелия, изрядно разбавленным диалогами. Последний роман (в свое время расцененный английскими критиками как откровенная халтура) является переделкой сценария к фильму именитого Франко Дзеффирелли, что, вероятно, и способствовало появлению его русского перевода.
В случае со свежепереведенным «шекспировским» романом365 дело явно не обошлось без кинематографической стратегии. Нет, с недавней голливудской поделкой книга не имеет ничего общего. Просто предприимчивые издатели приладили к роману зазывно-киношное название в надежде вызвать у пресловутого «массового читателя» соответствующие кинорефлексы.
Сам Бёрджесс озаглавил книгу цитатой из сто тридцатого сонета Уильяма Шекспира: «Nothing like the Sun. A Story of Shakespeare’s Love-life» (1964). Пользуясь не таким известным, как маршаковский, но более точным переводом, заглавие-цитату можно передать так: «На солнце не похоже. История любовной жизни Шекспира».
Переиначив название, издатели избавили роман от эпиграфа (первое четверостишие уже упомянутого сонета) и посвящения – английскому прозаику Ч.П. Сноу и его супруге, писательнице Памеле Хэнсфорд Джонсон. Заодно убрали и предисловие, принципиально важное для адекватного восприятия авторского замысла, поскольку в нем задавалась общая – насмешливо-ироничная – тональность, окрашивающая все повествование. В ампутированном предисловии роман объявлялся прощальной лекцией мистера Бёрджесса (некоторое время он работал преподавателем в Малайзии), а также сообщалось о подарке студентов: трех бутылках самсу (рисовой водки), которым суждено было поддерживать лекторское красноречие. Благодаря своевольному хирургическому вмешательству оказались обессмысленными многие фрагменты романа: например, эпизоды, где повествователь, отстраняясь от персонажей, вмешивается в сюжетное действие со своими оценками и комментариями, или же эпилог, в котором он окончательно перевоплощается в Шекспира и говорит от его лица.
Трудно сказать, почему решили кастрировать бёрджессовский текст. Может быть, это привычная «расейская» безалаберность, а может быть, и своеобразная месть автору за тот сниженный, травестийный образ «Великого барда», который он сотворил на страницах романа.
Неоднократно обращаясь к жизнеописанию великих исторических деятелей и художников (будь то Наполеон, Шелли или Хемингуэй), Энтони Бёрджесс зарекомендовал себя заядлым ниспровергателем авторитетов, с азартом сокрушающим устоявшиеся мифы и традиционные верования. Не стала исключением и «история любовной жизни Шекспира». Оставаясь в рамках стратфордианской доктрины (Бёрджесс явно не был знаком с выкладками Ильи Гилилова!), автор сделал все возможное, чтобы деканонизировать «Короля сонетов», обозначенного в романе запанибратской аббревиатурой W. S. (в соответствии с возрастом героя бедняга переводчик вынужден передавать ее то как «юный Уилл», то как «Уильям»).
Воссоздавая образ Шекспира, Бёрджесс редко поднимается выше пояса и основное внимание сосредоточивает на физиологических, постельно-сексуальных аспектах его жизни. Вот в стельку упившийся Уилл просыпается в объятиях незнакомой девушки (его будущей супруги Энн Хетеуэй). Далее со вкусом живописуется их совокупление: «…Уилл вскрикнул, орошая своим семенем ее горячее лоно, по-щенячьи дрожа всем телом и храпя, словно жеребец…» А вот молодой Шекспир, взятый учителем в дом богатого чиновника, грешит с одним из своих малолетних учеников… А вот его со скандалом выгоняют из публичного дома… А вот он резвится с юным Генри Ризли, графом Саутгемптоном… А вот по-мужицки грубо берет прекрасную негритянку – да-да, ту самую «смуглую леди сонетов». В конце романа она награждает любвеобильного Шекспира «французской болезнью» (сифилисом), и тот начинает буквально разлагаться на наших глазах… Бедный Уилли!
Трудно заподозрить Бёрджесса в завистливом сорокинстве: неотвязном, изнурительном желании обгадить непререкаемого классика. По-своему автор симпатизирует герою, хотя порой так увлекается ощипыванием «Лебедя Эйвона» и превращением его в гадкого утенка, что волей-неволей вспоминаются похабные пиры нашего доморощенного постмодерниста, заплывшего голубым салом.
А ведь роман не лишен достоинств, как то: превосходно переданный (или сочиненный – что одно и то же) исторический колорит елизаветинской Англии; изящной выделки словесная ткань, расшитая реминисценциями и цитатами из шекспировских произведений; умелое использование богатых возможностей несобственно-прямой речи; бегло, но выразительно очерченные фигуры второстепенных персонажей.
Жаль только, что главный герой оказался автору не по силам. Низводя «потрясателя сцены» до уровня умелого ремесленника, озабоченного исключительно финансовыми и сексуальными проблемами, Бёрджесс явно мерил его на свой аршин и потому не смог убедительно показать, как тому удавалось «лепить прекрасные образы из груды обломков, из дерьма, греха и хаоса», откуда, почему явились на свет «Гамлет», «Ричард III», «Макбет», «Юлий Цезарь». Неужели же «плоть решает все» и «литература является лишь эпифеноменом плоти»? Бедный Энтони!
Вполне допускаю: в наши глумливые деструктивно-деконструктивистские времена приземленный бёрджессовский Шекспир многим придется по душе. «Он мал, как мы, он низок, как мы…» Что тут сказать? «Мне не смешно, когда фигляр презренный…»
Или вот вам еще цитатка – на десерт: «Пусть помышляющие о низком любуются низкопробным. Меня же прекрасный Аполлон ведет к источнику муз…»
Литературная газета. 2001. 20–26 июня. № 24–25 (5837). С. 10.
ЗАВОДНОЙ ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС
Позвольте мне для начала предположить или хотя бы сделать вид, что вы ничего не знаете об Энтони Бёрджессе (1917–1993), никогда не читали его книг и даже слыхом не слыхивали о романе «Заводной апельсин» и его скандальной экранизации, снятой Стэнли Кубриком. Равно как и о том, что Бёрджесс родился в Манчестере, в семье джазового пианиста и эстрадной певицы, получил филологическое образование в Манчестерском университете, в 1940-м был призван в армию и мирно пересидел Вторую мировую войну на Гибралтаре (где был прикомандирован к концертной бригаде, а позже – к шифровальному отделу армейской разведки), женился на родственнице писателя Кристофера Ишервуда, после войны пошел работать в школу, зарабатывал меньше тамошнего садовника, а посему завербовался в британскую колониальную администрацию и переехал из Туманного Альбиона в солнечную Малайзию. Там он преподавал туземцам английский язык и литературу, сочинял музыку и написал три романа, которые составили «Малайскую трилогию» (поначалу не снискавшую большого успеха у читателей).
Жизнь в экзотических странах Юго-Восточной Азии (Малайзия и Бруней), месте пересечения великого множества рас, культур и религий, пришлась Бёрджессу по душе: он сблизился с местным населением, выучил малайский (настолько хорошо, что перевел на него «Бесплодную землю» Т.С. Элиота) и наверняка остался бы там навсегда, если бы не два пренеприятных происшествия, которые нарушили его колониальную идиллию. На приеме в честь инспектировавшего заморские территории принца Филипа бёрджессовская жена (весьма эксцентричная особа, склонная к выпивке и истеричным выходкам) устроила пьяный скандал – в результате у Бёрджесса окончательно испортились отношения с местным начальством. Некоторое время спустя прямо во время лекции он упал в обморок. Врачи вынесли неутешительный вердикт – неоперабельная опухоль головного мозга – и сообщили, что жить ему осталось около года. С этим диагнозом Бёрджесса освободили от преподавания и, от греха подальше, отправили умирать в Англию.
Приговоренный врачами к смерти, он не впал в грех уныния и решил провести отпущенный ему срок как можно более плодотворно. Чтобы заработать на жизнь и хоть как-то обеспечить будущее непутевой жены, он заделался профессиональным писателем и, отбросив романтический миф о вдохновении, выработал твердое правило: работать без выходных, выдавая на менее двух тысяч слов в день. 1960 год – «последний год» в жизни Бёрджесса – стал самым насыщенным и плодотворным годом его писательской карьеры. За это время им было изготовлено пять романов: «Однорукий аплодисмент», «Доктор болен», «Вожделеющее семя», «Червь и кольцо», «Мистер Эндерби изнутри». Сверхъестественная производительность просто-напросто напугала издателей Бёрджесса, потребовавших, чтобы некоторые его вещи были опубликованы под псевдонимом (в итоге «Однорукий аплодисмент» и «Эндерби» вышли под псевдонимом Джозеф Келл). И хотя вскоре выяснилось, что мрачные прогнозы врачей были ошибочны, пущенную в ход писательскую машину, в которую превратил себя Энтони Бёрджесс, уже ничто не могло остановить.
«Искусство – это глубоко плотское желание материнства, отцовства. Это само плодородие», – исповедуя сей жизнерадостный принцип, писатель произвел на свет 57 книг. Среди них – более тридцати романов, а также рассказы, повести, поэмы, телесценарии, биографии, учебники по литературе и литературоведческие исследования, эссе, два тома воспоминаний. Поскольку до сенсационного успеха кубриковской экранизации «Заводного апельсина» доходы от романов были весьма скромными, Бёрджесс присоединился к «задорному цеху» критиков, причем с равным успехом выступал на страницах театральных, музыкальных и литературных изданий. (Пикантная подробность: критическую деятельность он начал литературным обозревателем газеты «Йоркшир пост», где продержался около года – до тех пор, пока не получил задание отрецензировать роман некоего Джозефа Келла и не написал о нем благожелательный отзыв; когда редактор газеты разобрался, что к чему, Бёрджесс вылетел оттуда как пробка из бутылки. О патриархальные нравы провинциальной британской прессы!)
Помимо беллетристики и критики наш герой проявил себя в других областях: как композитор – сочиняя симфонии, концерты, сонаты для различных инструментов – и переводчик: одна из последних его публикаций – перевод бессмертной грибоедовской комедии: «Chatsky; or The Importance of Being Stupid» (1993).
Человек титанического трудолюбия и фантастической плодовитости, поражающий многоцветием своего творческого дарования, Энтони Бёрджесс оставил огромное и, чего греха таить, крайне неравноценное наследие (речь, конечно же, идет о литературе – музыкальные опусы Бёрджесса оставим на суд музыковедов). С начала семидесятых, когда благодаря кинематографической музе к нему пришла запоздалая слава и его стали переводить на основные языки мира, писатель пробился в верхние эшелоны литературной табели о рангах. Роман «Заводной апельсин» (1962) с его сверхактуальной темой тотального насилия и трагическим пафосом свободы – «превосходства даже употребленного во зло морального выбора над насаждаемой государством безальтернативностью, необходимости приятия опасностей свободы»366 – остается культовой книгой уже для нескольких поколений просвещенной молодежи, в то же время привлекая к себе все новых и новых исследователей.
Не случайно в одном из томов фундаментальной серии «Современная литературная критика» бёрджессовский раздел целиком и полностью посвящен «Заводному апельсину»367. Подобное распределение читательского и издательского внимания характерно и для восприятия Бёрджесса в России. Достаточно подсчитать число переводов и тиражи «апельсинных» изданий, чтобы прийти к однозначному выводу: как и на Западе, для нашего широкого читателя Энтони Бёрджесс остается автором одной книги. Перефразируя хрестоматийную формулу Маяковского, «мы говорим Бёрджесс – подразумеваем “Заводной апельсин”»…
Однако культ культом, но нельзя забывать и о других произведениях сверхпродуктивного писателя. Как и всякий значительный художник, Бёрджесс не равен своей литературной репутации и нуждается в более объективном подходе. В последнее время переводы бёрджессовских романов посыпались на российских читателей, словно горох из вспоротого мешка, а в прошлом году издательство «Центрполиграф» одарило нас чем-то вроде ненумерованного собрания сочинений: к перепечаткам ранее переводившихся вещей, беллетризованной шекспировской биографии «Nothing like the sun…» («На солнце не похоже…», 1964), обозванной в честь голливудского блокбастера «Влюбленный Шекспир», и антиутопии «Вожделеющее семя» (1962) прибавились новые переводы: «Доктор болен» (1960)368, «Однорукий аплодисмент» (1961)369, «МФ» (1971)370.
Трудно сказать, кем останется Бёрджесс в читательской памяти. Умелым ремесленником, «апостолом массовой беллетристики»371, штамповавшим легковесные романчики на потребу невзыскательной публики? Или же классиком литературы ХХ века, удачно скрестившим формально-композиционное и языковое трюкачество à la Джеймс Джойс (этого модернистского монстра Бёрджесс боготворил) с традицией плутовского романа? А может быть, он чистокровный постмодернист (да простят меня за столь обветшалый от бессмысленного употребления термин!), без устали пародировавший классические образцы и цинично разрушавший репутации великих людей прошлого – того же Шекспира, который представлен литературным поденщиком и развратником, или же Наполеона и Китса (оба выведены в иронически сниженном виде, соответственно, в романах «Наполеоновская симфония» и «АВВА АВВА»)?
Похоже, что все эти трактовки в равной мере применимы к Бёрджессу. «Моралист и балагур, искатель приключений, кудесник слова, великий сокрушитель прописных истин, <…> странствующий рыцарь, блуждающий огонек, вездесущий, всё впитывающий непоседа» (Г. Ролэн), он парадоксально сочетал в себе высоколобого экспериментатора и бесхитростного массовика-затейника и потому целиком не укладывается ни в одну из литературных ниш. И свежепереведенные романы подтверждают подобное предположение.
«Однорукий аплодисмент», несмотря на свое эффектное дзен-буддистское заглавие, явно принадлежит к числу непритязательных пустяков, написанных для заработка. (Из ранее переводившихся бёрджессовских опусов к этой «низовой» категории я бы отнес «Трепет намерения» (1966) – неуклюжую квазипародию на шпионские боевики Яна Флеминга, недалеко ушедшую от оригинала, – и мертворожденного «Человека из Назарета» (1979) – скучноватый пересказ Четвероевангелия, обязанный появлением на свет заказу написать сценарий для Франко Дзеффирелли: переделать сценарий в роман для такого мастера, как Бёрджесс, – раз плюнуть (не пропадать же добру!), однако говорить о каких-то художественных открытиях или метафизических глубинах «Евангелия от Энтони», увы, не приходится.)
Вернемся к «Однорукому аплодисменту» – истории о том, как внешне заурядный английский работяга, автомеханик Говард Ширли сказочно разбогател, благодаря фотографической памяти выиграв главный приз на телевикторине (прабабушке наших доморощенных «о, счастливчиков», «русских рулеток» и «полей чудес»), в несколько раз умножил состояние на скачках, а затем, быстро пресытившись пошловатыми прелестями буржуазной роскоши, решил покинуть «испорченный мир», заодно прихватив с собой красавицу жену Дженет. Выдержанный в сугубо реалистическом ключе, роман тем не менее вышел у Бёрджесса столь же малоубедительным, как давний соцреалистический хит застойной драматургии, в котором сверхсознательные советские работяги отказывались от премии.
Неудача «Однорукого аплодисмента» во многом обусловлена несоответствием претендующего на серьезность замысла избранной манере повествования, которое ведется от лица жены взбунтовавшегося нувориша. Птичий интеллект этой хорошенькой, но пошловатой мещаночки спасает ее от преждевременного ухода в мир иной – ослепительному «сиянию стоической смерти» она предпочитает серое и сытое обывательское счастье: убивает мужа, пакует его труп в чемодан и вместе с любовником отправляется во Францию проматывать унаследованное богатство, – зато по рукам и ногам сковывает автора. Добиваясь психологической достоверности, он вынужден имитировать и примитивный стиль мышления, и бедный язык магазинной продавщицы (все эти неотвязные «типа» и «как бы»), упрощать и обесцвечивать мир, показанный с точки зрения ограниченной повествовательницы. В итоге получается на редкость скучная картина, а оживить ее автору нечем: фабула слишком незамысловата и малоправдоподобна; герои, внешне правдоподобные, но чересчур блеклые, не способны вызвать к себе ни любви, ни ненависти, ни вялого любопытства; язык (и без того неизбежно потерявший при переводе) нарочито обеднен и поэтому не может удерживать всё произведение на плаву, как это получилось у Бёрджесса в «Заводном апельсине», где взбит пьянящий стилистический коктейль из слэнга лондонских «тедди бойс» и питерских стиляг.
Другой, более поздний бёрджессовский роман, удостоившийся перевода на русский, сделан искуснее. В определенной мере он является программным произведением зрелого мастера (между прочим, ставившего эту вещь гораздо выше остальных романов372). Опубликованный аккурат между «Адой» (1969) и бартовской «Химерой» (1972), «МФ» (а речь пойдет именно о нем) написан в том гротескно-пародийном стиле, который стал моден в шестидесятых-семидесятых годах прошлого века и чуть позже получил терминологический ярлык «постмодернизм». Во всяком случае, весь обязательный постмодернистский набор здесь налицо. Тут вам и алогичный сюжет (чье скачкообразное движение сопровождается оглушительными взрывами лингвистической пиротехники), и персонажи-маски (обделенные в плане психологической глубины и многомерности и поэтому неспособные удержать читательское внимание), и – как же без этого? – травестийное обыгрывание бродячих мотивов и архетипов мировой литературы (в частности, темы рокового проклятия, тяготеющего над семейством главного героя, мотивов двойничества и неожиданного узнавания родства). Литературными донорами, подпитывающими пародийную «опупею» Бёрджесса, служат античный миф об Эдипе и схожая по содержанию легенда североамериканских индейцев алгонкинов, почерпнутая автором у Клода Леви-Стросса. Вот ее краткий пересказ: герой убивает двойника, пытавшегося изнасиловать его родную сестру; поскольку убитый оказывается сыном всесильной колдуньи, убийца вынужден выдавать себя за свою жертву и, более того, вступить в брак с собственной сестрой, а затем, когда и кровосмесительная связь не устраняет подозрений новоиспеченной мамаши, принужден разгадывать коварные загадки говорящей совы, вымуштрованной волшебницей. Если вы успели прочесть бёрджессовский роман, то легко узнаете в этом пересказе его фабулу.
Алгонкинский сценарий персонажи «МФ» разыгрывают на фантастическом острове Кастита, затерявшемся где-то возле Макондо и Эстотии. Это откровенно условное, игровое пространство, где отменены законы логики и здравого смысла (по улицам свободно разгуливает прокаженный маньяк, католические процессии в честь святых великомучениц выливаются в карнавальные шествия, в бродячем цирке клоунами работают священники и философы, в свободное от представлений время рассуждающие о кантовской «вещи в себе»), а язык то и дело сворачивает с привычного коммуникативного курса в дебри этимологических изысканий, каламбурных ловушек и прочих словесных забав в духе Джойса и Набокова: book boot boat coat coal…
Протагонист, забубенный американский студент Майлс Фабер, отправляется туда в поисках духовного обновления. Его привлекает загадочная фигура местного гуру, писателя и художника Сиба Легеру. Отгадав массу хитроумных загадок, встретив своего пошловатого и сексуально озабоченного двойника, переспав с сестрой и чудом избежав гибели от дрессированной стаи пернатых хищников, названных по именам англоязычных авторов, современников Бёрджесса (Айрис [Мёрдок], Мюриел [Спарк], Памела [Хэнсфорд Джонсон], Норман [Мейлер], Сол [Беллоу], Филип [Рот] и т.д.), – пройдя через положенные мифическому герою испытания, бёрджессовский повествователь обнаруживает, что никакого Сиба Легеру не было, что творения «великого писателя» на самом деле – «психотерапевтические эксперименты» доктора Фонтанты (новоявленного фаберовского дедушки) и его клиентов, невротиков и безумцев, испытывавших «обманчивую радость в обманчивом творческом акте, за которой следует ужас от осознания безумия, дурноты и грязноты псевдотворения».
Неожиданный финал как будто облагораживает ту тяжеловесную эдипово-алгонкинскую байду, которую нагородил автор, и позволяет рассматривать роман едва ли не как едкий памфлет против вошедшего в моду антиискусства с его пафосом «нарушения порядка, разрыва связей», хамского умерщвления традиции и «безответственной культивации хаоса».
«Искусство берет сырой материал в окружающем мире и пытается придать ему осмысленную форму. Антиискусство берет тот же материал и стремится к бессмысленности. <…> Мания полной свободы это, фактически, маниакальное стремление к тюрьме», – вывод, которым автор венчает инцестно-лингвистические авантюры Майлса Фабера, весьма симпатичен. Жаль только, что он не может искупить разительных недостатков романа: марионеточную одномерность персонажей, рваную, неряшливую манеру повествования, нарочитую искусственность сюжетных развязок, катастрофическую бессодержательность некоторых фрагментов, целиком и полностью подчиненных лингвистическим игрищам автора. (Эти игрища – изрядно поблекшие в переводе и мало что говорящие российскому читателю – начинаются уже с заглавия: согласно авторитетному мнению англоязычных исследователей, MF – не только инициалы героя-повествователя, но и сокращенный вариант motherfucker, ругательства из речевого арсенала чернокожих американцев.)
Шарж Ричарда Уилсона
В общем, как добросовестный туроператор я должен предостеречь вас от поездки на Каститу: разочарование будет столь же острым, как у Майлса Фабера. Ожидая пряной экзотики и захватывающих приключений, вы получите безотрадные блуждания по типовой выделки лабиринту, украшенному, словно задник провинциального фотоателье, аляповатыми курортными картинками.
Вместо этого сомнительного удовольствия рекомендую вам перенестись в столицу Туманного Альбиона – место действия романа «Доктор болен», на мой вкус, одного из лучших произведений Бёрджесса, переведенных на русский язык. Там для вас подготовлена впечатляющая увеселительная программа, включающая погони, потасовки, дегустацию греческих вин (которую проведет некто со зловещей фамилией Танатос) и незабываемый по своей жизнерадостной тупости телеконкурс «Почетная Лысина Большого Лондона», где развязный остряк-ведущий не хуже, чем Пельш или Якубович, попотчует вас амикошонскими шутками-прибаутками.
Вместе с главным героем (лингвистом Эдвином Прибоем, приговоренным врачами к безнадежной операции на головном мозге, но бежавшим из больницы в поисках… то ли неверной жены, то ли самого себя) вы окунетесь в кипучий водоворот столичной жизни: прошвырнетесь по пабам и дансингам, заглянете за кулисы оперного театра, посетите Сохо, элитарный клуб «Китайские белила» – прибежище претенциозной богемной молодежи (зло высмеянной Бёрджессом), послушаете поп-идолов предбитловской эры, которые под оргиастические вопли поклонниц сбацают вам шлягер о тяготах тинейджерской любви, и, самое главное, познакомитесь поближе с обитателями лондонского дна: попрошайками, мелкими воришками, сутенерами, проститутками, пьяницами и контрабандистами.
Перед вами предстанут колоритнейшие типажи: чокнутый мафиозо, мазохист и флагеллант Боб Каридж, воспылавший противоестественной страстью к главному герою; артистичный слуга просцениума Лес и его чернокожая сожительница Кармен, изъясняющаяся главным образом ругательствами; близнецы Лео и Гари Стоуны – неунывающие жулики, прошедшие огонь, воду и медные трубы (первый «был каталой, фиктивным санитарным инспектором, официантом, матросом, торговал на рынке средством от облысения; продавал вразнос, шустро вставляя ногу в открытую дверь, ворованные энциклопедии, японские рубашки и собачий корм; жарил чипсы из картошки на машинном масле, держал клубы, банкротился»; второй «служил у букмекера на побегушках, корабельным стюардом, охотно поставляя секс вместе с утренним чаем; мойщиком посуды, поваром; разносил рождественские открытки, жил на содержании…»). В каждом подмечена характерная черточка, каждый на свой лад уморительно смешно коверкает нормативный язык. Автору (отдадим должное и переводчице) удалось соткать удивительно яркую языковую ткань, воспроизведя алогизм и бесформенность живой речи и передав особенности индивидуальной манеры каждого персонажа: будь то «базарный кокни» неграмотного сэндвичмена Хиппо, арго лондонских контрабандистов, «толкавших котлы» (то есть сбывавших дешевые часы с гарантированным на пару дней ходом), профессорский язык Эдвина Прибоя или сюсюкающий еврейский говорок братьев Стоун: «Сейсяс, – сказал Гарри Стоун <…>, – сей распроклятый сяс присутствуюсий тут перфессер продолзит свое первое сенсасионное выступленье по телику осередной демон-ей-в-дысло-страсией треклятых слов. В прослый раз – весь мир помнит, идут телеграммы с Китая, с Перу, и со всяких других загранисьных проклятых местесек, распроклятые телеграммы узе просто некуда класть…» и т.д.
Конечно, персонажи «Доктора…» – всего лишь ярко раскрашенные комедийные маски, потешные куклы, разыгрывающие развеселую, с привкусом черного юмора экстраваганцу. Однако все они, в отличие от персонажей «МФ» и «Однорукого аплодисмента», наделены редкостным обаянием и живут отнюдь не кукольными страстями.
Эдвину Прибою – тому вовсе не до смеха. Всю сознательную жизнь он прозябал в уютном коконе чистой науки, в стерильном мирке фонем и лексем, не имеющих прямого отношения к грубой действительности. Но вот волею судьбы книжный червь выброшен в жестокий мир, где слова «смерть», «измена», «отчаяние» наполнены реальным содержанием и от человека требуется нечто большее, нежели рассуждения о народной этимологии и «билабиальных фрикативах в лондонском английском низшего класса в XIX веке». И хотя начиная с одиннадцатой главы сюжет романа колеблется между фантастической явью и прозаическим послеоперационным бредом, к финалу эксцентрическая комедия о злоключениях незадачливого филолога-рогоносца оборачивается настоящей трагедией. Беспомощный герой теряет работу, от него уходит жена – «Ты вроде машины, а мир нуждается в машинах. <…>. Тебя можно использовать. Но мне машина не нужна», – и он, украв чужую одежду, в очередной раз сбегает из больницы, отправляясь на поиски «пикантных авантюр» и загадочного господина по фамилии Танатос, что на греческом, как всем хорошо известно, означает «смерть».
Трагические нотки – безусловно, отзвуки невеселых жизненных обстоятельств самого автора – настойчиво вплетаются в партитуру комической фантасмагории, придавая ей дополнительное смысловое измерение и возвышая ее до уровня настоящего искусства.
«Я пытался писать комические романы о трагической участи человека» – так формулировал свое творческое кредо Энтони Бёрджесс. Видит Бог, иногда ему удавались настоящие шедевры, выдерживающие сравнения с лучшими образцами классической литературы.
И, думается мне, именно такого рода произведения Бёрджесса, как «Доктор болен» (по точному определению критика Бернарда Бергонзи – «пикарескные романы с метафизическим оттенком»), вобравшие в себя все лучшее, что дала великая традиция английской сатиры – от плутовских романов Филдинга и Смоллета до черных комедий Ивлина Во, – составляют наиболее ценную часть его необъятного творческого наследия.
Вполне допускаю, что Бёрджесс никогда не займет в сознании российских интеллектуалов верхних ступеней ценностной иерархии, которые прочно зарезервированы за такими его соотечественниками, как Фаулз и Голдинг. «Возможно, стать великим писателем ему мешали его непоседливость, нетерпеливость, сверхпродуктивность» (точка зрения одного из приятелей Бёрджесса, американского прозаика Пола Теру)373 и, прибавим от себя, слишком большое количество откровенной халтуры, рассчитанной на продажу: подобный балласт свинцовым грузом тянет на дно репутации даже самых талантливых и изобретательных авторов.
Но если под художественной литературой прежде всего понимать отдельно взятые творения человеческой фантазии, а не шаткие пирамиды репутаций и череду скоропортящихся «измов», тогда многим вещам Бёрджесса, уже переведенным или ждущим перевода на русский, гарантировано почетное место на книжных полках истинных ценителей изящной словесности.
Новый мир. 2003. № 2. С. 174–180.
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРИТАНЦА В РОССИИ
Летом 1961 года на теплоходе «Александр Радищев» из «старой доброй прогнившей капиталистической Англии» в славный город-герой Ленинград прибыл турист. Звали его Джон Энтони Бёрджесс Уилсон. (В недалеком будущем ему предстояло прославиться на весь мир в качестве автора романа «Заводной апельсин», замысел которого возник после посещения Страны Советов.) Стандартному «интуристовскому» набору – крейсер «Аврора», матрешки, Эрмитаж – британский турист предпочел иные развлечения. Во-первых, злонамеренно подрывая советскую экономику, он удачно спекулировал полиэстеровыми платьями (толкал их, по семь рублей за штуку, в туалетах «Астории» и «Метрополя»), а во-вторых, познакомился с питерскими стилягами, которые прилежно копировали повадки лондонских «тедди бойс». За трёшник в сутки Бёрджесс снимал квартиру у одного из новых знакомых (где-то возле станции метро «Кировский завод»)374: длительное проживание в «Астории» было не по карману тогда еще малоизвестному беллетристу, а вернуться в Англию он не мог, поскольку его алкоголичка-жена, приехавшая в Город на Неве вместе с ним, угодила в больницу. Супруга Бёрджесса была та еще штучка: в пьяном виде она устроила на теплоходе форменную обструкцию – орала перепуганным интуристовцам: «Почему, черт возьми, вы запретили “Доктора Живаго”?!» – а попав в больницу, не угомонилась и требовала у нянечек джин и сигареты. Из всех русских слов полиглот Бёрджесс смог вдолбить ей только одно – horrorshow (позже оно, как и множество других русских словечек, украсило англо-русский жаргон «надцать», на котором изъяснялись герой-повествователь «Заводного апельсина» и его drооgs).
Впрочем, приключения мистера Бёрджесса в стране большевиков окончились благополучно: по окончании курса лечения супругам предоставили шикарную каюту на теплоходе «Балтика» (в ней, по местной легенде, путешествовал сам Хрущев), и растроганный Бёрджесс сочинил для тамошнего оркестра небольшую джазовую вещицу под названием «Чайка».
Впечатления от эпохальной поездки в страну недоразвитого социализма легли в основу если не самого лучшего, то, во всяком случае, самого веселого бёрджессовского романа «Клюква для медведей» (в оригинале – «Honey for the Bears» (1963), так что превращение меда в клюкву оставим на совести переводчика)375. Впечатления эти оказались не столь мрачными, как следовало бы ожидать от пессимистично настроенного автора зловещих антиутопий, повествующих о крахе традиционных культурных ценностей и деградации западной цивилизации («Вожделеющее семя», «Заводной апельсин», «Конец мировых новостей», «1985»).
Образ Советской России эпохи хрущевской «оттепели» лишен у Бёрджесса демонического ореола «империи зла», а сам роман не имеет ничего общего с расхожей антисоветчиной (мягко и ненавязчиво перетекающей в русофобию), свойственной многим англо-американским беллетристам, обращавшимся к «русской теме». Перед нами не политический памфлет и даже не «острая сатира», как заявлено в аннотации, а, скорее, экстравагантная комедия положений с элементами буффонады, пародирующая штампы шпионского романа и высмеивающая стереотипные представления о России, вбитые обывателям западной прессой.
В своих мемуарах (где, кстати, о Ленинграде вспоминается со сладким чувством ностальгии) писатель признавался, что ожидал увидеть нечто замятинско-оруэлловское – спаянное железной дисциплиной «полицейское государство», футуристическую архитектуру из стекла и бетона, обезличенные массы, ведомые к математически безупречной коммунистической гармонии, – но вместо этого обнаружил бедность, грязь, добродушное пьяное разгильдяйство – типичный российский бардак, слегка приперченный идиотизмом советской идеологии. (Вопреки пропагандистским заклинаниям о непроницаемом «железном занавесе» советские пограничники даже не проверили у Бёрджесса его багаж, и тот смог преспокойно провести не только контрабандные шмотки, но и запрещенного «Доктора Живаго»).
Широкие улицы с бодрыми плакатами (улыбающиеся Хрущев и Гагарин), кариозные мостовые, «цинично запущенные, будто в Советском Союзе ничего вокруг, кроме космоса, не замечают», «потрясающей ветхости, некрашеные здания», «дома покрыты ранами с разлохматившимися повязками из крошащейся лепнины, с потрескавшимися стеклами», скудный транспорт (такси днем с огнем не сыщешь) – таким неказистым и трогательно провинциальным предстает Ленинград перед бёрджессовским протагонистом Полом Хасси, мелким торговцем, решившим поправить свои дела спекулятивными операциями в стране вечного дефицита.
Разумеется, Бёрджесс с его острым сатирическим чутьем и вкусом к комическому абсурду зорко подмечает колоритные приметы советской действительности: ужасы ненавязчивого сервиса (бесцеремонная гостиничная челядь, без стука вторгающаяся в номер, нагловатые официанты, которых приходится чуть ли не на коленях умолять, чтобы они обслужили оголодавшего интуриста; лифт вечно украшен табличкой «Nуe rabotayet», а на люстре помпезного номера люкс «паук устроил выставку достижений советского паутиноплетения»), чудовищные общепитовские забегаловки, где коньяк запивают шампанским и закуска сведена к аскетическому минимуму – «вместо хлеба черный камень, вместо рыбы чешуйчатые ошметки в прогорклом масле», наконец, туземцы, жмущиеся в очередях и переполненных автобусах, – некрасиво и бедно одетые люди, у которых слишком мало денег, чтобы покупать модные изделия, привезенные Хасси. «Купить их все не прочь, только ни у кого нет при себе на это денег. Похоже, они все пропивают», – мрачно рассуждает горе-коммерсант, явно переоценивший покупательную способность рядовых советских граждан. Отчаявшись обогатиться на своем товаре (и к тому же преследуемый двумя настырными кэгэбэшниками), он раздает весь контрабандный груз обалдевшим от счастья ленинградцам прямо на улице.
Аналогичная сцена имела место в действительности, только не на Невском, возле «Дома книги», как в романе, а в холле гостиницы «Астория», когда Бёрджесс в припадке любви к русским людям стал раздаривать нелегально привезенные платья (правда, в отличие от своего героя, писатель сохранил британское здравомыслие и часть вещей оставил в номере: «иначе любовь завела бы слишком далеко и я потерял бы слишком много денег»).
Перечеркнув коммерческие планы Хасси, автор неожиданно завершает и другую сюжетную линию романа: сумасбродная Белинда, жена героя (как и супруга Бёрджесса угодившая в больницу) влюбляется в своего лечащего врача, Анну Петровну Лазуркину (еще одно реальное лицо, упомянутое в мемуарах писателя) и остается в СССР; сам Хасси обнаруживает в себе гомосексуальные наклонности, когда в пьяном виде пристает к приютившим его питерским стилягам.
В общем, Энтони Бёрджесс верен себе. Насмешник и парадоксалист, он не только причудливо выворачивает сюжет, но и камня на камне не оставляет от традиционных представлений среднего европейца о себе и окружающем мире, в том числе и о Советской России и «загадочной славянской душе». Оказавшись на вечеринке среди питерских «звездных мальчиков», балдеющих от джаза и романов «Гемингуэя», подвыпивший Пол Хасси наивно взывает к их патриотизму – «Вспомните славные традиции вашего русского искусства – Чайковский, Мусоргский, Бородин. <…> Ведь эта халтура (то есть американский джаз. – Н.М.) им в подметки не годится», – а после призывает молодых оболтусов повторить пьяный подвиг толстовского Долохова (после их благоразумного отказа англичанин проделывает трюк на подоконнике самостоятельно: раскорячившись над девятиэтажной бездной и вылакав вместо канонической бутылки рома «пузырь» водки).
Шарж Джона Спрингса
В других эпизодах романа старое европейское изобретение l’âme Slave подается в иронично-сниженном, комично-гипертрофированном виде: первый встречный таксист подвержен «славянскому маниакально-депрессивному циклу», разгоряченные выпивкой стиляги самозабвенно декламируют «Я вас любил…» (при этом «у официанта, стоявшего рядом, лицо обмякло от печали»), а свирепые комитетчики, охотящиеся за протагонистом, на поверку оказываются сентиментальными пьяницами, которые, словно шаржированные герои Достоевского, при первом удобном случае норовят поплакаться в жилетку своему визави. Не случайно у всех русских персонажей романа – искусственные, нарочито литературные фамилии: Зверков, Мизинчиков, Опискин (так, если помните, звали героев Достоевского соответственно из «Записок из подполья» и «Села Степанчикова»), Прутков, Карамзин.
Достается от автора и диссидентскому мифу: фрондирующие богемные юноши оказываются на содержании КГБ, а «узник совести», которого главный герой вывозит из СССР под видом жены, – банальным убийцей.
Нет, автор «Клюквы для медведей» не выказывает себя большевизаном или коммуноидом à la Бернард Шоу или Ромен Роллан. Даром, что ли, он вкладывает в уста Хасси нелицеприятные суждения и о «своре революционеров из среднего класса, за которыми привязанной к хвосту жестянкой послушно лязгал пролетариат», и об абсурдных порядках «государства рабочих и крестьян». Другое дело, что писатель не отождествлял дряхлеющую Советскую империю с Россией, ее народом и в уста одного из героев вложил провидческие, как показала история, слова о неизбежном крушении тоталитарного монстра: «…Эта их нынешняя система – не более чем эксперимент. Она уйдет, она погибнет, она ликвидирует саму себя. Россия – нечто большее, чем то, что представляют нам нынешние попрыгунчики, корчащие из себя вождей. Вы просто не имеете представления о широте ее души. И некий внутренний голос говорит русским, каким бы дремучим ни был их догматизм, что слова таких, как я, при всей их язвительности и грубости выражений продиктованы любовью».
Бог с ним, с догматизмом. Хочется верить, что, прочтя этот симпатичный плутовской роман, по достоинству оценив его неоспоримые художественные достоинства – энергичный повествовательный ритм, живость диалогов, сюжетную собранность, убийственную точность описаний и выразительность деталей, – сквозь веселую дурашливость, пополам с грустью и сарказмом, вы почувствуете не только сатирический яд, но и вдохновившую автора любовь, в которой он, много лет спустя подводя итог своим суматошным ленинградским похождениям, признался на страницах воспоминаний. «Что можно делать с этими людьми, – имея в виду нас с вами, вопрошал писатель, – только любить их. И разве существуют люди, более достойные любви?»376
Что можно делать с книгами, одухотворенными подобным всепрощающим чувством? Только любить, а значит, читать и перечитывать. И разве существуют книги, более достойные любви?
Знамя. 2003. № 4. С. 228–231.
СМЕШНОЙ НЕДУГ МИСТЕРА ЭНДЕРБИ
Летом 1963 года малоизвестному английскому романисту, проживавшему в местечке Энгхэм, пришла бандероль из газеты «Йоркшир пост», где он подхалтуривал в качестве литературного обозревателя. В упаковке лежала книжная новинка – роман Джозефа Келла «Мистер Эндерби изнутри»; редактор просил как можно быстрее его отрецензировать. Поколебавшись, наш герой накатал умеренно доброжелательную рецензию, честно предупредив: творение Джозефа Келла – «грязная книга», способная отпугнуть впечатлительных читателей, поскольку изобилует физиологическими подробностями и «превращает в посмешище секс, религию и государство».
Спустя неделю после публикации рецензии в британской прессе, сохранявшей тогда остатки патриархальной добропорядочности, вспыхнул скандал. Газета «Дейли мэйл» выступила с разоблачением и оповестила весь честной народ о том, что Джозеф Келл и автор недавней рецензии – одно и то же лицо. Возмущенный редактор «Йоркшир пост» публично предал анафеме беспринципного ловчилу, чье имя было… Да вы и сами уже догадались – Энтони Бёрджесс. «Мистер Эндерби изнутри» – один из тех пяти романов, что были написаны им в течение 1960 года. Столь невероятная производительность труда объясняется очень просто: врачи обнаружили у Бёрджесса неоперабельную опухоль головного мозга и заявили, что 1960 год будет последним годом его жизни; вот и стал бедняга строчить роман за романом в надежде хоть как-то обеспечить будущее своей жены.
История больничных злоключений писателя (вопреки прогнозам британских эскулапов дожившего аж до 1993 года) легла в основу пикарескного романа «Доктор болен» (1960), нашпигованного гэгами, трагифарсовыми ситуациями и потешными персонажами буффонадного пошиба. «Мистер Эндерби изнутри»377 (он вышел под псевдонимом по просьбе издателей, напуганных чудовищной плодовитостью автора) внешне выдержан в том же травестийном ключе. Главный герой, косноязычный, неопрятный, преждевременно одряхлевший поэт Эндерби, ведущий затхлое, полурастительное существование в курортном городке на побережье Ла-Манша, то и дело попадает в переделки: страдая метеоризмом, он в самые неподходящие моменты неприлично громко испускает ветры (во время торжественной речи амбициозного издателя Гудбая, который хотел было осчастливить его литературной премией, или во время свидания с внезапно обнаружившейся почитательницей, красавицей журналисткой Вестой Бейнбридж); ему постоянно угрожают ревнивые мужья – даром что этот тихоня и анахорет смертельно боится женщин и лишь изредка пробавляется онанизмом, успокаивая плотские позывы; блюдо, приготовленное им по рецепту из дамского журнала, едва не отправляет его к праотцам, поскольку вместо аппетитного и питательного «Сюрприза из спагетти с сыром» он, словно Вовка из Тридевятого царства, сварганил нечто невообразимое из горелого теста и неочищенных долек чеснока; наконец, жуликоватый собрат по перу, представленный во всех антологиях одним-единственным графоманским стихотворением, крадет у него замысел символической поэмы о Минотавре и Христе, стряпая сценарий костюмного боевика.
Сам Эндерби представляет собой откровенно фарсовую фигуру. Его рабочий кабинет – совмещенный санузел с ванной, доверху заваленной рукописями. Творит бёрджессовский «любимец муз и граций» сидя на унитазе, так что сочинение стихов нередко сопровождается дефекацией, «трескучими взрывами в кишечнике» и телесными выхлопами, которые чаще, чем хотелось бы читателю, воспроизводятся автором с помощью затейливых звукоподражаний: «Пфффруммпффф…», «Брррррп…», «Перрпф…».
Скатологические мотивы назойливо сопровождают Эндерби на протяжении романа и выстраиваются в кощунственную аллегорию, уподобляя творческий процесс известному физиологическому отправлению. Казалось бы, на вопрос, который из века в век задают себе поэты – «Скажи: твой беспокойный жар – / Смешной недуг иль высший дар?» – Бёрджесс выбирает первый вариант ответа.
Но бёрджессовский роман куда более серьезен, нежели кажется на первый взгляд. По сути, он трагичен, ибо рассказывает о печальной участи поэта в наш непоэтичный «железный век», прекрасно обходящийся без его «мусикийских восторгов».
Впрочем, и трогательно-нелепый Эндерби, прячущийся от пугающей повседневности в туалетной комнатке, платит враждебному миру той же монетой и черпает вдохновение в чем угодно – в античной и христианской мифологии, в предметах убогой съемной квартирки, в воде для умывания, в рулоне туалетной бумаги, – но только не в той жизни, которая протекает за пределами его холостяцкой берлоги. «Поэзию делают бунтари, изгнанники, аутсайдеры… Поэты ни в чем не нуждаются, кроме самого себя», – заявляет он Весте Бейнбридж, тщетно пытающейся вытащить его из добровольного заточения и примирить с обществом (для чего едва ли не насильно женит на себе и увозит в Рим).
Чары английской Ольги Ильинской (вспоминаем «Обломова», а заодно и самоотверженную неудачницу из «Защиты Лужина») оказываются слишком слабыми. Погрязший в собственных фантазиях и комплексах герой просто-напросто сбегает от нее в Англию, и уже там его настигает расплата: творческое бесплодие, попытка самоубийства, промывание мозгов в психиатрической лечебнице, где ему внушают, что время лирической поэзии прошло, что занятия литературой – признак затянувшегося отрочества, такой же, как «мастурбация, стремление запереться в уборной, бунт против общества и религии». В конце романа перед нами предстает уже не эксцентричный бунтарь и аутсайдер Эндерби, а довольный жизнью обыватель Пигги Хогг, «полезный член общества», после принудительного лечения потерявший не только свое прежнее беспокойное «я», но и фамилию (сюжетный поворот, хорошо знакомый нам по «Заводному апельсину»).
Шарж Дэвида Смита
Предвижу, что, прочитав книгу, читатель будет разочарован: слишком многое обещал колоритный бёрджессовский персонаж и слишком блеклыми оказались его «римские каникулы» (вторая часть романа). Скомканным кажется грустный финал: создается впечатление, что автор просто не знал, что ему делать с удачно найденным героем и «проклятыми» вопросами о смысле творчества.
Но не будем торопиться с оргвыводами, ведь «Мистер Эндерби изнутри» – всего лишь первая часть тетралогии о незадачливом служителе муз. Уже в 1968 году появилось продолжение романа, «Мистер Эндерби снаружи», в котором бёрджессовский протагонист, мирно работавший барменом, втягивается в водоворот новых приключений. Во время презентации поэтического сборника лидера рок-группы «Crewsey Fixers» Эндерби–Хогг обнаруживает, что книга целиком составлена из его ранних стихотворений, оставленных во время бегства из Рима у Весты Бейнбридж. Став к тому времени менеджером суперпопулярной группы (прообразом которой, по признанию писателя, послужили «Битлз»), она передала творения супруга напористому рокеру, благодаря ей вошедшему в литературный истеблишмент. Во время концерта и презентации поп-идол (окарикатуренный вариант Джона Леннона) погибает от руки завистника. (Позже Бёрджесс гордился тем, что предсказал убийство Леннона.) Улики указывают на злополучного Эндерби, и он бежит из Англии в Испанию, затем в Танжер, где знакомится с представителями авангардной богемы; там к нему нисходит Муза, дарующая поэтическое вдохновение и уверенность в собственных силах.
В следующем и, по мнению критиков, лучшем романе серии, «Завещание заводному миру, или Конец Эндерби» (1975), описываются нью-йоркские злоключения Эндерби, которого обвиняют в создании садистского порнофильма (отголосок истории с кубриковской экранизацией «Заводного апельсина»). В конце «Завещания…» Эндерби вроде бы как умирает, но только лишь для того, чтобы воскреснуть в заключительном романе тетралогии, «Смуглая леди Эндерби, или Эндерби без конца» (1984).
В общем, читателям, клюнувшим на «Мистера Эндерби изнутри», стоит запастись терпением и ждать, когда «Центрполиграф» или какое-нибудь другое издательство одарит их переводами следующих томов плутовской эпопеи. Во всяком случае, у докопирайтного «Мистера Эндерби снаружи» есть все шансы, чтобы его перевод попал на книжные полки российских бёрджессолюбов378. (Другое дело, как переводчик справится с многочисленными стихотворными вставками и с подборкой «избранных стихотворений» Эндерби, венчающей роман.) Сложнее с последними двумя романами: наши издатели не очень любят тратиться на приобретение авторских прав и вряд ли в скором времени изменят своим привычкам. Остается одно – учить английский язык и читать Бёрджесса в оригинале. Чего вам и желаю.
Иностранная литература. 2003. № 8. С. 277–280.
ВСЕ В СЛАКУ!
Шарж Уильяма (Уилли) Раштона
Вы не были в Слаке? Не были?! Не восхищались барочными изысками собора Святого Вальдопина? И не осматривали величественный замок, построенный епископом Вламом по прозвищу Потаскун? И не посещали мавзолей Григорика, который «в 1944 году, когда либеральные элементы заколебались, решительно вручил страну советским освободителям»? И не сибаритствовали в ресторане «Слака», где за умеренную плату в долларах, фунтах или, на худой конец, в местных влосках предлагаются – цитирую рекламный буклет – «такие деликатности наших кухмистеров, как кырбii чурба (баранина протушенная в горшочке), cotelette du porc (свинская отбивная), саркii банату (паштет из овчины) и знаменитое мясо по-боярски, оживленное фольклоровыми песельницами и типичным оркестром»? И не пробовали тамошний персиковый коньяк ротьвиттi?! Вы многое потеряли…
Всем, кто хочет стряхнуть с себя паутину житейских забот и разнообразить рутинный ритм существования яркими впечатлениями, настоятельно советую: отложите дела и отправляйтесь в Слаку, столицу маленькой, но потрясающе красивой восточноевропейской страны, не отмеченной на современных картах, приютившейся на пересечении торговых путей где-то между Нейтралией и Руританией.
Правда, для того, чтобы попасть в Слаку, нам придется совершить путешествие во времени и окунуться в эпоху жесткого противостояния стран недоразвитого социализма растленному Западу, страдающему от безработицы, промышленного спада, деиндустриализации и садомонетаризма. Ведь Слака, какой ее придумал Малькольм Брэдбери, – столица «бескомпромиссной соцстраны, входящей в СЭВ и Варшавский договор», так что беспечного путешественника поджидают все подзабытые прелести прекрасного социалистического далёка: назойливое внимание спецслужб (аналогом Штази или КГБ в Слаке является ХОГП, «основной работодатель страны», поскольку одна половина населения неусыпно следит за другой), ненавязчивый гостиничный сервис (даже в шикарном номере лучшей столичной гостиницы в ванной нет мыла, а в уборной – туалетной бумаги), крикливая показуха и марксистская риторика, не скрывающие полунищенского уровня жизни простых людей, спецмагазины для партийной номенклатуры и праздничные демонстрации с транспарантами и красными знаменами. Определенные сложности могут возникнуть в связи с языковым барьером: в тамошней державе «один язык разговорный и один книжный», грамматика колеблется вместе с линией партии, «падежей вообще-то всего три, но иногда семь», лексика – не поддающийся быстрому изучению винегрет из слов с тюркскими, романскими и финно-угорскими корнями, а правил произношения столько же, сколько жителей страны.
Но нам ли бояться подобных трудностей?! К тому же, дабы избежать недоразумений, мы можем учесть богатый опыт Энгуса Петворта: специалист по разным лингвистическим закавыкам и бывалый путешественник, в начале восьмидесятых он побывал в Слаке с курсом лекций по заданию Британского совета и по поручению профессора Брэдбери. Петворт, конечно, малый скучноватый, звезд с неба не хватает – приторно вежливый, покладистый, пресновато-благопристойный английский интеллектуал, промышляющий снотворными лекциями про увулярное R или различия между «I don’t have» и «I haven’t got», – однако именно с его помощью вы, не вставая с кресла, сможете посетить «цвет среднеевропейских городов, столицу искусства и торговли, широких улиц и цыганской музыки». Только не забудьте взять с собой путеводитель – роман «Обменные курсы» (1983)379, правдиво рассказывающий о пребывании английского профессора в социалистическом Зазеркалье.
Если не считать повесть «Сокращения» (1987)380 – своего рода расширенную и модернизированную версию «Вылазки в действительность» Ивлина Во, «Обменные курсы» – пожалуй, самая смешная вещь Малькольма Брэдбери, в которой неповторимым образом сочетаются традиции свифтовской сатиры и комедии положений, а кафкианский абсурд сдобрен тонким английским юмором.
За годы холодной войны в англоязычной литературе сформировался своего рода жанровый канон – «приключения здравомыслящего англосакса за железным занавесом». Родоначальником здесь выступил Ивлин Во (писатель, у которого Брэдбери очень многому научился, недаром же написал о нем монографию381): побывав в Югославии, он уже в 1946 году отправил своего героя, скромного латиниста из провинциального колледжа, за тридевять земель, в тридесятое тоталитарное царство (в повести «Новая Европа Скотта-Кинга»). В рамках новой жанровой формы проявили себя (если называть авторов первого ряда) Энтони Бёрджесс (в пикарескном романе «Мед для медведей» (1963), где отразились его впечатления от посещения Ленинграда) и Джон Апдайк – в первой книге новелл о писателе Бехе («Bech: A Book», 1970).
«Обменные курсы», как и последняя книга Брэдбери, «В Эрмитаж!» (2000), продолжают славную жанровую традицию – с той разницей, что разоблачительно сатирические нотки звучат здесь более приглушенно, чем у предшественников, а герои целиком подчиняются стихии беззаботного смеха.
С бесцветным протагонистом, знать ничего не знающим, кроме своей лингвистики, то и дело случаются забавные казусы и недоразумения. Поскольку по линии культурного обмена в Британском совете подвизаются два профессора Петворта (второй – социолог), а нерадивые чиновники, естественно, посылают в Слаку фотографию и паспортные данные однофамильца, в слакском аэропорту он мучительно долго не может найти обещанного гида; в столичном университете его направляют не к филологам, а к социологам, и обижаются, когда вместо утвержденной в ректорате лекции о «прублуми английски социологыии» он собирается читать об английском языке как средстве межнационального общения; ему не дают покоя соглядатаи из ХОГП, диссидентствующие представители слакской богемы и соотечественники в лице придурковатого британского консула и его жены-нимфоманки; к нему пристают со всевозможными услугами валютные проститутки и спекулянты; радушные аппаратчики из «Министратii культуриii комитетьиii» обильно потчуют «профисору Питворту» местного разлива коньяками и официальными лозунгами, а женщины буквально рвут на части, добиваясь расположения (темпераментная супруга консула так и вовсе в припадке страсти вырывает с мясом у Петворта… нет-нет, не бойтесь – молнию из ширинки парадных брюк).
Но как бы глупо и алогично ни вели себя герои (например, в сцене совращения внезапно появившийся британский дипломат, вместо того чтобы урезонить сластолюбивую супругу, начинает недипломатично волтузить обескураженного Петворта), как бы ни были нелепы ситуации, в которые попадает скромный труженик на ниве просвещения и культурного обмена, главный источник смеха в романе – язык, на котором аборигены говорят с залетным гостем – Петвортом – «Питвортом» – «Петвуртом» – «Первуртом» – «Первертом». Это и неудобопроизносимый слакский говор, изобретенный Брэдбери с помощью коллег-филологов – «Пляшки отвату иммержьнисина проддо флугси фроликат»; «маськаыии иксъген флипифлопа»; «воно иксъген ускака пор прусори, от ноки роки», – и искореженный «английский» (виртуозно русифицированный переводчицей, за что низкий ей поклон), в устах слакских гидов, чиновников и профессоров превращающийся в нечто невообразимое, гротескное – с кривым синтаксисом, хромой грамматикой и забавными словесными уродцами типа: «бюрократчик», «доносы багажей», «моща святого в ларьке». Стилистические «слакско-английские» перлы, украшающие речь персонажей, придают роману колорит веселого идиотизма, а умопомрачительные диалоги между Петвортом и его слакскими коллегами напоминают фрагменты абсурдистской пьесы:
«– Я сравниваю политические поэмы Уильяма Вулворта и Хровдата, – сообщает мисс Мамориан.
– Кого? – спрашивает Петворт.
– Да, – говорит госпожа Гоко, – пожалуйста, будьти критични, как хотити.
– Хровдата, – отвечает мисс Мамориан.
– Наш национальни поэти, – объясняет госпожа Гоко. – Переводил Байрони и Шекспири, был друг Кошути. <…>
– Да, – говорит Петворт, – но что за английский поэт?
– Вулворт, автор «Прелюда», – отвечает мисс Мамориан.
– Вы, наверное, имеете в виду Уильяма Вордсворта, – говорит Петворт.
– Наш гости критикуи верни, – вставляет госпожа Гоко. – Вулворти – названии магазини.
– Правда? – спрашивает мисс Мамориан.
– Наш гости критикуи правильни, – твердо повторяет госпожа Гоко, – и мы должны использовати это на практикыи.
Мисс Мамориан сглатывает и начинает очень тихо всхлипывать.
– А вы, господин Пикнич, чем занимаетесь? – спрашивает Петворт.
– Вы – буржуазная идеология, – отвечает господин Пикнич. – Зачем вы приехали в нашу страну? Кто вас послал?»
Такого рода увеселительные сцены ожидают читателя на протяжении всего путешествия. А ведь в романе есть еще много лингвистических сувениров и сюжетных сюрпризов, благодаря которым экскурсия в Слаку запомнится надолго. Вас ожидает знакомство со сногсшибательной красавицей, писательницей, «магической реалисткой» Катей Принцип; вас непременно угостят национальной оперой-буфф «Ведонтакал Вроп» (по мнению слакских музыковедов, ее автор «предвосхитил такие великие творчества, как “Марьяж Фигаро” Моцарта и “Стригун из Севильи” Россини»); вы побываете на Дне национальной культуры и, смахнув ностальгическую слезу, полюбуетесь на праздничную демонстрацию трудящихся, осененную исполинскими портретами товарищей Маркса, Ленина, Брежнева и Григорика.
Что ж, как там у «Битлз»: «Roll up – Roll up for the Mystery Tour». Добро пожаловать в Слаку – город, которого никогда не существовало, в фантастический мир «развитого социализма», теперь, в дымке прошедших лет, представляющийся не более реальным, чем Лапута или Глаббдобдриб.
Иностранная литература. 2006. № 6. С. 272–275.
ФРАНКЕНШТЕЙНИАНА ЛОРЕНСА ДАРРЕЛЛА: ОТ АБСУРДНОГО К БАНАЛЬНОМУ
Шарж Хэнка Хинтона
«Как ужасно – снискать успех у публики: все ждут, что ты повторишь его, еще раз написав то же самое»382, – жаловался «Ларри» в письме Генри Миллеру, сообщая о работе над новым романом и желании отойти от «александрийской» модели. Отчасти писатель осуществил свое намерение и сотворил вещь, по многим параметрам предвосхитившую ныне популярные техно-триллеры. Хотя полностью избежать самоповторов ему не удалось. Во всяком случае, меня при чтении «Бунта Афродиты»383 не оставляло ощущение deja lu384: слишком много старых ингредиентов здесь использовано.
Вероятно, нечто подобное случилось и с Лоренсом Дарреллом в середине шестидесятых, когда он, всемирно известный автор «Александрийского квартета», едва-едва не получивший Нобелевскую премию, засел за сочинение очередного шедевра.
В жизни любого, даже самого даровитого писателя неизбежно случаются периоды творческого застоя: «бесплодное проходит вдохновенье», свежих идей нет, ничего нового своему читателю он уже не может сказать, но в силу инерции и ради поддержания профессионального статуса по-прежнему пишет – пишет, по известной боборыкинской формуле, «много и хорошо», пишет, перепевая самого себя и выдавая на-гора тысячи тонн второсортной словесной руды.
Как и в «Александрийском квартете», нас до отвала потчуют пряной средиземноморской экзотикой (действие «Tunc» (1968) разворачивается главным образом в Афинах и Стамбуле), приперченной разного рода пикантными мерзостями: к нашим услугам и братоубийство, и мазохистские услады посетителей афинского борделя, и приправленный садистическими забавами инцест («Джулиан сказал: “Раздвинь ноги, хочу тебя поцеловать”, – но вместо этого он потряс подсвечником и безжалостно залил ее кипящим воском»), и оскопление, и препарирование трупов, и т.п.
Персонажный пасьянс разложен точь-в-точь как в «Александрийском квартете»: тут вам и интеллигентный герой-повествователь, мечущийся между двумя роковыми красавицами, причем одна – коварная и взбалмошная соблазнительница вроде Жюстин, а другая, точь-в-точь как Мелисса, – добродетельная проститутка, не отличающаяся крепким здоровьем; тут вам и два брата-антипода, втягивающие протагониста в смертельно опасные интриги: один – уклончивый, утонченно-извращенный интеллектуал, напоминающий Нессима, другой – «почвенный», полуграмотный и прямодушный малый с железной деловой хваткой (клон Наруза); имеется и гротескный старик-извращенец (заместителем Скоби выступает отставной клоун Сипл), и герой-рупор, чья главная функция заключается в изречении фирменных даррелловских афоризмов (роль Персуордена отдана русскому эмигранту с хорошей русской фамилией Кёпген).
По сравнению с героями тетралогии персонажи «Бунта Афродиты» кажутся бледными тенями, одномерными созданиями, лишенными запоминающейся внешности и психологической начинки. Да и многие апофегмы, которые Даррелл вкладывает в уста своих марионеток, не радуют глубиной мысли: «Половой акт не воспламеняет, если в нем не участвует душа» – сентенция, достойная Ипполита Ипполитыча из «Учителя словесности».
Не воспламеняет воображения и расхлябанный сюжет дилогии – эдакой гремучей смеси научной фантастики с «Александрийским квартетом» и разжиженными мотивами из Гофмана, Мэри Шелли и Кафки.
Всемогущая корпорация, опутавшая своими щупальцами полмира, добирается и до ученого малого Феликса Чарлока, выдумавшего немало разных высокотехнологических штучек-дрючек (среди них – портативное подслушивающее устройство, транскрибирующее человеческую речь). С изобретателем заключают вроде бы фантастически выгодный договор; ему обещают финансовую поддержку во всех научных исследованиях да еще в нагрузку женят на экстравагантной и порывистой Бенедикте, сестре совладельцев фирмы. По окончании кругосветного свадебного путешествия молодые поселяются в Лондоне; наш герой с энтузиазмом погружается в научные изыскания, но чем дальше, тем больше начинает тяготиться опекой фирмы, получившей эксклюзивные права на все его изобретения. Чарлок с маниакальной настойчивостью пытается встретиться с одним из ее хозяев, Джулианом, но тот, по прихоти автора (видимо, любителя Кафки), вплоть до середины второй книги успешно избегает встречи, отделываясь телефонными разговорами. Между тем семейное счастье протагониста рушится под напором приступов безумия, все чаще и чаще одолевающих Бенедикту. Бóльшую часть времени она проводит вдали от мужа, в закрытых швейцарских клиниках, где и рожает мальчика (за ненужностью умерщвленного автором в последней главе «Tunc»). А тут еще всплывает давняя Феликсова зазноба: выбившаяся в кинозвезды афинская проститутка Иоланта. Воспомня прежних лет романы, воспомня прежнюю любовь, Чарлок и Иоланта встречаются в Париже, где и выясняется, что новоиспеченная звезда экрана безнадежно больна раком, а неуловимый Джулиан столь же безнадежно влюблен в нее.
Конец первого романа дилогии отмечен чередой катастроф. В больнице, в окружении бесцеремонных папарацци умирает Иоланта. Бенедикта становится и вовсе невменяемой: в припадке безумия она едва не пристрелила супруга, который, надо отдать ему должное, хорошенько отдубасил ее за это ясеневой тростью. После неудачной попытки Чарлока расторгнуть договор с фирмой его сажают под домашний арест, запрещая при этом заниматься наукой. Напрасно! В своем комфортабельном заточении главный герой сооружает суперкомпьютер, а затем, имитируя самоубийство, бежит из Англии и на некоторое время исчезает из нашего поля зрения.
В начале «Nunqam» (1970) мы обнаруживаем Чарлока лежащим с проломленной головой в швейцарской психушке. (О том, что с ним приключилось, можно лишь догадываться.) Больного трогательно опекает исцелившаяся женушка, а затем на сцене появляется и сам Джулиан (по признанию Бенедикты, в юности оскопленный по приказу отца за кровосмесительную связь с ней). Одержимый страстью к умершей Иоланте, магнат упрашивает Чарлока создать ее копию, наделенную искусственным интеллектом, и тот, поломавшись для порядка, принимается за работу. Словно гётевский Вагнер, он вызывает к жизни симпатичного гомункула – робота, начиненного проводками и батарейками, внешне ничем неотличимого от прежней Иоланты и куда более прыткого и разговорчивого, чем, скажем, гофмановская Олимпия из «Песочного человека».
«Чего желать? Сбылась мечта наук. С заветной тайны сорваны покровы…» Однако, в соответствии с традицией, Иоланта-2 сбегает от своих создателей и начинает вести самостоятельное существование – уличной проститутки. После бесплодных поисков Джулиан и Феликс случайно встречают беглянку в соборе Святого Павла. Далее – типично голливудская развязка: погоня, потасовка, гибель Джулиана, свалившегося с Галереи Шепотов, уничтожение не в меру разошедшейся электронно-пластиковой Галатеи. Феликс назначается главой фирмы, и, судя по всему, транснациональному монстру скоро придет конец.
***
Скромно потупившись, замечу: при пересказе даррелловская франкенштейниана кажется куда более увлекательной, нежели при чтении, когда приходится преодолевать необязательные сюжетные ответвления и терпеливо сносить многочисленные диалоги словоохотливых персонажей. Как вы понимаете, смущает меня не гиньольная фабула (из любой развесистой клюквы можно сделать шедевр), а ее топорная обработка.
Завязывая сюжетные узлы и не спеша их развязывать, автор слишком долго вынуждает читателя двигаться на ощупь и не дает ему ни малейшего ориентира или приманки, способной разжечь любопытство и поддержать интерес к чтению; между эпизодами порой зияют ничем не оправданные смысловые разрывы; внутренняя логика изображаемых событий приносится в жертву дешевым мелодраматическим эффектам; поступки героев зачастую лишены не только психологической убедительности, но и сюжетной мотивировки. Сюжет, без особой нужды отягченный громоздкими эссеистическими вставками, периодически буксует: герои то и дело разражаются длиннющими монологами – настоящими лекциями, не имеющими отношения к делу и никак не работающими на развитие действия: об архитектуре, о секретах бальзамирования, о психологии игрока в рулетку и т.п. «Он любит поиграть идеями, но, попадая в лирические водовороты, они приобретают блеск и теряют интеллектуальную энергию»385, – язвил в своей рецензии на «Nunqam» Энтони Бёрджесс, назвавший Даррелла «легковесным развлекателем, наделенным поэтическим даром; певцом, исполняющим остроумно-глуповатые непристойности в сопровождении вагнерианского оркестра»386.
Кстати, стихотворные вкрапления (особенно в первой книге, в превосходном переводе Валерия Минушина) и впрямь хороши:
Можешь, Боже, забрать свою искру, Я расстанусь с ней без вопроса, Оставь лишь способность выдать струю Словесного поноса. Моим книгам плевать на ушаты грязи, Моей славе не будет сноса, Пока я смогу выдать струю Словесного поноса…Я не мог не привести хулиганскую «Издательскую застольную», исполненную героями в начале «Tunc», – не выражает ли она самоощущение Даррелла эпохи «Бунта Афродиты»?
Впрочем, мне чужд разоблачительный пафос – «А был ли мальчик?» – с которым Бёрджесс и другие англоязычные рецензенты накинулись на автора «Бунта Афродиты», но трудно не согласиться с тем, что даррелловской дилогии, претендовавшей, видимо, на синтез высоколобого модернизма с остросюжетным чтивом, не хватает ни «интеллектуальной энергии», ни драматического напряжения, ни композиционной слаженности.
«Как всегда, я пытался идти от абсурдного к возвышенному», – писал Даррелл в послесловии к «Nunqam». Похоже, что в «Бунте Афродиты» он все же пошел «другим путем» – от абсурдного к банальному.
Иностранная литература. 2005. №. 6. С. 258–261.
Шарж Ричарда Уилсона
МАРИОНЕТКИ В ПОИСКАХ СМЫСЛА
«Проклятые вопросы» от Айрис Мёрдок
Айрис Мёрдок – самая достоевская из британских писателей. В своих лучших вещах (в «Черном принце», например) она вплотную приблизилась к «вихревой антропологии» великого духовидца, чем, наверное, и полюбилась российским читателям. Как и Достоевского, ее «совершенно не интересовал объективный строй жизни, природной и общественной, не интересовал эпический быт, статика жизненных форм, достижения и ценности жизнеустроения, семейного, общественного, культурного» (привожу бердяевскую характеристику Достоевского, с оговорками вполне применимую и к Мёрдок). Интересовали же ее «пределы и окраины человеческой природы», неизбежно чреватые преступлением (редкий роман Мёрдок обходится без преступления), таинственные глубины одиноких человеческих душ, заброшенных в сумрачный и безблагодатный мир, лишенных смысла и какой-либо высокой цели, но упорно взыскующих и цели, и смысла.
Романы Мёрдок почти полностью лишены примет места и времени, а их действие, при минимальной смене реквизита, можно с одинаковым успехом отнести к любому десятилетию прошлого века или спроецировать на наши дни. Наиболее репрезентативные вещи Мёрдок – к ним относится и «Человек случайностей» (1971)387 – это «романы идей», и подчас идеи и философские универсалии – Зло, Любовь, Грех, Свобода – живут в них более естественной и органичной жизнью, чем персонажи.
Типичный мёрдоковский герой – не столько англичанин второй половины ХХ столетия, представитель среднего класса или лондонского полусвета, из тех, что имеет счет в банке, скучает на вечеринках и надирается в пабах, сколько everyman («всякий и каждый»), отравленный себялюбием всечеловек, показанный в переломный, кризисный момент жизни, когда на него обрушивается бремя свободного выбора и необходимость решительного поступка. Отсюда, кстати, вытекают и многие особенности мёрдоковской поэтики, вызывающие раздражение у ее зоилов: откровенно надуманные фабулы, нарочитость сюжетных мотивировок, многочисленные психологические неувязки и натяжки, отдающие то слезливой мелодрамой, то махровым триллером.
Все эти черты присущи и «Человеку случайностей», густо заселенному персонажами, которые связаны между собой многолетними узами брака, родства, дружеской привязанности или любви (порой неотличимой от ненависти), но при этом поголовно больны «неизлечимым одиночеством», страдая кто от неутоленного тщеславия, кто от неизбытых страхов и комплексов. В мире, в котором «никаких категорических императивов не существует» и «добродетель есть нечто поверхностное, условное», они чувствуют себя одинокими, охваченными ужасом бытия путниками, застигнутыми ночью врасплох. Зачастую мёрдоковские «всечеловеки» становятся игрушками в руках непознанных, порой абсурдных сил. Буквально каждый неверный шаг того или иного героя, «даже самый малый проступок в конце концов заканчивается чьим-то самоубийством, убийством или того хуже».
В романе, вроде бы не претендующем на лавры боевика, чересчур много смертей, убийств и самоубийств (пусть и не все попытки удачны); в жизни большинства героев (внешне обеспеченных и благополучных обывателей) столько внезапных переворотов и катастроф, что даже самый доверчивый и благожелательный читатель не может не почувствовать (как бы это помягче…) некоторую умозрительность коллизий и искусственность сюжетных ходов. Что выберет двадцатилетний американский интеллектуал Людвиг Леферье: научную карьеру в Оксфорде и женитьбу на очаровательной мещаночке, унаследовавшей к тому же огромное состояние, или же, как требуют бестолковые, но патриотичные родители, – возвращение в Штаты, где его ждет неминуемый арест за уклонение от службы в армии (дело происходит во время войны во Вьетнаме)? Правильно – возвращение и арест (несмотря на многословные заверения о том, что он «чужд общественных интересов» и ему претит роль мученика и «невольного и неумелого протестанта»). Что предпочтет пожилой, видавший виды холостяк Мэтью, сделавший успешную дипломатическую карьеру: брак с любимой женщиной или бегство в ту же Америку – чтобы возлюбленная посвятила себя выхаживанию его братца (самолюбивого неудачника с наклонностями психологического вампира, впавшего в депрессию после гибели очередной жены)? Конечно, бегство…
Впрочем, если не подходить к Мёрдок с требованиями житейского правдоподобия, следует признать, что «Человек случайностей» выдерживает сравнение с ее лучшими работами. Есть в нем и напряженный сюжет, и по-своему обаятельные персонажи-марионетки, и виртуозное владение различными «нарративными» техниками (традиции эпистолярного романа уживаются здесь с драматизированным повествованием, сплошь состоящим из диалогов), и, самое главное, значительность тех жизненных вопросов, на которые каждому из нас рано или поздно приходится давать ответы, отыскивая в релятивистском тумане «потаенную логику, единственную логику, единственный смысл».
Ex Libris НГ. 2005. 25 августа. С. 4.
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ КИНГСЛИ ЭМИСА
Шарж Керри Вэгхорна
«Девушка лет двадцати» (1972)388 – одиннадцатый по счету роман английского писателя Уильяма Кингсли Эмиса (1922–1995). Международную известность Эмис завоевал своим дебютным романом «Счастливчик Джим» (1954; рус. пер. 1958). Главный герой этого квазисатирического опуса, тридцатилетний лоботряс Джим Диксон (ненавидящий избранную стезю университетского преподавателя, безуспешно подлаживающийся под кафедральное начальство, а посему активно закладывающий за воротник и в пьяном виде откалывающий всевозможные «номера») по недоразумению был принят за бунтаря, ниспровергателя основ консервативного британского истеблишмента. В результате неразборчивые журналисты причислили Эмиса к так называемой «литературе рассерженных молодых людей». Бог им судья. Очевидно, в послевоенной Британии проблема отцов и детей стояла так остро, что потребность в английском Базарове вынудила читателей вложить в пустоватый эмисовский роман то содержание, какое им требовалось. Сам Эмис, уже будучи пожилым, маститым беллетристом, увенчанным лаврами Букеровской премии (в 1986 году за роман «Old Devils») и для полного счастья пожалованным дворянским титулом, напрочь отрицал свою принадлежность к «рассерженным молодым людям», а заодно оспаривал и факт существования подобного литературного течения. (В этом, похоже, он был прав, и усердные советские литературоведы, одно время усиленно раздувавшие антибуржуазный пафос «рассерженных», имели дело всего лишь с очередным журналистским мифом.)
Как бы там ни было, для российских читателей Эмис ассоциируется с его первым романом. Всерьез относиться к «Счастливчику Джиму» сейчас уже невозможно. Нам остается только догадываться, что находили читатели пятидесятых в этом плохо скроенном фарсе с неимоверно затянутыми диалогами, бесконечным и бессодержательным коктейльно-вечериночным трепом и вереницей непритязательных несуразностей, которые то и дело случались с главным героем.
По сравнению с этим музейным экспонатом «Девушка лет двадцати» выглядит, конечно же, посвежее. Тем более что перевод выполнен Оксаной Кириченко, которая обладает удивительной способностью вытягивать любого безнадежного автора и из самой посредственной прозы делать конфетку. Языковая фактура романа (как и обычно у Эмиса, на две трети состоящего из пересыпанных просторечиями и слэнгом диалогов), речевые характеристики героев – все это передано с высочайшим профессионализмом и художественным тактом. В тексте нет ни малейшего следа искусственности и натужности. По прочтении не остается впечатления, что ты имел дело с переводом; кажется, что прочел вещь, изначально написанную по-русски.
Особенно удался переводчице «зашизованный базар» хипповатой Сильвии Мирз, семнадцатилетней «чувихи», вскружившей голову любвеобильному «папику» – прославленному на всю Англию дирижеру и композитору сэру Рою Вандервейну. Собственно, вокруг этой парочки и разворачивается основное действие романа. Воспылав страстью к девушке, годящейся ему в дочери, почтенный джентльмен безоглядно жертвует репутацией доброкачественного английского обывателя. Он бросает семью, оставляет свой загородный особняк и, не боясь нанести ущерб святая святых – профессиональной карьере, подставляется под удары всесильного газетного магната Гаролда Мирза (папаша Вандервейновой пассии всеми правдами и неправдами пытается удержать взбалмошную дочку от мезальянса).
Но это еще полбеды. Подлаживаясь под вкусы юной подружки и ее окружения, Вандервейн не по дням, а по часам левеет, причем не только в политических воззрениях, но и в музыкальных пристрастиях – к ужасу своего верного друга, музыкального критика Дугласа Йенделла, от лица которого и ведется повествование. Прощая Вандервейну «пошлое фрондерство» – ламентации по поводу нищенской жизни народа в Британском Гондурасе или письмо в «Таймс», требовавшее «от режима Смита в Родезии передать черным лидерам в двадцать четыре часа всю полноту власти», – Йенделл болезненно реагирует на его измену идеалам классической музыки: следуя модным поветриям, тот сочиняет экстравагантный концерт «Элевации № 9» для скрипки, ситара, бас-гитары и барабанчиков бонго, каковой собирается самолично исполнить в сопровождении рок-группы «Свиньи на улице».
К радости язвительного повествователя, исполнение «Элеваций» с треском проваливается: тусовочная публика оказалась не подготовленной к синтезу забойного рока с классической сонатной формой. Да и к тому же в самый ответственный момент, когда «Свиньи» с грохотом и скрежетом выдали вступительные аккорды, выяснилось, что смычок Вандервейна смазан какой-то гадостью (проделки папаши Мирза!) – свою сольную партию композитору пришлось исполнять, взяв в качестве замены смычок от контрабаса. В довершение несчастий после провального концерта на злополучного рокера нападают явно кем-то науськанные подонки… Нет, не бойтесь – герой вышел из передряги живым и относительно здоровым (по крайней мере, не потерявшим былого оптимизма и присутствия духа). Раны пустяковые. В больнице Вандервейна навещает его семнадцатилетняя зазноба, с которой он должен сочетаться законным браком. Если бы не сломанная скрипка работы Страдивари да то обстоятельство, что от повествователя в финале романа уходит любовница, вообще бы был полный хеппи-энд.
Впрочем, «Девушка лет двадцати» интересна не столько сюжетом (несколько малокровным, лишенным драматического накала), сколько яркими типажами (чего стоит хотя бы всем нам знакомый тип «чумовой фрилавщицы», представленный отвязной Сильвией Мирз), меткими социально-бытовыми зарисовками и прекрасно переданной атмосферой Лондона конца шестидесятых – начала семидесятых годов. Молодежное движение и трескучая леворадикальная риторика (ироничный повествователь ее высмеивает, а сэр Вандервейн принимает всерьез), патлатые «дети цветов», самозабвенно предающиеся радостям «свободной любви», угарный быт лондонской тусовки, рок-концерты культовых групп, устраиваемые в бывшем трамвайном депо, – эти реалии, казалось бы, столь близкой, еще недавно столь сладостно манившей эпохи отбрасывают на описываемые события волшебный свет и придают банальной истории о нелепо молодящемся, по уши влюбленном пожилом чудаке трогательное обаяние.
Столпотворение. 2001. № 6/7. С. 204–206.
Шарж Николя Дженнингс
ПРОГУЛКИ С МАРТИНОМ ЭМИСОМ
В кругу расчисленных светил нынешней английской литературы Мартин Эмис, если верить рекламным аннотациям и восторженным заметкам в отечественной прессе, – прямо-таки беззаконная комета, осветившая унылые сумерки пост-пост-постмодернистской эпохи. Едва ли не каждая статья, посвященная Эмису, искрится хвалебными эпитетами и взрывается медийными шутихами:
Сын известного прозаика… Дебютный роман отмечен премией Сомерсета Моэма… Один из крупнейших писателей современной Англии… Центральная фигура в английской литературе сегодня… Миллион фунтов за еще не написанный роман… С своей пылающей душой… С своими бурными страстями… За курс лекций о литературном мастерстве в Университете Манчестера зарабатывает в час три тысячи фунтов стерлингов… Дэвид Кроненберг взялся за экранизацию «Лондонских полей»…
Каюсь: хорошо зная о нездоровой впечатлительности и легковерности большинства наших газетных и гламурно-журнальных обозревателей (чье обожание литературного ширпотреба с лейблом «сделано в Англии» порой напоминает нездоровую галломанию грибоедовских княжон) и не видя прямой зависимости между количеством премий, величиной писательских гонораров и чисто художественными достоинствами произведений, я долгое время не поддавался на рекламные уговоры и не разделял восторгов по поводу «одного из самых модных и читаемых английских прозаиков последнего времени». Тем более что первые эмисовские опусы, появившиеся на русском, только укрепляли мой скептицизм.
«Ночной поезд» (1997; Пер. с англ. Е. Петровой. М.: Махаон, 2000) оказался заурядным, на живую нитку сшитым детективом à la Маринина, в котором мужиковатая сотрудница убойного отдела по имени Майк Хулигэн («крашеная блондинка сорока четырех лет с боксерским торсом, с мощными плечами и выцветшими голубыми глазами») шершавым языком околотарантинного чтива рассказывает о самом тяжелом деле из всех, какие ей довелось расследовать: «чистейшей воды мокруха заявилась на бал обряженной в платье самоубийства», причем жертва умудрилась укокошить себя тремя выстрелами в голову.
Вызвавшая острую полемику в англоязычной прессе книга Эмиса «Сталин. Иосиф Грозный»389 (Пер. с англ. А. Голова. М.: ЭКСМО, 2003) представляла собой не более чем запоздалый перепев нашей перестроечной публицистики и не добавляла ни одной живой и оригинальной черточки к портрету достопамятного Отца народов. Эдакое попурри классических работ Александра Солженицына, Роберта Конквеста, Дмитрия Волкогонова, Надежды Мандельштам, разбавленное автобиографическими интерлюдиями (признаниями в собственных «левых» заблуждениях, рассказами о превращении Эмиса-старшего из Павла в Савла – из коммуниста в коричневой масти консерватора, полемикой с другом юности, журналистом-троцкистом Кристофером Хитченсом) и сдобренное такими вот образчиками тонкого английского юмора: «Вопрос: в чем заключается разница между локомотивом коммунизма и агитатором коммунизма? Ответ: перед агитатором можно закрыть дверь»; «Вопрос: почему СССР и Америка – одинаково развитые страны? Ответ: потому что в СССР вы можете издеваться над Америкой так же свободно, как и в самой Америке».
Третий эмисовский роман, «Успех» (1978; Пер. с англ. В. Симонова. СПб.: Симпозиум, 2004), с его зеркальной композицией и регулярной сменой двух героев-повествователей, названых братьев, живущих в одной лондонской квартире, но представляющих разные социальные типы, несмотря на внешнее жизнеподобие, неприятно поражал своей сюжетной заданностью и схематизмом: внешне утонченный Грегори (беззаботный транжира, эстет и сноб, призванный, по-видимому, воплощать пороки и слабости вырождающейся аристократии) нарочито противопоставлялся неказистому и приземленному Терри, выходцу из низов среднего класса. К концу вялого, то и дело буксующего на месте повествования (об одних и тех же незамысловатых событиях рассказывается дважды) братья, по щучьему веленью, по авторскому хотенью, меняются местами: счастливчик Грегори, перед которым в начале романа открывались радужные перспективы, оказывается у разбитого корыта, а его братец, преодолев всевозможные комплексы, делает неплохую карьеру и из замухрышки клерка превращается в преуспевающего яппи. Насколько можно судить по сдержанным отзывам британских критиков, в оригинале анемичное творение Эмиса хоть как-то оживлялось благодаря контрасту между повествовательными манерами братьев-антиподов: изысканно претенциозным стилем Грегори и дубоватым кокни Терри; однако в русском переводе все отличия сгладились, что сделало роман еще более тусклым и монотонным. А стилистические красоты типа «богатая палитра его зубов, конусами торчащих из металлической гекатомбы его челюстей» также не прибавляли оптимизма и заставляли еще более недоверчиво относиться к тем безудержным похвалам, которые расточались автору на страницах рекламных изданий вроде «Афиши» и «Книжного обозрения».
Я уже хотел поставить на Эмисе жирный крест, когда мне попался на глаза перевод его дебютного романа «Записки о Рейчел» (1973; Пер. с англ. М. Шермана. СПб.: Амфора, 2005) – тот самый, который принес писателю престижную в Англии премию имени Уильяма Сомерсета Моэма. Вроде бы ничего особенного – «никакими экспериментами не выдающаяся подростковая проза, замешенная на гормональном взрыве, пубертатной агрессии и тинейджерском хамстве», как выразилась одна газетная обозревательница390. Перед нами стандартный набор: одержимый приступами мировой скорби и «осознанности бытия» инфантильный рассказчик, который порабощен «противопоставлением себя остальному миру» и показным цинизмом маскирует свои комплексы и фобии; неизбежные конфликты с родителями; «добросовестный ребяческий разврат» и первая любовь, щедрые россыпи вульгаризмов и обсценной лексики, все эти неизбежные «отходняк», «трахать», «дрочить», «мудак», «старый говнюк» и т.п.
И все же многое в романе привлекало и говорило о незаурядном мастерстве автора: психологическая убедительность героев, меткость характеристик и яркость портретных деталей (чего стоит хотя бы проходной персонаж «с необыкновенно большими коричневыми ушами, похожими на печенье, которое обмакнули в чай»), наконец, вспышки юмора и комического гротеска, расцвечивающие внешне заурядную историю о наивно эгоистичном девятнадцатилетнем балбесе. По прочтении «Записок о Рейчел» до полной реабилитации Эмиса было еще далеко, однако лед предубеждения был растоплен, и я решил ознакомиться с другими эмисовскими творениями, переведенными на русский язык. И не прогадал!
Роман «Деньги. Записки самоубийцы» (1985; Пер. с англ. А. Гузмана. М.: Махаон, 2002) в полной мере оправдал те восторженные эпитеты, которыми принято награждать Эмиса-младшего. Несмотря на свои очевидные изъяны – интертекстуальные излишества (дань свирепствовавшей тогда, в середине восьмидесятых, постмодернистской моде), рыхлость композиции, шаткость сюжетных мотивировок, художественно не оправданные игрища с авторским двойником, писателем по имени Мартин Эмис, без особой нужды появляющимся в ряде эпизодов, – книга читалась на одном дыхании, настолько завораживающим был саморазоблачительный монолог эмисовского антигероя Джона Сама – раблезианских масштабов развратника и пьяницы, чей гротескный образ олицетворяет современного «массового человека» с его безудержным гедонизмом, интеллектуальным убожеством и тупым самодовольством. Бытие Джона Сама определяется нехитрой формулой: «фастфуд, секс-шоу, журналы для мужчин, бухло, кабаки, драки, телевидение, дрочилово»; в его забубенной головушке «правят бал грех и преступность, мысли же все в вакууме, в свободном падении»; его «самая заветная мечта – огрести кучу денег».
Под стать карикатурному, но тем не менее удивительно достоверному протагонисту и другие персонажи: с виду преуспевающий американский продюсер Филдинг Гудни, «загорелый, в отменной физической форме, с улыбкой, за которую дантисту пришлось отвалить по меньшей мере королевский выкуп», соблазнивший Сама заманчивым кинопроектом, в итоге оборачивается аферистом, да еще и трансвеститом; отец героя-повествователя (оказавшийся отчимом) подается как «бездушный гедонист, эталон грубости и самонадеянности»; его любовница, которая «десять лет оттрубила на панели рядовым составом» и которой все же «удалось перескочить в высшую лигу» – сладостный мир порнобизнеса: в одной из сцен она с благоговейным восторгом демонстрирует потенциальному пасынку свои фото из второразрядного порнографического журнала, «ориентированного на скромные запросы и мозолистые ладони работников физического труда», и «подробно, с трепетом в голосе и со свежими слезами на кончиках ресниц» разъясняет, что «всегда была творческой натурой».
Пожалуй, в этом произведении Эмису удалось сделать невозможное: из бессвязного рассказа средней руки телерекламщика, помешанного на выпивке, сексе и порнографии и потому способного рассуждать только о порнографии, сексе и выпивке (ну еще и о деньгах – едва ли не единственной незыблемой ценности нашей релятивистской эпохи), из беспорядочных похождений и авантюр самодовольного пошляка, свято уверенного в том, что он «не просто пассажир», а «один из пилотов жизни», писатель сумел воссоздать пугающе достоверную картину духовного оскудения и моральной деградации материально процветающей тэтчеровской Британии (к которой, как можно понять, не питал особой любви), да и всей западной цивилизации.
Роман впечатлял не только монументальным образом Джона Сама (которого смело можно ставить в один ряд с фолкнеровским Компсоном и льюисовским Бэббитом), но и своей языковой фактурой: гремучей смесью слэнга, просторечий и откровенной нецензурщины. К чести переводчика, он виртуозно использовал богатые ресурсы «великого и могучего» для передачи нюансов сногсшибательной эмисовской прозы и щедро (и почти всегда оправданно) сдобрил ее сочными цитатами из советского и постсоветского масскульта типа: «волки позорные», «замуровали демоны», «орешек трудно расколоть, но мы не привыкли отступать» и т.д. Вряд ли Эмис смотрел в детстве киножурнал «Хочу все знать», но, думаю, объясни ему кто-нибудь суть дела, он оценил бы шутку переводчика – как и в случае с этим, явно незапрограммированным горьковско-гагаринским скетчем при описании авиарейса: «Со своим непременным номером выступили стюардессы – песня без слов безумству храбрых, пантомима о спасжилетах. <…> “Поехали!” – сказал я, когда с легкостью необыкновенной мы взмыли в воздух».
Шарж Винта Лоуренса
Следующий эмисовский роман, изданный в России, «Стрела времени, или природа преступления» (1991; Пер. А. Яковлева; Под ред. А. Гузмана, Р. Ирмашевой. М.: ЭКСМО, 2004), хоть и не отличался языковым буйством «Денег», зато порадовал продуманной, стройной композицией и сюжетной изобретательностью. Альтер эго главного героя (если хотите, его душа, выполняющая функцию повествователя и стороннего наблюдателя) рассказывает «историю человеческой жизни, прожитой против часовой стрелки»: от агонии на реанимационном столе до утробного существования. Словно в пущенной назад киноленте, перед нами предстает абсурдный «мир наоборот», в котором письма берутся из каминов или мусорных ящиков, проститутки платят клиентам, мертвый муравей оживляется давлением подметки беззаботного прохожего, на заводах «разделывают автомобили, превращая инструменты, детали, болты в уголь и железную руду», еда отрыгивается на тарелки и после «рихтовки ножом, вилкой и ложкой» замораживается в холодильнике, «пока не придет пора отнести продукты в гастроном» и получить за них деньги. Соответственно изменяется и протагонист. По мере прокручивания сюжета американский пенсионер Тод Френдли воскрешается из мертвых и превращается сначала в преуспевающего врача, который калечит пациентов и тайком имплантирует зародыши, далее – в менее обеспеченного санитара-иммигранта и, наконец, – в эсэсовца Одило Унфердорбена; пересекая океан, он поселяется в тихой Португалии и оттуда перебирается в Освенцим, где с помощью инъекций и газовых камер возвращает к жизни тысячи узников (после чего щедрые охранники одаривают их одеждой, обувью, часами и даже золотыми зубами и отправляют в поезда, которые развозят их во все уголки Европы).
Конечно, черный юмор, окрашивающий произведение в тона мизантропической сатиры, пришелся по душе далеко не всем критикам (в Англии один литератор демонстративно вышел из состава Букеровского комитета, когда роман был номинирован на премию), да и сюжетный трюк, воспроизводящий принцип обратной съемки, был опробован задолго до Мартина Эмиса – в рассказе кубинца Алехо Карпентьера «Возвращение к истокам» (1944), если не раньше, – однако «победителей не судят», а в том, что «Стрела времени» с ее гротескной образностью, остраняющими эффектами, вывернутой наизнанку фабулой и произнесенными наоборот, от ответа к вопросу, диалогами – творческая победа писателя, у меня нет сомнений. Прием здесь художественно оправдан. Последовательно реализованная ключевая метафора – летящая вспять стрела времени – позволила запечатлеть абсурд безумного века, в котором перепутаны причины и следствия, благие намерения оборачиваются чудовищными преступлениями, а в мирных обывателях таятся бездны зла. Расщепляя главного героя на аморального Тода Френдли / Одило Унфердорбена и его прекраснодушного двойника, автор не только причудливым образом преломляет исторические реалии, но и придает всему повествованию дополнительное философское измерение. Благодаря все тому же наивному рассказчику, воспринимающему происходящее как должное, в роман вводятся мотивы «возвращения в невинность, искупления ошибок и грехов, очищения души от бремени опыта»391, и звучит тема преодоления зла, его изживания в акте любви.
***
Увы, свежепереведенный роман «Лондонские поля» (1989)392 не может похвастать бесспорными достоинствами лучших вещей Эмиса, зато наглядно демонстрирует изъяны его творческой манеры.
Главный недостаток романа – надуманность сюжета, полного откровенных несуразностей и передержек, да к тому же построенного в архаичной манере – путем нанизывания однотипных эпизодов. Эмис и прежде был поразительно беззаботен насчет сюжетных мотивировок (в тех же «Деньгах», которые держатся главным образом за счет колоритного героя-повествователя и удивительной энергии стиля). В одном из интервью он самонадеянно заявил: «Сюжеты по-настоящему важны только в триллерах. В обычной литературе сюжет – это… Что это? Крючок. Читателю должно быть интересно, чем все обернется. В этом отношении “Деньги” было гораздо труднее писать, чем “Лондонские поля”, потому что, по сути, это роман, в котором нет сюжета. Я бы назвал его романом авторского голоса. Если голос не звучит, ты в пролете. В “Деньгах” был один авторский голос, а в “Лондонских полях” – четыре. Вместо того чтобы сложить яйца в одну корзину, я разложил их по четырем. Я почти не сомневался, что мой крючок – историю про женщину, которая организует свое собственное самоубийство, – проглотят. И хотя на протяжении пятисот страниц нет почти никакого действия, читателю все равно интересно – он хочет знать, чем все закончится»393.
Как хотите, а неумение выстроить связный сюжет, способный направлять читательский интерес, но при этом избавленный от неувязок и достаточно достоверный по отношению к выбранной теме, – не самое большое достоинство «самого популярного романиста Великобритании». Один-единственный сюжетный крючок «Лондонских полей» крепится кое-как (что называется, держится на соплях) и не способен выдержать восьмисотстраничную романную махину, где механически сцеплены несколько фабул и, словно в ирландском рагу, беспорядочно намешаны ингредиенты различных жанров: социально-бытовой сатиры, триллера, комедии положений и даже антиутопии – ведь время действия было перенесено Эмисом в ближайшее будущее, в 1999 год; на периферии сюжета бушует глобальный политический кризис, готовый вот-вот разрешиться ядерной войной, а заодно, так сказать, для полного счастья, маячит призрак вселенской катастрофы: «Астероид Аполлон, вырвавшись из пояса своих собратьев, направляется к нам со скоростью десять миль в секунду. Он так огромен, что, когда и если его передняя кромка врежется в Землю, задняя будет еще пребывать на той высоте, где летают самолеты. Уникальное взаиморасположение Земли, Луны и Солнца приведет к наводнению, которое накроет целое полушарие. Ожидаются “солнцетрясения”, грозы с молниями невероятной силы».
На этом мрачном фоне и разворачиваются события «Лондонских полей». Смертельно больной, изъеденный жизненными и творческими неудачами американский писатель Сэм Янг, волей случая поселившийся в роскошной лондонской квартире преуспевающего беллетриста Марка Эспри, пишет роман «Лондонские поля», в котором с первых же страниц задается зловещий лейтмотив – «Автомобиль, монтировка, убийца, поджидающий в машине, будущая убиенная, что приближается к нему, цокая каблучками», – и сообщается о неизбежной смерти сексапильной красотки Николь Сикс. Видите ли, «та, чье предназначение быть убитой» – так высокопарно именует ее бедолага переводчик, не найдя лучшего соответствия коварному murderee, – разуверилась в любви, утратила вкус к жизни и решила уйти в мир иной. Но о том, что ей проще всего покончить с собой, ни она, ни Сэм Янг, ни сам Эмис даже не задумываются. Вместо банального суицида нам предлагается громоздкая и не слишком правдоподобная интрига с соблазнением и провоцированием двоих случайно избранных потенциальных убийц.
Первый – кидала-неудачник, завсегдатай пабов и фанатичный поклонник игры в дартс Кит Талант, когда-то промышлявший рэкетом и грабежами, а теперь зарабатывающий на жизнь мелким мошенничеством. Наделенный всеми мыслимыми и немыслимыми пороками, этот развратный, косноязычный и туповатый люмпен, чей умственный кругозор ограничен порнухой, таблоидами и, конечно же, телерепортажами об игре в дартс, получился у Эмиса едва ли не единственным живым характером, в котором теплится хоть что-то человеческое. Именно в нем воплощен дух «Лондонских полей», дух эмисовского Лондона, весьма далекого от гламурных рекламно-туристических штампов: красочно и даже с любовью выписанный мир загаженных улиц, раскуроченных телефонных будок, малогабаритных квартирок и прокуренных пабов. Несмотря на простодушную наглость, непрошибаемый эгоизм и криминальные замашки (по сравнению с ним булгаковский Шариков – рафинированный интеллигент, а бёрджессовский Алекс – безгрешный ангелочек), Кит Талант обладает неотразимым обаянием, которое присуще преступным негодяям и плутам классической английской литературы (вроде шекспировского Пистоля или диккенсовского Джингля).
В качестве запасного варианта выбран его антипод – высокообразованный, утонченный богач Гай Клинч, ходячий набор политкорректных добродетелей и условностей, присущих стопроцентному британскому джентльмену, у которого есть всё, чтобы казаться счастливым (отменное здоровье, два автомобиля, роскошный особняк в престижном районе Лондона), и еще бόльшее, чтобы вызывать читательское сочувствие: стерва-жена, вот уже год как отлучившая его от постели, и монструозный сынок Мармадюк, одержимый бесами насилия и разрушения. Это годовалое чудовище держит в страхе весь дом и периодически калечит присматривающих за ним нянек, не забывая время от времени наносить чувствительные раны любящему папаше. Натужно-юмористические описания семейных неурядиц Гая, вызванных злокозненным поведением его годовалого отпрыска, занимают добрую треть повествования; слабо связанные с основной сюжетной линией, они выглядят чем-то чужеродным, вроде необязательного комического балласта, и не столько потешают читателя, как, вероятно, рассчитывал автор, сколько утомляют своим однообразием. А постоянные шуточки насчет подспудных сексуальных желаний, якобы обуревающих Мармадюка, звучат откровенно пошловато: «Стоит отвернуться на десять секунд – и он уже либо лезет в огонь, вываливается в окно или совокупляется с розеткой… Бутылочку свою он сосет не хуже, чем самая дорогая в Лас-Вегасе девочка по вызову» и т.п.
В отличие от Кита Таланта, продолжающего блистательную галерею эмисовских антигероев, образ «хорошего парня» Гая Клинча вышел совершенно бесцветным, так что даже фиктивный автор «Лондонских полей» вынужден признать: «Он ни в чем не нуждался, но ему недоставало… всего. Он располагал несметными деньгами, <…> привлекательной внешностью, великолепным ростом, причудливо-оригинальным умом – но в нем не было ни капли жизни». К сожалению, таковы и другие обитатели «Лондонских полей», словно в комедиях классицизма наделенные говорящими именами и фамилиями. Им недостает не только жизненности и психологической глубины, но и художественной самостоятельности. Все они – лишь сюжетные функции, винтики затейливого, но довольно бестолкового механизма, работающего на холостом ходу. Две мещаночки-американочки, властная Гаева жена Хоуп (что в переводе значит «надежда») и ее сестричка Лиззибу (страдающая от безответной любви к Сэму Янгу и в качестве компенсации безостановочно поглощающая фастфуд), – типовые персонажи ситкома, взятые для комического оживляжа; многоречивый Сэм Янг, загромождающий свое «совершенно правдивое повествование» сетованиями на собственную профнепригодность, смертельную болезнь, трепетную любовь к малышке Ким, годовалой дочери Кита Таланта394, а также другими не слишком глубокомысленными отступлениями (о разновидностях поцелуев, о женском белье и т.д.), – не более чем знак авторского присутствия в тексте, своего рода авторская монограмма; его собрат по перу, богатый и удачливый плейбой Марк Эспри, к которому он питает смешанное чувство зависти и презрения, являет собой пародию на литературную персону, публичный имидж самого Мартина Эмиса (намеренное сходство их инициалов не заметит разве что ленивый); Николь Сикс – воплощение мужских сексуальных фантазий; психологизма в ней не больше, чем в «отфотошопленной» красотке с обложки глянцевого журнала.
В соответствии со своим хитроумным планом Николь (в недалеком прошлом – несостоявшаяся актриса) охмуряет обоих претендентов на роль убийцы, разыгрывая перед пресно положительным и зажатым Гаем роль восторженно-романтичной девственницы и недотроги, а перед его быдловатым антагонистом – эдакой «шикарной чмары», которая не прочь поразвлечься. Первого она изощренно истязает, распаляя его страсть, но решительно пресекая близость в самые решающие моменты; второго всячески ублажает (от показа тематических порнофильмов, разжигающих низменные аппетиты пациента, перейдя непосредственно к сеансам эротической акробатики). Наивному и доверчивому Гаю эта La Belle Dame Sans Merci скармливает душещипательную историю о своей подружке по имени Энола Гей, которая якобы пропала без вести где-то в объятой гражданской войной Камбодже (о том, что так была названа атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, эмисовский интеллектуал, разумеется, не вспоминает), после чего выманивает у него крупные суммы денег – и тут же передает их вечно нуждающемуся и погрязшему в долгах Киту.
Ловко манипулируя обоими претендентами, преднамеренно сталкивая их лбами, «та, чье предназначение быть убитой», регулярно встречается с автором романа, доверяет ему свои интимные дневниковые записи и обсуждает с ним будущие перипетии сюжета, что, надо признаться, делает всю историю еще более условной и неправдоподобной. Сэм Янг, в свою очередь, то и дело тормозит развитие действия, путается под ногами персонажей и в соответствии с постмодернистскими канонами извергает порции скучноватой авторефлексии (в духе «Фальшивомонетчиков» или позднего Джона Барта), которая расхолаживает читателя и окончательно развеивает его иллюзии относительно описываемых событий.
Едва ли можно сопереживать персонажам, превращенным в сюжетные шестеренки, и послушно заглатывать «крючок» триллера после того, как тебя оглушили очередной ударной дозой метатекстуальных комментариев. Мартин Эмис, конечно, даровитый писатель, однако даже ему не рекомендуется злоупотреблять изрядно потасканными приемами метаповествования, поскольку они разъедают и без того скудную фабулу, обесценивают апокалипсическую тематику и превращают роман в тезаурус общих мест давно почившего «изма».
И если правда, что о писателе нужно судить по уровню его вершинных достижений, а не по творческим неудачам и срывам, то отложите прогулку по «Лондонским полям» до лучших времен. Дождитесь новых переводов Эмиса либо перечитайте «Деньги» и «Стрелу времени» – те вещи, благодаря которым он останется в истории английской литературы ХХ века.
Иностранная литература. 2008. № 7. С. 280–287.
Шарж Дэвида Левина
ОТ «ШОЗИЗМА» К ШИЗЕ И САДИЗМУ
Прогулки с динозавром французской словесности
Книги Алена Роб-Грийе мало кто читает («редкая птица долетит до середины…»), зато его имя знают все (по части саморекламы он даст сто очков вперед и Пригову, и Вик. Ерофееву). Великий путаник и гениальный провокатор, он вошел в историю литературы как изобретатель и пропагандист литературного бренда с претенциозным названием «новый роман». Несъедобный литературный продукт, выращенный полвека назад в оранжерее французского поставангарда, nouveau roman сначала привлек внимание публики как казус, затем был разрекламирован набиравшими силу теоретиками-струкдуралистами и на некоторое время стал модным лакомством для снобов.
Литературная мода успела несколько раз смениться, и детище Роб-Грийе со товарищи, казалось бы, давно стало «достояньем доцентов», пищей, годной разве что для диссертантов и коллекционеров литературных курьезов. Ан нет! За год до своего восьмидесятилетия динозавр французской словесности решил напомнить о своем существовании и разродился очередной нетленкой, которая была моментально признана, заверяет рекламная аннотация на обложке, «одной из величайших книг последних десятилетий», «основополагающим текстом литературы XXI века».
Правда, ежели отнестись к творению Роб-Грийе без благоговейного восторга, с каким у нас принято воспринимать импортные изделия, придется признать: в новейшем романе «нового романиста» не слишком много нового. «Повторение» (2001)395 – это клон давних роб-гриешных опусов, прежде всего «Ластиков» (1953) и «Проекта революции в Нью-Йорке» (1972). Рецепт известен: обесцвечиваем персонажей до полной неразличимости и растворяем в сюжетно-композиционной каше, где уже перемешаны романное прошлое и настоящее, галлюцинации и «реальные события»; сдабриваем выхолощенными архетипами античной мифологии, присыпаем мелко наструганными мотивами детектива, порноромана или других образчиков массового чтива – и на сковородку. Не забудем и старый добрый trompe l’œil, и фирменный «шозизм» (дотошные квазигеометрические описания поверхностей предметов, которыми писатель может мучить читателя на протяжении многих страниц), и назойливые реминисценции из Кафки, и пресловутую «нулевую степень письма». Естественно, при этом – полный «отказ от истории, от фабулы, от психологических мотиваций и от наделенности предметов значением», как завещал вождь и учитель товарищ Барт.
Впрочем, при большом желании некое подобие фабулы из «Повторения» можно выцедить: агент французской спецслужбы Анри Робен направляется с секретной, хотя и нелепой миссией в послевоенный Берлин; его задача – наблюдать за убийством, которое запланировано в советском районе города; успешно справившись с «заданием», герой под чужим именем бежит в американский сектор Берлина; там он попадает в странный магазин игрушек, который оказывается подпольным борделем для педофилов.
Дальше – бесконечные наплывы воспоминаний и наркотических видений (главного героя? или того, под чьим именем он скрывается?), вторжения неизвестного доселе рассказчика № 2, в своих кинботовских примечаниях опровергающего отчет рассказчика № 1; беспорядочные блуждания по лабиринтам разрушенного города, серия новых убийств…
Сюжетные линии, переплетаясь и противореча друг другу, опутывают и персонажей, окончательно теряющих свою идентичность, и беднягу читателя. Изъеденное кавернами повествование, дробясь на эпизоды и мизансцены, осыпается в шизофренический бред, бессмысленный и беспощадный. Беспощадный и по отношению к читателю (который чувствует себя словно лабораторная мышь, посаженная под стеклянный колокол, откуда выкачали воздух), и по отношению к героям, особенно героиням: как и в большинстве «новых романов» Роб-Грийе, в «Повторении» ручьями льется кровь и чуть ли не в каждой главе со знанием дела живописуются садистские истязания юных красавиц – «сцены жестокого изнасилования с помощью утыканных шипами фаллосов, крики боли, исторгнутые из них каленым железом и клещами, их бьющую алым фонтаном кровь, поступательную экстракцию их нежных девичьих прелестей и, наконец, продолжительные конвульсии и судороги, пробегавшие волнами по их истерзанным телам…»
Не буду лицемерить: мне нисколько не жаль несчастных жертв старческого садизма. Персонажи, населяющие выморочный мирок «Повторения», – это блеклые фантомы, взаимозаменяемые клоны и двойники, которые, погибая в одном эпизоде, с легкостью воскресают в следующем, – все они настолько эфемерны и невыразительны, что не могут (и не должны!) вызывать ни сострадания, ни любви, ни хоть какого-либо интереса.
Не представляет особого интереса и сам роман, похожий больше на типовой «недоскреб» брежневской эпохи, чем на грандиозную Вавилонскую башню: ни тебе сюжетного драйва, ни формальной новизны, ни свежих идей… Если он и будет кое-как держаться, то только благодаря громкому имени автора, в который раз предложившего нам сыграть в скучную игру без правил и шансов на выигрыш.
Ex Libris НГ. 2005. 18 августа. С. 4.
Шарж Дэвида Левина
ЗЛОДЕЯНИЯ ДЖОНА АПДАЙКА
В англоязычном литературном мире Джон Апдайк стойко ассоциируется с «мейнстримом» «серьезной» американской литературы и считается если не классиком, как Фолкнер или Хемингуэй, то, по крайней мере, наивернейшим претендентом на этот почетный титул. Для многих американских критиков Апдайк – это не только автор, олицетворяющий собой «чисто американский реализм», но и «единственная фигура, сочетающая мудрость, интеллект и утонченность <…> со способностью хотя бы изредка прорываться в список бестселлеров, <…> наиболее достойный среди писателей США кандидат на очередную Нобелевскую премию по литературе»396.
Нобелевскую премию Апдайк, будем надеяться, рано или поздно получит – как уже получил все мыслимые и немыслимые литературные награды США (включая Пулитцеровскую премию и Премию национального общества литературных критиков), пожалованные ему за роман «Кролик разбогател» (1981). Однако ни громкое литературное имя, ни колокольные статьи авторитетных критиков – ничто и никто не в состоянии поколебать непреложную истину: нельзя без ущерба для эстетического качества своих произведений до бесконечности эксплуатировать некогда плодородную, а теперь уже порядком истощенную почву социально-бытового романа, не внося туда ничего существенно нового – как в плане формально-композиционном, так и идейно-философском, – не пытаясь расширить собственный художественный и духовный горизонт, по-своему переосмыслить сложившиеся литературные формы, найти нетривиальный подход к жизненному материалу.
Именно на эти размышления наводит одиннадцатый по счету роман Джона Апдайка «Иствикские ведьмы» (1984)397 – его перевод сравнительно недавно вышел в издательстве «Вагриус». (Выпустив «не первой свежести» апдайковский роман, издательство, видимо, рассчитывало, что на книжном рынке он повторит успех, которого в конце восьмидесятых на видеорынке добилась его вольная экранизация Джорджа Миллера с участием Джека Николсона, Шер, Мишель Пфайффер и Сьюзен Сарандон.)
Справедливости ради отметим: в этом произведении писатель, по всей видимости, честно пытался выбраться из накатанной до мертвенного лоска колеи пейзажно-постельно-кухонного реализма, сдобрив пресное бытописание американской провинции специями инфернальной фантастики и уксусом сатиры. К сожалению, выйти за пределы давно облюбованной литературной делянки и кардинально обновить свой художественный арсенал, дав тем самым импульс к развитию далеко не изжившей себя традиции, у Апдайка не получилось.
Правда, на первый взгляд «Иствикские ведьмы» существенно отличаются от предыдущих апдайковских романов – хотя бы тем, что в качестве центральных персонажей здесь выступают представительницы прекрасной половины человечества – три «зрелые, разведенные, лишенные иллюзий женщины», глазами которых показано унылое, хотя и внешне благополучное существование провинциального городка Иствик в эпоху сексуальной революции, вьетнамской войны и рок-н-рольного бума. Пытаясь воплотить женскую точку зрения на мир, автор с дотошной обстоятельностью исследует сознание (порой неотличимое от подсознания) своих героинь, почти полностью растворяясь в нем, «изнутри» показывая его связь с природной стихией и иррациональным началом жизни. При этом в центре авторского внимания оказывается и феминистская идеология, которую исповедуют его протагонистки, твердо убежденные в том, что «мужики – абсолютное дерьмо», а брак – один из главных инструментов подавления женской свободы и индивидуальности.
Расставшись со своими ничтожными мужьями, они самостоятельно зарабатывают себе на хлеб: пышнотелая блондинка Александра лепит из глины незамысловатые статуэтки, сбывая их неприхотливым туристам в качестве сувениров; сексапильная Сьюки (Сьюзанн) репортерствует, собирая слухи и сплетни для местной газеты; темпераментная брюнетка Джейн играет в иствикском оркестре и дает уроки музыки – хотя «зрелище грязных детских ручонок, калечащих на ее чистейших клавишах из слоновой кости какую-нибудь бесценную простенькую мелодию Моцарта или Мендельсона», каждый раз вызывает у нее «желание схватить метроном и колотить его основанием по этим пухлым пальцам так, как давят в ступке бобы».
Не слишком утруждая себя воспитанием детей (благо есть школа и телевизор), апдайковские ведьмы ведут довольно разгульный образ жизни – соблазняя женатых мужчин (разумеется, только из чувства снисходительного сострадания и благотворительного побуждения «исцелить, поставить припарку покорной плоти на рану мужского желания») и частенько наведываются к поселившемуся на окраине Иствика подозрительному типу Даррилу Ван Хорну, который устраивает в своем пахнущем серой особняке шумные оргии – с кощунственным пародированием евхаристии, хороводами, танцами и бурными сексуальными забавами на черных простынях. Как можно легко догадаться, иствикские ведьмы связались с дьяволом (персонаж, немыслимый ранее в фотографически жизнеподобных романах Апдайка).
И все же, несмотря на инфернальность главных героев и инъекции антифеминистской сатиры (мстительные и раздражительные ведьмы, способные из чувства ревности навлечь на соперницу рак или забавы ради умертвить белку, на поверку оказываются ничуть не лучше бездушных «шовинистов»-мужчин), «Иствикские ведьмы» практически не выделяются на фоне предыдущих апдайковских романов, чья фактура «с раздражающей легкостью улетучивается из головы, прежде чем успеваешь ее ухватить, и сливается с серыми будничными банальностями, которые составляют столь монотонный фон нашего повседневного бытия, что сознание инстинктивно отвергает их как не стоящие запоминания»398.
Как и прежде у Апдайка, повествование «Иствикских ведьм» страдает сюжетной анемией и самодовлеющей описательностью (лишь слегка окрашенной скучноватыми рассуждениями о жестокости природы); фантастика же парализована здесь назойливым авторским вниманием к «микроскопическим доподлинностям» (апдайковское выражение) быта и нравов ничем не примечательных американских обывателей – не обремененных особым интеллектуальным багажом, не раздираемых неразрешимыми нравственными коллизиями, не способных избыть скуку своего сытого существования ни черной магией, ни любовными интрижками.
В одном из интервью Апдайк признавался, что как писатель он «любит искать и находить интересное в самом банальном»399. Похоже, в «Иствикских ведьмах» он чересчур увлекся поисками. В результате фантастика у него вышла бескрылой, приземленно-петрушевской, лишенной метафизической глубины.
Колдовские проделки иствикских ведьм, как правило, настолько тривиальны, по-бабски мелочны и неостроумны (то одна наколдует, чтобы у досаждавшей ей старухи рассыпалось жемчужное ожерелье и порвались ремешки на туфлях; то другая в сердцах пожелает, чтобы ее новый шеф сломал себе ногу, – и во время гололеда он доставляет ей эту радость; то все вместе делают так, чтобы у ненавистной им городской активистки изо рта лезла всякая дрянь – соломинки, перышки, насекомые), сам Ван Хорн с его утомительными разговорами о поп-арте и получении вечного источника энергии до такой степени бесцветен и скучен, что автор при первом удобном случае оставляет своих протагонистов и удаляется в густые заросли пейзажных описаний, поглощающих и без того зачаточную фабулу.
Зато в этих зарослях Апдайк чувствует себя превосходно и резвится вволю, демонстрируя читателю редкую в современной литературе приметливость по отношению к явлениям внешнего мира. От его внимания не ускользает ни одна мелочь. Если уж он берется описывать, скажем, иствикский пляж, будьте уверены – сделает это с исчерпывающей полнотой: зорко приметит поблекшие цветные наклейки на беспорядочно разбросанных банках из-под пива и упаковках от тампонов, и белый пушок на гладких девичьих ногах «карамельного цвета», и «остатки кострищ из принесенных водой обломков древесины, и осколки термоса для охлаждения вина, и презервативы, похожие на маленьких сушеных медуз»; проницательно различит на песке «рядом с треугольным узором лапок чаек более тонкие следы куликов и пунктирные каракули крабов»; с точностью заправского ботаника перечислит названия увиденных растений: вот мышиный горошек, чуть дальше – мохнатая гудзония и виргинский вьюнок, а во-о-он там, смотрите внимательно, – Ammophila breviligulata («Аммофила короткостеблая», – сообщает в примечании добросовестная переводчица).
Реализуя свои незаурядные живописные способности, Апдайк достигает воистину потрясающих результатов: читатель оказывается буквально погребенным под лавиной подробностей (порой совершенно излишних и невыразительных), а действие размазывается, словно холодная манная каша по тарелке.
Спору нет, бесчисленные описания подаются Апдайком в роскошной стилистической упаковке. Правда, время от времени чувство меры начинает ему изменять, и тогда необузданное буйство пышных метафор и сравнений начинает напоминать безумную фантазию кондитера, вознамерившегося соорудить торт из одних жирных кремовых розочек.
Изредка свою посильную лепту вносит и переводчица («Умирающий декабрьский день пощипывал лица и ноги в легких теннисных туфлях» – ср. с оригиналом: «The dying December day nipped at their faces, their sneakered feet»400), хотя в подавляющем большинстве случаев она не повинна в том, что вытворяет ее подопечный: «…Смешные струи спермы как крики детеныша животного в когтях ястреба» («These comic jets of semen, like the cries of a baby animal in the claws of a hawk»401); «На кривых тротуарах, местами очищенных от снега, виднелись узоры, отпечатанные ботинками, они были похожи на грязные следы на белом печенье» («The not-quite-straight sidewalks of Dock Street, shoveled in patches, manifested patterns of compressed bootprints, like dirty white cookies with treads»402).
Впрочем, обилие тяжеловесных, плохо перевариваемых метафор и неудачных сравнений, приторно-подробные описания – это еще не самые страшные злодеяния Джона Апдайка. Куда неприятнее половодье нескончаемых, пустопорожних диалогов, составляющих, как в самом настоящем бульварном романе, где-то около половины текста. Согласен, некоторые из них выполняют определенную функцию: с их помощью нам сообщается об основных событиях романа. О прибытии в Иствик Ван Хорна и о преобразованиях в купленном им особняке, о гибели священника унитарной церкви Эда Парсли (бросившего семью ради молоденькой любовницы, связавшегося с левыми экстремистами и подорвавшегося на собственной бомбе), о смерти Дженнифер – избранницы решившего вдруг остепениться дьявола (ее-то и сглазили ревнивые ведьмы), наконец, о бегстве Ван Хорна из города (несмотря на разглагольствования о современном искусстве и грандиозные планы найти источник вечной энергии, он оказался всего-навсего мелким жуликом, скрывающимся от кредиторов) – об этих и других происшествиях мы узнаем из кухонного трепа и телефонных разговоров трех подруг, так что пересуды и словоохотливое перемывание косточек ближним являются, по сути, главным механизмом раскручивания фабулы.
Подобный композиционный прием с приятной легкостью позволяет переделать роман в киносценарий (как мы помним, по роману Апдайка был снят легковесный «ужастик» с участием целой россыпи голливудских звезд), только вот вряд ли он идет на пользу романному повествованию: привкус сплетни и заливистой телефонной болтовни обесцвечивает и опошляет даже самые трагические и ужасные события. К тому же многие диалоги и вовсе не несут в себе никакой полезной нагрузки и оставляют впечатление, будто они вставлены в текст едва ли не для того, чтобы заполнить пробелы между цветистыми авторскими описаниями. Вот типичный образчик подобного композиционного балласта – выдержка из разговора иствикских ведьм и Дженнифер во время вечеринки у гостеприимного Ван Хорна:
«– Что-нибудь чувствуешь?
– Нет.
– Хорошо.
– Стесняешься?
– Нет.
– Хорошо, – произнесла третья [ведьма].
– Ну разве она не мила?
– Да, мила.
– Просто подумай: “Плыву”.
– Я чувствую, что лечу.
– Мы тоже.
– Всегда.
– Мы здесь с тобой.
– Потрясающе.
– Мне нравится быть женщиной, – сказала Сьюки.
– Ну и будь, – сухо сказала Джейн Смарт.
– Но я и в самом деле так чувствую, – настаивала Сьюки.
– Девочка моя, – говорила Александра.
– Ох, – слетело с губ Дженнифер.
– Нежней. Мягче.
– Райское блаженство…»
И такое вот «райское блаженство» – на протяжении всего романа, десятками страниц!
Не хочу сказать, что в этом произведении все так беспросветно плохо. Имеются в романе и яркие, оригинальные образы, и удачные эпизоды, и даже по-настоящему смешные сцены (в частности, описание парной игры в теннис, по ходу которой ведьмы – в духе диснеевских Тома и Джерри – устраивают друг другу мелкие пакости, превращая теннисный мячик то в жабу, то в сырое яйцо, то в кусок цемента); есть в нем и дивные пейзажные медитации, и запоминающиеся характеры второстепенных персонажей (особо отметим одного из любовников Сьюки – духовно выпотрошенного скептика и неудачника Клайда Гэбриела, в припадке ярости убившего постылую жену, а затем хладнокровно покончившего с собой) – есть многое, что позволяет назвать Апдайка первоклассным профессионалом, и все же нет главного: нет ощущения того, что автор стремится к глубокому, творчески самобытному постижению мира, к тому, чтобы достучаться до читателя, поделиться с ним выстраданным и наболевшим, заставив «мыслить и страдать».
Как это ни печально, роман Апдайка производит впечатление вымученности и ненужности. Не случайно, убрав Ван Хорна из Иствика, автор, словно не зная, что делать дальше, комкает повествование и трафаретно завершает его свадьбами всех трех героинь. Для полного счастья не хватает только финального поцелуя, как в типовом голливудском фильме былых времен, да резюме в духе гоголевского Хомы Брута – им-то мы и завершим скорбный перечень злодеяний иствикских ведьм и их создателя: «Много на свете всякой дряни водится! А страхи такие случаются – ну…»
Новый мир. 1998. № 11. С. 216–219.
КОРНЕЛИЙ И ВОЛЬТИМАНД, ИЛИ КАК ПЕРЕШЕКСПИРИТЬ ШЕКСПИРА
Лет тридцать назад в Америке вовсю бушевала дискуссия на тему «смерть романа», и Джон Апдайк, к тому времени – уже маститый прозаик, автор нескольких нашумевших романов, с горечью констатировал: «Постепенно создается впечатление, что роман не принадлежит к столь извечным формам самовыражения человека, как поэзия, танец или шутка, а, напротив, подобно эпосу и трагедии, является жанром, который совершает жизненный цикл и заканчивается смертью – смертью, которая, очевидно, уже наступила» (цитирую апдайковское эссе 1969 года «Будущее романа»)403.
Был ли Апдайк искренен или просто кокетничал, откликаясь на модную тему? Во всяком случае, он не перестал писать романы. Напротив, как Боборыкин, «пишет много и хорошо», с исправностью превосходно отлаженного автомата поставляя на книжный рынок роман за романом. И пусть придирчивые критики обвиняют его в мелкотемье и бесконечных самоповторах, пусть литературные недруги, давясь от злости, утверждают, что из-под его пера «страница за страницей выходит великолепно отшлифованная проза, повествующая решительно ни о чем» (Джон Оливер Килленз)404 – пусть их… Количество изданных книг давно уже перешло в качество литературной репутации, и теперь, накануне семидесятилетнего юбилея, Апдайк по праву считается патриархом, без пяти минут классиком американской литературы.
В прошлом году он вновь доказал свою дееспособность: взял да написал очередной, двадцатый по счету роман, чей перевод с волшебной оперативностью недавно появился на прилавках книжных магазинов.
В жизни каждого второго англоязычного литератора рано или поздно наступает отчаянный момент, когда, пресытившись прежними достижениями, он, подобно режиссеру из «Берегись автомобиля», решает: «А не пора ли нам, друзья, м-м… замахнуться, значит, м-м… на Уильяма, так сказать, нашего м-м-м… Шекспира?» И неудивительно: ничто так не возвышает автора в собственных глазах, как состязание с Великим Бардом, ничто так не заряжает, как энергия, одухотворяющая его бессмертные шедевры.
Вот и Джон Апдайк, которому, видимо, надоела роль прилежного бытописателя американской глубинки, вознамерился повторить успех Тома Стоппарда и перешекспирить Шекспира: рассказать о событиях, непосредственно предшествовавших действию «Гамлета». Оставив в покое своих современников, писатель отправился в Датское королевство, используя в качестве бедекера «Историю датчан» (ХII в.) Саксона Грамматика и «Трагические истории» (1576) Франсуа Бельфоре. Результатом экскурсии явилось во всех отношениях любопытное произведение – своего рода анти-«Гамлет», в котором реалистическая точность деталей, тонкий психологизм и пластическая выразительность описаний удачно сочетаются с постмодернистским пафосом деканонизации и амбивалентности.
Время действия «Гертруды и Клавдия»405 нарочито условно: совмещает реалии раннего Средневековья и позднего Ренессанса. В начале романа персонажи живут в полуязыческую эпоху пиратских набегов и больше напоминают героев скандинавских саг, нежели шекспировской пьесы: пол королевского дворца устлан соломой, король Рёрик по-простецки одет в куртку из некрашеной овчины, главная героиня, став королевой, помогает служанкам стирать белье. В третьей, заключительной части персонажи одеты уже по моде XVI века – в «дублеты с узором из ромбов и многоцветные штаны-чулки асимметричной расцветки»; узурпатор Клавдий в полном соответствии с текстом трагедии приказывает палить из пушек после каждого своего возлияния, а также весьма неодобрительно отзывается о Виттенбергском университете, alma mater Гамлета, где профессора проповедуют «крамольные доктрины – гуманизм, ростовщичество, рыночные ценности, не совсем божественное происхождение власти монарха».
Основные действующие лица «Гамлета» предстают у Апдайка в неожиданных обличьях, точнее – в непривычных ракурсах; вдобавок их имена варьируются на протяжении всей книги. Гамлет (он же – Амлет, он же – Хамблет) томится где-то на сюжетной периферии и показан глазами ненавидящей его матери как жестокосердый и взбалмошный эгоист, «непочтительный со старшими, бездушный с низшими». Мать Гамлета (в первой части ее зовут Герута, во второй – Геруте, в третьей – Гертруда) сочувственно представлена пленницей государственных и династических интересов. Выданная замуж против желания, она с безоглядной страстью бросается в пучину измены, видя в ней избавление от «мертвящей пустоты законопослушной жизни» с постылым супругом. Король Гамлет (он же – Горвендил), идеализированный у Шекспира, выставлен Апдайком холодным и расчетливым властолюбцем, «тупоголовым монархом, беззащитным в своем самодовольстве», «толстокожим приверженцем широких, приблизительных, всего лишь полезных истин»; его брат Клавдий вызывает у автора бόльшую симпатию. Это противоречивая ренессансная натура: обаятельный циник и развратник, братоубийца, он в то же время и идеальный возлюбленный, верный кодексу куртуазной любви, эстет, полиглот, «космополит, знаток человеческой природы», мудрый политик, пекущийся о процветании своей державы.
Как можно легко догадаться, обыгрывая сюжет и переосмысляя характеры знаменитой пьесы, Апдайк не смог одолеть «Потрясателя сцены» – слишком уж разные весовые категории. Когда в начале романа он измышлял условно-мифологическую, оссиановско-кинботовскую Данию, ему еще удавалось резвиться на длинном поводке. Однако ближе к финалу, по мере того как действие приближается к исходной точке «Гамлета», поводок натягивается – автору становится все труднее преодолевать мощное творческое притяжение. Видно это и по тому, как эволюционируют герои (в заключительной части апдайковский Клавдий не так уж сильно отличается от шекспировского), и по тому, как убывает эпическое повествование, уступая место драматическому принципу чередования сценических эпизодов, диалогов и по-театральному пространных монологов. В конце концов апдайковские герои переходят на пятистопный ямб, перефразируя или дословно цитируя текст «Гамлета».
Никаких особых глубин, никакого un nouveau frisson в книге нет и в помине, но едва ли у кого-нибудь повернется язык, чтобы объявить ее неудачей. На фоне прежних апдайковских творений – всех этих бесконечных Кроликов, Бехов, Роджеров, страдающих сюжетной анемией и отличающихся какой-то бескрылостью фантазии, – «Гертруда и Клавдий» – настоящий луч света в сером царстве унылого бытописательства. Да и проза Апдайка, ее словесная фактура, по-прежнему великолепно отшлифована, изукрашена яркими метафорами и оставляет самое радужное впечатление, которое не смогут омрачить редкие ляпы: «Ее сын был ему врагом, ощущала она своими чреслами» (С. 205); «Волны ощущений в его нижних частях вознесли ее так высоко, что ее голос вырвался из нее, как зов разбуженной птицы» (С. 209).
Будем великодушны и возложим ответственность за подобные изыски на переводчицу. Ведь кто знает, не знаменует ли этот изящный tour de force начала нового этапа в творчестве писателя, а опробованная им формула – синтез жизнеподобного, психологического реализма с игровой поэтикой и цитатностью постмодернизма – не положит ли она основание новому литературному направлению, какому-нибудь там «синтетизму» или «универсализму»? (Выбирайте терминологическую этикетку по вкусу.)
А какие умопомрачительные открываются горизонты, сколько неиспользованных возможностей! Взять того же «Гамлета». Да, Розенкранц и Гильденстерн уже оприходованы, «Трагическая история Полония, гофмейстера датского» уже заявлена одним мрачноватым американским юмористом, зато остаются: «Диковинные и истинные видения Горация», «Фортинбрас, принц норвежский» (трагедия в пяти актах), «Два могильщика» (трагифарс в трех актах с прологом и эпилогом). Или вот еще: «Эльсинорское привидение», «Невымышленное и весьма приснопамятное жизнеописание Франциско, воина датской службы», «Озрик и Рейнальдо», «Марцелл и Бернардо», «Корнелий и Вольтиманд»…
Литературная газета. 2001. 11–17 июля. С. 10.
Шарж Дэвида Левина
НЕГРИТЮД ПО-АПДАЙКОВСКИ
За Джоном Апдайком прочно закрепилась репутация умелого, хотя и скучноватого бытописателя американской провинции – по-кроличьи плодовитого автора пресноватых романов (не радующих ни сюжетной остротой, ни разнообразием характеров), в которых изысканным слогом описываются нудные будни ничем не примечательных американских обывателей. К счастью, время от времени «литературному лазутчику в Америке средних классов, бесплатных школ и супермаркетов» (как аттестовал себя Апдайк в книге мемуаров) надоедало тратить свои неисчерпаемые стилистические богатства на банальные адюльтерные истории из жизни сексуально озабоченных домохозяек и рефлектирующих торговцев автомобилями: несколько раз он выбирался из накатанной колеи и, как мог, осваивал новые территории.
Изданные под одной обложкой «Переворот» (1978) и «Бразилия» (1994)406 – девятый и шестнадцатый апдайковские романы – появились как раз после подобных вылазок. Поскольку «Бразилия», эта гремучая смесь «магического реализма» с мыльной оперой, уже знакома российским апдайколюбам (в 1996 году «Вагриус» выпустил добротный перевод А. Патрикеева), поговорим-ка мы лучше о романе «Переворот», в свое время собравшем богатый урожай хвалебных отзывов в англоязычной прессе, а в нашей отчизне сразу же погребенном в недрах спецхранов. Даже полузакрытый журнал «Современная литература за рубежом», обычно оперативно откликавшийся на новинки западного книжного рынка, не удостоил «Переворот» рецензией. Оно и понятно: в эпоху застоя такой роман не мог быть допущен до простых граждан, ибо в нем с непочтительной иронией повествуется о просоветски настроенном правителе западноафриканского государства Куш, по воле Апдайка возникшего на месте французской колонии Нуар.
Территория – 126 912 180 гектаров; плотность населения – 0,3 человека на гектар; средняя продолжительность жизни – 37 лет; «валового национального продукта на душу населения производится на 79 долларов, грамотность составляет 6 процентов»; основные статьи экспорта – земляные орехи и соль. «Форма правления – конституционная монархия, при этом действие конституции приостановлено, а монарх низложен. Исполнительную власть на переходный период осуществляет Чрезвычайный Верховный Революционный и Военный Совет (ЧВРВС) <…>; он же является законодательным органом. Все свои решения Совет принимает исходя из положений чистого и окончательно победившего социализма, каким представлял его себе Маркс, и теократического популизма реформаторских направлений ислама».
В Совете заправляет главный герой романа – полковник Хаким Феликс Эллелу, от чьего лица и ведется повествование. Некогда солдат французских колониальных войск, сражавшийся в Индокитае и дезертировавший после перевода в Алжир, затем студент колледжа Маккарти во Фрэнчайзе (Висконсин), испытывавший к приютившей его Америке мучительную любовь-ненависть, по возвращении на родину он выбился в ближайшие помощники «ставленника галльских империалистов» короля Эдума IV, а после присоединился к революционной хунте, которую в конце концов и возглавил, убрав конкурента (о чем бегло упоминается в начале романа).
Не подумайте, что перед нами изворотливый и кровожадный изверг, вроде тирана из «Осени патриарха». Герой-повествователь «Переворота», любящий власть столь же сильно, сколь и свою затерянную среди песчаных пустынь родину, скорее является литературным потомком злополучного Сета из «Черной напасти» – такой же бескорыстный пленник идеи. Правда, в отличие от императора-реформатора он люто ненавидит западную цивилизацию, погрязшую «в материализме и его свинском удушении духа», и лелеет мечту об особом пути для Куша. Только вот незадача: Куш, этот «край изысканной, чудесной пустоты», опровергает все проверенные марксистские схемы. После переворота Эллелу и его сподвижники обнаружили, что в стране нечего национализировать. «Наш министр промышленности стал искать заводы для национализации – их не оказалось. Министр сельского хозяйства искал крупные земельные угодья, чтобы отобрать их и разделить, и обнаружил, что большая часть земли в юридическом смысле слова никому не принадлежит. Нищета была налицо, а угнетения не было – как такое возможно?» – жалуется пламенный революционер в минуту тягостных сомнений.
Тем не менее апдайковский герой, фанатически преданный смутным идеалам «исламского марксизма», стремится «освободить Куш от тирании материального мира» и всячески противится экономической экспансии «белых дьяволов», стремящихся «приобщиться» к природным ресурсам его чахлой державы. Во время пятилетней засухи, поразившей Куш, он даже сжигает присланный из США груз дешевой гуманитарной помощи, а заодно – не в меру ретивого американского дипломата, догадавшегося соблазнять подыхающих от жажды аборигенов картофельными чипсами и порошковым молоком.
Словно Гарун-аль-Рашид, неутомимый председатель ЧВРВС переодевается нищим или торговцем апельсинами (что при отсутствии апельсинов в истощенной засухой стране выглядит несколько комично) и в сопровождении небольшой охраны рыщет по Кушу, выявляя крамолу, а при необходимости – обрушивая на малосознательных граждан бурные потоки громоподобной риторики, в которой марксистские формулы перемежаются цитатами из Корана. Увы, словесное изобилие мало помогает диктатору-идеалисту: оградить Куш от тлетворного влияния «неверных» ему не удается. Даже его любимая жена (а у него их четыре) непатриотично слушает западные радиостанции и распевает американские шлягеры. Во время очередной поездки незадачливый правитель обнаруживает свободную экономическую зону, которая возникла благодаря тайным переговорам его прагматичных соратников с коварными янки, намертво присосавшимися к новонайденному месторождению нефти. Попытка зажечь массы вдохновенной речью и подвигнуть их на уничтожение нефтедобывающего комплекса заканчивается позорной неудачей. Толпа награждает Эллелу плевками и зуботычинами: обещанная американцами бесплатная раздача пива привлекает кушитов гораздо больше, чем его пафосные филиппики. Некогда всесильный диктатор превращается в бесполезную погремушку. В довершение всех бед ему изменяет ближайшее окружение; он отстраняется от власти и отправляется в почетную ссылку на юг Франции.
В общем, уже из беглого пересказа фабулы можно понять, что в «Перевороте», высмеивающем как циничное политиканство сверхдержав, так и карликовые диктаторские режимы с их комичными потугами на «особый путь», Апдайку наконец-то удалось создать яркий и запоминающийся характер, а также устранить роковой изъян прежних романов, на который указывали многие критики: дисбаланс между цветистой роскошью стиля и сюжетом (как правило, беспозвоночным и малокровным). Едва ли по части изящных сюжетных поворотов и композиционной изобретательности автор «Переворота» превзошел создателей «Черной напасти» или «Осени патриарха», однако нельзя не признать, что в этом романе (на мой взгляд, одном из лучших за всю его писательскую карьеру) Апдайк удачно совместил выразительную пластичность описаний с увлекательным сюжетом, едкую сатиру – с лиризмом, фарс – с трагедией и, главное, направил свою острую наблюдательность гораздо глубже гладкой поверхности устоявшегося быта и современных ему общественных нравов (которой довольствовался, скажем, в «Супружеских парах» или «Давай поженимся»). Под радужной пленкой распрекрасных политических лозунгов, как «либеральных», так и «почвенных», писатель сумел разглядеть кипящую лаву эгоистических страстей, разрушающих и государства, и человеческие души, – страстей, разодравших на клочки и нашу, казалось бы, незыблемую державу.
Что ж, остается пожелать российским книгочеям приятных впечатлений от «нового» Апдайка, а также посетовать на то, что писатель не так уж часто позволял себе плодотворные творческие командировки – подальше от скучных супермаркетов и асфальтовых пустырей бытовизма.
Иностранная литература. 2004. № 1. С. 257–259.
Шарж Кента Уиллиса
«ЧУДОВИЩНАЯ ПРОЗА» ДЖОНА БАРТА
Дивно устроен свет наш. Не успел скиснуть (то бишь выйти из моды) отечественного разлива «постмодерьмизм», как на российских книгочеев низвергнулась лавина консервированных постмодернистских творений сорока-тридцатилетней выдержки. При этом издательства, занимающиеся поставками залежалого литературного импорта и раскруткой мэтров отмирающего «изма», благоговейно подают свою продукцию под этикеткой «Классики зарубежной литературы ХХ века».
К таковым, в частности, скоропалительно причислен американский прозаик Джон Барт, в свое время проделавший довольно сложную эволюцию от приперченного «черным юмором» экзистенциализма к герметичному гипермодернистскому экспериментаторству, а уж затем – к тому, что в девяностые у нас нещадно разрекламировали как последнее и единственно возможное слово в литературе. Эта эволюция отражена в очередном томе ненумерованного собрания сочинений Барта, затеянного издательством «Симпозиум»407.
В аннотации к книге (куда вошел сборник «короткой прозы для печати, магнитофонной ленты и живого голоса» «Заблудившись в комнате смеха» (1968) и второй бартовский роман «Конец пути» (1958) – вещи идут именно в таком порядке) издатели клятвенно обещают представить почти всего доконвенционного Барта – «главные, знаковые произведения писателя, сделавшие его поистине знаменитым». По непонятным причинам из их числа выключен дебютный и, на мой взгляд, лучший бартовский роман «Плавучая опера» (1955), лет десять назад переведенный А.М. Зверевым. Этот, уверяю вас, не менее «знаковый» роман составил бы «Концу пути» куда более подходящую пару, нежели сборник «короткой прозы», относящийся к более позднему этапу созревания «крупнейшего американского писателя 60–80-х годов», как рекомендуют его в аннотации «симпозиумовского» тома. И дело тут не в моих личных пристрастиях и даже не в хронологии (о которой составители, видимо, не имеют никакого представления, раз уж они решили открыть книгу сборником 1968 года и завершить ее произведением, опубликованным десятью годами ранее). Объединенные общностью философской проблематики и композиционных принципов, оба романа образуют своего рода «нигилистическую дилогию». Они построены в форме исповедального монолога циничного, во всем разуверившегося, подпольно-достоевской складки антигероя, наделенного, однако, особым отрицательным обаянием.
В «Опере» это был «лучший стряпчий на восточном побережье» Тодд Эндрюс, в один прекрасный день решивший прервать свое бессмысленное существование, но после неудачной попытки взорвать себя и сотню-другую обывателей пришедший к выводу, что абсурд жизни и абсурд смерти равноценны. В «Конце пути» функцию повествователя выполняет близкий ему по духу «умеренно депрессивный» циник Джейкоб Хорнер, озабоченный проблемой собственной идентичности и болезненно осознающий, что все его разрозненные, сменяющие друг друга «я» связаны промеж собой лишь двумя ненадежными нитями – «телесностью и памятью».
Написанный в том же году, что и «Плавучая опера», «Конец пути» развивает заложенные в нем темы и идеи. «Пусть абсолютных ценностей не существует, но нельзя ли тогда ценности, которые не абсолютны, счесть столь же значительными и даже подчинить им жизнь?» – вопрос, вставший перед героем-повествователем в финале «Плавучей оперы», достался в наследство протагонисту «Конца пути», твердо уверенному только в одном: жизнь лишена смысла, «причин не осталось никаких и ни для чего». Зачарованный открывшейся ему истиной, Хорнер, подобно газдановскому герою из «Возвращения Будды» (интересная, между прочим, параллель – дарю ее профессиональным газдановедам), впадает в болезненное состояние (Барт называет его «космописом»): отрешается от окружающей действительности и безвольно растворяется в идиотическом созерцании «конечных пределов человеческого бытия». Из экзистенциального ступора героя выводит бездипломный чернокожий Доктор – «гибрид шарлатана и пророка», – исповедующий сартровскую идею о том, что человеческое существование предшествует человеческой сущности и человек волен не только выбирать свою сущность, но и менять ее по своему усмотрению. Хорнеру предлагается воссоздать свою сущность с помощью мифотерапии – выбора какой-либо идеологической парадигмы (Доктор рекомендует ему ознакомиться с трудами Ж.-П. Сартра) и обретения устойчивой социальной роли. В соответствии с пожеланиями Доктора бартовский «человек без свойств» устраивается преподавателем «предписательной грамматики» в захудалый провинциальный колледж. Там он знакомится с историком Джо Морганом, целеустремленным и честолюбивым малым (американизированный вариант чеховского фон Корена), которому отводится роль хорнеровского антипода. Безрадостный релятивизм одного сталкивается с «жизнерадостным нигилизмом» и прагматизмом другого.
На противостоянии двух мировоззрений и строится сюжет «Конца пути» – типичного «романа идей», чье внешнее действие сводится к серии затяжных философских дискуссий и череде рискованных психологических экспериментов и провокаций. От превращения в сплошной драматизированный диспут роман спасает адюльтерная интрига. Счастливый муж и примерный семьянин, Джо Морган едва ли не намеренно толкает свою простодушную красавицу жену Ренни к супружеской измене, а затем с маниакальным упорством копается в чувствах двух «предателей». Кончаются эти игры в ménage à trois трагически. Во время нелегального аборта Ренни нелепо погибает: ее вырвало в кислородную маску и… (великодушно опустим омерзительные подробности).
Мрачный финал, как и гнетущая атмосфера безысходного отчаяния, пронизывающая роман, тем не менее не отменяет того, что «Конец пути», как и «Плавучая опера», – это крепкая, берущая за живое проза.
Чего не скажешь о большинстве из четырнадцати опусов, составивших сборник «Заблудившись в комнате смеха». Лишь некоторые бартовские short stories читабельны и приемлемы не только в качестве сырья литературоведческой промышленности и наглядного пособия по «позднему модернизму» – «раннему постмодернизму»: исполненные ностальгии и мягкого, отнюдь не «черного» юмора, твеновские по духу рассказы о детстве, объединенные явно автобиографической фигурой главного героя («Эмброуз: его отметина», «Письмо по воде»); философская притча с гностической подкладкой à la Борхес («Ночное путешествие морем»); рассказ-аллегория «Петиция» – своеобразное продолжение набоковских «Сцен из жизни сиамских уродцев». Вот, пожалуй, и все.
Остальные сочинения – это либо тексты-самоеды, гремучие постмодернистские змеи, кусающие собственный хвост («Заглавие», «Автобиография: самозапись прозы», «История жизни»), либо худосочные паразиты, явившиеся на свет божий в результате лабораторных опытов по скрещиванию выхолощенных античных мифов с самодовлеющим композиционным трюкачеством, прежде всего – нудной и намеренно запутанной игрой повествовательными инстанциями, когда без ста грамм невозможно отличить субъекта речи от его адресата («Эхо», «Менелаиада» – тексты, предвосхищающие образцово-постмодернистский триптих «Химера» (1972), который был удостоен в США Национальной книжной премии).
В общем, перед нами типичные образчики «литературы истощения» (если воспользоваться ключевой метафорой из бартовской статьи 1967 года408) – мертворожденного дегуманизированного искусства, напрочь лишенного не только человеческого содержания и даже намека на живое чувство, но и энергии творческого вымысла и фантазии, то есть главных качеств, делающих литературное произведение мало-мальски жизнеспособным.
Более того, вышеперечисленные творения Джона Барта, на мой взгляд, принадлежат к числу «тех упрощенных художественных явлений, в которых смысл сводится к какой-то одной идее и которые оказываются выпотрошенными и ненужными, едва эта идея высказана» (О. Уайльд). Все они воплощают излюбленный бартовский тезис о «неуклонном обветшании гуманизма» и исчерпанности литературной традиции, в первую очередь – реалистического искусства, «не сознающего собственной ущербности». Сам Барт, отдадим ему должное, не обольщается насчет художественных достоинств своей «короткой прозы» и прекрасно осознает ущербность выбранной роли – отрезавшего себя от «живой жизни» доктринера, «намертво привязанного к некоему более или менее безнадежному tour de force» и замкнутого в «зеркальном пространстве, которое закручивается само вокруг себя, как раковина».
Упреждая критические удары, «заблудившийся» автор расчетливо позволяет себе припадки «ограниченного саморазоблачения»: то и дело перебивая повествование истерическими восклицаниями: «Меня тошнит от всей этой тошнотины!», «Господи, да разве это когда-нибудь…» – или же самоубийственными замечаниями и комментариями: «Нельзя же начинать рассказ такой отчаянной скучищей <…>. Стиль отмечен тяжеловесностью и этакой манерной старомодностью <…>, а так называемая “исходная” по меньшей мере спорна: выстроенная на одних сплошных экивоках и дурацкой игривости, от которой идет кругом голова, с привкусом модного нынче солипсизма, совершенно не оригинальная – одним словом, образчик стандартнейшей для двадцатого века прозы. Еще одна история о писателе, который пишет историю! Еще один regressus infinitum! Кто не предпочтет подобной мутотени искусство, которое по крайней мере имитирует что-то помимо собственных процессов жизнедеятельности. Которое не вопит на каждом шагу: “Не забывай, что я – обманка!”?» («История жизни»).
Увы, риторические вопросы остаются риторическими вопросами, и Барт продолжает потчевать читателя обманками, текстами-пустышками, напоминающими дешевые вокзальные рогалики «с повидлом», в которых никакого повидла нет и в помине. Сюжетному повидлу автор «короткой прозы» предпочитает тягучую литературную рефлексию, с помощью которой вытравляет из своих спиралевидных опусов малейшие признаки внелитературной реальности.
С наибольшей наглядностью это демонстрируется в рассказе «Заблудившийся в комнате смеха». Внешне он сохраняет все атрибуты добротного реалистического рассказа: фабулу (семейство Эмброуза отправляется в Оушн-Сити отпраздновать День независимости), живо воссозданные бытовые реалии Америки сороковых годов, тонко выписанные характеры персонажей. Но уже с первых страниц языковая ткань рассказа начинает разъедаться язвой авторефлексии. Метатексты чем дальше, тем бесцеремоннее вторгаются в повествование, убивая фабулу и размывая очертания героев. И будь эти метатексты насыщены глубокими и оригинальными мыслями, как, скажем, у Филдинга или Набокова, мы бы легко простили Барту и его беспросветный солипсизм, и патологическое неумение придать рассказу хотя бы подобие внутреннего драматизма или внешней занимательности. Так нет же: нас с торжественным видом угощают банальностями, извлеченными из учебного пособия для первокурсников: «Описание физической внешности и манеры поведения есть один из нескольких стандартных приемов характеристики персонажей, используемых авторами художественного текста <…>. Функция завязок состоит в том, чтобы представить основные действующие лица, установить между ними исходную систему отношений, задать обстоятельства для развития основной линии сюжета, при необходимости прояснить предысторию возникшей ситуации, рассадить в должном порядке и количестве мотивы и намеки на грядущие события…» – и т.д., вплоть до издевательски обстоятельного объяснения, что такое курсив: «Печатный эквивалент выделения тех или иных слов голосом в устной речи, кроме того, им обыкновенно выделяют названия произведений, не говоря уже о. (Как вам этот манерный обрыв? – Н.М.) Курсив используется также – по преимуществу в художественных произведениях – для обозначения “внешних”, привходящих, либо же искусственных голосов…»
Когда же профессор Барт начинает рефлектировать по поводу грамматической структуры отдельных предложений (уродливо извивающихся, словно перерубленные лопатой дождевые червяки), тогда его опусы становятся и вовсе несъедобными.
Повторяю, Барт прекрасно осознает, что многие его тексты абсолютно нечитабельны. Иначе он не долбил бы чуть ли не в каждом рассказе о том, что «оратор» (читай – писатель) «может оказаться своим же единственным слушателем».
Не случайно сквозная тема сборника – бессилие, творческая немощь писателя, загнавшего себя в тупик никчемного штукарства и тщетно старающегося заполнить раскрывшуюся перед ним бездну грудой бессмысленной словесной шелухи. «Попытайтесь заполнить пустые места. Единственная надежда – попробовать заполнить пустоту. Сотри с лица земли то, чего не можешь встретить лицом к лицу, или заполняй пустоты. Словами или еще того, большим количеством слов, иначе я его заполню этим существительным в творительном падеже», – заклинает автор «Заглавия» (ключевого рассказа сборника), пришедший к «необходимости заполнять пустоту останками использованной и разложившейся на составные части пустоты».
В «Заглавии», как и в других самоедских опусах Барта, идея исчерпанности литературы и «парализующее знание себя и собственной природы» воплощается в нарочитом косноязычии, в замедленном темпе бессвязного, заплетающегося, прямо-таки геликоидального повествования, постоянно возвращающегося к исходной мысли, навязчиво повторяемой фразе. «Заполните пустоту», «я намерен заполнять пустые места», «написание этой истории, вроде как последней, само по себе есть форма художественного заполнения пустоты», – в сравнительно небольшом рассказе этот мотив повторяется раз пятнадцать.
Распад сюжетной связности и цельности повествования сопровождается распадом словесной плоти рассказов. Она разлагается, вырождается в абстрактные словесные узоры, в заумь (похлеще сорокинской китайщины): «Эд’ пелут’, кондо недоде, имба имба имба. Синге эру. Орумо имоо импе руте скелете. Импе рэ скеле лее дуто. Омбо тэ скеле те, бэре тэ кюре кюре…» («Глоссолалия»).
Безбожно злоупотребляя эллипсисами и обрывами предложений, прибегая к тяжеловесным и навязчивым повторам, Барт едва ли не намеренно делает свои тексты абсолютно непроходимыми. Невольно имитируя заикающуюся пластинку или человека, подверженного эхолалии, создатель «Комнаты смеха» обсасывает, вертит так и этак одну и ту же фразу или словосочетание: «А почему бы ему не начать свою историю с самого начала, думал Х, например, словами а почему бы ему не начать свою историю с самого начала, и так далее?» («История жизни»); «Преднамеренное нарушение “нормальной” структуры может в большей степени усилить эффект сам этот эффект. Так можно продолжать и продолжать, так можно продолжать до бесконечности» («Заблудившийся в комнате смеха»). Он и продолжает резвиться подобным образом на протяжении всего сборника, попутно откровенно издеваясь над бедолагой-читателем: «Читатель! Ты, упрямый, ни на что не годный, шалеющий от печатного слова ублюдок, ты, ты, я к тебе обращаюсь, к кому же еще, – из самого нутра этой чудовищной прозы. Так, значит, ты дочитал меня досюда? Даже досюда? Ради какой такой неведомой мне радости? Какого черта, спрашивается, ты не пошел в кино, не врубил телевизор, не принялся глядеть в стену, не отправился перекинуться с приятелем в теннис <…>? Неужто ничто на свете не способно пресытить тебя, набить твое брюхо, вызвать отвращение? И как тебе не стыдно?» («История жизни»).
«Ни на что не годному ублюдку», и впрямь обалдевшему от обрушившейся на него словесной блевотины, остается одно: сжав зубы, упорно пробираться сквозь зыбучие пески (вот уж действительно!) «чудовищной прозы», закаляя силу воли и удовлетворяя – нет, не любопытство и тем более не эстетическое чувство (говоря о «короткой прозе» Джона Барта, об этих понятиях стоит забыть), – а расчетливый исследовательский интерес. Читать Барта ради бескорыстного удовольствия могут разве что безнадежные мазохисты.
А посему мой вам совет: если вы не защищаете диссертацию по американской литературе шестидесятых годов, если вы не связаны обещанием отрецензировать свежепереведенное сочинение окаменевшего постмодернистского монстра, то вряд ли вам стоит задерживаться в бартовской комнате смеха. Уж больно она смахивает на обшарпанную пыточную камеру.
***
В программной статье «Литература восполнения» (1980), посвященной постмодернистской литературе, профессор Барт – к тому времени едва ли не единодушно признанный главным постмодернистом американской литературы – меланхолично вспоминал: «В 1950 году, когда я опубликовал свой первый литературный опыт в ежеквартальном университетском журнале, рецензент-аспирант откликнулся на него следующим образом: “Мистер Барт видоизменяет девиз модернистов «пусть рядовой читатель идет к черту!» – он устраняет из него прилагательное”. Может быть, это и есть постмодернизм, подумал я»409.
Остроумная формула безымянного критика, так понравившаяся Барту, применима если не ко всем постмодернистским опусам, то уж, во всяком случае, к творениям самого Барта: и к «Комнате смеха», и к уже упоминавшемуся сборнику повестей «Химера» (в «симпозиумовском» издании он, вероятно для пущей коммерческой привлекательности, обозначен как «роман»)410.
По примеру «Эха» и «Менелаиды» в каждой из трех частей «Химеры» переосмысляются и травестийно перелагаются сказочно-мифологические сюжеты, «извлеченные из седой повествовательной древности». «Дуньязадиада» – первая панель постмодернистского триптиха – подпитывается за счет «Тысячи и одной ночи»; «Персеида» – козье туловище, если уж продолжить аналогию, – перелицовывает древнегреческий миф о Персее (по воле Барта ему довелось встретиться с воскрешенной богами Медузой); «Беллерофониада» – змеиный хвост – варьирует историю другого легендарного героя, Беллерофона, причем здесь же, для удобства читателей, автор помещает исходный текст – соответствующую главу из «Мифов древней Греции» Роберта Грейвса: «Беллерофон, сын Главка… вынужден был покинуть Коринф, убив перед этим некоего Беллера, за что и получил прозвище Беллерофонт, звучавшее потом как Беллерофон…» – и т.д. с небольшими сокращениями.
Есть в «Химере» вставные тексты другого рода. Возьмем хотя бы хаотичное послание Тодду Эндрюсу, главному герою первого бартовского романа «Плавучая опера» (1956), написанное неким Джеромом Бреем, персонажем тогда еще создававшегося романа «Письма» (1979), или же – фрагменты, стилизованные под интервью: в них Джон Барт пространно рассуждает о проблемах писательского ремесла и собственного творчества, а также – о парализовавшем литературу кризисе, в высшей степени «неблагоприятном для целеустремленности, необходимой, чтобы слагать великие произведения искусства». Подобного рода авторские ламентации плюс то и дело прорывающие повествовательную ткань многомудрые рассуждения о принципах написания данного текста, по сути, образуют внутренний смысловой стержень книги, скрепляя воедино все три части – внешне вполне автономные, никак не связанные друг с другом на сюжетном уровне.
Примечательно, что голос автора (мучительно изживающего творческий кризис и поэтому прибегающего к мифам как к «поэтической возгонке» своего истощенного воображения) практически ничем не отличается от голосов героев-повествователей. Скажу более определенно: и Персей, и Беллерофон, и даже Шахразада – это своеобразные двойники автора. Шахразада, чья жизнь напрямую зависит от ее мастерства рассказчицы, подается Бартом как аллегория современного писателя, существование которого немыслимо без внимания пресыщенной и изменчивой в своих пристрастиях публики; Персей и Беллерофон представлены не величественными героями гомеровско-вергилиевского пошиба, а потускневшими, потрепанными жизнью папиками, страдающими, как и их автор, от «интеллектуальной и духовной дезориентации» – болезни, «обычно отягчаемой дезориентацией онтологической, поскольку знание, где ты находишься, сплошь и рядом сопряжено со знанием, кто ты такой».
«Онтологическая дезориентация», духовное истощение, душевная и творческая немощь – эти столь актуальные для всех нас темы определяют смысловую и эмоциональную палитру «Химеры». К сожалению, палитра эта небогата оттенками, да и животрепещущую тему свою Барт немилосердно засушил, редуцировав до узкопрофессиональной проблемы: как написать роман, хорошо осознавая исчерпанность традиционных романных форм. Похоже, что, уютно устроившись в коконе «чистого искусства», создатель «Химеры» притерпелся к состоянию онтологической и духовной дезориентации. В результате мы получили стерильную, лишенную внутреннего напряжения, до дыр отрефлексированную прозу благополучного американского профессора, чей талант, как он сам гордо признавался, «заключается в том, чтобы превратить простое в запутанное».
В этом занятии Джон Барт и впрямь преуспел. Чтение каждой из трех частей «Химеры» напоминает дешифровку головоломного кода, найдя ключ к которому вы с ужасом понимаете, что все титанические усилия были потрачены впустую, так как разгаданные шифрограммы автора в действительности представляют собой претенциозные банальности: «ключ к разыскиваемому сокровищу и есть само сокровище», «отношение между рассказывающим и рассказываемым по своей природе эротично» и т.п. Отказываясь от осмысления куда более важных и общезначимых вопросов человеческого бытия, обесцвечивая и обезличивая персонажей, низводя их до аллегорий или сюжетных функций, Барт замуровывает себя в искусственном, герметически замкнутом мирке выпотрошенных «мифобиографических схем» и отработанных литературных приемов.
По прочтении «Химеры» и «короткой прозы» из «Комнаты смеха» невольно вспоминаются горькие слова, сказанные Владимиром Вейдле по поводу одного набоковского произведения: «Художник и хотел бы видеть мир, но видит только себя, склоненного над миром; он хотел бы прорваться к бытию и остается прикованным к сознанию». Впрочем, Барт не очень-то хочет «видеть мир» и не стремится куда-либо «прорываться». Нет, на словах, в своих программных декларациях – в том же эссе «Литература восполнения» – Барт ратовал, что называется, за «постмодернизм с человеческим лицом» и, ссылаясь на художественные достижения Борхеса, Набокова, Итало Кальвино, Гарсиа Маркеса, выражал надежду, что «в идеальном варианте постмодернистский роман тем или иным образом сумеет подняться над спором между реализмом и ирреализмом, формализмом и “содержательной” литературой, между чистой и “ангажированной” литературой, литературой для избранных и чтивом». Увы, самому Барту такого идеального романа создать не удалось. Поздние бартовские романы («Письма», «Истории, рассказанные в плаванье» и др.) выдержаны всё в той же «химерической» манере. Разве что текстовыми донорами здесь служат не античные мифы, а ранние романы самого Барта.
Переизбыток холодной рассудочной игры, не оживленной огнем подлинного творческого вдохновения, – вот, пожалуй, роковой изъян «Химеры», да и подавляющего большинства бартовских творений – под какой бы «изм» их ни загонять. (Сам Барт обнаруживал в собственных произведениях признаки и модернизма и постмодернизма: тексты из сборника «Заблудившись в комнате смеха» он относил к «позднему модернизму, хотя ряд критиков хвалил или поносил их как явно постмодернистские», а роман «Письма» «определял как постмодернистский, хотя и отдал в нем легкую дань модернистской и даже домодернистской моде».)
Дело, конечно, не в «измах» и не в тех «остраняющих» приемах, которые присущи поэтике «зрелого» Барта и которые с успехом использовались задолго до него еще в эпоху Просвещения – Стерном и Филдингом, а позже – романтиками (Людвиг Тик, Фридрих Шлегель, А.Ф. Вельтман и др.). Приемы, как известно, сами по себе не хороши и не плохи. Я вовсе не против метаописаний, сюжетной эквилибристики, жонглирования мифологическими архетипами и прочих постмодернистских прибамбасов. Не пугает меня и обилие головоломок: у нынешних книгочеев, как сказал бы незабвенный Владимир Ильич, «твердокаменные желудки», переваривали мы книги и посложнее. Но если головоломки – всего лишь камуфляж, призванный скрыть нищету мысли и чувства, если все авторские усилия сводятся к тому, чтобы «превратить простое в запутанное», и художественное произведение сознательно трансформируется в ребус, тогда… тогда мы с полным основанием можем говорить не об онтологической или интеллектуальной дезориентации, а о самой настоящей творческой импотенции, которую не излечить ни мифологическими инъекциями, ни припарками безукоризненно подогнанных теоретических выкладок.
Иностранная литература. 2003. № 4. С. 276–282.
ПОСТМОДЕРНИСТ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА
Шарж Дэвида Левина
…Во-вторых, потому что уж очень изящно книга411 издана: удобный «покетбуковый» формат (как раз влезет в карман плаща или куртки), хорошая бумага, крупный шрифт, эстетская обложка – с пикирующими аэропланами над островерхими башенками замка и празднично-яркими фигурками, позаимствованными с картины века пятнадцатого.
В-третьих, магическое влияние оказывает статус автора – «американского классика постмодернизма», как гласит аннотация, а ведь, как ни бейся, изрядно затертое, выхолощенное словечко «постмодернизм» и всё, что им обозначается, до сих пор у многих «продвинутых читателей» вызывает такую же благоговейную оторопь, как у стиляг полувековой давности – джинсы с фирменным лейблом.
Правда, с тем, что Дональд Бартельм – теперь его фамилию принято почему-то писать на итальянский манер – Бартелми, но мне уж позвольте называть его по старинке, – так вот, с тем, что Бартельм был чистокровным и беспримесным постмодернистом, можно поспорить. Сам он весьма иронично относился к попыткам критиков навесить на него какой-либо ярлык – «черный юморист», «неоавангардист», «неофабулист», «минималист», «постмодернист», – да и его творчество едва ли исчерпывается каким-либо «измом» (как и литературная продукция других американских писателей – Джона Барта, Уильяма Гасса, Курта Воннегута, – которых всевозможные «веды» и «еды» упрямо загоняют в постмодернистское гетто).
Добрая половина бартельмовских текстов чужда игровой поэтике постмодернизма и скорее относится к герметичному авангарду «второй волны» (Саррот, Роб-Грийе и другие «новые романисты»), к тому, что Гор Видал иронично именовал «литературой Поиска и Эксперимента». В этом вы легко убедитесь, если одолеете относительно недавно переведенный сборник «Шестьдесят рассказов» (1981)412, представляющий творческую эволюцию Бартельма за двадцать лет. Некоторые из бартельмовских текстов явно настояны на модернистских дрожжах. Взять хотя бы «Восстание индейцев», «Скажи ты мне» или «Алису»: своей бессвязной манерой повествования и искалеченным синтаксисом они имитируют поток шизофренического «бессознания» в духе Джойса и Беккета. Недаром же сам Бартельм неоднократно признавал то огромное влияние, которое оказали на него мэтры модернизма, а американские критики, одаривая его двусмысленными похвалами – «Он один из полудюжины действительно интересных американских писателей, пишущих в наше время. И при этом – нудный, напыщенный, без конца повторяющийся, наводящий тоску…», – называли его «талантливым художником, стоящим в тени Гертруды Стайн и Джеймса Джойса»413.
Но вот что касается романа «Король» (1990), то тут всё достаточно очевидно. «Наитипичнейше постмодернистская вещь», – с удовольствием констатировал один из наших газетных обозревателей.
«Наитипичнейше постмодернистские вещи», как известно, строятся на травестийном переосмыслении, снижении и, если уж начистоту, опошлении классического сюжета, образца «высокой литературы» или мифа. В начале писательской карьеры Бартельм разделался с персонажами популярной сказки – в романе «Белоснежка» (1967); напоследок, завершая творческий да и земной путь («Король» был завершен всего за три месяца до смерти писателя от рака), он порезвился с героями артуровского цикла, перенеся их в Англию времен Второй мировой войны и прихотливо перетасовав приметы нескольких эпох.
Король Артур, прозябая в бездействии, с мазохистским упорством слушает пропагандистские радиопередачи «мистера Ха-Ха»414 и Эзры Паунда, дает бессмысленные интервью, где туманно рассуждает о системе налогообложения и тяготах королевской жизни; войной с Третьим рейхом он озабочен не больше, чем повесткой в суд «выполнять гражданскую повинность присяжного» или проблемой, как бы сдвинуть с места локомотив, намертво приваренный к рельсам бастующими железнодорожниками. Между тем Гвиневера напропалую изменяет мужу с Ланселотом и Коричневым Рыцарем, а Мордред интригует против отца и готовит государственный переворот. Рыцари Круглого стола, как им и положено, носятся по полям, по лугам и мутузят друг друга почем зря, хотя больше пьянствуют, разглагольствуя о феях, драконах и прочих материях. Красный Рыцарь оказывается коммунистом и вовсю расхваливает Партию, «олицетворяющую коллективную мудрость народа»; Черный Рыцарь – негром-интеллектуалом, который «с ученым видом знатока» может говорить на какие угодно темы: от «негритюда» до ядерной физики и публикаций в «Журнале репродуктивной технологии»; Вальтер Безденежный (так переводчик обозвал предводителя первого ополчения крестоносцев, в русской историографии традиционно именуемого «Вальтер Голяк») браконьерствует в королевском лесу, проповедует крестовый поход на Европу и пугает честной народ эсхатологическими прогнозами; Синий Рыцарь озадачен поиском святого Грааля, то бишь изобретением супероружия, способного «причинить ни с чем не сравнимые разрушения и отвратительнейшим образом подействовать на человеческую жизнь».
В общем, благородные витязи артуровских легенд предстают у Бартельма фарсовыми фигурами вроде валких рыцарей из кэрролловского Зазеркалья, прекрасные дамы – распутницами, символ Божественной Благодати – атомной бомбой.
Гротескно-комическому сюжету «Короля» под стать и лоскутный стиль, сочетающий архаизмы и просторечия, обрывистые реплики и тяжеловесные периоды, в которых пародируется язык политических передовиц и квазинаучная заумь: «…В соответствии с чем и на основании чего и следует то внутреннее смятение, коим вынужден терзаться король, и говорить о коем я не могу, поскольку будучи рассказанным о, смятение это станет овнешвленным, а не внутренним, а удержание внутреннего внутри и есть сама сущность королевской власти…» и т.п.
Как и прежде, Бартельм остается верен раз и навсегда выбранному принципу фрагментарного повествования. «Фрагмент – единственная форма, которой я доверяю», – признание героя-повествователя из рассказа «Видишь Луну?» не без основания приписывают самому Бартельму. В «Короле» нет ни связной фабулы, ни завязки, ни кульминации, ни развязки. Нет и повествования как такового. По сути, перед нами не роман, а череда скетчей, слабо связанных друг с другом. Текст «Короля» на 99 процентов состоит из диалогов; авторская речь сводится к скупым вводным ремаркам: «Лионесса и Эдвард на палубе танкера “Урсала”. Слушаючи Эзру по корабельному радио»; «Сэр Роже де Ибадан беседуючи с Красным Рыцарем – сэром Железнобоком»; «В кафе “Балалайка” Ланселот и Гвиневера за кофием…»
Читается бартельмовская травестия легко – не сравнить с «экспериментальными» опусами из «Шестидесяти рассказов» с их осколочной композицией и мутным словесным потоком, в котором тонут самые благие намерения самого прилежного читателя. Однако к середине книги, когда ты понимаешь, что тебя и дальше ничего не ждет, кроме очередной порции абсурдистских диалогов «ни о чем», интерес к чтению пропадает. Стилизации под витиеватый слог рыцарских романов приедаются, аллюзии и анахронизмы кажутся нарочитыми, шуточки – вымученными, да и вся эта буффонада с рыцарями Круглого стола – затянувшейся шуткой, никчемной затеей, поражающей своей инфантильностью. Вдумайтесь только: пятидесятидевятилетний мужик болен раком, позади прожитая жизнь, скоро он вступит «в ту область ночи, откуда возвращенья нет». Казалось бы, вот тут-то, перед лицом вечности (или небытия?!) о душе подумать, взять да и написать нечто пронзительно-искреннее, без кривлянья – «пять-шесть как бы случайных строк», овеянных метафизическим ветерком, способных пробрать до дрожи в позвоночнике. Так нет же! Вместо этого – щедрые россыпи пестрого словесного сора, коим бойко обмениваются марионеточные персонажи.
«Гвиневера в Лондоне, во дворце. Сидючи в кресле, переводя яблоко на повидло.
– Мне это надоело до смерти, до чертиков, и меня уже тошнит…»
Подташнивает от подобных игрищ и меня, но, чтобы вы не подумали, будто я такой привереда, строго конфиденциально сообщу: лебединая песнь «классика американского постмодернизма» не особо впечатлила и англоязычных рецензентов:
«К сожалению, несмотря на отдельные удачные фразы, книга остается примитивной, бессодержательной, своей дурашливостью вызывающей чувство неловкости. Я полагаю, что если бы она подавалась не в качестве последнего творения высокоуважаемого американского писателя, а как дебютная работа незнакомца, ее никогда бы не опубликовали»415; «Тем, кто вспомнит “Голубые цветочки” Раймона Кено (роман был переведен на английский в 1967 году), эта комическая путаница с рыцарями представится менее оригинальной, чем может показаться с первого взгляда. В конце концов постоянное шутовство Бартельма утомляет… Нет ни развития характеров, ни сюжета, способного поддержать читательский интерес»416.
Я мог бы привести еще несколько подобных высказываний, но из присущего мне милосердия не буду этого делать. Как говаривал бартельмовский Черный Рыцарь: «В книгах ведь что главное? Что есть великое множество таких, которые вовсе не обязательно читать».
И пусть на мой вкус книга Бартельма именно из «таких», я уверен: она найдет своего читателя. А то и двух-трех.
Во-первых, потому что эта переводная вещь, а «если книжка написана по-английски, – заметил один неглупый человек, – то она имеет на рынке преимущества, независимо от своих литературных качеств. Она может быть гораздо слабее и гораздо менее привлекательнее даже для среднего читателя, чем французская, немецкая или португальская книга того же жанра, но ее купят только за словосочетание “перевод с английского”…»
Иностранная литература. 2004. № 8. С. 289–292.
«МУСОРНЫЙ ФЕНОМЕН» ДОНАЛДА БАРТЕЛМИ
Писать о «Белоснежке» (1967)417, первом романе Доналда Бартелми, этого американского прото-Сорокина, – задача не из легких. Проще сказать, чего там нет, нежели уяснить, что же в нем все-таки есть. По старинке пересказать фабулу нельзя – за полным отсутствием таковой. Можно лишь с определенностью сказать, что Белоснежка – это «большая красивая брюнетка», которая «изобилует большими красивыми родинками – одна повыше груди, одна повыше живота, одна повыше колена, одна повыше лодыжки, одна повыше ягодицы»; что она проживает в коммуне малопривлекательных субъектов, занимающихся мойкой зданий и изготовлением «китайского детского питания»; что ей до смерти надоело обслуживать своих чокнутых сожителей – Билла, Кевина, Эдварда, Хьюберта, Генри, Клема и Дэна; что она ждет не дождется, когда за ней придет избавитель-принц, и поэтому периодически торчит у окна, свесив наружу «черные как смоль волосы»; что «прекрасный принц» по имени Пол не оправдал Белоснежкиных надежд, поскольку предпочитал «смаковать радость человеческого общения» на почтительном расстоянии, подсматривая за обнаженной красавицей из подземного убежища; что невольно он все же спас Белоснежку: выпил предназначенную ей водку, отравленную злой феей; что неформальный лидер коммуны Билл так всем надоел, что его в конце концов решают повесить; что… Но стоит ли продолжать? Как ни старайся, как ни встряхивай калейдоскоп алогичных событий и бессвязных диалогов, все равно не выстроишь из фабульных осколков цельную картину или хоть сколько-нибудь законченный узор.
Время и место действия «Белоснежки» (пишу по инерции, прекрасно понимая, что никакого «действия» там нет и в помине!) предельно размыты и почти полностью избавлены от примет реальной действительности. Затруднительно хоть как-то охарактеризовать персонажей – настолько они обесцвечены и лишены какой-либо индивидуальности. А поскольку бóльшая часть повествования ведется от лица обобщенного «мы», то понять, чьи конкретно поступки или переживания имеются в виду и тем более чем они мотивированы, не представляется возможным – ну хоть убейте! Нельзя однозначно выделить и главную тему «Белоснежки», ответив на простодушный, хотя и законный вопрос читателя: «О чем это?»
Пожалуй, «ни о чем». Сам Бартелми в одном из интервью признавался, что мечтал сотворить прозу, которая походила бы на модную тогда, в середине шестидесятых годов прошлого века, абстрактную живопись418, и в этом, надо отдать ему должное, он преуспел. Более того, сам текст, состоящий из коротеньких, сюжетно не связанных друг с другом фрагментов, едва ли можно назвать романом – скорее это антироман, коллаж, составленный из разношерстных (прости, Господи!) «дискурсов»: популярной сказки, рекламных слоганов, тяжелой наукообразной зауми и проч., – вплоть до пародийно «опущенной» патерналистской риторики ушлых политиканов (кто у них тогда был президентом, Линдон Джонсон, кажется?): «Я беспокоюсь за Билла, Хьюберта, Генри, Кевина, Эдварда, Клема, Дэна и их любимую Белоснежку. Я чувствую, у них не всё в порядке. И теперь, устремляя свой взор над этим зеленым газоном и этими прекрасными розовыми кустами в ночь, в желтеющие здания, в падающий индекс Доу–Джонса, в вопли обездоленных, я озабочен. Мне есть о чем беспокоиться, однако я беспокоюсь и о Билле с парнями. Потому что я – Президент. Наконец-то. Президент всей этой ёбаной страны. А они американцы, эти Билл, Хьюберт, Генри, Кевин, Эдвард, Клем, Дэн и Белоснежка. Они американцы. Мои американцы».
Подобные пассажи позволили некоторым критикам истолковать «Белоснежку» как сатиру на постиндустриальное общество массового потребления и его «пошлые добродетели, за которыми скрывается обывательское своекорыстие, одномерность потребительской этики и примитивный гедонизм»419. Боюсь, однако, что говорить о Бартелми как о сатирике – значит выдавать желаемое за действительное.
Может быть, в той абсурдистской словесной каше, которую заварил Бартелми, и были крупицы сатиры, но за сорок лет их аромат как-то выветрился. Точно так же и с самодовлеющими словесными игрищами, которые призваны были оживить пестрое однообразие осколочного повествования: при переводе они потеряли все то обаяние, которое могло привлечь англоязычных читателей. Сейчас, когда словечко «постмодернист» уже не производит парализующего воздействия даже на шаткие умы газетных обозревателей, пустопорожнее бряцание известными именами (призванное продемонстрировать эрудицию при катастрофическом неумении связно мыслить и отсутствии оригинальных идей), претенциозные шуточки, вроде «Ломохозяйка» (в оригинале – Horsewife, гибрид из horse (лошадь) и housewife (домохозяйка)), которыми ублажает себя автор, оставляют впечатление скудоумного инфантилизма: вроде того, как бородатый дядя в очках и при галстуке вдруг начинает с младенческим гулюканьем пускать слюни.
«Белоснежку», как и подавляющее большинство опусов Доналда Бартелми, можно уподобить тем пластмассовым бизоньим горбам, что изготовлялись героями антиромана – в надежде на то, что в скором времени всё возрастающее количество никому не нужного мусора заставит людей произвести кардинальную переоценку ценностей: «…В такой ситуации коренной вопрос превратится из вопроса уборки и уничтожения этого “мусора” в вопрос признания и осмысления его свойств, ведь его же будет 100%, верно? Нельзя будет и заикаться о каком-то его “уничтожении”, поскольку ничего, кроме него, не будет, и мы волей-неволей привыкнем “врубаться” в него… Эти горбы – “мусор” в самом непосредственном значении слова, трудно даже представить себе что-то более бесполезное или мусорнее. Дело в том, что мы желаем находиться на передовых рубежах этого мусорного феномена, инвертированной сферы будущего».
Самому Бартелми долгое время удавалось неплохо существовать «на передовых рубежах мусорного феномена», штампуя абсурдистские «бизоньи горбы» и сбывая свою продукцию профессиональным ценителям претенциозной квазиавангардной белиберды. Удобная позиция: с умным видом рассуждать об абсурдной действительности и при этом, отказавшись от попыток ее творческого преодоления или хотя бы осмысления, пробавляться регистрацией и ретрансляцией абсурда.
Конечно, хорошо, что «Белоснежку» перепёрли на язык родных осин: филологам-зарубежникам будет теперь чем пытать старшекурсников, иллюстрируя базовые положения отжившей свое эстетико-философской доктрины: «нонселекция», «децентрация», «деперсонализация», «эпистемологическая неуверенность»… Не зря же западные «бартелмиведы» заверяли, что в «Белоснежке» затронуты серьезные проблемы: «эпистемологический кошмар и крах языка, расширяющаяся попасть между словами и человеческим опытом»420. Короче говоря, в качестве наглядного пособия творение Бартелми просто незаменимо. Однако того, кто ищет в литературе большего, нежели языковые выверты и алеаторические ужимки, «Белоснежка» разочарует. Как нельзя писать об ухабистой дороге ухабистыми стихами, так нельзя и бесконечно эксплуатировать мысль о тотальной бессмыслице бытия и неизбежной фрагментарности человеческого сознания, самозабвенно нагромождая горы словесного мусора. Во всяком случае, бартелмиевское reductio ad absurdum, растянутое на двести с лишним страниц, удручает своей монотонностью и наводит на мысль, что писания Бартелми и ему подобных «мусорных авторов» – не столько реакция на кризис культуры, сколько его зловещий симптом.
Иностранная литература. 2005. № 7. С. 266–268.
НЕСОВЕРШЕННОЕ ТВОРЕНИЕ, ИЛИ СТРЕЛЬБА ДУПЛЕТОМ
Шарж Дэвида Левина
«За Беллоу берешься не для того, чтобы, жадно пожирая глазами страницы, гадать, что же дальше, и посматривать украдкой в конец. Он не из тех, чью книжку прихватываешь с собой почитать на пляже, полистать в самолете»421 – это предостережение, извлеченное мной из некролога недавно умершему американскому писателю, стоит помнить тем, кто рискнет заполучить «Подарок от Гумбольдта» (1975)422 – книгу, в свое время ставшую бестселлером и принесшую автору Пулитцеровскую премию (за которой, кстати, последовала и Нобелевка).
По всем параметрам пятисотстраничный талмуд Беллоу соответствует сложившемуся представлению об «интеллектуальном романе». Огромный, тяжеловесный, с зачаточной фабулой, загроможденной ретроспекциями и внутренними монологами протагониста, он напоминает многопалубный пароход, под завязку нагруженный философскими проблемами и «Большими Идеями».
У руля этого литературного «Титаника» – писатель Чарлз Ситрин, типичный для позднего Беллоу герой: пожилой интеллектуал, изъеденный рефлексией и замученный бракоразводным процессом (сам писатель разводился четыре раза, поэтому не стоит удивляться, что тема развода и связанных с ним моральных и финансовых издержек с пугающим постоянством повторяется едва ли не во всех его романах).
Многие члены команды также знакомы нам по ранее переводившимся произведениям американского нобелиата: стерва-жена, с маниакальным упорством сокрушающая душевное здоровье и финансовое благополучие экс-супруга (в повести «Лови момент» это исчадие ада зовется Маргарет, в романе «Герцог» – Маделин, в «Подарке от Гумбольдта» – Дениза); целый выводок алчных адвокатов, всеми правдами и неправдами помогающих ей доконать «благоверного» (Симкин, Шатмар, Строул, Томчек, Пинскер – имя им легион); коварный друг протагониста, бонвиван и златоуст, эксплуатирующий его доверчивость в корыстных целях (предшественниками Пьера Текстера, беззастенчиво вытягивающего из героя деньги – якобы на издание высоколобого журнала, являются биржевой спекулянт Тамкин («Лови момент») и развратник Валентайн Герсбах («Герцог»)); старший братец главного героя, удачливый делец, дерзкими спекуляциями сколотивший миллионное состояние и посему испытывающий к горе-интеллектуалу чувство презрительной жалости (слепок с Саймона из «Приключений Оги Марча» и Шуры из «Герцога»); сексапильная любовница с матримониальными планами (в «Герцоге» этот утешительный приз автора издерганному герою носит звучное имя Рамона, здесь – не менее романтичное Рената).
Впрочем, вся эта теплая компания типажей, словно цыганский табор кочующая из романа в роман Беллоу, – не более чем антураж для героя-повествователя. Как и в «Герцоге», персонажи второго плана, кружащие вокруг Чарлза Ситрина свой шутовской хоровод, «предназначены… явно не для того, чтобы походить на живых людей, созданных воображением в результате внимательного изучения реальной действительности. Назначение их, скорее, в ином: создавать обстановку столь абсурдную и эгоистичную, что на ее фоне главный герой должен выглядеть едва ли не святым»423.
Протагонист романа наделен автобиографическими чертами. Выходец из бедной семьи еврейских иммигрантов, он, подобно своему создателю, сделал головокружительную карьеру: написав кассовую пьесу, добился богатства, известности, приобщился к культурному и политическому истеблишменту. За жэзээлки о деятелях «Нового курса» его задаривают литературными премиями; богатенькие глянцевые журналы заказывают ему статьи о ведущих политиках, а издатели отваливают многотысячные авансы за ненаписанные книги; он член элитарного спортивного клуба, где играет в теннис с биржевыми маклерами и гангстерами самого высокого пошиба; он на дружеской ноге с сенатором Бобби Кеннеди; де Голль сделал его кавалером Почетного легиона, а президент Кеннеди пригласил в Белый дом на вечер, посвященный культуре. Из всех героев Беллоу этот прикормленный интеллектуал с ежемесячным доходом в сто тысяч долларов и потугами на духовность – самый удачливый и благополучный. Правда, как и его предшественники (прежде всего, из романов «Герцог» и «Планета мистера Сэммлера) герой-повествователь «Подарка…» – типичный «шнук», который привык плыть по течению и которым помыкают все кому не лень: жена, любовница, друзья, адвокаты, импульсивный чикагский мафиозо Кантебиле (едва ли не единственный, кому своими безумными выходками удается несколько оживить вялотекущее действие, зацикленное на переживаниях и воспоминаниях Ситрина).
И конечно же, протагонист переживает внутренний кризис: болезненно ощущает упадок творческих сил, разлад в своей душе и слабость личностных связей с внешним миром. Пытаясь выйти из сумеречного состояния души и обрести единство своего «я», Ситрин на протяжении многих страниц предается философским медитациям или же ведет высокоумные беседы с другими персонажами. Повествование на две трети состоит из диалогов и отвлеченных рассуждений, так что книга порой напоминает трактат, а не роман. Герой (а вместе с ним и сюжет) увязает в трясине антропософии, до посинения размышляет о высоких материях (например, о роли художника в современном обществе или о бессмертии души), то и дело поминает Сократа, Платона, Спинозу, Гегеля, Кьеркегора, Уайтхеда, Рудольфа Штейнера, Макса Вебера, но вот беда: размышления его редко когда выходят из разряда самых обыкновенных общих мест, типа «всё на свете сем превратно, всё на свете коловратно». В отличие от мудрого старика Сэммлера и даже невротичного Мозеса Герцога Чарлз Ситрин – это (воспользуемся хлестким щедринским словечком) самый настоящий пенкосниматель, лишенный способности оригинально мыслить. Он только и может, что отрыгивать жвачку чужих идей, прячась за частоколом громких имен.
Отсутствие у повествователя оригинальных философских концепций – еще не повод для критики автора. В конце концов, он романист, а не философ. Куда хуже, что ему не удалось достичь органичного единства философских идей с образным миром романа. Как выразился в своей кисло-сладкой рецензии Джон Апдайк: «По-настоящему серьезным недостатком “Подарка от Гумбольдта” является то, что проблемы, которые занимают автора, не цепляют шестеренки сюжета. <…> Сама по себе поглощенность Беллоу сверхъестественным вовсе не бессмысленна – она позволяет бесстрашному гуманизму понять, что с потерей веры в загробную жизнь человеческое существование беспредельно обедняется, – однако благодаря ей истончается художественная ткань»424.
Плохо и то, что во время плавания по житейским и философским морям читателю негде приткнуться, кроме как в каюте занудливого протагониста. Прямо по Бахтину: «Герой завладевает автором. Эмоционально-волевая установка героя, его познавательно-этическая позиция в мире настолько авторитетны для автора, что он не может не видеть мир только глазами героя и не может не переживать только изнутри события его жизни; автор не может найти убедительной и устойчивой ценностной точки опоры вне героя»425.
Отношение автора к герою-повествователю колеблется между добродушной иронией и умилением. Ловкий пенкосниматель и конформист противостоит всем другим персонажам как воплощение добродетели. Пренебрегая психологической убедительностью, автор выставляет Ситрина безответным страдальцем, эдаким Иовом, на которого одно за другим обрушиваются несчастья: из-за неоплаченного карточного долга Кантебиле превращает в груду металлолома шикарный ситриновский «мерседес» и потом всячески изгаляется над кротким героем, требуя публичных извинений; сутяга-жена втягивает Ситрина в разорительные судебные тяжбы; любовница выходит замуж за другого да еще и подбрасывает сына от первого брака.
Если романная посудина и держится на плаву, то только благодаря экспансивному поэту-авангардисту Гумбольдту фон Флейшеру, несостоявшемуся гению и пророку, в погоне за миражами собственного тщеславия развеявшему по ветру свой талант и здоровье. Когда-то друг и покровитель Ситрина, мечтавший о том, чтобы «освободить и облагодетельствовать человечество», с годами он потускнел, исписался и превратился в скандалиста, интригана и пьяницу, снедаемого завистью и одержимого припадками безумия. Прожектер и краснобай, эрудит, в чьей голове кипело характерное для «красного десятилетия» горячее варево из модернистской эстетики и «левой» идеологии (Аполлинер, Ленин, Фрейд, Джойс, Гертруда Стайн, Троцкий), он стал жертвой своего честолюбия и истасканного мифа о «проклятом поэте».
Образ Орфея из Гринвич-Виллидж, к которому в своих воспоминаниях постоянно обращается Ситрин, позволяет читателю отдохнуть от метафизических умствований повествователя и окунуться в бурную жизнь интеллектуальной элиты Америки тридцатых–шестидесятых годов, почувствовать биение живой жизни. Образ этот получился столь ярким и полнокровным потому, наверное, что за ним стоит реальная человеческая драма. Прототипом Гумбольдта фон Флейшера считается поэт Делмор Шварц (1913–1966), после бурного успеха дебютной книги заслуживший лестное звание «американского Одена», но затем не оправдавший ожиданий, погрязший в алкоголизме, семейных дрязгах и наконец скончавшийся от сердечного приступа в лифте зачуханной нью-йоркской гостиницы (причем тело его двое суток пролежало в морге, никем не опознанное и не востребованное).
Тема нераскрывшегося дарования, затронутая автором, получила в романе полноценное художественное воплощение, благодаря чему несовершенное творение Сола Беллоу сохранило жизнеспособность и тридцать лет спустя после выхода в свет.
И я, несмотря на сделанные замечания, с чистым сердцем рекомендовал бы книгу всем любителям Настоящей Серьезной Литературы, да вот беда: бойкий, но весьма неряшливый (а временами и откровенно неграмотный) перевод, предложенный нам издательством «АСТ», не позволяет завершить рецензию на благостной ноте.
***
Начнем с заглавия – «Humboldt’s Gift», – не слишком удачно переданного как «Подарок от Гумбольдта». Правильнее было бы – «Дар Гумбольдта». Более емкому «дар» переводчик предпочел «подарок», что соответствует сюжетной коллизии (разоряющийся Ситрин получает по завещанию умершего Гумбольдта сценарий фильма, благодаря которому ему удается поправить свое финансовое положение), но напрочь игнорирует одну из главных тем романа и тем самым уплощает авторский замысел.
Халатность (иначе и не скажешь) проявлена и в отношении культурно-исторического контекста романа. В книге, охватывающей почти полувековой отрезок американской жизни, пестрящей непрозрачными для нас аллюзиями, малопонятными реалиями и неизвестными именами, нет ни комментария, ни предисловия. В результате львиная доля ассоциаций, ироничных намеков и подтекстов, понятных американцам, испаряется при перегонке на язык родных осин. Многим ли из нас хоть что-нибудь скажет фраза «То были дни Хака Уилсона и Вуди Инглиша»? И многие ли сразу догадаются, что «Деревня», не раз упомянутая на страницах романа, означает «Гринвич-Виллидж», богемный район в Нижнем Манхэттене, а невозможный русизм «деревенщики» относится к его обитателям?
Вопреки известной максиме Жуковского («переводчик в прозе есть раб…»), Г.П. Злобин обходится с текстом оригинала с бесцеремонностью флибустьера, взявшего на абордаж купеческое судно и тут же затеявшего его переделку: неизвестные ему имена и названия, словосочетания и целые фразы, в суть которых он не потрудился вникнуть, или до неузнаваемости искажаются, или выбрасываются за борт, словно ненужный хлам.
Особенно небрежен переводчик при передаче имен собственных. Вместо привычного Антонен Арто читаем Антонин Арто (С. 39); 28-й президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон, чью биографию написал Ситрин, перекрашивается в «Уилсона» (С. 7); вопреки традиции нобелевский лауреат Йейтс упорно именуется «Итсом» (С. 17, 21, 34, 133, 229), а американский беллетрист Горацио Олджер (1834–1899) – «Элгаром» (С. 18); художник-иллюстратор Джон Хелд-младший (1889–1958) зовется «Хелл» (словно подвыпивший Фальстаф кличет принца Гарри!); название журнала «Look» в нарушение всех фонетических правил дается как «Люк» (С. 254); «легкий на ноги, как серна в поле» Асаил, слуга Давида из Второй книги царств, с которым сравнивает себя Ситрин, превращается в Асу (так звали иудейского царя, 917–876 гг. до н. э.); апостол Павел вместо Тарса отправляется шаловливым переводчиком в Тарус (С. 41) – хорошо хоть не в Тарусу!
А вот вам и примеры произвольных пропусков. Главный герой встречает давнего знакомого, мечтавшего когда-то о певческой карьере, и с упоением перечисляет их любимые пластинки с записями Тито Скипа, Титта Руффо, Рейнальда Верренрата, Маккормака, Эрнестины Шуман-Хайнк, Амелиты Галли-Курчи, Верди и Бойто, – из всей вереницы певцов и композиторов в переводе Злобина уцелели лишь последние трое да Руффо (С. 360).
Ситрин беседует по душам со своим богатеньким братцем Джулиусом, и, когда речь заходит о ситриновской женушке, тот раздраженно бросает: «She’d fit in with the Symbionese or the Palestine Liberation terrorists» (P. 374426; «Ее бы к симбионистам или к палестинским террористам», – привожу перевод Анны Жемеровой, обнаруженный мною в Сети во время написания рецензии, см.: ). Г.П. Злобин, видимо, ничего не знает о «Симбионистской армии освобождения», левацкой террористической группировке из Сан-Франциско, которая прославилась на всю Америку серией дерзких преступлений (в 1974 году, как раз во время написания романа, террористы, или, как выразилась бы Новодворская, «комбатанты», захватили в заложницы дочь газетного магната Хёрста Патрицию, причем та вскоре «перековалась» и стала участвовать в их акциях). В злобинской версии разгневанный Джулиус забывает о доморощенных злодеях: «Ей бы террористкой быть из “Освободительного фронта Палестины”» (С. 418).
Дальше Джулиус язвительно аттестует ситриновского адвоката: «He’s smoother than a suppository, only his suppositories contain dynamite» (P. 374). (В переводе А. Жемеровой: «Гладкий и скользкий, как суппозиторий, но суппозиторий с динамитом».) Не знаю, что смутило Г.П. Злобина, «суппозиторий» или «динамит», но в его переводе ехидная реплика Джулиуса, теряя остроту, превращается в грубовато-банальный фразеологизм «Без мыла в зад влезет» (С. 418).
В переводе этой же сцены, уж если мы за нее взялись, можно найти еще немало всевозможных огрехов.
«…Why couldn’t you be the tough guy, a Herman Kahn or a Milton Friedman, one of those aggressive guys you read in The Wall Street Journal?» (P. 374) – вопрошает Джулиус. В «аэстэшном» переводе фраза обессмысливается: «[Если уж тебе так хочется быть интеллектуалом], то почему не Германом Каном или Милтоном Фридменом? Одним из тех напористых ребят, которые читают “Уолл-стрит джорнал”?» (С. 417) (здесь и далее курсив мой. – Н.М.). Не надо быть большим знатоком английского, чтобы догадаться: социолог и футуролог Герман Кан (считавший, что для утверждения демократии США имеют полное право применить ядерное оружие) и глава чикагской экономической школы, твердолобый монетарист Милтон Фридман ставятся в пример гуманитарию Ситрину вовсе не как усердные читатели авторитетного журнала, и потому более приемлемым является вариант Жемеровой: «Почему ты не можешь быть жестким, как Герман Кан или Милтон Фридман, или те агрессивные парни, что печатаются в “Уолл-стрит джорнэл”»?
«On my last visit Ulick was slender and wore magnificent hip-huggers» (P. 374; «В мой предыдущий визит Юлик был стройнее и носил брюки в обтяжку»), – глядя на обрюзгшего братца, вспоминает герой-повествователь. В переложении Г.П. Злобина hip-huggers, модные лет сорок назад брюки, превращаются в «великолепные приталенные рубашки» (С. 419).
С видовыми и временными формами глаголов переводчик обращается еще более небрежно, что порой приводит к катастрофическим последствиям.
Вот увалень и обжора Джулиус завистливо подкалывает братца: «You were always a strong-willed fellow and a jock, chinning yourself and swinging clubs and dumb-bells and punching the bag in the closet and running around the block and hanging room the trees like Tarzan of the Apes. You must have had a bad conscience about what you did when you locked yourself in the toilet» (P. 377; «У тебя всегда была сильная воля, ты был спортсменом, подтягивался и размахивал битами, и качался гантелями, и молотил кулаками мешок в чулане, и носился по кварталу, и висел на деревьях, как Тарзан – Повелитель Обезьян. Ты, наверное, мучался угрызениями совести, когда запирался в туалете и делал то, что делал…»). У Г.П. Злобина прошедшее время меняется на настоящее: «У тебя-то воля есть, да еще физкультурой занимаешься – и на перекладине подтягиваешься, и гири выжимаешь, и грушу колотишь, и трусцой бегаешь, и по деревьям, как Тарзан, лазаешь. Не стыдишься того, что делаешь в сортире?» (С. 421), – и получается, что разменявший пятый десяток Ситрин, словно подросток, лазает по деревьям да еще занимается онанизмом, запершись в туалете (это он-то, как перчатки менявший жен и любовниц!).
Я остановился на разборе одного эпизода, но поверьте: в других местах залежи переводческой и редакторской халтуры не менее внушительны.
Не будем смаковать явные опечатки типа tedium vitac вместо vitae (C. 221), «десятки мыслителей, опутавших паутиной провидчестве» (С. 468) или «С времен Линкольна» вместо «Со времен Линкольна» (С. 243), – вероятно, они неизбежны в нынешнем книгоиздании. Я не хочу злобствовать по поводу разного рода стилистических неуклюжестей (ответить на некоторые большие вопросы (С. 10) – «to satisfy certain great questions» (P. 9), «джаз эйдж» (С. 8) – компот из «века джаза» и «нью-эйджа»), указывать на невнимание к каламбурным созвучиям (например, «Mexico of whores and horses» (P. 8) переводится как «Мексика, страна хороших шлюх и хороших лошадей» (С. 8), хотя можно было бы выразиться точнее и резче: «лошадей и блядей»), сетовать на банальное многословие (у Беллоу – «It seems, after all, that there are no non-peculiar people» (P. 429); у Злобина – «Когда задумываешься над такими вещами, неизбежно приходишь к выводу, что каждый человек – это особая, неповторимая личность со своими странностями, привычками и прихотями» (С. 478)) или придираться к многочисленным пропускам, порой убивающим авторский образ («The acid smell of gas refineries went into your lungs like a spur» (P. 25; в переводе Жемеровой: «Кислый запах нефтеперегонки подстегивал наши легкие, как уколы шпор»; у Злобина попросту: «Кисловатый запах нефтеочистительных заводов проникал в легкие (С. 28); на той же странице, кстати, пропущена фраза «Under Humboldt’s polo boot the carburettor gasped» («Под гумбольдтовскими ботинками для поло задыхался карбюратор»).
Но что прикажете делать с многочисленными случаями отсебятины, грубо искажающими смысл авторского высказывания? А в «Подарке…» их не надо искать с лупой – они валятся на тебя глыбами. Порой создается впечатление: переводчик настолько уверен в собственной безнаказанности, что перевирает текст оригинала из чистого озорства или непонятного чувства противоречия автору.
Например, в описании Ситрина молодой Гумбольдт – «красивый человек с широким белокожим лицом» («Humboldt, that grand erratic handsome person with wide blonde face» (P. 10)), но у Злобина он предстает как «красавец мужчина с румяным лицом» (С. 11).
Гумбольдт с восхищением рассказывает желторотому провинциалу Ситрину о вожде мирового пролетариата: «“I know”, he said, “how Lenin felt in October when he exclaimed, “Es schwindelt!”. He didn’t mean that he was schwindling everyone but that he felt giddy. Lenin, tough as he was, was like a young girl waltzing» (P. 15), но переводчик, видимо шутки ради, переадресует сказанное о Ленине самому Гумбольдту, и вместо «Ленин, человек довольно жестокий, чувствовал себя как дебютантка, первый раз кружащаяся в вальсе» (перевод А. Жемеровой) мы читаем: «Гумбольдт не кружил никому голову, он опьянел от успеха, как девочка после первого вальса, хотя крутой был мужик» (С. 17).
Стоит Ситрину заметить, что во время игры в мяч одинаковые свитера делали Гумбольдта и его жену Кэтлин похожими на новобранцев – «In their sweaters he and Kathleen looked like two rookies» (P. 26), – как переводчик тут же переодевает заигравшихся американцев в приснопамятное каждому советскому школьнику изделие отечественной промышленности и заставляет их бегать «в хлопчатобумажных трениках» (С. 30).
Рассказывая о своем знакомом, несостоявшемся певце Менаше, повествователь сообщает: «I believe, however, that he might have become a singer but for the fact that on the Ypsilanti YMCA boxing team someone had hit him in the noise and this had ruined his chances in art» (P. 322; «Я верил, что он мог бы сделаться певцом, если бы кто-то из боксерской команды Союза христианской молодежи Ипсиланти не заехал ему по носу, чем и лишил Менашу всяких шансов добиться успеха в оперном искусстве»), но переводчик и здесь не может угомониться и зачем-то делает из Менаша бейсболиста: «[Уже тогда я понимал: оперной звездой Менаш не станет,] – однако верил, что он мог бы петь, если бы в юности ему не перебили нос. Он входил тогда в бейсбольную команду от городской организации Христианского союза молодежи» (С. 360).
И на десерт – самый смешной ляп. Ситрин беседует с леворадикальным интеллектуалом Хаггинсом, и тот, заикаясь от негодования, жалуется: «…я хол-хол… из-за т-твоих д-дурацких шуточек на мой счет. Разве ты не с-сказал, что я – Т-томми Мэнвил своего движения? И меняю п-ристрастия, как т-тот менял член?» (С. 352) Для справки: Томми Мэнвилл (1894–1967) – любвеобильный миллионер, переменивший тринадцать жен и обессмертивший себя циничным афоризмом: «Платить алименты – все равно что покупать овес для сдохшей лошади». И если мы заглянем в оригинал, то убедимся, что речь там идет вовсе не об экстремальной трансплантологии: «You said I was the Tommy Manville of the left and that I espoused cau-causes the way he ma-married broads» (P. 315; «Ты отпускаешь такие шпильки в мой адрес. Ты назвал меня Томми Мэнвиллом левых и сказал, что я п-поддерживаю идеи с тем же р-рвением, что он женится на шлюхах»).
Мы бы и дальше могли лакомиться плодами переводческого разгильдяйства, но размеры журнальной статьи не беспредельны, жизнь коротка, и я закругляюсь. А вы уж сами решайте: стоит ли вам принимать такие презенты, как «Подарок от Гумбольдта»?
Иностранная литература. 2007. № 1. С. 286–293.
Шарж Хэнка Хинтона
МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ШЕДЕВР
Статьи, посвященные американской писательнице Джойс Кэрол Оутс, принято начинать с завистливо-восхищенных рассуждений о ее фантастической, почти нечеловеческой работоспособности. Не отступлю от традиции и я, ибо плодовитость Оутс, действительно, поражает воображение: хрупкая с виду женщина (ко всему прочему постоянно занятая преподавательской работой в ведущих американских университетах) наваяла более сорока романов и повестей, двадцать пять сборников рассказов, десяток пьес, восемь поэтических книг и девять критических и литературоведческих сборников. Многописание – не такая уж диковина для профессиональных англо-американских беллетристов второй половины ХХ века (я уж не говорю о поставщиках массовой литературы, работающих едва ли не быстрее печатных станков). Однако если взять «серьезных» авторов с именем и репутацией, то похоже, что по части валового объема литературной продукции Оутс переплюнула всех, даже таких суперплодовитых тяжеловесов, как Бёрджесс и Апдайк.
Настоящая ударница капиталистического труда, регулярно выдающая по две-три книги в год, она не только бьет все мыслимые количественные рекорды, но и изумляет жанрово-тематическим разнообразием. Тут вам и заковыристые литературоведческие штудии (например, о Чехове как о родоначальнике театра абсурда), и сенсационные политические детективы с разоблачениями властей предержащих («Убийцы», 1975; «Черная вода», 1992), и экзистенциалистские романы-притчи («Страна чудес», 1971; «Сын утра», 1978), и громоздкие семейные саги с разветвленным сюжетом и множеством повествовательных точек зрения («Их жизни, 1969», «Ангел света», 1981), и biographie romanceé (роман о Мэрилин Монро «Блондинка», 2000). В художественном арсенале писательницы и едкая сатира на затхлые мирки университетских кампусов (рассказы из сборника «Голодные призраки», 1974; роман «Несвятая любовь», 1979), и леденящие душу готические истории в духе Уолпола и Радклиф (роман «Тайны Уинтерторна», 1984), и голливудского пошиба «ужастики», изобилующие грубовато-натуралистическими сценами, где с педантичной обстоятельностью живописуются разного рода кровавые мерзости (например, в одном из рассказов сборника «Одержимые» (1994) муж-садист изощренно издевается над молоденькой женой и в один прекрасный день засовывает ей в промежность крысу – до тех пор, пока снаружи не «остались только… лапки и розовый восьмидюймовый хвост». Бр-р-р!).
Стоит ли говорить, что количеству написанного далеко не всегда сопутствует высокое качество и что среди произведений Оутс есть немало проходных, автоэпигонских, а то и вовсе провальных вещей, повисающих в безвоздушном пространстве где-то посередине между изящной словесностью и легковесным чтивом. Но о талантливом художнике мы должны судить по его лучшим творениям, а посему прибережем критический яд. Тем более что речь у нас пойдет об одном из лучших оутсовских романов «Дорогостоящая публика» (1968), вышедшем в превосходном переводе Оксаны Кириченко427 (благодаря ей в русской литературе обрели прописку англоязычные произведения таких авторов, как Владимир Набоков, Кингсли Эмис, Рудольфо Анайя, Джон Апдайк и др.).
Об Оутс у нас принято судить по растянутым социально-бытовым романам вроде «Сада земных наслаждений»(1967) и «Делай со мной, что захочешь» (1973), которые были переведены еще в советскую эпоху и после бесконечно перепечатывались разными российскими издательствами. В отличие от этих дрябловатых драйзероподобных монстров «Дорогостоящая публика» – компактный, мускулистый роман, в котором удачно совмещаются элементы социальной сатиры и жестокой мелодрамы (с непременным адюльтером, сценами скандалов и роковым выстрелом). Плюс ко всему это и своеобразный «роман воспитания», рассказывающий о «распаде детства» и раннем взрослении одиннадцатилетнего мальчика, которому открываются «ошеломляющие истины» человеческого существования.
Любителям литературных аналогий роман Оутс, скорее всего, напомнит культовую книгу пятидесятых–шестидесятых годов «Над пропастью во ржи». Подобно сэлинджеровскому супербестселлеру «Дорогостоящая публика» представляет собой исповедь юного аутсайдера, болезненно постигающего жестокие законы жизни и протестующего против фальши и лицемерия взрослых. Совпадают и некоторые реалии американской действительности, воссозданные в обоих произведениях. Например, и в одном и в другом с нескрываемой иронией изображаются привилегированные частные школы, в которых учатся герои-повествователи. Только вот у Оутс учителя еще более фальшивы и бездушны, а ученики, отпрыски средней и высшей буржуазии, еще более испорчены: один уже в тринадцать лет стал законченным алкоголиком, другие вовсю балуются сигаретками с марихуаной; списать домашнее задание дают только за деньги (такса – пятьдесят центов).
Тем не менее сходство между романами Сэлинджера и Оутс чисто внешнее, как и между их протагонистами. В отличие от эгоцентричного и инфантильного Холдена Колфилда герой-повествователь «Дорогостоящей публики» не зациклен на максималистском отрицании сложившегося жизненного уклада. Оутсовский Ричард Эверет – не задиристый бунтарь, а закомплексованный тихоня и самоед, «ощипанный ангел», страдающий от духовного одиночества и равнодушия со стороны родителей, чей брак давно превратился в обоюдную пытку. К тому же он, что называется, «ненадежный повествователь»: по прочтении романа нельзя понять, действительно ли Ричард застрелил из снайперской винтовки собственную мать, собиравшуюся бросить семью ради очередного любовника, или же это убийство – плод его горячечного, мучимого тоской и ревностью воображения.
Да и в литературном плане герой Оутс куда более искушен, чем его знаменитый предшественник. Матрёшечная композиция романа, изощренная литературная рефлексия, пронизывающая повествование, сбивчивая манера изложения – с постоянными отступлениями от фабулы и «репликами в сторону» – позволяют нам говорить о том, что Ричард Эверет прошел выучку у талантливых набоковских безумцев: героев-повествователей «Соглядатая», «Отчаяния», «Лолиты», «Бледного огня»428.
Как и Герман Карлович, Ричард Эверет – не просто начинающий писатель, одержимый зудом творчества, а изгой и неудачник, потерпевший поражение в жизни и стремящийся взять реванш в литературе. Отсюда его сбивчивая, порой лихорадочная манера повествования, напряженные размышления о технике писательского мастерства, о литературных приемах, мучительные поиски нужной фразы. «Я не в силах начать историю простым изложением: “Однажды январским утром желтый кадиллак подрулил к тротуару”. Как не могу начать ее и так: “Он был единственным ребенком в семье”. К слову сказать, оба этих утверждения не лишены смысла, но только говорить о себе в третьем лице я не умею. Не могу я начать свой рассказ и так: “Элвуд Эверетт и Наташа Романова встретились и поженились, когда ему было двадцать два, а ей девятнадцать”. (Это мои родители! Не сразу поднимется рука отстучать их имена на машинке.) И я не могу начать свой рассказ сочной фразой: “Внезапно дверь стенного шкафа открылась, и я увидел его, голого прямо перед собой. Он глядел на меня, а я на него”. (Всё это еще будет, но только потом; пока я вспоминать об этом не хочу)», – сравним эти метания Ричарада с тем, как Герман Карлович перебирает варианты зачина третьей главы: «Как мы начнем эту главу? Предлагаю на выбор несколько вариантов. Вариант первый – он встречается часто в романах, ведущихся от лица настоящего или подставного автора…» и т.д.
Подобно протагонистам «Отчаяния» и «Лолиты», оутсовский повествователь позволяет себе «некоторую риторическую цветистость и трюкачество»; он то и дело обращается к воображаемым читателям, споря с ними, ища у них поддержки, поддразнивая их: забегая вперед и намекая на события, которые ему еще предстоит описать.
О набоковской школе говорят и разного рода вставные тексты. Матери героя-повествователя, писательнице-авангардистке Наташе Романовой, Оутс дарит свой рассказ «Растлители», ранее опубликованный в «Ежеквартальном литературном обозрении»; а другой рассказ героини, «Снайперы», содержит краткий конспект третьей части романа, где отчаявшийся герой приобретает снайперскую винтовку и, попугав немного обитателей фешенебельного городка Фернвуд, совершает матереубийство. (Похожий прием зеркальных отражений находим и у Набокова, например в романе «Камера обскура», в начале которого герой видит фильм, предсказывающий его собственную судьбу.)
Задействован Оутс и еще один фирменный набоковский прием, примененный в «Даре» и «Аде»: во второй части романа «Дорогостоящая публика» целая глава отводится под критические отзывы на… роман «Дорогостоящая публика». Жаль только, что мы не можем понять, кого именно и насколько удачно пародирует писательница, воспроизводя стилистику и ухватки разнокалиберных критиков, будь то юркие писаки из глянцевитого «Тайма» и книжного приложения к «Нью-Йорк Таймс», фрейдистски озабоченный зануда, пишущий для высоколобых ежеквартальников, или велеречивый пустобрех из либерального журнала «Нью рипаблик» – литературный потомок набоковского Джона Рэя: «В буквальном смысле “Дорогостоящая публика” представляет собой воплощение страданий нынешнего поколения, выраженных поэтикой исстрадавшегося ребенка. Как бы средством от сглаза, скажем, для одной из граней подразумеваемых в романе процессов, становятся бесконечные нагромождения малозначащих деталей (описание предметов быта семьи среднего достатка, бытовая символика), с головокружительной скоростью пролетающих перед взглядом малолетнего повествователя, который пребывает не только в навязчивых мечтах о прелестях мелкобуржуазного достатка <…>, но и еще в навязчивых мечтах о грядущей литературной карьере, воображая, что он способен сузить сложнейший социологический материал до микрозрительского восприятия…»
Как и подобает настоящему художнику, Оутс творчески усвоила уроки великого Мастера. По крайней мере, как автор «Дорогостоящей публики» она далека от эпигонского подражания и вполне осознанно использует те или иные литературные приемы, пусть и не ею найденные. Зато она знает, как и для чего их использовать, чтобы раскрыть свою тему, воплотить свое неповторимое видение человека и мира.
Неповторим и оригинален сатирически окрашенный образ сытой, бездушно-благополучной «одноэтажной Америки», олицетворением которой является Фернвуд – город удачливых дельцов, «где пахнет травой и листьями, течет хозяйски прирученная река (предусмотрены сельским бытом утки, гуси, лебеди, грациозно снуют в воде огромные серебряные караси), где голубое небо, а под ним тысячи акров восхитительно зеленой травы», уютные особняки с бассейнами, подземными гаражами и идеально выбритыми лужайками, к аромату которых «примешивается запах денег, запах купюр».
В позолоченной клетке этого нуворишьего рая задыхается не только Ричард, но и его красавица мать – Нада, как он называет ее, не справляясь с русским «Надя». Образ Нады – безусловная удача писательницы, которой не только удалось передать «изнутри» сознание хрупкого и ранимого подростка (любители гендерной ахинеи, где вы, ау?!), но и показать в его преломлении исполненную кричащих противоречий личность незаурядной женщины. С одной стороны, Нада – творческая, ищущая натура, утонченная интеллектуалка, тяготеющая к вольным нравам нью-йоркской богемы, с другой – типичная парвеню, тщеславная и эгоистичная, зачарованная роскошью и блеском «дорогостоящей публики», вне которой себя не мыслит. Дочь бедных украинских иммигрантов (как выясняется в конце романа, ее настоящее имя – Наташа Романюк), она выдает себя за дочь русских белоэмигрантов, Наташу Романову, прозрачно намекая на свои аристократические корни. Несмотря на чрезмерные амбиции, Наде удается выбиться в люди самым банальным способом, к которому во всем мире прибегают тысячи, миллионы корыстолюбивых золушек, – путем расчетливого брака с преуспевающим бизнесменом.
Нада еще более трагическая фигура, чем Ричард, поскольку никого по-настоящему не любит. Стариков родителей она забыла, словно муторный и серый сон; приземленного, непробиваемо жизнерадостного мужа, вытащившего ее из грязи, она искренне презирает; сын, в котором она видит воплощение своих честолюбивых грез, является досадной помехой на пути к абсолютной свободе. В общем, Оутс удалось создать уникальный женский характер: загадочный, непрозрачный, неисчерпаемый (поскольку он показан исключительно с точки зрения пристрастного повествователя) и в то же время до боли знакомый каждому из нас.
Такое же смысловое богатство отличает и весь роман, который, хочется верить, не затеряется среди разливанного моря переводной и доморощенной халтуры и найдет своего читателя – не только среди вымирающих литературоведов-американистов и присяжных газетных борзописцев, в лучшем случае пролистывающих книги по диагонали.
***
В завершение позвольте сказать два слова о странной издательской судьбе романа в России. В 1994 году, в эпоху дикого ельцинского капитализма, когда одна за другой возникали и тут же прогорали мотыльковые издательские фирмы, он был выпущен стотысячным тиражом одним из таких (давно уже почивших) издательств-однодневок. Книгу, помнится, издали в карманном формате мягкообложечного дамского романа вроде изделий серии «Арлекин», с зазывной картинкой на обложке: поджарый хлыщ в смокинге заключает в мужественные объятия шикарную красотку; та томно закинула очаровательную головку с распущенными русыми волосами такой невиданной густоты, будто их взяли напрокат из рекламы шампуней. К радости издателей, тираж был быстренько раскуплен любительницами душещипательного розового ширпотреба à la Барбара Картленд (представляю, как они были разочарованы!). Но в то же время книга не попала ни в одну библиотеку, в том числе и в Ленинку, и не вызвала ни малейшего отклика у критиков. (Как мы помним, в тогдашней прессе еще не было принято рецензировать формульные сочинения массовой литературы, а тем более – образчики розового романа, под который и загримировали «Дорогостоящую публику».) Типичный российский парадокс: книга одной из самых титулованных и плодовитых американских писательниц была выпущена стотысячным тиражом, но ее как бы и не было. В списках не значилась. И только теперь, пусть и выпущенная неизмеримо меньшим тиражом, она получила шанс пробиться к тому серьезному и искушенному читателю, на которого и была рассчитана.
Правда, оформление книги и на этот раз оставляет желать лучшего. И страхолюдное чучело, изображенное на обложке, и желтовато-жухлая бумага (в застойные времена в такую заворачивали колбасу) способны отпугнуть кого угодно. Имеются в издании и досадные опечатки. Так, упомянутый эрудированным повествователем американский критик Лесли Фидлер превратился в «Лесли Фиолер» (С. 91), разом потеряв и согласную в фамилии, и мужской пол.
А напоследок – еще одна пикантная подробность. В выходных данных ваш покорный слуга указан как составитель (sic!!!) и автор предисловия (которого там, разумеется, нет). И даже знак копирайта поставлен. Вот уж не знал… Можете себе представить, как я был удивлен, купив книгу. Да, два года назад мне довелось составить для «Гудьяла» двухтомник эмигрантского писателя В.С. Яновского, и предисловие я к нему написал, но то ведь были «иные берега, иные волны…», к Оутс не имевшие никакого отношения. Придя в себя, я решил: пойду в издательство и потребую гонорар за «состав» и предисловие. Вместо предисловия предъявлю им эту рецензию. И пусть только попробуют не заплатить…
Новый мир. 2002. № 11. С. 185–189.
БУНТУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК УИЛЬЯМА СТАЙРОНА
Шарж Ричарда Уилсона
«Каждый белый на Юге рождается распятым на черном кресте», – под этим чеканным фолкнеровским афоризмом охотно подписался бы и Уильям Стайрон, по мнению которого любой «южанин осознает негра как вечную, непреложную часть самой истории, как компонент самой ткани бытия, и настолько естественной, настолько необходимой, что, убери его, вся эта ткань расползется»429.
(Едва ли нужно разъяснять, кто такой Уильям Стайрон и каково его место в истории американской литературы ХХ века: достойный наследник Фолкнера и Томаса Вулфа, лауреат престижных литературных премий, традиционалист, переросший рамки школ и «измов», затрагивавший в своих книгах самые кровоточащие проблемы человеческого бытия, короче говоря, – живой классик.)
Детство и юность Стайрон провел «неподалеку от округа Саутгемптон, <…> в том краю на виргинском побережье, который обычно включают в черный пояс, потому что население тут преимущественно негритянское»430. Именно там в 1831 году вспыхнуло восстание чернокожих рабов под предводительством баптистского проповедника Ната Тернера, всколыхнувшее весь рабовладельческий Юг: восставшие методично вырезали белое население округа, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Правда, черное воинство (не превышавшее сотню человек) так и не смогло увлечь за собой массы рабов. Подавляющее большинство чернокожих осталось пассивным, а некоторые – из числа дворовых слуг – даже защищали жизнь и имущество хозяев. Разграбив несколько поместий и уничтожив около пятидесяти человек, отряд Тернера разложился от вина и мародерства, а при первом же серьезном столкновении с ополчением белых рассыпался; зачинщики, кто раньше, кто позже, были схвачены и после скорого суда казнены. Отчаянный порыв к свободе увенчался сотнями трупов: мстя за убитых, виргинцы и съехавшиеся со всего Юга добровольные каратели перебили множество ни в чем не повинных негров, в том числе и вольноотпущенников. Одним из последних был повешен Нат Тернер, чью предсмертную исповедь записал и вскоре издал адвокат Томас Грей.
Кровавые события далекого прошлого, запечатленные в тощей брошюрке Грея да в скупых газетных сообщениях, легли в основу романа «Признания Ната Тернера» (1967)431, замысел которого возник у писателя уже в конце сороковых годов, когда он только вступал на литературное поприще. Как неоднократно признавался сам Уильям Стайрон (например, устами автобиографического героя-повествователя из «Выбора Софи»), с детских лет его воображение опалял образ «черного дьявола-фанатика»: «…Он возник из истории ослепляющим, поистине катастрофическим взрывом, совершил свой эпохальный подвиг и исчез столь же таинственно, как и появился, не оставив ничего о себе, о своей личности, ни единого изображения, – ничего, кроме имени».
Роман, потребовавший от автора нескольких лет мучительного труда, был опубликован в разгар негритянских бунтов и сразу же вызвал «кривые толки, шум и брань» в американской прессе. Но если в США книга сделалась супербестселлером и была удостоена Пулитцеровской премии, то в Советском Союзе она оказалась «персоной нон грата». В то время как остальные произведения Уильяма Стайрона – пусть и со скрипом, пусть и в кастрированном виде, как это случилось с «Выбором Софи» (1979), – дошли до российского читателя еще на излете советской эры, роман «Признания Ната Тернера» немного задержался в пути: его русский перевод появился на прилавках книжных магазинов в прошлом году, когда писатель разменял восьмой десяток.
О причинах подобной задержки можно только гадать. Вероятно, советским литчиновникам не пришлись по душе стайроновские «раздумья по поводу истории» и безжалостные выводы относительно революционного насилия как средства достижения благой цели. Да и возглавивший заранее обреченное восстание Нат Тернер, религиозный проповедник и визионер, который, «выражая собственные мысли исключительно языком пророков, должно быть, видел себя не меньше как Гедеоном, карающим мадианитян»432, в интерпретации Стайрона никак не похож на твердокаменного революционера с холодной головой и горячим сердцем. Им движут не классовая ненависть или отчаянная нужда (по сравнению с рабами, изнывающими от непосильного труда на табачных и хлопковых плантациях Алабамы или Джорджии, у Ната, принадлежавшего незлобивому виргинскому фермеру, были сносные бытовые условия), а религиозный фанатизм, сдавленные сексуальные комплексы и уязвленное честолюбие. К тому же стайроновский герой, сеявший в душах своих сподвижников «семена негритянской воинственности», показан совершенно никудышным руководителем: он не смог «совладать с разбушевавшимися черными мерзавцами» и поддерживать на должном уровне дисциплину, но главное – органически не способен убивать. Сцены насилия (воссозданные автором с жутким правдоподобием) вызывают у новоявленного Иисуса Навина приступы тошноты. Выяснилось, что «пить вино ярости Божией» не так-то сладостно, как грезилось во время экстатических видений. Единственной его жертвой стала кроткая восемнадцатилетняя красавица Маргарет, в которую он был безнадежно влюблен, но ее зверское убийство вызывает скорее мрачноватые фрейдистские ассоциации, нежели радужные мысли о праведном возмездии белым угнетателям. Убив Маргарет (едва ли не единственного человека, с которым чувствовал душевную и интеллектуальную близость), Нат Тернер внутренне надламывается. Вдохновлявшая его на бунт вера в сопричастность божественному замыслу сменяется тягостным осознанием собственной вины и чувством «удаленности от Бога, разобщенности с Ним, не имеющим ничего общего ни с маловерием, ни с недостатком богоустремленности».
Короче говоря, вместо образцово-показательного революционера, вместо идеального борца за светлое негритянское будущее у Стайрона получился сложный, многомерный характер, в котором переплавлены рассудочная жестокость и душевное благородство, живой ум и слепой догматизм, обостренное чувство собственного достоинства и мучительное ощущение «черномазой неполноценности», сила духа и фатальная нерешительность. Образ настолько не соответствовал пропагандистским клише, что этого писателю не могли простить.
Недаром же ведущие советские американисты пеняли на «художественно не слишком убедительный “гамлетизм” центрального персонажа, под конец словно бы раздавленного яростью беспощадного бунта, который он сам же и проповедовал» (А. Зверев)433, и утверждали, что в целом вещь «не стала творческой удачей Стайрона» (Г. Злобин)434, а на страницах «Литературной газеты» появилась перепечатка ворчливой рецензии американского критика-марксиста Герберта Аптекера, раздраконившего автора, чей роман, «нашпигованный самыми шовинистическими стереотипами в описаниях негров», будто бы искажает «образ народного героя»435.
С еще более резкой и безапелляционной критикой стайроновского романа выступили чернокожие интеллектуалы, тогда, в конце шестидесятых, завороженные идеологией «Власть черным» и считавшие расизмом всё, что противоречило идее «черного превосходства». В пику Стайрону был выпущен сборник «“Нат Тернер” Уильяма Стайрона. Возражения десяти черных писателей» (1968), на страницах которого писателя обвиняли в расизме, игнорировании исторических фактов, относящихся к жизни черных рабов, в невнимании к «красоте афроамериканских идиом» и в прочих смертных грехах. О характере полемических выпадов можно судить уже по названию статей: «Искажение истории и фактов. Апологетический трактат бывшего южанина о рабстве и жизни Ната Тернера, или Сфабрикованные признания Уильяма Стайрона» (Джон Уильямс), «Поражение Уильяма Стайрона» (Эрнест Кайзер), «Признания Уилли Стайрона» (Джон Килленз) и т.д. Почти все обвинения, предъявленные писателю, были откровенно абсурдны. Один критик корил Стайрона за то, что его герой вдохновляет себя и своих сообщников образом Наполеона, вместо того чтобы избрать образцом для подражания гаитянца Туссена-Лувертюра436 (как будто проповедник из виргинской глубинки мог знать о его существовании!); другой возмущался тем, что автор обрек протагониста на целибат да еще заставил влюбиться в белую девушку, в то время как у прототипа якобы имелась жена437 (в своих интервью, отбиваясь от упреков, Стайрон называл эту версию беспочвенной438); третий утверждал, что герой исторического романа не может «действовать в историческом вакууме»439, а значит, автор непременно должен был упомянуть всех предшественников виргинского мятежника: Габриэля Проссера, пытавшегося поднять восстание возле Ричмонда в 1800 году, Денмарка Вези, в 1822 году подбивавшего к бунту рабов под Чарльтоном, и других (как будто перед ним было не художественное произведение, а и впрямь исторический трактат).
Из всех чернокожих зоилов, сплясавших вокруг Стайрона танец скальпа, лишь один приблизился к истине, когда заявил, что роман больше говорит о психологии автора, чем «о сердце, душе и сознании негритянского революционера Ната Тернера»440.
Действительно, несмотря на то, что проникновение в сознание чернокожего раба и попытка взглянуть на мир его глазами и сделали «Признания Ната Тернера» уникальным явлением в истории американской литературы (даже Фолкнер предпочитал изображать своих чернокожих героев «со стороны» или в объективной повествовательной манере, но не «изнутри»441), образ мятежного проповедника был интересен Стайрону постольку, поскольку позволял «пройти сквозь время и пространство, чтобы до некоторой степени раскрыть самого себя»442 и осмыслить общезначимые свойства человеческого «я». А благодаря этому образ главного героя да и произведение в целом способны вызвать живой отклик и трепет узнавания и у российского читателя, мало озабоченного расовыми конфликтами между белыми и черными американцами.
Поверх сюжетно-событийной канвы исторического романа Стайрону удалось создать величественную поэму о несчастной, заблудшей человеческой душе, восставшей против «беспросветной реальности несвободы» и потерпевшей жестокое нравственное поражение, ибо нельзя отстоять собственную человечность за счет ее отрицания в других. Среди реалистически выписанных декораций американского захолустья разыгрывается метафизическая трагедия, главными движущими силами которой становятся не расовые и социальные антагонизмы, а нравственные и философские антиномии, обрекающие любого мыслящего человека на мучительный выбор между многими жизненными правдами и поиск конечных, абсолютных истин.
Одну из них – «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога» – пусть и с опозданием, уже перед лицом вечности, осознал стайроновский бунтарь. Что ж, будем признательны за это и ему, и его создателю…
Будем признательны и переводчику: благодаря ему среди пестрого переводного хлама появилась книга, напоминающая нам о том, какой должна быть настоящая литература, неподвластная политической конъюнктуре, диктату рынка и скучным безумствам моды.
Иностранная литература. 2006. № 4. С. 304–307.
ЖЕСТОКИЙ РЕАЛИЗМ МАРИО ВАРГАСА ЛЬОСЫ
«Диктатор – это единственный законченный типологический образ, который дала Латинская Америка», – со знанием дела утверждал когда-то Габриэль Гарсиа Маркес443. В самом деле, мало кто из крупных латиноамериканских писателей прошел мимо вечно животрепещущей темы: деспот и зачарованные его абсолютной властью подданные.
В начале семидесятых во время конференции латиноамериканских писателей то ли Гарсиа Маркеса, то ли Карлоса Фуэнтеса осенила необычная мысль: создать книжную серию «Отцы родины», посвятив ее наиболее колоритным тиранам Латинской Америки: «Каждый известный к тому времени романист должен был писать о диктаторе своей страны. <…> Мигель Отеро Сильва взялся написать о Хуане Висенте Гомесе, Хулио Кортасар хотел писать о трупе Эвиты Перон, Карлос Фуэнтес – о Санта-Ана, Алехо Карпентьер – о Мачадо, Хуан Бош – о Трухильо, Аугусто Роа Бастос – о докторе Франсиа…»444 Далеко не все авторы воплотили свои замыслы, и многие «пламенные реакционеры» Латинской Америки остались без жизнеописаний, однако идея не повисла в воздухе. Практически одновременно на свет божий появились «Превратности метода» (1974) Карпентьера, «Осень патриарха» (1975) Гарсиа Маркеса, «Я, Верховный» Роа Бастоса (1974) – уже этого достаточно, чтобы считать задуманную серию состоявшейся. А совсем недавно, в 2000 году, серия пополнилась еще одной книгой. Знаменитый перуанский прозаик Марио Варгас Льоса (после неудачных для него президентских выборов 1990 года – гражданин Испании), и раньше обращавшийся к социально-политической проблематике (например, в романе 1969 года «Разговор в “Соборе”»), написал «антидиктаторский» роман, посвященный доминиканскому диктатору Рафаэлю Леонидасу Трухильо Молине (1891–1961)445.
Трухильо железной рукой правил Доминиканской Республикой на протяжении тридцати лет (даже тогда, когда, играя в демократию, формально отстранялся от власти и, наподобие Ивана Грозного, прятался за спины марионеточных правителей: своих родственников или подкаблучных протеже). О таком сильном лидере у нас многие мечтали в середине девяностых, во времена ельцинского правления. Буржуазный реформатор, правоверный рыночник, благодаря финансовым вливаниям Штатов он оздоровил рахитичную доминиканскую экономику, добился неслыханно высокого для Латинской Америки уровня жизни, драконовскими методами искоренил преступность, а заодно и политическую оппозицию: всех недовольных либо скормил акулам, либо вытурил из страны (с тем чтобы позже избавиться от них при помощи наемных убийц); проблему незаконной миграции решил радикально: чернокожие гаитяне, наводнившие страну, в один прекрасный день были просто-напросто перебиты. Воспитанник американской учебки для морпехов, люто ненавидевший коммунизм и социализм, Трухильо рьяно защищал интересы своих североамериканских покровителей, поэтому те до поры до времени благодушно закрывали глаза на кровавые безобразия его режима. «Да, он сукин сын… Но это наш сукин сын!» – пафосная, ставшая крылатой фраза госсекретаря Корделла Халла относилась именно к Трухильо. Лишь к началу шестидесятых, после целого ряда скандальных политических провалов – неуклюжих заказных убийств диссидентов, ставших гражданами США, неудачного покушения на венесуэльского президента Бетанкура, спровоцировавшего бойкот со стороны всех южноамериканских стран, разрыва с церковными лидерами – вашингтонские политики отвернулись от былого ставленника и начали подумывать о подходящей замене. Сотрудники ЦРУ даже косвенно поучаствовали в заговоре, созревшем в ближайшем окружении диктатора: от щедрот своих выделили заговорщикам пару автоматических винтовок да пообещали в случае форс-мажорных обстоятельств высадить морскую пехоту.
О последних днях дряхлеющего тропического сталиниссимуса, о его убийстве заговорщиками, о провале мятежа, жестоко подавленного Трухильо-младшим, и рассказывает книга Варгаса Льосы, балансирующая на зыбкой грани между беллетристикой и тем, что Варлам Шаламов называл «прозой живой жизни, которая в то же время – преображенная действительность, преображенный документ».
Почти все персонажи «Праздника Козла» – реально существовавшие лица: соратники, жертвы, убийцы диктатора, информацию о которых писатель скрупулезно собирал начиная с 1975 года, когда впервые побывал в Доминиканской Республике и заинтересовался все еще вызывавшей благоговейный ужас фигурой Трухильо – Козла, как прозвали того в народе за чудовищное сладострастие. Сексуальная вседозволенность издавна была атрибутом абсолютной политической власти (случай асексуального Иосифа Виссарионовича скорее исключение, чем правило); что уж тут говорить о горячем доминиканском парне, стремившемся облагодетельствовать едва ли не всех хорошеньких подданных женского пола, будь то жены его клевретов или подобранные на одну ночь уличные девки.
Именно с сексуальными подвигами доминиканского тирана связана одна из сюжетных линий романа, рассказывающая об изломанной судьбе Урании Кабраль, дочери видного «трухилиста», внезапно, по капризу Хозяина впавшего в немилость и решившего поправить положение вполне традиционным для тогдашних доминиканцев способом – четырнадцатилетняя девочка была отправлена на виллу Благодетеля для плотских утех – в надежде, что разлакомившийся старец оценит подарочек и простит папашу. Педофильская затея обернулась настоящим фиаско: престарелый сластолюбец, под конец жизни имевший проблемы с простатой, не смог должным образом возбудиться, но в порыве бессильной ярости все же надругался на свой лад над обезумевшей от страха «партнершей». Лишь чудом Урании удалось избежать гибели: с помощью американских монахинь она перебралась в США, где окончила колледж и сделалась преуспевающим юристом, хотя, несмотря на внешнее благополучие, так и не смогла изжить нанесенную ей травму и на всю жизнь возненавидела и отца, и свою родину.
Урания – один из немногих вымышленных персонажей книги (наряду с подобострастным советником диктатора, продажным сенатором Энри Чириносом, получившим имя одного из политических соратников Варгаса Льосы, предавшего его во время президентской кампании и переметнувшегося на сторону главного соперника – Альберто Фухимори). И как бы ни была типична чудовищная история героини – жертвы предательства и насилия, – она все же блекнет, отдает мелодрамой при сравнении с реальными фактами, о которых рассказывается в «Празднике Козла».
Тема насилия, физического и нравственного растления звучит куда более зловеще, когда речь заходит о невымышленных лицах и событиях. Изнасилование сексапильной нимфетки выглядит просто невинной шалостью по сравнению с тем, что сотворил каудильо с душами своих приближенных, готовых на любые унижения и подлости, чтобы добиться его благосклонного внимания и расположения.
Даже заговорщики – бывшие «трухилисты», по тем или иным причинам разочаровавшиеся в Хозяине и решившиеся на его убийство, – оказались фатальным образом отравлены атмосферой идолопоклонства и сервилизма, так что в критический момент, при всей своей храбрости, выказали поразительное отсутствие воли.
Едва не перестреляв друг друга, оставив множество улик, они кое-как прикончили престарелого диктатора, который в сопровождении всего лишь одного охранника мчался на встречу с очередной метрессой. Но на большее – свержение деспотического режима – их не хватило. Подобно Раскольникову, они «только и сумели, что убить», а вот «переступить-то не переступили». Печальный рассказ о доминиканских тираноборцах, используя шаламовскую фразу об узниках ГУЛАГа, можно назвать историей «мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями».
В первую очередь это касается военного министра, генерала Хосе Рене Романа, согласившегося возглавить переворот в том случае, если ему предъявят труп Козла. (По сравнению с Романом даже князь С.П. Трубецкой, так и не появившийся на Сенатской площади, выглядит образцом мужества и благородства.) Получив достоверные сведения о смерти тирана, бравый генерал – истинный латиноамериканский мачо, которого никто не мог упрекнуть в трусости и в руках у которого была вся армия, – вместо того чтобы действовать и довести дело до конца, впал в прострацию и, обрекая на бесславную гибель себя и остальных мятежников, медлил, колебался, отдавал бессмысленные и туманные приказания, а когда полиция одного за другим стала отлавливать растерявшихся бунтарей, помчался к наследникам Трухильо, чтобы выразить свои соболезнования по поводу случившегося… Из «желеобразного умственного состояния», в котором он находился несколько суток, несостоявшийся революционер вышел лишь в тюремном застенке, где и окончил свои дни после чудовищных четырехмесячных пыток.
«Между сеансами на электрическом стуле его, голого, отволакивали в сырую камеру и поливали вонючей водой, пока он не начинал подавать признаки жизни. А чтобы он не спал, веки ему приклеили к бровям лейкопластырем. Когда же и при открытых глазах впадал в полубессознательное состояние, его будили бейсбольной битой. Несколько раз забивали рот чем-то несъедобным, однажды он почувствовал экскременты, и его вырвало. Позднее в своем стремительном падении в нечеловеческое состояние он уже мог удерживать в желудке то, что ему давали…»
Главы, в которых нарочито бесстрастно, со спокойной и расчетливой жестокостью повествуется о провале мятежа и расправе над схваченными заговорщиками, производят, пожалуй, наиболее сильное впечатление: жестокий реализм Варгаса Льосы создает «эффект присутствия»: автор приоткрывает перед читателем ту чудовищную правду жизни, которую не способны затмить даже самые извращенные фантазии болезненного воображения.
Я вовсе не хочу сказать, что «антидиктаторский» роман перуанского прозаика – очередной пример того, как нас «возвышающий обман» беллетризма отступает перед суровой правдой документа. (Хотя доминиканские читатели восприняли книгу именно как «нон-фикшн» и обрушились на автора с обвинениями во лжи и неточностях; а тамошний историк Бернардо Вега опубликовал даже специальную работу, в которой сварливо указывал на тридцать восемь фактических ошибок, будто бы допущенных автором, – точь-в-точь как ветераны Отечественной войны 1812 года укоряли создателя «Войны и мира» за искажение фактов.)
Что бы там ни утверждали доминиканские зоилы, «Праздник Козла» – это все-таки не «нон-фикшн», а произведение высокого искусства, в котором документ преображен и освящен огнем подлинного таланта. Другое дело, что творческое преображение проявляется здесь не столько в фабульной выдумке, сколько в виртуозном композиционном мастерстве (полифонии повествовательных точек зрения, сменяющих друг друга без всяких переходов и описательных прокладок, прихотливом временном контрапункте, мгновенно сопрягающем сиюминутное настоящее с давним прошлым), в силе воплощения полнокровных, исполненных высоких и низменных страстей характеров, в той, как сказал бы Павел Муратов, «жизненной заразительности», которая «вовлекает нас кратчайшим путем в опыт иной жизни»446.
Недаром же роман вызвал целый фейерверк хвалебных отзывов, а многие западноевропейские и американские критики назвали его лучшим произведением Мастера, причем восторженный рецензент из «Спектейтора» даже посулил ему Нобелевскую премию, в чем, увы, оказался плохим пророком447.
На мой вкус, «Праздник Козла» все-таки нельзя назвать лучшим творением Варгаса Льосы: превзойти свой давний шедевр, роман «Война конца света» (1981), тоже, кстати, построенный на документальном материале, ему не удалось. Однако это обстоятельство не умаляет ценности новой книги латиноамериканского писателя: поднятые в ней темы едва ли когда-нибудь потеряют свою актуальность, а в умении «околдовать читателя: победить его скептицизм, завладеть его вниманием, управлять его чувством» Марио Варгас Льоса, по-моему, не знает себе равных.
Иностранная литература. 2004. № 5. С. 257–260.
1
Тодд У. Контексты литературной критики: американские ученые и русская литература // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 156–157.
(обратно)2
Там же.
(обратно)3
Целкова Л.Н. Другой Набоков // Октябрь. 2003. № 6. С. 176.
(обратно)4
Цит. по: Набоков В.В. Романы, рассказы, эссе. СПб.: Энтар, 1993. С. 276.
(обратно)5
Цит. по: Набоков В.В. Бледный огонь. Ann Arbor: Ardis, 1983. С. 124.
(обратно)6
Уайльд О. Замыслы. М., 1906. С. 13.
(обратно)7
Цит. по: Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе / Сост. Р.А. Гальцева. Пер., примеч.: С.С. Аверинцев и др. М.: Политиздат, 1991. С. 179.
(обратно)8
Об этом происшествии Набоков мог узнать из берлинской газеты «Наш век» (1934. 20 декабря) – версия новозеландского литературоведа Брайана Бойда. См.: Boyd B. Vladimir Nabokov. The Russian Years. Princeton, 1990. P. 375.
(обратно)9
С Иудушкой Головлевым набоковского героя сравнивал выдающийся критик и литературовед русского зарубежья П.М. Бицилли. В статье «Возрождение аллегории» он писал: «А что если он [Герман] – Иудушка? Иудушка, нраственный идиот, в буквальном значении этого слова (“идиот” – человек, существующий сам по себе, вне среды, в пустом пространстве, то есть не человек…). Для такого человека-нечеловека нет разницы между реальными людьми и порождениями его фантазии. Все они – и он сам – помещены для него в той плоскости, в какой законы логики уже не действуют» (Современные записки. 1936. № 61. С. 197).
(обратно)10
[В подтверждение хлестких обвинений Ардалиона заметим, что в конце 1920-х – начале 1930-х убийство мнимых двойников с целью получения страховки было одним из самых распространенных в Европе преступлений. Об этом можно судить хотя бы по публикациям в русскоязычной эмигрантской прессе (я не задавался целью и не изучал иностранную периодику того времени). «В последнее время одно за другим всплывают дела о более или менее тяжелых преступлениях, связанных с желанием незаконным путем получить страховую премию. Можно подумать, что и в этой области проявляется так называемый “закон серий”, – тревожно вещала рижская газета “Сегодня”, поведавшая читателям о том, как марсельская полиция напала на след страховой аферы, в которой оказались замешанными две сестры-немки. – Сорокадвухлетняя Шмидт-Жиллетт, вдова французского гражданина, после смерти своего мужа жила с младшей сестрой Екатериной. В прошлом году младшая сестра застраховала свою жизнь в полмиллиона франков. Вскоре после этого Шмидт заявила властям о смерти своей младшей сестры. Явившийся на квартиру врач констатировал смерть от воспаления легких, и на основании его свидетельства страховое общество выплатило премию. Все было бы хорошо, если бы в руки полиции не попало случайно несколько писем, адресованных Екатерине Шмидт. <…> Выяснилось, что как старшая, так и младшая сестры живы и здоровы. Вдова Шмидт немедленно была арестована. На допросе она заявила, что покойница, которую осматривал врач, – неизвестная женщина, которую она у себя приютила. По словам вдовы Шмидт, лишь после смерти этой женщины ей и ее сестре пришла в голову мысль об обманном получении страховой премии. Судебные власти имеют основания предполагать, что эта таинственная жилица сестер Шмидт умерла неестественной смертью» (Еще одна «страховая» афера // Сегодня. 1931. 30 марта. С. 4). Несколькими днями ранее лондонский корреспондент «Сегодня» Дионео (И.В. Шкловский) писал о похожем преступлении (разве что страховка тут была ни при чем), совершенном коммивояжером Раузом: «Запутавшись в амурных делах, он решил “умереть” для всех. С этой целью он поджег свой автомобиль и бросил в горящую карету тело своего попутчика. Рауз думал, что сгоревшего неизвестного, от которого сохранится только скелет, примут за владельца автомобиля. Но преступление было раскрыто, и Раузу придется сегодня умереть не фиктивно, а на самом деле» (Дионео. Снова споры за и против смертной казни (Письмо из Лондона) // Сегодня. 1931. 17 марта. С. 2).]
(обратно)11
[В Германии непосредственным предшественником Тецнера был Генрих Альбердинг, тридцатидвухлетний торговец из города Фульда, в январе 1928-го инсценировавший свое похищение и убийство. О его разоблачении можно прочесть в книге немецкого публициста Юргана Торвальда «Сто лет криминалистики» (М., 1974. С. 221–222), в которой, кстати, подробно рассказывается и о преступлении Тецнера (С. 221–226). К сожалению, книга Торвальда попалась мне на глаза спустя пять лет после публикации данной статьи.]
(обратно)12
Убийство в автомобиле // Руль. 1931. 19 марта (№ 3135). С. 3.
(обратно)13
Там же.
(обратно)14
Там же.
(обратно)15
[Кокелю, ведущему в Германии специалисту по судебной медицине, взявшемуся за это дело, был предъявлен (извините за неприглядные подробности) «сильно обуглившийся торс, к которому были приставлены: шейная часть позвоночного столба с основанием черепа, верхние части обоих бедер, нижняя часть сустава правого бедра и части рук. Кроме того, при трупе была часть мозга с кулак величиной. Верхняя часть головы отсутствовала, поэтому волос обнаружить не удалось» (Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М., 1974. С. 223). И все же опытный криминалист определил, что перед ним – останки хрупкого, высокого человека, никак не похожего на приземистого и широкоплечего Тецнера. «В сохранившемся суставе левого плеча был обнаружен остаток хрящевого ремешка. Его наличие доказывало, что погибшему – менее двадцати лет, так как к двадцати годам, самое позднее к двадцати трем, он исчезает» (Там же). Тецнеру же было 26 лет. К тому же в полости рта, в гортани и в сохранившейся части трахеи не было обнаружено ни сажи, ни копоти. Это наводило на мысль о том, что несчастный был сначала задушен, а уж потом сожжен.]
(обратно)16
Руль. 1931. 19 марта (№ 3135). С. 3.
(обратно)17
Охотники за людьми // Руль. 1931. 25 марта (№ 3140). С. 3. См. также: Руль. 1931. 26 марта (№ 3141). С. 1; Сегодня. 1931. 26 марта. С. 3.
(обратно)18
[Об этом см. заметку: Сафран осужден (Руль. 1931. 27 марта (№ 3142). С. 1), а также статью с неуместно ироничным заглавием «Еще один «живой труп» перед присяжными» (Сегодня. 1931. 26 марта. С. 3), где, кстати, рассказывалось еще о двух последователях Тецнера – мелком торговце Шмидте (опять Шмидт!) и его двадцатишестилетнем сыне. Оба обвинялись в «совершении покушения на жизнь одного служащего в продовольственной торговле в Мюльгаузе, окончившемся, к счастью, неудачно. Злоумышленники установили, что этот служащий регулярно перевозит крупные денежные суммы, и напали на него <…>. Ему удалось, однако, убежать. На допросе Шмидты сознались, что они намеревались убить свою жертву, а труп сжечь в автомобиле, подобно тому как это сделал Тецнер». Помимо описанных криминальных происшествий на формирование замысла «Отчаяния» могло повлиять событие из жизни самого Набокова: в июле 1926 года он принял участие в шуточном литературном суде над «Крейцеровой сонатой» Л.Н. Толстого, с блеском сыграв роль Позднышева, оправдывающего свое преступление. (См.: Руль. 1926. 18 июня.)]
(обратно)19
Небольшое добавление: март 1931 года – время, когда орудовала команда Сафрана. Тецнер же совершил свои злодеяния в ноябре 1929–го, а арестован был 4 декабря этого же года. Впрочем, газеты заголосили о его преступлении именно в марте 1931 года, когда после долгого следствия (во время которого Тецнер давал путаные и противоречивые показания) 17-го числа в Регенсбурге начался судебный процесс против супругов Тецнер.
(обратно)20
Вoyd B. Op. cit. P. 383.
(обратно)21
«Нам “Отчаяние” не могло нравиться, – читаем в мемуарах эмигрантского писателя Василия Яновского. – Мы тогда не любили “выдумок”. Мы думали, что литература слишком серьезное дело, чтобы позволять сочинителям ею заниматься. Когда Сирин на вечере (в зале Лас Каз) читал первые главы “Отчаяния” <…>, мы едва могли удержаться от смеха…» (Яновский B.С. Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 255).
(обратно)22
См.: Boyd B. Op. cit. P. 383.
(обратно)23
К сожалению, даже такой вдумчивый и проницательный критик, как Георгий Адамович, высказавший немало верных мыслей относительно набоковского творчества, не избежал соблазна и в рецензии на журнальную публикацию «Отчаяния» близоруко отождествил автора и героя-повествователя: «Мне именно потому “Отчаяние” и представляется вершиной сиринских писаний, что в нем Сирин становится наконец самим собой, то есть человеком, полностью живущим в каком-то диком и странном мире одинокого, замкнутого воображения, без выхода куда бы то ни было, без связи с чем бы то ни было» (Последние новости. 1934. 24 мая (№ 4809). С. 2).
(обратно)24
Ср. со следующей фразой автора «Других берегов», вспоминающего свои юношеские впечатления от вечернего неба, в котором медлит «грозный в своем великолепии закат»: «Я тогда еще не умел – как теперь отлично умею – справляться с такими небесами, переплавлять их в нечто такое, что можно отдать читателю, пускай он замирает…»
(обратно)25
SO. P. XI. В письмах Набоков тоже время от времени «поглаживал» себя, подобно своему самовлюбленному герою. Так, в одном из посланий к Эдмунду Уилсону он с трогательной самоуверенностью заявил о том, что Джозефу Конраду, с которым его сравнил Уилсон, далеко до его, набоковских, «словесных вершин» (NWL. P. 254).
(обратно)26
Любопытно: в своих атаках на Достоевского почтенный Владимир Владимирович повторил буквально все запретные приемы, которые использовались против него иными, не очень чистоплотными критиками: это и близорукое отождествление публичного имиджа писателя с его творческим «я», это и нелепая идентификация с протагонистами, следствием которой явились смехотворные выводы об извращенности, безнравственности самого художника, и комичные иски, предъявляемые за проделки его персонажей. Лучше всего об этом можно судить по «Лекциям о русской литературе» (1981), где бедного Федора Михайловича притягивают к ответу за пессимизм подпольного парадоксалиста и неблаговидные поступки Родиона Раскольникова.
(обратно)27
Струве Г. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 288. Точно так же расценили авторский образ набоковских воспоминаний и многие англоязычные критики. См., например: Enriht D.J. Nabokov’s Way // New York Review of books. 1966. November 3. P. 3–4; Werth A. [rec.: Speak, Memory] // London Magazine. 1967. August. P. 80–83.
(обратно)28
Вейдле В. Рец.: В. Сирин «Отчаяние» // Круг. 1936. № 1. С. 186. С ним был солидарен и Глеб Струве: «Основоположная тема Набокова, тесно связанная с его эгоцентризмом, – тема творчества <…>. Тема эта для Набокова – трагическая <…>, ибо она связана с темой неполноценности» (Струве Г. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 289).
(обратно)29
См.: Числа. 1930. № 1. С. 274.
(обратно)30
Об этом см.: Коростелев О., Федякин С. Полемика Г.В. Адамовича с В.Ф. Ходасевичем (1927–1937) // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 4. С. 204–250.
(обратно)31
См.: Терапиано Ю. Об одной литературной войне // Мосты. 1966. № 12. С. 363–375.
(обратно)32
Цит. по: Шаховская 3. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 23.
(обратно)33
Иванов Г. Рец.: В. Сирин «Машенька». «Король, дама, валет». «Защита Лужина». «Возвращение Чорба» // Числа. 1930. № 1. С. 234.
(обратно)34
Там же. С. 235.
(обратно)35
Кондратьев А. [Иванов Г.] К юбилею В.Ф. Ходасевича. Привет читателя // Числа. 1930. № 2–3. С. 313. См. также: Иванов Г. В защиту Ходасевича // Последние новости. 1928. 3 марта (№ 2542). С. 3.
(обратно)36
Адамович Г. Рец.: «Современные записки», кн. 40 // Последние новости. 1929. 31 октября (№ 3144). С. 2.
(обратно)37
О том, что редакция «Чисел» «запятнала» свой первый номер статьей Иванова, писал не только верный литературный союзник Набокова Владислав Ходасевич (Возрождение. 1930. 27 марта. С. 3), но и далекий от симпатий к В. Сирину Константин Зайцев: «Статья Г. Иванова в такой мере груба, что, конечно, может служить материалом лишь для оценки ее автора, а отнюдь не того писателя, которому она посвящена. Статья настолько непристойна, что возникает не только вопрос о том, в какой мере допустимо для людей, не считающих себя свободными от подчинения элементарным принципам литературной этики, молчаливое соседство с подобными писаниями. Такие явления, как рецензия Г. Иванова, требуют и отповеди, и протеста» (Россия и славянство. 1930. 5 апреля. С. 3).
(обратно)38
Антон Крайний [Гиппиус 3.] Литературные размышления // Числа. № 2. С. 149.
(обратно)39
Там же. С. 148.
(обратно)40
Там же. С. 149.
(обратно)41
Иванов Г. Без читателя // Числа. 1931. № 5. С. 152.
(обратно)42
См.: Яновский В. Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 120.
(обратно)43
Варшавский В. Рец.: В. Сирин «Подвиг» // Числа. 1933. № 7–8. С. 266.
(обратно)44
Новый трепет (фр.).
(обратно)45
Там же. С. 267. Справедливости ради надо заметить, что позже сам Набоков не слишком лестно отзывался о «Подвиге». Так, в одном из писем к американскому литературоведу и критику Эдмунду Уилсону он признавался (заранее извиняюсь за эту цитату): «Я написал его [“Подвиг”] двадцать лет назад, а ты знаешь это чувство, которое охватывает при виде собственной блевотины» (NWL. P. 46).
(обратно)46
Терапиано Ю. Рец.: В. Сирин «Камера обскура» // Числа.1934. № 10. С. 287–288.
(обратно)47
См.: SL. P. 517–519.
(обратно)48
Об этом см.: Шаховская 3. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 36–38.
(обратно)49
См.: Набоков В. Символы Роу // Звезда. 1995. № 2. С. 113–115.
(обратно)50
Сирин В. Рец.: «Современные записки». XXXVII // Руль. 1929. 30 января (№ 2486). С. 2.
(обратно)51
Сирин В. Рец.: «Литературный смотр». Свободный сборник // Современные записки. 1940. № 70. С. 284.
(обратно)52
Сирин В. Рец.: Б. Поплавский «Флаги» // Руль. 1931. 11 марта (№ 3128). С. 5. Этими же причинами набоковский биограф Эндрю Филд объяснял стойкое неприятие Набоковым лирики одного из самых ярких представителей «парижской ноты» Анатолия Штейгера. «Его талант был сильно преувеличен, – утверждал Набоков в беседе с Филдом. – Он был весьма посредственным поэтом. Весьма посредственным. С очень ограниченным дарованием и очень ограниченной эмоциональной жизнью. Приятный человек. Обаятельный человек. Хорошо воспитанный человек. И это всё» (Field A. The Life and Art of Vladimir Nabokov. London, 1986. P. 183).
(обратно)53
Nabokov V. Speak, Memory. N.Y., 1966. P. 287.
(обратно)54
См.: SL. P. 37.
(обратно)55
См.: Сирин В. «Волк, волк!» // Наш век. 1932. 31 января.
(обратно)56
См.: Адамович Г. Рец.: «Современные записки», кн. 69 // Последние новости. Париж. 1939. 17 августа (№ 6716). С. 3.
(обратно)57
Как тут не вспомнить отзыв Г. Адамовича на один из стихотворных сборников его ученицы, поэтессы Лидии Червинской, в котором «тонкий, подчас блестящий литературный критик» недвусмысленно заявил о том, что «она вообще – прямая и едва ли не единственная преемница Ахматовой в нашей литературе» (Адамович Г. Рец.: Л. Червинская «Рассветы» // Последние новости. 1937. 17 июня (№ 5927). С. 3).
(обратно)58
Адамович Г. Рец.: А. Буров «Была земля» // Числа. 1933. № 7–8. С. 272.
(обратно)59
После того как скандал получил огласку, отношения между Буровым и Г. Ивановым испортились настолько, что «Жорж» вызвал автора «Была земля» на дуэль, от которой тот робко уклонился – судя по письму Иванова в редакцию «Последних новостей», в котором он пояснял «обстоятельства дела». Ради полноты картины, ради драгоценных – на первый взгляд незначительных – подробностей, которые и придают живую прелесть любому рассказу (даже облеченному в заскорузлую форму суховатой литературоведческой статьи), я позволю себе роскошь и процитирую бόльшую часть этого любопытного послания: «…25 февраля между мной и г. Буровым, действительно, произошло столкновение. Обстоятельства последнего были, однако, таковы, что оснований считать себя оскорбленной стороной я отнюдь не имел. Три дня спустя до сведения моего дошло, что г. Буров рассылает различным лицам листки, где изображает происшедшее в извращенном и оскорбительном для меня виде. Осведомившись об этом, я немедленно обратился к капитану Е.Е. Александрову и поручику Д.К. Моэну с просьбой быть моими секундантами и передать г. Бурову мой вызов, капитан Александров и поручик Моэн <…> приступили к исполнению моего поручения 1 марта. Однако, несмотря на частые посещения г. Бурова и неоднократные телефонные звонки к нему, секундантам моим в течение 17 дней никак не удавалось застать г. Бурова дома. Только 18-го, проявив крайнюю настойчивость, им удалось наконец передать мой вызов, от принятия которого г. Буров категорически отказался» (Последние новости. 1932. 22 марта).
[В ином свете скандальную историю представлял Буров. В своих «листках» он, как и следовало ожидать, выставлял себя бесшабашным смельчаком и бретёром, а противника – жалким трусом: «25 февраля с. г., в 11 час. 5 минут утра, в отличной зале бюро “Кук’а”, что против Grand Opéra, один господин, именующий себя поэтом, Георгий Иванов, за неоднократно проявленное им трусливо-провокационное озорство (за спиной, мол, безопасно) и – за грубый тон в этот самый вышеозначенный день и час получил от меня, волею Божьей, в присутствии живых еще свидетелей, два раза, слева направо и справа налево, два внушительных удара по лицу, отчего и шляпа его как-то боком и так жалостливо покатилась по полу. А сам он, этот “муж”, только благодаря вмешательству шикарной публики и свидетелей, счастливо избежал еще и “кнокэутвоя”. Дама одна подхватила его, несчастного, и потащила его вон из зала на улицу. Я оставался еще минут 20 ожидать… городового и – протокола. Напрасны были эти ожидания, мои – и свидетелей. <…> буде он, ге Иванов, не струсит и секундантов своих все же пошлет, приму я вызов, но соглашусь я только на ВОЛЬНУЮ БОРЬБУ, и не “у опушки леса” (чести много), а только в центре Парижа, между Place de la Concorde и Etoile, – так как я, стыдно сознаться, ни пушки, ни берданки в руках моих еще не держал. Он же, ге Иванов, как природный трус, вообще всякого огня боится, – не боится он только храбро работать за спиной. А потому только ВОЛЬНАЯ БОРЬБА для него и честь, и – реабилитация» (цит. по: Шумихин С.В. «Чудак, дурак, писатель, богач» (Александр Буров и его корреспонденты) // Встречи с прошлым. М.: РОССПЭН, 2004. Вып. 10. С. 571).]
О столкновении Георгия Иванова с Буровым пишет в своей «книге памяти» и В.С. Яновский: «В связи со скандалом Иванов – Буров я был вовлечен в грязную склоку. Я тогда встречал Бурова и знал, где он по утрам гуляет в одиночестве. Когда последний в ответ на требования денег разослал всем циркулярное письмо касательно коммерческих операций Г. Иванова, Георгий Владимирович решил встретиться с ним и наградить его оплеухой. Но я отказался выдать доверенный мне секрет, то есть место его ежедневных прогулок. Это очень удивило наших честных молодых писателей, только Адамович заявил, что я совершенно прав» (Яновский В.С. Поля Елисейские. С. 121).
История эта, однако, имела интересное продолжение: после войны отношения между бывшими врагами неожиданно изменились. Во всяком случае, очередные опусы А. Бурова, сборник повестей и рассказов «Русь бессмертная» и роман «Бурелом» (Париж, 1957) с комичным подзаголовком «праведная книга для грядущих поколений», вышли с хвалебными предисловиями Иванова, что в равной степени может говорить и о беспринципности Иванова, и о той крайней степени бедности, которая отравляла последние годы жизни великого русского поэта. Георгий Иванов не только вновь стал использовать в качестве дойной коровы непотопляемого Бурова (так и не утолившего графоманский зуд), но и по-джентльменски рекомендовал его другим бедствовавшим литераторам. В письме к писательнице Софье Аничковой (Таубе) он выработал нечто вроде универсального пособия по обольщению немногочисленных меценатов русского Парижа:
«Дорогая София Ивановна,
Вот конспект, который советую Вам использовать, пиша Бурову. Я думаю, что результат будет быстрый и приятный. Масло кашу не портит, не жалейте похвал по его адресу: от Бунина до меня все мы делали это печатно, не то что в письме <…>
A. P. Bourov, 859
115, Olimpia
Amsterdam, Hollande
Глубокоуважаемый Александр Павлович, уж давно, больше года тому назад, мои старинные друзья – Ирина Одоевцева и Георгий Иванов – дали мне прочесть Вашу прекрасную книгу “Русь Бессмертная”. Я прочла ее с большим волнением. Не знаю другого писателя, который бы так проникновенно писал бы о русской Голгофе, русской доле, русской гордости-смирении. Скажу прямо – никто из современной литературы так искренно и так правдиво не писал об эмиграции и о России.
Г. Иванов, давая мне книгу, рассказал много о Вас как о человеке, о Вашей отзывчивости, Вашей чуткости, чисто русской широте Вашей души и доброте.
Теперь, находясь в очень трудных обстоятельствах, я вспомнила все это. Вспомнила и Бурова-писателя, и Бурова-человека… (Я такая-то – редактор таких-то журналов, автор – таких-то книг, пьеса моя такая-то шла тогда-то в Малом театре). Я сейчас больна, у меня нет средств. Если можете, помогите мне (нужны лекарства, усиленное питание – ничего этого нет). Независимо от этой просьбы благодарю Вас за наслаждение и духовную помощь, которую дала мне Ваша прекрасная книга» (цит. по: Новый журнал. 1996. № 203/204. C. 139–140).
(обратно)60
Nabokov V. A Russian Beauty and Other Stories. N.Y., 1973. P. 46. [Справедливости ради надо уточнить: в год выхода сборника «Весна в Фиальте» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956), где впервые был опубликован рассказ «Уста к устам», главные участники транзакции, послужившие Набокову прототипами его персонажей, были живы: А.П. Буров (Бурд) умер в 1957 году, Г.В. Иванов и Н.А. Оцуп – в 1958-м, Г.В. Адамович – в 1972-м.]
(обратно)61
Яновский В. Поля Елисейские. С. 254.
(обратно)62
Там же. С. 254–255.
(обратно)63
Берберова Н. Курсив мой. Нью-Йорк, 1983. С. 373.
(обратно)64
См.: SL. P. 288. См. также: NWL. P. 300; SO. P. 64.
(обратно)65
См.: Field A. Nabokov: His Life in Part. Penguin Books, 1978. P. 220; Давыдов С. Тексты-матрешки Владимира Набокова. Мюнхен, 1982. С. 39; Boyd B. Vladimir Nabokov. The Russian Years. Princeton, 1990. P. 350.
(обратно)66
Иванов Г. Рец.: «Современные записки», кн. ХХХIII // Последние новости. 1927. 15 декабря (№ 2458). С. 3.
[А. Долинин (Долинин А. Истинная жизнь писателя Сирина. СПб.: Академический проект, 2004. С. 13) выдает за антисиринский выпад финальный абзац ивановской статьи 1923 г. «Почтовый ящик»: «Хорошо было бы на досуге составить не L’art poétique – куда нам, – а нечто вроде письмовника или самоучителя танцев для поэтов, критиков и читателей. <…> Будь такое руководство, как знать, какую осанку и манеры приобрели бы многие наши знакомцы, пишущие стихи в “Руле” или рецензии в “Днях”». Правда, авторитетный специалист по набоковским контекстам, претекстам и подтекстам (явным и мнимым) не предъявляет каких-либо веских аргументов в подтверждение своего заявления: непонятно, почему под «знакомцами» имеется в виду малоизвестный на тот момент поэт Владимир Сирин (далеко не единственный автор «Руля», да и для «Дней» рецензий не писавший).]
(обратно)67
См.: Field A. The Life and Art of Vladimir Nabokov. London, 1986. P. 187.
(обратно)68
Поплавский Б. Вокруг «Чисел» // Числа. 1934. № 10. С. 209.
(обратно)69
Оцуп Н. Вместо ответа // Числа. 1931. № 4. С. 158.
(обратно)70
Сирин В. О Ходасевиче // Современные записки. 1939. № 69. С. 263.
(обратно)71
Там же. С. 262.
(обратно)72
Федотов Г.П. О смерти, культуре и «Числах» // Числа. 1930/1931. № 4. С. 147.
(обратно)73
Ходасевич В. Книги и люди. Жалость и «жалость» // Возрождение. 1935. 11 апреля (№ 3690). С. 3.
(обратно)74
Сирин В. Рец.: «Литературный смотр». Свободный сборник // Современные записки. 1940. № 70. С. 284.
(обратно)75
Цит. по: Континент. 1975. № 3. С. 260.
(обратно)76
Гуль Р. Георгий Иванов // Новый журнал. 1955. № 42. С. 126.
(обратно)77
Указ. изд. С. 115.
(обратно)78
Ср. с набоковским определением искусства, данным в эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие» (1937): «…хотелось бы думать: то, что у нас зовется искусством, в сущности, не что иное, как живописная правда жизни; нужно уметь ее улавливать, вот и все. Тогда жизнь становится занимательной, когда погружаешься в такое состояние духа, при котором самые простые вещи раскрываются перед нами в своем особенном блеске» (цит. по: Набоков В. Романы. Рассказы. Эссе. СПб.: Энтар, 1993. С. 237).
(обратно)79
Цит. по: Набоков о Набокове и прочем: интервью, рецензии, эссе / Редактор-составитель Н.Г. Мельников. М.: Издательство Независимая Газета, 2002. С. 155.
(обратно)80
Vladimir Nabokov: échec au réel, par Pierre Dommerges // Le Monde. 1967. Novembre 22 (Des Livre: Suppl. № 7110). P. IV.
(обратно)81
Набоков о Набокове… С. 254.
(обратно)82
Указ. изд. С. 309.
(обратно)83
Там же. С. 154. [Нельзя не отметить, что из продукции современных ему писателей-детективщиков Набоков выделял книги Дороти Сэйерс. В письме от 11 октября 1944 года Эдмунду Уилсону, лютому ненавистнику детективов, Набоков, в целом соглашаясь с пафосом его статьи «Почему люди читают детективы?», заметил: «Твоя статья о детективах мне очень понравилась. Разумеется, Агату [Кристи] читать невозможно – но вот Сэйерс, которую ты не назвал, пишет хорошо». Цит. по: Иностранная литература. 2010. № 1. С. 126.]
(обратно)84
Николаев Д.Д. Детектив // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 221.
(обратно)85
Ср. с высказыванием корифея детективной литературы Г.К. Честертона: «Детектив – всего лишь игра, и в этой игре читатель борется не столько с преступником, сколько с самим автором» (Честертон Г.К. Писатель в газете. М.: Прогресс, 1984. С. 304).
(обратно)86
Берберова Н. Набоков и его «Лолита» // Новый журнал. 1957. № 57. С. 93.
(обратно)87
Nabokov V. The Eye. N.Y., 1965. P. 9.
(обратно)88
Здесь и далее набоковский роман цитируется в переводе А.Б. Горянина и М.Б. Мейлаха: Набоков В.В. Романы. М.: Художественная литература, 1991.
(обратно)89
Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы. Биография / Пер. с англ. М.: Издательство Независимая Газета; СПб.: Симпозиум, 2001. С. 579.
(обратно)90
Stuart D. Nabokov: The Dimensions of Parody. Baton Rouge & London, 1978. P. 12. Заметим, что в своем разборе набоковского романа, американский литературовед излишне увлекся поиском перекличек и аналогий между повествованием В. и книгами Себастьяна Найта и, пустившись во все тяжкие, с нездоровым азартом принялся отождествлять буквально всех персонажей друг с другом: Зильберманна – с Найтом и, соответственно, с повествователем, Нину Речную – с Наташей Розановой и т.п.
(обратно)91
Stuart D. Op. cit. P. 23, 24.
(обратно)92
Цит. по: Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы. С. 553.
(обратно)93
Там же. С. 579.
(обратно)94
Трошин А.С. Кинематограф на страницах «Лолиты» // Киноведческие записки. 1993. № 20. С. 212.
(обратно)95
Cawelty J.G. Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture. Chicago & London, 1976. P. 137.
(обратно)96
Набоков о Набокове… С. 118.
(обратно)97
Там же. С. 444–445.
(обратно)98
Цит. по: Набоков В.В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 1999–2000. Т. 4. С. 366.
(обратно)99
Цит. по: Набоков В. Лолита. М.: Художественная литература, 1991. С. 341–342.
(обратно)100
Цит. по: Грациа Э. де. Девушки оголяют колени везде и повсюду. Закон о непристойности и подавление творческого гения. (Главы из книги) // Иностранная литература. 1993. № 3. С. 199.
(обратно)101
Там же.
(обратно)102
Письмо Р. Страуса М. Маккарти от 15 ноября 1954 года цит. по: Kiernan F. Seeing Mary Plain. A Life of Mary McCarthy. N.Y.; L.: W.W. Norton & Company. P. 379.
(обратно)103
Грациа Э. де. Цит. соч. С. 206.
(обратно)104
SL. P. 175.
(обратно)105
Успех скандала (фр.).
(обратно)106
Green G. Books of the Year 1 // Sunday Times. 1955. December 25. P. 4.
(обратно)107
Gordon J. Current events // Sunday Express. 1956. January 29. P. 16.
(обратно)108
Spectator. 1956. № 6659 (February 10). P. 182.
(обратно)109
Цит. по: Набоков о Набокове и прочем: интервью, рецензии, эссе / Ред.-сост. Н.Г. Мельников. М.: Издательство Независимая Газета, 2002. С. 227.
(обратно)110
Prescott O. Book of the Time // New York Times. 1958. August 18. P. 17.
(обратно)111
Toynbee P. In love with language // Observer. 1959. November 8. P. 22.
(обратно)112
Brenner C. Nabokov. The Art of the Perverse // New Republic. 1958. Vol. 138. June 23. P. 21.
(обратно)113
Times. 1959. January 23. P. 11.
(обратно)114
Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набоков) / Пер. с англ. О. Кириченко. М.: Издательство Независимая Газета, 2002. С. 344–345.
(обратно)115
Слоним М. «Лолита» В. Набокова // Новое русское слово. 1958. 19 октября. С. 8.
(обратно)116
Деникина К. О книге В. Набокова «Лолита» и Марке Слониме // Новое русское слово. 1958. 4 ноября. С. 4.
(обратно)117
Александров Г. Грустные размышления // Новое русское слово. 1958. 23 ноября. С. 8.
(обратно)118
Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 98.
(обратно)119
Простой и явной (фр.).
(обратно)120
Цит. по: Мельников Н. Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках современников. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 83.
(обратно)121
Цит. по: «Я с Вами привык к переписке идеологической…»: Письма Г.В. Адамовича В.С. Варшавскому (1951–1972) / Предисловие, подготовка текста и комментарии О.А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. М., 2010. С. 320.
(обратно)122
Цит. по: Империя N. Набоков и наследники: Сборник статей / Ред.-сост. Ю. Левинг, Е. Сошкин. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 13.
(обратно)123
Чаплыгин Ю. Чары Лолиты // Литература и жизнь. 1959. 5 апреля (№ 41). С. 3.
(обратно)124
Литература и жизнь. 1959. 11 сентября (№ 109). С. 3.
(обратно)125
ТамИздат: 100 избранных книг / [Сост., вступ. ст. М.В. Сеславинского]. М.: Русский путь, 2012. Вкладыш между С. 326 и 327.
(обратно)126
Лем С. Лолита, или Ставрогин и Беатриче. Цит. по: Классик без ретуши. С. 324.
(обратно)127
Варгас Льоса М. Правда в вымыслах. «Лолита» // Иностранная литература. 1997. № 5. С. 225.
(обратно)128
Лем С. Цит. соч. С. 333.
(обратно)129
Варгас Льоса М. Цит. соч. С. 224.
(обратно)130
Boyd B. Vladimir Nabokov. The American Years. L.: Vintage, 1993. P. 510.
(обратно)131
SO. P. 91.
(обратно)132
SL. P. 441.
(обратно)133
Publishers Weekly. 1969. Vol. 195. № 12 (March 24). P.52; The Literary Guild Magazine. 1969. Spring.
(обратно)134
SL. P. 442.
(обратно)135
Leonard Jh. The Nobel-est Writer of Them All // The New York Times. 1969. May 1. P. 49.
(обратно)136
Appel A. Rec.: Nabokov V. Ada, or Ardor // New York Times Book Review. 1969. May 4. P. 1.
(обратно)137
Sokolov R.A. The Nabokovian Universe // Newsweek. 1969. Vol. 73. № 18 (May 5). P. 57–58.
(обратно)138
Kazin A. In The Mind of Nabokov // Saturday Review. 1969. Vol. 52. № 19 (May 10). P. 30.
(обратно)139
Dickstein M. Nabokov’s Folly // The New Republic. 1969. Vol. 160. № 26 (June 28). P. 27.
(обратно)140
The Garland Companion to Vladimir Nabokov / Ed. By V. E. Alexandrov. N.Y., 1995. P. 4.
(обратно)141
Brendon P. Nabokov’s Shake // Books and bookmen. 1969. Vol. 15. № 3. P. 35.
(обратно)142
Shorter K. Harrowing of Hell // The New Leader. 1969. Vol. 52. № 11. P. 22.
(обратно)143
Dickstein M. Op. cit. P. 27.
(обратно)144
Toynbee Ph. Too much of a good thing // The Observer. 1969. October 5. P. 34.
(обратно)145
Dickstein M. Op. cit. P. 28.
(обратно)146
Tindall G. King Leer // New Statesmen. 1969. Vol. 78. October 3. P. 461.
(обратно)147
McCarthy M. Exiles, Expatriates and Internal Emigres // The Listener. 1971. Vol. 86. № 2226 (November 25). P. 707–708.
(обратно)148
Clancy L. The Novels of Vladimir Nabokov. L., 1984. P. 155, 140.
(обратно)149
См., например: McHale B. Change of Dominant from Modernist to Postmodernist Writing // Approaching Postmodernism / Ed. by D. Fokkema and H. Bertens. Amsterdam, 1986. P. 68–70.
(обратно)150
Rampton D. Vladimir Nabokov: A Critical Studies of the Novels. Cambridge University Press, 1984. P. 134.
(обратно)151
Эко У. Имя Розы. М., 1989. С. 460.
(обратно)152
Amis K. She Was a Child and I Was a Child // Spectator. 1959. № 6854 (November 6). Р. 635–636.
(обратно)153
Amis K. Russian Salad // Spectator. 1957. № 6744 (September 27). P. 403.
(обратно)154
Amis K. More or less familiar // Observer. 1960. June 5. P. 18.
(обратно)155
[Примечательно, что даже Б. Бойд, полжизни посвятивший изучению, истолкованию, прославлению и комментированию «Ады», оказался не в состоянии правильно расшифровать анаграмму и определить прототипа Сига Лимэнски – несмотря на подсказку автора, данную в «Примечаниях Вивиана Даркблоома» к «пингвиновскому» изданию романа: «Сиг Лимэнски – анаграмма имени одного британского шутника-романиста, живейше интересующегося фантастикой» (цит. по: Набоков В. Ада, или Эротиада / Пер. О. Кириченко. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 1999. С. 553). Напомню: Кингсли Эмис не только читал курсы по научной фантастике в различных университетах, но и выпускал серию ежегодников «Спектрум», своего рода антологию, где были представлены лучшие, на его вкус, образчики этого вида литературы, а в 1962 году опубликовал книгу «Новые карты Ада», посвященную научной фантастике. Утверждая, что интересующий нас персонаж «назван так в честь последнего доктора Аквы», Бойд бездумно повторяет заявление не вполне надежного повествователя и упускает из виду, что автор романа замуровал в анаграмме имя своего реального литературного недруга. Впрочем, бойдовский переводчик и вовсе разрушает анаграмму, механически передавая Sig Leymanski как «Сиг Лэймански» (см.: Бойд Б. «Ада» Набокова: место сознания. СПб.: Симпозиум, 2012. С. 319).]
(обратно)156
Набоков В.В. Ада, или Эротиада / Пер. О. Кириченко. М.: АСТ, Харьков: Фолио, 1999. С. 5–12.
(обратно)157
Литературное обозрение. 1997. № 2. С. 84–87.
(обратно)158
Набоков В.В. Ада, или Страсть. Хроника одной семьи / Пер. О. Кириченко, А. Гиривенко, А. Дранова. Киев, Атика; Кишинев, Кони-Велес, 1995.
(обратно)159
Еще раньше под видом «пятого» тома «огоньковского» собрания сочинений была переиздана «Лолита»: не только без каких-либо комментариев, но даже без «Предисловия Джона Рэя».
(обратно)160
Набоков В.В. Ада, или Радости страсти. М.: Ди-Дик, 1996.
(обратно)161
Набоков В.В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 1997. С. 644.
(обратно)162
Набоков В.В. Лекции о «Дон Кихоте». М.: Издательство Независимая Газета, 2002.
(обратно)163
Набоков В. Полное собрание рассказов / Сост. А. Бабиков. СПб.: Азбука, Азбука–Аттикус, 2013.
(обратно)164
Новая газета. 2008. 20 июня (№ 22–23).
(обратно)165
«Действие Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений не распространяется на произведения, которые на дату вступления этой Конвенции в силу для Российской Федерации уже являются на ее территории общественным достоянием». Эта поправка была отозвана только в 2012 году.
(обратно)166
Адамович Г. Рец.: «Современные записки», кн. 43. Часть литературная // Последние новости. 1930. 15 мая (№ 3340). С. 3.
(обратно)167
См.: Классик без ретуши. С. 105–107.
(обратно)168
Балакшин П. Рец.: «Современные записки», кн. 61. Париж, 1936 // Земля Колумба (Сан-Франциско). 1936. Кн. 2. С. 123.
(обратно)169
Цит. по: Классик без ретуши. С. 50–51.
(обратно)170
Bryer J., Bergin T. Cheklist: Essays in Periodicals. In: Nabokov: The Man and His Work / Studies edited by L.S. Dembo. Madison; Milwaukee and London: The University of Wisconsin press, 1967. P. 231–276.
(обратно)171
Wilson A. Nabokov’s Basement // Spectator. 1959. № 6821 (March 20). P. 412.
(обратно)172
Цит. по: «Хороший писатель – это в первую очередь волшебник…» Из переписки Владимира Набокова и Эдмунда Уилсона / Сост. и пер. с англ. А. Ливерганта. Вступ. статья и коммент. Н. Мельникова // Иностранная литература. 2010. № 1. С. 105.
(обратно)173
Parker S.J. Vladimir Nabokov and the Short Story // Russian Literature Triquatery. 1991. № 24. P. 68.
(обратно)174
Op. cit. P. 69.
(обратно)175
Г.Х. <Герман Хохлов> Рец.: Возвращение Чорба. Берлин: Слово, 1930. Цит. по: Классик без ретуши. С. 48.
(обратно)176
Цит. по: Набоков В. Романы. М.: Художественная литература, 1991. С 160.
(обратно)177
Указ. изд. С. 162.
(обратно)178
Указ. изд. С. 169.
(обратно)179
И совершенно неубедительно выглядят доводы в пользу подобных лексических «изысков» и бездумной архаизации набоковского словаря, которые приводят переводчик и его редкие сторонники – из тех, что пытались составить себе символический капиталец, участвуя в позорной кампании по раскрутке ненаписанного романа, черновики которого смертельно больной писатель в категорической форме велел уничтожить. Можно ли, скажем, подменять вполне нейтральное «barely» заскорузлым архаизмом «невступно» на том основании, что в 1926 году Набоков, исполнивший роль Позднышева во время шуточного суда над героем «Крейцеровой сонаты», задействовал его в защитной речи? Какая связь между стилизацией речевой манеры человека 1880-х годов и авторской речью второй половины 1970-х? И разве набоковский словарь навсегда закостенел в начале 1920-х и не менялся со временем? Достаточно почитать набоковские письма 1950–1970-х годов русскоязычным корреспондентам (например, Роману Гринбергу и Глебу Струве), чтобы убедиться в том, что под старость писатель вовсе не превратился в адмирала Шишкова.
(обратно)180
Барабтарло Г. «Лаура» и ее перевод // Набоков В. Лаура и ее оригинал. СПб.: Азбука, 2010. С. 178.
(обратно)181
Здесь и далее оригиналы набоковских рассказов цитируются по изданию: The Stories of Vladimir Nabokov. London: Weidenfeld & Nicolson, 1995.
(обратно)182
Впрочем, с жанровыми обозначениями плохо не только у американского профессора литературы, но и у автора примечаний № 3, считающего жанром «научную фантастику» (С. 728). Мы-то с вами знаем, что научная фантастика (как и детектив) – это вид литературы, который может реализоваться в различных жанрах повествовательной прозы: рассказах, повестях и романах.
(обратно)183
Другие переводчики сумели избежать неуклюжего спаривания союза «что». Привожу вариант Д. Чекалова: «…и по мере нашего бегства, становилось ясней, что сила, распоряжающаяся нами, – нечто большее…» (цит. по: Набоков В. Со дна коробки. М.: Издательство Независимая газета, 2001. С. 49).
(обратно)184
SL. P. 358.
(обратно)185
Кролик, зайка, детка, лапка (англ.).
(обратно)186
[В рецензии на первое издание набоковско-уилсоновской переписки Глеб Струве, хорошо знавший обоих корреспондентов (четвертая жена Уилсона приходилась ему троюродной сестрой), передает «Dear Bunny» как «Дорогой Зайчик» (Струве Г. Владимир Набоков и Эдмунд Уилсон // Новое русское слово. 1980. 17 февраля. С. 5).]
Вопреки утверждениям комментаторов к подборке из шестнадцати писем Набокова Уилсону (Звезда. 1996. № 4. С. 127), данное матерью прозвище не имело ни малейшего отношения к Братцу Кролику из «Сказок дядюшки Римуса» американского писателя Джоэля Чендлера Харриса. Как пишет в своей мемуарной книге «Прелюдия» сам Эдмунд Уилсон, когда он, будучи уже взрослым человеком, спросил мать, откуда она взяла это странное прозвище, та ответила, что обращалась к нему как к младенцу, потому что он (пухлый карапуз с карими глазками) напоминал ей булочку с изюмом, «looked just like a plum-bun» (Wilson E. A Prelude: Landscapes, Characters, and Conversations from the Earlier Years of My Life. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1967. P. 43). [Частичное созвучие «plum-bun – Bunny», смутные звуковые и зрительные ассоциации, зароившиеся в голове мадам Уилсон, по всей видимости, и породили комичную эпиклесу.]
(обратно)187
Эпстайн Д. Крупнейший деятель американской литературы // Америка. 1967. № 127. С. 46.
(обратно)188
Эпстайн Д. Цит. соч. С. 67.
(обратно)189
Бойд Б. Владимир Набоков: американские годы. М.: Издательство Независимая газета; СПб.: Симпозиум, 2004. С. 26.
(обратно)190
Цит. по: Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 23.
(обратно)191
Еще одним достойным упоминания эпизодом стала встреча с советским поэтом и драматургом Сергеем Третьяковым, по просьбе которого Уилсон напишет статью о Хемингуэе. Она будет опубликована в двух вариантах: по-английски в леволиберальном журнале «Нью рипаблик», с которым Уилсон активно сотрудничал в тридцатые годы (New Republic. 1935. Vol. 85. December 11. P. 135–136), и по-русски – в «Интернациональной литературе» (1936. № 2. С. 151–154), предшественнике «Иностранной литературы». Вплоть до публикации двух рецензий на произведения Набокова в антологии «Классик без ретуши» (2000) это была единственная публикация Уилсона на русском языке.
(обратно)192
The Papers of Christian Gauss. N.Y., 1957. P. 331.
(обратно)193
New Republic. 1941. Vol. 104. April 21. P. 559–564.
(обратно)194
Doubts and Dreams // New Yorker. 1944. Vol.20. April 1. P. 78.
(обратно)195
Об этом пишет биограф Уилсона Джеффри Мейерс. См.: Meyers J. Edmund Wilson. A Biography. Boston; N.Y.: Houghton Miffin Company, 1995. P. 247.
(обратно)196
Wilson E. Letters on literature and politics, 1912–1972. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1977. P. 409–410.
(обратно)197
Не случайно он негативно отозвался о публицистической книге «Возвращение из СССР» Андре Жида, чей разоблачительный пафос объяснял типичной для писателя «извращенностью и злобой» (Nation. 1937. Vol. 145. November 13. P. 531).
(обратно)198
Цит. по: Звезда. 1996. № 4. С. 114.
(обратно)199
NWL. P. 40. По остроумному замечанию Саймона Карлинского, уилсоновская аргументация равнозначна тому, как если бы историк христианства утверждал, что его суждения базируются на проверенных фактах, поскольку все сведения получены прямо из Ватикана (Ibid. P. 15).
(обратно)200
Парамонов Б. Набоков в Америке // Звезда. 1996. № 11. С. 233.
(обратно)201
Набоков не делал секрета из своего эгоцентризма. «Колоритнейшая фигура, такой же эгоцентрик, как я» – так в письме Уилсону от 24 ноября 1942 года охарактеризовал он одного американского профессора (цит. по: Звезда. 1996. № 4. С. 118).
(обратно)202
Характеристика, данная Набокову Исайей Берлином в одном из писем Эдмунду Уилсону. Цит. по: Мельников Н. «Я не понимаю, из чего сотворен его мир…» Владимир Набоков в письмах и дневниках современников // Иностранная литература. 2009. № 4. С. 236.
(обратно)203
NWL. P. 56.
(обратно)204
Op. cit. P. 58.
(обратно)205
Цит. по: «Дребезжание моих ржавых струн…» Из переписки Владимира и Веры Набоковых и Романа Гринберга (1940–1967) / Публ. Р. Янгирова // In memoriam: исторический сборник памяти А.И. Добкина. СПб.; Париж: Феникс–Atheneum, 2000. С. 379. Еще до разрыва, в ходе переписки с представителями издательства «Боллинген-пресс», Набоков (в письме от 27 августа 1964 г.) возражал против того, чтобы Уилсон выступил в качестве рецензента «Евгения Онегина», поскольку «его русский – примитивен, а знание русской литературы поверхностно и нелепо» (SL. P. 358).
(обратно)206
NWL. P. 306.
(обратно)207
Примечательно, что Уилсон был в некотором роде повитухой «Лолиты»: в июне 1948 г. он прислал Набокову парижское издание «Этюдов сексуальной психологии» Хэвлока Эллиса, где в качестве приложения была опубликована исповедь педофила, которая, скорее всего, была учтена при написании будущего бестселлера.
(обратно)208
Doctor Life and His Guardian Angel // The New Yorker. 1959. November 18. P. 213–38.
(обратно)209
Author of «Lolita» Scoffs At Furore Over His Novel // Niagara Fall Gazzette. 1959. January 11. P. 10-B.
(обратно)210
Из письма Роману Гринбергу от 21 сентября 1958 года. Цит. по: Друзья, бабочки и монстры. Из переписки Владимира и Веры Набоковых с Романом Гринбергом (1943–1967) / Публ. Р. Янгирова // Диаспора: новые материалы. Париж; СПб., 2001. С. 524.
(обратно)211
Гершон Свет. Встреча с автором «Лолиты» // Новое русское слово. 1961. 5 февраля. С. 8.
(обратно)212
Wilson W. The Strange Case of Pushkin and Nabokov // New York Review of Books. 1965. July 15. P. 3–6; русский перевод см.: Классик без ретуши. С. 387–392.
(обратно)213
New York Review of Books. 1965. August 26. P. 25–26.
(обратно)214
Бойд Б. Владимир Набоков: американские годы. С. 29.
(обратно)215
Бойд Б. Цит. соч. С. 594.
(обратно)216
Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж; М.: YMCA-Press; Русский путь, 1996. С. 288.
(обратно)217
Бойд Б. Цит. соч. С. 594.
(обратно)218
Gerschenkron A. A Manufactured Monument? // Modern Philology. 1966. May. P. 336–347. Русский перевод см.: Классик без ретуши. С. 396–416.
(обратно)219
Из письма Р. Гринбергу от 18 февраля 1967 года. Цит. по: Друзья, бабочки и монстры… // Диаспора. С.551.
(обратно)220
Old Magician At Home // New York Times Book Review. 1972. January 9. P. 2.
(обратно)221
Из интервью журналу «Лайф». Цит. по: Набоков о Набокове. С. 163.
(обратно)222
SL. P. 378.
(обратно)223
Цит. по: Иностранная литература. 2010. № 1. С. 219–220.
(обратно)224
New York Times Book Review. 1971. November 7. P. 49.
(обратно)225
The Nabokov-Wilson Letters / Ed. by Simon Karlinsky. N.Y.: Harper & Row, 1979.
(обратно)226
Rowse A.L. Two Literary Cats // Books and Bookmen. 1980. Vol. 25. № 5. P. 14.
(обратно)227
Edel L. Rec.: The Nabokov-Wilson Letters / Ed. by Simon Karlinsky. N.Y.: Harper & Row, 1979 // New Republic. 1979. May 26. P. 35.
(обратно)228
Шмеман А. Дневники 1973–1983. М.: Русский путь, 2007. С. 462.
(обратно)229
Нива Ж. Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе. М.: Высшая школа, 1999. С. 300.
(обратно)230
Опыты. 1957. № 8. С. 45.
(обратно)231
Boyd B. Vladimir Nabokov. The American Years. L.: Vintage, 1993. P. 602.
(обратно)232
См.: Набоков В.В. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. М.: Книга, 1989. С. 337–405; Литературное обозрение. 1989. № 3. С. 96–108.
(обратно)233
Уайльд О. Избранные произведения: В 2 т. М.: Республика, 1993. Т. 2. С. 290.
(обратно)234
Уайльд О. Указ. изд. С. 305.
(обратно)235
С советской литературой у Набокова были особые счеты. Одной из первых статей, написанных Набоковым по заказу Уилсона, был обзор советской литературы за 1940 год. (Поскольку неуживчивый Банни в скором времени перестал вести литературно-критический отдел «Нью рипаблик», Набоков предназначал обзор для журнала «Дисижн», возглавлявшегося немецким писателем Клаусом Манном, сыном Томаса Манна.) Судя по признанию, сделанному в письме Эдмунду Уилсону от 5 марта 1941 года, статья давалась Набокову очень тяжело: «С моей статьей о советской литературе 1940 года вышла заминка. Я написал обозрение последних выпусков “Красной нови” и “Нового мира” для “Decision” и предполагал сделать разбор поэзии и романа для “New Republic”; но то, что я успел прочесть, так меня подкосило, что я не могу себя заставить двинуться дальше» (цит. по: Звезда. 1996. № 11. С. 114). В результате злополучный обзор так и остался не опубликованным при жизни писателя.
(обратно)236
Уайльд О. Указ. изд. С. 316, 317.
(обратно)237
Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 1998. С. 475.
(обратно)238
Набоков В.В. О книге, озаглавленной «Лолита». Цит. по: Набоков В.В. Лолита. М.: Художественная литература, 1990. С. 345.
(обратно)239
Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. С. 20.
(обратно)240
Фридман Э. Читая вместе с Набоковым. Цит. по: Классик без ретуши. С. 547.
(обратно)241
М[андельштам Ю.] Вечер В.В. Сирина и В.Ф. Ходасевича // Возрождение. 1936. 13 февраля. С. 4.
(обратно)242
Цит. по: Классик без ретуши. С. 202.
(обратно)243
Набоков В.В. О книге, озаглавленной «Лолита»… С. 347.
(обратно)244
Например, Кэтрин Уайт, редактор «Нью-Йоркера», где Набоков (благодаря рекомендации все того же Уилсона) стал публиковать первые англоязычные рассказы и стихотворения, считала набоковский английский слишком искусственным и «книжным», полностью заимствованным из Оксфордского толкового словаря. В апреле 1945 г., пропалывая рассказ «Double Talk» («Двойственная речь»), позже переименованный в «Conversation Piece, 1945» («Образчик разговора, 1945»), она отозвалась о нем как о «весьма затянутом и весьма плохо написанном, хотя и забавном и печальном произведении Набокова», который не позволяет ей «ничего исправлять, разве что одно-два слова, из боязни», что она «обратит все это в английский язык…» (цит. по: Шифф С. Вера. Миссис Владимир Набоков / Пер. О.М. Кириченко. М.: Издательство Независимая газета, 2002. С. 161–162).
(обратно)245
J[ack] P.M. Novelist’s Life // New York Times Book Review. 1942. January 11. P. 14.
(обратно)246
Nation. 1947. Vol. 164. June 14. P. 722.
(обратно)247
SL. P. 45.
(обратно)248
Ibid. P. 41.
(обратно)249
NWL. P. 69.
(обратно)250
Цит. по: «Дорогой и милый Одиссей». Переписка В.В. Набокова и В.М. Зензинова / Публ. Г.Б. Глушанок // Наше наследие. 2000. № 53. С. 91.
(обратно)251
Там же. С. 90.
(обратно)252
Nabokov V. The Art of Translation // New Republic. 1941. August 4. P. 160–162.
(обратно)253
Среди первых набоковских публикаций в Америке выделим выполненный совместно с Эдмундом Уилсоном перевод «Моцарта и Сальери» (New Republic. 1941. April 21. P. 559–564), переводы стихотворений В. Ходасевича – единственного эмигрантского поэта, попавшего в монументальную антологию, подготовленную Джеймсом Лафлином (New Directions, an antology in prose and poetry / Ed. by J. Laughlin. Norfolk, Conn.: New Directions, 1941. P. 597–600), переводы лирических шедевров Пушкина, Лермонтова и Тютчева (Three Russian Poets. Norfolk, Conn.: New Directions, 1945).
(обратно)254
Джонг Э. «Лолите» исполняется тридцать // Диапазон. 1994. № 1. С. 6.
(обратно)255
Шифф С. Цит. соч. С. 340.
(обратно)256
Там же. С. 344.
(обратно)257
Gordon J. Current Events // Sunday Express. 1956. January 29. P. 16.
(обратно)258
Amis K. She Was a Child and I Was a Child // Spectator. 1959. № 6854 (November 6). P. 636.
(обратно)259
Hayman J.G. А Conversation With Vladimir Nabokov – With Digressions // Twentieth century. 1959. Vol. 166. № 994. P. 444.
(обратно)260
Так, например, неудовольствие писателя вызвало интервью-эссе Элен Лоуренсон, опубликованное в июльском номере журнала «Эсквайр» (Laurenson H. The Man Who Scandalised the World // Esquire. 1960. Vol. 54. № 2 (August). P. 70–73). Редактору «Эсквайра» было послано пространное послание с перечнем ошибок и неточностей интервьюерши (см.: SL. P. 324–326). Письмо было опубликовано, правда, не слишком оперативно – в июне следующего года, то есть набоковские поправки уже мало кому из читателей были понятны и интересны.
(обратно)261
Цит. по: Иностранная литература. 2000. № 7. С. 277.
(обратно)262
SO. P. XI.
(обратно)263
Ibid. P. XII.
(обратно)264
Levy A. Vladimir Nabokov. The Velvet Butterfly. N.Y., 1984. P. 4–5.
(обратно)265
Constantini C. Per Nabokov non esiste crisi del romanzo // Messagero. 1969. Novembre 2. P. 3 (Перевод Е.М. Лозинской).
(обратно)266
Niagara Falls Gazette. 1959. January 11. P. 10-B.
(обратно)267
SO. P. XII.
(обратно)268
Ibid. P. XI.
(обратно)269
Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. С. 282.
(обратно)270
Цит. по: Классик без ретуши. С. 480.
(обратно)271
Commonweal. 1976. February 13. P. 120.
(обратно)272
Boyd B. Vladimir Nabokov. The American Years. L.: Vintage, 1993. P. 477.
(обратно)273
Рубеж. 1933. 30 декабря.
(обратно)274
SL. P. 174–175.
(обратно)275
Publisher’s weekly. 1969. Vol. 195. № 12 (March 24). P. 52.
(обратно)276
В оригинале каламбур – Adavertisement.
(обратно)277
SL. P. 442. Выражение «эротический шедевр» прозвучало в дифирамбической рецензии Альфреда Аппеля (New York Times Book Review. 1969. May 4. P. 1), ученика Набокова по Корнеллскому университету, его исследователя и стойкого почитателя, которому, однако, «при первом чтении книга <…> не понравилась – он счел ее слишком манерной» и «писал свою рецензию, опьяненный звездностью Набокова» (Шифф С. Вера… С. 427).
(обратно)278
Dickstein M. Nabokov’s Folly // New Republic. 1969. Vol. 160. № 26 (June 28). P. 27.
(обратно)279
SL. P. 457.
(обратно)280
Ibid. P. 489.
(обратно)281
См., например, рецензии С. Яблоновского (Потресова) и А. Савельева (С. Шермана) на журнальную публикацию «Соглядатая» (Классик без ретуши. С. 81–84) или отзыв Ж.-П. Сартра на французский перевод «Отчаяния», где Достоевский назван «духовным отцом Набокова» (Там же. С. 129).
(обратно)282
Топоров В. Набоков наоборот // Литературное обозрение. 1990. № 4. С. 74.
(обратно)283
Lolita’s Creator – Author Nabokov, А «Cosmic Joker» // Newseek. 1962. Vol. 59. № 26 (June 25). P. 49
(обратно)284
Емельянова Л. Причиной иска стала книга // Санкт-Петербургские ведомости. 2003. 13 ноября.
(обратно)285
Викторова А. Твердые суждения с разоблачением // Культура. 2003. № 43. С. 4.
(обратно)286
Взятый в скобки фрагмент был с моего согласия опущен редактором Nabokov–L Дональдом Бартоном Джонсоном.
(обратно)287
Я выражаю искреннюю признательность Дитеру Циммеру, С.Я. Сендеровичу, Г.Б. Глушанок, С.А. Швабрину за помощь в разыскании набоковских текстов.
Переводы фрагментов набоковских интервью выполнены автором, а также Марком Дадяном (*), Евгенией Лозинской (**), Аминой Магадовой (***).
(обратно)288
Набоков немного неточно цитирует строки из «Тимона Афинского»: «…the moon’s an arrant thief / And her pale fire she snatches from the sun!» В переводе П. Мелковой: «Луна – нахалка и воровка тоже: / Свой бледный свет крадет она у солнца…» (Напомню, в оригинале роман называется «Pale Fire».)
(обратно)289
Набоков был поклонником популярного в 1930–1940-е годы комического квинтета, а затем и трио братьев Маркс, о чем можно судить по его интервью Альфреду Аппелю: «Братья Маркс были замечательными комиками. Опера, переполненная каюта (“Ночь в опере”, 1935) – просто гениально…» (цит. по: Набоков о Набокове. С. 297). Самым младшим из братьев Маркс был Зеппо (Герберт Манфред Маркс, 1901–1979).
(обратно)290
В оригинале – каламбурное созвучие: steak (бифштекс) и mistake (ошибка, недоразумение).
(обратно)291
В.В. Набоков: Pro et contra / Сост. Б. Аверина, М. Маликовой, А. Долинина. СПб.: РХГИ, 1997.
(обратно)292
[В газете была допущена опечатка (честное слово, не по моей вине!): вместо «Н.А. Анастасьева» влепили «А.Н. Афанасьева». Некоторые мои знакомые, прочитав рецензию, решили, что это – тонкая издевка над почтенным американистом: мол, я намеренно подставил созвучную фамилию знаменитого фольклориста и собирателя сказок, чтобы тем самым намекнуть на легковесность набоковедческой монографии.]
(обратно)293
Мулярчик А.С. Русская проза Владимира Набокова. М.: Издательство МГУ, 1997.
(обратно)294
Шульман М.Ю. Набоков, писатель: Манифест. М.: А и Б; М.: Независимая газета, 1998.
(обратно)295
SO. P. 18.
(обратно)296
Шраер М.Д. Набоков: Темы и вариации / Пер. с англ. В. Полищук при участии автора. СПб.: Академический проект, 2000.
(обратно)297
(обратно)298
В отзыве на книгу В. Курицын безапелляционно заявил, что «она по-дурацки называется».
(обратно)299
Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: Издательство Независимая газета, 1996. С. 222.
(обратно)300
SO. P. 157.
(обратно)301
Зверев А.М. Набоков. М.: Молодая гвардия, 2001.
(обратно)302
Шульман М. 100 % Nabokoff // Ex Libris НГ. 2001. 29 ноября. С. 6.
(обратно)303
См.: Надеин В. Русские годы Набокова: в США вышла биография великого писателя // Известия. 1990. 19 октября. С. 7; Ерофеев В. Образцово-показательный Набоков // Московские новости. 1992. 22 марта. С. 22; Ефимов М. Летучий новозеландец: Б. Бойд и его книга о Набокове // Литературная газета. 1992. 15 апреля. С. 6; Мулярчик А.С. Набоков и «набоковианцы» // Вопросы литературы. 1994. Вып. 3. С. 125–169.
(обратно)304
Анастасьев Н.А. Феномен Набокова. М., 1992.
(обратно)305
Мулярчик А.С. Русская проза Владимира Набокова. М., 1997.
(обратно)306
Имеются в виду второй и третий изводы Филдовой биографии: Field A. Nabokov: His Life in Part. N.Y., 1977; VN: The Life and Work of Vladimir Nabokov. N.Y., 1986.
(обратно)307
SO. P. 197.
(обратно)308
Clark J. Checking In with Vladimir Nabokov // Esquire. 1975. Vol. 84. № 1(July). P. 69.
(обратно)309
Как мне уже доводилось отмечать в статье «“До последней капли чернил…” Набоков и “Числа”» (Литературное обозрение. 1996. № 2. С. 82), одним из житейских прототипов распутной и бесталанной Лизы Боголеповой могла быть Лидия Червинская, поэтесса из круга Георгия Адамовича, отличавшаяся, судя по замечаниям мемуаристов и опубликованной переписке Адамовича, довольно беспорядочной личной жизнью. (Поводом к созданию окарикатуренного образа могло послужить и то, что Червинская внесла свою лепту в литературной борьбе писателей-монпарнасцев против Сирина, написав довольно прохладную рецензию на пьесу «Событие», – и это мог припомнить ей мстительный Набоков.) И еще одна деталь: главный набоковский Зоил (представленный в романе в виде беспринципного критикана, который за определенную мзду возложил на Лизины кудряшки «поэтическую корону Ахматовой»), за глаза называвший Червинскую «дурой Лидой», но неустанно помогавший ей и житейски, и литературно, в хвалебной рецензии на поэтический сборник «Рассветы» утверждал, что Червинская – «прямая и едва ли не единственная преемница Ахматовой в нашей литературе» (Адамович Г. Рец.: Л. Червинская «Рассветы» // Последние новости. 1937. 17 июня (№ 5927). С. 3).
(обратно)310
Цветаева М. Собр. соч: В 7 т. М., 1995. Т. 7. С. 566.
(обратно)311
Livak L. How It Was Done In Paris. Russian Émigré Literature and French Modernism. Madison: The University of Wisconsin Press, 2003.
(обратно)312
Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллин, 1992 . Т. 3. С. 387.
(обратно)313
Доказательство, предпосылки которого уже содержат то, что должно быть доказано (лат.).
(обратно)314
Например, в очерке о Набокове, помещенном в университетском издании «Wellesley College News» (1947. October 9), говорится о том, что Андре Жиду «принадлежит сомнительная честь» быть одним из трех писателей (другие два были Манн и Фолкнер), которых «он презирал больше всех», а в интервью эпохи l’affаire Lolita на вопрос: «Вам понравился Жид?» – уже избалованный мировым признанием писатель ответил: «Не особенно. Есть вещицы очень добротные, “Подземелья Ватикана”. Но чем больше его читаешь, тем он докучнее. Он не знал жизни. Он совершенно не знает людей. Пожалуй, лишь описание маленьких арабов не слишком плохо… Некая разновидность засахаренных фруктов…» (Le Bon M. Nabokov // L’Express. 1959. Novembre 5 (№ 438). P. 3; цит. по: Набоков о Набокове и прочем: интервью, рецензии, эссе / Ред.-сост. Н. Г. Мельников. М.: Издательство Независимая газета, 2002. С. 86).
(обратно)315
«…Реализм, натурализм – понятия относительные. Что данному поколению представляется в произведениях писателя натурализмом, то предыдущему кажется избытком серых подробностей, а следующему – их нехваткой. Измы проходят, исты умирают, искусство остается» (Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Издательство Независимая газета, 1998. С. 203).
(обратно)316
Долинин А. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар» // В.В. Набоков: Pro et сontra. СПб., 1997. С. 728.
(обратно)317
И.А. Бунин: новые материалы. Вып. I / Сост., ред. О. Коростелева и Р. Дэвиса. М.: Русский путь, 2004.
(обратно)318
Возвращенный мир. Т. 1. Серия «Антология русского зарубежья». М.: Изд. дом «Русский мир», 2004.
(обратно)319
Сорокина В.В. Литературная критика русского Берлина 20-х годов XX века. М.: Издательство Московского университета, 2010.
(обратно)320
Литературная энциклопедия Русского зарубежья 1918–1940: В 4 т. Т. 4. Всемирная литература и русское зарубежье. М.: РОССПЭН, 2006.
(обратно)321
Цит. по: Во И. Насмешник / Пер. с англ. В. Минушина. М.: Вагриус, 2005. С. 163.
(обратно)322
Указ. изд. С. 161.
(обратно)323
Указ. изд. С. 7.
(обратно)324
Quennell P. A Kingdom of Cokayne. In: Evelyn Waugh and his world / Ed. by David Pryce-Jones. London: Weidenfeld & Nicolson, 1973. P. 37.
(обратно)325
Wilson J.H. Evelyn Waugh. A Literary Biography, 1903–1924. London: Associated University Press, 1996. P. 122.
(обратно)326
Во И. Насмешник… С. 235.
(обратно)327
Evelyn Waugh. The Critical Heritage / Ed. by M. Stannard. London, Boston etc.: Routledge & Kegan. P. 251.
(обратно)328
Evelyn Waugh. The Critical Heritage… P. 22.
(обратно)329
Paris Review. 1963. Vol. 8. № 30 (Summer-Fall). P. 114.
(обратно)330
Помимо болезненных воспоминаний об измене Ивлин Гарднер, в романе отразились впечатления от путешествия по Бразилии и Британской Гвинее, предпринятого писателем в 1932 году, а также безответная любовь к Терезе Джангмен, ставшей прототипом прекрасной креолки Терезы де Витрэ, в которую влюбляется Тони Ласт.
(обратно)331
The letters of Evelyn Waugh / Ed. by M. Amory. London: Weidenfeld & Nicolson, 1980. P. 84.
(обратно)332
Брэдбери М. Портрет художника. Цит. по: Во И. Насмешник… С. 13.
(обратно)333
Evelyn Waugh. The Critical Heritage… P. 246.
(обратно)334
Life. 1946. April 8. Цит. по: Evelyn Waugh. The Critical Heritage… P. 250.
(обратно)335
Paris Review. 1963. Vol. 8. № 30 (Summer-Fall). P. 114.
(обратно)336
Nichols B. Unholy Waugh // Spectator. 1973. Vol. 230. № 7583 (October 27). P. 547.
(обратно)337
Heppenstall R. Vile Bodies // New Statesman. 1980. Vol. 100. 26 September. P. 17.
(обратно)338
Raphael F. Portrait of the Artist as a Bad Man. Цит. по: Evelyn Waugh. The Critical Heritage… P. 490.
(обратно)339
Во И. Слепок эпохи: Рассказы / Пер. с англ. М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2004.
(обратно)340
Во И. Насмешник / Пер. с англ. В. Минушина. М.: Вагриус, 2005.
(обратно)341
Подробнее о «гомосексуальной фазе» Ивлина Во см.: Wilson J.H. Evelyn Waugh. A Literary Biography, 1903–1924. London: Associated University Press, 1996. P. 118–120.
(обратно)342
Quennell P. A Kingdom of Cokayne. In: Evelyn Waugh and his world / Ed. by David Pryce-Jones. London: Weidenfeld & Nicolson, 1973. P. 37.
(обратно)343
«Грехи с людей смывает только море» (Еврипид. Ифигения в Тавриде. Пер. И.Ф. Анненского).
(обратно)344
Evelyn Waugh. The Critical Heritage / Ed. by Martin Stannard. London, Boston etc.: Routledge & Kegan Paul, 1984. P. 51–52.
(обратно)345
The Letters of Nancy Mitford and Evelyn Waugh / Ed. by Charlotte Mosley. Boston; N.Y.: Houghton Mifflin Company, 1996. P. 427.
(обратно)346
Перевод и примечания Николая Мельникова.
(обратно)347
Английский писатель Эдгар Морган Форстер (1879–1970) предложил эту классификацию в литературоведческой работе «Аспекты романа» (1927).
(обратно)348
Прендергаст – комичный персонаж из романа «Упадок и разрушение» (1928); Себастьян Флайт – один из главных героев романа «Возвращение в Брайдсхед» (1945).
(обратно)349
Чарльз Райдер – герой-повествователь романа «Возвращение в Брайдсхед».
(обратно)350
Гай Краубчек – главный герой «военной трилогии» Ивлина Во «Sword of Honour» («Меч почета», 1965), в русском переводе вышедшей под названием «Офицеры и джентльмены».
(обратно)351
Гилберт Пинфолд – главный герой автобиографического романа «Испытание Гилберта Пинфолда» (1957).
(обратно)352
О влиянии на манеру «раннего Во» английского писателя Рональда Фёрбенка (1886–1926) писали многие критики. Согласно Уолтеру Аллену, именно у Фёрбенка Ивлин Во учился «литературной технике, приемам, как свернуть описания и раскрыть характер в диалоге, как сделать диалог главной движущей силой романа» (Аллен У. Традиция и мечта. М., 1970. С. 85).
(обратно)353
«Люди на войне» (1952) – первая часть военной трилогии.
(обратно)354
«Однажды для каждого человека и для каждого народа / Настает момент сделать выбор…» – начальные строки стихотворения американского поэта Джеймса Рассела Лоуэлла (1819–1891), написанного в 1844 году в знак протеста против нападения США на Мексику и положенного на музыку в 1890 году композитором Томасом Уильямсом (1869–1944).
(обратно)355
Эдмунд Уилсон (1895–1872) – один из крупнейших американских критиков и литературоведов ХХ века. Высоко оценивая довоенные сатирические произведения Во, он, однако, раскритиковал его роман «Возвращение в Брайдсхед».
(обратно)356
Здесь писатель явно лукавит: он прекрасно знал, кто такой Эдмунд Уилсон, более того, полемизировал с ним по поводу «Возвращения в Брайдсхед».
(обратно)357
Пистоль – пройдоха и плут, персонаж шекспировских пьес («Генрих IV», «Веселые Виндзорские кумушки»).
(обратно)358
Молли Фландерс – воровка и авантюристка, героиня одноименного романа Даниэля Дефо.
(обратно)359
На этот изъян творческой манеры Вулф указывали уже первые рецензенты ее книг, причем не только литературные враги, вроде Арнольда Беннета (см. его разносную рецензию на роман «Миссис Дэллоуэй»: Virginia Woolf. The critical heritage / Ed. by R. Majimdar, A. McLaurin. London, Boston, 1975. P. 190), но и союзники: в частности, «блумсбериец» Дэзмонд Маккарти (Maccarthy D. Phantasmagoria // Sunday Times. 1928. October 14).
(обратно)360
Муратов П. Ночные мысли. М.: Прогресс, 2000. С. 150.
(обратно)361
Аллен У. Традиция и мечта. М., 1970. С. 57.
(обратно)362
Здесь и далее роман цитируется по изданию: Вулф В. Орландо: Биография / Пер. Е. Суриц. СПб.: Азбука, 2000.
(обратно)363
Достоверно известно, что Владимир Набоков читал «Орландо» за несколько лет до написания «Дара». И хотя в письме Зинаиде Шаховской писатель дал убийственный отзыв об «Орландо»: «Это образец первоклассной пошлятины» (цит. по: Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 19), – между двумя произведениями Набокова и Вулф есть несомненная типологическая общность.
(обратно)364
Вулф В. Комната Джейкоба. Роман / Пер. с англ. М. Карп. СПб.: Азбука-классика, 2004.
(обратно)365
Бёрджесс Э. Влюбленный Шекспир: Роман / Пер. с англ. А.И. Коршунова. М.: Центрполиграф, 2001.
(обратно)366
Бёрджесс Э. Предисловие автора // Бёрджесс Э. Заводной апельсин. Л., 1993. С. 4.
(обратно)367
См.: Contemporary Literary Criticism. Detroit; N.Y.; Toronto: Gale, 1997. Vol. 94. P. 21–89.
(обратно)368
Бёрджесс Э. Доктор болен: Роман / Пер. с англ. Е.В. Нетесовой. М.: Центрполиграф, 2002.
(обратно)369
Бёрджесс Э. Однорукий аплодисмент: Роман / Пер. с англ. Е.В. Нетесовой. М.: Центрполиграф, 2002.
(обратно)370
Бёрджесс Э. М.Ф.: Роман / Пер. с англ. Е.В. Нетесовой. М.: Центрполиграф, 2002.
(обратно)371
Шишкин А. Апостол массовой беллетристики // Вопросы литературы. 1986. № 11. С. 113.
(обратно)372
См.: Burgess A. You’ve Had Your Time. London: Heineman, 1990. P. 209.
(обратно)373
Теру П. Моя другая жизнь. Фрагменты книги // Иностранная литература. 2000. № 3. С. 66.
(обратно)374
О ленинградской поездке писателя и его супруги Линн Уилсон см.: Burgess A. You’ve Had Your Time. London: Heineman, 1990. P. 39–53). Кстати, в бёрджессовских мемуарах хозяин квартиры назван по имени: Sasha Ivanovich Kornilov. Интересно, может быть, он еще жив и читает сейчас роман своего давнего знакомого? «Где ты, Мисюсь?»
(обратно)375
Бёрджесс Э. Клюква для медведей: Роман / Пер. с англ. Е. Цыпина. СПб.: Симпозиум, 2002.
(обратно)376
Burgess A. You’ve Had Your Time. London: Heineman, 1990. P. 48.
(обратно)377
Бёрджесс Э. Мистер Эндерби изнутри: Роман / Пер. с англ. Е.В. Нетесовой. М.: Центрполиграф, 2002.
(обратно)378
[Так и случилось: вскоре после публикации рецензии «Центрполиграф» выпустил перевод «Мистера Эндерби снаружи»; оставшиеся романы тетралогии не переведены на русский до сих пор.]
(обратно)379
Брэдбери М. Обменные курсы / Пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой. М.: АСТ, 2006.
(обратно)380
Перевод, выполненный А.Я. Ливергантом, опубликован в журнале «Иностранная литература» (2002. № 12).
(обратно)381
Bradbury M. Evelyn Waugh. Edinburgh & London, 1964.
(обратно)382
The Durrell–Miller letters, 1935–1980 / Ed. by Ian S. Mac Niven. London; Boston: Faber & Faber, 1988. P. 405.
(обратно)383
Даррелл Л. Бунт Афродиты. Tunc: Роман / Пер. с англ. В. Минушина. CПб.: Азбука-классика, 2004.; Даррелл Л. Бунт Афродиты. Nunqam: Роман / Пер. с англ. Л. Володарской. CПб.: Азбука-классика, 2004.
(обратно)384
Уже прочитанного (фр.).
(обратно)385
Burgess A. Durrell and the Homunculi // Saturday Review. 1970. Vol. 8. № 12 (March 21). P. 41.
(обратно)386
Ibid. P. 30.
(обратно)387
Мёрдок А. Человек случайностей: Роман / Пер. с англ. И.В. Трудолюбовой. М.: АСТ, 2005.
(обратно)388
Эмис К. Девушка лет двадцати: Роман / Пер. с англ. О. Кириченко. М.: Гудьял-Пресс, 2000.
(обратно)389
Koba the Dread – laughter and twenty million. Cape, 2002 («Коба ужасный – смех и двадцать миллионов жизней»).
(обратно)390
Бабинцева Н. Не ухом, а брюхом // Время новостей. 2005. 31 мая (№ 94).
(обратно)391
Джумайло О. За границами игры: английский постмодернистский роман. 1980–2000 // Вопросы литературы. 2007. № 5. C. 22.
(обратно)392
Эмис М. Лондонские поля: Роман / Пер. с англ. Г. Яропольского. М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2007.
(обратно)393
Martin Amis, The Art of Fiction № 151. Interview by Francesca Reviere // Paris Review. 1998. № 146 (Spring). P. 112.
(обратно)394
Здесь эмисовский повествователь вольно или невольно подражает Гумберту Гумберту. Характерно, что в прочувствованном предсмертном письме к ангелоподобной малютке Ким он почти буквально воспроизводит стиль прощального монолога набоковского нимфолепта. Профессиональные охотники за параллелями непременно должны обратить свое внимание хотя бы вот на эти отрывки. Сэм Янг: «Надеюсь, что ты живешь со своей матерью и что обе вы хорошо обеспечены. Надеюсь, что твой отец где-нибудь неподалеку – и обуздан. Начало твоей жизни было суровым. Да не будет столь же суровым ее продолжение. Я на это надеюсь». Гумберт Гумберт: «Надеюсь, что ты будешь любить своего ребеночка. Надеюсь, что он будет мальчик. Надеюсь, что муж твой будет всегда хорошо с тобой обходиться…»
(обратно)395
Роб-Грийе А. Повторение: Роман / Пер. С. Панкова. Тверь: Митин журнал, Kolonna publications, 2005.
(обратно)396
Рэмптон Д. «Другое мое я»: неожиданный наследник Уитмена // Иностранная литература. 1996. № 10. С. 258, 260.
(обратно)397
Апдайк Дж. Иствикские ведьмы: Роман / Пер. с англ. Н. Вирязовой. М.: Вагриус, 1998.
(обратно)398
Олдридж Дж. После потерянного поколения. М., 1981. С. 154.
(обратно)399
Галактика Джона Апдайка // Огонек. 1988. № 29. С. 17.
(обратно)400
Updike J. The Witches of Eastwick. Harmondsworth, 1985. P. 185.
(обратно)401
Ibid. P. 142.
(обратно)402
Ibid. P. 206.
(обратно)403
Цит. по: Писатели США о литературе. М.: Прогресс, 1982. Т. 2. С. 294.
(обратно)404
Указ. изд. С. 267.
(обратно)405
Апдайк Д. Гертруда и Клавдий: Роман / Пер. с англ. И.Г. Гуровой. М.: АСТ, 2001.
(обратно)406
Апдайк Д. Переворот. Бразилия: Романы / Пер. с англ. Т.А. Кудрявцевой, Н.В. Рейн. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.
(обратно)407
Барт Дж. Заблудившись в комнате смеха: Рассказы, роман / Пер. с англ. В. Михайлина. СПб.: Симпозиум, 2001.
(обратно)408
См.: Барт Д. Литература истощения // Российский литературоведческий журнал. 1997. № 10. С. 124–139.
(обратно)409
Барт Дж. Литература восполнения // Америка. 1982. № 302. С. 49.
(обратно)410
Барт Дж. Химера: Роман / Пер. с англ. В. Лапицкого. СПб.: Симпозиум, 2000.
(обратно)411
Бартелми Д. Король / Пер. с англ. М. Немцова. М.: ЭКСМО, 2004.
(обратно)412
Бартельми Д. Шестьдесят рассказов / Пер. с англ. СПб.: Симпозиум, 2000.
(обратно)413
Scott W. Dreams of the Body Neurotic // The Washington Post – Book World. 1972. November 5. P. 3.
(обратно)414
Тут переводчику следовало бы пояснить, что речь идет о реальном лице, Уильяме Джойсе (1906–1946), всю войну вещавшем по немецкому радио на англоязычные страны и за своеобразную манеру речи получившем у англичан прозвище Lord Haw-Haw; после разгрома Германии Джойс был арестован, вывезен в Лондон (при том, что он не являлся британским подданным) и за сотрудничество с геббельсовским ведомством повешен.
(обратно)415
King F. Lord Haw-Haw meets King Arthur // Spectator. 1991. Vol. 266. № 8484. P. 26.
(обратно)416
Carver R. Knights shift // New Statesman & Society. 1991. Vol. 4. № 140. P. 38.
(обратно)417
Бартелми Д. Белоснежка / Пер. с англ. М. Пчелинцева под ред. М. Немцова. М.: ЭКСМО, 2004.
(обратно)418
См.: Barthelme D. Not-Knowing. The Essays and Interview of Donald Barthelme. N.Y.: Random House, 1997. P. 298.
(обратно)419
Зверев А.М. Модернизм в литературе США. М., 1979. С. 243.
(обратно)420
Guerard A.J. Notes on the Rhetoric of Anti-Realist Fiction // Triqarterly. 1970. № 30 (Spring). P. 30.
(обратно)421
Лелчук А. Памяти Сола Беллоу // Иностранная литература. 2005. № 12. С. 207.
(обратно)422
Беллоу С. Подарок от Гумбольдта / Пер. с англ. Г.П. Злобина. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006.
(обратно)423
Олдридж Д. После потерянного поколения. М., 1981. С. 143.
(обратно)424
Updike J. Draping Radiance with a Worn Veil // New Yorker. 1975. September 15. P. 126–127.
(обратно)425
Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. Киев: Next, 1994. С. 100.
(обратно)426
Здесь и далее английский текст цитируется по изданию: Bellow S. Humboldt’s Gift. Harmondsworth: Penguin Books Inc., 1976.
(обратно)427
Оутс Дж.К. Дорогостоящая публика. / Пер. с англ. О. Кириченко. М.: Гудьял-Пресс, 2002.
(обратно)428
Хорошо известно, что Джойс Кэрол Оутс внимательно изучала творчество Набокова. К моменту написания «Дорогостоящей публики» она успела отрецензировать английский перевод повести «Соглядатай» («The Eye». From 1930 – Something Thin From Nabokov // Detroit Free Press. 1965. November 14, p. 5-D). На русский язык переведено ее эссе «Субъективный взгляд на Набокова», в «постскриптуме» к которому писательница призналась, что со временем становится все более «набоковообразнее в своих литературных пристрастиях» (Классик без ретуши. С. 588).
(обратно)429
Стайрон У. Безмолвный прах // Иностранная литература. 1986. № 7. С. 222.
(обратно)430
Стайрон У. Цит. соч. С. 220.
(обратно)431
Стайрон У. Признания Ната Тернера. Роман / Пер. с англ. В. Бошняка. СПб.: Лимбус-пресс, 2005.
(обратно)432
Стайрон У. Безмолвный прах // Указ. изд. С. 225.
(обратно)433
Иностранная литература. 1986. № 7. С. 216.
(обратно)434
Злобин Г. На краю бездны // Стайрон У. И поджег этот дом. М., 1991. С. 13.
(обратно)435
Аптекер Г. Нат Тернер – миф и реальность // Литературная газета. 1968. 27 ноября (№ 49). С. 14.
(обратно)436
William Styron’s Nat Turner. Ten Black Writers Respond / Ed. by John Clarke. Boston: Beacon Press, 1968. P. 42.
(обратно)437
Op. cit. P. VII.
(обратно)438
Conversations with William Styron / Ed. by James L. West. Univ. Press of Mississippi, 1985. P. 106.
(обратно)439
William Styron’s Nat Turner. Ten Black Writers Respond… P. 46.
(обратно)440
Op. cit. P. 36.
(обратно)441
По мнению Стайрона, «его [Фолкнера] персонажи-негры, сколь ни превосходно они обрисованы, все же воспринимаются как плод долгого внимательного наблюдения, а не как итог вживания» (Иностранная литература. 1986. № 7. С. 222).
(обратно)442
Conversations with William Styron. P. 87.
(обратно)443
Гарсиа Маркес Г. «Многое я рассказал Вам впервые…» // Латинская Америка. 1980. № 1. С. 108.
(обратно)444
Там же. С. 109.
(обратно)445
Варгас Льоса М. Нечестивец, или Праздник Козла / Пер. с исп. Л. Синянской. М.: ООО «Талькарт», 2004.
(обратно)446
Муратов П. Искусство прозы // Муратов П. Ночные мысли. М., 2000. С. 136.
(обратно)447
См.: Spectator. 2001. Vol. 48. № 19 (November 25). P. 39.
(обратно)
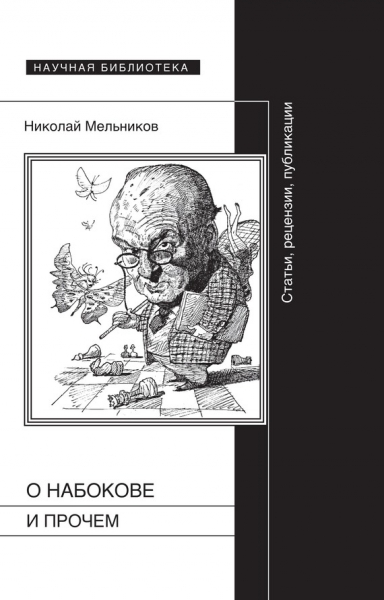




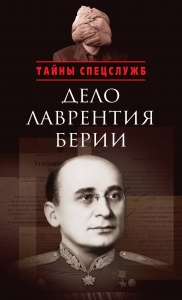

Комментарии к книге «О Набокове и прочем. Статьи, рецензии, публикации», Николай Георгиевич Мельников
Всего 0 комментариев