Трейси Киддер За горами – горы. История врача, который лечит весь мир
Генри и Тиму Киддерам
За горами – горы.
Гаитянская пословица …А праведное деяние – освобождение От прошлого, да и от будущего. Большинству из нас — Это недостижимо; Только тем мы и держимся, Что не оставляем попыток[1]. Т. С. Элиот. Бесплодная земляTracy Kidder
MOUNTAINS BEYOND MOUNTAINS
Перевод с английского Екатерины Владимирской и Наталии Сониной
Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
Фотографии на обложке Moupali Das
Часть I Докте Поль
Глава 1
Через шесть лет после того как мы встретились, доктор Пол Эдвард Фармер напомнил мне, что мы с ним познакомились “потому, что, подумать только, кому-то отрезали голову”.
Это случилось за две недели до Рождества 1994 года в торговом городке Мирбале. Собственно, городок был участком мощеной дороги, идущей через Центральное плато Гаити. Недалеко от центра находилась застава гаитянской армии: заросший сорняком плац, тюрьма и горчичного цвета казармы, окруженные бетонной стеной. Я сидел на втором этаже дома и беседовал с Джоном Кэрроллом, капитаном американских зеленых беретов. Наступал вечер, лучшее время в городке, когда воздух был уже не горячий, а теплый, громче и веселее звучала музыка, доносящаяся из кабачков и проходящих через город тап-тапов[2]. И уже не так были заметны грязь и бедность, стоки нечистот, изношенная одежда, лица истощенных детей и протянутые руки стариков-нищих, надрывно твердящих “grangou”, что по-креольски значит “голоден”.
Из Гаити я должен был отправить репортаж об американских солдатах. Двадцать тысяч солдат было послано сюда, чтобы восстановить в правах правительство, выбранное демократически, и убрать военную хунту, захватившую власть и в течение трех лет правившую с необычайной жестокостью. Под командой капитана Кэрролла было всего восемь человек, и в настоящее время они отвечали за сохранение мира между 150 тысячами гаитян, живущих на территории в две с половиной тысячи квадратных километров в сельской области Гаити. Казалось бы, невыполнимое задание, и тем не менее здесь, на Центральном плато, насилие со стороны хунты практически прекратилось. За последний месяц было только одно убийство, правда, исключительно кровавое. Несколько недель назад люди капитана Кэрролла выловили из реки Артибонит обезглавленное тело помощника мэра Мирбале. Это был один из выбранных ранее, а потом восстановленных в должности представителей власти. Подозрение в убийстве пало на одного из местных функционеров хунты – сельского шерифа Нерву Жюста, наводившего ужас на жителей района. Капитан Кэрролл и его люди допросили Жюста, но ни вещественных доказательств, ни свидетелей не нашли. Поэтому его отпустили. Капитану, твердой веры баптисту из Алабамы, было двадцать девять лет. Мне он нравился. Я видел, что он и его люди честно старались улучшить жизнь на этом кусочке Гаити, но Вашингтон постановил, что эта миссия не занимается “строительством государства”, и поэтому не снабдил их практически никакими средствами для помощи гаитянам. Случилось так, что капитан Кэрролл посадил беременную гаитянку в тяжелом состоянии на самолет медицинской эвакуации армии США и за это получил замечание от старших по службе. В описываемый момент капитан Кэрролл сидел с нами на балконе казармы и кипел возмущением по этому поводу, когда ему сказали, что некий американец стоит у входа и хочет видеть его.
В действительности там стояли пятеро посетителей, и четверо из них были гаитянами. Американец пошел к нам, а его гаитянские друзья остались стоять в сгущающейся тени напротив казарм. Гость сказал капитану Кэрроллу, что его зовут Пол Фармер, что он врач и работает в больнице в нескольких милях к северу от Мирбале.
Помню, я тогда подумал, как непохожи эти двое, и сравнение вышло не в пользу Фармера. Капитан был высокий, под метр девяносто, загорелый, мускулистый. Привычный комок жевательного табака оттягивал его нижнюю губу. Время от времени он поворачивал голову и сплевывал. Фармер был примерно его ровесник, но выглядел гораздо более хрупким. У него были короткие темные волосы, высокая талия и длинные тонкие руки, а нос словно немного заострялся на конце. Рядом с солдатом он выглядел тощим и бледным, но при всем этом показался мне весьма самоуверенным, чуть ли не нахалом.
Фармер спросил капитана, нет ли у его отряда проблем, требующих внимания врача. Капитан ответил, что есть несколько больных среди заключенных, а местная больница лечить их отказывается.
– В конце концов я купил лекарства сам.
Фармер сверкнул улыбкой:
– Вы не задержитесь в чистилище. – Затем он поинтересовался: – Кто отрезал голову помощнику мэра?
– Я точно не знаю, – сказал капитан.
– Как это может быть – жить в Гаити и не знать, кто кому отрезал голову? – удивился Фармер.
Последовало обсуждение, но прямо никто не высказывался. Фармер дал понять, что ему не нравится план американского правительства наладить экономику Гаити, по которому помощь будет оказана бизнесменам, но ничего, по его мнению, не будет сделано для облегчения жизни среднего гаитянина. Он также твердо верил, что переворот в Гаити помогли совершить Соединенные Штаты, и одним из доводов был тот факт, что некий высокопоставленный член хунты прошел подготовку в военной Школе Америк в США. По словам Фармера, Гаити состоит из двух частей: силы подавления с одной стороны и беднота Гаити с другой, последних – абсолютное большинство.
– И неясно, – сказал он капитану, – на чьей стороне американские солдаты.
В данном случае под неясностью, помимо прочего, подразумевалось освобождение ненавистного Нервы Жюста.
Я чувствовал, что Фармер знает Гаити гораздо лучше, чем капитан, и пытается поделиться с ним важной информацией. Похоже, Фармер хотел сказать, что местные жители начинают терять доверие к капитану и что это, конечно, серьезная проблема для отряда из девяти солдат, пытающегося держать под контролем 150 тысяч человек.
Однако предупредить было непросто. Капитану не очень понравилось, что Фармер плохо отозвался о Школе Америк. Относительно Нервы Жюста он высказался так:
– Слушайте, это бандит. Когда я схвачу его и у меня будут факты, я его прихлопну. – Он ударил кулаком в ладонь. – Но я не собираюсь опускаться до их уровня и арестовывать огульно.
Суть ответа Фармера сводилась к тому, что не имеет смысла применять положения конституции в стране, лишенной в данный момент функционирующей системы законов. Жюст угрожает людям, и его надо посадить.
Итак, они зашли в тупик. Капитан называл себе человеком от народа и настаивал на законном пути, Фармер явно считал себя борцом за права человека и предлагал превентивное заключение Жюста. В конце концов капитан сказал:
– Если б вы знали, в какой степени Вашингтон решает, что я могу и не могу здесь делать.
Фармер ответил:
– Я понимаю, что вы не вольны выбирать. Простите, если я слишком напирал.
Стемнело. Двое мужчин стояли в квадрате света, падающего из открытой двери казармы. Они пожали друг другу руки. Когда молодой доктор уходил в темноту, я услышал, как он говорит по-креольски со своими гаитянскими друзьями.
Я провел с солдатами несколько недель. О Фармере я особенно не думал. Несмотря на его извинение в конце разговора с Кэрроллом, я решил, что он плохо понимает трудности капитана и не сочувствует ему.
Потом я случайно увидел его снова, когда возвращался домой, в самолете на Майами. Он сидел в первом классе и объяснил мне, что, поскольку он часто летает по этому маршруту, стюардессы сажают его здесь на случай, если в полете понадобится врач. Мне разрешили посидеть с ним какое-то время. У меня были десятки вопросов о Гаити, в том числе об убийстве помощника мэра. Солдаты говорили мне, что у исповедующих вуду обезглавливание – это особое, жуткое устрашение. Поэтому я спросил Фармера:
– А что, отрезание головы жертве как-то связано с их гаитянской историей?
– Это связано с историей жестокости, – ответил Фармер. Он нахмурился, потом тронул мою руку, как бы говоря, что все мы иногда задаем глупые вопросы.
Я узнал о нем больше. Например, что к солдатам он относится хорошо:
– Я вырос в бедном поселке на колесах, и я знаю, кто идет служить в американскую армию.
О капитане Кэрролле он сказал:
– Когда знакомишься с этими молодыми военнослужащими поближе, начинаешь понимать, что не они отвечают за скверные порядки.
Этим Фармер подтвердил мое впечатление, что он пытался предупредить капитана. Многие из пациентов Фармера и его гаитянские друзья были недовольны, что Нерву Жюста отпустили, и говорили, что это доказывает: американцы здесь не для того, чтобы помочь народу. Фармер рассказал, что в тот вечер он как раз проезжал через Мирбале, и друзья-гаитяне поддразнивали его: мол, слабо остановиться и поговорить с американцами об убийстве? Поэтому, когда у грузовика спустила шина сразу за армейской территорией, он сказал друзьям: “Ага, мы должны прислушиваться к небесам”.
Я немного порасспросил Фармера про его жизнь. Ему было тридцать пять. Он окончил медицинскую школу в Гарварде и там же получил ученую степень по антропологии. Четыре месяца в году он работал в Бостоне, живя в это время в бедном районе в домике пастора при церкви. Все остальное время работал без зарплаты в Гаити, в основном занимаясь лечением крестьян, которые потеряли свою землю при строительстве плотины для гидроэлектростанции. Когда пришла хунта, Фармера выдворили из Гаити, но он сумел проникнуть обратно в свою больницу.
– Дал смехотворно маленькую взятку, – сказал он.
Я отыскал его после приземления. Мы поговорили еще в кафетерии, и я чуть не опоздал на следующий самолет. Через несколько недель в Бостоне я пригласил его поужинать в надежде, что он поможет мне понять, как писать про Гаити, и он явно был рад помочь. Фармер прояснил для меня историю страны, но вот его самого я понять не мог. Он называл себя врачевателем бедных, но мое представление о таких подвижниках как-то не вязалось с ним. Ему определенно нравились дорогие рестораны, плотные льняные салфетки, хорошее вино. Меня поразило в тот вечер, как доволен он был своей жизнью. Очевидно ведь, что молодой человек с его достижениями мог прекрасно работать в Бостоне и жить в уютном пригороде, а не в запущенном домишке при церкви, большую часть года проводя на пустырях Центрального Гаити. По тому, как он говорил об этом, было ясно, что ему действительно нравится жить среди гаитянских крестьян. В какой-то момент, рассуждая о медицине, он сказал:
– Не представляю, как это может не увлекать.
Фармер улыбнулся мне, и все лицо его озарилось яркой, светящейся, счастливой улыбкой. Она производила сильнейшее впечатление – словно человек искренне рад тебя видеть просто так, без особых причин.
Но после похода в ресторан мы как-то потеряли связь. Сейчас мне кажется, так получилось в основном потому, что Фармер смущал меня. Работая над статьей о Гаити, я постепенно стал разделять пессимизм военных, с которыми я там жил и общался. “Думаю, народ Гаити сам должен решать, как жить, – сказал мне как-то раз один из людей капитана Кэрролла, – разве важно, кто у власти? Все равно у них будут богатые и бедные и никого посередине. Я не знаю, чего мы надеемся достичь. Все равно в результате мы получим адские толпы гаитян, мечтающих на лодках уплыть в Америку. Но, наверное, лучше даже не пытаться все это понять”. Солдаты прибыли в Гаити, прекратили террор и восстановили правительство. Потом они ушли, а страна осталась такой же бедной и разоренной, какой была до их прихода. Тогда я считал, что солдаты старались как могли. Это были простые и не слишком сентиментальные люди. Такие не станут переживать из-за того, что от них не зависит.
А Фармер как будто хотел, чтобы мы по-другому относились к Гаити и вообще к бедным. Но разделять такие взгляды трудно, потому что они предполагают крайнюю степень того, что мы называем “делать все возможное”.
В мире полно бедствующих стран. Чтобы жить спокойно, можно не думать о них или, если подумается, послать туда деньги.
В течение следующих пяти лет я несколько раз посылал небольшие суммы денег в благотворительный фонд, поддерживающий больницу Фармера в Гаити. Каждый раз он присылал в ответ письмо с благодарностью. Как-то от знакомого моего знакомого я услышал, что Фармер делает что-то примечательное в области международного здравоохранения, что-то связанное с туберкулезом. Я, правда, не поинтересовался подробностями и не видел Фармера почти до конца 1999 года, когда я попросил его о встрече и он назначил место.
Глава 2
Подходя к больнице Бригем-энд-Уименс в Бостоне, вы замечаете, что здесь не по-городскому тихо. Вы попали на медицинскую Уолл-стрит: кампус Гарвардской медицинской школы, медицинская библиотека Каунтвея, детская больница, медицинский центр Бет-Исраэль-Диконесс, Онкологический институт Даны – Фарбера, сам Бригем. Эти здания в комплексе производят сильное впечатление, а если представить, что происходит внутри, так просто дух захватывает. Вскрытые грудные клетки, пересаженные органы, молекулярная визуализация, генетические зонды, руки в резиновых перчатках и машины, которые ежедневно работают с человеческим телом, ставят диагнозы и определяют курс лечения. С одной стороны – хрупкость человека, с другой – его дерзость. Невольно замираешь рядом с этими зданиями. Даже бостонские водители, известные своей бесшабашностью, меньше жмут на гудок, проезжая по этим местам.
Бригем занимает одну сторону Фрэнсис-стрит. Как новый город окружает римские развалины, так новый Бригем построен вокруг отреставрированного викторианского вестибюля старой больницы, реликвии бостонской медицины. Но это, скорее, памятник, а современный подъезд с высоким вестибюлем и мраморным полом – в четырехстах метрах от него. Ярко освещенный коридор подводит к площадке, по сторонам которой находятся лифты и двери, ведущие в клиники. Палаты больных расположены на верхних этажах, операционные – на нижних (их сорок, не считая гинекологических), десятки лабораторий – во всех отделениях, и… всюду драма жизни и смерти. Это медицинский универсам: здесь и медицинский институт, и многопрофильная больница, и узкоспециализированные клиники, и место, куда из других больниц посылаются наиболее сложные случаи. Толпы движутся вверх и вниз, направо и налево от площадки, кто в белых халатах, кто в повседневной одежде, кто с цветами, доносятся обрывки разговоров.
В отделении радиологии, на четвертом подземном этаже, доктор Фармер и его группа нашли себе спокойное место – пустую комнату без окон – и обсуждают последнего сегодняшнего больного. Фармеру недавно исполнилось сорок. Пожалуй, волос у него слегка поубавилось и он немного похудел, с тех пор как я видел его последний раз пять лет назад. На носу у него очки в тонкой оправе с маленькими круглыми стеклами. Одет он довольно строго: черный костюм и туго повязанный галстук. Как и раньше, большую часть времени Фармер проводит в Республике Гаити, но теперь он известный бостонским врач, консультант при совете профессоров Бригема, профессор по двум специальностям – медицине и медицинской антропологии – в Гарвардской медицинской школе. Когда я смотрел на него, сидящего с двумя учениками, молодыми врачами в белых халатах, мне представлялся дагеротип девятнадцатого века, изображающий сурового величественного профессора медицины в твердом высоком воротничке и жилете. Но это впечатление длилось недолго.
Фармер обсуждал с молодыми врачами больного, недавно лечившегося от паразитов в головном мозге. У больного развилась водянка, и нейрохирурги вставили шунт, чтобы отвести жидкость. После этого новых проявлений инфекции не было, но не нужно ли на всякий случай лечить его дальше?
– А вы как думаете? – спрашивал Фармер свою команду, и они снова и снова рассматривали проблему со всех сторон. Фармер в основном слушал, хотя было ясно, что последнее слово за ним.
Через несколько минут команда приняла решение: больного лечить повторно. Зазвонил телефон. Фармер поднял трубку и сказал:
– ВИЧ-центр. Слушаю вас.
Это звонила паразитолог, хорошая знакомая и коллега Фармера, чтобы поделиться своим мнением относительно больного с водянкой.
– А-а, главная по червям! – воскликнул Фармер. – Как поживаешь, душечка? O, я-то в порядке. Слушай, это звучит нахально, но мы не согласны. Мы хотим пролечить парня еще раз. ИЗ говорит: лечи! Привет, ИЗ.
Это “ИЗ” я уже слышал в его разговоре с учениками и догадался, что расшифровывается оно как “инфекционное заболевание”, специальность Фармера. Команда “Привет, ИЗ” обычно звучала как подпись в письме и означала, что он хочет начать лечение немедленно, не дожидаясь новых анализов. Было ясно, что ему чрезвычайно нравится и сам звук этих слов, и все остальное. По реакции его подопечных, которые откровенно улыбались и покачивали головами, я понял, что и его выражения, и шуточки, и его энтузиазм им хорошо знакомы.
Этот день в середине декабря 1999 года пока что был совершенно обычным днем, по крайней мере для больницы Бригем. Фармер и его группа разбирали шесть случаев, и каждый был весьма запутанным, кроме предпоследнего, казавшегося довольно простым. Ординатор, молодая женщина, сверяясь со своими записями, рассказала Фармеру историю болезни. Больной – мужчина тридцати пяти лет (назовем его Джо). ВИЧ-положительный. Выкуривает пачку сигарет в день. Обычно выпивает больше литра водки в день. Употребляет кокаин, внутривенно и вдыхая порошок. Недавно пострадал от передозировки героина. У него хронический кашель, который пять дней назад усилился и появилась желто-зеленая мокрота без крови. Кашель сопровождается болью в середине груди. За последние несколько месяцев он потерял двенадцать килограммов. Радиологи сообщили о возможном инфильтрате в правой нижней доле легкого, обнаруженном на рентгенограмме. По-видимому, это туберкулез, считают они.
Техника выявления туберкулеза довольно старая, и диагностика его может быть непростой, особенно у больного с ВИЧ. Конечно, у Джо мог развиться туберкулез. Из уймы инфекций, обрушивающихся на ВИЧ-инфицированного, туберкулез является самой вероятной. В Бостоне, да и во всех Соединенных Штатах, туберкулез – редкая болезнь, за исключением мест обитания Джо, жившего в приютах для бездомных, тюрьмах, на улицах и под мостами. Однако, несмотря на ВИЧ-инфекцию, иммунная система Джо в основном не была поражена, отсутствовали классические симптомы туберкулеза: высокая температура, озноб и ночное потоотделение.
– У него ужасные зубы, – заметила ординатор и добавила: – А парень он хороший.
Фармер сказал:
– Надо посмотреть его рентгенограмму, как вы считаете?
Все прошли в другую комнату, положили рентгенограмму Джо на столик с подсветкой, и Фармер разглядывал – не дольше минуты – то место на снимке, где, по предположению радиологов, был инфильтрат. Затем он объявил: – И это все? Как-то не особенно впечатляет.
После этого все направились на верхний этаж проведать Джо.
Фармер двигался по Бригему, вышагивая длинными ногами, временами впереди группы, временами отставая, останавливаясь, чтобы дружески обняться со знакомой санитаркой или обменяться шуточками с уборщицей на гаитянском креольском. То и дело сигналил его пейджер. Отвечая на сообщение, Фармер каждый раз приветствовал женщину-оператора, коих в больнице не меньше дюжины, быстро спрашивал про давление, или про сердечную недостаточность мужа, или про диабет ее матери. Затем он остановился у сестринского поста, чтобы ответить на имейл о состоянии больного, потом – чтобы ответить на какой-то вопрос кардиологу. Наконец, с фонендоскопом на шее, напевая на своем условном немецком: “Мы – это мир. Мы – это die Welt”, – Фармер подвел группу молодых специалистов по инфекционным заболеваниям к двери палаты больного. И тут все замедлилось.
Джо лежал на покрывале, одетый в майку и джинсы, маленький человек с выступающими ключицами, жилистые руки все в шрамах. У него была неопрятная борода и растрепанные волосы, и когда он нервно улыбнулся входящим врачам, я увидел, что хотя почти все его зубы еще целы, вряд ли это надолго. Фармер назвался и представил других членов команды. Затем он сел на уголок матраса в изголовье кровати и непринужденно склонился к Джо под таким странным углом, что в получившейся позе напомнил мне кузнечика. Так и завис над пациентом, глядя на него сверху своими бледными голубыми глазами сквозь маленькие круглые очки. На секунду мне даже показалось, что Фармер собирается улечься с ним в постель. Вместо этого он положил руку на плечо Джо и погладил его.
– Рентген у тебя хороший. Возможно, это просто воспаление легких. Небольшое воспаление. Можно спросить, что у тебя с желудком? Нет ли гастрита?
– Я ем все подряд. Все, что мне накладывают, съедаю.
Фармер улыбнулся:
– Тебе бы немного прибавить веса, дружок. Ты похудел.
– Я не так-то много ел до того, как попал сюда. Да вообще особо не ел. Маялся дурью, то да се.
– Расскажи нам о себе. Мы занимаемся инфекциями и считаем, что у тебя нет туберкулеза. Но, чтобы окончательно решить, мне надо знать, есть ли у тебя знакомые с ТБ?
Джо ответил, что вроде нет, и Фармер сказал:
– Думаю, пора нам рекомендовать, чтобы тебя перевели из изолятора. Ведь мы – ИЗ, так? ИЗ шлет привет. По-моему, тебе не нужна палата с отрицательным давлением и всем таким прочим.
– Не-а. Знаете, я как тот парень, один в лодке. Люди входят в масках и все время моют руки.
– Да, – согласился Фармер, добавив, что все же мыть руки – хорошая привычка.
Это был первый день, когда я видел Фармера за работой, и мне казалось, что его участие в лечении Джо закончено. Его пригласили как специалиста высшего уровня помочь решить проблему. Данный случай оказался простым, по крайней мере для специалиста. Специалист отвечает на вопрос, беседует с больным и уходит. Но Фармер продолжал сидеть на кровати Джо – похоже, ему это нравилось.
Они говорили и говорили. Ранее ординатор задавала Джо в основном такие же вопросы, судя по ее докладу. Но сейчас Джо отвечал гораздо охотнее. Они говорили с Фармером о лечащем враче Джо, который ему нравился, о том, что Джо принимал антиретровирусные препараты, но, как он сам признался, лишь от случая к случаю. Фармер объяснил, что так может развиться устойчивость к некоторым лекарствам и что Джо не должен принимать новые препараты: если он не готов это делать регулярно, это рискованно. Обсуждались также наркотики и алкоголь, Фармер предупредил Джо об опасности героина.
– Но, по правде говоря, самое плохое – это алкоголь и кокаин. Внизу, обсуждая твой случай, мы шутили: не надо ли посоветовать Джо курить больше марихуаны? Это все же не так вредно.
– Если я буду курить марихуану, это приведет к международному конфликту.
– Но не в больнице, Джо.
И они рассмеялись, глядя друг на друга.
Они говорили про ВИЧ-инфекцию Джо.
– Знаешь, иммунная система у тебя очень даже ничего. Совсем неплохо работает. Поэтому меня, знаешь, как-то и беспокоит, что ты худеешь. Ведь я уверен, что худеешь ты не из-за ВИЧ. Ты худеешь, потому что не ешь. Так?
– Ага, точно.
– Ага, – мягко сказал Фармер.
Он вглядывался в лицо больного, казалось, очень внимательно, как будто, кроме Джо, никого не было в мире, и вместе с тем чувствовалось, что он сосредоточен на чем-то вне этой палаты. Я подумал, что Фармер мысленно наблюдает за Джо как бы откуда-то сверху, пока Джо описывает свой, как выражаются социологи, ежедневный труд по самообслуживанию. В данном случае это означало добывание наркотиков где-то за углом и затем устройство на ночлег под любимым мостом или в туннеле.
Между тем в палату вошла девушка. Это была студентка-медик, которую Фармер пригласил на обход. Фармер представил ее. Джо спрашивал всех врачей, что они окончили. Новоприбывшую он спросил со своим бостонским акцентом:
– Из Гаава-ада тоже?
– Я? – переспросила она. – Да.
– Ого, – сказал Джо. Он повернулся к Фармеру: – Люди из знаменитых заведений пришли на меня посмотреть, а?
– Она у нас не промах, – ответил Фармер. И разговор продолжился: – Так скажи нам теперь, как тебе помочь? Потому что мы знаем, как система здесь работает. Ты прибыл сюда, мы тебе нравимся, ты нравишься нам, ты с нами по-хорошему, и мы с тобой по-хорошему. Полагаю, с тобой тут обращаются как в семье.
– Мне как-то одиноко в этой палате! – пожаловался Джо.
– Это правда. И мы рекомендуем перевести тебя отсюда, – напомнил Фармер. – А вот у меня есть для тебя трудный вопрос. Трудный, но тебе он понравится.
– Хотите спросить, что вы можете для меня сделать.
– Ага!
– Вы не поверите, о чем я хочу попросить. Вы удивитесь, – сказал Джо.
– Я все-все уже слышал, мой друг.
– Мне бы в дом для ВИЧ-инфицированных. Чтоб я мог пойти туда…
Фармер снова пристально посмотрел на него:
– Та-ак.
– Поспать, поесть, телевизор посмотреть, футбол, баскетбол там. Какое-то место, куда я мог бы пойти и выпить полдюжины пива.
– Я понимаю.
– Я бы никаких правил там не нарушал, ну разве что выпивал бы иногда немного больше пива, чем полагается. Знаете, ну я бы делал, что мне сказано, приходил бы домой вовремя и не творил глупостей.
– Конечно.
– И не сводил бы людей с ума побегами оттуда и так далее, ну вы знаете. Может быть, где-нибудь мне бы перепала бутылочка вина к обеду или еще что-то.
– Да, – сказал Фармер, – я тебя понял. – Он поджал губы. – И вот что я тебе скажу. Я кое-что поразведаю, а ты, наверное, пробудешь здесь еще пару дней. И ты знаешь, я не думаю, что твоя идея такая уж безумная. Разве лучше шляться по улицам и колоться?
– Замерзая до смерти, – добавил Джо.
– Замерзая до смерти, – подтвердил Фармер. – Или все же лучше сидеть в помещении с полдюжиной пива или вином к обеду? Я-то знаю, что я бы выбрал. К тому же, когда тебе есть где жить, ты можешь принимать лекарства, если, конечно, хочешь лечиться.
– Да-а уж, – неуверенно протянул Джо.
Через несколько дней на доске объявлений рядом с входной дверью отделения социальной работы в Бригеме появился загадочный листок, где было от руки написано:
ДЖО
СНАРУЖИ
холодно
их порошки
литр водки
ВНУТРИ
тепло
наши порошки
6 банок пива
Под написанным кто-то нацарапал: “И как я догадался, что это повесил Пол Фармер?”.
Друзья Фармера устроили Джо в приют для бездомных. Конечно, социальные работники напомнили Фармеру, что алкоголь в приюте запрещен по понятной причине. Фармер тем не менее ходатайствовал за Джо, сдерживая свое обещание, но, я полагаю, не надеясь победить.
На Рождество Фармер дежурил в Бригеме. В этот день он нашел время посетить своих пациентов вне больницы. Всем им он принес подарки, и Джо получил шесть банок пива, для конспирации обернутых праздничной бумагой.
Видно было, что Джо рад и визиту, и подарку. Когда Фармер выходил из приюта, он слышал, как Джо сказал кому-то:
– Этот парень – чертов святой.
Фармер потом гадал, хотел ли Джо, чтоб эти слова были услышаны.
Не в первый раз услышал Фармер, что его назвали святым. Я спросил его, как он на это реагирует, и он сказал, что чувствует себя вором из романа Готорна “Мраморный фавн”. Там вор крадет что-то в католической церкви, но, перед тем как убежать, окунает руки в святую воду.
– Для меня не важно, редко или часто люди говорят мне: “Ты святой”. Нравится мне это или нет, но это не так.
Я подумал, что он из приличия отнекивается. Но затем он добавил:
– Когда меня называют святым, я думаю, что должен работать еще больше. Потому что стать святым было бы здорово.
Я почувствовал смутную тревогу. Не то чтобы слова эти показались мне нескромными, но передо мной словно очутился вдруг кто-то незнакомый, не тот, с кем я болтал минуту назад, а другой человек, чьи амбиции я пока и представить себе не мог.
Фармер закончил работу в Бригеме и отправился в Гаити первого января 2000 года. Мы обменялись электронными письмами. Он послал мне экземпляр своей последней книги “Инфекции и неравенство” (Infections and Inequalities). Это был трактат, снабженный огромным количеством сносок, с разбором историй отдельных больных, призванных проиллюстрировать главные темы: связь между бедностью и болезнью, неправильное распределение медицинской помощи в мире и “нелогичные объяснения причин данных явлений”, предлагаемые учеными и бюрократами от здравоохранения. Временами казалось, что автор едва сдерживает гнев. Он описывал, как назначил антибиотики неимущей больной ТБ: “Когда она начала принимать препараты, результаты не заставили себя ждать – ну прямо как при поддающемся лечению инфекционном заболевании!” Пол Фармер, написавший эту книгу, не был похож на Пола Фармера, который работал в Бригеме. Этот Пол Фармер кричал с каждой страницы. Я поблагодарил его за книгу и добавил, что собираюсь прочитать и две предыдущие.
“Читаю ваши труды”, – написал я.
Он ответил по электронной почте: “Да нет, мои труды не в этом. Чтобы увидеть мои труды, прилетайте в Гаити”.
Глава 3
Фармер прислал за мной машину, полноприводный пикап, в аэропорт города Порт-о-Пренс, и меня повезли по двухполосной мощеной дороге куда-то на север. Но уже на другой стороне равнины Плэйн-дю-Кюль-де-Сак, у подножия гор, дорога превратилась в нечто вроде высохшего русла реки, и автомобиль начал застревать и буксовать, взбираясь на кручи. Загляни за край обрыва – и увидишь россыпи автомобильных остовов. В какой-то момент беседы прекратились, даже дружелюбные разговорчивые гаитяне на переднем сиденье притихли.
На картах Гаити эта дорога называется Национальным скоростным шоссе № 3 и выглядит главной магистралью, проходящей через страну. В действительности эта gwo wout la, единственная большая дорога, пересекающая Центральное плато, – узкий немощеный тракт, где-то усыпанный камнями, местами изъеденный эрозией до коренной породы, а на участках, где в дождливое время топкая грязь, запекшийся бороздами, словно созданными для того, чтобы издеваться над колесами, копытами и ногами. Тракт вился через пустынные горы и селения, состоящие из деревянных домишек, пересекал бродами несколько речушек. Грузовики самых разных размеров, до отказа заполненные людьми, переваливались из ямы в яму, поднимая тучи пыли, моторы стонали на низких передачах. Вдоль дороги тянулся бесконечный поток людей на истощенных осликах или пешком. Тут и там по обочинам стояли нищие, одной рукой потирая свои впалые животы, а другой держа перевернутые соломенные шляпы. Тут и там мальчишки, расчистив мотыжками небольшие участочки дороги, показывали, какие они молодцы, и протягивали руки, надеясь на награду. Нищета бросалась в глаза: вот повозка для вола, но вола нет, ее тянет человек. Деревьев было мало, особенно за Мирбале. После городка Пелигр электрические столбы кончились. Весь путь, всего лишь около шестидесяти километров, занял три часа, а по ощущениям – намного больше. Уже было темно, когда на вершине очередной каменистой кручи в деревне Канжи фары нашего пикапа осветили высокую бетонную стену, потом ворота в стене и вывеску рядом: “Занми Ласанте”, что по-креольски значит “Партнеры во имя здоровья”. На вывеске была также картинка: четыре руки тянутся с четырех сторон света, и пальцы их соприкасаются. Грузовик завернул в ворота, и дорога стала гладкой – какое облегчение! Так я прочувствовал, что такое труды Фармера, еще до того, как увидел их.
При дневном свете среди пропеченного, коричневого, почти лишенного деревьев ландшафта “Занми Ласанте” выглядит потрясающе. Если смотреть со стороны гор, этот большой комплекс блочных зданий, наполовину закрытый тропической зеленью, напоминает крепость. Внутри комплекса мир полон растительности. Высокие деревья шумят вокруг внутренних двориков, вдоль дорожек и стен – хитроумных конструкций из камня и бетона, поднимающихся по лесистому склону. Под сенью деревьев и амбулаторная клиника, и женское отделение, и общий стационар, а также большая англиканская церковь, школа, кухня, ежедневно готовящая на две тысячи человек, и новенький корпус для больных туберкулезом у самой вершины. В медицинском комплексе есть две лаборатории. Имеется водопровод, и слышно жужжание генератора, вырабатывающего электричество. В помещениях – плиточные полы, чистые белые стены и потолки, картины гаитянских художников, приятные глазу, красочные, изображающие тот самый тропический рай, что описан в дневниках Христофора Колумба.
На следующее утро я впервые сопровождал Фармера при обходе (потом это стало традицией). Общий порядок всегда один и тот же. Его день начинается на рассвете, в нижнем дворике рядом с амбулаторией. Ночью, в лунном свете, можно видеть очертания доброй сотни людей, спящих на земле. Утром их вдвое больше: люди всех возрастов, женщины в платьях и тюрбанах, старики в соломенных шляпах, многие в стоптанной до дыр обуви – все ждут появления врача или медсестры.
Как только Фармер в своем гаитянском наряде – черных джинсах и майке – входит в ворота, часть толпы бросается ему навстречу. Старик, которому нужны деньги на еду; женщина с письмом, которое необходимо переправить в США. Молодой человек, который показывался другому врачу, но хочет, чтобы его посмотрел Фармер, кричит ему:
– Мне столько всего надо обсудить с вами, Докте Поль!
В толпе Фармер ищет в первую очередь тех, кто нуждается в неотложной помощи. Медсестра уже нашла такую – симпатичную молодую женщину с завернутой в полотенце рукой. Медсестра зовет Фармера. Он подходит, отлепляет полотенце и смотрит на руку.
– Это гангрена, – говорит он мне. – Понюхайте.
Он дает медсестре указания, как промывать рану, и мрачно смотрит, как та уводит женщину.
– Она поранила руку две недели назад. Интересно, понимает ли она, что ей грозит. Как будто им не хватает других проблем. Даже мелкие травмы тут никто не лечит.
Обход двора обычно занимает час. Фармер уже почти закончил, когда к нему подходит невысокий пожилой мужчина, снимает соломенную шляпу и говорит по-креольски:
– Я ищу человека по имени Докте Поль.
Фармер улыбается:
– А вы знаете Докте Поля, отец?
– Нет, – говорит старик, – но мне надо найти его.
Одна из сотрудниц берет старика за руку:
– Пойдемте поищем Докте Поля.
И пока она уводит его к другому врачу, Фармер наконец покидает двор. Худощавая фигура шагает по тенистой тропе по направлению к кухне и маленькой комнате над ней, где каждое утро, до работы с больными, Фармер отправляет и получает электронную почту через спутниковый телефон.
Должен сказать, что в тот момент, когда я увидел “Занми Ласанте” в этой маленькой деревне Канжи, которая казалась мне краем света, я почувствовал прикосновение чуда. Ведь Канжи расположена в беднейшем регионе беднейшей страны Западного полушария. Я знал, что в Гаити доход на душу населения около одного доллара США в день, а на Центральном плато и того меньше. Страна потеряла большую часть своих лесов и значительную часть почвы. Медицинская статистика – самая плохая в западном мире. И вот здесь, в самом нищем, больном и голодном районе Гаити, стояла эта чудесная окруженная стеной крепость – “Занми Ласанте”. Я бы вполне поверил, если бы мне сказали, что ее доставил сюда космический корабль.
В первую же неделю в Канжи я встретил крестьянина, привезшего больного ребенка на осле за двадцать километров по обочине Шоссе № 3. Я спросил его, рад ли он, что добрался до Канжи и медицинского комплекса. Незачем было и спрашивать. Он удивился моему вопросу и просто сказал: “Wi!” В районе имелись и другие клиники и больницы, но ни одна не была хорошо оснащена, а в некоторых были просто антисанитарные условия. И везде больные должны были платить за лекарства и даже за резиновые перчатки для осмотра. Среди жителей Центрального плато мало кто мог платить за что-либо вообще. В “Занми Ласанте” с пациентов брали небольшую плату, примерно восемьдесят американских центов. На этом настаивали гаитянские коллеги Фармера. Фармер не спорил, хотя и был медицинским директором. Вместо этого – как я понял позднее, таков был его стиль – он просто перевернул правило. Восемьдесят центов причиталось с каждого пациента, кроме женщин и детей, кроме крайне бедных и тяжелобольных. Так что все должны были платить, кроме, в общем-то, всех. И принимали всех без исключения, это было правило Фармера.
Наверное, не меньше миллиона крестьян обращались в “Занми Ласанте”. На данный момент в ее сфере обслуживания жили около ста тысяч. В комплексе работали семьдесят человек медперсонала. Некоторые больные проходили огромные расстояния. Правда, как измерить расстояние в стране с разрушенными дорогами и деревнями, где проложены только пешеходные тропы? Люди шли из Порт-о-Пренса и с южного полуострова Гаити, из городков вдоль границы с Доминиканской Республикой, где говорят по-испански. Большинство же добирались с Центрального плато на стареньких перегруженных грузовиках, курсировавших по Шоссе № 3. Многие приходили пешком или приезжали на ослах. Время от времени можно было увидеть, как кровать с больным на матрасе приплывала к воротам, поддерживаемая четырьмя носильщиками по углам.
И в “Занми Ласанте” иногда случалась путаница с рецептами, иногда не было лекарства в аптеке, иногда лаборанты теряли образцы. Семь врачей работали в комплексе, среди них были и не очень компетентные. Весь персонал составляли гаитяне, а медицинское образование в Гаити в лучшем случае посредственное. Но “Занми Ласанте” построила школы и дома, санитарные станции, наладила водоснабжение на территории своего округа. Детям делали прививки, улучшили питание. Смертность детей в возрасте до года снизилась. Были запущены разные программы: по обучению женщин грамоте и по профилактике СПИДа. В округе передача ВИЧ-вируса от матери к ребенку была снижена до 4 %, что вдвое ниже, чем в США. Несколько лет назад в Гаити случилась вспышка брюшного тифа, устойчивого к обычным лекарствам. “Занми Ласанте” заказала дорогие и эффективные антибиотики, провела обеззараживание воды, и вспышка была остановлена по всему Центральному плато. По-прежнему в целом в Гаити от туберкулеза умирает больше людей, чем от других болезней, но на территории обслуживания “Занми Ласанте” с 1988 года от него не умер никто.
Деньги для “Занми Ласанте” поступали через маленькую благотворительную организацию под названием “Партнеры во имя здоровья” (Partners In Health), основанную Фармером и управляемую из Бостона. Счета по американским меркам были невелики. Фармер и его команда общественных медработников лечили больных туберкулезом по месту жительства, в их домишках. Лечение одного больного без осложнений стоило от 150 до 200 долларов.
В США такое лечение проводится в стационаре и стоит от 15 до 20 тысяч долларов.
Больница, в которой я лечусь в Массачусетсе, обслуживает 175 тысяч больных в год, ее годовой бюджет составляет 60 миллионов долларов. В 1999 году “Занми Ласанте” потратила 1,5 миллиона на лечение примерно такого же количества больных в медицинском центре и на дому. Половина этой суммы была получена в виде пожертвованных лекарств. Собственно деньги иногда поступали из грантов, но больше из частных пожертвований. Самые большие вложения были сделаны Томом Уайтом, бизнесменом из Бостона, который жертвовал миллионы и миллионы в течение нескольких лет. Фармер тоже давал деньги, но не мог точно сказать сколько.
Постепенно я узнавал детали и факты жизненного пути Фармера, и они не казались мне очень уж необычными, пока я не составил общую картину. В 1993 году фонд Макартуров дал ему один из так называемых грантов для гениев, в данном случае в размере 220 тысяч долларов. Фармер отдал всю сумму “Партнерам во имя здоровья” для создания научного подразделения под названием Институт здоровья и социальной справедливости. В Гарварде и Бригеме он зарабатывал около 125 тысяч в год, но не видел ни зарплатных чеков, ни довольно скудных гонораров и авторских отчислений за лекции и книги. Бухгалтер в головном офисе ПВИЗ обналичивала его чеки, чтобы оплачивать его счета плюс ипотеку за дом его матери. Все, что оставалось, шло в фонд. Однажды в 1999 году Фармер попытался что-то оплатить своей картой, но оказалось, что кредитный лимит уже исчерпан. Он позвонил бухгалтеру, и она сказала ему: “Радость моя, ты уникальный трудоголик-банкрот”.
Раньше, будучи холостяком, во время работы в Бостоне Фармер жил в подвале здания “Партнеров во имя здоровья”. Четыре года назад он женился на гаитянке Диди Бертран. Сначала он не видел нужды менять место проживания, но, когда в 1998 году у них родилась дочь, жена настояла на переезде. Их новым жильем стала квартира при Гарварде, в которой они, правда, появлялись нечасто. В момент описываемых мною событий Диди вместе с двухлетней дочкой находилась в Париже, где завершала собственное образование – она училась на антрополога. Друзья говорили Фармеру, что он должен проводить больше времени с семьей. “Но у меня же нет пациентов в Париже”, – отвечал он. Хотя по семье явно скучал. Когда я был у него в Гаити, он звонил своим из комнаты со спутниковым телефоном по меньшей мере раз в день. Теоретически он проводил четыре месяца в Бостоне и остальное время в Канжи, но фактически эти промежутки были разрезаны на куски постоянными разъездами по местам, где, в отличие от Парижа, пациенты у него имелись. Несколько лет назад авиакомпания American Airlines пригласила его в клуб “миллионеров” по счету налетанных миль. С тех пор он налетал уже два миллиона.
Единственное жилище, которое Фармер мог хотя бы с натяжкой назвать своим домом, – маленький домик в Канжи, прилепившийся к отвесной скале через дорогу от медицинского комплекса. Это был несколько измененный гаитянский ti kay, улучшенная копия крестьянской хижины с металлической крышей и цементным полом. Отличие заключалось в наличии ванной комнаты, хоть и без горячей воды. Заглядывая к Фармеру, я часто отмечал, что кровать выглядит так, будто к ней и не подходили. Он сказал мне, что ночью спит по четыре часа, но позже сознался: – Я не могу спать. Всегда кому-то нужна помощь. Я не могу к этому спокойно относиться.
Недосыпание, никаких инвестиций, семья далеко, даже горячей воды нет. Как-то вечером, через несколько дней после моего прибытия в Канжи, я спросил его, какое же вознаграждение он получает за свою работу в столь трудных условиях. Он ответил:
– Если вы чем-то жертвуете сознательно, а не следуя на автомате каким-то правилам, логично предположить, что вы таким образом пытаетесь смягчить некий психологический дискомфорт. Вот, например, вы решили стать врачом для людей, лишенных всякой медицинской помощи. Это можно рассматривать как самопожертвование, но можно и как способ расправиться с двойными стандартами. – Немного изменившимся голосом, не сердито, но все же довольно резко, он продолжал: – Для меня двойной стандарт – продавать свои услуги в мире, где не все могут за них платить. Ты чувствуешь его потому, что невозможно его не чувствовать. Запятая.
Вот так я впервые услышал, как Фармер употребляет слово “запятая” в конце предложения. После запятой подразумевалось еще одно слово – “сволочь”. Я понимал, что это не относилось ко мне, мне бы он так никогда не сказал, он почти всегда был очень вежлив. Эта запятая относилась к другим, к тем, кто был вполне доволен распределением благ и медицинских услуг в мире. Отсюда вытекало, конечно, что ты, его собеседник, не такой. Ведь правда?
По утрам я следовал за Фармером: сначала двор, потом электронная почта, потом его кабинет на первом этаже самого нового здания – Туберкулезного центра имени Томаса Д. Уайта. На стене висели дипломы Фармера, а также фотография его давнего друга – первого демократически избранного президента Гаити Жана-Бертрана Аристида. Президент позировал с мальчиком, которого Фармер вылечил от туберкулеза. Обстановку кабинета составляли стол для осмотра больных, негатоскоп, письменный стол и офисное кресло, которое сотрудники медцентра подарили Фармеру на Рождество. На кресле все еще болталось немного мишуры.
Фармер садится за свой стол и смотрит на меня:
– Какая перед нами задача?
Я пожимаю плечами.
Он говорит:
– Быть на месте. За дверью вечно маячат люди. Синдром маячка.
Человек тридцать – иногда я насчитывал и сорок – ждут в коридоре. Кто сидит на скамьях, кто бродит туда-сюда. Входит медсестра в белом халате и возмущенно говорит Фармеру:
– Сколько им ни твержу, чтоб сидели, не слушаются!
Фармер улыбается ей и на гаитянский манер хлопает ладонью по тыльной стороне другой руки.
– Это наш крест, – отвечает он.
Сестра с недовольным видом выходит. Фармер оборачивается ко мне:
– Нельзя слишком уж сочувствовать персоналу, иначе рискуешь забыть о сочувствии к пациентам.
А они и правда, прямо по Евангелию, нищие и увечные, хромые и слепые. Вот старик, который лечится от легочного туберкулеза и напоминает мне Рэя Чарльза. (Он слепой, но носит очки. Он сказал, что ему нужны очки, и Фармер нашел ему пару.) Вот человек помоложе, которого Фармер называет Лазарем. Несколько месяцев назад родственники принесли его на кровати. СПИД и туберкулез истощили его до веса в 35 килограммов, а сейчас он весит 70, от ТБ его вылечили, а развитие СПИДа приостановили, спасибо лекарствам. Вот здоровая с виду молодая женщина, отец которой всего месяц назад собирал деньги на ее похороны.
А вот, с другой стороны, хорошенькая девушка стонет от боли из-за приступа серповидно-клеточной анемии, случившегося во время курса лечения от устойчивого к лекарствам туберкулеза.
– Тише, деточка. Тише, миленькая, – приговаривает Фармер. Он заказывает морфий.
Пожилой мужчина с гастритом. В Гаити, по словам Фармера, пожилыми бывают и в тридцать лет, так как 25 процентов гаитян умирают до сорока.
– Это потому, что здесь голод, – говорит Фармер, осматривая пациента. – Мускулатура в порядке, но, возможно, на склоне лет ему уже трудно драться за еду или же он кому-то ее отдает.
Он заказывает для мужчины питательные смеси.
Шестнадцатилетний мальчик не может ходить – настолько он слаб. Он весит всего 25 килограммов. Фармер находит у него язву.
– Его организм привык к голоду. А мы его подкормим. – Фармер достает банку питательной смеси Ensure. – Хорошая вещь. Будем давать ему по три банки в день и накормим его на двести долларов этим Ensure. Как же я буду счастлив проигнорировать принцип экономической эффективности.
Вот крошечная пожилая женщина, спина ее согнута под прямым углом. Задолго до того как Фармер увидел ее, туберкулез разрушил ее позвоночник. Это болезнь Потта, которая легко лечится, а без лечения “выжигает” ткани. Сейчас для женщины ничего уже нельзя сделать. Она пришла попросить денег, еды и внимания. Фармер встает, когда она входит, приветствует ее, называя mami mwen – “матушка”. Он наклоняется к ней, почти опускаясь на колени, она целует его сначала в одну щеку, потом в другую и говорит:
– Сын всегда заботится о своей матери.
Фармер подвигает ей стул, но она не садится, а держится за него, положив подбородок на сиденье, и смотрит, как доктор принимает других больных.
Так же как и в Бригеме, он стремится к физическому контакту с больными. Сажает их на стул совсем рядом со своим – мне кажется, для того, чтобы беспрепятственно касаться их своими тонкими, бледными, длинными пальцами. Он называет старых женщин “матушка”, а старых мужчин – “отец”. Многие несут ему дары, например молоко в зеленой бутылке, заткнутой кукурузным початком.
– Oh, cheri! Mesi anpil, anpil! Спасибо, спасибо! – говорит Фармер. Он улыбается, глядя на бутылку на столе, и комментирует по-английски: – Некипяченое коровье молоко в грязной бутылке. Мечтаю попробовать! – Он поворачивается ко мне: – Это все так ужасно, что можно и посмеяться, хуже не будет.
Я вижу, как женщина на сносях, оттолкнув медсестру, вламывается в кабинет. У нее ВИЧ-инфекция, и она пришла пройти профилактику изониазидом, поскольку к тому же еще имеет контакт с туберкулезником. Ей нужны деньги на еду, муж у нее умер. Она повышает голос до крика, почти радостного:
– Вы тут все мои мужья!
Следующим входит молодой человек:
– Докте Поль? Я приходил сюда, когда был очень болен. Сейчас мне намного лучше. Поэтому я хотел бы сфотографироваться.
На стену рядом со своим письменным столом Фармер прилепил скотчем три листа желтой разлинованной бумаги. На каждое строчке написана задача, которую надо выполнить, и нарисован квадратик, по-креольски bwat. Я заметил, что когда он делает что-то не занесенное в список, то приписывает задачу, рисует bwat рядом и ставит галочку. Это доставляет ему необыкновенное удовольствие. Должен признаться, что и я это удовольствие разделяю, хотя и незаслуженно, когда он говорит: “Сделано немало”.
Настенный лист содержит около шестидесяти дел: организовать слайды для предстоящих докладов, достать Лазарю Библию и кусачки для ногтей, передать больному купленные для него в аэропорту Майами наручные часы, получить препараты мокроты от нескольких больных лекарственно-устойчивым ТБ и послать их в Бостон на анализ. Этот список демонстрирует то, что в Бостоне назвали бы интересной врачебной практикой. Она, определенно, очень разнообразная. Один из пунктов в списке: “консультация по колдовству”.
В одной из своих книг Фармер написал, что в сельской местности Гаити различают веру в колдовство и вуду. Вуду – это местная религия, включающая теорию и практику, но не каждый крестьянин исповедует вуду. А вот в колдовство, maji, верят почти все: и католики, и протестанты, и вудуисты. Жители Канжи убеждены, что колдовские чары, насланные врагами, – это истинная причина всяких болезней. Многие считают, что Фармер, подобно жрецам вуду, умеет бороться с колдовством.
Местный крестьянин сказал мне про Фармера: “Каждого из нас Бог наделяет даром, его дар – лечить”. Однажды на каком-то общем мероприятии бывший пациент Фармера поднялся и объявил: “Я верю, что он божество”. В Канжи также поговаривали, обычно шепотом, что “Докте Поль работает обеими руками”, подразумевая, что он использует и науку, и магию, чтобы снимать колдовские чары. Подобные восхваления и смущали, и забавляли Фармера. Он объяснял, что хотя это все довольно забавно, за этим кроется нелегкая история: – Гаитяне верят в колдовство потому, что их культура развивалась в отсутствие настоящей медицины. Конечно, они верят в колдовство, в то, что болезни насылаются на них кем-то. Иначе почему вдруг человек впадает в кому? Или, например, кто-то очень болен, и люди знают, что с такими симптомами больные умирают. А тут приходит врач, дает лекарство, и больной быстро выздоравливает. Люди задумываются, начинаются разговоры.
По мнению Фармера, гаитяне с готовностью принимают действенные лекарства. Среди его больных есть десятки жрецов вуду, некоторые из них даже выполняют функции общественных медработников, приводя к Фармеру больных из своей паствы.
По сути, колдовство – это гаитянское объяснение страданий, но обвинения в колдовстве тоже могут вызвать страдания. Вот старая женщина входит в кабинет Фармера. Это с ней будет консультация по колдовству. Недавно Фармер увидел во дворе ее сына в подавленном состоянии и спросил его, что не так. “Моя мать ненавидит меня”, – сказал он. И в самом деле, его мать считает, что он наслал болезнь, которая убила другого ее сына. Когда она усаживается рядом с Фармером, он не говорит, что колдовства не существует, но объясняет, что в данном случае колдовство ни при чем. Женщина упрямо поднимает подбородок и отворачивается, но постепенно смягчается. Однако еще месяцы и месяцы пройдут до окончательного примирения с оставшимся в живых сыном. Когда она уходит, Фармер говорит, что ему “на 86 процентов смешно”. А на 14 процентов, как я понимаю, очень грустно.
Эта женщина уверяла, что ее сын “продал” своего брата, используя креольское выражение, которое когда-то применялось к рабам. (Возможно, гаитянские суеверия отчасти родились из страхов рабовладельцев, мучимых совестью.
Как пишет антрополог Альфред Метро, очень многие гаитянские верования и колдовские обряды родом из Нормандии, Берри, Пикардии и древнего Лимузена.) Более того, обвинения в колдовстве могут происходить и от зависти, которая нередка среди бедных. У “виноватого” сына домик лучше, чем у матери. На самом деле она хотела сказать доктору, что сын не заботится о ней, поэтому он мог и наслать колдовство, чтобы убить брата. Такие предположения и обвинения возникают из-за экономического неравенства, и они довольно распространены, по словам Фармера. Они ссорят друзей и разрушают семьи.
– Когда это дошло до меня, я подумал: эх, граждане! Мало того, что вы, гаитяне, подвержены всем несчастьям, вы еще и обижаете друг друга нелепыми подозрениями.
Проведя несколько дней в Канжи с Фармером, я уже привык к его рассуждениям на эту тему. Фармер называл их “повествования о Гаити”. Но не могу сказать, что он этим злоупотреблял. Он мог и подолгу дружелюбно молчать, в целом даже предпочитал тишину. Во всяком случае, проповеди случались не чаще, чем обычные разговоры. Но я пытался проникнуть в его мир и поэтому иногда сам подталкивал его к “повествованиям о Гаити”, иногда даже откровенно провоцировал. Зато уж стоило ему завестись, как все вокруг нас становилось примером для нравоучительных выводов о страданиях гаитянской бедноты, каковые порой, в свою очередь, служили наглядным пособием для лекции о страданиях бедняков всего мира. Иногда он делал паузу, ожидая реакции собеседника, и спрашивал: “Вы меня понимаете?”
Проблема в том, что откликнуться на проповедь всей душой у меня обычно не получалось. Мне было очень жаль, что так много гаитянских детей умирает от кори (не в районе обслуживания “Занми Ласанте”), но я понимал: мое сочувствие никогда не будет достаточно глубоким, чтобы удовлетворить Фармера. И в итоге я потом какое-то время еще на него же и досадовал – так нас порой раздражают люди, которым мы оказали медвежью услугу.
Пробегали, сливаясь, дни и ночи. Фармер любил говорить своим гарвардским студентам, что хороший врач ни в коем случае не должен показывать больному, что у него тоже трудности или что он торопится: “За соблюдение таких вот простых правил вы будете вознаграждены с лихвой”. Конечно, это означало, что многие его пациенты проводили целые дни в ожидании приема, а также что он почти всегда кончал работу затемно.
Через жалюзи на окнах высоко на стене позади его письменного стола я вижу звезды, мерцающие в теплой ночи. Молодой человек с грустным лицом садится на стул рядом с Фармером и разглядывает свои ноги, обутые в потрепанные кроссовки с треснувшими подошвами. Его зовут Ти Офа. Он болен СПИДом. В Бригеме Фармер руководит обслуживанием больных СПИДом и здесь лечит Ти Офа так же, как делал бы это в Бостоне, борясь с сопутствующими инфекциями, чтобы они не превратились в хронические. В “Занми Ласанте” нет технической возможности определить вирусную нагрузку и уровень лимфоцитов CD4. Но по своему богатому опыту Фармер знает, что болезнь у Ти Офа приближается к финалу, когда вирус размножается неудержимо.
Ти Офа говорит:
– Мне стыдно.
– Любой может подхватить эту болезнь. Я уже тебе говорил, – отвечает Фармер.
Он открывает ящик стола и достает большую пластиковую бутылку. В ней лекарство – индинавир, один из новых ингибиторов протеазы, используемых для лечения СПИДа.
В настоящее время никто не лечит неимущих гаитян новыми антиретровирусными препаратами. На самом деле в отсталых странах больных СПИДом бедняков практически не лечат вовсе. Даже друзья Фармера среди местных чиновников от здравоохранения говорили ему, что лечить СПИД такими методами в Канжи – безумие, и, конечно, многие специалисты международного здравоохранения с этим согласились бы. Если оставить в стороне прочие аргументы, новые лекарства от СПИДа обойдутся “Занми Ласанте” примерно в пять тысяч долларов в год на одного больного. Тем не менее Фармер начал лечить некоторых больных по схеме тройной терапии. Несколько месяцев назад он выступил в Массачусетсе с докладом под названием “Кембридж борется со СПИДом” и сказал там: “Кембридж борется со СПИДом, но не очень энергично”.
Он тогда беспокоился, не зашел ли слишком далеко, но в результате, по его же предложению, медицинские работники, слушавшие доклад, а также люди, больные СПИДом, собрали довольно много неиспользованных лекарств, так что Фармер смог взять на лечение еще несколько пациентов в Канжи. И намерен лечить еще больше. При поддержке коллег в Массачусетсе он разрабатывает заявки на гранты, чтобы обеспечить постоянный запас лекарств в нужном объеме. Они найдут деньги, сказал он мне. “Разумеется, мы найдем деньги”.
Он вынимает и показывает Ти Офа драгоценную бутылку с лекарством. Встряхивает ее, так что таблетки внутри побрякивают. Он говорит Ти Офа, что начинает курс лечения этим лекарством и еще двумя другими прямо сейчас. Хотя ВИЧ-вирус не будет уничтожен, объясняет Фармер, но симптомы болезни исчезнут, и если все пойдет хорошо, Ти Офа проживет много лет, как будто никогда и не был инфицирован. Только он должен пообещать ни в коем случае не пропускать ни одного приема лекарства.
Ти Офа говорит, что не пропустит. Он все еще разглядывает свои кроссовки. Фармер подвигается к нему ближе:
– Ты надежду-то не теряй.
Ти Офа поднимает глаза на него:
– Да вот с вами поговорил, и уже легче. Чувствую, сегодня точно смогу заснуть. – Ему хочется с кем-то поделиться, и, похоже, он знает, что здесь его охотно выслушают. – Положение у меня тяжелое. Я все время стукаюсь головой, потому что у нас очень тесно. У нас только одна кровать, я пускаю детей спать на ней и поэтому сам сплю под кроватью. И я об этом забываю, сажусь и ударяюсь головой. Докте Поль, я не забыл, что вы для меня сделали. Когда я заболел и никто не хотел даже дотронуться до меня, вы приходили, сидели на моей кровати, положив руку мне на голову. Вы приходили к больным вечером так поздно, что жителям деревни приходилось привязывать собак. – И Ти Офа объявляет: – Я хочу принести вам курицу или поросенка.
Обычно кожа у Фармера бледная, с едва заметной россыпью веснушек. Но тут он мгновенно багровеет от шеи до лба:
– Прекрати это! Ты уже наприносил мне кучу всего.
Ти Офа улыбается:
– Этой ночью я буду спать прекрасно.
– Хорошо, дружище, – говорит Фармер.
Наступает время обхода: сначала с фонариком вниз по тропе к зданию больницы, в тускло освещенный стационар для взрослых, затем, с замиранием сердца, наверх, в Детский павильон. Кажется, там всегда найдется ребенок со вздутым животом, ручки-ножки как спички, волосы рыжеватые – все признаки квашиоркора, тяжелой дистрофии. Всего неделю назад, едва вернувшись в Канжи, Фармер не смог спасти ребенка, умиравшего от менингита, его страшной формы Purpura fulminans, когда происходит кровотечение из мелких сосудов в кожу и тело покрывается фиолетовой сыпью. Еще через несколько дней другой ребенок умер от столбняка, хотя и не в районе обслуживания “Занми Ласанте”.
Фармер задерживается около маленькой девочки в зыбке. Тоненькие ручки и тельце, вспухшее от плеврального выпота, – у нее внелегочный туберкулез. Она лежит на боку. Фармер гладит ее плечико, ласково приговаривая, почти что припевая по-английски:
– Мишеле трудно выздороветь, а мы ей хотим помочь, правда ведь? Мы ей обязательно поможем.
И опять он идет наверх горы, в туберкулезную лечебницу. Он оставляет ее напоследок, потому что, по его словам, там сейчас все выздоравливают. Больные собрались в одной палате, сидят на кроватях и смотрят футбол по телевизору, не обращая внимания на помехи на экране.
– Видали таких буржуев! Телевизор они смотрят! – радуется Фармер.
Больные смеются. Молодой человек парирует:
– Нет, Докте Поль, не буржуи. Если б мы были буржуями, у нас была бы антенна.
– Это поднимает мне настроение, – признается Фармер, когда мы выходим. – Не все так уж плохо. На семидесяти одном фронте мы проигрываем, но на одном или двух – побеждаем.
Мы идем вниз, выходим из ворот, переходим Шоссе № 3 и подходим к его дому.
Ночь на Центральном плато, в основном неэлектрифицированном, беспредельна. Орут петухи (они здесь все время орут), под теплым ветром листья шелестят на деревьях вокруг маленького патио, освещаемого от батареи. Чувствуешь себя, как на море в каюте яхты. Уютный уголок, здесь Фармер сейчас будет работать над своими докладами и заявками на гранты. Помогает ему специально для этого присланный из Бостона молодой пвизовец, выражаясь языком Фармера, то есть член организации “Партнеры во имя здоровья”.
Фармер держит на коленях огромную стопку медицинских исследований. Через какое-то время он откладывает их в сторону:
– Неохота мне, ребята.
И ведет меня осматривать его владения. Понятное дело, уважающий себя гость не посмеет отказаться.
– Вот это называется маниакальное садоводство, – говорит он и сообщает мне названия деревьев, цветов и кустарников, посаженных им здесь за все эти годы.
Я насчитываю около сорока разных видов. Под конец в слабом свете, падающем из патио, он рассматривает молодой папоротник, только что пробившийся из земли.
– Сильный, счастливый и здоровый. Такими должны становиться наши пациенты.
Слово “пациенты” звучит как гонг. Фармер возвращается корпеть над грудой клинических исследований. Через несколько минут Ти Жан, мастер на все руки, руководящий всякими ремонтными работами в “Занми Ласанте”, появляется из темноты и забирает Фармера обратно, на другую сторону Шоссе № 3.
В больнице на кровати у двери лежит и стонет девочка тринадцати лет, которую только что привезла ослиная “скорая помощь”. Два молодых местных врача, один пока еще интерн, стоят у постели, глаза опущены, губы поджаты. Фармер по-гаитянски хлопает кулаком о ладонь, приговаривая:
– Doktè-m-yo, doktè-m-yo, sa k’ap pase-n? (“Доктора, доктора, что с вами творится?)
Голос его звучит не сердито, скорее умоляюще, когда он внушает им: нельзя давать антибиотики больному менингитом, пока не сделаете пункцию спинного мозга и не узнаете, какого происхождения этот менингит и какое нужно лекарство.
Затем он делает пункцию сам, а молодые врачи держат девочку и наблюдают за его работой.
– Я очень хорошо делаю пункцию, – говорит он мне. По-видимому, так оно и есть, к тому же он левша, а левши, как мне кажется, за работой всегда выглядят более ловкими. Вены набухают на тонкой шее Фармера, когда он вводит иглу.
Девочка кричит:
– Li fe-m mal, mwen grangou!
Фармер поднимает глаза и на секунду снова “повествует о Гаити”:
– Она кричит: “Больно, есть хочу!” Немыслимо, правда? Только в Гаити ребенок может кричать, что он голоден, во время пункции спинного мозга.
Глава 4
Вскоре после того как я приехал навестить его в Канжи, Фармер сообщил, что будет здесь моим Вергилием. Похоже, когда речь заходила о Гаити, для Фармера каждый из нас становился студентом, которого надо учить и переучивать. Ни про какую другую страну не говорили столько глупостей, сказал он. С этим трудно спорить, учитывая, что, например, название гаитянской коренной религии – вуду – давно стало синонимом безумных идей и полного умопомрачения.
Фармер любил рассказывать историю о том, как он сам провел в Гаити исследование о связи медицины и веры в колдовство. В 1988 году одна женщина из района обслуживания “Занми Ласанте” умерла от туберкулеза, пока Фармер был в Бостоне с тяжелым переломом ноги. Когда он вернулся в Канжи, сотрудники медцентра сказали, что эта больная не умерла бы, если бы Фармер был на месте. Тем самым они хотели похвалить Фармера. А он себя упрекал. Он хотел, чтобы медицинская система работала и в его отсутствие. Каждому члену семьи умершей он нашел работу в “Занми Ласанте” и провел несколько собраний с персоналом, чтобы понять, какие ошибки были допущены в лечении.
Обсуждение было оживленным. Работающие в клинике непрофессиональные медработники “Занми Ласанте”, живущие среди крестьян и сами недавние крестьяне, подчеркивали, что чем беднее больные, тем хуже идет лечение, например из-за плохого питания. Один медработник сказал, используя гаитянское выражение, что давать голодающему больному лекарство от ТБ – это то же самое, что “мыть руки и вытирать их о землю”. Однако профессиональные медики – врачи, медсестры и лаборанты – давали другое объяснение. Они видели причину в психологии больных, как обычно и пишут в научных журналах. Как только больные чувствовали себя немного лучше, задолго до настоящего выздоровления, они переставали принимать лекарства. ТБ вызывается не микробами, а колдовством, наведенным врагами, считали они.
Фармер чувствовал, что не может объединить эти две идеи. Теория медработников сводилась к описанию социо-экономического устройства, которое он называл “насилием структуры”. Но как растущий антрополог он понимал, насколько важны народные верования, о которых говорили медики-профессионалы. Тогда он решил изучить проблему. В то время он еще был студентом в Гарварде. И вот он спланировал исследование как учебный курс, который сам же и проходил.
Он отобрал две группы больных туберкулезом. В ходе исследования обе группы получали бесплатное лечение, такое же, какое применялось в Бригеме. Одна из групп также получала дополнительные блага: их регулярно навещали общественные медработники, им давались небольшие суммы денег на еду, на уход за детьми и на транспорт до Канжи. Фармер ходил пешком по деревням, посещая всех своих больных в их хибарах. Это продолжалось неделями. “Сотня разговорчивых гаитян – это не шутка, – говорил он. – Не пытайтесь повторить эксперимент дома”. Фармер всех их спрашивал, помимо прочего, верят ли они, что ТБ вызывается колдовством. За очень небольшим исключением ответ в обеих группах был “да”. И все же результаты исследования показали, что эффективность лечения в двух группах радикально отличается. Там, где больные получали только бесплатные лекарства, вылечилось 48 процентов. В группе, получавшей дополнительный уход и деньги, вылечились все. По-видимому, никакой роли не играло, верили больные в бактериальное или в колдовское происхождение своего недуга.
Фармер был озадачен.
– Я уже почти поверил в то, что мысли людей влияют на их поведение и на результаты лечения, – сказал он мне.
И он не мог найти объяснения, пока не начал проводить дополнительный опрос тех же больных. Он позвал одну из своих любимых пациенток – милую пожилую женщину. Когда он беседовал с ней в первый раз около года назад, она даже слегка обиделась на него за вопросы о колдовстве. Она была из тех немногих, кто заявлял, что не верит в сверхъестественное. “Поло, милый, – сказала она. – Я не такая глупая. Я знаю, что туберкулезом заражаются от людей, которые кашляют микробами”. Она аккуратно принимала все лекарства. Она выздоровела.
Но теперь, годом позже, когда он снова задал этот вопрос, она ответила, что, конечно, верит в колдовство.
– Я знаю, кто наслал на меня болезнь, и я ей отплачу, – сказала ему женщина.
Фармер воскликнул:
– Если вы верите в колдовство, зачем же принимали лекарства?
Она взглянула на него. И он запомнил эту легкую сочувственную улыбку. Это была улыбка старшего, объясняющего что-то ребенку (и в самом деле, врачу было всего двадцать девять).
– Cheri, – сказала она, – eske-w pa ka konprann bagay ki pa senp?
Креольское выражение pa senp означает “непросто” и предполагает, что предмет содержит некую сложность, обычно волшебного свойства. Так что, в свободном переводе, она сказала Фармеру: “Милый, ты что, не способен понимать сложное?”
И тут, конечно, до него дошло, что он знает множество американцев (да он и сам такой), чьи убеждения на первый взгляд противоречивы: например, они верят одновременно и в медицину, и в силу молитвы. Фармер почувствовал, что словно бы завис в воздухе перед своей пациенткой, “поднятый за шиворот ее сочувствием и ее удивлением”.
Результаты исследования он принял для себя как наказ впредь беспокоиться о материальных нуждах больных, а не об их верованиях. С этого момента все больные ТБ в округе получали полный набор: так называемое “лечение под непосредственным контролем”, помощь общественного медработника, следящего за регулярным приемом лекарств, а также ежемесячное денежное пособие в размере пяти долларов – на дополнительное питание, уход за детьми и регулярные поездки к врачу в “Занми Ласанте”. Программа работала очень хорошо, лучше и быть не могло. За двенадцать лет ни один из больных не умер, и ни один пункт в этой программе Фармер менять не собирался.
Совсем недавно больной ТБ из деревни Морн-Мишель не явился на ежемесячный медицинский осмотр. Поэтому – таково было правило – кому-то следовало за ним поехать. В анналах международного здравоохранения описано очень много случаев, когда хорошо финансируемые программы проваливались из-за того, что недисциплинированные пациенты принимали не все полагающиеся лекарства. Фармер сказал: “Только нас, врачей, можно называть недисциплинированными. Если больной не выздоравливает, это наша вина. Ошибки надо исправлять”.
Любимая история про Докте Поля в деревне Кэ-Эпен о том, как несколько лет назад Фармер гнался за больным, который убежал в поле сахарного тростника, и умолял его выйти и дать полечить себя. Он и сейчас время от времени ездил за больными сам. Это чтобы вдохновить персонал и отдохнуть от приема, объяснял он. Итак, он собрался в Морн-Мишель и брал меня с собой.
“За горами – горы”. Эта поговорка очень подходит для описания Морн-Мишель, самой удаленной из всех деревень в районе обслуживания “Занми Ласанте”. В назначенный день за завтраком Фармер сообщил женщинам на кухне о своих намерениях.
– О-о-о-о-о-о! – закричали они.
Одна сказала:
– Морн-Мишель? Поло, ты что, хочешь угробить своего блана?
Под “бланом” она подразумевала, конечно, меня. Это не было грубостью. Женщины с кухни даже Фармера называли ti blan mwen, что значит “мой беленький”. Но блан – это не обязательно белокожий. Можно сказать, что каждый блан автоматически считается белым просто потому, что он блан. Как-то у Фармера работал чернокожий студент-медик из США, и кое-кто в “Занми Ласанте” интересовался, не брат ли он Фармеру. Позднее они спутали второго чернокожего студента с первым. Фармер подсмеивался над этим, и кто-то из персонала парировал (Фармер клянется, что это правда): “Вы, бланы, все такие одинаковые”.
Вначале мы ехали на юг по Национальному шоссе № 3 на пикапе, Фармер за рулем. Дорога шла мимо двухкомнатных хижин с железными крышами и маленьких амбаров на столбиках, где хранились продукты. Их строят, объяснил Фармер, чтобы животные не добрались, но крысы все равно поедают треть урожая. Ехали мимо малорослых свиней и коз и тощих желтых собак. Чуть улыбнувшись, Фармер рассказал, что у гаитянских крестьян много прибауток, например: только они работают на таких кручах, где в кукурузном поле можно сломать ногу. Или: их собаки такие хилые, что прислоняются к деревьям, чтобы полаять. Вскоре далеко внизу показалось горное озеро. Очень красивое зрелище: голубая вода среди крутых безжизненных горных склонов. Но Фармер сказал, что крестьяне видят это по-другому: ужасное водохранилище захватило плодородные земли, похоронило их и изуродовало плоскогорья.
Он поставил машину рядом с развалинами маленького цементного завода. Кусты и трава проросли в беспорядке сквозь ржавый остов. В сотне метров от нас из воды торчала бетонная плотина. В то время Фармер выступал в США с множеством докладов, иногда по нескольку раз в день, и в каждой речи, которую я слышал, он говорил о плотине. Плотина упоминалась во всех книгах, опубликованных им до 2000 года, и в книгах, которые он помогал писать и редактировать, а также во многих его журнальных статьях – к тому времени их набралось сорок две. Как ученый и писатель Фармер приложил все усилия, чтобы показать, насколько взаимосвязаны богатые и бедные страны, и плотина была его любимым примером.
Эта плотина поставлена на Артибоните, самой большой реке Гаити. Плотина называется Пелигр, а образовавшийся водоем – озеро Пелигр. План был разработан инженерами армии США. Строительство проводила техасская компания Brown & Roote в середине 1950-х, во времена правления одного из гаитянских диктаторов, поддерживаемых США. Деньги поступали из американского банка Export-Import Bank. Это подавалось как “проект развития”, и, несомненно, среди создателей проекта были люди, верившие, что это настоящий подарок Гаити. Но никто, похоже, не подумал о земледельцах, живущих в долине выше по течению реки.
Целью проекта были улучшение ирригации и выработка электроэнергии. И не сказать чтобы крестьяне Центрального плато не нуждались или не были заинтересованы в современных технологиях, объяснял Фармер. Но как раз они-то, по их собственным словам, ни воды, ни электричества не получили. Большинство не получило и компенсации. На самом деле плотина должна была помочь сельскохозяйственным предприятиям, расположенным ниже по течению, – в то время ими владели в основном американцы, – и снабжать электричеством Порт-о-Пренс, в первую очередь дома очень немногочисленной богатой элиты Гаити и сборочные заводы, принадлежавшие опять же иностранцам. После затопления долины молодежь Канжи, дети “водных беженцев”, как их называет Фармер, стала уезжать в поисках работы в столицу. Там они готовили, убирали, шили тряпичных Микки-Маусов и бейсбольные мячи. Теперь многие возвращаются домой зараженные СПИДом.
Когда Фармер впервые увидел эту область Гаити и начал раскапывать историю, старожилы пускались в длинные рассказы о том, как они жили до того, как вода поднялась. Тогда их семьи имели фермы по берегам реки, у всех было достаточно еды и еще оставалось немного на продажу. Кое-кто помнил, что их предупреждали о затоплении. Но река по-прежнему текла мимо, и они, наблюдая за строительством плотины, не могли поверить, что какая-то бетонная стена может остановить реку. Один старик вспоминал, как увидел, что вода поднимается, и внезапно осознал, что его дом и козы через несколько часов окажутся под водой. “Тогда я взял ребенка, козу и пошел наверх”. Люди спешили уйти и унести с собой все, что можно было забрать. Уходя, они то и дело оборачивались и видели, как вода заливает их огороды и поднимается все выше к кронам их манговых деревьев. Большинству из них ничего не оставалось, кроме как обосноваться на ближайших крутых склонах. Здесь земледельцам грозили эрозия почвы и недоедание, с каждым годом все больше напоминающее настоящий голод. И годами слышались плач, проклятия и ожесточенные споры соседей, воюющих за владение оставшейся землей.
Потом положение еще ухудшилось. После строительства плотины у большинства крестьян хотя бы оставались черные низкорослые креольские свиньи. Они выполняли функцию банковских счетов, ими можно было платить за все, например за обучение. Но в начале 1980-х крестьяне потеряли и свиней. В соседней Доминиканской Республике случилась вспышка африканской свиной лихорадки, и США, опасаясь за американскую свиную промышленность, уничтожили всех креольских свиней в Гаити. Планировалось заменить их свиньями, купленными у фермеров Айовы. Однако новые свиньи были более нежными, требовали более дорогого ухода и питания, они плохо приживались. В итоге многие крестьяне остались вообще без свиней. На следующий год после массовой бойни в школах смогло учиться гораздо меньше детей – и по стране, и в районе Канжи.
Мы пошли по верху плотины. Перила заржавели, бетон местами отслаивался. Справа от нас мчались бурные воды Артибонита, слева маленькие лодочки бороздили голубые спокойные воды. Чуть ли не тропический курорт. Фармер шел быстро. Какое-то время его сопровождала стайка детей. Местные жители, шедшие навстречу, улыбались ему и говорили: Bonjou, doc mwen – “Доброе утро, мой док”. Сначала было облачно, потом солнечно, потом опять облачно и тихий ветерок. Я чувствовал прилив сил и бодрости благодаря популярности Фармера, бросавшей отсвет и на меня.
По другую сторону плотины пешеходная тропинка (рыхлая земля вперемешку с камнями) вела прямо вверх. У Фармера была позвоночная грыжа – результат путешествий по Шоссе № 3 в течение девятнадцати лет. Попав под машину в 1988 году, он перенес операцию на левой ноге, и с тех пор она чуть-чуть отходила в сторону под неестественным углом, словно опорная подставка мотоцикла, как выразился один из его братьев. Он страдал врожденной гипертонией и средней тяжести астмой, возникшей после выздоровления от предполагаемого туберкулеза (точного диагноза так и не поставили). Но когда я, пыхтя и потея, добрался до вершины первого холма, он уже был там, сидел на камне и писал письмо давнему другу, спонсору “Партнеров во имя здоровья”, недавно потерявшему жену. Это был первый из многих холмов на нашем пути.
Мы обогнали улыбающихся детей, поднимавшихся по крутым каменистым тропам, там, где мне приходилось карабкаться на четвереньках. Дети несли воду в ведрах и пластмассовых контейнерах из-под красок, масел и антифриза. Заполненные водой контейнеры весили как полносильщика, обуви у детей не было. Мы проходили мимо островков проса – национального злака, который, казалось, рос не из земли, а из камня, мимо небольших рощиц банановых пальм и кое-где других тропических растений. Фармер останавливался, чтобы сообщить латинское и общее название: азимина (пау пау), анона, манго – невеселый перечень, потому что представителей каждого вида здесь было гораздо меньше, чем следовало бы ожидать в этом климате.
На многих деревьях, еще остававшихся на этой земле (или на этих камнях?), я видел политические граффити, намалеванные красной краской: “Титид” – уменьшительное имя президента Аристида – и “2001” – год, когда, судя по всем плакатам и граффити в районе Канжи, ему предстояло переизбрание. Полагаю, политика помогала гаитянским крестьянам бороться с безнадежностью. Многие эксперты из процветающих стран любят заявлять от имени гаитян, что у них, мол, все безнадежно, говорил Фармер. В данный момент нашего путешествия я и сам подписался бы под таким заявлением. Жилища в этих горах были гораздо хуже большинства домов в районе Канжи. Здесь полы были земляные, а крыши – из листьев банановых пальм. Эти крыши протекают в дождливый сезон, подчеркнул Фармер, и превращают полы в грязь. Мы прошли мимо женщин, стирающих белье в ручейке, текущем по дну овражка.
– Сегодня суббота, – пояснил Фармер. – День гигиены. Похоже, мастер по ремонту стиральных машин не пришел. Гаитяне – народ щепетильный. Я знаю, я облазил здесь самые дальние уголки, самые глухие дыры. Но они сморкаются в одежду, потому что у них нет носовых платков, подтираются листьями и извиняются перед своими детьми, что еды не хватает.
– Ужас, – сказал я.
Но этого было недостаточно. Фармер разошелся.
– И не думайте, будто они этого не знают, – продолжал он. – У БЛ есть такое клише насчет гаитян, что они, дескать, “бедные, но счастливые”. Да, у них приятные улыбки и хорошее чувство юмора, но это совсем другое.
Как и многие другие его замечания, это заставило меня задуматься.
В тот самый момент, когда ты уже решил, что примерно понял его видение мира, Фармер вдруг удивляет тебя. У него были расхождения с людьми, которые вроде бы казались его союзниками, да часто, по сути, и являлись таковыми. Например, с теми, кого он называл БЛ – белыми либералами (притом что некоторые из самых влиятельных представителей этой категории были чернокожими и богатыми). “Я люблю БЛ, до смерти люблю. Они на нашей стороне, – сказал он мне несколько дней назад, поясняя это сокращение. – Но БЛ считают, что все мировые проблемы можно решить, ни в чем себя не ущемляя. Мы в это не верим. Еще нужны самопожертвование, раскаяние, даже жалость. То, что отличает нас от тараканов”.
Мы шли дальше. Я заметил, что многие гаитяне здесь, как и в Канжи, носят американскую одежду, поношенные кроссовки известных марок, бейсбольные кепки и майки с названиями спортивных команд и клубов. Такие вещи здесь называли нарицательным именем кеннеди. Фармер объяснил, что в 1960-х президент Кеннеди поддержал программу помощи Гаити, и среди прочего туда посылалось машинное масло. Гаитяне пробовали использовать его для других надобностей, например для готовки, и пришли к выводу, что подарок этот очень низкого качества. С тех пор имя президента стало синонимом подержанного барахла. Кое-где можно было увидеть и другой тип импорта, выполняющий чисто декоративную функцию. В “Занми Ласанте” один молодой работник носил новую соломенную шляпу гаитянского стиля, на которую то ли он сам, то ли его жена пришила самодельную этикетку с надписью Nike.
Мы продолжали путь, глубже и глубже в горы, Фармер впереди. Мы болтали, я – обращаясь к его спине. Я обливался потом, но его шея – шейка-карандашик, как шутили его друзья, – оставалась совершенно сухой. Люди приветственно махали ему. При этом руку они держали неподвижно, только пальцы шевелились, словно ножки жука, перевернутого на спину.
– Посмотрите, как гаитяне машут! Прелесть, правда? Вы чувствуете? – сказал он мне, так же шевеля пальцами в ответ.
Наша тропа вилась по бесплодным крутым отрогам. Я думал, что я в довольно приличной спортивной форме, однако на каждой вершине Фармер ждал меня и, улыбаясь, просил не извиняться – я ведь на четырнадцать лет старше, к климату не привык и так далее.
Обычно он добирался до Морн-Мишель за два часа. В тот день только через три часа мы подошли к жилищу недисциплинированного пациента. Хатка была сделана из необтесанного пальмового дерева, крыша – из банановых листьев; внутри очаг, который гаитяне называют “три камня”.
Фармер спросил больного туберкулезом молодого человека: может быть, ему не нравятся лекарства?
– Шутите? – был ответ. – Если б не они, меня бы уже на свете не было.
Оказалось, что больному дали в Канжи нечеткие инструкции и, кроме того, он не получил стандартной денежной помощи. Однако же лекарство он принимал без перерыва, что Фармер был рад слышать. Миссия выполнена. Фармер удостоверился, что лечение не прерывалось.
Мы пошли назад. Я поскальзывался и съезжал вниз по тропинкам за спиной у Фармера.
– Кто-то счел бы, что дело не стоило пятичасового похода, – сказал он мне через плечо, – но это абсолютно бесценно – убедиться, что система работает.
– Конечно, – согласился я. – Но кто-то спросил бы: как можно ожидать, что другие последуют вашему примеру? На это что бы вы ответили?
Он обернулся и, мило улыбаясь, сказал:
– Идите к черту! – Но тут же менторским тоном поправился: – Нет. Нужно сказать так: необходимо воспитывать во врачах и медсестрах внутреннюю потребность посвящать всего себя пациентам и, в частности, полному излечению больных туберкулезом. – Он задорно улыбался, лицо его светилось. В эту минуту он казался совсем юным. – Другими словами, идите к черту.
Мы снова двинулись в путь, и Фармер продолжал, обращаясь ко мне через плечо:
– И если нужно идти пешком пять часов, выдавать больному молоко, кусачки для ногтей или изюм, радио, часы – значит, нужно. Почему в Нью-Йорке мы тратим 68 тысяч долларов на одного туберкулезника, а здесь, если вы начнете выдавать больным радио и часы, международное здравоохранение тут же обвинит вас в создании слишком дорогостоящих проектов? Если больной говорит, что ему нужна Библия или кусачки для ногтей, – ради бога, в чем проблема!
Я с трудом спускался с очередного обрыва, когда из рощицы внизу донесся какой-то шум: громкий крик, потом шиканье, потом снова крик. Через несколько минут мы увидели площадку для петушиных боев. Загон окружала плотная толпа мужчин в соломенных шляпах, грубых штанах и рубахах; на ногах – рваные кроссовки, резиновые шлепанцы, старые коричневые туфли без шнурков. Рядом разместились два продавца еды – конкуренты. Другие двое расставили доски для игры в кости; кубики смешивались в сосуде, напоминающем чайник викторианской эпохи. Женщины там тоже были, но держались с краю. Народ расступился, чтобы дать Фармеру место у перил. Он постоял немного. Петухи ходили кругами, примериваясь. Потом один бросился в атаку, хлопая крыльями, и Фармер отошел.
Он переместился под деревья, и там вдруг откуда ни возьмись появились два металлических стула, красный и синий, с драными клеенчатыми сиденьями. Это всегда случалось, когда я ходил с Фармером по деревням: откуда-то появлялись стулья, один для Докте Поля, другой для его блана. Мы сели, и в ту же секунду нас окружили женщины. Их было не меньше дюжины: и пожилые, и хорошенькие девушки в сарафанах с одной порванной перемычкой. Одна женщина среднего возраста, с красивым лицом, но без нескольких передних зубов, облокотилась о дерево и что-то негромко говорила Фармеру. Другие стояли под деревьями или сидели на земле неподалеку, некоторые тоже время от времени с ним переговаривались. Одна женщина сообщила, что им тут нужен еще один медработник, но в целом они пришли просто поболтать. Широко распространено мнение, будто в деревнях люди неразговорчивы, но где найти такую деревню, мы пока не знаем.
Я был измотан, одежда на мне промокла от пота, мысли блуждали. Я думал о стульях, на которых мы сидели: представлял, как их выбросили при обновлении офисов где-нибудь в Миннеаполисе или Майами и какой долгий путь они проделали до этой деревни. Мне казалось, я понял, почему эти женщины, вместо того чтобы смотреть, как положено по субботам, национальный спорт – бой петухов, собрались вокруг Фармера и потихоньку болтают с ним о том о сем своими низкими певучими голосами, неторопливо растягивая слова. Несколько лет назад Фармер прибавил к своей растущей медицинской программе проект по здравоохранению, предназначенный специально для женщин, но поскольку гинеколога среди персонала не было, он наскоро освоил эту специальность самостоятельно и какое-то время практиковал здесь. По-видимому, многие из присутствующих прошли у него первый в своей жизни гинекологический осмотр. Он рассказывал им о регулировании деторождения и предлагал противозачаточные средства тем, кто хотел. Шум и крики с петушиной площадки, кажется, достигли апогея, но все это словно происходило где-то вдали. Я чувствовал, что вот-вот засну, что я уже заснул, убаюканный женскими голосами.
Остаток обратного пути был в основном под гору, хотя и подъемы еще встречались. Я с трудом выбрался из очередного оврага. Фармер, как всегда, уже ждал меня. Он стоял на краю обрыва и смотрел вдаль. Вид отсюда открывался необыкновенный. Прозрачный занавес дождя и туч, снопы солнечных лучей охватывали желтые горы перед нами, и желтые горы за горами, и озеро Пелигр. Раньше зрелище показалось бы мне живописным, но не сегодня. Может быть, я чему-то уже научился. Впрочем, сомневаюсь, что мои новые познания удовлетворили бы Фармера. Ведь не просвещение людей, включая меня, было его целью. Он хотел изменить нас.
Я добыл из кармана слегка намокшую упаковку колечек Life Savers и предложил ему угоститься. Он взял конфетку, сказав:
– Ананасовая! Между прочим, это мои любимые. – И вернулся к созерцанию пейзажа.
Он смотрел на воды Артибонита, перекрытые плотиной. Они разлились на запад и восток, теряясь из виду вдали среди гор. Отсюда площадь затопленной земли казалась необъятной. Не отводя от нее взгляда, Фармер произнес:
– Чтобы понять Россию, чтобы понять Кубу, Доминиканскую Республику, Бостон, политику идентичности, Шри-Ланку, спасательные круги, нужно стоять на вершине этой горы.
Этот список, очевидно, был составлен в шутку, да и голос его звучал весело. Но меня не покидало чувство, что он сказал нечто важное. Общий смысл я вроде бы уловил. Вид на земельные угодья, затопленные плотиной, сделавшей его пациентов беднейшими из бедных, – это призма, через которую нужно смотреть на мир. Его призма. Взгляни сквозь нее – и увидишь миллиарды бедствующих во всем мире и поймешь какие-то общие, логически связанные причины их нищеты. Во всяком случае, Фармер, по-видимому, считал, что я прекрасно его понял. С некоторым раздражением я осознал, что не решусь ничего ответить, ибо боюсь его разочаровать.
Часть II Железные крыши Канжи
Глава 5
Стоит провести хоть сколько-то времени с Фармером, и непременно станет любопытно: как получилось, что он выбрал такой образ жизни? Свои изыскания я начал с традиционной отправной точки.
Родители его были из Западного Массачусетса. Фармер появился на свет в 1959 году в городке Норт-Адамс – в прежние времена это был солидный промышленный центр. Он родился вторым из шести детей: три мальчика, три девочки. Маму звали Джинни, она была дочерью фермера. Джинни, не доучившись, бросила колледж, чтобы выйти замуж. Черты матери, довольно высокой худенькой женщины, определенно проглядывают в Фармере. Сын унаследовал ее нос, и они одинаково легко краснеют.
Отец Фармера, Пол-старший, был крупным мужчиной под метр девяносто, весом больше 100 килограммов. Он был хорошим спортсменом, упорно стремился к победам на соревнованиях. Товарищи по баскетбольной команде прозвали его Локтем. Дочери окрестили его Стражем за строгость: никакой косметики, никаких кавалеров, вечером быть дома. Характер он имел непоседливый. У него была надежная работа в торговле в Массачусетсе, но друг сказал ему, что настоящие деньги можно сделать, занимаясь торговлей на юге, в Алабаме: “Алабама – это спящий великан”. В 1966 году Страж увез свою растущую семью на юг, в Бирмингем.
Оглядываясь назад, можно сказать, что годы в Алабаме были для Джинни счастливыми. Мебели у них было маловато, зато они жили в настоящем доме и впервые купили стиральную машину-автомат. Чтобы семья могла позволить себе поездки на каникулы, Страж купил на аукционе большой автобус. Интересно, что этот автобус когда-то служил передвижной туберкулезной лечебницей, на крыше даже имелась специальная надстройка для размещения рентгеновского аппарата. Автобус был марки Blue Bird, и Фармеры называли его отелем “Синяя птица”. Между тем Пол-младший, или Пи-Джей, или Пел для своих, вполне процветал. Сестры помнят его тощим мальчишкой, бурно проявлявшим как гнев, так и симпатии. “К тому же, – добавляют они, – у него были потрясающие мозги”. В начальной школе его определили в класс для особо одаренных. В четвертом классе он организовал кружок по герпетологии. На первое заседание кружка он пригласил всех одноклассников к себе домой и попросил маму сделать печенье из рисовых хлопьев. Никто из одноклассников не пришел, и Пол притих на какое-то время (для его старшей сестры – верный знак, что он огорчен). Тогда кружком стала семья – по велению Стража участие было обязательным. Собрания кружка проходили в гостиной. Пи-Джей наряжался в банный халат, водил указкой-палочкой по нарисованным углем рептилиям и амфибиям. Рисунки были сделаны им самим, и сделаны отлично – даже его братья и сестры это признавали. Он рассказывал, чем животные питаются, как размножаются, как долго живут, описывал их интересные и необычные свойства. Каждый вид он называл по-латыни. Одна из сестер вспоминает, как ей хотелось побить его и убежать обратно на улицу играть. Но постепенно и она, и остальные втягивались и начинали задавать вопросы.
Обе его бабушки были благочестивыми католичками, семья посещала церковь, и Пи-Джей прошел через все обряды первого причастия и конфирмации, даже какое-то время служил алтарником, однако глубоко это его не затрагивало. “Это было скорее для порядка, – вспоминал он, – хотя месса мне нравилась и тогда, и сейчас нравится. Но гораздо больше меня увлекало чтение”. Родители одного мальчика из его класса для особо одаренных владели книжным магазином, и когда Полу было одиннадцать лет, они дали ему почитать трилогию Дж. Р. Р. Толкиена “Властелин колец”. Он прочитал всю книгу за пару дней и тут же перечитал ее. Затем принес книгу в библиотеку и попросил подобрать что-нибудь похожее. Ему выдали несколько томов фантастики. Он принес их обратно со словами: “Все не то”. Так продолжалось некоторое время, пока однажды библиотекарь (наверняка не без колебаний, ведь мальчику было всего одиннадцать) не дала ему “Войну и мир”. “Вот это то, что нужно! – сказал он библиотекарю через неделю. – В точности как “Властелин колец”!” Годы спустя он пояснил: “Ну правда же, где найдешь более религиозное чтение, чем “Властелин колец” или “Война и мир”?”
Продажи в Алабаме шли у Стража не особенно успешно. Он стал учителем. Но атмосфера в Бирмингеме в конце 1960-х заставляла их с Джинни беспокоиться о безопасности детей. Страж нашел работу в школе во Флориде, и в 1971 году семья погрузила свое имущество – все, что поместилось, – в отель “Синяя птица”. Все вместе – Страж, Джинни и дети – ухитрились вытащить во двор стиральную машину, но в двери автобуса она так и не пролезла. Одно из самых ярких воспоминаний Фармера – это как они отъезжали от дома, который снимали в Бирмингеме. Он смотрел на свою милую молодую маму, а она не могла отвести глаз от своей стиральной машины, белеющей среди кусков угля, разбросанных по двору. Другой у нее не будет еще долго. Они направлялись в Бруксвиль, городок к северу от Тампы на побережье Мексиканского залива.
Старшая сестра Фармера помнит, как они ехали в своем отеле “Синяя птица” по нарядной улице городка. Красиво свешивался с деревьев испанский мох, по обеим сторонам возвышались дома с колоннадами на парадном крыльце, напоминающими архитектурный стиль рубежа XVIII–XIX веков. Страж, сидевший за рулем, сказал: “И у нас будет такой дом”. Но пока что они направились к поселку на колесах Брентвуд-Лейк, где рядом с сосновым лесом стояли автофургоны. Страж был, видимо, занят своими мыслями и, подъезжая к администрации поселка, то ли забыл про надстройку на крыше автобуса, то ли не заметил электрических проводов наверху. Как бы то ни было, надстройка зацепилась за провода и сорвала их.
Когда аварию устранили, Страж нашел цементный блок, положил его перед дверью автобуса вместо ступеньки, и семья поселилась на новом месте. Джинни пошла работать в супермаркет, где научилась одновременно управляться с кассой, улыбаться покупателям и нажимать педаль конвейера. Она была простым кассиром, но вечерами читала детям “Плачь, любимая страна”, а годы спустя пошла учиться в Смит-колледж и все-таки получила степень бакалавра. Никто в семье не помнит, чтобы мама жаловалась на что-то в то время во Флориде. “Моя мама точно как Дева Мария, только что не дева: любящая, добрая, никого не осуждала. Наш оплот спокойствия”, – говорила одна из сестер Фармера. Много лет спустя Джинни признавала, что следовало бы, пожалуй, почаще стоять на своем и не потакать во всем Стражу, но ведь тогда была эра послушных жен. “Впрочем, – добавила она, – спорить с Полом Фармером было нельзя. Просто нельзя. И мы знали, что он любит нас”.
В надстройке на крыше автобуса Страж соорудил полати в три яруса для мальчиков. Пи-Джею досталось место на самом верху. Он лежал на своей полке, читал или делал уроки, а под ним его брат Джефф упражнялся на барабане, время от времени объявляя: “А вот так стучал Крупа”. Тем не менее в школе Пи-Джей был отличником. Потом он говорил, что у такой жизни были свои преимущества. Его отец считал возможным поселиться с семьей в автобусе, зато он совершенно не возражал против большого аквариума с рыбками для Пи-Джея. Фармер утверждал, что в детстве у него никогда не было чувства, что ему чего-то не хватает. Правда, он соглашался, что все это было довольно необычно. Он вспоминал, как однажды возвращался в поселок на колесах на школьном автобусе и его одноклассник-афроамериканец удивился: “Как, вы здесь живете?” Они прожили в автобусе пять лет, иногда пускаясь на нем же в путешествия.
Страж, что вполне для него характерно, так и не разобрался до конца в электрической схеме автобуса, и каждый раз, когда они возвращались на стоянку и подключались к источнику питания, шансы были пятьдесят на пятьдесят, что вилка будет вставлена неправильно и кого-то ударит током. Мальчики спорили, чья очередь вставлять. Страж не озаботился пометить вилку – может быть, потому, что сам никогда ее не подключал. Он был занят другими делами, с улыбкой объяснила мне Джинни. Однажды, когда они возвращались из поездки в Массачусетс, на шоссе во время грозы сломался кое-как изготовленный Стражем фаркоп, на котором к автобусу крепился прицеп. Отель “Синяя птица” соскользнул с дороги, упал вниз с крутой насыпи и перевернулся на крышу. Надстройка не дала ему покатиться дальше. Каким-то чудом никто серьезно не пострадал. Однако Стражу понадобились месяцы, чтобы худо-бедно привести семейное жилище в порядок.
Когда Фармер рассказывал мне эту историю, я спросил, где они жили во время ремонта.
– В палатке, конечно. Что за вопрос?
Бывали дни в автобусе, когда Страж пел и танцевал, бывало, он читал вслух пьесы Шекспира и книжки вроде басен Эзопа. Но, например, Кэти, старшая сестра Фармера, утверждает, что даже его чтение порой действовало на нервы. Только он начал читать “Швейцарскую семью Робинзонов”, книжку о семье, спасшейся с потерпевшего крушение корабля и счастливо живущей на острове в примитивных условиях, как Кэти подумала: “Так-так…” Позднее, когда он стал читать “Робинзона Крузо”, она с первых же страниц взмолилась про себя: “Нет, только не это!” Были и другие тревожные предзнаменования. Страж никогда не был на море, но еще в Алабаме покупал журналы, посвященные лодкам и яхтам. У него их уже накопилась целая кипа.
Примерно в то время, когда Пи-Джей только стал старшеклассником, Страж купил на аукционе старый вельбот – пятнадцатиметровый пустой корпус с дырой, которую он зачинил. Затем Страж взял годовой отпуск на своих двух работах (в Бруксвиле он преподавал в школе и занимался с умственно отсталыми взрослыми) и принялся строить кабину для лодки, пыхтя и чертыхаясь, познавая по ходу дела плотницкие премудрости. Семья была подключена к процессу в полном составе. На полпути деньги стали подходить к концу, и Страж объявил Пи-Джею и младшим мальчикам: “Мы идем собирать апельсины”. “Папа, белые не собирают апельсины”, – возразил Пи-Джей. “Да ну? Я вам покажу белых”.
Большинство сборщиков на апельсиновых деревьях и в самом деле были чернокожими. Пи-Джей слышал, как они переговаривались, сидя на своих деревьях, и спросил отца, что это за странный язык. “Это креольский. Они гаитяне”, – объяснил Страж. И он кратко описал юному Полу невероятную бедность страны Гаити. Но тогда Пи-Джей не успел познакомиться с гаитянами – на сборе фруктов Фармеры проработали недолго. Плата была мизерная. Уже через несколько дней Страж объявил, что с них хватит. Он вернулся к работе над лодкой, которую в честь жены назвал “Леди Джин”. Решив наконец, что все готово, он купил генератор для лодки и большой запас рыболовного снаряжения. Вообще-то семейный бюджет не позволял таких расходов, но Страж твердил, что они моментально окупятся. По его плану лодка должна была обеспечить им полную независимость. Она станет и домом, и источником дохода – отныне они начнут ловить рыбу на продажу.
Их первое путешествие началось в спокойный и солнечный день. Страж стоял у руля. Они вышли в Мексиканский залив, далеко, так, что берег уже не был виден, бросили якорь в мелких водах залива, пообедали, поплавали. Пи-Джей и остальные дети резвились вокруг лодки. Но съедобной рыбы они поймали очень мало, а вечером поднялся шторм. Ветер завывал, лодку швыряло у якоря, и Джинни насмерть перепугалась. Страх сделал ее такой же неуступчивой, как муж, и ночью она заставила его выбросить обвязанный веревкой генератор за борт, чтобы служил вторым якорем. А в это время в чреве лодки, в ходуном ходящей каюте дети веселились как никогда: “Вот это да! Настоящий шторм!”
Много лет спустя брат Фармера Джефф говорил мне, что он всегда знал: мореход из отца никудышный. Еще утром, когда они только вышли в открытый океан, стало ясно, что он ничего не смыслит в навигации. “Но вот в чем штука… странное дело. Мы видели, что он берется за то, чего не умеет, но почему-то чувствовали себя в безопасности. Точно знали, что он нас как-нибудь да вытащит, что ему все нипочем”. Джинни, которая столько страху с ним натерпелась, сказала про Стража так: “Он отчаянно рисковал, но в итоге все всегда кончалось благополучно”. И добавила, помолчав: “Ну то есть ни разу никто серьезно не пострадал”.
На следующий день, направляя лодку к берегу, Страж сбился с курса и задел скалу, и все же они благополучно добрались до порта. Еще несколько раз “Леди Джин” выбиралась в короткие, но памятные путешествия. Во время одного из них Страж проигнорировал сигнальные буи, размечающие фарватер, – видимо, считал, что они относятся к факультативным правилам, которым он следовать не обязан. Джефф забеспокоился: “Папа, мы вышли из фарватера”. “Помолчи, тебе-то откуда знать”, – огрызнулся Страж. В ту же секунду лодка с размаху села на мель. Но в основном после первого и единственного рыболовного путешествия “Леди Джин” оставалась на причале в необитаемом местечке побережья Мексиканского залива, в его рукаве, называемом Дженкинс-Крик.
На книжной полке в маленьком домике на выжженных холмах в центре Гаити у Фармера стояла фотография этого прежнего дома. “Леди Джин”, выкрашенная когда-то в белый цвет, пришвартована к металлической трубе. Лодка окружена болотной травой, на заднем плане высокие пальмы. От лодки мостки ведут на сушу. На крыше каюты – телевизионная антенна. Каюта, кубическая надстройка, возведенная на округлом корпусе судна, смотрится немного нелепо. Отеля “Синяя птица” не видно на фотографии, но он стоит неподалеку, на проселочной дороге за ручьем, готовый к семейным поездкам.
Страж был здесь счастлив. Похоже, его желание сбылось: семья как будто и впрямь обитала на острове, надежно огражденная от зловредных влияний. Что касается Пола-младшего, он любил эту бухточку, звездное безмолвие, скопу, жившую в гнезде рядом с “Леди Джин”, справа от носовой части, выдр, проплывавших мимо, лающие крики аллигаторов в ночи. Подрабатывая в Бруксвиле, в аптеке и в закусочной, он копил деньги и покупал материалы для экспериментов с ландшафтным дизайном и устройства маленького пруда с рыбками недалеко от мостков. То, что приливы периодически смывали его сооружения, Пи-Джея не смущало.
Тяжелее всего жизнь в заливе давалась Джинни. Она работала полный рабочий день в супермаркете и должна была заботиться о шести детях и муже на лодке. Братья Пи-Джея росли крупными, в отца, всегда хотели есть, а холодильник на лодке был такой маленький, что его приходилось наполнять каждый день. Когда шел дождь, они подставляли кастрюли и сковородки под потоки, льющие сквозь дырявую крышу. Ночью по днищу бегали тараканы – звук был такой, будто в комнату набились нетерпеливые женщины и постукивали длинными ногтями по столу. Стирали Фармеры в городской прачечной, а сами мылись и мыли посуду в солоноватой воде заливчика. Воду для питья привозили издалека, незаметно наполняя свои емкости из кранов около бензоколонок и набивая ими багажник. К тому времени Страж купил на аукционах еще два автомобиля – “Пестрый грузовичок” и списанную армейскую легковушку за 288 долларов, получившую прозвище “Командирская машина”.
Однажды на пустынной дороге из Бруксвиля “Командирская машина” перегрелась. Воды с собой не было, и Страж велел мальчикам помочиться в радиатор. Пи-Джей и остальные дети стеснялись этих машин, особенно “Командирской”. Как-то по дороге в школу они попросили отца высадить их подальше. Вместо этого он подъехал по полосе для автобусов прямо к школе, да еще посигналил гудком. “Вот, будете знать”, – сказал он.
Фармер говорил о своем детстве: “Когда я рассказываю про себя, все звучит как-то уж чересчур гладко. Легко было бы сказать, что ребенком я жил в доме на колесах, собирал апельсины с гаитянами, потом стал интересоваться рабочими-иммигрантами и отправился в Латинскую Америку. Все это так, да не так. Нам говорят, что биографии должны быть аккуратными и логичными, вот мы так их и пишем. А на самом деле можно прийти к тому же самому совершенно иным путем”.
Действительно, если дети растут без водопровода, живут в автобусе или на лодке со Стражем у штурвала, это может предопределять их характеры и судьбы очень по-разному. Все дети Фармеров, став взрослыми, живут в обычных домах. Одна из сестер стала художником по рекламе, другая заведует общественными связями в психиатрической больнице. Третья сестра – профессиональный оратор. Один из братьев работает электриком. Джефф стал профессиональным борцом, болельщики зовут его Супер-Джей, а в семье его прозвище – Добрый Великан.
Бесспорно, однако, что детство Фармера послужило хорошей подготовкой к кочевой жизни. Так же как и его братья и сестры, из вод заливчика он вышел с очень нетребовательной, как он сам выразился, пищеварительной системой. Ужины, состоявшие из хот-дога и фасолевого супа, сделали его неприхотливым в еде. А жизнь в тесноте развила способность концентрироваться в любых условиях. Он мог ночевать в зубоврачебном кресле – в течение одного лета он так и делал в клинике в Гаити и уверял, что это было далеко не худшее спальное место в его жизни. Вероятно, его слабость к хорошей гостинице и бутылке дорогого вина – того же происхождения. После “Командирской машины”, говорил Фармер, ты уже ни перед кем не будешь смущаться и робеть. Он допускает, что такое детство не способствовало ощущению “родного гнезда”. “У меня никогда не было чувства, что вот это – мой дом. Скорее так: мы тут остановились. А потом я опустился на дно колодца и вдруг понял: да вот же мой дом”. Он имел в виду Канжи.
Отчасти ради того, чтобы отвертеться от утомительных хлопот по дому-лодке, которыми их норовил нагрузить отец, Пол и остальные дети записались чуть ли не во все кружки и секции, какие только могла предложить школа Эрнандо-Хай в Бруксвиле. “В вашей семье лежебок нет”, – как-то сказал я матери Фармера. “Негде лежать было”, – ответила она. В школе Фармер пользовался большой популярностью, особенно у девочек. Объясняется просто, сказала его мать: он их слушал. В выпускной год он был президентом класса и поступил в Университет Дьюка с полной стипендией.
К большому удивлению Фармера, как вспоминает Джинни, первый семестр он окончил вовсе не круглым отличником. Все было в новинку. Он впитывал настоящую культуру. Стал театральным критиком в студенческой газете, писал и об изобразительном искусстве. Когда газета поручила ему написать статью про спектакль, он впервые в жизни попал в театр. Тогда же он обнаружил, что на свете существуют богатые. В общежитии он познакомился с первокурсником Тоддом Маккормаком, сыном процветающего спортивного агента. Когда Маккормак распаковывал свои вещи, Фармер спросил его: “Зачем ты засунул рубашки в полиэтиленовые пакеты?” Одаренный мальчишка из маленького городка в Южной Флориде, он не привык принимать горячий душ, не имел ни приличной одежды, ни карманных денег, а в Дьюке некоторым его однокурсникам родители купили квартиры, чтобы они не жили в общежитии. Какое-то время он встречался с девушкой, державшей собственную лошадь в конюшне неподалеку от кампуса. Как большинство (60 процентов) учащихся, он вступил в студенческое братство и стал там директором по организации мероприятий. “Богатство сильно меня притягивало, – вспоминал он. – Чуть не затянуло”.
Был такой период в первые два года в Дьюке, когда некоторым членам семьи казалось, что Пи-Джей проходит традиционную американскую инициацию и скоро отвернется от родных. Как-то раз он приехал домой в рубашке Lacoste и высказался в духе, что, мол, не может носить нефирменную одежду. “Ну ладно, – отозвался Страж, – пусть наш фирменный Пел все-таки подраит днище”.
Однажды одна из младших сестер навестила его в университете. Во время завтрака с Пи-Джеем и его подружкой, девицей из обеспеченной семьи, сестра с живописными подробностями рассказала, как дома в заливчике она убила и выпотрошила беременную водяную змею, а из кожи смастерила шляпу “медузу” для Пола. Результат не разочаровал ее: подружка отодвинула несъеденный омлет, а Пи-Джей побагровел, пытаясь сдержать смех. Фармер вспоминал, как он как-то приехал из университета, а Страж открыл кузов своего ископаемого грузовичка, набитый бесполезным старым хламом, – навстречу им вылетело несколько ос, – и с саркастической усмешкой объявил: “Когда-нибудь, сын, все это будет твоим”.
К тому времени Фармер ушел из студенческого братства. Он написал им, что не может состоять в организации, где все белые. (“Я получил ледяной ответ”, – говорил он таким тоном, как будто до сих пор удивлялся подобной реакции.) Фармер научился ценить отцовское презрение к зазнайкам, его нежность к отщепенцам – умственно отсталым, с которыми он работал, малоимущим соседям по поселку на колесах, которые однажды подарили всем детям Фармеров копилки, сделанные из старых бутылок из-под отбеливателя, – его стремление подбросить денег тем, кто действительно беден. На последних курсах Пол приезжал домой все реже и реже, но не потому, что все еще хотел (если вообще когда-либо хотел) оставить позади старую жизнь ради новой, более благоустроенной. “Он должен был избавиться от влияния отца, – объясняла Джинни. – А дома его всякий раз возвращали к давно заведенному порядку”.
Все дети Фармера стремились завоевать одобрение отца. Но это давалось нелегко. Придешь домой с пятеркой за работу, а он спросит: “А кто-нибудь получил пять с плюсом?” Страж любил спорт. Братья Пола преуспевали во всех видах. Пи-Джей не имел успеха ни в одном. Но он старался. По семейной легенде, за тот год, что Пол занимался бейсболом, его единственный точный (по случайности) удар битой пришелся по голове сына тренера. В старших классах он пробовал теннис и бег на длинные дистанции и на соревнованиях так перенапрягался, что на финише его рвало. “Как вспомню, плакать хочется, – говорила Джинни. – Он так мечтал доказать отцу, что вот теперь он тоже спортсмен и отец может им по-настоящему гордиться”. На самом-то деле, по словам Джеффа, Страж постоянно хвалился успехами Пи-Джея – его отметками на экзаменах, его полной стипендией в Дьюке, – но только не в его присутствии: “Он безмерно гордился Пи-Джеем, но никогда не говорил ему об этом. Такой у него был характер – не желал, чтобы парень зазнался”.
Страж годами лелеял мечту: вот вырастут дети, обзаведутся семьями, все поселятся рядышком, и они с Джинни возглавят большой дружный клан. Вместо этого один за другим дети уходили из дома. Владелец земли рядом с заливом Дженкинс-Крик умер, участок купил округ, и Фармерам пришлось переехать. Они поселились в автофургоне на двух акрах соснового подлеска чуть в стороне от Стар-роуд в Бруксвиле. К этому времени с родителями жили только две младшие девочки, Дженнифер и Пегги. Свой новый дом они называли “Стар-роудской тюрьмой”.
“Леди Джин” нужно было снимать с якоря. Страж решил, что перегонит ее в другую гавань, дальше к югу. С собой он взял только Дженнифер. Его навигационные навыки нисколько не улучшились. Все так же он чихать хотел на сигнальные буи и вехи. “Он посадил лодку на мель, и мы провели там всю ночь, но снять ее так и не удалось”, – вспоминала Дженнифер. Утром отец объявил: “Мы просто сожжем ее прямо здесь”. Страж сказал, что устроит лодке погребение в море – по обычаю викингов. “Чтоб никто в ней больше не жил”, – добавил он. Тогда они с Дженнифер собрали с лодки все, что могло пригодиться, в основном книги и фотографии, погрузились на спасательную шлюпку “Мини-Джинни” и на веслах дошли до порта. Пока они покупали бензин для викингских похорон, по пристаням прошел слух о сумасшедшем плане Стража, и один человек остановил их: “Не делайте этого, вы же погибнете. Кроме того, я бы забрал ваш мотор”. Он стащил “Леди Джин” с мели и отбуксировал ее в порт. Но на суше Страж все-таки устроил семейной лодке погребальный костер.
Оглядываясь назад, Дженнифер говорила, что у брата Пола было немало общего с отцом. Больше всего, по ее мнению, сходство проявлялось в том, что оба, поставив себе цель, ни за что не отступали. Отец считал, что способен побеждать стихии. Ничего, никого, никогда не боялся. “Только один-единственный раз я видела, как его броня дала трещину, – тем утром, когда он решил сжечь лодку. Все шло наперекосяк. Лодка выброшена на берег, дети покидали дом, и не было больше у него хороших помощников”.
Он умер через несколько лет, в июле 1984 года, играя в дворовый баскетбол. Ему было сорок девять, и на вид он казался здоровым. По-видимому, это был инфаркт.
Телефон не сделал людей добрее. Узнав, что он принят в Гарвардскую медицинскую школу, Пи-Джей позвонил из Гаити домой обрадовать родителей, а Страж отмахнулся: “Да знали мы, что ты туда попадешь”. Это правда, что временами их отношения были непростыми.
К тому времени, когда Страж умер, у Фармера была постоянная девушка. Она поехала с ним во Флориду вскоре после похорон. Они гостили в “Стар-роудской тюрьме”. Полуразвалившийся отель “Синяя птица” все еще был припаркован неподалеку, и Фармер, заглянув в автобус, нашел там старые книги и письма. Его девушка отошла ненадолго. Впоследствии она вспоминала: “Когда я вернулась, Пи-Джей сидел на месте водителя и держал в руках письмо, которое отец написал ему, когда он поступил в медицинскую школу. Там было что-то в духе: я просто хочу сказать, что очень горжусь тобой. Пи-Джей рыдал”.
Глава 6
Старые товарищи по колледжу вспоминают молодого человека, который легко завязывал приятельские отношения как со студентами, так и со студентками. Друзей у него было великое множество, и он обладал фотографической памятью на детали жизни каждого. Он мог спросить, как дела у твоих родственников, а ты даже не помнил, что говорил ему о них. Если ты шел с ним обедать в кафе на кампусе, то и за полчаса мог не добраться до столика: ему надо было остановиться и поболтать с разными знакомыми. Он любил заниматься в компании, но если ты с ним оставался допоздна, то неизбежно чувствовал, что у него все получается легче, чем у тебя. Зато потом он мог начать бросаться едой или гримасничать и снимать свое лицо на ксероксе, а потом вы вместе шли через спящий кампус, громко распевая песни из “Звуков музыки”: “Капли дождя на розах и усики котят…”
После первого семестра Фармер стал учиться на “отлично”. Одно лето и осенний семестр он провел в Париже. Он отправился туда практически без денег и без договоренности о работе и нашел там франко-американскую семью, которой помогал с домашними обязанностями и с детьми в обмен на еду и жилье. Мать каждую неделю присылала ему пять долларов, и на них он ходил в театр. В свои выходные дни он участвовал в политических демонстрациях. “Сегодня суббота, – говорил хозяин дома. – На какой демонстрации ты побывал?”
В Париже он выбрал четыре дисциплины, среди которых оказался курс антропологии, который последний раз в своей жизни читал Клод Леви-Строс. Профессор уже был настолько слаб, что на кафедру его вносили. К моменту возвращения в Университет Дьюка Фармер свободно читал, писал и говорил по-французски.
На первых двух курсах Фармер изучал естественные науки, потом сосредоточился на медицинской антропологии. Он много читал и по предметам вне программы. Многие профессора любили его, а он любил их. Его выпускная научная работа была о “гендерном неравенстве и депрессии”. Этот выбор отчасти объясняется тем, что все знакомые ему медицинские антропологи были психиатрами. Однако никто из них официально не назывался его научным руководителем. Эта честь досталась Рудольфу Вирхову, немецкому ученому-энциклопедисту, умершему в самом начале столетия.
По сравнению с другими историческими личностями в медицине, такими как Пастер, Швейцер или Флоренс Найтингейл, Вирхов менее известен. Существует всего одна его полноценная биография. Тем не менее он был, по выражению одного комментатора, “главным архитектором фундамента научной медицины”. Это он впервые предположил, что в основе биологической жизни лежат самовоспроизводящиеся клетки и что объяснение заболеваний нужно искать в клеточных изменениях. Вирхов внес большой вклад в онкологию и паразитологию, придумал более пятидесяти медицинских терминов, которые и сейчас в ходу, описал патофизиологию многих болезней, включая трихиноз, добился обязательного контроля качества мясных продуктов в Германии. Он разработал систему канализации, которая превратила Берлин из зловонной помойки в один из самых здоровых городов Европы. Он основал ряд больниц и школу для медсестер. Он занимался археологией и сыграл важную роль в раскопках Трои, производившихся Генрихом Шлиманом. Он помог определить задачи медицинской антропологии. Он был врачом, учителем, активным политиком, так настойчиво противостоявшим имперским амбициям Германии, что однажды Бисмарк вызвал его на дуэль.
Вирхов опубликовал более двух тысяч статей и десятки книг. Учась в Дьюке, Фармер читал переведенные работы Вирхова и материалы о нем. Деятельность Вирхова – начатое смолоду бесконечное приключение, совмещающее интеллектуальные и практические задачи, – поразила воображение умного юноши. Когда Вирхову было всего двадцать шесть лет, правительство Германии отправило его в Верхнюю Силезию, поручив доложить об эпидемии голодной лихорадки (сейчас ее называют возвратной лихорадкой). Вирхов обнаружил бедствующие земли, населенные поляками, отданные владельцами на откуп управляющим. Население питалось в основном картошкой и водкой, постоянно страдало от малярии и дизентерии. В своем докладе немецкому правительству Вирхов писал: эпидемия вызвана ужасающими условиями жизни, коим правительство способствовало, а улучшению способствовать и не думает. Только через сорок лет ученые идентифицировали все источники возвратной лихорадки, которая передается через вшей. И в дальнейшем исследования показали, что Вирхов был прав. Эпидемии обычно возникают после общественных беспорядков, приводящих к скоплениям людей, антисанитарии и недоеданию. В своем докладе Вирхов сформулировал основной закон эпидемиологии: “Если болезнь – это проявление отдельной жизни в неблагоприятных условиях, тогда эпидемии должны отражать большие системные нарушения в жизни больших групп людей”. Жителям Верхней Силезии для излечения он прописал “установление полной и неограниченной демократии”. Это означало, помимо прочего: сделать польский язык официальным, взимать налоги с богатых, а не с бедных, разделить церковь и правительство, строить дороги, вновь открыть приюты для сирот, вкладывать деньги в сельское хозяйство. Правительство уволило его. Вирхов писал: “Я предлагал политику профилактики, но мои оппоненты предпочитали лечить симптомы”.
У него был талант к афоризмам: “Медицина – это социальная наука, а политика – это не что иное, как медицина в крупном масштабе”. “Это наше проклятие, что мы можем приспосабливаться к самым ужасным условиям”. “Медицинское образование дается не для того, чтобы обеспечить жизнь медиков, а для того, чтобы обеспечить здоровье общества”. “Настоящие защитники бедных – это врачи, и большинство социальных проблем должны решать именно они”. Фармер больше всего любил это последнее высказывание.
Фармеру импонировало мировоззрение Вирхова. “Вирхов видел все в комплексе, – говорил он. – Патологию, социальную медицину, политику, антропологию. Эта модель мне нравится”.
У Фармера сложился, частично благодаря Вирхову, этический подход к проблемам здравоохранения. Еще в Дьюке он нашел и конкретные примеры.
Он читал много книг и статей по антропологии и истории, социологии и политике. Он интересовался текущими событиями, особенно разгулом насилия в Латинской Америке. Когда в 1980 году архиепископ Оскар Ромеро был убит правыми экстремистами в Сальвадоре, преподаватели и студенты устроили в знак протеста ночную службу в часовне Дьюка, и Фармер пришел со всеми. Кроме того, он почитал кое-какие материалы, чтобы ознакомиться с направлением в католицизме, называемом теологией освобождения, которое проповедовал Ромеро, за что и был убит. Эту доктрину разработали латиноамериканские теологи, и в конце 1960-х католические епископы в Латинской Америке утвердили некоторые ее положения. Епископ в Бруксвиле, когда-то проводивший конфирмацию Фармера, главным образом предупреждал об опасностях секса вне супружества. Но в тех церковных документах, что теперь читал Фармер, латиноамериканские епископы говорили об угнетении бедных, которое называли “узаконенным грехом”. Они заявляли, что обязанность церкви – обеспечивать “преференцию для бедных”. Фармер помнит, как он подумал: “Вот это да! Это не те католики, которых я знал в детстве”.
Но Фармер не сказал бы, что политика или религия его очень сильно увлекли. Им руководило не столько возмущение, сколько любопытство относительно устройства мира. У него было ощущение, что правда о том, что происходит в таких странах, как Сальвадор, большинству американцев неизвестна. И скорее именно любопытство привело его в лагеря рабочих-иммигрантов, расположенные недалеко от Дьюка: “Вот я здесь, в очень богатом университете, где распространены удобные нам взгляды. И вдруг знакомлюсь с монахиней, бельгийкой Юлианной Девольф, которая работает по программе содействия Союзу сельскохозяйственных рабочих. Она – пример настоящего бесстрашия. Я помню, как подумал, что еще не встречал человека столь решительного и преданного делу, что в ней удивительно сочетаются гордыня и смирение. Гаитянские рабочие ее боготворили”. Потом Фармер расширил круг знакомств с такими, как он называл их, “церковными дамами”. Они произвели на него изрядное впечатление, но не своей набожностью, а неутомимой борьбой за интересы рабочих-иммигрантов. “Они гораздо более воинственны, если можно употребить здесь это слово, чем белые либералы и ученые-теоретики. Эти дамы, в своих практичных, как положено монахиням, башмаках, отстаивали права рабочих перед работодателями, развозили иммигрантов по больницам и судам, переводили для них, доставали им продукты и водительские права”.
Объезжая с сестрой Юлианной табачные плантации Северной Каролины, Фармер знакомился с гаитянами. Те жили в ужасных условиях, по сравнению с которыми его собственное детство в автобусе и на лодке казалось идиллией. Он начал читать про Гаити все, что только можно было найти. К окончанию университета он написал статью на шесть тысяч слов о гаитянах, работающих в полях неподалеку от Дьюка. Статья называлась “Бездомные гаитяне”. Фармер пришел к заключению, что гаитяне и у себя на родине, и за границей самые бесправные из бесправных, самые обездоленные из обездоленных.
Фармер окончил Дьюк с отличием и покинул университет, пылая интересом ко всему, что касалось гаитян. Он посещал центр временного содержания во Флориде, принимал участие в протестах против несправедливого “фаворитизма” американской иммиграционной политики, согласно которой почти всех кубинских беженцев принимали в страну, а гаитян, как правило, отсылали обратно, обрекая на голод и болезни под гнетом самой жестокой, самой эгоистичной диктатуры Карибского бассейна. К этому моменту Фармер определенно прогрессировал, по его собственным словам, от любопытства к возмущению. Впрочем, любопытство тоже еще оставалось.
История этой страны достойна пера Гомера, или Толстого, или, если послушать Фармера, Толкиена. Прибытие Колумба на остров, который он назвал Эспаньолой, последующее истребление индейцев-араваков. Раздел острова между Францией и Испанией. Французам досталась западная треть острова, где они основали рабовладельческую колонию, приносившую баснословную прибыль и отличавшуюся жестокими порядками: треть каждой новой партии рабов, доставляемых из Западной Африки, умирала в течение трех лет. Долгое кровавое восстание рабов началось в 1791 году, и даже Наполеон с сорокатысячной армией не мог его подавить. Наконец, в 1804 году было создано первое в Латинской Америке независимое государство, Гаити, и первая в мире республика чернокожих. Но следующие двести лет после объявления независимости страной управляли из рук вон плохо, по указке и при помощи иностранных держав, особенно Франции и Соединенных Штатов. А с 1915 по 1934 год страна была оккупирована Корпусом морской пехоты США, он же ею и управлял.
Фармеру история Гаити и впрямь напоминала “Властелина колец”: нескончаемая эпическая битва между богатыми и бедными, между добром и злом. Он с восхищением читал о культуре этой страны. Оказалось, у Гаити есть своя музыка и литература, картины гаитянских художников висят в европейских и американских музеях. Народ Гаити исповедовал сложную религию – вуду, где почитались некое далекое высшее божество и целый пантеон божественных сущностей, включающий и католических святых. Эта система веровании заслуживала внимательного изучения еще и потому, что ее обычно понимали неверно и осыпали насмешками. И гаитянский креольский язык, вопреки расхожему мнению, оказался не корявым местным наречием, но, по существу, одним из романских языков, производным от французского, а по некоторым фонетическим особенностям и грамматическим структурам – определенно африканским. Язык этот уникален для Гаити, красивый, выразительный, возникший в результате суровой необходимости, так как хозяева-французы намеренно разделяли рабов, говорящих на одном языке, и рабы придумали другой, общий. Фармер начал изучать креольский, перед тем как отправиться в Гаити весной 1983-го. Он планировал провести там год.
В Дьюке он выиграл премию в тысячу долларов за эссе о гаитянских художниках и полагал, что ему хватит этих денег, поскольку знал, что средний гаитянин тратит на жизнь гораздо меньше. Фармер работал волонтером в кабинете экстренной помощи при университетской больнице и подал заявки на поступление в две медицинские школы – Гарварда и Кейс-Вестерн-Резерв, где он мог окончить с двумя степенями, врача и антрополога. В Гаити он собирался попробовать оба направления, чтобы понять, то ли это, чего он действительно хочет.
Когда в 1983 году Фармер прилетел в Порт-о-Пренс, аэропорт все еще назывался именем Франсуа Дювалье в честь недоброй памяти Папы Дока, который правил страной, щедро применяя политику террора, с 1957 года до своей смерти в 1971-м. Власть перешла к его сыну Бэби Доку, может быть, менее изобретательному, чем отец, но так же склонному убивать политических противников и присваивать деньги из фондов иностранной помощи. Он собирался назначить себя пожизненным президентом. На самом деле почти тридцатилетнее правление “династии” Дювалье подходило к концу, но тогда еще никто об этом не подозревал.
Знакомясь с Гаити, Фармер поначалу увидел экзотический рай для туристов, в том числе для секс-туристов. Гаитяне – красивый народ и в большинстве своем практически нищий. В одном международном путеводителе для гомосексуалистов за 1983 год было написано: “Вы должны будете заплатить вашим партнерам за услуги, но тарифы у них номинальные”. В Порт-о-Пренсе было полно трущоб, но были также и дорогие комфортабельные районы с хорошими ресторанами и отелями. К тому же туристам обеспечивалась полная безопасность – город патрулировала преторианская гвардия Дювалье, тонтон-макуты в темных очках, названные в честь местного фольклорного персонажа Дяди Мешка, который запихивает непослушных детей в свою суму. Тонтон-макуты не тревожили туристов. Только если потрошили чемодан и находили книгу Грэма Грина “Комедианты”, роман о Гаити, зло высмеивающий режим Дювалье. Но и тогда дело ограничивалось предупредительной беседой.
Свой экземпляр романа Фармер с собой не привез и вначале не интересовался столицей Гаити. Ранее во время короткой аспирантуры в Питсбургском университете он познакомился с членом семьи Меллон. На пожертвования этого богатого клана в Гаити была построена больница имени Альберта Швейцера в городке Дешапель, расположенном в долине в нижнем течении Артибонита. Фармер сразу съездил туда из Порт-о-Пренса. Он ожидал многого и счел больницу вполне приличной. Но персонал в основном состоял из белых врачей-экспатриантов. Фармер-то думал, что здесь хотя бы на втором плане, но стоит задача обучения гаитянских врачей и медсестер. Для него самого в данный момент работы не было, несмотря на рекомендацию Меллона, и он вернулся в Порт-о-Пренс несколько разочарованный – “сдувшись”, как он выразился.
Он начал искать другие варианты и нашел небольшую благотворительную организацию под названием “Глазная помощь Гаити” с головным офисом в Порт-о-Пренсе. Они выезжали с передвижными клиниками в сельскую местность, а в качестве базы для разъездов по Центральному плато использовали маленький домик в городке Мирбале. Туда и направился Фармер.
Глава 7
Годы спустя Пол Фармер получил от женщины, на которой хотел жениться, вот такое письмо:
Милый Пел.
Если я не могу обещать соединить свою жизнь с твоей, быть тебе женой, то это не потому, что я недостаточно люблю тебя или недостаточно тебе предана. Да ты и сам наверняка знаешь, что с 1983 года для меня не существовало других мужчин. Но когда я пытаюсь представить нашу жизнь вместе, мне очевидно, что семейной пары из нас не выйдет (хотя в остальном мы подходим друг другу). Это и есть причина моего решения. Довольно долго я думала, что смогу жить и работать в Гаити, строя жизнь с тобой, но теперь понимаю, что нет. И это просто несовместимо с твоим собственным путем, который ты ясно видел перед собой еще десять лет назад. Как-то раз в ходе бурной ссоры ты отметил, что те самые черты, которые меня в тебе привлекают, за которые я тебя полюбила, а именно: твоя непоколебимая преданность бедным, твои неограниченные часы работы, твое безграничное сострадание ближним, – в то же время и вызывают у меня раздражение. Ты был прав, и, стань я твоей женой, мои эмоциональные запросы оказались бы помехой в твоей жизни, посвященной другим. А твои планы так важны и для обездоленных мира сего, и для всех нас. Мне повезло, что мы познакомились, когда я была молодой, настолько молодой, что сейчас мне кажется, я знала тебя всегда. Мне повезло, что ты любил меня и так сильно повлиял на становление моей личности. Так или иначе, надеюсь, ты понимаешь: ты встроен в меня на клеточном уровне, и это твое место никто никогда не займет.
Ее звали Офелия Даль. Она прибыла из Англии, из Бакингемшира. В январе 1983 года она отправилась в Гаити в надежде угодить отцу и с довольно смутным намерением творить добро. Ей было восемнадцать, как она говорила, “немного чересчур зрелые” восемнадцать, и она работала волонтером в благотворительной организации “Глазная помощь Гаити”. Ей предстояло провести неделю на базе в Мирбале.
В Мирбале тогда располагалась загородная резиденция мадам Макс Адольф, бывшей начальницы форта Диманш, куда оба Дювалье ссылали своих врагов. Один историк сравнивал эту тюрьму с Бухенвальдом. В настоящее время мадам Макс командовала тонтон-макутами по всей стране. Таким образом, Мирбале был достаточно значимым местом и отличался от большинства маленьких городков в долинах и горах дальше на север тем, что здесь работало, пусть и с перебоями, электричество, и радио играло почти круглосуточно, и центр имелся – в виде расширенного участка мощеной дороги. Были там покосившиеся киоски-магазинчики вдоль дороги, были забегаловки, предлагавшие пиво или стакан клерена – очень крепкого белого рома местного производства. Недалеко от центра находилось здание “Телеко”, откуда можно было, если повезет, дозвониться в Порт-о-Пренс, в Бруклин и даже в Бакингемшир.
Офелия должна была срочно позвонить домой. Пришло письмо от отца, где он писал о новых проблемах дома, и она наперекор здравому смыслу чувствовала себя обязанной немедленно их решить. Она бросилась в “Телеко”, по дороге придумывая правильные слова для отца. Но ее звонок не прошел.
Когда она, расстроенная, вышла на улицу, шел дождь и местные жители сидели по домам. В хорошую погоду ее бы окружили дети, люди, завидев ее, выкрикивали бы: “Блан! Блан!” Она уже усвоила: это не грубость, а просто сообщение, что появился кто-то необычный. Здесь, в гаитянской провинции, она, конечно, выделялась в первую очередь белой кожей. Но вообще Офелия была очень хороша собой. В полуденный зной в Гаити лицо англичанки покрывалось красными пятнами, но при нормальной температуре ее кожа выглядела безупречной.
Грустно бредя назад в “Глазную помощь” под теплым дождем, Офелия подняла голову и, к своему удивлению, увидела белокожего молодого человека, стоящего на балконе здания. “Бледный долговязый парень”, – так ей запомнилось. Уже несколько месяцев она жила среди гаитян, питалась гаитянской едой, начинала говорить на их языке и немного гордилась тем, что была здесь не просто туристкой. Она почувствовала некоторое раздражение. Кто этот блан на балконе? Что делает он здесь, на ее территории? Она поступила, как полагается хорошо воспитанной англичанке, – вошла в дом и представилась.
В домике была общая комната с цементным полом, где стояли несколько деревянных стульев и стол. Офелия и Пол уселись по разные стороны стола и начали разговор. Уже через несколько минут, вспоминает Офелия, она почувствовала, что наконец-то впервые за несколько месяцев ей совсем не надо сдерживаться, можно приоткрыть даже свою “хулиганистую ипостась”, питающую слабость к неприличным анекдотам и крепкому словцу. Очень скоро она уже рассказывала незнакомцу, как ей не удалось дозвониться и как она чувствует себя виноватой из-за этого: дома неприятности, а она далеко. Она сказала: “Я хочу написать что-нибудь теплое отцу”.
Пол улыбнулся и предложил очень английское начало: “Мой дражайший и, собственно, единственный папа”. Она засмеялась. В какой-то момент Пол попросил ее рассказать о семье. Много лет спустя кто-то из ее друзей предложил подобный зачин как прием соблазнения. Приходишь с человеком в ресторан и говоришь ему: “Расскажи мне о себе”. Офелия тогда тут же вспомнила Пола. Когда он произносил эти слова, люди обычно чувствовали, что он думает в этот момент только о них. Конечно, собеседник понимал, что интерес Фармера к его персоне иногда может иметь и другие мотивы помимо простого человеческого участия, но в то же время всегда каким-то образом знал, что интерес этот искренний, и проникался доверием. Офелия рассказала ему о своей матери, известной киноактрисе Патриции Нил, и о разных семейных драмах, широко обсуждавшихся в газетах: о мамином инсульте и длительном лечении, о ее недавнем разрыве с отцом, писателем Роальдом Далем. Фактически именно из-за него Офелия отправилась в Гаити, поскольку он вечно ворчал, что ей пора заняться чем-нибудь увлекательным и полезным. Он переживал, что у нее нет амбиций. Последние два года она изучала в школе географию, но перед тем как отправиться в Порт-о-Пренс, ей пришлось отыскивать Гаити на карте мира.
У нее накопилось столько мыслей, которыми не с кем было поделиться, и вдруг – пожалуйста. Возможно, любой англоговорящий незнакомец подошел бы, но этот молодой человек показался ей просто идеальным собеседником. Она выложила ему всю семейную сагу, все свои огорчения и тревоги, и Пол слушал очень внимательно, ни разу не сказав, что она зря так реагирует, только иногда предлагал советы, как получше разобраться в своих чувствах. Она была изумлена. Перед ней сидел двадцатитрехлетний американец, на вид вчерашний подросток, вполне симпатичный, хотя и слишком бледный и нескладный, слишком мальчишистый, чтобы очаровывать, и она думала: “Как это он находит слова для меня, откуда знает, как меня утешить?”
Ей понравилось, что он не придавал значения ее громкому имени. Она чувствовала, что он не думает про себя: “Ух ты! Я же разговариваю с дочерью кинозвезды!” Казалось, это обстоятельство его просто позабавило. Он рассказал ей немного о собственной семье, рассмешил ее историями из своего детства. Она решила, что он приехал в Мирбале проверить, стоит ли работать в “Глазной помощи”, и описала ему характеры сотрудников. И он понравился ей еще больше прежнего, когда, выслушав ее с широко раскрытыми глазами, искренне поблагодарил: “Спасибо, что вы мне все это рассказали!”
Они проговорили до трех ночи. Следующие несколько дней прошли в разъездах с группой сотрудников на “лендровере” компании. Фармер сказал ей, что в Гаити он будет в основном заниматься антропологией. Она не имела точного представления, что это такое. Он возил с собой диктофон, фотоаппарат и тетрадь. Она сидела рядом с ним и смотрела, как он ведет наблюдения из машины. “Лендровер” подпрыгивал по пыльным грунтовкам, проезжая мимо жалких лачуг, и Офелия спрашивала, почему здесь так много больных, почему нет хороших дорог. Вначале он отвечал довольно осторожно, словно желая убедиться, что она его понимает. Впрочем, он был настолько полон энтузиазма, что даже неловко становилось. Когда люди с обочин кричали им “Блан! Блан!”, он в ответ кричал “Привет!”, улыбался и махал рукой. Она подумала, что только туристы так машут, а вслух съехидничала: “Что, приветствуете своих темнокожих братьев?” Фармер обернулся к ней: “Что вы имеете в виду?”
Он пытался улыбнуться. Глядя на него, она подумала: он невосприимчив ко всяким гадостям. Он был из тех, кто не сразу делится своими мыслями с другими. Но если он начал раскрываться, а над ним подшутили, то он может надолго замкнуться опять. Надо же, впервые за несколько месяцев у нее появилась интересная компания, а она все испортила. “Простите, простите, – повинилась она. – Я это не всерьез”.
Он улыбнулся ей, а когда опять кто-то крикнул “Блан!”, как ни в чем не бывало помахал снова. Офелия поняла, что ее простили. Водились за ним и другие чудачества, например он называл ей деревья и кустарники по-латыни. Застенчивостью он не страдал. Казалось, он мог разговаривать с кем угодно, но ясно было, что на первом месте у него крестьяне, которые, объяснил он Офелии, составляют большинство в Гаити, даже среди городской бедноты. Он фотографировал, делал записи о больницах, которые они посещали. Он задавал крестьянам множество вопросов. Где они берут воду для питья? Что, по их мнению, вызывает болезни? Он записывал эти беседы на диктофон, а ночью на базе перекладывал на бумагу. Он овладевал креольским языком с завидной скоростью. Офелия провела несколько месяцев в Гаити, он же только что появился, но за неделю разъездов успел обогнать ее. Он уже почти тараторил, как крыса (гаитянское выражение).
Закончив путешествия по сельской местности, бригада “Глазной помощи” направлялась в Порт-о-Пренс. Офелия и Пол сидели сзади, и он уже обращался к ней семейным прозвищем – Мин. Он уже назвал ей миллион прозвищ из репертуара собственной семьи, когда они приблизились к крутому, узкому участку, где Национальное шоссе № 3 спускается по отрогам Морн-Кабри (Козьей горы) на равнину Плэйн-дю-Кюль-де-Сак. “Лендровер” начал поворачивать за скалистый выступ, их швырнуло в сторону, а потом они увидели, что дорога впереди покрыта плодами манго, как ковром. Их уже собирали подбежавшие дети. Немного дальше лежал на боку маленький видавший виды грузовичок-маршрутка. Очевидно, тап-тап, направлявшийся на рынок, был страшно перегружен людьми и фруктами. Очевидно, изношенные рессоры и слабые тормоза не выдержали. Кругом валялись перевернутые корзины и манго. Некоторые пассажирки – торговки в тюрбанах – сидели у дороги в каком-то оцепенении, другие стояли вокруг, возбужденно переговариваясь. Рядом с пикапом среди рассыпанных манго лежала женщина, лишь частично прикрытая куском картона. Присутствовал на месте происшествия и полицейский. Сверкая тремя золотыми зубами, он жизнерадостно сообщил, что да, женщина умерла, ничего уже не поделаешь.
Эта сцена навсегда врезалась в память Офелии, так же, как и первое обонятельное впечатление от Гаити – кислый помоечный запах, ударивший ей в ноздри, когда она в первый раз прибыла в аэропорт имени Франсуа Дювалье. Она посматривала на Пола, пока они ехали к городу. Он сидел, уставившись в окно, как ей помнится, “совсем, совсем притихший”.
В ту весну они так и не стали любовниками, но еще примерно месяц виделись почти ежедневно – иногда вместе выезжали в экспедиции с “Глазной помощью”, но чаще встречались в Порт-о-Пренсе. После работы Офелия шла к Полу. Его жилье находилось на заваленном мусором участке, в старом полуразрушенном доме с балкончиками и деревянной резьбой. Здание принадлежало антиквару. По слухам, у жены предыдущего владельца ночью начались роды, он побежал за помощью, а дело было в то время, когда Бэби Док навязал городу комендантский час, так что его застрелили прямо на улице. В настоящее время огромный дом стоял пустым, если не считать Пола и еще одной съемщицы, гаитянки. Иногда она готовила еду во дворе, и запах горящих углей поднимался к окнам Пола. В его комнате на втором этаже было много окон со старыми затейливыми деревянными ставнями и балкончиками. Окна выходили с одной стороны на город и океан, а с другой – на палатки и картонные шалаши трущоб Ла-Салин. Офелия часто заставала его пишущим заметки. Недавно он сочинил стихотворение “Леди Манго” и посвятил его Офелии. Он читал ей вслух. Вот строки из третьей строфы:
Мы уезжаем, а глаза все еще смотрят назад, На корзины, на мертвую леди Манго, Распластанную и застывшую на покрывале из тропических фруктов. Она накрыта куском картона, будто флагом своей искореженной страны, слишком тонким, чтобы спрятать ее раны.То, что они находились далеко от родных, несомненно, упрощало молодым людям период ухаживания – настолько, что оно и ухаживанием-то не выглядело. В ресторанах платила Офелия, потому что у нее были деньги, а у него почти не было. Ей казалось разумным и естественным делиться своими. А он зато гораздо больше знал о Гаити и делился сведениями. Например, рассказал про мадам Макс и поддразнивал девушку, объясняя, что поскольку “Глазная помощь” располагается на земле, принадлежащей этой даме, то, значит, Офелия работает на тонтон-макутов. Однажды она сообщила ему, что познакомилась в отеле “Олоффсон” с интересным типом, утверждающим, будто именно с него Грэм Грин списал образ Пьера Малыша в “Комедиантах”. Пол объяснил, что так оно и есть и что этот маленький, похожий на клоуна человек является осведомителем Дювалье. Пол стал для нее наставником, но не по собственной инициативе. Обычно она задавала вопросы, причем здесь требовались некоторые ухищрения. Если он делал не совсем понятное или чересчур обобщенное заявление, не стоило указывать ему на это, иначе он мог умолкнуть. Лучше было попросить: “Расскажи поподробнее”. Сколько разговоров рождалось из ее наводящих вопросов на втором этаже дома с привидениями! Годы спустя Офелия будет вспоминать эти “долгие, многословные дискуссии”.
Чем конкретно занимается антропология?
Пол ответил, что, по сути, – я привожу слова из его статьи, опубликованной примерно через полтора года после этого, – для антропологии не так важны измерения, как важен смысл. Так же, как когда мы совершенствуемся в языке, мы должны не только понимать буквальное значение слов, но и улавливать разнообразные смысловые оттенки, а для этого нужно знать историю, политику и экономическую систему страны. Иначе невозможно по-настоящему вникнуть в суть таких событий, как смерть леди Манго.
В статье, которую он напишет через год, Фармер использует выражения типа “сложнейшая сеть взаимосвязей между заболеваниями, статусом питания, социоэкономическими факторами, религиозными верованиями и ритуалами, связанными со здоровьем и патологией”. Объясняя явления, подобные гибели леди Манго, он обычно выражался ненамного проще, но Офелия умела переводить. Конечно, бывают несчастные случаи. Но не всякое несчастье – случайность. Плохая дорога вниз по Морн-Кабри, перегруженный тап-тап, настойчивое стремление крестьянок попасть на рынок, чтобы что-то продать и накормить семью, – все эти факторы отнюдь не случайны, каждый из них имеет причину. А главные причины – нескончаемое самоуправство Дювалье и давняя привычка Соединенных Штатов осыпать деньгами диктаторов вроде Бэби Дока, которые на эти средства укрепляют свою власть, окружают роскошью себя и ближайших сподвижников, однако почти ничего не тратят на благоустройство дорог, транспорта и так далее.
До знакомства с Полом страна казалась Офелии просто необычной – странной и пугающей. Червь сантиметров в тридцать длиной, выходящий, извиваясь, из попки ребенка в клинике, где она работала сначала. Бесчисленные детишки с расстройством желудка. Ежедневная церемония исполнения национального гимна перед президентским дворцом, когда закон предписывал всем остановиться и слушать эту металлическую музыку – на ослушников обрушивался гнев тонтон-макутов. Но теперь появился человек, разъясняющий ей Гаити. Пол изложил общую теорию бедности, обрисовал картину мира, устроенного элитами всех стран для удовлетворения своих потребностей. Описал, как элементы этого устройства встраиваются в идеологию и становятся незыблемыми, а подлинная история формирования нынешнего порядка предается забвению. Что же до истории Гаити – катастрофы, покрытой отпечатками пальцев западных держав, прежде всего Франции и Соединенных Штатов, – ее он знал во всех подробностях.
Пока Пол читал ей свое новое стихотворение, Офелия глядела в окно. Его главная тема – бедность, думала она, а эти окошки дома с привидениями – его наблюдательный пункт. Но ему нужен другой пункт, получше. Точного плана у него не было, хотя цель, похоже, была ясна. Он приехал сюда заниматься этнографией, эта область антропологии ему нравилась больше всего – изучать культуру, но не по книгам и артефактам, а через общение с людьми, эту культуру унаследовавшими и развивающими. Специализироваться он собирался в медицинской этнографии. Он хотел разобраться во всем, что касается заболеваемости и смертности в стране, страдающей от болезней больше всех других стран в Западном полушарии. Хотел писать обо всем, что узнает, говорить от имени тех, кто не имеет голоса. А еще он станет врачом, хотя пока не определился с областью медицины. Может быть, психиатром. В любом случае он намерен лечить бедных. Может быть, будет работать в Африке, а может быть, в бедном черном квартале в Америке.
Вызывая Пола на откровенность, Офелия чувствовала и восхищение, и страх. Как-то во время очередного долгого разговора в его комнате она поймала себя на мысли: “Ох ты черт, а ведь моя жизнь переменилась!” Годы спустя она говорила мне: “Думаю, у каждого бывает такой момент, когда вдруг понимаешь: вот сейчас тебе открылся смысл происходящего. Как, например, когда осознаешь, что твои родители не хорошие и не плохие, а то и другое сразу. И все, мир больше никогда не будет прежним”.
В конце концов, она же была еще совсем юной. И человек пятью годами старше ее вполне годился на роль наставника, хотя время от времени его высказывания напоминали, что он и сам еще не очень взрослый. Поздней весной она улетела домой, сообщив ему, что начнет готовиться к медицинскому институту. Она тоже решила стать врачом. “Хорошо, – серьезно сказал на это Пол, уже окончивший подготовительный курс. – Знаешь, что тебе надо сделать? Двусторонние карточки, с вопросом на одной стороне и ответом на другой”.
Они обещали писать друг другу.
Пол попросил Офелию позвонить его родителям, когда она будет дома, но забыл упомянуть об одном из правил Стража, который в 1983 году еще был жив-здоров. Дочери должны были звонить ему каждый вечер после уроков и работы, перед тем как выезжать из Бруксвиля в “Стар-роудскую тюрьму”. Офелия также не могла знать, что сестра Пола Пегги недавно научилась замечательно имитировать британский акцент.
И вот Офелия звонит:
– Здравствуйте, мистер Фармер. Меня зовут Офелия, я только что вернулась из Гаити. Там я виделась с Полом. Он шлет вам сердечный привет и просил передать, что у него все в порядке.
– Да-да-да, ну конечно! Кончай, Пегги.
– Нет, меня зовут Офелия, и я только что видела Пола.
– Меня не проведешь, Пегги. Немедленно домой! – И Страж повесил трубку.
Офелия позвонила опять и в конце концов сумела убедить его. Страж извинился, и она услышала чей-то смех на том конце провода.
Офелия оставила Полу несколько современных романов. К ее возвращению в Англию от него уже пришло письмо – своего рода книжная рецензия: “Роман гораздо интереснее читать, если ты знаком с “Адом” Данте и “Улиссом” Джойса (глава, где Блум приносит Молли завтрак в постель), Гомером, Прустом (“В поисках утраченного времени”) и пьесой Жене “Служанки”. В конце был постскриптум: “Ты зараза, зачем оставила меня здесь одного?” Далее следовали все более горячие послания с требованием письма: “Хулиганка ты. Почему до сих пор не отправила ко мне почтовых голубей?” Если она не напишет toute de suite – немедленно, он запрет ее в чулане с их весьма непривлекательным общим знакомым, даст им обоим сильнейшее возбуждающее средство и заберет освежитель рта. Офелия долго не отвечала ему, почему – сама не знает, может быть, просто ленилась. Но она не отказалась от своего намерения учиться на врача и приходила в ужас от мысли, что может больше никогда не увидеть Фармера.
Вскоре после ее возвращения в Европу отец взял Офелию с собой на ланч с Грэмом Грином, одним из любимых писателей Пола. Пожилой романист, высокий и сутулый, искренне обрадовался новостям из Гаити, особенно тому, что знаменитый плут Пьер Малыш до сих пор цел. Грин надписал для нее экземпляр “Комедиантов”: “Офелии, видевшей истинное лицо Гаити”. Если он правда считает ее знатоком Гаити, подумала она, что бы, интересно, он сказал о Поле Фармере?
Глава 8
Канжи Фармер впервые увидел в конце мая 1983 года, вскоре после отъезда Офелии. Все еще подыскивая себе место для работы, он снова отправился на Центральное плато, где свел знакомство с местным англиканским священником по имени Фриц Лафонтан. Невысокий, но солидный, Лафонтан держался с достоинством, чтобы не сказать – царственно, и отличался властными, порой резковатыми манерами. При поддержке епископальной церкви диоцеза Верхней Южной Каролины он управлял в Мирбале крошечной клиникой (там работал всего один врач). Кроме того, Лафонтан с супругой помогали строить школы и создавать локальные выборные административные органы, женские организации, программы начального обучения для взрослых в ряде бедных маленьких населенных пунктов этого региона, в том числе в Канжи. Здесь Лафонтан затеял и курировал строительство часовни, а также некоего зачаточного подобия школы. Фармера он привез сюда из Мирбале в кузове своего пикапа.
Весной в Гаити дожди идут довольно часто, так что путь их пролегал среди зелени, особенно на участке вдоль Артибонита, где река выгрызла себе ущелье, в котором никакое земледелие невозможно. Фармер восхищенно любовался деревьями, листвой и бурным течением. Затем в поле зрения показались огромная плотина и озеро, и вот он уже щурится, вглядываясь сквозь тучи серой пыли – пыль пачкает волосы, лезет в нос, липнет к потной коже – в совершенно иной пейзаж: бело-коричневая гамма, растительности почти не видно. “Поразительная, прямо библейская земля, сухая и бесплодная”, – будет вспоминать потом Фармер. Сквоттерский поселочек Канжи находится прямо посреди этих суровых пустошей, в полумиле вверх по дороге от большого пресного водоема.
Большинство зданий – примитивные деревянные сарайчики с односкатными крышами и земляным полом, сколоченные, как позже выразился один друг Фармера, “без лишнего энтузиазма”. Особенно бросались в глаза кровли этих крошечных хибарок, сделанные из коры банановых пальм, кое-где переложенные тряпками, откровенно водопроницаемые. Прежде символом бедности Фармеру казались крыши Мирбале, “жестянки” из тонкого проржавевшего металла. “Но в Канжи не было и жестянок, – рассказывал он. – Это уже запредельная нищета”. Большинство взрослых местных жителей, с которыми он общался, демонстрировали полное уныние. Складывалось впечатление, будто люди, построившие эти жалкие лачуги, ни на какие улучшения в своей жизни не рассчитывали – более того, ожидали, что все станет еще хуже. Многие, вероятно, большинство, были явно нездоровы, но медицинской помощи здесь никто не обеспечивал, вообще никакой. Похожих людей Фармер видел в приемных убогих государственных клиник, которые ему доводилось посещать. Казалось, весь этот самодельный поселок – такая приемная. В Гаити ему пришлось пересмотреть свои представления о бедности. В Канжи пришлось пересмотреть их снова. Отдельного человека, влачащего столь плачевное существование, можно отыскать практически где угодно, но целое сообщество беднее и больнее этого нельзя было даже вообразить.
Делегация отца Лафонтана заночевала в Канжи, на полу классных комнат в школе, подстелив старые армейские одеяла. Фармеру запомнилось, как он проснулся ночью по зову малой нужды и громко мочился в ведро – звук, знакомый по давнему житью в автобусе. Всяко лучше, чем бежать в темноте на улицу, где водится разная пакость, с детства наводившая на него жуть, – огромные жуки и особенно тарантулы.
Тогда, в первый раз, Фармер не задержался в Канжи надолго. Он продолжал путешествовать по Гаити – иногда автостопом с бланами, иногда на тап-тапах среди крестьян, везущих кур и полные корзины манго. Однажды он слег с дизентерией, вероятно, потому, что скудный бюджет вынуждал его покупать еду у уличных торговцев в городах и поселках. Фармер вспоминал, как валялся в больнице в Порт-о-Пренсе в антисанитарных условиях, на этаже, где не было туалета. Его навещала знакомая американка средних лет, эксперт по вопросам здравоохранения. Она обещала переправить его обратно в Штаты, если ему станет хуже, и он отвечал, мол, нет-нет, все будет в порядке, а сам думал: “Пожалуйста, заберите меня домой!” Поправившись, он снова принялся изучать Гаити и антропологию с медициной в местном контексте. Наблюдал обряды вуду, расспрашивал крестьян об их жизни и добрался среди прочих мест до больницы в Леогане, городке на южном полуострове Гаити, милях в двадцати к западу от Порт-о-Пренса. Там он некоторое время подвизался волонтером, помогая врачам и медсестрам.
Фармер говорил мне, что нашел свое призвание не благодаря книгам и наукам, а большей частью эмпирическим путем, пропуская Гаити через себя. “Я читал академические тексты и понимал: там все неправильно. Живя в Гаити, я осознал, что малейшая ошибка в одной системе власти и привилегий может катастрофически ударить по неимущим в другой системе”. Как, например, истребление креольских свиней или плотина на озере Пелигр.
Теология освобождения импонировала ему и раньше. “Серьезный упрек затушевыванию бедности, – так отзывался о ней Фармер. – Упрек, основанный на научном анализе”. В Гаити он вживую наблюдал самую суть этой доктрины. Почти все крестьяне, с кем он знакомился, разделяли убеждение, звучавшее как квинтэссенция теологии освобождения. “Все на свете брезгуют нами, говорили они ему. – Но Господь больше любит бедных. И наше дело правое”. Марксисты, которых читал Фармер, и многие его знакомые интеллектуалы относились к религии пренебрежительно. И действительно, некоторые христианские конфессии, как и значительная часть миссионеров, пропагандировали среди неимущих гаитян “культ смирения”, как выражался отец Лафонтан, – призывали покорно принимать свою долю, уповая на лучшую загробную жизнь. Но собеседники Фармера понимали христианство иначе: “Они единодушно утверждали, что зря, мол, остальной мир над ними издевается как хочет, ведь кто-то, кто-то справедливый и, возможно, даже всеведущий, записывает все ходы”. Теперь в нем снова проснулась тяга к католицизму. Не то чтобы он вдруг проникся верой по зову души, скорее, стремился поддержать местных жителей в их вере – Фармер называл это “актом солидарности”. Он говорил мне: “На самом деле это приходит, когда видишь людей своими глазами – в Канжи, или в какой-нибудь жуткой больнице, или на похоронах, – когда точно знаешь, что люди просыпаются в двухкомнатных хижинах, полных голодных детей, и все-таки как-то продолжают жить. Религия – единственное, что у них оставалось”.
Как же справедливый Господь допускает крайнюю нищету? Гаитянские крестьяне отвечали пословицей: Bondye konn bay, men lipa konn separe. Дословно она переводится как “Бог дает, но не делит”. Означает это, как впоследствии будет объяснять Фармер, следующее: “Бог дает нам, людям, все, что необходимо для благополучной жизни, но распределять блага он не нанимался. Эта задача возложена на нас”. Проповедники теории освобождения давали похожий ответ: “Хотите увидеть, где пребывает ныне Христос распятый? Идите туда, где страдают и борются с невзгодами бедняки, и там найдете Его”. Теология освобождения, с ее упором на ужасы нищеты и необходимость разбираться с ними здесь и сейчас, с ее идеалами искупления и служения, была словно специально создана для Гаити. И по темпераменту она подходила Фармеру, поскольку при всей своей учености и склонности к теоретизированию он стремился прежде всего к свершениям практического свойства. Годы спустя он скажет мне: “Я парень деятельный”. Спору нет, определение точное.
Вспоминая свой первый год в Гаити, Фармер говорил: было такое ощущение, что осознание своего истинного призвания складывалось из множества элементов. Однако, подчеркивал он, это произошло не вдруг, а постепенно: “У меня это был процесс, а не отдельное событие. Постепенное пробуждение, а не внезапное озарение”. Но тут ему пришел на ум один эпизод, случившийся в Леогане. Проанализировав его, Фармер признал, что озарение, наверное, все-таки тоже имело место.
Работая волонтером в больнице Сент-Круа в Леогане, он познакомился с молодым американским врачом. “Он любил гаитян, – сказал Фармер. – Вообще был очень вдумчивый”. Врач проработал в Гаити около года и через несколько дней собирался возвращаться домой в Штаты. “Слушая его, я заметил, что во мне уже что-то изменилось, – объяснял Фармер. – Я вовсе не осуждал его. Но вот он, повидав эту страну, готов был уехать и стереть ее из памяти, и я задался вопросом: а я-то так смогу? Он ведь правда покидал Гаити, покидал душой и телом, и я вдруг понял, что у меня так не получится”.
– Тяжело, наверное, уезжать? – спросил он молодого врача.
– Шутишь? Дождаться не могу. Здесь же нет электричества. Кошмарное место.
– Но ты не боишься, что не сможешь забыть все это? Здесь столько больных.
– Нет, – ответил врач. – Я американец, и я возвращаюсь домой.
– Ну да. Я тоже, – сказал Фармер.
Весь день и весь вечер он обдумывал этот разговор. Что значит “я американец”? По каким критериям люди относят себя к той или иной категории? Он понимал позицию врача, но собственную пока точно определить не мог. Единственное, что он знал наверняка, – он тоже станет врачом.
Позже, уже ночью, в больницу поступила молодая беременная женщина, страдающая малярией. “Ее кровь кишела паразитами, – вспоминал Фармер. – Тяжелая малярия. Она впала в кому, и ей требовалось переливание крови – тогда я не знал всех подробностей, но теперь знаю, поскольку это моя специальность. Так вот, с ней приехала сестра. Крови у нас не было, и врач велел сестре ехать в Порт-о-Пренс и купить крови, предупредив, однако, что это стоит денег. У меня денег не было, я пробежался по сотрудникам и собрал пятнадцать долларов. Отдал их женщине, она ушла, но потом вернулась: ей не хватило и на тап-тап, и на кровь. У пациентки тем временем началось поражение легких, изо рта потекла такая розовая субстанция. Медсестры говорили, дело безнадежное, кое-кто настаивал, что надо делать кесарево, а я все твердил, что должен быть какой-то способ добыть ей крови. Ее сестра просто с ума сходила, рыдала безудержно. У больной было пятеро детей. Какой ужас, жаловалась сестра, бедному человеку даже переливание крови не получить. И добавляла: мы же все живые люди”.
Это слова – tout moun se moun – звучали прямым ответом на вопрос, которым он задавался не далее как днем. “Американец” – достаточно ли этого для самоопределения? “Она повторяла это снова и снова, – продолжал свой рассказ Фармер. – Мы же все живые люди”.
Женщина умерла вместе со своим нерожденным малышом. Ее сестра потом горячо благодарила Фармера. Естественно, это лишь обостряло его чувство вины за неудавшийся аварийный сбор средств. Видя, как он переживает, врачи и медсестры окружили его сочувствием. Медсестры говорили: “Бедненький Пол! Какой милый молодой человек”. А врачи наверняка думали: “Новичок необстрелянный, наивный такой”. Вспоминая об этом через много лет, он все еще шлифовал ответные реплики: “Ага, зато я выносливый. Вот в чем штука. На самом деле я тогда вовсе не был наивным”.
А может, и был все-таки – немножко. Он решил заняться сбором средств, чтобы купить в больницу оборудование для хранения консервированной крови. Стал писать родственникам, родителям друзей, учившихся с ним в Дьюке. Объяснял, какие страшные вещи творятся в Гаити, описывал свой проект. Многие присылали ему чеки. В итоге набралось несколько тысяч долларов. Фармер ликовал. В письме Офелии он сообщал: “Отправляюсь в Леоган встречаться с директором больницы Сент-Круа, будем обсуждать БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ”. Но в скором времени Офелия получила еще одно послание: “Моя работа здесь, в Сент-Круа, получается совсем не такой, как я себе представлял. Не то чтобы мне здесь не нравилось, но главная проблема в том, что эта больница – не для бедных. Я потрясен, серьезно. Все услуги оплачиваются заранее”.
Ключевой императив теологии освобождения – обеспечивать преференцию для бедных – представлялся Фармеру достойной жизненной целью. Конечно, идти к ней можно практически где угодно, но доктрина явно подразумевала необходимость различать степени бедности. Здравый смысл подсказывал обеспечивать медицинскую помощь там, где в ней больше всего нуждаются, а места беднее Гаити было не найти, по крайней мере в Западном полушарии. Внутри же Гаити Фармер не находил места беднее Канжи. Он не стал задерживаться в Леогане, чтобы посмотреть, как там установят банк крови. Ему сказали, что больница намерена брать с пациентов плату за кровь. Он рассказывал мне, как ехал обратно на Центральное плато, а в голове крутилась мысль: “Построю, черт подери, собственную больницу! И там уж ничего подобного не будет, благодарю покорно”.
Вернувшись из Леогана на Центральное плато, Фармер устроился на временную работу в клинику отца Лафонтана в Мирбале. Она во многом походила на все прочие клиники, что ему довелось повидать за прошедшие месяцы в Гаити. Пациенты отстаивали очереди, чтобы попасть к врачу, который даже не давал себе труда поинтересоваться анамнезом или провести нормальный осмотр.
“После поверхностного обмена репликами с врачом, – рассказывал Фармер, – пациент шел со своей грязной, заткнутой кукурузным початком бутылкой в так называемую аптеку и платил, чтобы ему налили туда – буль-буль – микстуру от кашля или насыпали витаминов. Плачевное зрелище, особенно когда сотрудники орали на больных, если те приносили уж совсем, совсем грязные бутылки”.
С благословения отца Лафонтана Фармер сосредоточился на пыльном, убогом сквоттерском поселке вверх по дороге – на Канжи. Это был важный момент в его жизни. “Поднявшись наверх, в Канжи, где по сравнению с Мирбале в то время царил беспросветный ужас, я, как ни странно, почувствовал облегчение. Полное отсутствие медучреждений казалось облегчением! Не потому, что Канжи не требовались врачи. Просто я понимал, что не смогу работать в такой же клинике, как та, что в Мирбале, а она, как оказалось, была совершенно типичной гаитянской клиникой для бедных. И еще я понимал – надеюсь, все-таки понимал: важно тут не то, что чувствуем я или несчастный гаитянский доктор. Важно, что результаты лечения ничтожны”.
Поселку Канжи требовались и поликлиника, и больница, и система общественного здравоохранения. По замыслу Фармера, медучреждения должны были обслуживать неимущих бесплатно, а предоставляемые услуги – соответствовать конкретным нуждам поселка и отдельных пациентов. Значит, первым делом следовало выяснить, что это за нужды. Начал Фармер скромно – с медицинского опроса населения. Он рекрутировал пятерых гаитян – все они были примерно его ровесниками, и все окончили хотя бы несколько классов школы, – чтобы они прошли Канжи и две соседние деревни от двери к двери, записывая численность семейств, количество недавних рождений и смертей, основные видимые причины заболеваемости и смертности. Этот первый опрос был, в сущности, неофициальным, но подозрения Фармера он подтвердил. Смертность среди детей и подростков достигала ужасающего размаха. Кроме того, стало очевидно решающее значение “материнской смертности”: когда умирала мать семейства, ее родных постигала целая вереница катастроф, от голода и проституции до болезней и новых смертей.
Этот первый опрос был лишь малым зачином, ученическим опытом в сфере общественного здравоохранения, медицины, а заодно и антропологии. В Канжи, в начале 1984 года, Фармеру довелось пережить еще один памятный эпизод, связанный с малярией, по-своему не менее поучительный, чем леоганская история. Отец молодой пациентки решил обратиться за помощью к хунгану, вудуистскому жрецу, но мать, поддавшись на настойчивые уговоры, разрешила Фармеру и врачу-гаитянину тоже полечить девушку – хлорохином. Пациентка выздоровела. В своем эссе под названием “Антрополог внутри” Фармер писал, что после того случая у него из головы не шел вопрос, какое же место антропология должна занять в его жизни. Его учили, что этнограф должен наблюдать, а не пытаться изменить объекты наблюдения. Но в этом виде антропология казалась ему “беспомощной перед лицом таких насущных потребностей, как нормальное питание, чистая вода и профилактика заболеваний”. К концу эссе становится ясно, что отныне антропология будет интересовать автора не столько как абстрактная дисциплина, сколько как инструмент “вмешательства”. Компромиссам между наблюдением и действием он предпочел путь работника медицины и здравоохранения, отчасти ориентирующегося на антропологию.
Польза от нее была очевидная. Врач, неосведомленный о местной религии, рисковал нарваться на конфликт со жрецами вуду, но врач-антрополог, эту религию понимающий, мог найти способ действовать с хунганами сообща. Врач, не разбирающийся в местной культуре, вероятно, принимал бы некоторые жалобы пациентов за странные предрассудки – ну или в лучшем случае приходил бы от них в недоумение. Взять, к примеру, женский недуг move san, lut gate. Считается, что вызывает его sezisman, то есть внезапное потрясение или испуг. Первый эффект – move san, “дурная кровь” – влечет за собой lut gate, когда у кормящей матери портится или кончается молоко. Подобные явления не таят в себе загадок для молодого медика-этнографа, готового, как Фармер, докопаться до социальных коннотаций синдрома. Фармер впоследствии напишет: “Самое удивительное в расстройстве move san – его зловещий, радикальный символизм: две важнейшие для жизни субстанции, кровь и молоко, превращаются в яд. Можно предположить, что эта мощная метафора служит предостережением против насилия над женщинами, особенно беременными или кормящими”.
В процессе исследования move san, lut gate он консультировался с одной гаитянкой, спрашивал, какими травами лечат эту напасть. Женщина поделилась сведениями, а потом сказала ему буквально следующее: “Ну конечно, вам надо набрать этих листиков, чтобы изучить их действие и улучшить его”. Снова все тот же урок. Жители Канжи не хотели, чтобы их страдания кто-то просто рассматривал под микроскопом. Ему надлежало комбинировать научные разыскания с практикой.
Вероятно, Фармеру повезло – сам-то он считает именно так, – что ему выпал шанс поработать в Гаити в сфере антропологии, медицины и здравоохранения, прежде чем изучать эти дисциплины в Гарварде. Талантом к академическим исследованиям природа его наделила, однако Республика Гаити позаботилась о том, чтобы его интерес к теории оставался умеренным.
В Гарвардскую медицинскую школу Фармер поступил осенью 1984 года. Ему было всего двадцать четыре. Впрочем, однажды он сказал мне: “К двадцати трем я полностью сформировался”. Думаю, он имел в виду, что к тому времени упорядочил свою философию и свое мировоззрение и осознал потребность совместить их с действием, прежде всего в Канжи. В Кембридже он надолго не задержался. Навестил Гарвард лишь затем, чтобы освоиться, забрать учебники и увезти их с собой обратно на Центральное плато.
Первые два года обучение в медицинской школе состояло в основном из обширных лекционных курсов. Зачастую Фармер появлялся в Кембридже буквально накануне лабораторных практикумов или экзаменов, затем снова спешил в Гаити. Незамеченным такое поведение пройти не могло. Ко второму курсу соученики уже прозвали его Полом Странником. Но хотя сей феномен “мигрирующего студента” почти наверняка не имел прецедентов, ни один профессор не находил причин его порицать. Ведь молодой человек пытался лечить людей, вообще лишенных медицинского обслуживания. К тому же учился он блестяще, был одним из лучших на курсе.
Глава 9
В результате перекрестного гарвардско-гаитянского обучения Фармер по-новому проникся верой. Спустя годы он скажет мне: “В Гарварде презирают религиозные верования любого толка, а для бедных, не только в Гаити, но и вообще везде, они чрезвычайно важны. Оба факта равно укрепили мое убеждение, что вера – это хорошо”.
И если безземельным крестьянам Канжи необходимо было верить, что кто-то всеведущий записывает ходы, то и Фармер теперь испытывал потребность верить в нечто подобное. В крестьянском лексиконе смерть, которой можно было избежать, называлась “глупой смертью” – и он такое наблюдал постоянно. “Не может быть, чтоб никто не смотрел этот фильм ужасов”, – говорил он себе. “Знаю, звучит поверхностно, будто эта жажда верить – вроде наркотика, заглушающего боль. Только ничего она не поверхностная, наоборот, самое глубокое чувство, какое мне доводилось встречать. И меня не отпускала мысль, что в откровенно безбожном мире, где царит культ денег и власти – или, как в Дьюке и Гарварде, более соблазнительный культ компетентности и личных достижений, – все же есть место для Бога. Он там, где страдают обездоленные. Хотите поговорить о распятии? Я вам, гадам, покажу распятие”.
Когда летом 1985 года Офелия снова приехала на Центральное плато, чтобы работать вместе с Полом, она заметила, что теперь, одеваясь на выезды, он часто вешает на шею большой деревянный крест поверх рубашки. Однако этот атрибут скорее подчеркивал его “пасторскую” сторону, о которой она догадывалась и раньше, но которая составляла лишь малую часть его натуры. Несколько лет спустя он утверждал, что “верует”, но сразу добавлял: “Я также верую в пенициллин, рифампицин и изониазид, в высокую всасываемость флюороквинолонов, в лабораторные опыты, клинические испытания и научный прогресс, в то, что причиной СПИДа всегда является ВИЧ, богатые угнетают бедных, ресурсы текут в неверном направлении, отчего и впредь будут возникать эпидемии, которые погубят миллионы людей. И еще я верую в реальность всего перечисленного. Так что если бы мне пришлось выбирать между теологией освобождения и какой-либо другой логией, я бы принял сторону науки при условии, что это не отменяет служения бедным. Но передо мной ведь такой выбор не стоит, правда?”
Религиозные догмы, которые внушали ему в детстве, он и раньше-то не воспринимал особо всерьез, а сейчас в большинство из них просто не верил. Например, ехидничал: “До сих пор не могу найти, где в священных текстах говорится: не предохраняйся!” Он ведь был еще молод, втягивал Офелию в соревнования по поеданию манго, плавно переходящие в негигиеничную битву объедками, и уж конечно плевать хотел на нотации о воздержании, которые некогда читал ему во Флориде епископ в рамках церемонии конфирмации. Как выяснилось, он даже с радостью пренебрег церковной службой именно ради того, чтобы пойти наперекор этим нотациям. Офелия вспоминала день, когда “отдалась ему”, рассмеявшись собственной формулировке. Было воскресенье. Гроза застигла их в Мирбале на улице, и они побежали обратно в дом отца Лафонтана. Там никого не было, все ушли в церковь, а службы в Гаити обычно длятся долго. Кроме того, гаитяне не большие любители мокнуть под дождем. “Можно было не сомневаться, пока служба не кончится, никто не вернется, – рассказывала Офелия. – Мы залезли вместе в душ”. В память врезался стук дождевых капель по крыше, запах дыма от костра, разожженного во дворе для приготовления воскресного ужина. Она призналась, что это был самый романтический момент в ее жизни.
Офелия провела с Полом в Гаити все лето. Вечерами за чашкой кофе она помогала ему с изучением медицины. То есть пыталась помогать. Из учебников он делал выжимки в виде карточек-перевертышей, у него их были тысячи, целые кучи. На одной стороне он писал своим изящным почерком левши вопросы вроде “Какая связь подагры с лизосомой?” и вдобавок рисовал вокруг слов нотные значки, подразумевающие, что вопрос следует пропеть. Могла “вопросительная” сторона карточки выглядеть, например, и так: “Покажите мне, сэр, повреждения при синдроме Горнера и параличе глазодвигательного нерва. И что это за чертовщина – синдром Арджил-Робертсона?” Ответы на обратной стороне часто сопровождались рисунками (многие из них очень нравились Офелии), в данном случае – изображением зрительных путей.
Офелия копалась в карточках, ища вопрос, который, как она надеялась, поставил бы Пола в тупик. Так было приятно, когда выпадала возможность прочесть ему правильный ответ – словно она и впрямь делает что-то полезное.
– Так, Пи-Джей, а что такое дистрофическое обызвествление?
– Дистрофическим обызвествлением называется чрезмерное отложение солей кальция в омертвевших тканях. – Тут он назидательно поднимает палец: – Разумеется, его не вызывает гиперкальциемия. А вот метастатическое обызвествление с гиперкальциемией как раз связано.
Она переворачивает карточку, стараясь скрыть разочарование.
– Верно! Отлично, Пи-Джей.
Иногда они ходили по деревням пешком. По дороге Пол показывал ей разные растения. “Индиго, – говорил он. И тут же с выжидательной улыбкой: – А по-латыни как называется?”
Так он вел себя с тех самых пор, как они познакомились. Порой ей казалось, будто он нарочно это делает, чтобы она чувствовала себя невеждой. “Да нет же, дурочка, вовсе нет, – твердила она себе. – Он просто любит произносить всякие названия. Игры у него такие”.
Но все-таки трудно было не сравнивать себя с ним. Почти в каждой хижине, куда они заглядывали, их потчевали угощением из элементов, как выражался Пол, пятой группы[3], от которого чаще всего обоих воротило. Они притворялись, будто с удовольствием жуют мясные пирожки с запахом пота и тому подобные деликатесы, а сами строили друг другу рожи, стоило хозяевам отвернуться. И вот однажды каждому преподнесли нечто вроде глазуньи на студенистой массе из свиного жира и хрящей. Офелия попробовала, и ее чуть не стошнило. Улучив момент, когда на них никто не смотрел, она протянула тарелку Полу, прошептав: “На, сам это ешь”. Он взял тарелку и мигом проглотил содержимое. Потом с усмешкой покосился на нее и шепнул: “Незачет”. На обратном пути они посмеялись над приключением, однако же из всех бесчисленных ситуаций, когда ей приходилось есть такое, на что она и смотреть-то могла с трудом, Офелии врезалось в память именно это проваленное испытание.
Как-то раз, спускаясь по крутой горной тропе в окрестностях Канжи, она поскользнулась. Мимо шли местные, и кто-то крикнул ей по-креольски: “Смотри под ноги!” Офелия упрямо сжала челюсти. Значит, слабачкой ее считают? Пожилой мужчина подошел и протянул ей свой посох. “Нет-нет, не надо!” – воскликнула она. Пол сурово посмотрел на нее. “Никогда от такого не отказывайся, – произнес он с нажимом. – Это бесценный дар”. Разумеется, он был прав. Ее щеки горели.
В Канжи они спали в разных домах – все-таки их покровитель был священником. Однажды вечером, отправляясь восвояси, она решила непременно встать завтра раньше Пола. Поставила будильник на пять. А утром ее разбудил его голос во дворе под окошком – он напевал ей песенку, а она лежала в постели, думая: “Я просто хочу сделать что-нибудь лучше, чем он. Хоть разочек”.
Пол расширил и углубил свой медицинский соцопрос, начатый в Канжи и окрестностях в 1983 году. Он нашел книгу, где описывался подобный опрос в сельской местности в Индии, и пользовался ею как учебником. Офелия занималась сбором данных – ходила пешком из деревни в деревню, иногда с Полом, но чаще с его молодыми рекрутами из местных, знавшими все пути. Заросшие тропинки вели вниз по оврагам и вверх по горным склонам, жара стояла немилосердная. Лицо девушки страшно обгорало на солнце, зато ее креольский значительно прогрессировал, и каждый поход был ей важен, хоть и выворачивал душу. Офелия приходила в крошечную двухкомнатную лачугу, ей приносили стул и что-нибудь попить, потом рассказывали о своих бедах и невзгодах, а она записывала. На вопрос о дате рождения ей отвечали, в правление какого президента они родились либо до или после плотины. Когда она спрашивала, сколько человек здесь живет, мать или отец семейства перечисляли имена, иногда штук одиннадцать, а Офелия поднимала голову, смотрела на полоски неба, просвечивающие сквозь кровлю из коры банановой пальмы, и представляла себе сезон дождей. Смотрела на металлические колпаки на сваях их маленьких амбаров и думала: “Крысы”. Отмечала особый запах в тесных, переполненных хижинах: “Не вонь грязных носков, а характерный запах бедности, когда в помещении дышит много голодных людей”.
Иногда она попадала в дома, где кто-то умирал, зачастую дети, страдающие от острых кишечных инфекций. За водой жителям Канжи приходилось спускаться четверть километра по крутому склону. Они опускали в стоячий водоем свои калебасы или пластиковые бутыли, тащили их полными обратно наверх и, конечно, старались растянуть на подольше. Так что вода по нескольку дней стояла в незакрытых сосудах.
Решение предложила группа американских и гаитянских инженеров. Американцы были прихожанами епископальной церкви Верхней Южной Каролины, уже много лет помогавшей отцу Лафонтану. У подножия двухсотпятидесятиметрового холма выбивалась на поверхность чистая подземная речка. До строительства плотины она служила основным источником питьевой воды для местных жителей. Инженеры придумали, как использовать силу ее течения, чтобы гнать эту хорошую воду по трубам наверх в Канжи, где они построят сеть общественных колонок.
Как только проект осуществили, вспоминала Офелия, уровень детской смертности резко снизился.
Воочию убедившись, сколь велико значение воды в деле здравоохранения, Фармер проникся нежностью к технологиям в целом, а заодно презрением к “луддитским ловушкам”. Чтобы пояснить это выражение, он всегда рассказывал, как однажды, вернувшись в Канжи из Гарварда, узнал, что отец Лафонтан организовал сеть бетонных общественных уборных. Тридцать туалетов были размещены по всей деревне и выглядели замечательно.
– Но соответствующая ли это технология? – спросил Фармер. Этот термин он подцепил на лекции в Гарвардской школе здравоохранения. Как правило, он означал, что всякую задачу следует выполнять при помощи самой простой из соответствующих ей технологий.
– А ты знаешь, что такое соответствующая технология? Это когда все хорошее богатым, а бедным – дерьмо! – рявкнул священник и еще пару дней потом не разговаривал с Фармером.
Лафонтан также курировал строительство клиники в Канжи – в Южной Каролине собрали средства. В учреждении, конечно, предполагалось создать лабораторию. Фармер раздобыл брошюру Всемирной организации здравоохранения о том, как оборудовать лаборатории в странах третьего мира. Рекомендации там давались весьма скромные. Можно обойтись всего одной раковиной. Если провести электричество проблема, можно использовать солнечные батареи. Самодельный микроскоп на солнечной подзарядке для большинства задач вполне сгодится. Брошюру Фармер выбросил. Первый микроскоп в Канжи был настоящий, украденный из Гарвардской медицинской школы. “Справедливое перераспределение, – объяснял он позже. – Мы просто помогали университету избежать преисподней”.
Предпринимательство в Канжи и окрестных деревнях рождалось, в сущности, на пустом месте благодаря новой системе здравоохранения, выстроенной под руководством отца Лафонтана. Удивительно, как ему удавалось столь быстро и надежно строить в местности, где не было ни электричества, ни материалов, ни приличных дорог. При планировании же этой своей системы он все больше руководствовался мнением Фармера.
Планы последнего были во многом просты, первые шаги диктовались азами теории здравоохранения. С опроса он начал потому, что это верный способ выявить проблемы, заложить фундамент базы данных и зафиксировать точку отсчета, исходя из которой по следующим опросам можно будет определить, насколько эффективна новая система. Фармер задумал “возвести первую линию обороны” в Канжи и прилежащих деревнях, а именно: наладить программы вакцинации, надежное водоснабжение и ассенизацию. А держать оборону должен будет персонал из местных, обученный выдавать лекарства, читать лекции о санитарии, лечить неопасные болезни и распознавать симптомы опасных, таких как туберкулез, малярия и брюшной тиф. Он рассчитывал, что его женские программы по гинекологическому обслуживанию, санитарному просвещению и планированию семью снизят уровень смертности матерей в здешних краях. А с чем не справится первая линия обороны, тем займется вторая – новая клиника Бон-Савёр в Канжи, возле которой, надеялся Фармер, когда-нибудь вырастет и больница.
Многие эксперты по здравоохранению сочли бы это обилие планов весьма амбициозным и, прямо скажем, чересчур оптимистичным для такой нищей глухомани, как Канжи. Но к 1985 году стандартное определение здравоохранения уже не удовлетворяло Фармера. Здешний рассадник болезней – лишь симптом общей обездоленности, объяснял он Офелии. И добавлял: “Мы должны понимать здравоохранение в самом широком смысле”.
Эта сентенция родилась у него отчасти благодаря Лафонтану. Еще в конце 1970-х священник построил в Канжи первую школу. Под ее черепичной крышей умещались не все, так что некоторые уроки проводились снаружи, под манговым деревом. В начале 1980-х на деньги, присланные из Южной Каролины, Лафонтан воздвиг гораздо более внушительное двухэтажное здание посреди небольшого плато на склоне холма над Шоссе № 3. Фармер полагал, что новая школа, довлеющая над лачугами Канжи, выглядит “несколько претенциозной”. Писал он так: “Строительство новой школы может показаться не совсем уместным, учитывая, что у множества водных беженцев нет ни крова, ни земли, ни еды. Но сами они, похоже, считают иначе”. Дети стайками сбегались в новенькое учебное заведение. Одна крестьянка объясняла: “Мы часто гадаем, как бы сложилась жизнь, будь мы грамотными. Может, если б умели писать, до такого и не докатились бы”. Кроме того, школа могла служить еще и площадкой для лекций о санитарии, и поводом предоставить бесплатное питание недоедающим детям, не задевая самолюбия их семей. Создание школы служило одновременно и практическим, и нравственным целям. Фармер говорил: “Чистая вода и медицинское обслуживание, еда и школа, железные крыши и бетонные полы – все это должно входить в список минимальных благ, на которые человек имеет право по рождению”.
На все это требовалось гораздо больше денег, чем могли предоставить доброжелатели из Южной Каролины. У самого Фармера опыт фандрайзинга был невелик. Однако в 1985 году ему крупно повезло.
За два года до того, в конце 1983-го, он явился в Бостон, чтобы пройти положенное перед поступлением собеседование в Гарварде, и наведался в благотворительную организацию под названием Project Bread. Фармер просил у них несколько тысяч долларов на строительство хлебной печи в Канжи. От отца Лафонтана он не раз слышал, что деревне необходима собственная пекарня.
Уговаривать никого не пришлось. Фармеру сообщили, что один из жертвователей как раз хотел, чтобы его деньги пошли на питание для неимущих гаитян.
– А кто это? – поинтересовался Фармер.
– Анонимный благотворитель, – был ответ.
Хлебную печь построили неподалеку от школы летом 1984-го. В начале следующего года Гарвардская медицинская школа опубликовала эссе Фармера “Антрополог внутри”. Вскоре после этого директор Project Bread связался с Фармером. Оказалось, анонимный благотворитель прочел статью и якобы заявил: “Хочу познакомиться с парнишкой. Похоже, он из породы победителей”. “Если хочет встретиться, пускай приезжает в Гаити”, – ответил Фармер.
Ему сказали, что благотворителя зовут Том Уайт и что ему принадлежит промышленно-строительная компания в Бостоне. Фармер представлял себе дородного республиканца, курящего тонкие сигары и заключающего подковерные сделки с Транспортным управлением залива Массачусетс в обход профсоюзов. Но когда он приехал встречать Уайта в аэропорт имени Франсуа Дювалье, на обжигающем ветру его ждал розовощекий господин лет шестидесяти с чем-то, облаченный в синтетический костюм для гольфа (включая клетчатые брюки). Уайт привез с собой пачку банкнот, которые сразу раздал нищим, – поступок в глазах Фармера отнюдь не отталкивающий, но еще не достаточный для вердикта. В пикапе по дороге в Канжи Фармер “повествовал о Гаити”, и Уайт подобающе ужасался, но молодой человек все еще относился к нему с опаской и не пытался этого скрыть.
Ему было всего двадцать пять, и он, по собственному признанию, “еще не совсем созрел” для непринужденного общения с потенциальными благотворителями. Разговор в трясущейся по ухабам машине свернул на политику.
Уайт между делом заметил:
– Ну, я лично за Рейгана не голосовал.
– В смысле? – удивился Фармер.
– В том смысле, что я не голосовал за Рейгана.
– То есть вы голосовали против собственных интересов? – уточнил Фармер.
– А разве это грех? – спросил Уайт.
Пересказав мне этот диалог, Уайт добавил: “И тогда его прохладная сдержанность сменилась искренней теплотой”. И продолжил: “Для меня он был совсем мальчишка, но я проникся к нему симпатией, потому что, если ему выскажешь свое фе, а он сочтет, что фе здесь неуместно, он тебе так и скажет. А в деле служения обездоленным он меня далеко обогнал”.
В следующий приезд Фармера в Кембридж Том Уайт пригласил его на ланч, и у них вышел спор о чувстве вины. Уайт сказал, что это, по его мнению, эмоция бесполезная. Напротив, возразил Фармер, от нее очень даже бывает польза. Уайт, разведясь с первой супругой, добровольно и очень щедро ее обеспечил, к тому же полностью оплачивал содержание и образование детей. А у его новой жены было еще шестеро своих – далеко не типичный второй брак богатого мужчины. Тем не менее он признавался, что чувствует себя виноватым из-за самого факта развода.
Но Фармер вовсе не такие ситуации имел в виду. Поощрять бы следовало, пояснил он, чувство вины, которое иные богачи испытывают по отношению к бедным, поскольку это могло бы стимулировать их к пожертвованию части своих богатств. Кроме того, они действительно виноваты.
Вообще-то Уайт уже много лет раздавал деньги католическим благотворительным организациям и стесненным в средствах друзьям. И начал еще до того, как разбогател сам. Он вырос в семье ирландских католиков, измученной пьянством отца, и еще в юности стал опорой для близких. Судя по рассказам, он прошел интересный жизненный путь. Колледж в Гарварде со специализацией по романским языкам, потом армия, где он служил, поначалу неохотно, адъютантом у генерала Максвелла Тейлора, командира 101-й воздушно-десантной дивизии. Уайт десантировался в Нормандии ночью накануне операции “Нептун”, а потом в Голландии. По его словам, он не жалел о своем участии в этих событиях, но войну возненавидел навсегда. И хотя лично генералу Тейлору Уайт симпатизировал и восхищался его мужеством, но манера власть имущих относиться к людям как к булавкам на карте со временем стала ему противна. Привилегии высокого положения он тоже не одобрял, с тех пор как один молодой десантник у него на глазах погиб, раздавленный собственным снаряжением, слишком тяжелым из-за лишних вещей, которые парень тащил с собой для генерала.
После войны Уайт превратил отцовскую фирму в самую крупную строительную компанию Бостона. Он водил близкое знакомство с высокопоставленными лицами, входил в совет директоров девяти учреждений и сидел с друзьями президента на церемонии инаугурации Джона Кеннеди. Но в обществе богатых и знаменитых он, как правило, чувствовал себя неуютно, да и прессы старался избегать. Не вдаваясь в подробности, он сообщил мне, что несколько раз впадал в депрессию и что у него “заниженная самооценка”, и добавил: “Впрочем, в моем бизнесе снижение цен – это путь к успеху”. На мой вопрос, что заставило его сделать такую высокую ставку на Фармера, двадцатипятилетнего студента-медика, Уайт ответил: “Он сразу мне понравился. Такой умный, так предан своему делу”. Но, подумав, признался: “На самом деле не могу толком объяснить. Может, я просто искал себе компаньона”.
Конечно, положение дел в Гаити расстраивало Уайта. Особенно его возмущала дорога, ведущая в Канжи. “Поди побегай по этой адовой тропинке”, – ругался он. И всякий раз, проезжая по ней, думал: “Это же, черт побери, так легко исправить”. Он вспоминал, как впервые увидел квашиоркор: “Там был малыш с порыжевшими волосами и раздутым животом, и я сразу сказал: запустите здесь программу снабжения питанием”. Уайт обнаружил, что может легко представить себя на месте гаитян. Встретив в лачуге на земляном полу ребенка с огромными глазами и незабываемой улыбкой, он испытал желание вызвать сюда бульдозеры своей фирмы. “Ради бога, – твердил он то Фармеру, то Лафонтану, – покройте им крыши хоть жестянками, залейте пол цементом. Денег я вам дам. Вот же черт”.
Когда Фармер вернулся в Бостон, чтобы пройти интернатуру в Бригеме, Уайт стал навещать его в больнице – приезжал к обеденному перерыву, покупал сэндвичи в больничном кафетерии, и потом они с Фармером жевали их в его машине. Однажды Уайт спросил Фармера, как всегда бледного:
– Ты питаешься-то нормально?
– Да-да, все в порядке, – ответил Фармер.
– Денег дать?
– Не надо, – сказал Фармер. – Ну, может, сорок долларов?
У Уайта в кармане как раз была пачка стодолларовых купюр. Он бросил одну Фармеру на колени:
– Вижу же, голодный. – С этими словами он, поддавшись импульсу, снова полез в карман и вытянул еще сотню. – Ради бога, ешь как следует. – И для пущей убедительности сунул ему третью.
Фармер посмотрел на деньги:
– Вот теперь я могу рассказать вам про вчерашний вечер.
Оказывается, он навещал на дому одного больного СПИДом пациента, которого лечил в Бригеме, и узнал, что его вот-вот выгонят с квартиры.
– Вот я и переписал на него свой зарплатный чек.
– Господи, Пол, тебе не кажется, что это малость непрактично?
– Ну да, – улыбнулся Фармер, – зато Господь сегодня прислал вас.
Зачастую Уайт выполнял в Бостоне всякие рядовые поручения, помогая осуществлению проектов в Канжи. Забирал, например, заказанный товар вроде раковин и увозил в багажнике своего “мерседеса”. (Одна партия раковин предназначалась для новой клиники. Первая клиника, как выяснилось, была спланирована неудачно. Уайт дал денег, чтобы ее перестроили, но сделал это тихо, отказавшись от публичных благодарностей. “Даже табличку со своим именем не захотел”, – поделился Фармер.)
Однажды, когда они встретились в Бостоне, Уайт заметил:
– Знаешь, Пол, иногда мне так хочется все бросить и уйти миссионерствовать с тобой в Гаити.
Фармер, подумав, ответил:
– В вашем конкретном случае это был бы грех.
Глава 10
На фотографии, сделанной Офелией в середине восьмидесятых, Пол щеголяет в шортах и явно весит на несколько килограммов больше, чем в последующие десятилетия, – худой, но пока не чересчур. Он сидит на корточках и разравнивает руками землю вокруг саженца. Раньше этот склон над Шоссе № 3 был пустынен, но теперь Офелия всякий раз, как приезжает, обнаруживает здесь все новые рощицы и строения.
С 1985 по 1989 год она каждое лето проводила в Гаити, где трудиться приходилось практически непрерывно. После полудня Пол все еще возился с больными. Изрядно проголодавшись, она заглядывала к нему в кабинет: “Есть не хочешь? Ты же только кофе выпил в шесть утра, и все”. Он соглашался подняться с ней на кухню, расположенную выше по склону, но, как правило, с явной неохотой.
Время от времени на Офелию накатывало мучительное желание сбежать из этого неприветливого края. Она уговаривала Пола съездить за чем-нибудь в Порт-о-Пренс, всякий раз чувствуя себя “ну вроде как мошенницей”, из-за того что отрывает его от работы. “Нам же надо привезти того и сего для клиники”, – убеждала она его. В поездку она прихватывала с собой пачку его учебных карточек-перевертышей. Дорога в те времена занимала около трех часов, к тому же им нередко случалось пробить колесо или угробить рессору. Пока они сидели на обочине, ожидая окончания ремонта, Офелия гоняла друга по карточкам. Потом они честно закупали лекарства и оборудование для клиники, а также рассаду, чтобы Пол мог продолжать озеленение горного склона вокруг растущего медицинского комплекса в Канжи.
Однажды, завершая очередное “путешествие выходного дня”, они выезжали из Порт-о-Пренса по улице Дельма. Офелия представляла себе долгие походы по жаре, ожидающие ее в Канжи, и думала, как было бы здорово выпить диетической колы после такого марш-броска.
– Пожалуйста, давай купим диетической колы, – попросила она.
– Времени нет, – ответил Пол. – Не выйдет.
Она понимала, что он торопится вернуться в Канжи и что остановка грозит не только двадцатиминутной задержкой – еще ведь придется проследовать мимо нищих в супермаркет, обслуживающий местную элиту. По всей видимости, Пол имел в виду, что если он сам и сельские жители могут обходиться без всяких штучек вроде диетической колы, то и она перебьется. “О некоторых вещах он судил с такой уверенностью, – вспоминала Офелия. – И, что самое обидное, обычно бывал прав”. Тогда, в машине, она набросилась на него с обвинениями в ханжестве и не унималась до тех пор, пока он не ударил по тормозам. Перегнувшись через пассажирку, он распахнул дверцу с ее стороны, заорал “Выметайся!” и в придачу обозвал непечатным словом. Офелия не шелохнулась, про себя негодуя, но в то же время и ликуя, и едва сдерживая улыбку. “Да!
Я все-таки тебя зацепила. И тебе человеческое не чуждо. Ты тоже несовершенен”.
Врезалась ей в память и еще одна поездка в Порт-о-Пренс. Дело было в 1986 году. Не так давно Бэби Док покинул Гаити – это событие ознаменовало конец правления Дювалье. Функции диктатора фактически приняла на себя армия, и последовавший затем период гаитяне окрестили “дювальеризмом без Дювалье”. Все лето там и тут вспыхивали беспорядки, пока еще без видимой системы: импровизированные баррикады из горящих шин на дорогах, крестьянские демонстрации в Мирбале. Похоже, многие сельские жители рассчитывали, что после бегства Бэби Дока их жизнь изменится к лучшему, и теперь протестовали против дальнейшего сохранения статус-кво. По словам Офелии, “в воздухе носилось ощущение, словно вот-вот что-то рванет”. Они с Полом проводили выходные в Порт-о-Пренсе, где ночевали в городском доме Лафонтанов. Поехали по делу в центр, а когда все закончили и снова вышли на улицу, Офелии показалось, что вокруг как-то необычно тихо. Помимо привычного неприятного запаха, характерного для столицы, она уловила смрад горящих шин: “Горело что-то, чему гореть не положено”. А местная детвора утащила ключи из их машины. Пока Пол уговаривал сорванцов вернуть ключи, Офелия смотрела в сторону, туда, где улица пересекалась с другой, побольше, и внезапно увидела то, что по-креольски называется kouri, буквально – “гон”. На перекресток выбежала толпа, по пятам преследуемая армейскими бронетранспортерами с орудиями на изготовку. Послышались выстрелы. Очевидно, происходил разгон политической демонстрации. Мгновение спустя демонстранты хлынули на улицу, где находились Офелия и Пол, окружили их автомобиль и прочие машины, пытавшиеся дать задний ход и как-то оттуда вырулить. Офелия с Полом открыли двери, пустили нескольких пострадавших. Тем временем у девушки начались рези в животе.
– Пи-Джей, поехали отсюда!
Наконец им удалось прорваться, и Пол направил машину к дому Лафонтанов. Офелия вышла, но он остался за рулем.
– Я должен вернуться, Мин.
– Пожалуйста, Пи-Джей, не надо!
Но он уехал обратно, в самую гущу беспорядков. Демонстранты забирались на машину, спасаясь от солдатских дубинок. Пол вывез еще некоторое количество раненых гражданских, но сам не пострадал. “Ему важно было видеть все своими глазами, – пояснила Офелия, восстанавливая в памяти те события. И добавила: – Эта вонь горящей резины привязывается намертво. Для меня она с тех пор всегда ассоциируется с политическим насилием”.
Канжи насилие более или менее обошло стороной, но и здесь атмосфера ощутимо изменилась. В прежние годы, до изгнания Бэби Дока, крестьяне редко осмеливались обсуждать политику. Теперь же, как выражались гаитяне, babouket la tonbe – “свалился намордник”. “Сельские жители не только заговорили на темы, ранее запретные, – писал Фармер. – Они и на старые проблемы стали смотреть по-новому”. Если раньше они задавались вопросом, являются ли микробы причиной диареи у младенцев, то сейчас их уже интересовало, не грязная ли вода служит причиной инфекции. А грязная вода – она разве не результат небрежения, бестолковости и жадности правительства?
Запах горящих шин – запах мятежа, баррикад и массовых убийств – на долгие годы воцарится в Республике Гаити, а следовательно, и в жизни Пола с Офелией.
В 1988 году Офелия переселилась к Полу в Бостон, и они стали жить вместе. В его учебе наступил этап так называемых клинических ротаций – поочередной практики в разных бостонских больницах, обычно по месяцу в каждой. Пол старался не пропускать ни дня. Но и в Бостоне он постоянно думал о Гаити. Когда Офелия еще только начинала работать с ним, он сказал ей: “Нам надо привлечь сюда ресурсы. Поможешь?” Вернувшись в Англию в конце лета 1985 года, девушка самостоятельно организовала скромный сбор средств, на которые потом по указанию Пола приобрела десять весов для взвешивания младенцев, чтобы в рамках его продолжающегося медицинского соцопроса определять детей, подверженных риску. Следующим летом она привезла весы и остаток денег в Канжи.
К тому времени они уже подумывали о создании организации, которая поддерживала бы систему здравоохранения, постепенно образующуюся в окрестностях Канжи. Том Уайт согласился поспособствовать делу и в 1987 году претворил идею в жизнь – нанял юриста для подготовки документов, чтобы учредить в Бостоне общественную благотворительную организацию под названием “Партнеры во имя здоровья”, а также ее дочернюю организацию в Гаити, “Занми Ласанте”. “Партнерам” предстояло заниматься сбором средств, освобождать полученные деньги от налогов и переправлять их в Канжи. Пока что это были в основном деньги Тома Уайта – он дал миллион долларов в качестве, как он сам выразился, семенного капитала.
Привлек Фармер и еще одного преуспевающего друга, соученика по Дьюку Тодда Маккормака, теперь проживавшего в Бостоне. Маккормака несколько удивил сам факт, что его, двадцативосьмилетнего сотрудника отцовского предприятия, приглашают куда-то в консультативный совет, но он понимал, как серьезны намерения Фармера, и охотно согласился. У него сложилось впечатление, что для Фармера ПВИЗ не просто стратегический шаг, но еще и путь к основанию своего рода новой религии. “Таким образом, он придавал законный статус идеям, в которые столь страстно верил, запускал ковчег, на котором можно брать с собой друзей, – объяснял мне Маккормак. – Персональная церковь Фармера”.
Через несколько месяцев после официального учреждения ПВИЗ Фармер расширил состав группы, пригласив и соученика по Гарварду. Американец корейского происхождения Джим Ён Ким тоже занимался антропологией и медициной. В Бостоне они с Полом не раз вели беседы, весьма напоминающие те бесконечные, скачущие с темы на тему разговоры с Офелией в Порт-о-Пренсе, и в результате Джим присоединился к ПВИЗ. Концепция нового предприятия в изложении Фармера показалась ему убедительной. Реальность выглядела менее презентабельно: благотворительная организация размещалась в офисе из одного кабинета над кембриджским рыбным ресторанчиком и, помимо консультативного совета, насчитывала ровно одного штатного сотрудника – пьющего непризнанного поэта. По сути, вся организация состояла из Пола, Офелии, Джима и Тома Уайта, и они много времени проводили вместе. Иногда молодая троица ночевала у Тома, в каком-нибудь из его домов. Он уходил спать намного раньше молодежи, а по утрам ворчал на них: “Ума не приложу, о чем можно трепаться ночь напролет”.
А “трепались” они, например, о политкорректности, которую Джим определял следующим образом: “Весьма хитроумный способ рассеивать внимание. Занятие, зацикленное само на себе. Подчищай свой словарный запас, чтобы показать всем вокруг: ты не абы кто, ты вращаешься в тех кругах, где постоянно обсуждаются такие вещи”. (В чем же выражается политкорректность? Некоторые ученые педанты придирались к Полу и Джиму: “А почему вы называете своих пациентов бедняками? Сами же они себя так не называют”. На что Джим отвечал: “А без пяти минут покойниками – годится?”)
Заходила речь и о том, сколь незначительны так называемые культурные барьеры, когда дело касается отношения гаитянских крестьян к западной медицине: “Проще всего человеку пересмотреть свои культурные ценности, если ему предлагают эффективное лечение”.
Говорили и о роли внешнего вида: “Радикалы, считающие необходимым рядиться в гватемальские народные костюмы, – остолопы. Бедняки не хотят, чтобы мы выглядели как они. А хотят, чтобы мы надели деловой костюм и дали им еды и воды. Запятая”.
Некоторые считали, что медицина лишь смягчает симптомы нищеты. С этим молодые люди соглашались и готовы были объединить усилия со всяким, кто искренне пытается изменить политико-экономические условия в таких странах, как Гаити. Но вместе с тем они опровергали заявления иных доморощенных радикалов, что, мол, добрые дела без революции только затягивают статус-кво, а проекты вроде медцентра в Канжи лишь усугубляют “зависимость”. Но бедняки-то страдают, “мрут как мухи”! “Партнеры во имя здоровья” верили, что необходимо переправлять ресурсы из Штатов в Канжи, “сбрасывать с крутого откоса неравенства”, чтобы помогать неимущим напрямую и безотлагательно. Они называли это “прагматической солидарностью” – термин, возможно, неуклюжий, но суть у него замечательная, ибо, если претворяешь ее в жизнь, определений можно и не выдумывать, достаточно просто указать на достигнутые результаты.
Если Пол, Джим и Офелия шли куда-нибудь ужинать, дискуссии не кончались до закрытия ресторана. После они отправлялись к Джиму, чтобы продолжить. Много разговоров посвящалось самоопределению, и зачастую ребята отталкивались от того, чем они не являются. БЛ вечно твердили: “Не бывает черного и белого”. В некоторых вещах очень даже бывает, возражали молодые люди, встречаются “зоны этической ясности”, ЗЭЯ. Есть ситуации, пусть и редкие, когда абсолютно ясно, что надо делать. Но такого рода правильные поступки всегда сопряжены с осложнениями и трудностями. Эти трудности тоже много обсуждались: как Пол и Джим будут совмещать работу в ПВИЗ и учебу, экзамены, каковы дальнейшие действия организации в опекаемом ею районе Гаити, где ЗЭЯ попадаются на каждом шагу.
Идей рождалось множество, и в том числе было решено построить еще одну школу в убогой деревеньке поблизости от Канжи. Называлась деревенька Кэ-Эпен, “Дом сосен”, и в ней не было практически ничего, даже деревьев кот наплакал. Отец Офелии предоставил средства, три тысячи английских фунтов. Однажды вечером, в 1988 году, Фармер носился по Кембриджу, пытаясь успеть по каким-то последним делам перед отлетом в Гаити, где вот-вот должно было начаться строительство школы. Шагнул с тротуара и попал под машину, результат – раздробленное колено. Так что вместо Гаити он получил три недели отдыха в Массачусетской больнице общего профиля. Потом вернулся в огромном гипсе в квартиру, где жил с Офелией. Она пыталась выхаживать любимого.
Рутина совместного быта не ослабила их взаимной привязанности. “Я знала, что он меня любит, – говорила Офелия. – И я его любила”. И все же ей приходилось нелегко: “Трудно жить с мужчиной, чье сердце принадлежит не тебе, а чему-то такому, с чем ты не можешь соперничать, даже если бы и хотела”. Когда в пятницу ему удавалось пораньше освободиться от своих занятий в медицинской школе и семинаров по антропологии, он, как правило, срывался в Гаити на несколько дней или хотя бы на выходные.
– Пожалуйста, не уезжай, – попросила однажды Офелия. – Побудь со мной.
– Поехали вместе, – ответил он.
Разгорелся спор, и Пол сказал ей:
– Я же четко объяснял, каким вижу свой путь, и думал, ты хочешь идти со мной.
Позже, сидя одна в квартире, Офелия думала: “А ведь это правда. Он никогда не обещал, что мы будем ходить на прогулки в лес, посещать музеи или оперу”.
После аварии стало еще труднее. Пол метался туда-сюда в громоздком гипсе и злился – ему не терпелось вернуться в свою клинику в Канжи. Офелия напоминала ему, что нельзя перегружать больную ногу, – он не слушал. Она готовила для него – он не ел. Она старалась изо всех сил, но не желала страдать молча, и вспыхивали ссоры. В конце концов он заявил ей: “Я уезжаю в Гаити. Там хоть обо мне позаботятся”.
Офелия и спустя много лет не забыла эту дату – io декабря 1988 года. Они помирились, но в глубине души она чувствовала: что-то закончилось. Когда пару лет спустя Пол сделал ей предложение, она поняла, что отказать тяжело, но согласиться – невозможно. Под влиянием обиды и гнева он сказал ей: “Если я не буду тебе мужем, то и другом не буду. Слишком больно”.
Потом еще некоторое время она узнавала, как у него дела, только через Джима Кима. Без влияния Пола ее интерес к медицинском карьере увял – она ужасно не любила химию. Но разлука с ним была невыносима. Теперь, как никогда, он казался ей человеком, в которого можно по-настоящему верить. Не наблюдать издали, думая: “Смотрите-ка, есть все же добро в этом мире”. Не утешаться, глядя на него, а, наоборот, видеть в нем живое доказательство, что борьба возможна. Он словно рекламный плакат, внушающий людям: если можно предотвратить ненужные смерти, надо действовать. Офелия не собиралась отказываться от участия в работе ПВИЗ и в жизни Пола. Она знала за ним такую слабость – всех прощать. В первую очередь именно этим качеством, по ее мнению, он напоминал священника. “Постепенно я просочилась обратно”, – рассказывала она.
“Партнеры во имя здоровья” все еще находились в процессе формирования, когда каждый из членов организации мог самостоятельно придумывать себе круг обязанностей. Просочившись обратно, Офелия взяла на себя бухгалтерию и занялась изысканием способа создать из пожертвований целевой фонд. Она настояла на том, чтобы ей назначили зарплату около пятнадцати тысяч долларов, и сама ежегодно жертвовала втрое большую сумму. Что же до отношений с Полом, несколько лет спустя они уже казались ей практически идеальными. Иной раз, когда он, проведя в Гаити неделю, а то и месяц, звонил ей, едва сойдя с самолета, Офелия представляла себя супругой, осыпающей его горькими упреками. А так – ничего подобного не требовалось. Она просто радовалась предстоящей встрече и, когда Пол переступал порог, чувствовала, что и он рад ее видеть. “Мин!” – вопил он, распахивая объятия, и его раскрасневшееся лицо освещалось хулиганской ухмылкой. Никто (за исключением сестер) не умел смешить его так, как она. Бывало, она отпускала непристойную шуточку о каком-нибудь общем знакомом, а он падал с размаху на диван, дрыгая ногами и заходясь хохотом, рискуя схлопотать приступ астмы. В такие минуты у Офелии возникало ощущение, что она ему действительно необходима. Похоже, что теперь, не имея перед ней никаких формальных обязательств, он мог себе позволить полную откровенность. Иногда Офелия говорила себе: “Брак принес бы мне одни моральные убытки. А вот дружить с ним – просто замечательно!”
Глава 11
В декабре 1988 года Фармер вернулся в Канжи на инвалидном кресле и, пока заживала нога, занялся исследованиями с целью повысить эффективность лечения туберкулеза на Центральном плато. В Канжи происходили значительные события, в Республике Гаити – судьбоносные. Последние Фармеру порой доводилось наблюдать лично, когда он встал на ноги и начал ездить по делам в Порт-о-Пренс. Несколько раз перестрелка застигала его в той или иной столичной церкви, приходилось прятаться за колоннами.
После отъезда Бэби Дока Дювалье в стране сменяли друг друга самозваные правительства, но фактически с 1986 по 1990 год власть принадлежала армии. Как выяснил Фармер из официальных, опубликованных документов, ее поддерживали Соединенные Штаты. Он внимательно изучал историю Гаити и знал, что чехарда продажных, жестоких правительств, которые никто не выбирал, – обычное дело как для Гаити, так и для политики Штатов в отношении этой страны. Мятежи среди неимущего большинства тоже никого не удивляли. Однако у Фармера складывалось впечатление, что настоящее, серьезное народное восстание не за горами.
С невиданным доселе единодушием крестьяне и жители городских трущоб рьяно взялись за так называемый де-шукаж – “выкорчевывание” всего, что так или иначе напоминало о Дювалье. В частности, открыто преследовали, а порой и убивали тонтон-макутов – мелкую сошку, разумеется. Гаитянская армия и ее полувоенные ответвления реагировали беспощадно. К насилию прибегали обе стороны, но, как это обычно бывает, большей частью все же та, что имела оружие и деньги. Кое-какие столкновения Фармер видел своими глазами, о других только слышал. Позже выкопал и документальные свидетельства о том, как солдаты стреляли в безоружных демонстрантов, врывались в городские больницы, где угрожали персоналу, иногда “казнили” пациентов, а то и похищали трупы. В 1987 году вооруженные формирования массово уничтожали граждан, пришедших на избирательные участки, сорвав таким образом первые демократические выборы в истории Гаити.
Согласно одной старой поговорке, на тот момент, впрочем, уже менее актуальной, чем прежде, гаитяне на девяносто процентов католики и на сто – вудуисты. (Как-то раз Фармер мне рассказывал об одном крестьянине, чрезвычайно набожном: “Конечно, он верит в вуду. Просто считает, что вуду – это нехорошо”.) Очагами народного восстания были католические церкви – не соборы, где восседали иерархи-дювальеристы, а tilegliz, маленькие церквушки разоренных деревень и городских трущоб. Самая важная из них – церковь Св. Иоанна Боско, где проповедовал священник по имени Жан-Бертран Аристид.
В 1986 году, впервые услышав выступление Аристида по радио в Канжи, Фармер решил наведаться к нему в церковь и послушать его вживую. Паства внимала затаив дыхание, и Фармер тоже. Насколько ему запомнилось, священник говорил: “Люди читают Евангелие так, будто оно относится к другому месту и времени, но описанная в нем борьба происходит здесь и сейчас. Угнетение бедных, надругательство над слабыми, спасение для тех, кто сражается за правое дело, – есть ли понятия более насущные для возлюбленного нашего Гаити?” Фармер вспоминал: “Я так долго искал в Гаити прогрессивную церковь, проповедующую теологию освобождения, и наконец нашел”. После службы он присоединился к группе людей, подошедших к Аристиду поговорить, и тот никак не мог его не заметить. (“Высокие белые прихожане, говорящие по-креольски, встречались ему все-таки не на каждом шагу”.) Они подружились, но в течение 1988 года виделись редко. Фармер был очень занят в Канжи, а Аристид был вынужден то и дело защищаться от покушений – однажды, например, его церковь забросали зажигательными бомбами по приказу мэра Порт-о-Пренса.
Фармер надеялся на значительные перемены в Республике Гаити, но в то же время ненавидел, как он выражался, “кувыркания”, то есть смуту, кровопролитие и их неизбежный побочный эффект – ухудшение местного здравоохранения, и без того никуда не годного. В один прекрасный день в 1989 году он забрался на вершину холма, возвышающегося над Канжи. В Гаити он, как правило, не писал ничего, кроме официальных писем и благодарственных посланий. Времени не хватало, и к тому же лечить больных, строить школы и водопровод было здесь куда важнее всяческой писанины. Но в тот день он сделал исключение и отправился на холм, чтобы поработать над своей диссертацией по антропологии, которую назвал “СПИД и обвинение” (AIDS and Accusation, первый из его аллитеративных заголовков).
СПИД пришел в Канжи в 1985-м, примерно через два года после того, как туда приехал Фармер. Об этом Фармер и собирался писать в своей диссертации. Представить “обвинительную географию”, согласно которой Гаити отводилась роль козла отпущения. Рассказать, как еще в самом начале эпидемии СПИДа в Штатах социологи и даже медики выдвигали гипотезы, будто зараза мигрировала из Африки на Гаити, а оттуда в США. Некоторые эксперты даже предполагали, что болезнь вообще зародилась на Гаити, где, по некоторым слухам, вудуистские жрецы хунганы отрывали головы цыплятам и взахлеб пили их кровь, а потом предавались растлению маленьких мальчиков.
Планировал Фармер написать и о том, как в Центре контроля заболеваний, американском федеральном агентстве, не постеснялись даже объявить гаитян “группой риска” наряду с еще несколькими категориями лиц на “г” – гомосексуалистами, больными гемофилией и героинщиками, – и о том, какой непоправимый ущерб это нанесло хрупкой экономике Гаити и всем гаитянам, где бы они ни жили. Диссертация оперировала целым ворохом эпидемиологических данных, призванных показать, что СПИД почти наверняка из Соединенных Штатов попал в Гаити, а занесли его, вполне вероятно, секс-туристы американского, канадского и гаитяно-американского происхождения, которым в трущобах Каррефура, района Порт-о-Пренса, соответствующие услуги предоставлялись за бесценок.
Работа задумывалась как “антропологическая интерпретация страдания”, совмещающая доказательный материал из разных областей науки: этнографии, истории, эпидемиологии и экономики. Однако начинаться она должна была с истории Канжи. Следуя антропологической традиции, Фармер дал деревне псевдоним – До-Кэ. Сидя на выступе горной породы на вершине холма, он писал: “Самый лучший вид на До-Кэ открывается с одного из крутых холмов странной конической формы, почти кольцом окружающих деревню”.
С этого наблюдательного пункта Канжи выглядела горсткой маленьких строений, разбросанных как попало по склону, практически лишенному растительности. Вон там, близко к вершине – домик Дьедонне, ныне пустующий, так как хозяин в прошлом октябре скончался от СПИДа. А в том домике у дороги СПИД медленно свел в могилу Аниту Жозеф. Пейзаж хранил в себе горькую память. Фармер перебирал в уме и многих других пациентов, унесших в могилу свои анамнезы, живо вспоминал трех молодых гаитянок, помогавших ему с первым медицинским соцопросом в Канжи: Асефи умерла от малярии, Мишле от брюшного тифа, Ти-тап Жозеф от послеродового сепсиса. Всех этих смертей можно было бы избежать, имея в наличии хорошие лекарства. Друзья испускали дух под присмотром врачей, в типичных, не дотягивающих до минимальных стандартов медучреждениях Гаити, которые он уже ненавидел.
И все же не только поражение и гибель наблюдал он со своего насеста. Фармер видел зеленые оазисы вокруг общественных колонок Канжи, черпающих воду из кристально чистой подземной речки. Видел общественные туалеты отца Лафонтана, благодаря которым деревня практически полностью избавилась от брюшного тифа. Видел часть территории, где располагалась “Занми Ласанте”, и мог легко дорисовать себе остальное: общежитие и церковь, офис здравоохранительной организации и угол школьного здания, а за рощицей собственноручно им посаженных деревьев – домик для гостей, ремесленную мастерскую и солидное строение, в котором размещалась клиника Бон-Савёр, обновленная на деньги Тома Уайта. Поэтому, возвращаясь взглядом к самой деревне, Фармер обнаруживал, что она уже состоит не только из грубо сколоченных лачуг. Канжи выросла со ста семи хозяйств до ста семидесяти восьми, и склон холма теперь был усыпан домиками.
Мамито, супруга отца Лафонтана и матриарх “Занми Ласанте”, взяла под свое крыло проект по улучшению жилищных условий. Она распределяла материалы, оплаченные Томом Уайтом, и потихоньку организовывала перестройку самых плачевных развалюх. В большинстве домов было всего по две комнаты, во многих еще оставались земляные полы, но почти все обзавелись железными крышами – одни были крашеные, другие ржавые, третьи блестели в ярких лучах солнца. Шесть лет прошло с тех пор, как Фармер впервые попал в Канжи, и вот поселение уже не напоминает лагерь беженцев, а просто выглядит как типичная, предельно бедная гаитянская деревушка.
Дипломы по антропологии и медицине Фармер получил одновременно, весной следующего, 1990 года. Его диссертация удостоилась премии, и университетское издательство согласилось ее напечатать. С самого начала некоторые профессора в медицинской школе – в частности, видный антрополог Артур Клейнман и не менее выдающийся детский психиатр Леон Эйзенберг – прониклись симпатией к Фармеру и смотрели сквозь пальцы на его, мягко говоря, нерегулярные посещения занятий. В течение следующих лет и эти двое, и другие преподаватели защищали его от нападок и академических правил. Живущий ради служения непременно нуждается в поддержке окружающих. И Фармеру многие помогали.
Прогулы в Гарварде не сказались на его успехах в учебе. Ясное дело, работать над дипломом по антропологии куда уместнее в Гаити, чем в Бостоне. Да и в медицинской школе он получал отличные оценки отчасти потому, что большую часть этих шести лет совмещал зубрежку своих карточек-перевертышей с почти настоящей врачебной практикой в Канжи. К тридцати одному году он успел перевидать столько разнообразных заболеваний, сколько не всякому американскому врачу доводится встретить за всю жизнь. Кроме того, он научился проектировать и здравоохранительную систему, и клинику, строить то и другое с нуля и управлять тем и другим. И все это в одном из самых жутких мест на земле, где власть нарочно держит людей в невежестве, а цемент перевозится на осликах… если повезет. Неудивительно, что больница Бригем-энд-Уименс приняла Фармера в клиническую ординатуру. Ординаторская программа Бригема была и самой престижной в мире, и самой гибкой. Здесь начинающим врачам позволяли заниматься и другими делами. Фармер и Джим Ким, которого тоже приняли в Бригем, поделили одну ординатуру на двоих. То есть Фармер получил официальное разрешение половину своего времени проводить в Бригеме, а половину – в Канжи.
Казалось вполне вероятным, что к концу 1990 года в Гаити состоятся настоящие всенародные выборы. Но, разумеется, этого не могло произойти без сопротивления армии и дювальеристской элиты, а также вооруженных формирований, на них работающих (как правило, по ночам). Возвращаясь из Гарварда, Фармер ехал из Порт-о-Пренса в Канжи на машине и по дороге всякий раз миновал пять разных военных блокпостов. На каждом солдаты вымогали взятку, это было в порядке вещей. Иногда еще и отнимали оборудование, которое он вез в клинику. Но случались неприятности и менее стандартные. У “Занми Ласанте” был офис в Порт-о-Пренсе. В течение нескольких месяцев, предшествовавших выборам, туда неоднократно звонили, и голос на другом конце провода просил к телефону Фармера, а потом изрекал нечто вроде: “Скоро ляжешь рядом с прахом своей бабки”. Снимая трубку, Фармер слышал громкие щелчки на линии. В конце концов он залез на крышу, нашел подслушивающее устройство – неуклюжую самоделку – и не без злорадства растоптал ногами.
Все это его несколько озадачивало. Он ведь не играл сколько-нибудь заметной роли в политике. Возможно, Фармер привлек к себе внимание военных, поскольку всякий раз, как его пациентов арестовывали, являлся в тюрьмы и пытался их вытащить. Дважды во время таких попыток “пресечения заключения” (как он выражался) солдаты в казармах Мирбале намяли ему бока. А может, он просто недооценивал собственную значимость. Не исключено, например, что лишние глаза заприметили его в обществе Аристида.
В 1990 году он часто виделся со священником, к тому времени уже знаменитым. Однажды, когда Фармер как раз оказался в столице, Аристид явился в офис “Занми Ласанте”. Грязный и растрепанный, он сидел за рулем белого пикапа, в котором вез муку для своего сиротского приюта. Пикап не желал заводиться, так что они с Фармером перетащили муку в грузовичок, принадлежащий “Занми Ласанте”, и двинулись в путь. По дороге они въехали в огромную лужу, и машина увязла. “Сдается мне, ничего у нас не выйдет, – констатировал Фармер, а затем обратился к Аристиду: – В газетах пишут, что вы собираетесь баллотироваться в президенты. Видно, плохо они вас знают, ведь вы бы никогда на такое не пошли”.
Аристид отговорился общими фразами, а неделю спустя выдвинул свою кандидатуру. Поначалу Фармер злился: “Как он мог влезть в гаитянскую политику, в эту несмываемую грязь?” Но потом задумался: “А что говорят сами гаитяне? Они-то требуют, чтобы он участвовал в выборах”. В дневнике, который Фармер вел в то время, записано: “Быть может, это уникальный шанс изменить Гаити”.
Вскоре он уже горячо болел за Аристида, как и практически все жители Канжи, и так же, как и они, постоянно слушал по радио сообщения из столицы. В день выборов он вместе с отцом Лафонтаном был в Порт-о-Пренсе. Результат подтвердили многие иностранные наблюдатели, в том числе Джимми Картер. За Аристида проголосовали 67 процентов, за двенадцать остальных кандидатов – всего 33. Дневник запечатлел ликование Фармера. Теперь в Гаити самый популярный в мире избранный глава государства, который к тому же проповедует теологию освобождения и обещает вытянуть страну на уровень “достойной бедности”. Также новый президент весьма прозрачно намекнул, что благоденствию прежней элиты настал конец. “Камни в воде не знают, каково камням на солнце” – гласит гаитянская поговорка. В одной из своих речей Аристид перефразировал ее: “Камни в воде скоро поймут, каково камням на солнце”.
На следующий день Фармер сел за руль и отправился обратно на Центральное плато. Въезжая в Канжи, он заметил старичка, босиком карабкающегося по изъеденному эрозией склону. Представив себе, как ранит ступни расслоившаяся сланцеватая порода, он передернулся и помрачнел. А потом записал в дневнике: “Мелькнула мысль, что даже правительство, состоящее из святых и ученых, здесь бы вряд ли справилось”. Но ликование вернулось. В глазах Фармера настоящим победителем стал не Аристид. На самом деле, по его мнению, выборы выиграл народ Гаити, такие же простые люди, как его друзья и пациенты в Канжи.
Их запугивали, беспощадно убивали, но они все выдержали, добились выборов и права голоса. Казалось, гаитяне наконец вернули себе свою страну, оставив позади столетия нищеты и рабства, годы диктатуры и иностранного вмешательства. Ничто в этой жизни, говорил Фармер, не трогало его настолько глубоко.
Когда летом 1991 года он улетал в Бостон отрабатывать свою практику в Бригеме, у него хватало причин для оптимизма. То и дело возникали слухи о переворотах, одна попытка действительно состоялась и была пресечена. Но правительство укрепилось во власти. Теперь по дороге в аэропорт не приходилось останавливаться у шлагбаумов и блокпостов. Они исчезли с Национального шоссе № 3. Министерство здравоохранения, на вид поздоровевшее, начало сотрудничать с “Занми Ласанте” по мерам предотвращения СПИДа на Центральном плато. И наконец-то, наконец появилась надежда, что в Канжи все-таки будет построена настоящая больница. Средства на нее уже почти набрались.
Двадцать девятого сентября 1991 года – эту дату он никогда не забудет – Фармер оставил Кима работать за двоих в Бригеме и собрался ненадолго в Гаити, где ему предстояли переговоры по поводу новой больницы. В то время среди бостонских таксистов и сторожей было много гаитян. Таксист, приехавший за Фармером в Бригем, оказался не только гаитянином, но еще и его знакомым. Направляя машину в аэропорт Логан, он бросил пассажиру через плечо:
– Доктор Поло, там неспокойно.
“Быть не может, – подумал Фармер. – Ни одно правительство в мире народ не поддерживает так единодушно”. Таксисту он ответил:
– Не волнуйтесь. Я к вечеру там буду.
Следуя по знакомому наизусть маршруту, он долетел до Майами и прошел к привычному выходу на самолет в Порт-о-Пренс. Однако над стойкой регистрации висело объявление: “Рейс отменен”.
– С чего бы это? – поинтересовался Фармер у служащей за стойкой.
– Понятия не имею, – сказала та.
Он устроился в мотеле поблизости от аэропорта, включил телевизор и нашел канал Си-эн-эн, где как раз передавали новости: гаитянские военные сместили Аристида. Ошеломленный Фармер всю ночь просидел перед экраном.
Он не уезжал, ждал, когда возобновятся рейсы, но потом ему сообщили, что улететь все равно не получится. Военная хунта, захватившая власть, внесла его имя в список персон нон грата. Пришлось возвращаться в Бостон. В течение двух месяцев он ежедневно названивал в Гаити Лафонтанам с вопросом “Мне уже можно возвращаться?”. Наконец в начале 1992 года он получил разрешение. Лафонтан дал взятку полковнику гаитянской армии, чтобы тот вычеркнул имя Фармера из списка.
Выходя из самолета, он обливался потом. В голове крутилось: “Феромоны утверждают, что мне страшно”. Но через пограничный контроль он прошел без проблем, затем через восстановленные блокпосты поехал на машине в Канжи. Когда два дня спустя Фармер, уже немного успокоившись, работал в клинике в своем кабинете, к нему ворвалась, захлебываясь словами, молодая крестьянка с малышом, которую он раньше лечил от туберкулеза. Представители местных властей избили ее мужа. Он умирает, рыдала женщина. Впрочем, гаитяне всегда отличались склонностью все драматизировать. Ожидая увидеть пару переломов, Фармер собрал свой медицинский чемоданчик и отправился в путь вместе с бывшей пациенткой. До домика на другой стороне озера они добирались пешком через плотину.
Чтобы не навлечь неприятностей на пострадавшую семью, Фармер дал мужу пациентки псевдоним – Шушу Луи. Позже он узнал кое-что о предыстории. Как-то раз Шушу ехал по Центральному плато на маршрутном грузовичке и обронил едкое замечание по поводу состояния дороги. В той же машине ехал солдат в штатском, который услышал pwen (шпильку) Шушу и сделал вывод – вполне верный, – что перед ним противник хунты, сторонник Аристида. У следующего блокпоста в городке Домон солдаты и атташе (так назывались члены гражданских отрядов) выволокли Шушу из маршрутки, забрали в здание штаб-квартиры и избили. Потом отпустили, но его имя, естественно, занесли в черный список, составляемый региональным отделением государственной службы безопасности. На какое-то время Шушу залег на дно, но едва он попытался пробраться домой, тотчас угодил в объятия местного начальника госбезопасности и атташе. Они довели дело до конца и бросили Шушу на земляном полу хижины, где его и нашел Фармер.
Он сделал все что мог при помощи имеющихся с собой средств, но в данном случае и бригемская реанимация вряд ли что-то решила бы. Впоследствии Фармер составил протокол повреждений.
26 января Шушу, симпатичного молодого человека лет двадцати пяти, трудно было узнать. Его лицо утратило форму, распухло и было покрыто ранами, особенно пострадал левый висок. На правом тоже имелись шрамы, но явно от более старой травмы. Рот превратился в темный сгусток свернувшейся крови, за моменты агонии Шушу выкашлял ее больше литра. Ниже: странным образом опухшая шея, все горло в синяках – следы приклада. Грудь и бока сплошь покрыты ссадинами, несколько ребер сломаны. Гениталии изувечены.
Продолжалось описание так:
Это только спереди, а основная часть побоев предположительно наносилась сзади. Спину и бедра Шушу покрывали глубокие следы плетки. Ягодицы иссечены в фарш, практически освежеваны, так что видны ягодичные мышцы. Во многие раны, судя по всему, уже попала инфекция.
Люди, это сотворившие, вполне могли все еще маячить поблизости. Фармер не осмелился возвращаться тем же путем – пешком через плотину. Он позаимствовал у местного рыбака каноэ из выдолбленного ствола мангового дерева и переправился через озеро на веслах.
Фармер должен был обнародовать эту историю. Он связался с “Международной амнистией”, чтобы имя Шушу добавили в растущий список жертв хунты, и написал статью под названием “Смерть в Гаити”, которую газета The Boston Globe согласилась опубликовать под чужим именем.
Энциклопедическая память Фармера порой даже немного пугала его сокурсников, а потом и учеников. Но ничего загадочного в ней не было. “Я все привязываю к пациентам”, – поведал он мне однажды. Похоже, из пациентов у него складывалась не только хроника минувших событий, но и огромная мнемоническая конструкция, в которой отдельные лица и мелкие особенности (он помнил, к примеру, что пациент такой-то держал в палате такого-то игрушечного зверька) составляли своего рода указатель симптомов, патофизиологии и лечебных процедур для тысяч заболеваний. Проблема, разумеется, заключалась в том, что некоторых пациентов он помнил слишком уж хорошо. В последующие годы он не любил говорить о Шушу. При мне он выразился так: “Я принимаю все меры, чтобы о нем не думать”. К тому моменту Фармер успел неоднократно описать этот эпизод в статьях. А мне сказал просто: “Он умер в грязи”.
Глава 12
Офелия приезжала в Канжи во времена правления хунты, в начале 1990-х. Ночевала она в общей спальне над кухней. Однажды утром, когда она спустилась к завтраку, Пол как бы мимоходом сообщил, что ночью кто-то стоял под его окном, чиркая спичками.
В бурные годы после изгнания Дювалье Офелия нередко испытывала здесь нервное напряжение. Но сейчас было еще хуже. Когда на дорожных блокпостах их останавливали солдаты, Пол даже не утруждал себя вежливостью. В его маленькой комнатке за помещением клиники висел железный бойцовый петушок, символ Аристида. Он не прятал свои книги о Че Геваре, Кастро и так далее. “Какой будет ужас, если сюда заявятся с обыском”, – думала девушка. Ночами она лежала без сна, прислушиваясь к лаю собак, крикам петухов и барабанному бою среди холмов. Однажды ее разбудил свет движущихся фар, проникавший в комнату через оконные жалюзи. Наутро сотрудники рассказали, что ночью вокруг “Занми Ласанте” рыскали солдаты. “Центральное плато – очаг сопротивления, и отсюда не выбраться, кроме как по той дороге, и все знают, что тут у нас полно сторонников Аристида”, – подумала Офелия. Она спросила старшую кухарку, даму по прозвищу Железные Панталоны (так гаитяне называют практически любую сильную женщину):
– А если они придут, чтобы перебить нас?
– Будем защищаться до последнего вздоха, – ответствовала кухарка.
“Но чем? – терзалась про себя Офелия. – Кастрюльками, сковородками и кулером для воды?”
Пол продолжал чреватые неприятностями путешествия из Канжи в Бостон и обратно, да еще и сам себе увеличивал степень риска. Он попросил у Тома Уайта десять тысяч долларов, которые решил протащить контрабандой в Гаити и передать мирному подпольному сопротивлению. В машине, по дороге из дома Уайта на мысе Кейп-Код, Джим Ким предостерег друга:
– Великомученик Фармер никому не нужен. – И, стараясь смягчить тон, добавил: – Если дашь им себя прикончить, Пел, – убью.
Пол покраснел:
– Какого хрена ты от меня хочешь?!
Ему и раньше случалось кричать на Джима, но тот никогда еще не слышал, чтобы Пол так орал. А деньги в Гаити он все-таки провез.
Вернувшись в безопасный Бостон, Офелия не находила себе места от тревоги за Пола. Ей казалось, что в такой ярости он способен на что угодно. Что, если солдаты явятся в “Занми Ласанте” и попытаются арестовать кого-нибудь из его пациентов? Боже упаси.
Он и правда как будто все чаще забывал об осторожности. Пригласил в Гаити нескольких монахинь из католической организации Pax Christi, рассчитывая, что они помогут донести до народа злодеяния хунты. На блокпостах солдаты дважды обыскали и его, и монахинь. Один раз велели вылезти из джипа и провозгласить: “Да здравствует армия Гаити!”
– Не буду я этого говорить.
– Говори, а то хуже будет. – Солдаты подняли оружие.
– Ну ладно, – мягко согласился он.
В Канжи он спал одетым и обутым. Его комната выходила на участок, густо засаженный растительностью, – Фармер своими же руками его и озеленял. Он планировал, если нагрянут солдаты и атташе, выскочить в окно и спрятаться от света их фонариков среди деревьев и лиан. С нравственной точки зрения это будет оправданно, решил он. “Потому что придут они именно за мной”.
Потом как-то раз один вооруженный солдат пытался войти на территорию “Занми Ласанте”. Фармер вышел во двор, где, как обычно, толпились люди.
– Сюда нельзя с оружием, – сказал он солдату.
– А ты что за хрен, указываешь тут, чего мне нельзя?
– Я тот, кто станет лечить тебя, когда заболеешь, – ответил Фармер.
Ситуация даже немного забавляла его – пока сзади из толпы не донеслось ket, что в переводе означает примерно “о черт”. Похоже, кто-то предчувствовал катастрофу. “Боже мой, – подумал Фармер. – Это я сейчас дал маху”. Толпа внезапно превратилась в фактор риска. Не мог же солдат отступить у всех на виду, не потеряв лица. Но, видимо, ответил он все же правильно и к тому же угадал основную причину, по которой за все эти годы его не выгнали из страны, а то и чего похуже не сделали. В самом деле, ведь Фармер был лучшим врачом на Центральном плато, а “Занми Ласанте” – единственным местом, где медицинскую помощь мог получить любой, включая военных и их семьи. Солдат проворчал что-то угрожающее и удалился. Гаитянские друзья и коллеги осыпали Фармера упреками. После этого случая он прекратил разъезды по острову. В столичный офис “Занми Ласанте” несколько раз стреляли, и отец Лафонтан решил его закрыть. Теперь Фармер появлялся в Порт-о-Пренсе только затем, чтобы сесть на самолет.
Грант Макартуров он получил летом 1993 года, когда уже казалось, что хунта останется у власти навсегда. Фармер появился на церемонии вручения в Чикаго, но очень быстро вернулся (спрятался, как он говорил) к себе в отель и засел в номере, следить по телевизору за новостями о Гаити. В подавленном настроении он размышлял: “Вот радость-то. Мне только что дали Макартуров. Класс! Моя звезда восходит, в то время как звезда Гаити – закатывается”. Но тут он услышал голоса за дверью. Гаитяне! Ну конечно. Вот уж кого наверняка встретишь за уборкой американского отеля. Он вышел к уборщикам поболтать, после чего немного повеселел.
В Гаити множились смерти. Трех близких друзей Фармера убили. Он попросил у Офелии денег и уехал в Квебек, свой самый любимый город, – ему всегда нравился снег. Просидев десять дней в гостиничном номере, он написал 220 страниц – почти полный черновик книги, которую позже назовет “Потребление Гаити” (The Uses of Haiti). На мой взгляд, это лучшая книга Фармера – и уж точно самая эмоциональная. По сути, в ней изложена история американской политики в отношении Гаити. А точнее, это история, словно бы написанная в соавторстве с гаитянским крестьянином.
Угол зрения довольно интересный. Мы узнаем, например, что в 1790-х Штаты пытались оказывать французам помощь в подавлении гаитянской революции и что, пока в Америке процветало рабовладение, Штаты отказывались признавать Гаити и применяли там дипломатию канонерок. А также что конгресс США реформировал современную гаитянскую армию и частично финансировал ее вплоть до смещения Аристида; что глава подчиняющихся хунте эскадронов смерти, чьи подручные зверски расправились с Шушу, обучался в Школе Америк в Форт-Беннинге; что некоторые влиятельные члены хунты и офицеры гаитянской армии параллельно работают на ЦРУ; что Вашингтон, формально осуждающий переворот, при пособничестве популярной американской прессы очерняет Аристида, не гнушаясь и откровенной клеветой, а свое дырявое эмбарго поддерживает лишь для виду, а вовсе не для того, чтобы отстранить хунту от власти.
В книге Фармера многие знаменитости предстают в неприглядном свете. Французские революционеры, чья идея братства не распространялась на рабов Сан-Доминго, и гаитянские “мулаты”, отправившиеся во Францию помогать революционерам в надежде отвоевать себе право тоже владеть рабами. Вудро Вильсон, при котором состоялось американское вторжение в Гаити. Даже Франклин Делано Рузвельт, который однажды хвастался, что, когда служил помощником министра военно-морских сил, написал Конституцию Гаити 1918 года. Были в этом списке и другие персонажи, нередко упоминаемые Фармером в разных работах. Бывший раб и известный аболиционист Фредерик Дугласс, охотно служивший послом США в Гаити, а на самом деле официально представлявший там доктрину Монро. И мать Тереза, которая, посетив Гаити в 1981 году, “кудахтала”, по выражению одного историка, над беспутным диктатором и его повсеместно презираемой женой Мишель, присваивавшей миллионы из казны, чтобы наведываться в модные магазины по всему миру. Мать Тереза говорила, что Мишель подала ей пример смирения, и дивилась близости первой леди к своему народу.
В Соединенных Штатах ходили слухи, что новая администрация Клинтона, возможно, пошлет войска с целью вернуть власть Аристиду – правда, на определенных условиях, таких как принятие планов “структурной экономической адаптации”. В начале 1994 года, перед самым выходом в свет “Потребления Гаити”, Фармер написал редакторскую статью для газеты The Miami Herald. По сути, в статье говорилось следующее: “Необходимо ли войскам США вмешиваться в ситуацию в Гаити? Мы уже вмешались. Теперь надо сделать это еще раз, чтобы восстановить демократию”. В Гаити о статье сообщили по государственному радио. Фармера обвинили в клевете на правительство Гаити. За ним приходили солдаты с приказом выдворить его из страны. Но Фармер как раз находился в Бостоне. Его снова официально изгнали, на сей раз бесповоротно, никакая взятка не помогла бы. “Я бы на их месте тоже меня выгнал”.
В унынии он бродил по офису ПВИЗ. Офелия купила ему гитару, и он даже успел взять несколько уроков, пока до него не дошла весть о том, что еще одного гаитянского друга убили. В тот вечер Джим Ким чуть ли не волоком тащил рыдающего и блюющего Фармера из бара домой. На следующий день Фармер расстался с гитарой.
До конца лета 1994 года он вещал о ситуации в Гаити всем, кто только соглашался послушать, в провинциальных городках Мэна и Техаса, Канзаса и Айовы. Обычно ему давали приют “церковные дамы”. Вместе с несколькими монахинями он выступал перед комиссией конгресса, но большинство конгрессменов клевали носом. Он принимал участие в дебатах с американским генералом. “В общем-то я просто попер напролом, – рассказывал он впоследствии. – Мол, чтобы понять ситуацию в Гаити, надо знать, что США создали гаитянскую армию, и так далее, тра-ля-ля, инфекционные болезни”. Реакция генерала в итоге свелась к воплю: “Пол, да вы сами не понимаете, о чем говорите!”
Источниками материала для книги Фармера в основном служили официальные документы американского правительства. Ему казалось, стоит только объяснить: он врач и пишет о том, что видел своими глазами или вычитал в документах, – и все поверят. В некоторых местах его принимали хорошо, но на радио обычно не приглашали. Во время одного шоу в Форт-Лодердейле позвонил зритель и высказался относительно гаитянских беженцев, пытающихся в переполненных лодках спастись от нищеты и насилия на родине и добраться до берегов Флориды:
– Нельзя пускать гаитян в нашу страну.
– Отчего же нет? – удивился Фармер. – Моя семья тоже живет в лодке.
Ведущий его, естественно, не понял:
– Вы гаитянин, доктор Фармер?
Не раз, особенно после того, как на него наорал генерал, Фармер думал: “Да пошло оно все! Хочу обратно в мою клинику”. В середине октября 1994 года Аристид был восстановлен на посту президента. На следующий же день вернулся и Фармер.
Три года господства армии весьма напоминали войну и, как всякая война, оставили за собой катастрофу в области здравоохранения. По оценкам ООН, около восьми тысяч людей погибли насильственной смертью, большинство – от рук гаитянской армии или подчиненных ей вооруженных формирований. Многие “лодочники”, возможно тысячи, утонули при попытке к бегству. Один только дырявый старый паром “Нептун” унес на дно больше жизней, чем “Титаник”. Но расстрелы, пытки и крушения плавсредств, по всей видимости, являлись причиной лишь малой доли от общего числа смертей. Никто не мог точно определить, насколько за время правления хунты ухудшилась здравоохранительная система, но Фармер примерно догадывался – по плачевному состоянию, в котором по возвращении застал Канжи.
Больницу отец Лафонтан каким-то образом умудрился достроить. Но все проекты “Занми Ласанте” в окрестных деревнях были прерваны – программы по обучению женщин грамоте, по детским прививкам, по обеспечению гигиены и чистой воды, по распространению презервативов и другим мерам предотвращения СПИДа. “Партнеры во имя здоровья” финансировали производство фильма о ВИЧ-инфекции. В созданном пациентами сценарии фигурировали водитель грузовика и солдат, флиртующие с женщинами – будущими жертвами. Когда фильм показывали толпе зрителей в здании деревенской школы, туда заявились солдаты и выключили проектор. При власти военной хунты выставлять солдат виновниками СПИДа на большом экране – не самый благоразумный поступок. Сотрудники “Занми Ласанте” спрятали пленку до лучших времен.
Во всем регионе только “Занми Ласанте” хватало смелости лечить раненых и избитых. Военные однажды, пусть и ненадолго, прикрыли клинику. На ней стояло клеймо. И многие пациенты, боясь повторить судьбу Шушу, боясь вообще куда-либо ездить, приходили только тогда, когда им делалось совсем уж худо. А иные не приходили вовсе. Количество пациентов за эти годы сократилось наполовину, зато вдвое возросло количество насильственных травм за год (плюс четыре изнасилования, совершенных солдатами и атташе), значительно повысилась заболеваемость брюшным тифом, а кроме того, случаев кори клиника зафиксировала в двадцать два раза больше среднего показателя до переворота. Период диктатуры военных усугубил хроническое недоедание, и в результате по региону пышным цветом расцвел туберкулез. Хунта сосредоточила свою политику террора на городских трущобах как на одном из самых горячих очагов поддержки Аристида. Но те же трущобы были еще и очагом СПИДа в Гаити. Сотни тысяч их обитателей бежали обратно в родные деревни. В 1993 году количество больных СПИДом пациентов “Занми Ласанте” возросло на 60 процентов.
Часть персонала со страху уволилась. Оставшихся почти поголовно “парализовала усталость”, как писал Фармер. Они пропускали, а то и отменяли совещания, забросили исследования, под разными предлогами не торопились возобновлять прерванные проекты. Фармер давно знал, что гаитянские врачи быстро привыкают к разного рода неурядицам – дефициту препаратов, грязным больницам. Возможно, философское отношение к смерти чужих людей – тенденция универсальная, но у медработников Гаити основания для развития этого недостатка куда более веские, чем у большинства их коллег в других странах. Неудивительно, что зачастую они просто пожимали плечами, когда их пациенты умирали от таких недугов, как корь, столбняк или туберкулез. Фармер приложил огромные усилия, чтобы отучить своих сотрудников от равнодушия. Теперь же многие опять пожимали плечами.
И все же положение было отнюдь не безнадежным, и он был рад, что вернулся.
Фармеру уже исполнилось тридцать пять, он достиг заметных успехов как в медицине, так и в антропологии. Грант Макартуров ему дали. Он проходил специализацию по инфекционным заболеваниям в одной из лучших в мире больниц, сотрудничающих с университетами, читал лекции по медицинской антропологии в Гарварде, написал две книги и больше двадцати статей. По всей видимости, он собирался и впредь активно двигаться в этом направлении, а своей главной задачей (и главной задачей ПВИЗ) полагал приведение в порядок “Занми Ласанте” и ее дальнейшее расширение.
С 1987 года “Партнеры во имя здоровья” дважды меняли офис. В конце концов они приобрели отдельное небольшое здание для своей штаб-квартиры – идея принадлежала Джиму Киму, а оплатил ее реализацию Том Уайт. Персонал насчитывал всего около дюжины человек, чуть меньше половины – волонтеры, остальные – штатные сотрудники с мизерной зарплатой. Они претворяли в жизнь программу по предотвращению СПИДа среди бостонских гаитян-подростков, а также программу по предоставлению медицинской и социальной помощи в неблагополучных кварталах возле Бригема, где многие жители вообще никакой помощи не получали. Еще они поддерживали скромными взносами и консультациями здравоохранительные проекты в дальних уголках света, таких как мексиканский штат Чьяпас. А их отдел исследований собирал материалы для книги об особой подверженности СПИДу женщин из беднейших слоев населения по всему миру. (Книга называлась “Женщины, бедность и СПИД”. Услышав название, один из приятелей Фармера заметил: “Вот за что я люблю твои книги, Пол, – у них всегда такие веселенькие темы”.) Теперь уже вряд ли кто-то стал бы называть ПВИЗ “персональной церковью Фармера”, но, несмотря на свой космополитический имидж, они все еще оставались лишь маленькой благотворительной организацией, курирующей солидный медицинский комплекс в Гаити, и Фармеру, наверное, казалось, что так будет всегда. В годовом отчете ПВИЗ за 1993-й он писал, что они никогда не должны менять свои задачи или смягчать свое кредо ради того, чтобы привлечь побольше сторонников. А следовательно, продолжал он, им придется смириться с “несколько маргинальным статусом”.
Но на самом деле “Партнеры во имя здоровья” стояли на пороге больших перемен. Вскоре им предстояло выступить на международной арене здравоохранения.
Часть III Врачи-авантюристы
Глава 13
Для эпидемиологической карты, основанной на простейших критериях: от чего люди болеют и умирают, в каких количествах и в каком возрасте, – нужно всего два цвета. Одним обозначим людей, умирающих после семидесяти, в основном от тех болезней, что более или менее неизбежно сопровождают старение организма. Другим цветом отметим группы населения, умирающие в среднем на десять, а порой и на сорок лет раньше, зачастую от насилия, голода или инфекционных болезней, которые современная медицина умеет предотвращать и лечить, пусть и не всегда до полного выздоровления. На этой карте линия, разделяющая области разных цветов (Фармер называет ее великим эпибарьером; “эпи” = “эпидемиологический”), будет проходить внутри многих городов и стран. Республика Гаити окрасится в цвет нездоровья почти целиком, за исключением нескольких благополучных лоскутков на холмах вокруг Порт-о-Пренса. Карта США, напротив, отразит здоровую нацию с отдельными болезненными вкраплениями. Например, в бостонском квартале Мишн-Хилл, начинающемся сразу за Бригемом, детская смертность выше, чем на Кубе. В нью-йоркском Гарлеме, согласно известному исследованию, в 1990 году показатели смертности мужчин в возрасте от пяти до шестидесяти пяти лет были выше, чем в Бангладеш.
Скудные доходы не гарантия удручающей статистики состояния здоровья, но обычно эти два явления идут рука об руку. Многие группы населения, живущие по “плохую” сторону великого эпибарьера, – темнокожие либо чернокожие. Многие – женского пола. Общий знаменатель у них у всех – бедность. В таких местах, как Гаити, это бедность абсолютная, отсутствие практически всех предметов первой необходимости: чистой воды, обуви, лекарств, еды. В таких городах, как Иью-Иорк, это бедность относительная.
По мнению Фармера, Кима и многих других исследователей вопроса, туберкулез наглядно иллюстрирует контуры, причины и следствия великого эпибарьера. Если его лечить неправильно или не лечить вовсе, ТБ – страшное смертельное заболевание, обычно уничтожающее легкие, но иногда и другие органы, а порой даже кости. К счастью, существует целый ассортимент хороших и недорогих противотуберкулезных препаратов первого ряда[4]. Их следует принимать длительным курсом – как правило, от шести до восьми месяцев, – зато благополучный исход гарантирован почти всегда. Отчасти благодаря этим лекарствам из богатых регионов туберкулез практически исчез. Однако в регионах бедных он до сих пор бушует с такой силой, что большинство американцев и многие западные европейцы с трудом бы поверили. В конце XX века туберкулез все еще уносил больше взрослых жизней, чем любое другое инфекционное заболевание, кроме СПИДа, – около двух миллионов в год. К тому же у ТБ со СПИДом, как говорит Фармер, “нехорошая синергия”: активная форма одного нередко активизирует и латентную форму другого. На данный момент в бедных странах именно туберкулез чаще всего служил непосредственной причиной смерти больных СПИДом. И тем не менее, поскольку ТБ в основном затрагивал лишь “плохую” сторону эпибарьера, страны с развитой промышленностью и фармацевтические компании почти совсем забросили поиски новых технологий лечения: старые инструменты диагностики, никаких кампаний по разработке стопроцентно эффективной вакцины, новейшие противотуберкулезные препараты изобретены четверть века назад.
Фармер любил повторять, что туберкулез практикует собственную преференцию для бедных. В известном смысле этот афоризм следует понимать буквально. Согласно наиболее точным текущим оценкам, в организмах примерно двух миллиардов людей, то есть трети человечества, содержатся бациллы туберкулеза, но обычно болезнь остается в латентном состоянии. Только у десяти процентов зараженных она развивается в пожирающий легкие (а то и кости) недуг. Однако риск активизации значительно выше у тех, кто страдает от недоедания или от нескольких болезней одновременно – особенно это касается СПИДа, который сегодня и сам по себе преимущественно ассоциируется с бедностью. Обычно активный туберкулез “кормится” легкими, а от них распространяется к другим органам. Чихание и кашель для него как ветер для семян. Жизнь в перенаселенных крестьянских хижинах, городских трущобах, фавелах, тюрьмах и приютах для бездомных – это идеальный шанс вдохнуть чужие бациллы, схлопотать активацию латентной формы или подлечиться ровно настолько, чтобы ТБ обрел устойчивость к лекарствам.
В организме, обремененном активным туберкулезом легких, сотни миллионов бактерий – вполне достаточно, чтобы какое-то их количество гарантированно превратилось в мутантов, резистентных к противотуберкулезным препаратам. Если пациент принимает только один препарат либо несколько, но в неправильной дозировке, или лечится нерегулярно, или раньше времени прерывает курс, неустойчивые к лекарствам бациллы вымирают, а для устойчивых мутантов наступает эра благоденствия. Организм пациента становится плацдармом для эволюции бактерий, которым лекарство обеспечивает искусственный отбор. В наиболее тяжелых случаях пациенты в итоге оказываются заражены бациллами, которых не убить даже двумя самыми мощными препаратами. В медицине есть специальное название для этой разновидности заболевания – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью, сокращенно – МЛУ-ТБ. Это страшный недуг, создающий серьезные проблемы, где бы он ни появился, но самый кошмар, конечно, начинается, когда он возникает в тех местах, где меньше всего ресурсов для борьбы с ним.
Чаще всего туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью вспыхивает там, где есть и богатые, и бедные, где малоимущие слои населения получают кое-какую медицинскую помощь, но не полноценную. В регионы почти сплошной нищеты, такие как Гаити, где большинство жителей вообще никто не лечит, он добирается редко. Но к середине 1990-х Фармер успел столкнуться с несколькими случаями МЛУ-ТБ в Канжи. Первый пришелся на времена хунты. Фармер потом вспоминал, какой ужас охватил его, когда он понял, что с пациентом. Испугался он не зря – молодой человек в итоге умер.
Фармер винил себя, но на самом деле лечить МЛУ-ТБ сложно даже в самых лучших условиях. А пока длилось правление хунты, он попросту не мог доставить в Канжи нужные лекарства. После смерти того пациента он со временем обеспечил “Занми Ласанте” всем необходимым для лечения устойчивого туберкулеза. К 1995 году ему удавалось справляться с большинством подобных случаев, время от времени встречавшихся в Канжи. Как вдруг от МЛУ-ТБ скончался его близкий друг, живший в трущобном районе на окраине Лимы, столицы Перу.
Глава 14
В течение нескольких лет, когда еще учился в медицинской школе, Фармер проживал в приходе Святой Марии Ангелов. Приходского священника звали отец Джек. Он приютил Фармера в своем доме, в комнатке под самой крышей. Церковь находилась в Роксбери, одном из захудалых кварталов Бостона, населенном в основном афроамериканцами. Под низкими сводами храма, в пахнущем плесенью полумраке звуки госпела сопровождали мессу, а каждая проповедь выглядела как публичное действо для привлечения неофитов. Пастор Джек Руссен, тучный, краснолицый, витийствовал о нищете и несправедливости, и в ответ из толпы прихожан то и дело летели выкрики “Аминь!”.
Джек относился к тем священникам, каких нервные епископы называют “персонажами”. Улаживал конфликты между местными бандами, устраивал всенощные бдения со свечами в знак протеста против наркоторговли, выходил к Капитолию с плакатами, возмущаясь сокращением государственных пособий. В свободное время он любил травить шокирующие байки, чтобы подразнить молодого студента-медика, живущего у него под крышей. Когда Фармер начал изучать вивисекцию – в медицинской школе это называлось “собачьи лабораторки”, – он поделился с Джеком своими опасениями: разве можно использовать для работы живое существо, которое придется потом убить? У них состоялась долгая беседа на эту тему. На следующее утро его разбудили странные звуки: как будто кто-то скребся в дверь когтями, потом жалобно заскулил и, наконец, протяжно взвыл. Иногда в доме священника гостила и Офелия. Художественно взбив простыни на кровати в комнате, отведенной ей монахинями, она осеняла себя крестным знамением и прокрадывалась по лестнице на чердак к Полу. Отец Джек притворялся, будто ничего не замечает, зато обсуждал при Офелии бывших девушек Фармера, просто чтобы заставить того краснеть. Когда Фармер создал “Партнеров во имя здоровья”, отец Джек вошел в консультативный совет.
В начале 1990-х Джек променял приход Святой Марии на церковь в местечке под названием Карабайльо – трущобном районе на окраине Лимы, в Перу. Навещая время от времени Бостон, он настойчиво твердил Полу, Джиму и Офелии, что ПВИЗ должны запустить проект в его новом приходе.
Джим Ким охотно согласился. Уже почти восемь лет Джим с радостью – с превеликой радостью, подчеркивал он, – служил заместителем Пола, или, по выражению одного из сотрудников, “пвизовским bayakou” (креольское обозначение уборщика экскрементов). Он отвечал на телефонные звонки в офисе, помогал Полу добывать лекарство и оборудование для “Занми Ласанте”, писал заявки на гранты. Когда Пол должен был ехать из Бригема на какую-нибудь встречу, именно Джим следил, чтобы он явился туда вовремя, и вытаскивал его из больницы, приговаривая: “Так, Пол, мы торопимся. Сторожей обнимаем на прощание по одному разу каждого плюс два поцелуя”. Теперь же Джиму хотелось более серьезных дел. Хотелось научиться работать так же, как Пол работал в Гаити.
Фармер не пришел в восторг, однако, уступив, тут же принялся помогать всеми силами. Прежде всего он уговорил Тома Уайта вложить тридцать тысяч долларов, половину начальной стоимости проекта. А потом ежедневно подбадривал Джима и давал советы, часто по телефону, когда тот звонил из Лимы в Канжи.
Джим планировал частично взять за образец “Занми Ласанте” – создать систему общественного здравоохранения в Карабайльо и назвать ее “Сосиос эн Салуд” (Socios en Salud – “Партнеры во имя здоровья” по-испански). Он представлял себе небольшой проект по оздоровлению населения района, но не сказать чтобы он мыслил в малых масштабах – Джим этого просто не умел. Ему виделся проект, задуманный и осуществляемый столь грамотно, что пригородные трущобные кварталы во всем мире загорятся его примером.
На фотографиях того времени мы видим опрятного, хорошо сложенного молодого человека: смоляные волосы аккуратно зачесаны набок, узкие глаза за очками в тонкой оправе. Выразительное лицо. Когда он улыбался во весь рот, глаза совсем превращались в щелочки. Он говорил быстро, излучал энергию – особенно в тот момент. Отцу Джеку он писал: “Я прикупил трехэтапный аудиокурс по системе Пимслера, постараюсь как можно быстрее напичкать себя испанским по максимуму. Можете посоветовать какие-нибудь книги о Перу?” Приехав в Лиму, он почти тотчас принялся названивать по международной связи Полу.
– Пел, ты не поверишь, что творит отец Джек. Он нанимает всех этих людей из жалости, а они ни черта не делают!
– Не спорь с Джеком. Ты там новенький. Просто продолжай работать, – спокойно отвечал Пол.
Разные общественные деятели в Карабайльо просили “Сосиос” построить аптеку, которая раздавала бы бесплатные лекарства самым обездоленным жителям района. Аптека была возведена прямо рядом с церковью отца Джека. Но в Перу бушевала гражданская война между правительством и партизанским движением “Сияющий путь”. Поговаривали, что некоторые партизаны отсиживаются в Карабайльо во время передышек и что у них имеются собственные представления о благе района. В новогоднюю полночь, когда отец Джек служил мессу, аптеку взорвали. Двери в церкви были стеклянные, но Джек предпочитал во время службы держать их открытыми, так что стекло не полетело внутрь, на прихожан. Вскоре поползли слухи, что партизаны подложили бомбу, потому что аптека олицетворяла “крохи для бедных”, паллиатив, призванный остудить революционный пыл. Пол и Джим восприняли известие философски. Сказали, ну мы ведь и правда раздаем паллиативы. “Партнеры во имя здоровья” просто построили новую аптеку, в другом месте. Было много разочарований, больших и малых, много ситуаций, когда Джим чувствовал себя оскорбленным. Пол наставлял его: “Не забывай, служить беднякам Карабайльо важнее, чем лелеять собственное эго. Это называется – жрать дерьмо за бедных”. Подобные советы всегда приводили Джима в чувство. Если ему казалось, будто вот-вот разразится катастрофа, он звонил Полу, рассказывал о своих неприятностях, и тот сочувственно отвечал: “Ага, помню, у нас в Канжи три раза похожее случалось”.
Фармер тоже приезжал в Лиму, проводил медицинский соцопрос, такой же, как десяток лет назад проводил с помощью Офелии в Канжи. Обнаружил множество схожих проблем, но здесь ни одна из них не вставала настолько остро. Учитывая его многолетний опыт в Гаити, вполне естественно, что его интересовало, как в Карабайльо обстоят дела с туберкулезом. Как выяснилось, раньше обстояло плохо. Долгое время контроль туберкулеза в Перу осуществлялся спустя рукава, но совсем недавно правительство запустило общегосударственную программу. Разрабатывалась она при поддержке, в том числе консультационной, Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, подразделения ООН. В бедных государствах заявления ВОЗ имеют ощутимый вес, а она объявила перуанскую программу борьбы с туберкулезом “лучшей в развивающихся странах”. Ознакомившись с официальными данными, Фармер счел похвалу заслуженной. С грустью вспоминал он, как говорил Джиму: “Вот чем нам тут нет нужды заниматься, так это туберкулезом”.
А потом заболел отец Джек. В мае 1995 года он прилетел в Бостон, и Джим отвез его в Бригем, где ему поставили диагноз: туберкулез. Бригемские врачи назначили Джеку курс из четырех противотуберкулезных препаратов первого ряда, как сделали бы почти в любом медучреждении без особого риска ошибиться. Но Джек умер спустя примерно месяц после начала лечения. Его бациллы прожили дольше – в Лаборатории штата Массачусетс их высеяли на флору, чтобы протестировать на резистентность. Результаты пришли через день или два после смерти Джека. Оказалось, бациллы в его организме были устойчивы ко всем четырем назначенным препаратам плюс еще к одному, тоже первого ряда.
В самолете, направляясь вместе с Офелией в Лиму на поминальную службу, Фармер всю дорогу вопрошал вслух, что же он должен был сделать, чтобы спасти Джека. После церемонии он плакал в гостиничном номере – казалось, уже никогда не прекратит. Когда трое друзей спустились к ужину и официант спросил, не желают ли они сесть в некурящей зоне, Джим ответил: “А неревущей зоны у вас нет?” Фармер рассмеялся сквозь слезы.
Эмоции и угрызения совести послужили стимулом к дальнейшим действиям, но на самом деле действовать требовали клинические факты, погубившие Джека. Они заставили Фармера увидеть проект Джима в новом свете. Раньше он полагал, что раз уж Джиму хочется самостоятельности, Карабайльо – вполне подходящее место, чтобы ее проявить, очередной нуждающийся район, где ПВИЗ могут принести пользу. Теперь же выходило, что все намного сложнее, намного серьезнее и, похоже, страшнее. Отец Джек никогда прежде не лечился от туберкулеза, так что получить резистентный штамм он мог только одним способом – заразившись от кого-то. И произошло это, скорее всего, в Карабайльо.
Еще когда отец Джек был жив, Фармер, помогая Джиму с соцопросом, спрашивал руководителя проектов “Сосиос эн Салуд”, не наблюдается ли на бедных северных окраинах Лимы такой проблемы, как устойчивый к препаратам туберкулез. Руководитель – его звали Хайме Байона – изучил официальные документы и ничего не нашел. Но решил копнуть поглубже. Он стал ходить по государственным клиникам, расспрашивать врачей и медсестер, не попадалось ли им пациентов с высокоустойчивым штаммом. Все как один говорили “нет”. Однако ответы, как заметил Хайме, следовали после маленькой заминки. Тогда он переформулировал вопрос: “А не случалось у вас, чтобы пациент лечился от туберкулеза, да так и не вылечился?”
“О, конечно”, – ответила одна медсестра и тут же познакомила его с бедной жительницей Карабайльо по имени сеньора Брихида. Хайме наведался к ней в гости и выслушал ее историю. Ее лечили от туберкулеза в государственной клинике, но потом нагрянул рецидив. Второй курс лечения прервала забастовка медработников – правительство Альберто Фухимори радикально сократило расходы на соцобеспечение, и врачи прекратили работу в знак протеста. В конце концов все-таки сделали посев, и выяснилось, что ее туберкулез устойчив к четырем препаратам первого ряда. Ее пролечили заново – как ни странно, ровно теми самыми препаратами, – и вот теперь она опять больна и кашляет кровью. В процессе врачи обвиняли ее в “непослушании”. Ее сын умер от туберкулеза – по всей вероятности, заразился от матери устойчивой формой.
Хайме пересказал эту историю Фармеру в аэропорту, когда тот уже садился в самолет до Майами. Пол обещал найти лекарства, которые помогут сеньоре Брихиде, и, глядя на Лиму из окна самолета, обдумывал ее случай. Если МЛУ-ТБ водится в трущобных районах окраин, рассуждал он, значит, рано или поздно зараза поползет по расширяющемуся городу. “Перуанским властям придется обратить на это внимание”, – думал он.
Однако власти, по мнению Хайме Байоны, делали как раз обратное. Хайме был уроженцем Перу. Он служил алтарником у священника, дружившего с отцом Джеком, и защитил диссертацию по здравоохранению. Джим предложил ему руководить “Сосиос”. Хайме – невысокий, тихий, неизменно опрятный мужчина за тридцать – понравился Джиму с первого взгляда. Улыбался он всегда сдержанно и вечно поправлял сползающие с переносицы очки. После смерти Джека Хайме еще активнее зачастил по государственным клиникам. Задавал свой дежурный вопрос, и иногда медсестра вытаскивала папку документов, открывая ее со словами: “Тут у нас есть кое-что, что может вам быть интересно, но я не имею права показывать”.
А Хайме отвечал “Да-да, конечно”, – поправлял непослушные очки и вглядывался в бумаги через стойку. Вскоре он научился читать истории болезни вверх ногами. Снова и снова он сталкивался с историями пациентов, на которых не подействовала стандартная химиотерапия или неоднократные курсы препаратов первого ряда. Медицинские учреждения он покидал неторопливой походкой, а сев в машину, мчался на предельной скорости к офису “Сосиос” в Карабайльо, бетонному зданию, которое принадлежало церкви отца Джека и теперь называлось Центр отца Джека Руссена. Торопливо зайдя внутрь, Хайме садился за свой компьютер, записывал прочитанное и отправлял по электронной почте двум адресатам – Фармеру и Киму.
Глава 15
Я впервые прибыл в Карабайльо ночью, в сопровождении Фармера. Дорога из аэропорта, четырехполосная и с разделительной полосой, казалась очень гладкой, даже когда машина свернула и стала удаляться от старого испанского колониального центра и небоскребов делового района в сторону северных окраин Лимы. На разделительной полосе шуршали листьями пальмы. Я смотрел из окна машины на холмы, почти невидимые в темноте, но усыпанные огоньками, заманчиво мерцающими, словно китайские фонарики в ночи.
– Лима не похожа на третий мир, – заметил я.
– Еще как похожа, – откликнулся Фармер. – Вот увидите.
Лима – большой прибрежный город, большой и сухой. При свете дня северная окраина являла взору трущобы, словно уходящие в бесконечность. Дороги забиты автомобилями и местным общественным транспортом – моторикшами и микроавтобусами. По обочинам – кучи мусора, местами горящие. Здания, напоминающие американские стрип-моллы, начавшие приходить в негодность еще до окончания строительства. На стенах, сложенных из цементных блоков, красовались вывески баров, ночных клубов, парикмахерских и – чуть ли не на каждом шагу – врачебных кабинетов (цены за амбулаторный визит намалеваны краской на бетоне). Дневной воздух Лимы был мутным – солнечным лучам приходилось пробиваться сначала сквозь легкий тихоокеанский туман, затем, ближе к земле, сквозь вечный слой пыли и выхлопных газов. Стоя перед штаб-квартирой “Сосиос”, я взглянул вверх, на холмы Карабайльо, и обнаружил, что фонари, которыми я любовался ночью, водружены на высоченные столбы, какими обычно освещаются шоссе. Лачуги из одной-двух комнат казались под ними совсем крошечными. Убогие жилища лепились по склонам крутых серо-коричневых холмов – гигантских бесплодных куч песка и камня. Кроме лачуг, садиков возле них и этих до нелепости огромных фонарных столбов, на холмах ничего не было.
Многие жители Карабайльо переселились сюда из андских деревень. Их отличали черные как смоль волосы и высокие скулы. Даже Фармер, не понаслышке знавший, что такое нищета в Латинской Америке, изумился до глубины души, впервые увидев, как эти люди таскаются вверх-вниз по холмам, которые сами же сравнивают с поверхностью Луны. Он представлял себе места, добровольно ими покинутые, – утопающие в зелени горы из фотоальбомов о культуре инков. Однако, поднимая глаза на фонарные столбы, он догадывался о мотивах переселенцев. Те, с кем он разговаривал, рассказывали знакомые истории, схожие с историями гаитянских крестьян, перебравшихся в трущобы Порт-о-Пренса. Они приехали в Карабайльо в надежде обрести блага, которых были лишены дома: электричество, чистую воду, школы, медицинское обслуживание, трудоустройство, – а заодно убраться подальше от зоны боевых действий партизан “Сияющего пути” и перуанской армии.
На ровном участке Карабайльо, вдоль дороги, располагались магазины, автомастерские, тележки уличных торговцев, киоски, накрытые зонтиками вместо крыш; дальше, вдоль второстепенных дорог и в нижней части склона, – участки, плотно застроенные маленькими домиками из кирпича и бетона. Фонарные столбы и мощеные улицы ползли вверх по холмам. Постепенно мостовые превращались в грунт, потом дороги разбегались тропинками, а строения все больше походили на времянки. Среди них были беспорядочно разбросаны магазинчики с земляными полами, едальни под железными крышами (соседи покупали там готовые блюда, поскольку не могли себе позволить ни печей, ни материала для их растопки), цирюльни и даже кладбища. В воздухе стоял удушливый запах мочи. Канализации здесь не было, уборными служили уединенные местечки среди валунов – наверху, над последними жилищами.
Я посмотрел на север. Вдали виднелась река, рядом с ней полоска зелени, но вокруг и сверху – только земля и скалы. Неподалеку от нас детишки играли в мяч. Мяч укатился от них, упрыгал вниз по склону и скрылся из виду. Я глядел ему вслед, размышляя о гравитации, канализации и инфекции.
На этих холмах и внизу, на равнине, Хайме Байона довольно быстро отыскал десять жителей Карабайльо с подозрением на МЛУ-ТБ. Чтобы подтвердить диагноз, следовало бактерии из организма каждого пациента высеять на среду и протестировать выращенную из них культуру на резистентность к препаратам. Процедура как таковая существовала больше ста лет, но в регионах с самой высокой распространенностью туберкулеза оставалась, как правило, недоступной. В государственной лаборатории Перу этим занимались, но “Сосиос” не имели там связей. Фармер решил проблему так же, как уже давно решал ее в Гаити, где посевы тоже не делались. Собрал анализы со всех десяти больных, упаковал пробирки в чемодан и доставил в Лабораторию штата Массачусетс, подписав пробирки “Пол Фармер, комиссар ТБ”. Он и правда входил в комиссию штата по туберкулезу. Ему нравились эти международные диагностические экскурсии, такие маленькие акты перераспределения благ. Но посевы дали тревожные результаты. Когда речь идет о лечении МЛУ-ТБ, чем больше препаратов “обезврежено” резистентностью, тем сложнее и дороже становится процесс. А почти у всех пациентов из Карабайльо туберкулез оказался устойчивым не только к двум самым сильным лекарствам, но ко всем пяти препаратам первого ряда, точно как у отца Джека. По опыту Фармера, столь мощная резистентность была редким явлением, но здесь она, похоже, стала нормой, и ему хотелось бы знать почему.
Фармер прилетел из Гаити в Лиму, и Хайме Байона прямо из аэропорта отвез его в маленькую государственную клинику у подножия холмов Карабайльо, по соседству с Кристо-Лус-дель-Мундо, бывшей церковью отца Джека. Вывеска на стене здания гласила: “Эль Прогресо”. Само здание было маленькое, бетонное, внутри – крошечный шкафчик с лекарствами, приткнувшийся в углу. В любой американской ванной можно найти домашнюю аптечку побогаче. В клинике десять пациентов ожидали американского врача.
Фармер с фонендоскопом на шее сел на деревянную лавку. Хайме пристроился рядом, чтобы переводить, – Фармер тогда еще не знал испанского. Пациенты входили по очереди и занимали скамейку напротив. Некоторых вносили, так им было плохо. Фармер рассматривал рентгенограммы грудных клеток: очертания кишащих бациллами инкапсулированных полостей в изуродованных туберкулезом легких; обширные инфильтраты, выглядевшие как белые штрихи на черном фоне, точно перистые облака; пустоты, выеденные бациллами в верхних долях легких. Прикладывая фонендоскоп к груди больного, он словно напрямую подключал ухо к легким и слушал прерывистые дыхательные шумы, называемые крепитацией (когда резко открываются заполненные жидкостью альвеолы), и свистящие дискантовые хрипы (когда воздух с силой пробивается через сузившиеся дыхательные пути).
В области туберкулеза Фармер был экспертом. Будучи еще простым ординатором в Бригеме, он написал методичку по лечению ТБ для персонала. Он постоянно диагностировал и лечил эту болезнь с тех самых пор, как впервые ступил на землю Гаити, где носителями являлись чуть ли не все подряд, а активный туберкулез цвел пышным цветом. И сейчас, изучая истории болезни десяти перуанцев, он замечал отличия от гаитянской нормы. В Канжи пациенты с МЛУ-ТБ обычно рассказывали о терапии, прерванной забастовкой, или наводнением, или внезапным закрытием клиники. То есть у них высокая резистентность проистекала от недостаточного лечения. Но у десяти пациентов из Карабайльо дела обстояли совсем иначе. Они ежедневно принимали лекарства – бесплатно, под эгидой государственной программы по борьбе с туберкулезом, в строгом соответствии с инструкциями, опубликованными ВОЗ. Они прошли химиотерапию согласно стратегии DOTS – это термин Всемирной организации здравоохранения, аббревиатура означает Direct Observation Therapy, Short-Course, “лечение коротким курсом под непосредственным контролем”. Стратегия очень эффективная и недорогая, в “Занми Ласанте” годами руководствовались ею. Фармер считал DOTS самым значительным достижением в области борьбы с туберкулезом со времен изобретения антибиотиков. Он горячо одобрял намерение ВОЗ распространить эту стратегию по всему миру. Но здесь, в Карабальо, по крайней мере для этих десяти человек, что-то пошло не так.
Первый курс DOTS их не вылечил. В таких случаях ВОЗ рекомендовала повторное лечение теми же препаратами плюс еще одним. Этот метод был проверен клиническими испытаниями в Африке, и там он работал хорошо. Во время тех испытаний неудачи в лечении объяснялись недисциплинированностью пациентов – если выздоровление не наступило, то потому, что они пропускали приемы лекарства, а не из-за высокоустойчивых к препаратам штаммов микробактерий. Так что, когда стандартная терапия не помогала, казалось разумным попробовать еще раз – только установить график построже и проследить, чтобы пациент его строго соблюдал.
Но, во-первых, африканские исследования проводились более двадцати лет назад, а во-вторых, Перу не Африка. К примеру, в период хаотичной борьбы с туберкулезом в Перу применялись другие препараты. А маленькая пыльная клиника, несмотря на неказистый вид, выполняла свои задачи добросовестно. В этом Фармер не сомневался. В документах было указано, что пациенты принимали лекарство под надзором медицинского персонала. Через посредничество Хайме Фармер спрашивал каждого, все ли таблетки он принимал. Когда пациент отвечал утвердительно, Фармер пристально смотрел ему в глаза. Он считал, что проработал врачом достаточно долго, чтобы научиться распознавать ложь. Этим людям он верил. Трое из них сами работали в сфере здравоохранения и хорошо понимали, что им назначено. Они тоже утверждали, что не отклонялись от предписаний врача.
Фармер листал истории болезни, Хайме, склонившись над его плечом, переводил. Все десять человек болели уже давно. Их лечили по системе DOTS, потом лечили повторно, многих не один раз, и теперь все они обзавелись устойчивостью к четырем или пяти препаратам. Фармер перебирал в уме возможные объяснения. Небрежность он, повинуясь интуиции, уже исключил, качество препаратов тоже вне подозрений – их эффективность подтвердили международные эксперты. И одним и тем же устойчивым штаммом все пациенты заразиться не могли – анализы показали, что бациллы каждого проявляют резистентность по-разному.
Оставался всего один вариант. Зародившаяся у Фармера гипотеза внезапно стала казаться правдоподобной – точнее, неизбежно верной.
В силу особенностей динамики туберкулеза приобрести устойчивость более чем к одному препарату за раз почти невозможно. Однако повторение неподходящей терапии может обеспечить отбор все более устойчивых бацилл-мутантов и образование штаммов, резистентных ко многим препаратам. Вот это, видимо, и случилось с десятью перуанцами, думал Фармер. Они пришли к врачам с устойчивостью к одному или, скорее, двум препаратам, а вышли – после неоднократного лечения по стандартизованным процедурам DOTS – с устойчивостью к четырем-пяти. Элементарные принципы биологии. Фармер не воображал, будто совершил великое научное открытие. И все же на какой-то миг, сидя на скамье в клинике, он испытал старое знакомое удовлетворение, когда кусочки головоломки сложились воедино перед его внутренним взором.
Обнаружение первопричин всегда его завораживало. Ему нравилось ставить трудные диагнозы, нравилась соответствующая атрибутика – пятнышки на предметном стекле микроскопа, прекрасные формы крошечных созданий под линзой. Но на сей раз момент “Эврика!” оставил неприятное послевкусие. Позже Фармер скажет мне: “Господи, ужасно не хотелось бы когда-либо еще испытать триумф по столь скверному поводу”.
Для борьбы с резистентностью существует надлежащая процедура. Если пациенту не помогает стандартная терапия, врач обязан предположить, что данный туберкулез устойчив к каким-то из назначенных лекарств, как можно скорее выяснить, к каким именно, и заменить их другими. Давать пациенту неподходящие препараты не только бесполезно, но и опасно. Это может привести к повышению резистентности МБТ, как выразились бы специалисты. Именно такой процесс наблюдал Фармер в анамнезах десяти перуанцев. Он предпочитал употреблять слово “расширение”, ибо оно звучит точнее и страшнее. Эти десять человек пришли к врачам больными, а два года спустя оказались больны тяжелее прежнего, поскольку их туберкулез набирал устойчивость к новым и новым препаратам, попутно продолжая пожирать легкие. Так получилось не потому, что они нарушали предписания врачей, а именно потому, что они им следовали. И предписания эти – не просто результат глупости и небрежности, они – часть официальной политики, а следовательно, легитимны. Их спустили с заоблачных высот лица, ответственные за программу по борьбе с туберкулезом в Перу, которые, в свою очередь, получили их из Женевы, непосредственно от Всемирной организации здравоохранения.
Складывающаяся картина все сильнее мучила Фармера. Расширив резистентность туберкулеза у этих десяти пациентов, государственная программа их, в сущности, бросила. Больные ТБ могли обращаться к частным пульмонологам, но тогда приходилось оплачивать консультации и очень дорогие препараты второго ряда, которые означенные пульмонологи прописывали. Фармеру, Киму и Байоне еще предстояло познакомиться с людьми, чьи семьи распродали почти все свое скудное имущество, чтобы купить как можно больше лекарств. Недостаточно, чтобы вылечиться, зато достаточно, чтобы обзавестись устойчивостью и к ним. Другие опускали руки, возвращались в свои лачуги на пыльных, бесплодных холмах и там ожидали смерти.
На самом деле ВОЗ предписывала им и это. Официальная методичка DOTS содержала следующую сентенцию: “В условиях ограниченности ресурсов для рационального их распределения необходимо разделять лечение ТБ на категории и расставлять приоритеты в зависимости от экономической эффективности той или иной категории”. Фармер и Ким начали собирать официальные заявления ВОЗ. В некоторых то же самое излагалось проще: “В развивающихся странах больные туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью обычно умирают, поскольку эффективное лечение в бедных регионах зачастую оказывается невозможным”.
Для Пола, Джима и Хайме речь шла о фундаментальном принципе. В конце 1980-х Нью-Йорк поразила эпидемия туберкулеза с эпизодами МЛУ-ТБ. Очагами послужили тюрьмы, приюты для бездомных и государственные больницы. После окончательного подсчета всех затрат выяснилось, что различные американские агентства в сумме израсходовали на погашение вспышки около миллиарда долларов. Однако здесь, в Перу, где правительство ежегодно выплачивает американским банкам и международным кредитным организациям долги в размере более миллиарда долларов, лечить МЛУ-ТБ, по мнению международных экспертов по борьбе с туберкулезом, слишком дорого.
Глава 16
Правительство Перу ввело свою жесткую программу борьбы с туберкулезом (она же образцовая программа ВОЗ) всего четыре года назад, в 1991-м. Предшествовали этому десятилетия плохо финансируемого бесконтрольного лечения, которое и породило лекарственно-устойчивые штаммы. Фармер предполагал, что распространились они довольно широко. Хайме Байона уже обнаружил десятки подозрительных случаев, а ведь он работал в одиночку, читая вверх ногами медицинские записи. Так что, хотя Ким и Фармер и не знали точно, сколько в трущобах больных МЛУ-ТБ, было ясно: их отнюдь не горстка, те десять человек, что Хайме привел к Фармеру на осмотр в клинику, – лишь капля в море. Перспектива лечить море пугала.
Какое-то время назад, впервые столкнувшись с МЛУ-ТБ в Гаити, Фармер обратился за советом к Майклу Айзману. Айзман был крупнейшим мировым авторитетом в этой области и работал в лучшем в мире центре лечения МЛУ-ТБ – Еврейском национальном центре здоровья в Денвере. Но и там, по официальным сообщениям Айзмана и его коллег, в 1993 году выздоровели всего около 60 процентов больных, а стоимость лечения достигала (в одном особенно трудном случае) 250 тысяч долларов. Лечить МЛУ-ТБ сложно где бы то ни было, но логика подсказывала, что в Карабайльо это будет сложнее, чем в Денвере, хоть и дешевле. Главное средство – так называемые препараты второго ряда, очень дорогие, а некоторые еще и дефицитные – придется возить из-за границы. Все они отличались слабым эффектом и пренеприятными побочными действиями, с которыми пациенту предстояло мучиться года два: в лучшем случае – боли в желудке и месяцы внутримышечных уколов, в худшем – гипотиреоз, психозы, а то и смерть, если врач неосторожен. В Карабайльо большинство потенциальных пациентов жили за чертой бедности, им требовались не только лекарства и внимательный уход, но и моральная поддержка, еда, новые крыши, водопровод.
Пол, Джим и Офелия снова и снова обсуждали – в Бостоне, в самолетах, по электронной почте, – впрягаться ли им в эту лямку. Но на самом деле вариант “отказаться” всерьез и не рассматривался. Джим смотрел на вещи широко:
– Прошу прощения за такую формулировку, но ТБ прекрасен тем, что передается воздушно-капельным путем.
Туберкулез – лишь преимущественно болезнь бедных, рассуждал Джим. Другие тоже ею заражаются, просто дыша. В эпоху СПИДа преуспевающий мир не сможет игнорировать угрозу ТБ, который так трудно лечить, и жуткую, но реальную вероятность, что “супермикробы”, штаммы, устойчивые ко всем известным лекарствам, пересекут границы между приютами бездомных и нью-йоркской Парк-авеню, между бедными и богатыми государствами.
– Мы должны заявить: МЛУ-ТБ угрожает каждому! – витийствовал Джим. – Мы можем напугать мир, если вытянем наш проект. Мы можем встряхнуть планету!
– Хорошо, – отвечал Пол. – Но начать попробуем с наших десяти пациентов.
В конце августа 1996 года они начали лечить больных, воспользовавшись программой “Занми Ласанте”, которую адаптировали под МЛУ-ТБ и прочие особенности Карабайльо. Команда из местных уже набралась – Хайме руководил группой молодых общественных медработников. Кроме того, Фармер и Ким привезли небольшой контингент из Бостона: блестящего эпидемиолога Мече Бесерру, проходящую обучение в Гарвардской школе здравоохранения, и двух своих протеже, студенток Гарвардской медицинской школы. Девушки почти все свое время проводили в Карабайльо, ночевали на верхнем этаже Центра отца Джека Руссена. Студентки обследовали пациентов и отслеживали побочные эффекты – пока не как настоящие врачи, а как ученицы Фармера. Весь медицинский персонал – студентки, Хайме, перуанский врач, несколько медсестер и Фармер – ежедневно обменивался информацией по электронной почте. Фармер до мельчайших подробностей расписывал инструкции, каждому пациенту разрабатывал отдельный график приема лекарств, изобретал, как он выражался, “фокусы” для самых сложных случаев. Джим какое-то время тоже немного практиковал как врач, но потом полностью переключился на обучение и управление, а позже – на попытки фандрайзинга. Трудностей возникало множество, особенно поначалу. Например, общественные медработники, узнав, что им предстоит посещать пациентов с МЛУ-ТБ на дому, взбунтовались, требуя повышения оплаты. Джим и Хайме подавили мятеж типичным для ПВИЗ способом: Джим выбил для зачинщика университетскую стипендию, и тот уехал учиться в Мехико. Но самая серьезная проблема, на первых взгляд не имевшая решения, носила политический характер.
Перуанские власти и слышать не желали о том, что их образцовая программа борьбы с ТБ имеет изъяны. И в особенности они не желали этого слышать от гарвардских врачей. Некоторые чиновники были настроены откровенно враждебно. Один перуанский врач назвал Фармера и Кима medicos aventureros, врачами-авантюристами. Другой сказал Хайме: “Этот Пол Фармер – он же гринго. Что может гринго знать о ТБ? В США ведь нет туберкулеза”. – Он просто так выглядит, – мягко ответил Байона. – Но он не настоящий гринго”.
Ни у Пола, ни у Джима не было лицензии на врачебную практику в Перу. В самом начале директор государственной программы лично грозился выдворить их из страны. Возможно, он бы так и поступил, если бы Джим, Пол и Хайме не уговорили одну монахиню, дружившую с директором, замолвить за них слово. Но хотя “авантюристам” и позволили продолжать работу, им надлежало добывать официальное разрешение на лечение каждого обнаруженного ими больного МЛУ-ТБ, и власти настаивали на строжайшем соблюдении las normas – норм государственной программы. Все пациенты должны были пройти стандартную терапию и еще повторную, после чего их случаи объявлялись “не поддающимися лечению”. Только потом к делу могли приступить “Сосиос”.
Вскоре эти правила сделались невыносимыми. Одна из гарвардских студенток – ее звали Соня Шин – нашла в Карабайльо вероятную жертву МЛУ-ТБ, молодого человека по имени Давид Карбахаль. Но власти остались глухи к мольбам Шин и Фармера и лечить его не разрешили. Пациент умер на глазах у Сони. Девушка помогала сестре Давида брить и одевать его для похорон. Родители Давида утешали Соню: “Проблема в системе. Система не могла допустить нестандартной терапии, потому что иначе столкнулась бы с еще большими проблемами”. Они понимали ситуацию лучше, чем разъяренный Фармер, который написал руководителям программы гневное письмо, не возымевшее абсолютно никакого действия. Неподобающее поведение для иностранного врача, ответили ему.
Хайме и до того пытался вразумить своих соотечественников, перуанских чиновников, ответственных за программу по борьбе с ТБ. Он просил, чтобы “Сосиос” разрешили забирать пациентов пораньше, хотя бы после первого безрезультатного курса DOTS, не дожидаясь предусмотренного стандартами повторного лечения. “Сосиос” возьмут на себя все расходы, обещал он. Но руководители программы не пошли навстречу. Объяснили, что не хотят создавать прецедентов. Хайме, хоть и не соглашался с ними, мотивы их понимал.
В Перу программа по борьбе с ТБ была претворена в жизнь в 1991 году в основном из-за протестов, устроенных жителями таких мест, как Карабайльо, и их монахинями и священниками. Кое-кто из нынешнего руководства программы тоже участвовал в демонстрациях. В годы беспощадной экономии в государстве они умудрились выбить из правительства деньги на DOTS и воспользовались этими деньгами грамотно – положили конец десятилетиям неадекватного лечения. Скандал вокруг МЛУ-ТБ мог поставить под угрозу все, чего они достигли с таким трудом. А если бы они позволили “Сосиос” задать новый стандарт лечения в Карабайльо, пришлось бы подтягивать под этот стандарт всю страну. На это денег у них не было. Разве что забрать из финансирования DOTS, но это означало бы возвращение к тем самым условиям, которые и породили МЛУ-ТБ в регионе.
У перуанцев не было такой свободы действий, как у Пола с Джимом. Если бы они, например, пожаловались, что лишь малая часть тех средств, которые президент Фухимори тратит на военные самолеты, позволила бы спокойно лечить любые штаммы ТБ, это только повредило бы делу. Кроме того, перуанцы не сами придумали las normas. В январе 1997 года, после смерти Давида Карбахаля, Хайме сказал Фармеру: “Если хочешь изменить ситуацию, забудь о государственной программе. Надо обращаться к инстанциям повыше”.
Фармер согласился. И решил, что знает подходящую площадку.
Его пригласили в конце февраля выступить с докладом в Чикаго, на североамериканской конференции, которую ежегодно проводит старинная и почтенная организация – Международный союз против туберкулеза и легочных заболеваний. Там можно встретить и членов департамента ВОЗ по туберкулезу, и чиновников, и специалистов по здравоохранению, и преподавателей медицинских университетов – словом, людей, посвятивших свою жизнь борьбе с туберкулезом. Однажды в Женеве я слышал, как несколько представителей этой категории называли в разговоре себя и себе подобных “ТБ”. Например, так: “ТБ и ВИЧ должны объединить усилия”.
У Фармера имелись дружеские связи с ТБ – один старый друг как раз и организовал ему это выступление. Но многие члены ТБ никогда о нем не слышали. Можно смело утверждать, что большая часть аудитории знала об идеях Фармера куда меньше, чем он знал о принципах их работы.
Фармер понимал, что далеко не все его слушатели считают целесообразным лечить МЛУ-ТБ в бедных регионах: лечение слишком дорого, слишком трудно в таких условиях, да и вряд ли в нем есть необходимость, ведь МЛУ-ТБ не настолько заразен и грозен, как обычный туберкулез, и, скорее всего, под натиском хорошей программы DOTS постепенно исчезнет сам. Иными словами, значительная часть аудитории сочла бы работу “Сосиос” в Карабайльо донкихотством или даже ересью. Также Фармер предвидел, что многие члены ТБ воспримут его как обычного врача-практика, слишком сочувствующего пациентам и потому неспособного мыслить широко, неспособного понять, что остановить распространение болезни намного важнее, чем исцелять отдельных людей. Эту идею он отвергал категорически, будучи убежден, что внимательное отношение к каждому пациенту – и моральный императив, и залог успешной борьбы с туберкулезом в сообществе, как он наглядно доказал на примере Канжи. И все же ему не хотелось чересчур раздражать слушателей, поэтому он написал речь, которую сам называл “жиденькой”. А за несколько дней до отъезда в Чикаго переписал ее.
Начинался отредактированный доклад вполне безобидно, но затем Фармер нараспев провозгласил с кафедры: “Мифы и мистификации вокруг МЛУ-ТБ”. И принялся зачитывать довольно длинный список. Привел цитату из документов ВОЗ: “Лечить МЛУ-ТБ в бедных странах слишком дорого, это отвлекает внимание и ресурсы от лечения чувствительного к препаратам туберкулеза”. Но разве это правда так дорого? – вопросил Фармер. “Даже если борцы с ТБ обречены руководствоваться соображениями экономии, им не составит труда доказать, что истинное разорение – это не отслеживать и не лечить МЛУ-ТБ”. Уважаемым слушателям не мешало бы вспомнить случай в Техасе, когда больной МЛУ-ТБ заразил девять членов своей семьи. “Помочь только этим десятерым стоило более миллиона долларов”.
Миф номер два: некоторые полагают, будто одной стратегии DOTS достаточно, чтобы прекратить вспышки МЛУ-ТБ. Это чушь, заявил Фармер. Что произойдет, спросил он аудиторию, если специальные программы будут успешно бороться с лекарственно-чувствительным туберкулезом, а МЛУ-ТБ останется процветать? Он продолжит распространяться, и даже там, где в настоящее время случаи МЛУ-ТБ составляют ничтожный процент от всех случаев заболевания туберкулезом, его относительный вес будет расти. Более того, DOTS расширит уже имеющуюся резистентность к препаратам. Короче говоря, программы, сегодня восхваляемые за успешность, обречены на провал.
Что же насчет теории, будто МЛУ-ТБ не так заразен и страшен, как обычный туберкулез? Она просто выдает желаемое за действительное, припечатал Фармер, продвигаясь дальше по своему списку “мифов и мистификаций”, то есть по списку убеждений, разделяемых большей частью ТБ-сообщества. С тем же успехом он мог бы назвать добрую половину своих слушателей болванами и негодяями.
“Спасибо за провокационную речь, Пол”, – сказал модератор, специалист по туберкулезу из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, друг Фармера по имени Кен Кастро. Фармер, уже покидавший сцену, обернулся: “Извини, Кен, но почему ты счел мою речь провокационной? Я просто сказал, что нам следовало бы лечить больных людей, раз уж у нас есть необходимые технологии”.
Несколько дней спустя в Лиме Хайме Байона услышал сплетню. Якобы кто-то из присутствовавших на конференции позвонил директору государственной программы Перу по борьбе с туберкулезом и сообщил: “Пол Фармер говорит, вы убиваете пациентов”. Но, по крайней мере, его протест был заявлен и принят к сведению “инстанциями повыше”.
Глава 17
Еще в 1994 году Офелия написала Полу в письме: “Слава богу, что у тебя складываются такие теплые отношения с Диди. Я рада за тебя, правда рада”. Новая женщина в жизни Фармера, Диди Бертран, была дочерью директора школы и, по словам сотрудников “Занми Ласанте”, самой красивой девушкой в Канжи. Пол знал ее давно и до свадьбы почти два года за ней ухаживал. Поженились они в Канжи в 1996 году, в разгар суматошной начальной стадии перуанского проекта. Шаферами Пола были Джим и один старый друг из Дьюка, церемонию проводили отец Лафонтан и еще три католических священника, гостей пришло около четырех тысяч, в том числе все жители Канжи. Фармер каким-то образом исхитрился найти время и на обряд, и на повторный свадебный прием в Бостоне.
К этому моменту перуанский проект нещадно тянул ресурсы из ПВИЗ. Препараты на лечение одного пациента стоили в среднем от пятнадцати до двадцати тысяч долларов. А количество пациентов все росло. В Карабайльо уже человек пятьдесят проходили терапию: студенты, безработная молодежь, домохозяйки, уличные торговцы, водители автобусов, медработники. Средний возраст – двадцать девять лет. Казалось бы, пятьдесят больных МЛУ-ТБ – это немного, но они составляли десять процентов от общего числа туберкулезников в Карабайльо. А это в десять раз больше, чем можно было бы ожидать. И неизвестно, сколько народу они заразили, перемещаясь по Лиме со своим кашлем. Также неизвестно точно, сколько людей уже страдали МЛУ-ТБ в других районах города. Судя по сведениям, собранным Хайме, – сотни. В Карабайльо сотрудники “Сосиос” находили целые семьи, болеющие и умирающие от МБТ генетически близких, как выяснилось, штаммов. Феномен оказался столь распространенным, что медработники дали ему название – familias tebecianas, “туберкулезные семьи”.
Офелия беспокоилась. Похоже, в проекте, изначально простом и ясном, пошли метастазы. Когда Пол и Джим твердили, что это ЗЭЯ, она отвечала: “Хорошо, ребята. Я согласна. Но бабки-то где?”
Примерно тем же вопросом задавался их бригемский друг Говард Хайатт. В свои семьдесят с лишним Хайатт был заметной фигурой в медицине – бывший декан Гарвардской школы здравоохранения, бывший главный врач больницы Бет-Исраэль, ныне профессор в Гарвардской медицинской школе. В его обязанности помимо прочего входили консультации и помощь молодым врачам, избравшим необычную карьеру. В числе его любимчиков были и Пол с Джимом, изрядно трепавшие ему нервы. Где же они берут препараты второго ряда? – гадал профессор. Откуда, ну вот откуда у них на это деньги? И в один прекрасный день директор Бригема остановил Хайатта в коридоре: “Ваши приятели Фармер и Ким получат от меня по первое число. Они должны больнице девяносто две тысячи долларов”.
Хайатт принялся разбираться. “Ну кто бы сомневался. Перед отъездом в Перу Пол и Джим всякий раз заглядывали в бригемскую аптеку и уходили с полными чемоданами лекарств. Уговаривали разных людей, чтобы их отпускали с добычей”. В общем-то ему даже понравилась эта история. “Такие вот у них стрелы Робин Гуда”.
На самом деле лекарства молодые люди только позаимствовали. Вскоре Том Уайт прислал в Бригем чек на всю сумму с запиской, в которой рекомендовал больнице проявлять больше щедрости по отношению к бедным.
“Прощение получить легче, чем разрешение”, – любил повторять отец Джек. Таково было главное житейское правило Фармера. Как только они с Джимом приняли решение заняться МЛУ-ТБ в Карабайльо, он пришел к Тому Уайту со словами: “Купите лекарства только для десяти больных. Больше не надо, честное слово”. Уже тогда Фармер знал, что это, как он сам говорил, “обманка”. С тех пор он не раз просил у Уайта еще денег. Уайт разделял всеобщую тревогу. Он часто заявлял, что хочет уйти из жизни без гроша в кармане, но, по мере того как росло количество пациентов, начинал опасаться, что Пол и Джим нарушат его расчеты. “Какое-то время мне казалось, что они потратят все мои деньги гораздо раньше, чем я умру”.
Многие опытные руководители проектов по здравоохранению сочли бы затею Фармера и Кима безрассудством – а то и аферой, как впоследствии намекали некоторые. Не имея надежного источника лекарств, вооруженные одной лишь решимостью их добыть, молодые люди полагались на свое обаяние, позволявшее им “одалживаться”. Лабораторные анализы они тоже “заимствовали” в Массачусетсе. Никакие солидные учреждения их не поддерживали, мнение авторитетных экспертов было не на их стороне. Их маленькую организацию обременяли разные проекты, в Гаити, Бостоне и других местах, так что Перу всем создавало дополнительную нагрузку.
Джим наведывался в Карабайльо минимум раз в месяц. Фармеру приходилось туда ездить немного чаще. Он старался особо не жертвовать ради Перу другими делами – ни своими обязанностями в Гаити, ни службой в Бригеме, ни преподаванием в Гарварде, ни публичными выступлениями, коих становилось все больше. Просто добавил Карабайльо в свой график.
Зачастую путешествие длилось всего два дня. Он покидал Канжи на рассвете и ехал на машине в Порт-о-Пренс. Иной раз, когда пикап застревал в пробке, Фармер, бросив машину на попечение помощника-гаитянина, последние полмили до аэропорта пробегал бегом. Садился на утренний самолет до Майами, потом пересаживался на рейс в Лиму и поздно вечером добирался до Карабайльо. На следующий день с раннего утра начинались походы вверх-вниз по пыльным холмам в сопровождении гарвардских студенток либо медсестры из “Сосиос” – Фармер навещал пациентов в их убогих жилищах. Позже, когда отношение местного “туберкулезного начальства” к “Сосиос” немного потеплело, больных стали привозить в Центр отца Джека Руссена, и Фармер принимал их в маленьком помещении, где стоял стол, а пол был залит цементом. Так он успевал обследовать больше народу. Работа кипела до самого отъезда в аэропорт. Потом ночной перелет в Майами, рано утром самолет до Порт-о-Пренса, и во второй половине дня он уже снова в Канжи. Из сорока восьми часов двадцать два уходили только на дорогу, а то и больше, если рейсы задерживались либо отменялись, или грузовичок “Занми Ласанте” ломался в пути, или участок Шоссе № 3 на склоне Морн-Кабри оказывался перегорожен из-за аварии, или речные русла, пересекающие трассу, наполнялись дождями так, что ни проехать, ни пройти.
Произнося памятную речь в Чикаго в феврале 1997 года, Фармер уже чувствовал себя неважно. Когда он вернулся в Бостон, чтобы отработать месяц в Бригеме, ему стало еще хуже. Он вспоминал, как валил все на переутомление. “Все меня предупреждали, что нечто подобное рано или поздно случится”. Пол гордился своим умением быстро ставить диагнозы, но с собственным диагнозом определился не сразу. Он продолжал работать, а симптомы проявлялись все отчетливее. Он проанализировал их: тошнота, рвота, усталость, повышенное потоотделение по ночам. “О господи, – подумал Пол. – У меня МЛУ-ТБ”.
Его жена Диди уехала учиться в Париж, так что в Бостоне Фармер пока ночевал в подвале здания ПВИЗ, который сотрудники называли “пещерой”. Там он и проснулся как-то раз среди ночи, обливаясь потом, с мыслью: “Если у меня и впрямь МЛУ-ТБ, я мог заразить всех своих пациентов”.
Он отправился к приятелю-рентгенологу, стребовал с него клятву молчать, и сделал рентген грудной клетки. Изучил снимок – никаких патологий.
Не реже раза в день он звонил Диди в Париж. Жена увещевала его по телефону: “Тебе обязательно надо к врачу!” – “Слушай, да я сам врач. Вот дотяну месяц в Бригеме и поеду в Гаити. Там и отдохну”.
Утром последнего дня в Бригеме Фармер наконец-то определился с диагнозом. Накануне вечером он не смог съесть пиццу, а в то утро его затошнило от запаха кофе. Типичная картина для гепатита, подумал он. Отвращение к любимой еде. В уборной он отметил темный цвет мочи.
“О нет. Точно гепатит. И какой же? B? Не может быть, у меня прививка. И не C, я же не балуюсь наркотиками. A? Но откуда?” В Лиме он открыл для себя севиче. Возможно, поел зараженной рыбы.
Добравшись до Бригема, он направился в лабораторию, попросил сразу же взять у него анализы и не уходил, пока не увидел первый результат – по эритроцитам. “Скверная картина”, – отметил он. Обезвоживание давало о себе знать, и Пол, не дожидаясь остальных результатов, позвонил по внутреннему телефону Джиму. Тот тоже находился в Бостоне, отвечал за один из этажей больницы.
– Джим, я поднимаюсь к тебе в отделение. Мне нужна капельница.
Затем Фармер улегся прямо в костюме – и в приподнятом настроении – в палате на этаже Джима. После того как медсестра поставила ему капельницу и недостаток жидкости был восполнен, он вскочил с койки и отыскал специалиста по инфекционным заболеваниям, молодую женщину, проходившую у него обучение.
– Марла, – сказал он ей, – мне становится хуже. Давай-ка сделаем сегодня обход пораньше.
У Марлы обычно не хватало на него терпения. Она пресекала его вечное братание с персоналом: “Фармер, заткнись. Пошли работать”. И сейчас ответила:
– Рехнулся? Пусть тебя заменит кто-нибудь.
– Марла, сегодня я дотяну.
Она удалилась, нахмурившись. Фармер направился в палату к пациенту и как раз ставил диагноз – острый простатит, гадать нечего, – когда Марла вернулась. Что-то она побледнела, подумалось ему.
– Пол, у тебя печеночные ферменты зашкаливают так, что аппарат их не берет. Пришлось разбавлять.
– Ну ладно, сдаюсь.
Он вернулся в отделение Джима, переоделся в палате в больничную сорочку и позволил болезни взять свое.
Гепатит А редко приводит к смертельному исходу, но случай Фармера оказался чрезвычайно тяжелым. Джим и еще кое-кто из врачей боялись, как бы не дошло до пересадки печени. Поначалу Фармеру было так худо, что он едва мог внятно разговаривать. Тем не менее всего через несколько дней после того, как его приковало к больничной койке, молодой сотрудник ПВИЗ принял звонок: едва слышным, надтреснутым голосом Фармер продиктовал ему инструкции по закупке лекарств для Перу. Когда две недели спустя его выписали из больницы, Офелия отправила его и Диди отдыхать в гостиницу на юге Франции. Для Фармера это был первый нормальный отпуск за много лет. А еще девять месяцев спустя Диди родила дочку, которую назвали Катрин. Так что все окончилось благополучно.
Но я, выслушав от Фармера эту историю, подивился его безалаберности. Ведь в Бригеме он проповедовал необходимость прививок от гепатита А, особенно для лиц среднего возраста. “Стыдно было”, – сказал он мне. Но, как мне показалось, только за пренебрежение прививкой, а не за то, что целый месяц игнорировал симптомы болезни. Ни Офелии, ни матери он не сообщал о плохом самочувствии – подозреваю, как раз потому, что знал: они непременно попытаются заставить его прекратить работу. Общеизвестно, что у врачей странное восприятие собственного организма. Зачастую на медицинском факультете у них развивается ипохондрия, но стоит им ее преодолеть (если получится), как они начинают считать себя неуязвимыми. Многие не желают откладывать дела ради личных проблем. Но Фармер, казалось, не желал их откладывать ни по каким причинам. Он словно бы не мог себе позволить поступить так по собственной инициативе. Должна была вмешаться сила, непреодолимая даже для его воли, вроде той машины, что сбила его в 1988 году.
Рассказывая мне про свой гепатит, Фармер заметил: “Если я заболею, это будет почти смертельно”. Таким образом, он подчеркивал контраст между собой и бедняками во всем мире. Благородная мысль, но его манера пренебрежительно относиться к своему здоровью как-то не вязалась с концепцией “прагматической солидарности”. На мой взгляд, если учесть лежащую на нем ответственность за чужие жизни, проявил он как раз обратное.
С другой стороны, в какой-то момент – я и сам толком не понял когда – пришло осознание, что я теперь склонен судить Фармера куда менее строго, чем прочих, включая себя самого. Да и видеть его в действии было, как правило, достаточно, чтобы простить.
Проект лечения МЛУ-ТБ начал приносить плоды, что не укрылось от внимания перуанских фтизиатров. Соответственно, изменилось и их отношение к Фармеру с Кимом.
Однажды, когда уже было ясно, что проект на верном пути к успеху, я сопровождал Фармера на встречу в педиатрической больнице, расположенной в деловом центре Лимы. Едва он ступил на тротуар с шумной, пыльной, забитой транспортом проезжей части перед входом в больницу, как из здания навстречу выскочили несколько медработников, окружив его небольшой свитой. Нас торопливо провели мимо уличных торговцев туалетной бумагой, воздушными шарами и газетами, затем мимо вооруженного охранника у дверей. Насколько я понял из этого представления, Фармера здесь более не считали врачом-авантюристом. Тем не менее он выглядел озабоченным. Ну или мне просто так казалось, поскольку у него вроде бы имелась причина нервничать. И он сам, и Джим, и Хайме изо всех сил старались завязать товарищеские отношения с коллегами из медицинских учреждений Перу, и вот теперь из-за пробок на дороге группа врачей дожидается его больше часа.
Когда мы входили в туберкулезное отделение, представлявшее собой лабиринт узких коридоров с бетонными стенами, Фармер вытащил из кармана своего помятого черного пиджака фонендоскоп и повесил его на шею. Он шел быстрым шагом, но внезапно остановился.
Впереди в вестибюле стояла семья из трех человек – мама, папа и маленький мальчик. Женщина была худенькая, в юбке и футболке с Микки-Маусом. Она держалась позади, полускрытая углом коридора. Отец же шагнул к нам, они с Фармером одновременно распахнули объятия и стиснули друг друга в медвежьем клинче. (“В нашей культуре не принято пожимать руки”, – часто повторял мне Фармер. Я уже догадывался, что он и меня пытается приобщить к своим традициям.) Первым делом он торопливо спросил, как дела у малыша.
Круглолицый мальчишка выглядел совершенно здоровым. Он стоял рядом с отцом. Когда Фармер присел на корточки и протянул к нему руки, карапуз неуклюже, вразвалочку двинулся вперед на пухлых ножках, врезался, хохоча, в Фармера, развернулся и резво затопал обратно к папе. Радостное зрелище.
– Кристиан! Ну ты даешь! – воскликнул Фармер. Его щеки залил яркий румянец. Он приветствовал старых друзей широченной улыбкой. Затем повернулся ко мне и тихо сказал по-английски: – Страшная была история.
Почти два года назад врач из этой больницы позвонил в штаб-квартиру “Сосиос” Хайме Байоне: “У нас тут есть ребенок, которому нужна ваша помощь”. К тому моменту Кристиан уже несколько месяцев лежал в постели. Студентка Гарвардской медицинской школы Джен Фьюрин, работавшая вместе с Соней в Карабайльо, отправилась в больницу. Ей показали трехлетнего малыша, весившего меньше десяти килограммов. Дышал он с большим трудом, кислородная маска до крови натерла кожу вокруг носа. Туберкулез захватил оба легких, начинал подтачивать позвоночник, покрыл трещинами трубчатые кости ног. Кристиан полгода проходил стандартный краткий курс химиотерапии. Потом в лаборатории вырастили культуру из его бацилл, и выяснилось, что они устойчивы к ряду препаратов. Этими самыми препаратами его и пичкали снова, когда приехала Джен. Соблюдая las normas, врачи запустили плановую повторную терапию, рекомендованную ВОЗ.
Собственно лечением Кристиана занималась в основном Джен. А Фармер разработал для него график приема и дозировку препаратов. Он консультировался как с перуанскими, так и с американскими фтизиатрами, но о лечении детей препаратами второго ряда вообще никто в мире ничего толком не знал. “Вот вам заимствованная мудрость. Нельзя давать детям ни фторхинолоны, ни этамбутол в больших дозах. Откуда такие сведения? Фторхинолоны разрушают хрящи у щенков биглей. Высокие дозировки этамбутола сопровождаются потерей цветового зрения у небольшого процента взрослых. Дети не могут самостоятельно определить у себя потерю цветового зрения, поэтому использовать препарат не следует. Большей частью вокруг этого и вертелась дискуссия. А тут у нас ребенок в буквальном смысле растворяется на глазах, по мере того как МЛУ-ТБ пожирает его ткани и кости”.
Фармер рекомендовал “эмпирический” режим – то есть основанный на его тщательно просчитанных предположениях, – состоящий из этамбутола в высоких дозировках и четырех препаратов второго ряда, включая один из фтор-хинолонов. Чтобы получить официальное одобрение, он сообщил перуанским врачам, что обсуждал вопрос со всеми экспертами мирового масштаба и изучал литературу по педиатрии. Он сказал правду, умолчав лишь о том, что в упомянутой литературе нет ни слова о лечении МЛУ-ТБ. “Тут требовались просто знания об инфекционных заболеваниях”, – объяснял он мне. Дозировки он рассчитывал, исходя из рекомендаций производителей лекарств, где ничего не говорилось о детях, но указывалось количество миллиграммов препарата на килограмм веса больного. Он часто поступал таким образом, сталкиваясь с детскими заболеваниями в Гаити. Для Кристиана он советовал высокоинтенсивный курс препаратов второго ряда. Слишком интенсивный, сказал один из американских врачей, консультировавших Фармера. “Который, позволю себе заметить, ни разу в жизни не лечил ребенка от МЛУ-ТБ”. У перуанцев тоже не было опыта в подобных ситуациях. Они приняли рекомендации Фармера. Малыш, без сомнения, умирал, причем умирал в мучениях. Так почему не попробовать?
По электронной почте Фармеру сообщали, что у Кристиана все налаживается, но до какой степени – это он точно узнал только здесь, в больничном коридоре. Мальчик нормально бегал! Фармер улыбался во весь рот, заливаясь краской от высокого лба до шеи и, дорисовало мое воображение, дальше вниз, от галстука до самых пяток. Малыш хихикал, вперевалочку топоча перед ним туда-сюда, отец с высоты своего роста взирал на сына сияющими глазами, и мать, робко выглядывая из-за угла, тоже улыбалась.
Но тут пришлось закругляться. Кристиан сегодня был тут не главным пациентом, которому требовалась консультация Фармера. Этот визит инициировал Хайме Байона в качестве любезности одному перуанскому фтизиатру, у которого заболела дочь. Сопровождающие отвели нас в комнату с беленым потолком и бетонными стенами, где Фармера ожидали врачи и маленькая девочка в платьице. В стоящий у стены проектор были вставлены слайды рентгеновских снимков и компьютерных томограмм грудной клетки. Фармер раскланялся с врачами, извиняясь за опоздание, и принялся вместе с ними рассматривать слайды. Малышка страдала от туберкулеза легких.
– Инфильтраты. Нехорошо, – сказал Фармер врачам по-испански.
Он прочел отчет Массачусетской лаборатории, не оставлявший никаких сомнений. Я заглянул в документ через его плечо: в списке из пяти препаратов первого ряда напротив каждого пункта стояла буква R, означающая резистентность. Дочка врача прошла DOTS и несколько месяцев повторного курса лечения. То есть ей давали ровно те же самые препараты, все пять.
– Кошмар какой-то, – буркнул мне Фармер краем рта по-английски.
Затем он опустился на колени и прослушал грудную клетку ребенка через фонендоскоп. Поднял глаза, улыбнулся ее отцу:
– У нее астма. Точно как у меня. Она прелесть, как моя Катрин.
Фармер встал и завел по-испански длинное выступление, адресованное отцу девочки и остальным врачам:
– Мне известно не больше, чем медицинскому консилиуму, моим уважаемым коллегам, здесь присутствующим. У девочки хрипы, ее КТ с февраля выглядит все хуже. Это внушает опасения.
Он перечислил варианты действий. Можно заново провести лабораторные анализы – вдруг в Массачусетсе ошиблись, хотя у них практически безупречная репутация, подтвержденная на деле. Либо можно подождать и понаблюдать за состоянием ребенка, хотя и так ясно, что оно ухудшается. Либо же можно довериться лабораторным анализам, прервать повторную терапию DOTS и применить любимый метод Фармера – детский режим лечения препаратами второго ряда. Он признался, что предпочел бы последний вариант:
– Я в этом вопросе пристрастен, – снова улыбка слушателям, – как вы помните по опыту нашей совместной работы плечом к плечу.
Под масками профессиональной вежливости здесь, похоже, бушевали эмоции. Отец маленькой пациентки стоял у нее за спиной. Он неизменно улыбался, держал спину прямо. У меня сложилось впечатление, что он всеми силами старается сохранять подобающее врачу самообладание – в конце концов, он ведь тоже фтизиатр. Но когда Фармер говорил с ним о дочери, он дотрагивался до ее плеча и, казалось, забывал дышать. “Он знал, – позже объяснит мне Хайме Байона. – Он давным-давно знал, что у нее МЛУ-ТБ”. Но он не посмел пойти наперекор строгим нормам государственной программы. Почему – можно себе представить. Он рисковал бы работой, а устроиться на подобную работу в Перу настолько трудно, что рисковать ею означало бы поставить под угрозу выживание всей семьи. Хайме взял дело в свои руки. Он отправил мокроту девочки в Бостон, в обход государственной лаборатории, а когда пришли результаты, отец малышки, старый друг Хайме, умолял его – умолял, подчеркивал Хайме, – чтобы ее осмотрел Фармер. Потому что многие перуанские врачи теперь высоко ценили мнение Пола.
Отец, как и весь медицинский консилиум, заранее знал, что Фармер предпишет лечение препаратами второго ряда. (“Они просто ждали, чтобы Пол произнес это вслух”, – говорил потом Хайме. И действительно в скором времени врачи посадили девочку на режим Фармера, и она начала поправляться, с минимальными побочными эффектами.) Так что консультация была лишь спектаклем. Фармер с блеском доиграл свою роль до конца. Обещал прислать отцу свои выводы и рекомендации по электронной почте. Перечислил, загибая пальцы, причины для оптимистических прогнозов:
– Возможно, рифабутин еще на ее стороне. Она в хорошей форме. Повреждения легких пока незначительны. Ее резистентность не абсолютна. Мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы помочь вам.
Вскоре, расшаркавшись и раскланявшись со всеми, рассыпавшись в благодарностях и наилучших пожеланиях их прекраснейшим женам и почтеннейшим мужьям, Фармер удалился.
Когда мы выходили из больницы, он сказал мне:
– У девчушки хрипы, КТ показывает ухудшение состояния. Ей дают все пять препаратов первого ряда, к которым ее ТБ устойчив. А мне приходится изображать удивление, мол, что же это она не поправляется. Вместо того чтобы закричать: “Ребята, вы в своем уме?!” Они не желают верить в МЛУ-ТБ. Тонкость в том, что нам надо налаживать с ними отношения. Стоит их обидеть – и пиши пропало. Они хотят поступать правильно. Однако им приходится выполнять спущенные сверху инструкции.
Но Кристиан, маленький мальчик в коридоре, являл собой красноречивый аргумент в пользу придания нормам некоторой гибкости.
– Еще несколько таких пациентов, как Кристиан, и они одумаются, – продолжал Фармер, пока мы шли через парковочную площадку к машине “Сосиос”.
Открывая дверцу, он развернулся и увидел маму Кристиана, женщину в футболке с Микки-Маусом. Она пришла за ним, держась на расстоянии. Но теперь приблизилась и, опустив глаза, произнесла по-испански:
– Огромное вам спасибо.
Фармер на миг отвел взгляд, стрельнув глазами направо и налево. Я уже видел такое в палатах Бригема: как он смотрит на пациента, потом быстро на экран телевизора и снова на пациента, словно бы отключается, чтобы включиться вновь целиком и полностью. Пристально глядя на женщину, он тихо ответил на ее языке:
– Это честь для меня.
Глава 18
В апреле 1998 года в Американской академии искусств и наук в Бостоне состоялось специальное заседание ТБ-сообщества – заседание, на котором были представлены первые результаты маленького проекта по лечению МЛУ-ТБ в Перу. Идея мероприятия принадлежала Говарду Хайатту.
На данный момент “Сосиос” лечили более сотни больных МЛУ-ТБ в северных трущобных районах Лимы. Первые пятьдесят три человека проходили терапию почти два года, и результаты уже имелись. Судя по всему, 85 процентов больных выздоровели. Пациенты “Сосиос” в среднем были моложе и менее подвержены сопровождающим заболеваниям, чем пациенты доктора Айзмана в Денвере, а при многих недугах молодость и отсутствие коморбидности способствуют скорейшему исцелению. Тем не менее их показатели вызывали уважение. “Потрясающий результат”, как сказал Говард Хайатт. Весть должна облететь мир, провозгласил он. Помимо прочего, он надеялся, что, если весть услышат нужные люди, ПВИЗ, возможно, получат дополнительные источники финансовой поддержки для своего проекта.
На заседание согласились прийти многие эксперты по ТБ с мировым именем, в том числе и Арата Кочи, глава программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом. Фармер его обхаживал. А еще, что не менее важно, Кочи учился у Говарда Хайатта в Гарвардской школе здравоохранения.
Кочи годами надрывался, чтобы убедить мир в необходимости DOTS, и теперь, насколько я понял его мотивы, стремился замять вредные для репутации моменты, которые Фармер как раз начал предавать огласке. Еще до заседания он решил, что ВОЗ, вероятно, следует включить в свою стратегию лечение МЛУ-ТБ в регионах, где у больных наблюдается повышенная устойчивость к препаратам. Один из его подчиненных даже придумал новое емкое название, DOTS-plus.
Несколько лет спустя Арата Кочи объяснял мне на своем лаконичном английском (его родной язык – японский): “В основе МЛУ-ТБ ошибки человека. Не можешь лечить его правильно – не лечи. Второе: многие страны не могут себе позволить. Трудно, дорого. Мы, конечно, используем МЛУ-ТБ как такое пугало. Но обзор программы в Южной Африке показал, что 34 процента всего бюджета на ТБ тратятся на несколько случаев МЛУ, а у них и DOTS работает паршиво. Мы сказали: пустите деньги на DOTS. И тут Пол Фармер. Совсем другой подход. Как у ВИЧ-активистов. Хорошие врачи без должного опыта в общественном здравоохранении. Сидящий передо мной пациент – самое главное. Неразрешимая дилемма. Они весьма убедительны, и вопрос такой эмоциональный. Как реагировать? Труднейшая для меня задача. Эти ребята дерут глотки. Готовы пристрелить нас. Политика диктует дать отпор. Обязательно. С другой стороны, пора вступать в диалог”.
В своем вступительном слове на заседании Кочи употребил термин DOTS-plus. “Великолепно! Просто блеск!” – говорил ему Джим Ким позже, за коктейлями.
Так что кое-какие надежды Фармера и Кима ТБ-сообщество оправдало еще до заседания. Вспоминая обо все этом через несколько лет, Кочи с улыбкой произнес: “DOTS-plus. Мир меняется. Нам надо меняться тоже. Не можешь победить их – объединяйся с ними”. И добавил: “Тогда сможешь хоть в какой-то мере их контролировать”.
Кочи пошел на стратегическую уступку. По сути, он позволил обсуждать МЛУ-ТБ. Но сама дискуссия еще только начиналась.
Когда собираются экспертные советы по международному здравоохранению, будь то в Швейцарии, Индонезии или Бостоне, они создают в помещении особую атмосферу. Комната с огромным столом или множеством столиков, выстроенных гигантским прямоугольником, вода в бутылках, карточки с именами на местах. Под звяканье кофейных чашек, под шорох и щелканье сменяющихся в проекторе слайдов эксперты зачитывают подготовленные реплики, пересыпанные терминами и акронимами, то и дело слышатся старые клише вроде “Лучшее – враг хорошего”. В коридорах и вестибюлях порой слышишь, как, например, итальянский специалист по туберкулезу говорит о канадском коллеге: “Я ему телесных повреждений нанесу!” Но сами заседания обычно проходят спокойно. Легко отвлечься под ровный гул голосов, представляя себе акценты в цветовых гаммах – розово-фиолетовый у выходцев с Карибского архипелага и Индостана, черно-белый у японцев, – и забыть о том, что на самом деле здесь выписываются рецепты, которые, возможно, повлияют на миллиарды человеческих жизней.
Хайатт, худой и высокий, вел заседание в своем обычном размеренном темпе, словно взвешивая на языке каждое слово. Атмосфера была благопристойная, лишь изредка вспыхивали жаркие споры по научным вопросам. Но во второй половине первого дня разгорелась схватка иного плана, когда бородатый мужчина по имени Алекс Гольдфарб наклонился к своему микрофону и с ярко выраженным акцентом произнес:
– Значит, так. Россия – это туберкулезный кошмар.
Гольдфарб, неопрятного вида микробиолог, в прошлом отказник, не смог эмигрировать накануне развала СССР. Теперь он работал на фонд Сороса и занимался эпидемией туберкулеза в России. Сто тысяч заключенных в российских тюрьмах больны ТБ, рассказывал Гольдфарб, и большинство из них, если не всех, лечат наихудшим из возможных способов – одним-единственным препаратом, поскольку ни на что другое правительство денег не дает.
– Ну вот. Кошмар. Значит, большинство из этих ста тысяч заключенных, скорее всего, умрут, так и не узнав, МЛУ-ТБ у них или нет.
Его команда пыталась разобраться в вопросе и “применить хоть сколько-нибудь рациональный подход”. В нескольких местах они готовились запустить демонстрационные проекты – проекты DOTS. Пока никто не знал, сколько русских страдают МЛУ-ТБ, но в тюрьмах процент был, без сомнения, высок.
– Ну так что с ними делать? – спросил Гольдфарб и сам себе ответил: – Лично я ни малейшего понятия не имею. – Он обратился к Фармеру: – И мне очень хотелось бы знать, сколько препаратов вы давали своим пятидесяти трем пациентам и сколько это стоило. Вероятно, мы могли бы попробовать лечить МЛУ-ТБ, по крайней мере в тюрьмах. Вряд ли это возможно в населенных пунктах, но хотя бы в тюрьмах, если найдутся деньги. Вопрос только в цене.
Фармер описал самый удачный случай, но в конце концов ему пришлось назвать реальные цифры.
– Я не говорю, что это недорого. Затраты были очень высоки. Я не говорю, что это легко. Но я повторю вслед за доктором Байоной, что у нас получилось преодолеть упомянутые препятствия ради небольшого числа наших пациентов, а это дает основания надеяться: рано или поздно лечение станет возможным…
Союзница ПВИЗ подняла руку. Если мир продолжит игнорировать МЛУ-ТБ, стоимость лечения только возрастет. Но другой эксперт возразил:
– Каких бы заманчивых примеров ни приводила нам эта или любая другая группа, сомневаюсь, что нам ни с того ни с сего привалит куча денег – бери не хочу.
Некоторые стали высказываться на повышенных тонах. Еще один сторонник ПВИЗ заявил:
– По-моему, это не совещание спонсоров, и от нас никто не ждет, что мы выйдем отсюда, взяв на себя финансовые обязательства. Наша задача – привлечь к проблеме внимание мировой общественности.
Несколько молодых пвизовцев, присутствовавших на заседании, зааплодировали.
Потом слово опять взял Гольдфарб. Его голос звучал спокойно, но едко.
– Хочу поделиться с вами простыми фактами. У меня есть шесть миллионов долларов. На три миллиона я могу обеспечить DOTS для пяти тысяч российских заключенных. Допустим, десять процентов из них устойчивы. Значит, четыре тысячи пятьсот человек вылечатся, а пятьсот слягут с МЛУ-ТБ и умрут. Ничего не поделаешь. Ну так вот. У меня есть выбор. Выбор такой: использовать оставшиеся три миллиона на лечение пятисот больных МЛУ-ТБ или вылечить еще пять тысяч в другом регионе. Я работаю с ограниченными ресурсами. Так что вопрос стоит не “как соблюсти права этих пяти сотен?”, а “пятьсот или пять тысяч?”. Очень насущный для меня вопрос, потому что миллионов только шесть. И еще проблема: если русским станет известно, что я трачу по шесть тысяч долларов на каждого больного МЛУ-ТБ в тюрьмах, когда вокруг умирают десятки тысяч, они мне скажут, что я строю золотые дворцы для немногих избранных. Так что для тех из нас, кто обязан принимать подобные решения, вопрос чрезвычайно серьезный.
Нервозность в зале граничила с паникой. Хайатту пришлось постучать председательским молоточком. Он осведомился у Гольдфарба, не видит ли тот возможности использовать часть денег Сороса – например в пилотном проекте, – чтобы исследовать влияние МЛУ-ТБ на стратегию DOTS.
– Ну извините, – парировал Гольдфарб. – Когда речь идет о господине Кочи, который не эксперименты ставит, а борется по долгу службы с ТБ в глобальных масштабах, приоритеты можно расставлять иначе. А я не могу себе позволить пилотного проекта. У нас проект не пилотный.
– Если не ошибаюсь, – благодушно произнес Хайатт, – мой бывший студент доктор Кочи намерен бороться с туберкулезом не только в 1998 и 1999 годах, поскольку осознает, что не справится с проблемой на всей планете, но рассчитывает одолевать ее в течение десятилетия, а то и нескольких.
Молодые пвизовцы прожигали Гольдфарба гневными взглядами. Однако он привел довод, на который им рано или поздно придется ответить.
Джим Ким в своем вступительном слове на следующий день для начала применил риторическое мастерство. Его часто спрашивали, поведал он собравшимся, почему такая маленькая организация, как ПВИЗ, взвалила на себя столь дорогостоящую и трудоемкую задачу в Перу. Верно, тут есть чему удивляться.
– Нам действительно пришлось принять решение, что мы не покормим, например, еще четыре тысячи детей в Гаити. А если кто-то из вас бывал в Гаити, он помнит, сколь глубокое сострадание внушает положение безземельных крестьян на Центральном плато.
Однако, продолжал Джим, у ПВИЗ была мечта. Они мечтали, что “однажды нас пустят в этот зал”, что состоится “звездный уикенд ТБ”. Он пояснил:
– Мы взялись за этот проект, рассуждая так: если мы докажем, что организованное лечение МЛУ-ТБ в рамках сообщества возможно, у нас появится шанс сотрудничать с такими людьми, как вы. То есть действительно расширить ресурсы для решения проблемы, изводящей людей, которым мы служим.
Некоторые докладчики говорили о необходимости стимулировать “политическую волю” к борьбе с ТБ, словно бы подразумевая, что каждая страна должна решать этот вопрос самостоятельно. Но, возражал Джим, вряд ли стоит рассчитывать на “политическую волю” в государствах вроде Конго, где последний президент украл около 30 процентов кредита, предоставленного иностранными державами и Всемирным банком. Для стран, подобных Конго, деньги на лечение ТБ и МЛУ-ТБ придется брать из других источников.
– В мире сегодня больше миллиардеров, чем когда-либо прежде, – заявил Джим. – Речь идет о невиданных доселе состояниях. А в нашей академической среде жалобы на нехватку средств я слышу только тогда, когда разговор заходит о помощи бедным.
Перуанский проект можно воспроизвести и в других местах, но для этого необходимы, помимо прочего, “заступничество научных корифеев и поддержка ТБ-сообщества”.
Под конец Джим сказал:
– Позвольте в завершение моей скромной речи здесь, на звездном уикенде ТБ, перефразировать нашу с Полом коллегу по цеху, известного антрополога. Маргарет Мид однажды изрекла: “Никогда не следует недооценивать способность малой группы преданных делу лиц менять мир”. – Он сделал паузу. – На самом же деле только они его и меняют.
Глава 19
Таким образом, многие влиятельные лица, определяющие политику ТБ-сообщества, узнали и о блестящих клинических результатах перуанского проекта, и об эпидемиологических доказательствах несостоятельности DOTS в регионах с высоким уровнем лекарственной устойчивости. По итогам заседания была назначена – разумеется! – комиссия, призванная оценить, насколько осуществимы программы DOTS-plus. Но споры вокруг лечения МЛУ-ТБ еще далеко не закончились.
На пороге XXI века в сфере международного здравоохранения преобладали настроения, примерно противоположные оптимизму Джима Кима. Заимствованная у философов-утилитаристов XIX столетия установка требовала приносить наибольшее благо наибольшему количеству людей, и говорили о ней на языке реализма. Ресурсы на планете ограниченны. Государства, где ресурсы не просто ограниченны, но скудны, обязаны извлекать максимальную пользу из того немногого, что имеют. Другие страны и международные учреждения могут оказывать им помощь, однако на сегодняшний день, если рассчитываешь получить от крупных спонсоров денег на здравоохранительные проекты в бедных регионах, если хочешь, чтобы тебя принимали всерьез, твои предложения должны пройти испытание под названием “анализ экономической эффективности”.
Общий принцип сначала применялся в инженерном деле, затем на войне и в медицине. Рассчитывали стоимость здравоохранительного проекта либо медицинской процедуры и пытались перевести в цифры эффективность данной меры, потом сравнивали результаты у конкурирующих проектов или процедур. Фармер и Ким проводили подобные подсчеты, когда решали, что дальше делать в Канжи. Но высочайшие советы по международному здравоохранению, как им казалось, часто использовали этот аналитический инструмент для рационализации иррационального статус-кво: мол, в таких местах, как Нью-Йорк, лечение МЛУ-ТБ экономически эффективно, а в таких, как Перу, – нет.
К моменту встречи в Бостоне перуанский проект начал задавать новую парадигму. Применить к нему анализ экономической эффективности было непросто как с философской точки зрения, так и с практической. Объявляя лечение МЛУ-ТБ в целом неэффективным, Всемирная организация здравоохранения не основывалась на каких-либо серьезных полевых испытаниях. Теперь же Ким, Фармер, Хайме Байона и другие сотрудники “Сосиос” доказали, что эффективное лечение возможно, даже в трущобном районе в относительно бедной стране. Эксперты по борьбе с туберкулезом объявляли лечение МЛУ-ТБ чрезмерно затратным, но никто не пытался сократить главную статью расходов – дорогостоящие лекарства. Вскоре после бостонского заседания Джим Ким посетил штаб-квартиру ВОЗ в Женеве. Ни один из тех, с кем он там беседовал, даже не знал о том, что патенты на препараты второго ряда всех классов, кроме одного, давно истекли. И похоже, никого не заинтересовала его идея: “Мы можем снизить цены на девяносто – девяносто пять процентов”.
Как этого добиться, Джим пока толком не представлял. Поставь цель, потом придумывай средства ее достижения – такова была его стратегия. Фармер одобрительно называл ее “стратегией исполинов”.
Джим родился в Южной Корее, а рос в 1970-е в Маскатине, штат Айова. Сколько он себя помнил, городок всегда казался слишком тесным для его амбиций. Он едва замечал Миссисипи, протекающую через очаровательный старый центр, ароматы полей летними ночами и даже знаменитый местный деликатес – маскатинскую дыню. Свежие початки кукурузы он чистил лишь однажды. Правда, как всякий школьник в городе, он помнил, что Марк Твен хвалил закаты в Маскатине, но лишь спустя десятилетия узнал, что Твен просто так подшучивал над своей привычкой поздно вставать: “Закаты, говорят, тоже великолепны. Не знаю”.
Отец Джима, пустив в ход хитрость и обаяние, вырвался из Северной Кореи и обзавелся частной практикой на Мэйн-стрит в Маскатине, где с гордостью работал пародонтологом. Мать, уроженка Южной Кореи (дед служил министром при последнем корейском монархе), училась в Объединенной теологической семинарии с Рейнхольдом Нибуром и Паулем Тиллихом, а потом много лет оставалась маскатинской домохозяйкой. Миниатюрная, элегантная, она прохаживалась по местным площадкам для гольфа, пока дети были слишком малы, чтобы играть без взрослых. Она старательно вникала в американские виды спорта, желая понимать, в какой среде растут ее отпрыски. Всех троих она при каждом удобном случае возила в Де-Мойн и Чикаго, чтобы запомнили: мир больше, чем кажется из Маскатина. На собственном примере она обучала детей искусству полемики, усевшись с ними за кухонным столом. Ее супруг, к которому пациенты являлись с раннего утра, удалялся в спальню, ворча: какие такие разговоры могут быть важнее полноценного ночного сна? Мать велела детям жить “как будто для вечности”, держала их в курсе текущих событий, разъясняла Джиму расстраивавшие его картины голода и войны из телевизионных новостей. Джим еще в детстве мечтал стать врачом и облегчать человеческие страдания, а поскольку естественные науки давались ему прекрасно, мечта со временем крепла.
В школе он был куортербеком футбольной команды, разыгрывающим защитником баскетбольной и президентом класса; он же произносил прощальную речь на выпускной церемонии. Но за исключением владельцев китайского ресторана Кимы были единственной азиатской семьей в городе. Когда они гуляли по торговым центрам Айовы, взрослые пялились на них, а детишки бежали следом, самые смелые с воплями “кий-йя!” изображали приемы карате. Стесняясь родителей-корейцев, Джим чувствовал себя ужасно одиноким. “Давай, Хокай!” – подбадривал университетские спортивные команды его отец, горячий патриот Айовы, переделывая кричалку на корейский манер. “Не так, пап, – поправлял его Джим. – Правильно: Хокайз”.
Он поступил в Университет Айовы и наслаждался свободой, пока не узнал, что университеты Лиги плюща лучше. Перевелся в Браун, где нашел организацию под названием Центр третьего мира – и стал ее директором. Порвал со своей девушкой, католичкой ирландского происхождения, внезапно решив, что не должен встречаться с белыми женщинами. Заводил друзей среди чернокожих, латиноамериканцев и азиатов. Освоил “сутенерскую походочку”.
В “родительские выходные” Джим с друзьями одевались в черное и расхаживали по кампусу шеренгой человек из тридцати – афроамериканские и латиноамериканские студенты плюс один кореец – иногда с песнопениями, иногда в зловещем молчании, с удовольствием наблюдая, как некоторые родители провожают их изумленными или испуганными взглядами.
До поступления в Браун Джим не знал, что США интернировали граждан японского происхождения во время Второй мировой войны. Он почитал литературу по вопросу, потом начал публично выступать на эту тему. Его увлекла идея “расовой солидарности” азиатов – тогда он еще не понимал, сколько сложностей таит в себе подобная концепция. Например, что корейцам вроде как полагается ненавидеть японцев, он выяснил лишь много позже. Время от времени закрадывались сомнения. У него складывалось впечатление, что для других студентов Брауна из азиатских семей расовая идентичность более или менее сводилась к привычке есть палочками и браку с представителем своей национальности, а главная политическая проблема заключалась в “стеклянном потолке” – азиатов пока еще не допускали на высшие административные должности в государственных учреждениях. Но ощущение принадлежности к угнетаемому меньшинству было очень заманчиво. Джим решил выучить язык своей исторической родины. “Я хотел знать корейский, быть рядом со своим народом, быть настоящим представителем третьего мира, чтобы иметь право высказывать всякое”. Он получил стипендию на поездку в Сеул и наткнулся на интересную историю, связанную с корейской фармацевтической промышленностью, для своей диссертации по антропологии. В Сеуле Джим занимался исследованиями и всеми силами старался вписаться в обстановку – ходил по барам с новыми корейскими друзьями, развлекался караоке, всякий раз предварительно разучивая в ванной тексты песен, таких как “Мой путь”.
Уезжая из Айовы, он ожидал (вполне естественно), что этническая принадлежность станет главной проблемой его жизни. Но когда он вернулся из Кореи в Гарвард, чтобы продолжать обучение в медицинской школе и писать диссертацию, “политика расовой идентичности”, как выражались в академических кругах, уже изрядно ему наскучила и даже вызывала легкое отвращение, ибо казалась лишь упражнением в эгоизме. “Я обнаружил, что в Южной Корее все в полном порядке, а от меня корейцам нужны заявки на гранты, чтобы они могли приезжать учиться в американских университетах. Посмотрел я на их студенческие движения. Все они ориентированы на корейский национализм, лишь бы пошуметь”. К моменту знакомства с Фармером Джим был готов сменить направление. Как-то раз во время очередного разговора в старом однокомнатном офисе ПВИЗ Фармер сказал ему: “Поехали в Гаити, и увидишь, что ты блан – белый, белее не бывает”. Джим вспомнил своих чернокожих, латиноамериканских и азиатских приятелей из Брауна и представил себе, как разозлило бы их подобное заявление.
Он признался другу, что оставил позади “ненависть к себе и бегство от этнической принадлежности”, так мучившие его в Маскатине. “Хорошо, что ты все это осознал, – ответил Фармер, – но пора двигаться дальше. Вот какие у тебя теперь планы? Стать первым азиатом, совершившим какую-нибудь глупость вроде прогулки по Луне?”
Очень скоро эти беседы подвели Джима к решению посвятить свою жизнь фармеровской преференции для бедных.
Похоже, Джим всю жизнь хватался за каждую новую идею, какую находил масштабнее и лучше прежних. Возможно, так сказалась на нем юность, проведенная в Маскатине под крылом мамы-космополитки. “Ты не кореец, ты с-места-в-карьерец”, – пошутила однажды Офелия. Сам Джим говорил: “Обычно, стоит мне как следует обдумать проблему, и я уже чувствую, что она решена”. Впрочем, он был склонен к художественным преувеличениям, даже когда рассказывал о себе. В конце концов, Джим подвизался в ПВИЗ уже десяток лет и успел за это время переделать для них немало черной работы. Его отличал редкостный энтузиазм. Он взвешивал факты и возможности так, словно факт и возможность – одно и то же. Много молодежи присоединилось к ПВИЗ, наслушавшись его речей. Изменить мир? Конечно, сможем. Он правда в это верил, правда был убежден, что “малая группа преданных делу лиц” на такое способна. О ПВИЗ он любил говорить: “Люди считают нас мечтателями. Они не догадываются, что мы – безумцы”.
По опыту своих исследований в Корее Джим уже знал, что цена лекарства далеко не всегда зависит от его полезности или от стоимости его производства и распространения. Зачастую цена высока лишь потому, что препарат выпускает одна-единственная компания. Обеспечить себе монополию фирма может посредством патентов, но с противотуберкулезными препаратами второго ряда дело обстояло иначе. Во всем мире МЛУ-ТБ страдали примерно 750 тысяч человек. Чтобы вылечить их всех, потребовалось бы очень много лекарств – из-за длительности терапевтического курса. Так что потенциальный рынок был велик, однако большинство больных жили в нищете, поэтому реальный спрос оставался низким. Немногочисленные компании, производившие необходимые лекарства, могли, следовательно, назначать цену по своему усмотрению.
Взять, к примеру, “Эли Лилли” и препарат второго ряда капреомицин. Фармер долго изводил администрацию, пока компания не начала наконец продавать капреомицин в Перу – по 21 доллару за флакон. В бостонском Бригеме Фармер и Ким покупали его по 29,90. Потом они выяснили, что в Париже флакон капреомицина стоит всего 8,80 долларов, и попытались закупить его там, но им сказали: нельзя.
– В мире дефицит капрео, – объяснил Фармеру по телефону парижский торговый агент.
– Почему? – спросил Фармер.
– Похоже, сложилась аварийная ситуация.
– Где?
– В Перу.
Джим рассказал эту историю Хайатту. “Нарочно цены взвинчивают, как я погляжу”, – заметил тот. Вообще-то так называемая ценовая дискриминация – обычная практика крупных фармацевтических компаний. В США их продукция стоит намного дороже, чем в любой другой стране. Но Хайатт подумал: вдруг из желания покрасоваться перед мировой общественностью “Лилли” согласится пожертвовать лекарства для перуанского проекта. Он знал там одного из членов совета директоров. Хайатт с Джимом принялись обрабатывать компанию, а параллельно Джим занялся и другими аспектами проблемы.
Он уговорил ВОЗ устроить встречу представителей фармакологических компаний, дабы стимулировать расширение производства препаратов второго ряда. Таким образом он надеялся создать конкуренцию, которая приведет к снижению цен. Потом ВОЗ дала задний ход, и Джим сам провел встречу в Бостоне. Он не чурался гипербол и драматических эффектов. В какой-то момент, описывая огромный потенциальный спрос на препараты второго ряда, он, дабы произвести впечатление на фармакологов, показал слайд со списком цифр. Сами-то по себе цифры были точные, однако упомянутого спроса в реальности не существовало, поскольку никто из нуждающихся в программах лечения МЛУ-ТБ не располагал средствами на покупку лекарств. Тактическая уловка сработала не совсем так, как рассчитывал Джим. В аудитории сидел молодой голландец по имени Гвидо Баккер, работавший в некоммерческой организации IDA (International Dispensary Association, Международная ассоциация бесплатного распространения медикаментов). Организация специализировалась на снижении цен на основные лекарственные средства, в которых наиболее остро нуждаются бедные страны. Баккер мигом раскусил хитрость Джима. Но представители коммерческих фармакологических компаний его раздражали – они принялись возражать, что, мол, препараты второго ряда должны оставаться дорогими. В конце концов Баккер объявил со своего места: “IDA приложит все усилия, чтобы снизить цены при помощи производителей дженериков”[5].
Стратегия голландцев предписывала игнорировать многонациональные корпорации-гиганты, полагающиеся в основном на исследования, торговые марки и патенты, но работать с легионом фирм поскромнее, производящих и продающих по куда более доступным ценам уже изобретенные лекарства под другими названиями (например, ацетаминофен вместо тайленола в США). Эта идея понравилась Джиму больше собственной. Возможно, любовь к новым “идеям получше” – его главная слабость, однако иногда она оказывалась весьма кстати. Происхождение идеи его не волновало. Он постоянно копался в книгах по корпоративному управлению, охотясь за полезными подсказками от капиталистов. План Гвидо Баккера он принял с радостью. В итоге поиски производителей непатентованных препаратов второго ряда взяли на себя IDA и солидная организация “Врачи без границ”. IDA даже уговорила несколько компаний заняться выпуском дженериков, обязавшись самостоятельно контролировать качество и обеспечивать распространение. А “Врачи без границ” дали денег на первые закупки.
Но сначала следовало предпринять еще кое-что. Задача Джима представляла собой логистическую головоломку. Чтобы снизить цены на препараты, следовало доказать, что их будут использовать многие ТБ-проекты. Чтобы их могли использовать многие проекты, следовало снизить цены. Чтобы опять же снизить цены, требовалось участие производителей дженериков. А они бы приняли участие гораздо охотнее, если бы ВОЗ включила препараты второго ряда в свой официальный перечень основных лекарственных средств. Вот только редко используемые лекарства основными не являются по определению. Стремясь разорвать этот порочный круг, Джим начал лоббировать ВОЗ на предмет внесения препаратов в список.
Всемирная организация здравоохранения служит координатором практически всех министерств здравоохранения планеты. Она задает направления и стандарты, официально рекомендует те или иные подходы, выступает в роли консультанта. Именно туда стекается вся информация о состоянии здоровья человечества, а также немалое количество жалоб. Некоторые из важнейших своих функций, такие как сбор и распространение эпидемиологических данных в мировом масштабе, ВОЗ выполняет хорошо. Но у нее вечно не хватает денег, и она печально известна запутанностью своих бюрократических процедур (неизбежность для большинства подразделений ООН). Конфликтные ситуации ее обычно парализуют. Критики организации утверждают, что у нее два девиза: “Помедленнее” и “Мы не виноваты”. Даже самый сильный союзник Джима в рядах ВОЗ перепугался, когда знаменитые эксперты по ТБ стали писать в Женеву, что не могут одобрить внесение препаратов второго ряда в перечень основных лекарственных средств. Некоторые считали, что план не сработает. Другие выражали опасение, что, если таки сработает и цены упадут, препараты станут слишком легкодоступны.
Основания для беспокойства и впрямь имелись. В суровой реальности было много мест, лишенных даже элементарного медицинского обслуживания, но также немало клиник и больниц, где работали невежественные, безалаберные, ленивые сотрудники. В суровой реальности некоторые врачи и медсестры спекулировали лекарствами на черном рынке, отчаявшиеся пациенты продавали свои лекарства, чтобы купить еды, недалекие фармацевты подмешивали в противотуберкулезные препараты микстуру от кашля. Начать распространение препаратов второго ряда в подобной среде означало бы породить устойчивые штаммы МБТ, которые не истребишь никакими лекарствами.
Но все это и так происходит, вновь и вновь повторял Джим. Он рассказывал о перуанских пациентах, обращавшихся в “Сосиос” с уже приобретенной резистентностью к препаратам второго ряда. У некоторых из них ТБ оказался устойчив вообще ко всем известным противотуберкулезным лекарствам. Предотвратить расползание беды можно было лишь одним способом – дополнив DOTS добротной, хорошо финансируемой программой лечения МЛУ-ТБ. Твердо веря в этот аргумент, Джим в то же время понимал, что должен будет изобрести надежный механизм контроля над подешевевшими препаратами. Они с Полом как раз недавно послали одного молодого сподвижника в Женеву, обрабатывать ВОЗ. Джим позвонил ему и объяснил насчет необходимости контрольного механизма. “Поищи-ка прецедент”, – велел он. Несколько дней спустя парень по телефону доложил о находке: был такой международный орган под названием Комитет зеленого света, созданный для контроля вакцинации против менингококковой инфекции.
– Отлично! – обрадовался Джим. – Давайте поступим так же. Назначим комитет, чтоб контролировал препараты второго ряда.
– А как мы его назовем? – спросил молодой пвизовец.
– Комитет красного света не годится, – ответил Джим. – Может, Комитет зеленого света? Тогда все решат, что мы просто следуем прецеденту.
Идея была проста. Комитет возьмет на себя функцию конечного дистрибьютора препаратов второго ряда. Как только цены упадут, он получит реальную власть. Всякий организатор программы по борьбе с ТБ, желающий закупаться по низким ценам, должен будет доказать комитету, что у него хороший план, основанный на хорошей программе DOTS, которая не повлечет за собой расширения резистентности. Большая часть ТБ-сообщества идею одобрила, и ВОЗ в качестве финального компромисса внесла препараты второго ряда в приложение к перечню основных лекарственных средств.
Снижение цен происходило поэтапно. К 2000 году проекты, закупающие лекарства через Комитет зеленого света, за четыре препарата второго ряда платили на 95 процентов меньше, чем в 1996 году, а еще за два – на 84 процента меньше. Говард Хайатт и Джим уговорили “Эли Лилли” пожертвовать ПВИЗ солидные партии двух препаратов; кроме того, “Лилли” обещала и другим проектам по лечению МЛУ-ТБ большие скидки. Капреомицин теперь стоил 98 центов за флакон – на 97 процентов дешевле, чем в те времена, когда Джим и Пол впервые позаимствовали его в бригемской аптеке перед отъездом в Перу. Лечение пациента с МЛУ-ТБ, устойчивым к четырем препаратам, теперь обходилось ПВИЗ в полторы тысячи долларов, а не в пятнадцать. Цены же продолжали падать, существенно и стремительно. Споры все еще были далеки от завершения, но никто больше не мог утверждать, что из-за одной только стоимости лекарств борьба с МЛУ-ТБ в бедных странах исключается.
Один сотрудник туберкулезного отдела ВОЗ, изначально принявший Комитет зеленого света в штыки, теперь гордо именовал себя его “архитектором”. Другие имели больше прав гордиться снижением цен как своей заслугой – например, несколько членов “Врачей без границ”, к которым Джим и Пол обращались за помощью. Но Гвидо Баккер, принимавший участие в процессе практически от начала до конца, сказал мне: “Я считаю, честно, что все это на самом деле устроил Джим. Он просто давил, давил и давил. Наш успех – на 85 процентов заслуга Джима”.
После запуска проекта в Лиме Пол и Джим стали видеться все реже. В основном они переписывались по электронной почте. Но на встрече ТБ-сообщества в австрийском Зальцбурге присутствовали оба. Джим слушал как завороженный, Пол чуть не уснул. Потом они отправились вдвоем ужинать. Вкусы у них во многом совпадали. Оба любили телеграфный стиль (ПДБ вместо “преференции для бедных”), приключенческие фильмы с лихим сюжетом, журнал People, который именовали ЖИН – “журнал изучения народа”. Предпочтения в еде у них тоже были схожие. Доктор Фармер щедро посыпал содержимое своей тарелки солью. Доктор Ким часто повторял: “Все растения делятся на две категории: они либо годятся для стир-фрая, либо нет”. Друзьям давно не выпадало случая поболтать наедине, и, дабы отпраздновать эту редкую возможность, они заказали пиццу.
Джима в тот вечер одолевали мысли. Несколько лет назад Пол уговорил его пройти специализацию по инфекционным болезням. Несколько месяцев спустя Джим это дело бросил. Лечить людей ему в общем-то нравилось, но перуанский проект познакомил его с медициной иного масштаба. Он понял, что его увлекают глобальные проблемы здравоохранения. Он действительно получал удовольствие, просиживая долгие часы в конференц-залах за обсуждением оперативного анализа международной борьбы с туберкулезом. Но сообщить, что он хочет участвовать в определении международной политики здравоохранения, Джим как-то стеснялся. Пол словно догадался, что у друга на уме, – с ним такое порой бывало.
– Чем теперь хочешь заняться? – осведомился он.
Джим уловил теплую интонацию вопроса, искреннее приглашение к откровенности.
– Меня интересует политическая деятельность, и она нам нужна, – ответил он. – Мне это ближе, чем врачевание. Это же ПДБ на международном уровне.
– Ну так вперед, – сказал Пол.
– Но не мы ли всегда говорили, что политическая активность есть борьба за преференцию для собственных идей, для собственных никчемных задниц?
– Ага. Но тебе-то, Джим, можно доверить власть. Мы же знаем, что ты не предашь бедных.
Порой казалось, что самоуверенность Пола заполняет все пространство вокруг него и Джима. Раньше, когда Пол прилетал из Гаити и хотел поговорить с Джимом, но торопился на встречу, он просил: “Пройдись со мной”, – как будто каждый пункт в его графике по определению важнее любого дела, которым в тот момент мог быть занят Джим. В течение многих лет Джим забирал его из аэропорта, а Пол за ним в аэропорт не приезжал никогда, ни разу. Когда они спорили (что случалось нередко), Пол обычно выходил победителем, а если и нет, Джим зачастую чувствовал себя обязанным все равно сделать вид, будто проиграл. Если Джим хвалил Пола, тот охотно отвечал что-нибудь вроде “Спасибо, Джимбо, мне важно было это услышать”. А однажды, когда Джим парировал: “Тогда почему ты мне никогда такого не говоришь?” – он сделал удивленное лицо: “Да ладно, как это не говорю?”
Джим любил повторять, что они с Полом “двойняшки от разных матерей”. Если так, то Джим родился вторым и теперь, за пиццей в Зальцбурге, с благословения Пола наконец повзрослел.
Джим немало перенял от Фармера. С годами их философские воззрения стали почти неразличимы, особенно в отношении того набора принципов, который, как им казалось, международное здравоохранение возвело в статус Священного Писания. Джим как-то сказал мне: “В этике произошли фундаментальные изменения, границы дозволенного теперь совсем иные. Женщинам больше не бинтуют ноги, рабство уже не признается. Мы с Полом антропологи. Мы знаем, что все постоянно меняется. Культура постоянно меняется. Рекламщики все время навязывают культуре перемены. А мы чем хуже? Работники международного здравоохранения умывают руки, говоря: “Изменится ли ситуация к лучшему? Кто знает? Но Пол Фармер и ему подобные выйдут из игры, а мы, корифеи, останемся и продолжим решать, как лучше употребить два доллара двадцать семь центов на душу населения, отведенные на медицинское обслуживание”.
“Ресурсы всегда ограниченны”. В сфере международного здравоохранения эта сентенция имела огромную силу. Как правило, она и стояла за любым анализом экономической эффективности. Зачастую она означала: “Будьте реалистами”. Но у Кима с Фармером сложилось впечатление, что обычно ее изрекают, ни на миг не задумываясь о причинах ограниченности ресурсов в том или ином месте. Как будто странам вроде Гаити сам бог велел погрязать в нищете. Строго говоря, все ресурсы ограниченны повсюду, говорил Фармер в своих выступлениях. И добавлял: “Но сейчас они куда менее ограниченны, чем когда-либо прежде в истории человечества”. А именно: современная медицина располагает средствами избавления от многих бед, и никто не посмеет утверждать, что в мире недостаточно денег на оплату этих средств.
Однако для ПВИЗ упомянутая сентенция была вполне актуальна. Они потратили несколько миллионов Тома Уайта на закупку лекарств для Перу. Офелия старательно выкраивала кусочки пожертвований, поступавших в ПВИЗ, чтобы создать для организации целевой фонд. Ей удалось отложить около миллиона долларов. Но и эти деньги уже растворились, ушли на Перу. А Уайту было уже за восемьдесят, и состояние его постепенно подходило к концу, как он и планировал. В начале 2000 года Офелия, все еще заведовавшая финансами, написала Полу и Джиму:
Ребята,
нам позарез нужна большая куча деньжищ. Даже основное: 40 тысяч в месяц на зарплаты, 60 на Гаити и 35 на Перу – мы не потянем только на деньги Тома. Не говоря уже о прочих расходах, таких как ипотека, медицинские страховки, коммунальные услуги и т. д. и т. п. Есть идеи?
Троица разработала “демонтажную стратегию” – когда не слышал Уайт, они еще называли ее “жизнь после Тома”. Благодаря снижению цен на препараты второго ряда они могли продолжать лечение больных в Лиме в течение года или двух, но потом им пришлось бы с этим завязать. Также им пришлось бы прекратить финансирование исследовательского отдела ПВИЗ, некогда основанного Полом на грант Макартуров, и остаться, по сути, крошечной частной благотворительной организацией, отчаянно пытающейся поддержать систему здравоохранения лишь в одном уголке Гаити. “Вопиющими в пустыне”, как выразился Джим.
Ему-то, разумеется, будущее виделось совсем иначе. А именно: ПВИЗ станут инструментом расширения ресурсов для лечения ТБ, а заодно и свои дела поправят. Они ведь остановили распространение МЛУ-ТБ в северных трущобах Лимы. Теперь они предложат проект по искоренению заболевания во всем Перу. Потом выйдут на международный уровень. Докажут миру, что победить эту страшную заразу возможно, и покажут, как это делается. А если МЛУ-ТБ, то почему не СПИД?
Уже больше года Джим обхаживал крупных спонсоров. Самым крупным был фонд Гейтсов. Располагая целевым капиталом примерно в 22 миллиарда долларов, фонд планировал половину дохода, около 550 миллионов в год, тратить на улучшение здравоохранения по всей планете. Говард Хайатт познакомил Джима и Пола с Биллом Фейги, старшим консультантом фонда по науке. Фейги – один из тех, кого следует благодарить за уничтожение черной оспы. Все знали, что он благосклонно относится к нестандартным решениям предположительно неразрешимых проблем. И Пола с Джимом он обнадежил. Так что Джим принялся составлять заявку на грант. Они с Полом опять встретились тет-а-тет, на сей раз в Москве. Сидя на кроватях в номере гостиницы Holiday Inn, они обсуждали, сколько денег просить. Немного поспорили. Пол считал: два миллиона, ну, может, четыре.
– Нет, – сказал Джим. – Будем просить сорок пять. Столько им ни за что не дадут, возражал Пол. Прибегнув к одному из любимых дискуссионных гамбитов Пола, Джим парировал:
– На каких конкретных данных основано твое утверждение?
Часть IV Месяц путешествий
Глава 20
“Пол с Джимом заставили мир признать проблему лекарственно-устойчивого туберкулеза разрешимой”, – сказал мне однажды Говард Хайатт. Он считал это серьезным достижением. Шел 2000 год, мы сидели в его кабинете в Бригеме. “Минимум два миллиона человек в год умирают от ТБ. Но когда среди умирающих много людей с лекарственно-устойчивыми штаммами – а так и будет, если не запустить очень большую и действенную программу, – два миллиона не предел. Цифра может катастрофически увеличиться”.
А ведь МЛУ-ТБ составлял лишь часть огромной проблемы в мировом здравоохранении. Над новым тысячелетием нависли ТБ и СПИД. Если добавить в прогнозы пандемию малярии, становится ясно, что мир находился на грани таких бедствий, каких не видел несколько столетий, со времен чумы в Европе и почти полного уничтожения коренных народов Южной и Северной Америки. Похоже, Хайатт имел в виду, что Фармеру следовало бы целиком посвятить себя битве с этими напастями, причем на уровне, соответствующем их размаху. “Шесть месяцев в году Пол лично ведет прием пациентов в Гаити. Употребить бы это время на большую программу по лечению больных ТБ в тюрьмах России и других восточноевропейских стран, или на искоренение малярии во всем мире, или на СПИД в Южной Африке… Какая разница, чем бы он ни занялся, это точно будет важно. Вы только посмотрите, чего он достиг, потратив лишь часть своего времени на МЛУ-ТБ! Посмотрите, как работают его способности и политическая хватка! Я пытался убедить его ограничиться в Гаити ролью консультанта и как можно больше времени уделять глобальным проектам”.
Фармеру уже исполнилось сорок, и он занимал достаточно высокое положение, чтобы действовать так, как мечталось Хайатту, – на чисто административном уровне. У него сложилась блестящая репутация в академических кругах. Ему вскоре предстояло занять постоянную профессорскую должность в Гарварде. В очереди кандидатов на престижные премии по медицинской антропологии он стоял среди первых – некоторые коллеги уже поговаривали о том, что он “дал новое определение” этой дисциплине. Что до статуса в клинической медицине, Фармер стал одним из тех врачей, кого медицинские университеты США и Европы приглашают читать лекции, на которые сбегается весь кампус. Даже бригемские хирурги недавно попросили его прочесть им лекцию – особая честь, какой нечасто удостаивается простой терапевт. Кроме того, Фармер входил в несколько советов по международному здравоохранению, и к его мнению прислушивались. Но он явно не собирался отказываться от каких-либо направлений своей работы, в том числе от личного приема пациентов в Гаити.
Но это вовсе не означает, будто Фармер не желал всеми силами способствовать избавлению мира от нищеты и болезней. Просто у него были собственные представления о том, как этого добиваться. На самом деле он, наверное, был единственным человеком, точно знавшим, что надо делать. Однажды молодой помощник сгоряча обвинил его в неумении расставлять приоритеты. Неправда, ответил Фармер. На первом месте пациенты, на втором заключенные, на третьем студенты. Но он, мол, понимает, что помощник мог запутаться в деталях.
Мне нравилось сидеть с ним рядом и смотреть, как он возится с электронной почтой – в Канжи, в самолетах, в залах ожидания аэропортов. Обдумывая, как лучше донести свою мысль, он особым образом крутил пальцем в воздухе. Когда же кто-то, по его мнению, приводил удачный аргумент, постукивал себя пальцем сбоку по носу. Интересовала меня и его переписка как таковая. Письма давали некоторое представление о деятельности Фармера, позволяли хоть приблизительно оценить ее масштаб. В начале 2000 года он получал около семидесяти пяти посланий в день. Похоже, большинству из них он радовался, многих адресантов сам же приглашал к общению и отвечал почти всем.
Фармеру поступали вопросы насчет больных МЛУ-ТБ, требующие вдумчивого прочтения и обстоятельного ответа; взволнованные и волнующие отчеты по проектам ПВИЗ в России, Чьяпасе, Гватемале и Роксбери; дружеские приветы и обращения за советом от священников, монахинь, антропологов, чиновников здравоохранения и врачей с Кубы, Шри-Ланки и Филиппин, из Лондона, Парижа, Армении, Индонезии и Южной Африки; плюс непременно пара сообщений в таком духе: “Вопрос на засыпку. Не хотите поработать в Гвинее-Бисау?” Юные волонтеры ПВИЗ, желающие поступить на медицинский, молодые врачи и эпидемиологи, так или иначе участвующие в деятельности ПВИЗ, просили у него консультаций либо рекомендательных писем. Задавали вопросы и бригемский коллега-инфекционист, и бостонский врач, консультировавший Фармера по поводу лечения неимущего ВИЧ-инфицированного пациента, и любимые студенты. Один из них писал: “Каковы механизмы / патофизиология острой тугоухости вследствие менингита?”
Фармер тут же ответил:
Доброе утро, Дэвид.
Корень всех негативных последствий бактериального менингита в воспалительной реакции организма. Белые клетки. Когда гнойный менингит затрагивает основание мозга, там начинается сильное воспаление. А что у нас находится под основанием мозга? Черепные нервы? А что они делают? Позволяют маленьким девочкам слышать. А что произойдет, если окружить их студенистой массой, образовавшейся в результате воспаления, то есть гноем? Они окажутся блокированы. И лишатся кислорода. Вот и пропадает слух, а часто и способность открывать глаза и т. д. Даже причиной гидроцефалии нередко служит именно воспалительный мусор, закупоривающий монроевы отверстия… Это все анатомия, друг мой, анатомия и гной. Всегда анатомия и гной.
Пока Фармер путешествовал, его почтовый ящик переполнялся посланиями на креольском. Как-то раз я сопровождал его в деловой поездке по поводу сбора средств – мы отлучились из Канжи в Штаты на полтора дня. Во время пересадки в Майами на обратном пути Фармер проверил почту, где его уже ждало письмо от сотрудника “Занми Ласанте”:
Дорогой Поло!
Мы так рады, что увидим тебя всего через несколько часов. Мы соскучились! Ты нужен нам, как нужен дождь сухой, растрескавшейся почве.
“Через тридцать шесть часов разлуки? – спросил Фармер у экрана ноутбука. – Вот они, гаитяне. Вечно перебарщивают. Люблю таких людей”.
В то время его жизнь вертелась вокруг логистической проблемы, которую очень четко сформулировала Офелия: “Где бы он ни находился, он нужен где-то еще”. Пока что Фармер выходил из положения, стараясь поменьше спать и побольше летать. В начале 2000 года я повсюду таскался за ним целый месяц, который он окрестил “месяцем путешествий”.
Две недели мы провели в Канжи, лишь ненадолго отлучившись в середине этого срока, чтобы навестить церковную организацию в Южной Каролине. Теперь мы направлялись на Кубу, на конференцию по СПИДу, после чего нам предстояло по туберкулезным делам на неделю слетать в Москву с остановкой в Париже по пути.
– А кто оплачивает ваши разъезды? – поинтересовался я.
Церковь, правительство Кубы и фонд Сороса, ответил Фармер. И улыбнулся:
– За меня платят коммунисты, капиталисты и иисусхри-стосовцы.
Раньше, когда был помоложе, Фармер приезжал в Канжи и уезжал в джинсах и футболке, пока не понял, что это огорчает его гаитянских друзей, всегда наряжавшихся в дорогу. Потом и отец Лафонтан объяснил ему, что, если он отправляется представлять их перед всем миром, надо надевать костюм. У Фармера костюма было два, но один он одолжил другу. Впрочем, он все равно предпочитал оставшийся черный, поскольку тот позволял, например, вытереть о штанину ручку, которой он писал назначения в Бригеме, потом впопыхах вскочить в самолет, скажем, до Лимы или Москвы и по прибытии все еще выглядеть прилично.
Из “Занми Ласанте” в аэропорт мы выезжали на рассвете. Десять провожавших нас жителей Канжи набились и в кабину, и в кузов пикапа, где ехали чемоданы. Облаченный в костюм Фармер выдал сотрудникам, вышедшим его проводить, последний залп инструкций и просьб, уселся на водительское место (его укачивало в машине, а за рулем тошнота немного отступала), и пикап, точно кораблик, покидающий гавань, скатился с гладко вымощенной площадки перед медкомплексом и затрясся по Национальному шоссе № 3.
Раннее утро, мы не завтракали. Спина у меня уже разламывалась. Подскакивая на сиденье в кабине пикапа, я мысленно сам себе “повествовал о Гаити”. Эту так называемую дорогу построили в начале XX века, во время первой американской оккупации Гаити. Строительством руководила морпехота США. Для выполнения этой задачи они возродили систему corvee, трудовой повинности – пережиток рабовладельческой эпохи. Крестьяне Центрального плато подняли мятеж, который морские пехотинцы беспощадно подавили. Фармер показал мне фотографию в книге: мобилизованный на дорожные работы крестьянин, обвиненный в бунтарстве, наказан гаитянскими жандармами, действовавшими по указке американцев. У распростертого на земле мужчины отрезаны обе руки.
Сейчас дорога являла взору картины менее пронзительные, но все же довольно мрачные для шести утра – истощенные попрошайки, босоногие детишки, волокущие канистры с водой. Через трясущееся ветровое стекло я заметил тощего мужичка в соломенной шляпе верхом на заморенном гаитянском пони. Он сидел в традиционном местном седле, сделанном из соломы и, казалось, нарочно придуманном для того, чтобы стирать в кровь спины ослов и лошадок. Всадник пинал пони по торчащим ребрам – наверное, торопился приступить к работе на каменистом, бесплодном клочке какого-нибудь близлежащего поля, чтобы его дети сегодня хоть разок поели. Я ломал голову, пытаясь придумать, как истолковать дорожные впечатления в утешительном ключе, а заодно, если уж честно, чего бы такого впечатляющего сказать Фармеру. В памяти всплыл ошметок уроков религии. Я произнес:
– Если вы сделали это меньшему из них, то сделали и мне.
– Матфей, двадцать пятая, – откликнулся Фармер и поправил: – Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. – И стал цитировать ту же главу: – Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня, был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. А потом, – добавил он, – там говорится, что, так как вы не сделали всего этого, вам крышка. – Он улыбнулся, лихо объезжая очередную гигантскую выбоину на нашем пути.
Разговор не клеился, и поездка протекала без приключений, пока мы не добрались до спуска по Морн-Кабри. Под нами расстилалась некогда плодородная, а ныне ощелоченная Плэйн-дю-Кюль-де-Сак, а за ней уже виднелся Порт-о-Пренс. Здесь был самый опасный участок дороги, территория kwazman. Фармер разъяснил мне это понятие:
– Когда навстречу попадается другой грузовик или что-нибудь вроде валуна, который мы только что чуть не задели, и дело кончается плохо, это и есть kwazman.
Впереди как раз наблюдались последствия kwazman”a – перевернутый грузовичок лежал на внутренней обочине, недалеко от того места, где семнадцать лет назад Пол и Офелия увидели мертвую женщину с манго. Фармер затормозил и вгляделся сквозь ветровое стекло в место аварии. Но людей вокруг машины не было, трупов на земле тоже – на сей раз.
– Похоже, никто не пострадал, – сказал мне Фармер по-английски, а потом повторил то же самое по-креольски для сидящих сзади гаитян.
Один из них ответил:
– Ну, может, на ком-то из пассажиров лежало сильное проклятие и он воспользовался оказией, чтоб умереть.
Фармер со смехом перевел мне сказанное и, все еще смеясь, поехал дальше. Первую остановку он сделал у тюрьмы в Круа-де-Буке, пригороде Порт-о-Пренса. Один из квадратиков без галочки в его текущем списке дел стоял напротив пункта “Пресечение заключения”. Сын одного из крестьян, сидевших у нас кузове, уехал из родной деревни Кэ-Эпен и работал в столице охранником. Недавно юношу арестовали по подозрению в убийстве. Фармер уже нанял ему адвоката. В тюрьму он сегодня завернул, чтобы дать отцу возможность поговорить с сыном.
Сержант за стойкой дежурного сказал:
– Вам сюда нельзя.
Положив руку ему на плечо, Фармер заговорил с ним. И добился, чтобы нас пропустили. Свет в камере, где томился наш узник, не горел. В полумраке помещения я насчитал не меньше тридцати молодых заключенных. Ближе к свету десяток лиц выглядывали из-за прутьев решетки.
– Привет, – поздоровался Фармер.
– Здрасьте, док, – отозвался многоголосый хор.
Несколько человек подняли руки и приветственно пошевелили пальцами. Из камеры неслось жуткое зловоние – запахи пота, несвежего дыхания, мочи и дерьма. Сын подошел к решетке, заговорил с отцом. Потом старик отошел в сторонку, не сводя глаз со своего чада. Фармер тоже немного побеседовал с юношей, объяснил насчет адвоката.
Мы вышли на улицу. Пикап не пожелал заводиться. Пассажиры из Канжи и я вылезли и принялись его толкать. Двигатель ожил. Мы забрались обратно.
– Вот вам и отъезжающий принц на белом коне, – заметил Фармер. – Был болен, в темнице был, был наг, и одели Меня, и так далее. С этим разобрались. Единственное, – продолжил он, – что держит меня на плаву среди этого дерьма про экономическую эффективность: если б я спас хоть одного пациента за всю жизнь, уже было бы неплохо. Итак, на что ты потратил свои дни? Я спас Мишелу, я вытащил парня из тюрьмы. Везунчик. – И добавил: – Я копаюсь в дерьме ради шанса спасти миллионы.
Мы еще заехали по делу в центр, потом направились в аэропорт. Чем ближе мы подъезжали, тем теснее стояли вдоль замусоренных обочин женщины и дети, торгующие газировкой, фруктами и всякими побрякушками. Фармер заметил впереди сломанную машину, которую толкали выбравшиеся из нее водитель и пассажиры. Он обогнул место аварии.
– Согрешил ли я? Но в двадцать пятой главе у Матфея ничего не говорится о… – Он громко произнес нараспев: – Сломалась повозка Моя, и вы подтолкнули Меня.
Заторы, как водится, были кошмарные. Когда прилетал или улетал большой самолет, аэропорт непременно осаждали толпы людей, хотя большую их часть ничего здесь не держало, кроме надежды. На этом шовчике между мирами собирались не только таксисты, жаждущие клиентов, но и дети, и старики, и женщины, опирающиеся на палки, и калеки без рук или ног. Все они налегали на заграждения, кричали и махали выходящим пассажирам. Внимание Фармера привлек плакат на стене главного терминала, повешенный для иностранцев в минувший туристическим сезон. Надпись на английском языке гласила:
СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА
И ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО
В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
2000
А под ней был нарисован северный олень.
– Ох ты, – сказал Фармер. – Представитель местной фауны[6]. Бедные гаитяне. Храни гаитян, Господи. Они так стараются.
В самолете мое уныние немного развеялось, но я видел, что Фармеру покидать Гаити нелегко.
– Вы и я, мы можем уезжать отсюда, когда хотим. А ведь большинство гаитян никогда никуда не поедут, представляете? – сказал он мне, когда мы шли на посадку.
Чуть позже, когда самолет закладывал вираж над заливом Порт-о-Пренса, он быстро глянул в иллюминатор и отвернулся. На пару минут за стеклом, как будто прямо рядом с ним, раскинулось Центральное плато: пейзаж в коричневых тонах, лишь самую малость расцвеченный зелеными точками, изъеденные эрозией горные отроги словно ребра изголодавшихся животных, бурые реки мутят лазурные морские волны, смывая в них остатки пахотной почвы Гаити.
– Мне на эту землю даже смотреть больно. – Как потом оказалось, Фармер “повествовал о Гаити” в последний раз перед довольно долгим перерывом. – Она не может прокормить восемь миллионов, но они здесь. Они здесь, похищенные из Западной Африки.
Он погрузился в сочинение благодарственных писем жертвователям ПВИЗ. Написав пять штук, он поставил очередную галочку и повеселел. Но затем подали ланч. Собираясь приступить к еде, я оглянулся и увидел, что откидной столик Фармера пуст.
– Эй, а ваша еда где?
– Может, они знают о малышке, – ответил Пол. – Знают, что я не смог ее спасти.
Ночью в Детском павильоне умерла маленькая девочка. Он считал, что смертельного исхода можно было избежать. Я об этом слышал впервые. Фармер не спал всю ночь, всеми возможными способами пытаясь спасти ребенка.
– Мне очень жаль, – сказал я.
– В Гаити столько смерти, – ответил он. – Иногда я до чертиков устаю от этого. Умирающие дети…
Его ланч уже принесли. Фармер немного поел, потом объявил:
– Пройдемся по пациентам. – И стал перечислять всех, койку за койкой, в туберкулезном отделении, в общем отделении, в Детском павильоне. – И еще там недоношенная кроха, я очень за нее беспокоился, она же размером с орешек. Но выглядела она неплохо. для головастика. – Наконец-то он опять улыбался.
Когда мы приземлились в Майами, Фармер оглядел салон. По его подсчетам, около 20 процентов наших попутчиков никогда прежде не летали. Он даже мог показать, кто именно: чрезмерно худые, с мозолистыми руками и обветренными лицами, мужчины, державшиеся неловко, словно впервые надевшие выходные костюмы, женщины в платьях с бесчисленными оборками.
– Сейчас начнется кошмар.
– Что?!
– Эскалаторы.
Мы подошли к первому эскалатору, едущему вниз. Некоторое время назад Фармер обращался в администрацию аэропорта, просил как-нибудь решить проблему, но его, видимо, не послушали. Каждый четвертый или пятый гаитянин замирал у начала эскалатора и всматривался в движущиеся вниз ступеньки. Постояв немного, словно собираясь с духом, чтобы прыгнуть в воду с обрыва, бросался бежать вниз, стараясь точно подогнать свою скорость к скорости движения лестницы.
– Не бегите! Держитесь за поручень! – крикнул Фармер по-креольски пожилой женщине, которая чуть не споткнулась.
Женщина обрела равновесие. А вновь помрачневший Фармер повернулся ко мне:
– Чем больше у них оборок, тем чаще они спотыкаются.
Офелия считала, что Пол – сложно устроенная личность, сотканная из противоречий. Стремление к лихорадочной деятельности, граничащее, как ей казалось, с отчаянием, сочеталось в нем с непробиваемой уверенностью в себе, которая, в свою очередь, странным образом уживалась с острой потребностью в одобрении. Он вечно спрашивал: “Ну как у меня получается?” – и обижался, если Офелия его не хвалила. Она понимала это так: он взваливает на себя непосильную ношу и, естественно, нуждается в моральной поддержке. И в то же время он казался “до ужаса простым”. По ее мнению, он никогда не испытывал настоящей депрессии – свобода столь завидная, что иногда это Офелию даже раздражало. “Я никогда не знал чувства безысходности и вряд ли когда-нибудь его познаю”, – однажды написал мне Фармер. Словно бы, обретаясь среди страждущих в самых безнадежных уголках планеты, он обзавелся иммунитетом к саморазрушительным разновидностям душевных терзаний. Однажды, еще в Гаити, он сказал мне: “Возможно, я куда более веселый и жизнерадостный человек, чем вы. Никто не верит в мою жизнерадостность из-за того, что я говорю и пишу, но я ведь говорю и пишу так только потому, что это все правда”. Конечно, он часто грустил, но развеселить его было совсем нетрудно.
К пересадкам в аэропорту Майами он давно привык. Многие из тех, кто часто путешествует по долгу службы, терпеть не могут этот “перевалочный пункт”. Но только не Фармер. В зависимости от длительности промежутка между рейсами программа пребывания здесь называлась у него “День в Майами” либо “День в Майами плюс”. Оба варианта включали стрижку у любимого парикмахера-кубинца – Фармер болтал с ним по-испански – и покупку последнего номера People, “журнала изучения народа”. Потом он поднимался в Адмиральский клуб[7], который обычно называл Амиралес. Там он принимал горячий душ, затем выискивал удобный уголок в салоне (“обустраивал пещеру”, или “окапывался в Амиралес”) и отвечал на письма, сидя в мягком кресле и потягивая красное вино. Сегодня нам предстоял “День в Майами плюс”, что означало: помимо всех этих изысканных удовольствий мы еще и переночуем в отеле при аэропорте.
Тем вечером Фармер потратил целый час на поиски выхода к нашему завтрашнему чартерному рейсу в Гавану. Его бостонский секретарь был новичком в ПВИЗ, и похоже, он вступил туда, чтобы восстанавливать справедливость в обществе, а не чтобы работать турагентом. Подобные проблемы часто возникали в ПВИЗ, как и в любой организации, вынужденной в основном полагаться на волонтеров и не способной хорошо платить штатным сотрудникам. Кроме того, в плане управления персоналом Офелия с Джимом имели одну (как минимум) собственную, уникальную мороку. Фармер завел правило: никого не увольнять, кроме как за воровство либо за две оплеухи пациенту. Раньше правило гласило: одна оплеуха – и до свидания. Но как-то раз сотрудница в Канжи ударила пациента, и Фармер, вместо того чтобы уволить виновницу, изменил правило. “Две оплеухи”, – настоял он.
Новый молодой секретарь заслуживал некоторого сочувствия. В тот период бесконечной веренице людей что-то требовалось от Фармера, а он старался никому не отказывать. Фармер любил пожаловаться на отсутствие свободного времени, но, как только в его графике появлялась лакуна, тут же заполнял ее какой-нибудь встречей или выступлением. Выстраивать его текущие дела в безупречном порядке не удавалось никому и никогда. Его прежний секретарь, женщина за тридцать, подошла к идеалу ближе всех. Но Фармер повысил ее в должности.
Ночью в отеле он встал в туалет, не включив свет, чтобы не разбудить меня, и в темноте сильно ударился большим пальцем ноги о чемодан. Когда в четыре утра мы встали, палец переливался багрово-синим. Фармер диагностировал трещину, но по терминалу ковылял без единой жалобы – на плече сумка с ноутбуком, в одной руке ИО бумажника (пластиковый пакет), в другой чемодан. Одежды в чемодане лежал самый минимум, всего три рубашки на две недели, зато он был битком набит слайдами для лекций и подарками для кубинской принимающей стороны. “Думаете, мне нравится носить одну и ту же рубашку пять дней подряд?” – как-то спросил он меня. По-моему, иногда ему это и впрямь нравилось. А иногда он как будто намекал, что, если бы мир не находился в столь ужасном состоянии, а власть имущие добросовестно выполняли свою работу, ему не приходилось бы терпеть такие неудобства. Но вообще-то нытье ему не было свойственно. Он говорил, что сделать выбор между, например, лишней рубашкой и лекарствами очень легко. “Главное, – поведал он, – почаще мыться и менять нижнее белье”. Со временем я узнал, что у него в запасе полно подобных хитростей. “Правило путешественника номер тысяча семьдесят четыре: если не успеваешь поесть, а в самолете не кормят, пакетик арахиса и коктейль “Кровавая Мэри” подарят тебе шестьсот калорий”. В то утро я нес подарки, не поместившиеся в его багаж. Фармер горячо меня благодарил. Кажется, он чувствовал себя обязанным покупать подарки, пока их не наберется больше, чем можно спокойно нести. Только тогда он понимал: все, хватит.
Я завел со своим хромающим спутником разговор о его бессонных ночах, сточасовых рабочих неделях, непрерывных путешествиях. Он ответил:
– Проблема в том, что, если я сбавлю темп, умрет кто-то, кого можно спасти. Звучит, как будто у меня мания величия. Раньше я бы вам такого не сказал, но теперь вы побывали в Гаити и знаете, что это чистейшая правда. – И серьезно добавил: – Но мне действительно надо еще поработать над своей физической формой. Я отжимался утром.
Он и правда сделал серию отжиманий – от двух стульев, спиной вниз, чтобы не задействовать пострадавший палец.
Впереди показалась стойка регистрации на чартерный рейс в Гавану, легко опознаваемая по нагромождениям багажа, коробкам с радиоприемниками и бытовой техникой, мешкам, набитым всякой всячиной вроде одноразовых подгузников. Сходный пейзаж окружал и стойки, обслуживающие рейсы в Гаити, но там горы багажа были выше, а чемоданы интенсивнее дышали на ладан. Об экономике государства можно многое сказать, глядя, какие вещи люди увозят туда из США, этого мирового торгового центра для бедных стран. Для Фармера, насколько я понял, зрелище было до того обыденное, что даже не заслуживало комментариев. Уже почти восемнадцать лет он выполнял для гаитян так называемые commission, что переводится с креольского как “я вам дам кое-что с собой в самолет”.
“Это неотъемлемая часть жизни Пола, – объяснил мне Джим Ким. – У меня дядюшка живет в Покипси, можете отвезти ему это манго? Или: можете купить мне часы в Штатах? А можете купить мне радио и отвезти этот кусок хлеба моей тетке в Бруклин? А Пол всегда отвечает: ну конечно”.
Зарегистрировавшись на рейс, мы сели за столик в аэропортовом ресторане, и Фармер снова принялся за благодарственные письма. Он улыбался – по-моему, ему очень хотелось на Кубу. Потому что он сказал:
– Перерыв: никаких умирающих детей.
Глава 21
Когда самолет пошел на снижение над Гаваной, Фармер намертво прилип к иллюминатору, восклицая:
– Поглядите! Всего девяносто миль от Гаити – и вот! Деревья! Урожаи! Все такое зеленое. И это в разгар сухого сезона! Такая же экосистема, как в Гаити, – и вот!
Кубинский врач, руководивший конференцией по СПИДу, старый друг Фармера по имени Хорхе Перес прислал за ним машину. Первый политический плакат на Кубе я увидел уже по дороге в Гавану. Увеличенный до гигантских размеров знаменитый портрет Че Гевары в берете напомнил мне: американец, за что-либо похваливший Кубу при режиме Кастро, до сих пор рискует заработать репутацию приспешника коммунистов. Я знал, что Фармер любит Кубу, но полагал, что любит он ее не из идеологических соображений, а за медицинскую статистику, подтвержденную ВОЗ и вообще считающуюся одной из самых точных в мире.
Конечно, на здоровье населения помимо медицины влияет множество факторов: питание и транспортная система, уровень преступности и жилищные условия, борьба с вредителями и гигиена. На Кубе средняя продолжительность жизни была примерно как в Америке. После революции кубинцы взяли под надежный контроль те болезни, что все еще бушевали в Гаити, всего в девяноста милях отсюда, такие как лихорадка денге, брюшной тиф, туберкулез и СПИД. Позже, сопровождая доктора Переса в обходе его больницы – государственной инфекционной больницы, мы зашли в палату, где лежал больной малярией, и Перес сообщил нам, что его молодые коллеги поначалу ошиблись с диагнозом, так как никогда прежде с малярией не сталкивались. А Фармер в течение восемнадцати лет то и дело склонялся над койками гаитянских крестьян, терзаемых жесточайшими приступами церебральной малярии, – стариков, мужчин, женщин и детей, которых привозили на осликах практически со смертного одра.
“На мой взгляд, кубинская медицина бесспорно заслуживает восхищения”, – говорил Фармер. Куба – бедная страна, и виной тому – как минимум отчасти – длительное эмбарго со стороны Соединенных Штатов. Тем не менее, когда с распадом Советского Союза Куба одновременно лишилась покровителя и основного партнера по внешней торговле, правительство прислушалось к предупреждениям эпидемиологов и увеличило бюджет здравоохранения. По американским меркам оборудование у кубинских врачей никуда не годилось, а платили им даже и по кубинским меркам очень мало, однако квалификация у них в целом была высокая. К тому же на душу населения здесь приходилось больше врачей, чем в любой другой стране мира, – показатели США Куба превосходила более чем вдвое. Складывалось впечатление, что медицинские услуги и процедуры вроде операции на открытом сердце доступны всем гражданам без исключения. Согласно статистике ВОЗ, Куба действительно являлась мировым лидером в плане равномерного распределения медицинских услуг. Более того, кубинцы, похоже, отказались от своих грандиозных планов изменить мир путем экспорта войск. Вместо этого они теперь посылали врачей в десятки беднейших стран мира. На данный момент в Гаити бесплатно работали около пятисот кубинских врачей – не слишком эффективно, поскольку им опять же не хватало оборудования, однако уже сам факт очень много значил для Фармера.
Однажды у него завязался спор о Кубе с друзьями из числа гарвардской профессуры. Они утверждали, что скандинавские страны подают наилучший пример, как обеспечить превосходное медицинское обслуживание наравне с гражданскими свободами. Фармер возразил: вы говорите об управлении богатством, а я – об управлении бедностью. Гаити – образец плохого управления, Куба – хорошего.
Фармер изучал мировые идеологии. Марксистский анализ, которым пользовалась и теология освобождения, он считал безупречно точным. Как можно заявлять, что в обществе не существует классовой борьбы или что страдание не является “порождением социума”, особенно теперь, когда человечество обзавелось огромным набором инструментов для облегчения страданий? Изобличать пороки капиталистического мира ему было важнее, чем разбирать недостатки социализма. “Всем нам следовало бы критиковать избыток благ у сильных мира сего, ибо доказать, что этот избыток ущемляет бедных и лишенных защиты, проще простого”. Но еще много лет назад он пришел к выводу: те человеческие страдания, что он наблюдает в Гаити, ставят такие вопросы, на которые марксизм ответа не дает. Читая труды марксистов, он сердился: “В марксистской литературе мне не нравится то же, что и в любых академических упражнениях, а ведь сегодня марксизм именно в это и превратился, не так ли? В целом: высокомерие, мелочные внутренние дрязги, нечестность, стремление к личному возвышению, ортодоксальность. Не выношу ортодоксальности, и готов спорить, что она послужила одной из причин, по которым в бывшем Советском Союзе не процветала наука”.
Он вообще не доверял ни одной идеологии, даже в собственной пусть чуть-чуть, но сомневался. “В конце концов, это всего лишь логия, – писал он мне о теологии освобождения. – А всякая логия в каком-то месте да подведет нас. И подозреваю, место это совсем недалеко от тех краев, где влачат свое опасное существование гаитянские бедняки”. И где же она может нас подвести? Он ответил: “Доведем эту логию до логического заключения: чтобы обрести Господа, надо бороться с несправедливостью. Но если расклад так откровенно не в пользу бедных – мачете против автоматов, ослики против танков, камни против ракет или даже брюшной тиф против рака, – станет ли ответственный, мудрый человек толкать их на заявление о своих правах? Что получается, когда обездоленные в Гватемале, Сальвадоре, Гаити, да где угодно, перечитав Евангелие, набираются мужества отстаивать свое, требовать назад отнятое, просить всего-то достойной бедности вместо убогой нищеты, которую мы здесь, в Гаити, видим каждый день? Мы знаем ответ на этот вопрос, мы же откапывали их тела в Гватемале”.
Впервые увидев коммунистическую Кубу после Гаити, я испытал изрядное облегчение. Мощеные дороги и старые американские машины вместо бардака на gwo wout la. На Кубе продукты продавали по талонам и добавляли жареный горох в кофе, зато население не умирало от голода, не страдало от вынужденного недоедания. Я заметил группу проституток на главной дороге, жилищные комплексы, нуждающиеся в ремонте и покраске, как и большинство зданий в Гаване. Но перед глазами у меня все еще стояли трущобы Порт-о-Пренса и лачуги Центрального плато, так что Куба показалась мне очень симпатичной.
Когда мы заселились в гостиницу, Фармер сказал:
– Здесь я могу спать. Здесь у каждого есть врач.
Он лег на кровать и действительно уснул за несколько минут.
– Отдохнуть от Гаити – это такой кайф, – признался мне Фармер, проснувшись. – Ну то есть я чувствую себя виноватым, что уехал, но я же здесь попробую для них денег собрать.
Он рассчитывал, что доктор Перес ему немного поможет.
Пересу было лет пятьдесят пять. Его макушка едва достигала угловатого плеча Фармера. По рассказам последнего, когда он впервые увидел доктора Переса, над тем нависал высоченный пациент, грозивший ему пальцем со словами: “Послушайте-ка, вы. У меня к вам претензии”. Хорхе смотрел на него снизу вверх и кивал. Фармер запомнил, как подумал тогда: “Неплохие отношения у этого врача с больными”. С тех пор они и дружили.
На Кубе Фармер прежде всего хотел найти денег на закупку антиретровирусных препаратов, чтобы хватило на лечение двадцати пяти больных тяжелой формой СПИДа в Канжи – для начала только двадцати пяти. На конференции он познакомился с дамой, которая могла бы помочь, если пожелает. Она возглавляла проект UNAIDS, программу ООН по борьбе с ВИЧ и СПИДом, в Карибском регионе. Фармер обхаживал ее несколько дней. Презентовал ей экземпляр “Инфекций и неравенства” с дарственной надписью: “Для Пегги Макэвой, с любовью и солидарностью, с большими надеждами на Вашу помощь в Гаити”. А мне потом прокомментировал:
– Экий я дипломат. На чувство вины умею давить, как никто.
На коктейльной вечеринке, где толпились разного рода чиновники от медицины, он пытался протолкнуть дело в шляпу, и вроде бы ему это удалось. Доктор Перес внес свой скромный вклад, подойдя к Пегги и сообщив, что Фармер – его друг. Она попросила прислать письменную заявку. В ответ Фармер просиял:
– Можно вас поцеловать? А два раза можно?
Кроме того, он надеялся приступить к решению одной из самых насущных проблем “Занми Ласанте”. У всех работавших в Канжи врачей, кроме одного, семьи проживали в Порт-о-Пренсе или за границей – в Канаде, Флориде, Нью-Джерси. Фармер объяснил мне, что они “представители гаитянского среднего класса”. “А гаитянский средний класс считает Канжи местом, где жить невозможно, nan raje, глухоманью”. Трудиться вдали от родных, на Центральном плато, где нечем заняться, кроме работы и пинг-понга (Фармер недавно купил своим врачам стол для пинг-понга), – с годами это для многих становилось непосильным бременем. Несколько человек уехали работать в Штаты (последним – гинеколог), а кое-кто с самого начала не скрывал своей цели: пройти обучение у Докте Поля, потом эмигрировать. Фармер всегда чувствовал себя обязанным помогать им с отъездом. В общем, он решил, что пора выращивать для Канжи врачей из местных. При помощи своих гаитянских сотрудников он отобрал двух молодых кандидатов, которых надеялся пристроить в огромную медицинскую школу для латиноамериканских студентов, недавно открывшуюся на Кубе.
Фармер поделился своими планами с доктором Пересом, и тот организовал ему личную встречу с секретарем Государственного совета Кубы, врачом по имени Хосе Мийар Барруэкос, которого все называли Чоуми. Это оказался почтенного вида мужчина, на вид за шестьдесят.
Некоторое время они поговорили, потом Фармер спросил секретаря по-испански:
– Можно прислать к вам двух студентов в этом году?
– Из США?
– Нет, из Гаити.
– Por supuesto, – ответил Чоуми. – Разумеется.
На конференции выступал Люк Монтанье, известный большинству как первооткрыватель вируса иммунодефицита человека. Это означало, что рано или поздно сюда явится французский посол. Когда он приехал, Фармеру удалось приватно побеседовать с ним и с Монтанье. Мне как стороннему наблюдателю показалось, что обоих сначала удивил, а потом и весьма впечатлил французский Фармера. Пол признался им, что мечтает о новом “треугольнике”: как врачи с Кубы и деньги из Франции сойдутся в Гаити. Разумеется, он обыгрывал термин “трехсторонняя торговля” – именно благодаря этой торговле и возникла французская рабовладельческая колония, впоследствии превратившаяся в Республику Гаити. Он пригласил Монтанье в Канжи, и тот, немного поколебавшись, обещал приехать. Посол сказал Фармеру:
– Да, и мы тоже намерены помочь гаитянам.
Пустые вежливые обещания? Возможно. Но Фармер выступал в роли просителя мастерски безыскусно. Исходя из допущения, что каждое обещание правдиво, старался набрать их как можно больше, дабы повысить шансы, что одно или два окажутся надежными. Потом он напоминал о себе звонками, письмами и обычными и электронными, которые если и не приносили результатов, то хотя бы оставляли надежду: вдруг адресат чуть-чуть устыдится и следующее свое обещание выполнит.
Имелись у Фармера на Кубе и официальные обязанности. В его графике значились два доклада на конференции.
– А какие темы? – поинтересовался я.
– Один доклад для клиницистов, про двойную инфекцию туберкулеза и СПИДа. Второй: почему жизнь – отстой.
Свой второй доклад Фармер начал так:
– Сегодня я хочу поговорить о еще более важной двойной инфекции, имя которой – бедность. Бедность и неравенство. – На экране в амфитеатре кубинской инфекционной больницы, за плечом высокого худого мужчины в черном костюме, разлились голубые воды озера Пелигр. – Итак, в стране, где я работаю уже восемнадцать лет, плотина для гидроэлектростанции отняла земли у campesinos[8].
Фармер просил слушателей вспомнить времена, когда экспертное мнение о том, кто заражается ВИЧ и почему, содержало самую разнообразную чушь, времена, когда быть гаитянином означало входить в “группу риска”. Он рассказал, как провел вместе со своими помощниками исследование в Канжи, чтобы добыть факты из местной жизни. В опросе принимали участие двести женщин: сто зараженных ВИЧ, сто – нет. Почти никто в обеих группах не подвергался рискам, часто упоминаемым в комментариях экспертов, таким как внутримышечные уколы, переливание крови, внутривенное употребление наркотиков. (В лексиконе крестьян Канжи и окрестных деревень, отметил Фармер, нет даже слова, обозначающего наркотики, да и позволить их себе там практически никто не может.) Также ни одна из женщин не имела беспорядочных половых связей. В среднем каждая состояла в интимных отношениях с двумя мужчинами, не одновременно, а последовательно, практикуя так называемую серийную моногамию. Заметных отличий между двумя группами обнаружилось всего два. Многие из больных работали прислугой в Порт-о-Пренсе. Ясное дело, не от хозяйственных хлопот они заразились ВИЧ, но это показатель их бедственного экономического положения: прислуживать гаитянской элите – дело, как правило, малоприятное и неприбыльное. Больные в один голос утверждали, что именно отчаянное положение – нищета и неграмотность – вынудило их пойти на серьезный риск заражения СПИДом, то есть на сожительство с водителями грузовиков или солдатами.
– Почему эти две категории мужчин? – спросил Фармер с кафедры.
Неужели в Гаити они считались наиболее сексуально привлекательными? Нет, конечно. Их выгодно отличала постоянная работа – в экономической системе, где уровень безработицы составлял 70 процентов по статистике, а на самом деле был, вероятно, еще выше. Водителям постоянные разъезды позволяли иметь любовниц в разных населенных пунктах. А солдату во времена диктатуры военных вряд ли хоть одна крестьянка решилась бы в чем-нибудь отказать.
Фармер продолжал с кафедры свой рассказ: завершив исследование, он вернулся в США, сел за компьютер и вошел в MEDLINE[9]. Ввел запрос “СПИД”, и на экране появились тысячи ссылок на статьи. Изменил запрос на “СПИД и женщины” – нашлось всего несколько статей.
– А когда я написал “СПИД, женщины, бедность”, система ответила: “По вашему запросу статей не найдено”.
Фармер указал на экран у себя за спиной, теперь занятый многократно увеличенной схемой исследования, проведенного в Канжи.
– По ряду причин людям неловко говорить о таких вещах. Ладно. Но если мы хотим остановить СПИД, то должны в них разобраться. Острее всего проблема СПИДа стоит в странах, где наиболее ярко выражено неравенство и бедность достигает крайних пределов. Уверен, профессор Монтанье со мной согласится: двойные инфекции – важный сопутствующий фактор, но обсуждаемые факторы еще важнее. Необходимо уничтожить социальное неравенство, а это сделано лишь в немногих странах. – И он закончил одним из своих излюбленных способов, процитировав пациента: – Одна жительница Канжи сказала мне: “Хотите избавить женщин от ВИЧ? Дайте им работу”.
Я постепенно начинал понимать, как Фармер совмещает практический опыт и философию. Пытаясь бороться с ТБ и СПИДом на Центральном плато, он пришел к необходимости опровергать не столько мифы третьего мира вроде веры в колдовство, сколько мифы мира первого, такие как теории экспертов, преувеличивающих способность неимущих женщин ограждать себя от СПИДа. Конечно, сейчас его слушала Куба, маленький одинокий иконоборец Западного полушария. Поэтому полупустой амфитеатр откликнулся долгими, бурными аплодисментами.
Фармер говорил мне, что ему приятно посидеть на конференции, но там он проводил не так уж много времени – чаще лежал на кровати в нашем гостиничном номере, подложив подушки под спину и под колени, с ноутбуком на животе. Время от времени его одолевала дрема, и тогда он вскакивал и принимался мерить шагами комнату, размахивая руками и приговаривая себе под нос: “Ну давай же, Пел, давай”. И снова стучал по клавишам. Работал над заявкой для UNAIDS, над еще одной заявкой на грант (когда тебя никто не финансирует, сколько спонсоров ни ищи, все мало), над комментарием к редакционной статье, ставящей под сомнение целесообразность лечения МЛУ-ТБ в России.
– А это для кого? – спросил я.
– Для “Туберкулеза и легочных заболеваний”[10], – ответил он, не прекращая печатать. – Наверняка вы получаете его дома.
Иногда он отвлекался на доработку своей новой книги “Патологии власти” (Pathologies of Power). У него был с собой переплетенный экземпляр черновика. В одной главе он сравнивал два способа, которыми боролись со СПИДом на Кубе, – собственно кубинский подход и американский карантин в отношении ВИЧ-инфицированных гаитянских беженцев, организованный в начале девяностых на военно-морской базе в Гуантанамо. Фармер зачитывал вслух отрывки из книги уважаемого американского политолога, который тоже сравнивал эти два карантина и считал их более или менее равноценными.
– У меня от этого кровь закипает, – сказал он.
Фармер не одобрял карантина для больных СПИДом:
– Как эффективная мера борьбы с заболеваниями, передающимися половым путем, карантин никогда себя не оправдывал. И в Гуантанамо, и у кубинцев, – продолжал он, – санатории для больных СПИДом строились на карантине. Но говорить, что они не отличались, – значит лгать.
Он опрашивал нескольких гаитян, прошедших карантин в Гуантанамо, и наслушался о них историй о жестоком обращении со стороны американских военных: о еде с червяками, о принудительных анализах крови и насильственных инъекциях контрацептива длительного (до полутора лет) действия Депо-Провера, о побоях в ответ на протесты. Причем необязательно было верить гаитянам на слово. В 1993 году американский федеральный судья дал карантину нелестную характеристику и постановил его прекратить как противоречащий конституции.
Другой карантин для ВИЧ-инфицированных на Кубе проводился под эгидой кубинского правительства в городке Сантьяго-де-лас-Вегас, расположенном всего в часе езды от Гаваны. Доктор Перес сыграл важную роль в этой истории. Он отвез нас туда на своей видавшей виды русской “ладе”.
Я с удовольствием разглядывал загородные пейзажи, видя в них прежде всего контраст с Гаити: электрические провода, орошаемые поля. Мы свернули с шоссе на более узкую мощеную дорогу, и через некоторое время доктор Перес объявил:
– Мы приближаемся к концлагерю. Сейчас увидите, что у нас тут за концлагерь.
Так назвали кубинский санаторий для больных СПИДом в редакционной статье газеты “Нью-Йорк таймс”.
Справа от нас находилась территория, явно принадлежавшая когда-то большому поместью. Мы свернули на подъездную дорожку. Из ворот как раз выезжал на велосипеде молодой человек с завидной мускулатурой, голый до пояса, зато в берете.
– Остановитесь, пожалуйста! – попросил Фармер докторского водителя.
Он вылез из машины и позвал велосипедиста:
– Эдуардо!
Эдуардо вздрогнул, спрыгнул с велосипеда и с широченной улыбкой заключил Фармера в объятия. Бывший солдат, он заразился СПИДом в Африке и лечился у доктора Переса. Фармер познакомился с ним в прошлый приезд и тоже немножко его полечил. Я никогда не слышал, чтобы Фармер жаловался на чрезмерное количество пациентов, а вот спокойно обходиться совсем без них он, судя по всему, не мог нигде. Так что на Кубе Перес одалживал ему кого-нибудь из своих.
Фармер сел на место, и мы поехали дальше. Дорога вела вверх, к старой асьенде. Прежний ее хозяин, состоятельный кубинец, бежал во время революции. Внутри было много комнат, высокие потолки. Кое-где на стенах темнели пятна, но в целом здание не выглядело запущенным. Скорее “разжалованным” – смотришь на место, где по идее должен стоять высокий комод из красного дерева, а там серенький картотечный шкаф.
За обедом в главном здании доктор Перес изложил нам собственную версию истории санатория. Он рассказал, как вместе со своим начальником Густаво Коури докладывал Фиделю Кастро о малярии в Африке. И вдруг Кастро спросил: “А как вы собираетесь оградить Кубу от СПИДа?”
– Густаво ответил: “СПИД – это мелочи”, – продолжал Перес. – А Фидель дернул себя за бороду и сказал: “Ты сам не знаешь, о чем говоришь. СПИД станет болезнью века, и твоя задача, Густаво, предотвратить его распространение на Кубе”.
Кубинские власти решили изолировать ВИЧ-инфицированных в старой асьенде, в условиях армейской дисциплины. Сначала контингент состоял из солдат, затем превратился во взрывоопасную смесь из солдат и гомосексуалистов. Последним, без сомнения, пришлось очень несладко, хотя хорошо кормили и лечили здесь всех и каждого. Когда несколько лет спустя учреждение возглавил доктор Перес, он разрешил посещения, распорядился снести стену вокруг санатория – “потому что приезжали репортеры и карабкались на деревья” – и стал потихоньку менять правила. Сначала позволил выходить по пропускам тем, кто твердо усвоил необходимость безопасного секса, а со временем и вовсе снял карантин. По словам Переса, он думал, что тут-то все больные и разъедутся, но остались аж 80 процентов, отчасти потому, что условия в санатории им создали лучше, чем где бы то ни было.
Доктор Перес устроил нам экскурсию по жилищам пациентов, маленьким домикам и квартирам среди садов, в тени пальм. Поселение напоминало американский пригород, где проживают представители рабочего класса. Заглянули мы и к Эдуардо – он размещался в трех небольших комнатах. На письменном столе стояла фотография Фармера, моментальный снимок. Заметив его, Пол густо покраснел и долго не мог отвести глаз. Придя в себя, он обратился к Эдуардо:
– Вижу, ты все еще куришь.
Эдуардо тотчас протянул ему пачку сигарет. Фармер со смехом оттолкнул его руку:
– Да нет, я имел в виду, что пора бы тебе бросить!
Экскурсия продолжилась. Фармер то и дело повторял, как же здесь тихо и приятно, и в конце концов я сказал ему:
– А по-моему, какое-то уныние навевает.
– Серьезно? – удивился он. – По сравнению с местами, где я вырос, тут очень даже мило. У них есть газовые плиты, кондиционеры, электричество, телевизоры.
На самом деле тревожили меня вовсе не жилищные условия в санатории. Я чувствовал, что Фармер временно отключил свое критическое восприятие, обычно беспощадное. Мне казалось, он только и ищет, что бы еще похвалить. Поэтому я занялся противоположным. Может, мне просто хотелось поспорить. Но ему, очевидно, не хотелось. Он не стал развивать тему.
Пока мы прохаживались туда-сюда, я твердил себе, что теперь-то легко судить, как то или иное общество реагировало на СПИД в первые годы страшной здравоохранительной катастрофы, когда все затмевала паника. А сравнивать реакцию Соединенных Штатов и Кубы вряд ли справедливо, страны ведь такие разные по размеру и сложности. Но еще вопрос, стал ли бы я цепляться за подобные оговорки при обратных результатах. К 2000 году общие показатели заражения ВИЧ и смертей от СПИДа в США снижались, однако болезнь и смерть поразили там куда больший процент населения, чем на Кубе, а ВИЧ превратился преимущественно в проблему гетеросексуалов и сосредоточился среди американской бедноты. Тогда как у Кубы показатели заражаемости ВИЧ были самыми низкими в Западном полушарии, а ее статистика по ВИЧ, возможно, одной из самых точных в мире – по той простой причине, что анализы здесь не считались делом добровольным и сдавали их миллионы. В 2000 году положительные результаты анализа на ВИЧ обнаружились всего у 2669 человек из одиннадцатимиллионного населения острова. У 1003 из них ВИЧ развился в СПИД, умерли 653. Лишь пять детей получили ВИЧ от матерей, и все они до сих пор оставались живы. Поскольку Куба поторопилась очистить свои банки крови, всего десять человек заразились ВИЧ от переливаний. Можно бы предположить, что остров защитило эмбарго США, но, с другой стороны, в начале эпидемии Куба вела активную торговлю с Африкой.
Мы направились обратно в Гавану. Перес сказал, что утром ему звонили из посольства Барбадоса, хотели, чтобы он обследовал дочку посла.
– Но я с ней даже не знаком. Вчера они пять раз мне звонили. Как бы то ни было, сегодня я с Полом Фармером.
Похоже, Фармера с Пересом объединяло еще и любимое хобби – навещать больных. Перес, приезжая в Бостон, с удовольствием сопровождал Фармера в обходах. И Фармер вскоре после нашего приезда в Гавану спросил:
– А мы посмотрим пациентов, Хорхе?
– Ну конечно, а как же.
Кроме того, Перес повел его знакомиться с главным судмедэкспертом Кубы, руководителем группы, нашедшей тайную могилу Че Гевары в Боливии или, по некоторым версиям, заявившей о находке. Судебный медик встал из-за стола, чтобы громко, с выражением, временами даже с пафосом рассказать эту историю. Описал, как они применяли математическое моделирование, как работали кубинские специалисты – археолог, химик-почвовед, геолог и ботаник – и как поиски, продолжавшиеся триста дней, наконец привели их к останкам, которые удалось идентифицировать и потихоньку вывезти на Кубу.
– Мы находили героев. Я находил своих героев. Мы гордились собой – как исследователи, как ученые и из-за революции. Это очень важно для революции. Как и добросовестное выполнение своей работы.
Ужинали мы в гостях у Переса. Размерами и обстановкой его дом примерно соответствовал американской квартире в приличном жилищном комплексе. Фармер не преминул обратить мое внимание на то, что водитель садится за стол вместе с семьей. В другой раз мы ужинали в ресторане, якобы одном из любимых заведений Хемингуэя (в Гаване таких было, пожалуй, не меньше, чем в Ки-Уэсте). Мужчины с гитарами, окружив наш столик, исполняли “Эль команданте”, печальную балладу о Че. А в гостинице Фармеру предоставлялась возможность потешить свою слабость к перечислению названий. В вестибюле стояла клетка, где обитали несколько какаду. Приходя и уходя, Фармер непременно останавливался на них посмотреть. “Кстати, “попугаеобразные” по-латыни psittaciformes. Я помню, потому что есть такая болезнь – пситтакоз”. Еще в гостинице был аквариум и несколько маленьких прудов с рыбками. Над ними он тоже склонялся и сыпал названиями видов: “Голубой гурами, черная моллинезия, неон обыкновенный, синештриховый барбус”.
По меркам Фармера, на Кубе он действительно отдыхал. Почти везде, где бы он ни работал – в Сибири, на Центральном плато Гаити, в северных трущобах Лимы, в осажденном Чьяпасе, – он мог получать и отправлять имейлы. Но на Кубе из-за эмбарго он оказывался отрезан от привычной электронной рутины. Позже ему предстояло за это расплачиваться, но на данный момент он был свободен от просьб и обязанностей, которыми его ежедневно заваливали по электронной почте повсюду, кроме Кубы.
Фармер путешествовал больше всех, кого я знаю, – и меньше всех видел открыточных достопримечательностей. В Перу он не посещал Мачу-Пикчу, в Москве не ходил в Большой театр. Да и на Кубе обходился без культурной программы. Старую Гавану он наблюдал большей частью мельком, в окно “лады” доктора Переса. Город, напоминающий потускневшую фамильную драгоценность, радовал глаз (по крайней мере, посторонний) полуразвалившимися карнизами, аркадами и портиками, но особое очарование обретал теплыми ветреными вечерами, когда о мол бились волны, осыпая брызгами влюбленные парочки, гуляющие по набережной Малекон. Однако Фармер словно бы встроил себе сигнализацию, при каждом приятном ощущении включавшую напоминание: “Ты забываешь о Гаити”. Задумчиво глядя на монументальные баньяны вдоль дороги, по которой вез нас шофер Переса, он тихо произнес:
– Я восемнадцать лет работаю в Гаити, но там стало только хуже.
А в какой-то момент сказал мне:
– Мы слишком мало сделали в Гаити.
– А как же “Занми Ласанте”?
– “Занми Ласанте” действительно оазис, самое приличное из подобных учреждений в стране. Но до Кубы не дотягивает. Кубинцы организовали бы дело лучше.
Все время нашего пребывания на Кубе Фармера окружали заботливым вниманием, чему он не уставал удивляться. Доктор Перес руководил больницей, организовывал конференцию, да еще принимал верного кандидата на Нобелевскую премию в лице Люка Монтанье. Тем не менее большую часть каждого дня и все вечера он проводил с Фармером. Однажды перед сном в гостиничном номере Фармер поднял взгляд от компьютера и поинтересовался моим мнением, что же тому причиной.
Я подозревал, что он редко задает вопросы, на которые не имеет ответа. А значит, ради сохранения мира мне следовало бы постараться угадать, что он хочет услышать. Я же вместо этого сказал, что, по-моему, кубинцам по душе нападки на политику США относительно Латинской Америки в его статьях, его откровенное восхищение медициной и здравоохранением их родины, его попытки наладить связи между Гарвардом и Кубой.
– И Хорхе постоянно представляет вас словами: “Это мой друг”, – добавил я.
Повернувшись, я обнаружил себя под прицелом светло-голубых глаз Фармера. Его фирменный пристальный взгляд. Под ним создавалось ощущение, будто Фармер изучает рентгеновский снимок твоей души или (если ты на него злился) просто воображает сей процесс. Хотелось отвести глаза, но я себе не позволил.
– Меня везде принимают одинаково, – сказал он. – Русские потрясающе принимают, а их кретинскую систему я ненавижу. Почему в абсолютно разных условиях повторяется одно и то же? По-моему, это из-за Гаити. Из-за того, что я служу бедным. Привет, ИЗ.
У меня было впечатление, что он сердит, разочарован и немного обижен. Мощная комбинация. Потом он вернулся к работе, а я лежал в кровати, пытаясь читать. Когда через некоторое время он спросил: “О чем задумались?” – я почувствовал, что меня простили, хоть толком и не понимал за что, и испытал облегчение. Но ненадолго.
Приехав в аэропорт, мы узнали, что рейс в Майами задерживается на пять часов, и сели за столик в маленьком ресторане. Устроившись и раскрыв ноутбук, Фармер по-испански обратился к официантке за стойкой:
– Дорогая сеньора?
Женщина стояла к нам спиной и ответила, не оборачиваясь:
– Digame, mi amor.
Говори, милый.
Фармер рассмеялся и сказал мне:
– Невозможно не любить страну, где люди так разговаривают.
Задержка вылета его не расстроила. Вообще-то, как мне казалось, в самое радужное настроение он приходил именно перед лицом препятствий, по крайней мере бытовых. И тут вдруг он заявил мне:
– Если хотите писать о Че, пусть это будет ваше мнение. Не мое.
– Почему же? – спросил я.
– Об этой эксгумации вы знаете больше, чем 99 процентов американцев. И о том, как кубинцы относятся к Че. Дядя, который его выкапывал, он же чуть не плакал. – Мне достался фирменный взгляд. – Может, я сентиментален, – продолжал он, – но я не дурачок. Я неистовая, строящая клиники, лечащая МЛУ-ТБ наседка.
Затем он перешел к сути вопроса: что именно я собираюсь писать о Кубе и, самое главное, о нем на Кубе?
– Когда другие пишут о людях, живущих на краю, отказавшихся от личного комфорта, как это случилось со мной, они часто подают материал таким образом, чтобы у читателя оставался путь к отступлению. Можно преподнести щедрость как патологию, преданность делу – как одержимость. Подобные трюки всегда есть в репертуаре у тех, кому важнее успокоить читателя, чем изложить правду в манере, побуждающей к действию. Я хочу, чтобы люди сострадали Лазарю и другим обманутым. Иначе зачем бы я таскал вас за собой? Мне-то ничего особенного не сделается, каким бы вы меня ни изобразили. На меня орали генералы, жаловались люди, не имеющие данных, которых у меня навалом. Мне вреда не будет, а вот моим пациентам будет, и еще какой. Если сложится впечатление, будто на Кубе меня тепло принимали из-за того, что я якобы подлизываюсь к режиму, интерес кубинских врачей к беднякам Гаити мигом улетучится.
Еще некоторое время он продолжал рассуждать в том же ключе.
– Раз я говорю, что Сантьяго-де-лас-Вегас – приятная асьенда и что там много лабораторий и медицинского оборудования, значит, я пособник кубинских угнетателей. – Потом встал на защиту доктора Переса: – Хорхе главный врач Института инфекционных заболеваний, директор санатория, председатель государственной программы по борьбе со СПИДом, член совета директоров нашей программы в Гарварде, профессор, которого приглашают читать лекции в разные страны. К его мнению прислушиваются президент и министр здравоохранения. В медицинской сфере Кубы он стоит на вершине власти, а живет, как средний американский обыватель, чем нисколько не тяготится. Я не поклонник скромной жизни как таковой, но мне нравится, что для Хорхе она в порядке вещей. Он против социального неравенства. Он верит в медицину, основанную на социальной справедливости. Меня это трогает. Я ненавижу, когда над этим смеются. Ненавижу.
Я чувствовал, что гнев, звучащий в его голосе, направлен на меня, как будто я уже высмеял доктора Переса. Конечно, я возмутился и, наверное, даже немного обиделся, но тогда вряд ли бы согласился это признать. Фармер легко давал волю эмоциям, и обычно, как верно заметила Офелия, его эмоции отражали сопереживание. Он, не таясь, плакал над пациентами и при воспоминании о пациентах. Он с трогательным восторгом приветствовал каждого из своих многочисленных знакомых. Как и большинство из них, я не мог устоять перед его теплотой. А теперь он как будто лишал меня ее, и я ощущал холод. Неужели он имеет в виду, что не хочет больше со мной путешествовать? Ну раз так, то и ладно, это взаимно! У этого парня на компьютере болтался кибернетический эквивалент наклейки на бампер – экранная заставка со словами “Ищите правды”[11]. Внезапно я понял, что в данный момент тон этого призыва может служить квинтэссенцией всех моих претензий к Фармеру.
А он уже заговорил о следующей цели нашего путешествия – России. Мол, это не так важно, как Гаити.
– Ага, значит, думаете, мне не стоит с вами ехать? – Я очень старался, чтобы мой голос прозвучал беззаботно. Не уверен, что получилось.
Он явно удивился:
– Да что вы, это важно!
На том выволочка, если это была она, и кончилась. Фармер пояснил, что наш разговор был просто “соскоком” после Кубы. Термин его семья позаимствовала у гимнасток в те времена, когда они смотрели по телевизору Олимпийские игры в доме на лодке и Пегги, пышнотелая сестричка Пола, выпячивала грудь, изображая позу, которую принимали изящные спортсменки, завершив упражнение. Все интерны, ординаторы и врачи, работавшие с Фармером в Бригеме, знали это словечко. “Ладно, пора переходить к соскоку”, – говорил он, и они начинали сворачивать обсуждение истории болезни.
Долго сердиться на Фармера было трудно, особенно сейчас, когда он сидел передо мной в своем помятом черном костюме, пережидая очередную задержку в простеньком ресторане аэропорта и переживая, как бы его восхищение Кубой не оказалось использовано против него и не навредило в итоге его пациентам с Центрального плато. Я вовсе не был уверен, что у нас действительно есть существенные разногласия по поводу Кубы. Конечно, помои, годами выливаемые средствами массовой информации на кубинское правительство, несколько искажали мое восприятие, но, что куда важнее, они же предостерегали от поспешных выводов. Бесспорно, Куба выполнила труднейшую задачу, добившись равномерного распределения медицинских услуг превосходного качества при жестко ограниченных ресурсах, – завидный успех с точки зрения Гаити. Я лишь задавался вопросом: сколько политической свободы отдал кубинский народ за это достижение? Но я понимал, что Фармер поставил бы вопрос иначе: какую цену большинство людей готово заплатить за свободу от болезней и преждевременной смерти? Меня Куба лишь наводила на абстрактные рассуждения, тогда как для Фармера она олицетворяла надежду, ибо доказывала, что хорошее здравоохранение в бедной стране возможно. “Если б я мог превратить Гаити в Кубу, не колебался бы ни минуты”, – довольно агрессивно заявил он мне некоторое время назад. И я бы согласился, если бы мне не показалось, что агрессия адресована мне.
Мы не спешили покидать ресторан. Я спросил Фармера, какие надежды он связывает с Гаити.
– Надежд, основанных на анализе или трезвом расчете по конкретным данным, у меня нет. Но вообще надежда относительно Гаити есть. – Частично она лежала за пределами Гаити. – Некоторые говорят, мол, все станет так плохо, что гаитяне взбунтуются. Но невозможно делать революцию, когда ты выкашливаешь легкие и помираешь с голоду. Кому-то придется бунтовать от имени гаитян, в том числе представителям богатых сословий. Но левые, – добавил он, – сочтут это полнейшим фарсом.
Он отвернулся и уставился в окно. На самолетном ангаре по ту сторону аэродрома красовался огромный плакат, гласивший: PATRIA ES HUMANIDAD[12]. Интернационалистская сентенция: единственная национальность – человек.
– По-моему, это так здорово! – сказал Фармер.
– Ну не знаю, – отозвался я. – По мне, так смахивает на слоган.
Он отвел взгляд.
– Наверное, вы правы.
Я почувствовал себя так, словно ударил его. Цинизм – самое подлое оружие в арсенале труса.
– Да нет, это правда здорово, – пробормотал я. – Если от души.
В Майами мы прилетели так поздно, и Фармеру надо было столько всего купить, и столько писем скопилось в его электронном почтовом ящике (всего около тысячи, из них больше двадцати касались пациентов и требовали немедленного ответа), что ночной самолет в Париж чуть не улетел без нас. Выход на посадку закрылся прямо за нами, и Фармер объявил, что наше чувство времени безупречно. Но самолет уже был набит битком, и для наших портфелей места не нашлось. Я-то с трудом втиснулся в свое кресло, молчу уж о Фармере с его длинными ногами.
Последние дня полтора я мучился диареей. Не от кубинской воды – вероятно, перебрал мохито. Я твердо решил не говорить об этом Фармеру и не менее твердо намеревался это решение выполнить – ровно до того момента, когда сказал ему.
Самолет взлетел. Фармер принял снотворное, быстродействующий бензодиазепин, и уже клевал носом. Но как только я ему пожаловался, тут же открыл глаза и с абсолютно серьезным выражением лица оглядел меня.
– С этой минуты, – произнес он, – будете давать мне полный отчет о поведении вашего кишечника.
Мне стало гораздо спокойнее и даже полегчало сразу, и последние остатки моего недовольства Фармером благополучно рассеялись.
Но мне все равно казалось, что он занял очень уж удобную неприступную позицию. Он воплощал преференцию для бедных. Следовательно, любое критическое замечание в его адрес могло расцениваться как нападки на угнетенных, которым он служит. Но я уже успел убедиться, что это не просто поза. В нем ощущалось нечто такое, что я впоследствии сформулировал для себя следующим образом.
Фармер говорил, что на первом месте пациенты, на втором заключенные, на третьем ученики, но в эти категории помещалось почти все человечество. Похоже, каждый больной человек являлся его потенциальным пациентом, а каждый здоровый – потенциальным учеником. В уме он боролся с бедностью непрерывно – занятие, чреватое бесчисленными трудностями и неизбежными неудачами. В награду он обретал внутреннюю ясность, но платил и цену – постоянный гнев или в лучшем случае раздражение по отношению к миру, не всегда видимые, но неотлучно присутствующие. Прочувствовав это, я начал постепенно избавляться от мелочных негативных эмоций, которые порой испытывал при общении с ним и которые так сильно захлестнули меня в аэропорту Кубы. Фармер пришел в этот мир не затем, чтобы создавать душевный комфорт кому бы то ни было, кроме больных, которым посчастливилось лечиться именно у него. И сейчас я на время стал одним из них.
Глава 22
Фармер любил Париж с тех пор, как мальчишкой-провинциалом из Дженкинс-Крик приехал отучиться семестр во Франции. Когда он вез сюда свою жену Диди, его переполняло сладостное предвкушение, ведь она впервые в жизни выехала за пределы Гаити. Разве это не самый прекрасный город на свете? – спрашивал ее Пол. Но осмотр восхитительных парков и зданий вызвал у Диди несколько иную реакцию: “Нельзя забывать, что за все это великолепие заплачено страданиями моих предков”. Этот вопрос она теперь и изучала в Париже, разбирая подробные записи о торговле уроженцами Западной Африки в архивах французских рабовладельцев. После того эпизода очарование города в глазах Фармера несколько померкло.
Его снотворное помогло нам перенести полеты, но окутало туманом мои воспоминания о нашей краткой остановке в Париже. Запомнилось раннее утро, Фармер задумчиво смотрит в окно такси. Первый мир встретил нас многоэтажками окраин, похожими на картонные коробки. По ним, сообщил мне Фармер, распихали малоимущее население Парижа. Когда мы въехали в сам город, сизый эпикурейский город, он пробормотал что-то в духе: сколько можно было бы сделать в Гаити, если пустить на это средства, которые первый мир тратит в парикмахерских для домашних питомцев.
Таксист высадил нас в Маре, квартале узких улочек и тесных тротуаров, крошечных отелей, бистро и магазинов. Старинный друг Пола, соученик по Дьюку, предоставил в распоряжение Фармеров маленькую трехкомнатную квартиру. В дверях нас встретила ослепительной улыбкой Диди, высокая и величественная. Помню, как подумал: она, наверное, и правда была первой красавицей в Канжи. И еще помню, как долговязый Фармер в своем черном костюме выписывал круги по комнате, вальсировал, прижав к груди дочь и раскачиваясь из стороны в сторону. И темные глаза малышки, слишком взрослые для ее личика; серьезный, завороженный взгляд словно прикован к некоему невидимому предмету на потолке. Потом Фармер уселся на диван и стал наблюдать, как Катрин возится со своими плюшевыми игрушками. Диди окликнула его из кухни: когда он улетает в Москву?
– Завтра утром, – ответил Фармер.
Из кухни донесся грохот, будто что-то уронили на пол, послышалось гортанное восклицание.
Я посмотрел на Фармера. Он зажал локтями колени и обеими руками прикрывал рот. Помню, как подумал, невзирая на обволакивающий меня туман: этого я не забуду. Впервые я видел, чтобы он не знал ни что сказать, ни что сделать.
Полагаю, это ирония судьбы, что у Фармера появился ребенок как раз тогда, когда деятельность его организации из теоретически глобальной стала таковой на практике. В последнее время друзья частенько упрекали его за то, что он мало времени уделяет семье. Некоторые, обсуждая эту тему в отсутствие Фармера, приходили в странное возбуждение: повышали голос, улыбались с видом заговорщиков. “Представляете, каково быть за ним замужем?” Подозреваю, что так проявлялась своего рода нравственная зависть. Джим Ким говорил: “У Пола талант вызывать в людях чувство вины”. Фармер советовал другим не пренебрегать отдыхом, а сам никогда не брал отпуск. Не осуждал любителей роскоши, если только они жертвовали сколько-то в пользу бедных. Многого требовал от подопечных и коллег, но всегда прощал их, если они не справлялись. Так что, думаю, некоторые вздохнули с облегчением, обнаружив нечто похожее на трещинку в его нравственной броне.
В Гаити у нас как-то состоялся разговор о его дочери. Спустя месяц после ее рождения в “Занми Ласанте” поступила женщина, страдающая от эклампсии. Это болезнь беременных, происхождение ее неизвестно, но распространена она преимущественно среди бедных женщин. Приводит к белку в моче, гипертензии, судорогам, а иногда и к смерти матери и ребенка. Лекарство – сульфат магния и собственно роды. В клинике кипела работа. Фармер носился сломя голову, торопился начать лечение. Подгонял сотрудников: “Давайте, шевелите задницами. Ставьте капельницу, надо стимулировать роды”.
– Мать билась в судорогах, – вспоминал он. – Я говорил: “Скорее!” Все шло нормально. Затем ребенок родился – мертвый. Прекрасный, доношенный малыш. Я разрыдался, пришлось извиниться, выйти на воздух. Что же это такое? – удивлялся я. А потом понял, что плачу из-за Катрин.
Он представил дочку на месте мертворожденного младенца. И сказал себе: “Значит, свое дитя любишь больше, чем этих малышей”.
Фармер продолжал:
– Я-то думал, я король эмпатии по отношению к этим детишкам, но если я король эмпатии, почему такой сдвиг в сторону собственной дочери? Это дефицит эмпатии – неспособность любить чужих детей так же, как своих. И главное: все это понимают, поощряют, хвалят тебя за это. А трудно-то как раз обратное.
Я взял паузу, чтобы обдумать его слова и поделикатнее сформулировать свой следующий вопрос. В конце концов решил задать его как бы через третье лицо:
– Некоторые на этом месте поинтересовались бы: а вот зачем вам это – считать себя не таким, как все, то есть способным любить чужих детей не меньше своих? На это вы бы как ответили?
– Послушайте, – сказал Фармер, – все великие мировые религии велят любить ближнего как самого себя. Мой ответ: не могу, простите, но буду и впредь стараться, запятая.
Полагаю, многие хотели бы выстроить свою жизнь, как Фармер: просыпаться, зная, что надо делать, и сознавая, что именно это они и делают. Но очень сомневаюсь, что многие добровольно приняли бы сопутствующие трудности, отказались от комфорта и общения с близкими. Не то чтобы вся семейная жизнь Фармера выглядела примерно как наша остановка в Париже. Диди и Катрин проводили с ним в Канжи каждое лето, и, конечно, следовало ожидать, что эти периоды станут более продолжительными, когда Диди закончит учебу. Но мне дни и ночи Фармера казались полными напряжения и по-своему одинокими. В этот месяц путешествий он возил с собой две фотографии. Дочкиной фотографией он повсюду хвастался друзьям, как любой нормальный родитель, гордящийся своим чадом. Но иногда показывал и другую – гаитянской малышки, истерзанной квашиоркором, ровесницы Катрин. Поначалу меня от этого передергивало. Но погибающий от голода ребенок не был абстрактной картинкой, как голодающие дети, которых показывают по телевизору. Фармер сам лечил эту девочку, и, насколько я понял, для него она символизировала всех страждущих, в том числе больных туберкулезом российских заключенных, ради которых он собирался завтра утренним самолетом улететь в Москву, вновь расставшись с собственной дочерью. Не думаю, что человек, понимающий, насколько необходима Фармеру взаимосвязь между разными сферами его жизни, мог бы без сострадания наблюдать за ним в тот момент в Париже, когда он весь сжался в комок на диване, словно пытаясь спрятаться.
Но тягостное мгновение миновало. В Париж Фармер наведался в основном ради дня рождения Катрин – ей исполнилось два года. Праздник удался на славу: девочка хлопала в ладоши, радуясь подарку, заводной птичке, летавшей по маленькой гостиной. Игрушку Фармер купил в аэропорту Майами – одна из причин, по которым мы чуть не опоздали на парижский самолет. Среди гостей были члены французской семьи, принявшей Фармера в качестве au-pair двадцать лет назад во время его заграничной практики. Теперь они понемножку собирали средства для ПВИЗ. Пришли и несколько друзей-гаитян, которые прожили во Франции достаточно долго, чтобы пройти, как выражался Фармер, “тест на пузо” (то есть выглядеть вполне сытыми), но говорили почти исключительно о Гаити. Еще был друг семьи из Буркина-Фасо; он пожаловался мне на ностальгию, и я вспомнил слова Фармера: мол, штаб квартира ПВИЗ не в Бостоне и даже не в Гаити, а там, где находятся пвизовцы. Паутину знакомств он себе сплел не хуже любого крупного политика, разница лишь в том, что большинство вовлеченных в его паутину недолго оставались просто знакомыми и вряд ли смогли бы легко из нее выпутаться, даже если бы захотели. Худшей ссылкой для него стало бы не изгнание в географическом смысле, а нечто вроде отлучения от связей.
Перед сном он позвонил матери во Флориду и попросил разбудить его звонком в 7 утра по парижскому времени. Диди только головой качала.
– У нас есть будильник, – сказала она мне. Но при этом улыбалась.
Я подсчитал разницу во времени. Маме Фармера придется не ложиться до часу ночи, чтобы разбудить его. Мне стало интересно, как она к этому относится. И несколько месяцев спустя я услышал от нее ответ: “По-моему, так здорово, что в сорок он все еще просит об этом. Иначе я бы скучала по роли будильника”.
В аэропорт мы в кои-то веки приехали заранее и пошли в кафе завтракать.
– Так, – сказал Фармер, когда мы нашли столик, – пора поработать. – И достал текущий список bwat, где вычеркнуты были примерно две трети квадратиков. – Позорище. – Он сверлил взглядом бумажные листы. – Все это следовало выполнить еще до отъезда с Кубы.
В списке фигурировал двойной bwat, то есть две задачи на один квадратик: выполнишь одну – можно зачеркивать. Двойной bwat требовал либо купить новое нижнее белье, либо закончить письмо.
– Белье я так и не купил, значит…
Письмо это Фармер начал еще во время нашего совместного похода по горам в Гаити. Он вытащил из портфеля недописанную страницу. На ней красовалось жирное пятно от какого-то продукта пятой группы, которым он перекусывал в пути. Начиналось письмо так: “Мне кажется уместным писать тебе, сидя посреди гаитянской глухомани…” Фармер склонился над столом и принялся строчить дальше.
– Это перенос задач или жульничество? – поинтересовался я.
– Зависит от того, применяешь ли ты ДТ к своим стараниям, – ответил он, не отрываясь от письма.
Сокращение ДТ обозначало “доброжелательное толкование”, что Фармер однажды разъяснил мне в электронном письме: “Зная, что вы хороший человек, я намерен воспринимать все, что вы говорите или делаете, в положительном ключе. Полагаю, я вправе рассчитывать на взаимную любезность с вашей стороны”. В его лексиконе, которым пользовались и все сотрудники ПВИЗ, насчитывалось множество подобных терминов. Некоторые придумали Джим с Офелией, какие-то перекочевали из Бригема, но большинство принадлежало Фармеру или его семье.
Однажды его брат Джефф, борец, прислал ему открытку с ошибкой в слове “гаитяне”. Написал “гатиане”. В сленге ПВИЗ слово преобразовалось в “гатины”, или просто “гаты”, а страну соответственно окрестили Гатландией. Французы назывались “франшизами”, а их язык “франшизским”; русские звучали как “руски”. Прозвище “чаттерджи” получали лица восточноиндийского происхождения (в ПВИЗ таких было несколько), склонные к многословию[13]. Сам себя Фармер именовал “белым мусором” и даже предъявлял в доказательство старый снимок своей семьи, устроившей пикник вокруг выставленного на улицу дивана. Человек, гневно рассуждавший во всеуслышание о тяжкой участи малоимущих женщин, в частных шутливых беседах не стеснялся употреблять слово “цыпочки”. “Подобная ерунда меня не волнует, – как-то сказал он мне. – Важно только одно”. Невежливые выражения, произносимые в закрытом кругу, подразумевали философский упрек верующим в так называемую политику идентичности. Ведь близкая им идея, что все представители угнетаемого меньшинства угнетаемы одинаково, очень уж удобно затушевывает существование реальной градации “обманутости”, или, как иногда говорили пвизовцы, “разной глубины жопы”, выпавшей на долю людям одной расы или одного пола. “Страдание бывает разное” – вот один из постулатов веры ПВИЗ, порожденный бесчисленными эпизодами, когда сотрудники пытались собрать средства, но вместо денег получали нотации об универсальности страдания, а то и просто фразочки вроде: “У богатых тоже есть проблемы”. Фармер однажды даже читал в Гарварде курс лекций под названием “Разновидности человеческого страдания”.
“Общаясь с Полом, люди начинают говорить, как он, – считал его старый приятель по медицинской школе, писатель Итан Кэнин. – Он мастер словесной гимнастики”. На практике сокращения вроде ДТ действительно были удобны быстрому уму, равно как и тем, кто пытался за ним угнаться. Когда, например, ТБУН (транснациональные бюрократы, управляющие неравенством) выдвигали хитроумные доводы (или же “лихо клали кучку”) против лечения МЛУ-ТБ или СПИДа, можно было просто сказать: “Привет, ИЗ”, – и все тебя прекрасно понимали. Каждый сотрудник ПВИЗ знал, что МП – это “море пафоса”, а заявка МП – обращение к эмоциям. (Как-то раз я слышал, как Фармер, составляя речь на пару с молодым помощником, говорит ему: “Тут можно плеснуть МП, а вот здесь вставить общую фразу о неравенстве результатов”.) “Урожаем ботаников” назывались готовые исследования, которые пвизовцы сдавали Фармеру или Киму, до “научкопов” сокращались “научные копания”, необходимые, поскольку каждый факт, который Фармер приводил в своих статьях, должен был опираться на авторитетные источники. (“Он вечно дергается, все ли идеально, – рассказывал студент-медик, много занимавшийся научкопами для Фармера. – Не потому, что он такой маньяк-педант, а потому, что, когда стараешься ради бедных, а тебя заваливают аргументами, что их, мол, лечить слишком дорого, надо выступать безупречно, иначе порвут в клочья”.)
Багаж назывался “баг”, таможня – “там-уж”. Оплошать по “семь-три” – сказать семь слов, когда хватило бы трех, а сделать “девяносто девять сотых” – бросить почти оконченную работу. (“Ничто не бесит меня так, как девяносто девять сотых”, – говорил Фармер.) Пвизовцы часто благодарили людей, оказавших какую-либо помощь третьему лицу, кому-нибудь из многочисленной группы, определяемой как “неимущие больные”, “обманутые” или просто “бедные”. В ПВИЗ предпочитали последнее определение, поскольку – объяснял Фармер – именно так себя чаще всего обозначают гаитяне.
Можно долго отираться возле ядра ПВИЗ, не понимая правил и чувствуя себя лишним. И чем острее чувствуешь себя лишним, тем сильнее подозрение, что тебе как бы намекают: ты хуже, чем они. А собственное раздражение по этому поводу рождает еще и подозрение, что так оно и есть. Мне лично пвизовцы напоминали если не семью, то как минимум клуб, который категорически отказывается делить мир на своих и чужих, но в то же время имеет собственные неписаные законы и собственный язык. Попробуйте сказать что-нибудь в этом роде Фармеру, и он ответит: “Если и так, то у нас самый открытый чертов клуб в мире. Битком набит больными СПИДом, БЛ в полный рост, толпы студентов, церковные дамы, пациентов легион. И клуб этот только растет, никогда не уменьшается”. Впрочем, Фармер умел и создавать с каждым отдельный клуб для двоих.
Еще в Гаити он и для нашего месяца путешествий выработал своего рода речевой код. Обсуждая со мной малярию, он рассказал, что существуют четыре типа этого заболевания, но только один, тропическая малярия, часто приводит к смертельному исходу. “Как думаете, который тип тут, в Гаити? – спросил он. И добавил: – Зато у нас она не устойчива к лекарствам, как в Африке”. Тут Фармер улыбнулся и, чуть перефразируя свою любимую цитату из фильма “Гольф-клуб”, произнес: “Так что за это мы спокойны”. И показал на меня пальцем. Вскоре я усвоил, что в ответ должен выдать следующую фразу: “Уже неплохо”[14]. Приноровившись к этой перекличке, я полюбил ее. И должен признаться, сейчас, в кафе аэропорта, я испытал определенное удовольствие, с ходу расшифровав аббревиатуру ДТ.
Фармер продолжал строчить письмо. Я огляделся по сторонам. Ломаная стеклянно-стальная простота аэропорта имени Шарля де Голля внезапно поразила меня своей пугающей сложностью, словно катапультировала в будущее, совершенно мне непонятное. Я вспомнил магазины дьюти-фри, где можно купить первоклассный паштет, гусиное конфи, изысканные вина.
– А начали вы это письмо в походе по сельской местности Гаити, – задумчиво проговорил я, вызывая в памяти бесплодные холмы, средневековые крестьянские хижины, “скорую помощь” на осликах. – Как будто в другом мире.
Фармер поднял глаза, улыбнулся и жизнерадостно ответил:
– Недостаток этого ощущения в том, что оно… – он сделал секундную паузу, – ошибочно.
– Ну, это как посмотреть, – возразил я.
– Как ни смотри, – очень ласково отозвался он. – Человек вежливый сейчас сказал бы: “Вы правы. Это параллельный мир. Между огромными накоплениями богатств в одних областях планеты и крайней нищетой в других нет совершенно никакой связи”.
Он внимательно смотрел на меня. Я рассмеялся.
– Вы же понимаете, что я шучу на серьезную тему, – заключил он.
Однажды я слушал лекцию о ВИЧ, которую Фармер читал студентам Гарвардской школы здравоохранения. Внезапно посреди перечисления данных он упомянул гаитянское выражение “в поисках жизни сгубить жизнь”. Потом объяснил: “Так говорят гаитяне, когда бедная женщина, продающая манго, падает с грузовика и умирает”. Тогда мне на мгновение показалось, что я краем глаза заглянул к нему в голову. И обнаружил там обостренную потребность в построении взаимосвязей. В такие моменты возникало ощущение, будто его главное желание – отменить время и географию, чтобы свести воедино все составляющие своей жизни и напрямую пристегнуть их к миру, в котором он видит тесные, неизбежные связи между сверкающими бизнес-центрами Парижа или Нью-Йорка и безногим калекой, лежащим на земляном полу хижины в самой глуши далекого Гаити. По-моему, он считал самой фундаментальной ошибкой человечества склонность игнорировать людей, прятаться от чужих страданий. “Это и есть моя великая битва: как можно быть равнодушными, закрывать глаза, не помнить?”
Мне было любопытно, остается ли в его философии место для кого-нибудь, кроме бедняков всего мира и тех, кто борется за их интересы. Однажды в самолете он признался мне, что в любом попутчике видит пациента. По громкой связи раздался голос стюардессы: “Есть на борту врач?” Фармер тут же вскочил и бросился помогать американцу среднего возраста, явно представителю среднего класса. Как выяснилось, сердечного приступа у мужчины все-таки не было. Позже, вернувшись в свое кресло, Фармер сообщил мне, что подобные эпизоды случаются примерно раз в восемнадцать полетов. У меня сложилось впечатление, что он не возражал бы, случайся они хоть каждый полет.
На мой взгляд, эта способность воспринимать все и всех как непрерывную систему, целиком состоящую из взаимосвязей, – одна из особых, странных привилегий Фармера. Конечно, она изрядно затрудняет ему жизнь, зато освобождает от тех усилий, которые люди обычно прилагают, чтобы бежать, дистанцироваться как от собственного прошлого, так и от основной массы своих ближних.
Глава 23
Всемирный банк планировал дать ссуду на борьбу с эпидемией туберкулеза в России. Фармер уже пятый раз летел в Москву обсуждать условия ссуды. В самолете он рассказал мне историю этой своей миссии.
Около двух лет назад Говард Хайатт направил его в институт “Открытое общество”, фонд Сороса, прощупать почву на предмет финансовой поддержки перуанского проекта. Денег ему там не дали, но письмом сообщили, что фонд понимает важность проекта ПВИЗ, поскольку и сам проводит примерно такую же работу в России. Далее следовало довольно подробное описание этой работы.
Фармер вспоминал, что читал письмо по дороге на какую-то встречу и остановился как вкопанный на тротуаре: “Ох ты черт!” Он уже знал, что Сорос выделил 13 миллионов на пилотные проекты по борьбе с ТБ в России, но до сих пор был не в курсе подробностей. Проект предполагал использование только стратегии DOTS. Планировалось лечение всех больных лекарственно-чувствительным туберкулезом, а тем, кто не вылечится, – предоставление паллиативной помощи для облегчения предсмертных мук.
Но развал Советского Союза создал идеальные условия как для мощнейшей эпидемии, так и для процветания МЛУ-ТБ в ее рамках. Из-за распада системы борьбы с ТБ множество курсов терапии было прервано; повышение уровня преступности обернулось переполненными тюрьмами.
С благословения Хайатта Фармер написал директору фонда вежливое письмо на двух страницах, в котором объяснял, почему проект обречен на провал. Так он очутился в офисе Джорджа Сороса на Манхэттене. Фармер изложил свои соображения, после чего Сорос велел немедленно соединить его с директором российской ТБ-программы, эмигрировавшим из России микробиологом Алексом Гольдфарбом, и долго орал на того по телефону. Затем попросил Фармера помочь довести до ума пилотный проект.
Решился Фармер быстро, не все же не сразу. В то время ему еще приходилось довольно часто летать в Перу. Поездки в Россию означали дополнительные дни, а то и недели разлуки с Гаити, где дела с ТБ и прочими болезнями обстояли куда хуже. Зато ПВИЗ могли бы законным образом употребить часть денег Сороса на зарплаты. Кроме того, российская эпидемия бушевала в тюрьмах, а заключенные в глазах ПВИЗ – привилегированный контингент, даже в Евангелии о том сказано, смотри 25-ю главу Матфея. Плюс Россия сулила те самые возможности, на которые Пол с Джимом надеялись, еще когда решили заняться Перу, – шанс повлиять на политику медицинского обслуживания бедных в масштабе всей планеты. Россия в данный момент граничила с двенадцатью государствами, а некоторые из них, в свою очередь, – с богатейшими странами мира. “Гораздо труднее ратовать за справедливость в таком месте, как Гаити, которое легко запрятать подальше и не замечать. А Россию попробуй спрячь”, – рассуждал Фармер. Российский туберкулез способен показать миру, каковы последствия пренебрежения здоровьем бедных где бы то ни было. И как опасно не замечать Гаити.
Так что отправился он на экскурсию по сибирским тюрьмам. Его сопровождали Гольдфарб, несколько консультантов от фонда Сороса и несколько российских чиновников. До этого путешествия Гольдфарб отзывался о Фармере как о “злобном враге с севера”. Из Сибири они вернулись друзьями. Гольдфарб постепенно учился понимать Фармера. Как-то раз он поинтересовался, сколько Фармер берет за свои услуги, и тот ответил: “Алекс, болван ты этакий, что мне брать? Кучу денег беру с заключенных, военнопленных и больных бедняков. А уж с беженцев деру целые состояния”. Но крепче всего их объединило увиденное в российских колониях.
Почти в любой стране заболеваемость ТБ в тюрьмах намного выше, чем среди гражданского населения. Но в пенитенциарных учреждениях России она была не просто выше, а выше в сорок-пятьдесят раз. Более того, у большинства больных заключенных оказывались резистентные как минимум к одному препарату штаммы, а в некоторых тюрьмах до трети больных страдали полномасштабным МЛУ-ТБ. Туберкулез стал наиболее частой причиной смерти в тюрьме, но не все больные умирали там. Многие успевали выйти на свободу и посеять свой лекарственно-устойчивый штамм МБТ среди гражданского населения. К тому же их и после освобождения не лечили, в основном потому, что гигантская система борьбы с ТБ в России лежала в руинах.
Ситуация складывалась жуткая, но мировое сообщество пока реагировало на нее вяло. Пять-шесть иностранных организаций искали способ взять эпидемию под контроль. Бюджет на расходы у большинства из них был весьма ограничен – у кого несколько сот тысяч долларов, у кого миллион или два. Не все их проекты были хорошо организованы, но все запускались путем преодоления немыслимых препятствий – и все продемонстрировали вовсе не то, что планировалось: одна стратегия DOTS не только не поможет, но и расширит эпидемию. В Ивановской области американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сознательно лечили больных МЛУ-ТБ препаратами, к которым их туберкулез был устойчив, и вылечивали всего 5 процентов. И Фармер предсказывал – как потом выяснилось, верно, – что у многих из этих 5 процентов случится рецидив. Даже “Врачи без границ”, получившие Нобелевскую премию за работу в России, до сих пор применяли только DOTS и вылечивали всего 46 процентов своих больных в ФКУ ЛИУ-33 Кемеровской области. “Отлично организованные клинические ошибки” – так называл Фармер эти проекты в своей статье.
Эпидемия в сибирских тюрьмах оказалась хуже всего, что ему довелось повидать в Перу, а в некоторых аспектах даже хуже всего, с чем он сталкивался в Гаити. Поэтому, вернувшись в Москву из поездки по колониям, Фармер с Гольдфарбом устроили пресс-конференцию, чтобы сообщить миру страшные вести. Однако в тот же день в Вашингтоне независимый прокурор обнародовал свой отчет по скандалу с Моникой Левински. Так что репортеров к ним пришло совсем мало.
Фармер и Гольдфарб полетели в Нью-Йорк на “аварийное совещание” с Соросом. На Фармера встречи с Джорджем зачастую действовали освежающе. Однажды он примерно подсчитал, во сколько обойдется контроль над ТБ по всей планете: по его оценкам, вышло около пяти миллиардов долларов. Когда он называл эту цифру чиновникам от здравоохранения, те отвечали, что такой суммы не собрать никогда. Сорос же, взглянув на расчеты, лишь уточнил: “И все? Вам этого хватит?” В Нью-Йорке Фармер и Гольдфарб попросили Сороса сию минуту выделить еще денег на лечение туберкулеза в России. Он возразил, что такой шаг только замедлит реакцию международного сообщества, и вместо него предпринял ряд других шагов, в том числе организовал в Белом доме заседание под председательством Хиллари Клинтон, с которой был дружен. Фармер с Гольдфарбом набросали план выступления для Сороса, попутно раскритиковав аналогичный план, подготовленный для Первой леди.
В итоге дело обернулась совсем не так, как хотел Фармер. Он-то надеялся на крупные гранты от разных фондов и богатых государств. А вместо этого Хиллари Клинтон заставила Всемирный банк рассмотреть вопрос о предоставлении России займа. Банк создал нечто под названием “московская миссия”, то есть собрал группу экономистов, эпидемиологов и экспертов по здравоохранению, чтобы те проработали условия выдачи займа.
Фармер, как и следовало ожидать, все глубже втягивался в эту историю, таща за собой и ПВИЗ в полном составе. Вся организация трудилась над отчетом, который заказал Сорос, и семь месяцев спустя сдала книгу, состоявшую из 177 страниц текста, 115 страниц приложений и 976 сносок. Основные главы описывали проблему МЛУ-ТБ в России, Азербайджане, Перу и Южной Африке, а заключительная объясняла, как создать грамотную программу лечения. Пресса не обошла вниманием эту работу, и ВОЗ поощрила издание, написав введение для книги. Кроме того, Фармер согласился взять на себя обязанности главного (но бесплатного) консультанта “московской миссии” Всемирного банка по туберкулезу в российских тюрьмах. На том, чтобы ему не платили, он настоял сам, поскольку осуждал некоторые аспекты политики банка. Его расходы покрывал Сорос.
В Москву мы прилетели под вечер. Самолет еще не доехал до рукава, а почти все пассажиры уже подскочили с кресел под тщетные увещевания стюардессы по громкой связи: “Пожалуйста, оставайтесь на своих местах”.
Фармер обвел взглядом салон: “К русским у меня слабость. Они встают, когда им вздумается. Ну конечно, последние четыреста лет с ними обращались как с мебелью. Неудивительно, что им хочется вставать назло”.
Судя по всему, Фармер верил не только в важность намерений и силу воли, но и в откровения свыше, в “знаки”. Сегодня, как мне показалось, не все знамения были к добру. В главном московском аэропорту, уютном, как промышленный склад, мы заполнили миграционные карты не на тех бланках, и впервые за все время путешествий с Фармером, я увидел, как на постороннего человека не подействовало его дружелюбие. На таможенном контроле он улыбнулся мрачной служащей в униформе:
– Извините. К следующему разу выучу русский.
– В следующий раз заполняйте английские бланки! – рявкнула она.
Но нас все же пропустила. Фармер прокомментировал сочувственно, без тени насмешки:
– Ничего страшного. В конце концов, она же служащая поверженной сверхдержавы.
Когда мы вышли на улицу, был ранний вечер, но заходящее солнце уже растеклось узкой оранжевой полосой по ледяному горизонту.
Утром за окнами нашей гостиницы клубился пар – у лиц пешеходов, над канализационными решетками. Прямо напротив, через широкую улицу, находился Кремль: идеально отреставрированные зубчатые стены тянулись, насколько хватало глаз. За ними я разглядел луковичные купола собора Василия Блаженного. Фармер считал, что это одно из самых красивых строений в мире, запятнанное, однако, кровавой победой Ивана Грозного над татарами, в честь которой его возвели. Вымарывание истории всегда служит интересам власть имущих, любил он повторять. Как бы то ни было, я понимал, что в собор мне с ним не попасть. В Москве нас ожидал туристический маршрут по-фармеровски, поездка, какую можно совершить в любом крупном городе планеты. Нам – Фармеру, мне и прилетевшему из Нью-Йорка Алексу Гольдфарбу – предстояло посетить тюрьму.
“Матросская тишина”, самая большая московская тюрьма, – это СИЗО, следственный изолятор. Здание огромное, но представить себе его точные размеры я затруднялся, путаясь в бесконечных поворотах, низких дверных проемах, через которые надо проходить, пригнув голову, подъемах по старым железным лестницам, длинных коридорах, напоминающих туннели подземки. Стены коридоров были кое-как обиты желтым материалом вроде фанеры.
– Летом, – шепнул мне Фармер, – вентиляция тут работает не ахти. – И добавил: – За последние годы я изрядно понаторел в сравнительной пенологии.
Мы миновали разные “климатические зоны” – тепло, холодно, снова тепло – и области разнообразных запахов, от пищевых до вовсе непонятных, о происхождении которых и задумываться не хотелось.
– Не потеряйтесь, – сказал нам представитель тюремной администрации. – Тут не лучшее место для заблудших.
Нам встретилась вереница заключенных, одинаково одетых в тренировочные штаны и потрепанные пальто и шапки. В тусклом свете их лица казались серыми. У одного нос загибался таким крюком – я подобного в жизни не видел. Наконец мы добрались до тюремной больницы.
– Вспомните Кубу, – шепнул мне Фармер, – и посмотрите на это убожество.
Сопровождавшие нас врачи в уныло-зеленой форме и чиновники от здравоохранения, в такой же уныло-зеленой форме, сами жаловались на здешние условия. Они открыли нам дверь в камеру для больных СПИДом.
– Тут народу меньше, чем в обычных камерах, – пояснила женщина-врач.
– Сколько?
– В этой камере всего пятьдесят.
Фармер вошел первым, за ним переводчик. Мы оказались в неопрятном сером помещении, поменьше многих американских гостиных, заставленном рядами двухэтажных кроватей. На веревках сушилось белье. Большинство заключенных были молоды. И снова серые лица – возможно, из-за того же тусклого освещения? Фармер тотчас принялся пожимать мужчинам руки, хлопать их по плечам, и мгновение спустя они уже громко, наперебой выкладывали ему свои горести.
– Вам бы в судах защищать права подсудимых, больных СПИДом, – заметил один из них.
– Скажите ему, что в США я этим занимаюсь, – попросил Фармер переводчика. – Но поскольку я не гражданин России…
Еще один заключенный, самый старший и, судя по всему, призванный говорить от имени всех присутствующих, сообщил, что был лишь свидетелем убийства, но из-за СПИДа получил пятилетний срок. А самому убийце (их судили вместе) дали всего три года.
– Как выйду, башку ему отрежу, – заключил он.
Все рассмеялись – и заключенные, и врачи. Смех оглушительно отдавался от стен тесного помещения. Фармер сделал себе пометку “Больных СПИДом сажают на более долгие сроки?” и обещал передать информацию специалисту по СПИДу во Всемирном банке. Затем он поблагодарил заключенных.
Старший сказал:
– Вы бы почаще нас навещали.
– Я бы с удовольствием, – ответил Фармер.
Мы покинули камеру с пятьюдесятью больными СПИДом. Дверь захлопнулась за нами. Грохот тяжелого старого металла о металл эхом прокатился по слабо освещенному коридору. Ни коридору, ни эху словно бы не было конца.
– Представляете, каково слышать это с той стороны двери? – спросил я Фармера.
– Каждый раз представляю, – ответил он.
Да и не так-то трудно вообразить себя совершающим ошибку, которая приведет в камеру в этих стенах. В то время в России уголовное правосудие было так перегружено, что молодой парнишка, стянувший батон хлеба или бутылку водки, мог угодить в тюрьму и целый год, если не четыре, томиться в СИЗО, пока дело дойдет до суда. Во время ожидания либо отсидки ему с высокой вероятностью светило заражение туберкулезом – по оценкам, около 80 процентов российских заключенных являлись носителями палочек Коха. И тогда его шансы слечь с активной формой болезни были куда выше среднего, поскольку в тюрьме этому способствовали плохая гигиена, нездоровое питание и изобилие других заболеваний. Между тем в скудно финансируемых тюремных больницах оборудования и лекарств не хватало даже для того, чтобы нормально лечить лекарственно-чувствительный ТБ. Молодой заключенный мог подхватить чувствительный штамм, который потом вследствие неадекватного лечения разовьется в МЛУ-ТБ.
Или же – такая вероятность возрастала день ото дня – он мог получить уже готовый устойчивый штамм от заразившего его товарища по несчастью и умереть, так и не дождавшись приговора за кражу батона.
Нас провели по очередному извилистому коридору, вниз по железной винтовой лестнице и через помещение, смахивавшее на средневековый пыточный подвал. Мимо нас прошел старик, кативший перед собой тележку, уставленную большими алюминиевыми бидонами. Из одного торчал огромный половник. Старик остановился у двери камеры. В дверном окошке появилось чье-то лицо.
– Еда здесь вообще-то неплохая, – поведал мне Фармер. – Соленая.
Высокая похвала от врача-гипертоника.
Мы пришли в туберкулезное отделение. Сотрудник тюремной администрации пустился в объяснения:
– Врачи работают сверхурочно и почти не защищены. Рентгеновское оборудование изношено. Даже для текущих пациентов не хватает лекарств. Лабораторных услуг город нам не оказывает.
Они сами не знали, сколько у них больных с лекарственно-устойчивыми штаммами. Но уж точно не несколько человек. Туберкулезом страдали 100 тысяч заключенных, МЛУ-ТБ – вероятно, около 30 тысяч. В октябре Фармер выступал в телепередаче “60 минут”, рассказывал об эпидемии в России и бывших республиках СССР.
– Мы объявим чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на мировом уровне, – говорил он.
– Как скоро ситуация выйдет из-под контроля? – спросил ведущий.
– По мне, так уже вышла, – ответил Фармер.
Мы задержались в вестибюле туберкулезного отделения. Кто-то из русских врачей сказал:
– Мы не получаем информации из других учреждений, откуда к нам поступают заключенные. У нас тут такой вокзал. Пятьдесят процентов не из Москвы.
Фармер поинтересовался, как долго больному ТБ заключенному добираться отсюда в сибирскую тюрьму.
– Примерно месяц. Их пересылают по этапу. Продолжать лечение в пути нет никакой возможности.
Повернувшись к Гольдфарбу, Фармер тихо прокомментировал:
– Эти перевозки заключенных обернутся кошмаром.
Мы снова зашли в камеру, на сей раз к туберкулезникам.
В целом она мало отличалась от предыдущей, разве что народу побольше и воздух более влажный – результат дыхания множества больных легких. Несколько человек кашляли. (Каждый на свой лад, подумал я: вот шаляпинский бас, вот баритон, вот тенор.) Фармер стоял возле кровати, слегка опираясь рукой о матрас верхней койки.
– Хорошо выглядите, – сказал он одному из заключенных. – Кто-нибудь кашляет кровью?
– Нет.
– Значит, в целом вы идете на поправку?
– Ну хоть не под откос, – отозвался кто-то.
Фармер поинтересовался, откуда они. Грозный, Поволжье, Баку.
– Скажите им, что я был в Баку, – обратился Фармер к переводчику. – И что здесь лучше. Скажите, что я был в колонии номер три.
Молодой человек, сидевший на верхней койке, оживился:
– А я вас видел в третьей. С вами была женщина.
– Совершенно верно! – воскликнул Фармер, пожимая парню руку. – Рад видеть вас снова.
Пришло время прощаться.
Через переводчика Фармер пожелал больным удачи.
– Скажите им: я надеюсь, что все они поправятся.
Мы направились обратно в помещения администрации.
– Нравится мне здешний медперсонал, – признался Фармер. – Они стараются. – Он повернулся к переводчику: – Передайте Людмиле, что врачи в этой тюрьме, по-моему, всей душой преданы своей работе.
Свой отзыв он адресовал именно врачу Людмиле неслучайно. Она рассказывала ему, как один итальянский правозащитник, инспектировавший учреждение, обвинил ее в жестоком обращении с больными СПИДом, имея в виду их изоляцию от остальных заключенных. Фармер на это ответил: “В рассаднике туберкулеза?! Не изолировать их было бы нарушением прав человека!”
Пока мы шли по коридору, Фармер тихо говорил мне:
– У них тут семьсот больничных коек, из которых пятьсот заняты туберкулезниками. Подсказка, лишь подсказка, что, возможно, имеет место проблема.
Один из врачей пожаловался Фармеру, что помимо лекарственной устойчивости повышается еще и заболеваемость сифилисом. Тревожный знак: разгул сифилиса провоцирует разгул СПИДа, который, в свою очередь, значительно усугубит эпидемию туберкулеза.
– Катастрофа, черт подери, – бормотал Фармер.
Тем временем нас проводили в зал для совещаний с выкрашенными в горчично-желтый цвет стенами. Большой стол был уставлен угощениями.
– Ой, спасибо! Как приятно! – громко воскликнул Фармер и, обращаясь ко мне, вполголоса добавил: – Вот этого я и боялся. Ненавижу водку.
Однако сел и лихо опрокинул рюмку, искусно притворяясь, будто ему нравится. Точно как в Гаити, когда его потчевали продуктами пятой группы. Зазвучали тосты. Ответные речи Фармера постепенно становились все длиннее.
– В Гаити я работаю с юности, уже без малого два десятка лет, и несколько лет назад власти Массачусетса пригласили меня в комиссию штата по борьбе с туберкулезом. А я их спрашиваю: “И на кой мы такие нужны?” В Гаити у меня было несколько пациентов с МЛУ-ТБ, я взял у них мокроту на анализ, привез в Бостон и отдал в лабораторию, надписав “Пол Фармер, комиссар ТБ”. Я хотел, чтобы там сделали анализ моих гаитянских образцов, и они все сделали без единого вопроса. Поэтому я стал возить туда образцы все чаще, потом и из Перу тоже, и в конце концов у меня, разумеется, попросили объяснений. Я ответил: “Массачусетс – солидный штат. В нем есть все для лечения ТБ: большие лаборатории, фтизиатров хоть отбавляй, специально подготовленных медсестер и лаборантов полно. Одного только не хватает – туберкулеза”.
Начальник русских врачей, полковник, рассмеялся. Одна из его подчиненных без тени улыбки сказала:
– У нас туберкулеза хоть отбавляй, а лабораторий нет.
Снова тосты, снова водка. Полковник сунул руку в карман, потянул было оттуда пачку сигарет, но остановился, чтобы спросить Фармера:
– Америка – демократическое государство?
Лицо Фармера стало серьезным:
– На мой взгляд, государству с огромными ресурсами легко называться демократическим. Я себя считаю прежде всего врачом, а уж потом американцем. У нас с Людмилой одна национальность – забота о больных. Американцы – ленивые демократы. Как представитель той же национальности, что и Людмила, я убежден: богатые могут сколько угодно провозглашать себя демократами, но наши больные – не среди них.
Я думал, на этом он успокоится, но он всего лишь сделал паузу ради переводчика, чтобы тот не отстал.
– Знаете, я очень горжусь тем, что я американец, потому что это дает мне много возможностей. Я могу свободно путешествовать по миру, могу запускать проекты. Но это называется привилегией, а не демократией.
По мере его выступления полковнику все труднее становилось контролировать выражение лица. Наконец он не выдержал и расхохотался.
– Да я просто собирался спросить, не возражаете ли вы, если я закурю, – пояснил он.
Гольдфарб поморщился:
– Пол! Он спрашивал разрешения закурить, а ты ему толкнул речь о социализме и демократии.
– Но речь была замечательная, – сказал полковник, улыбаясь Фармеру, у которого уже явно слипались глаза.
Гольдфарб повернулся к полковнику:
– Завтра Пол будет защищать ваши интересы перед Всемирным банком.
Фармер встряхнулся:
– Одно не так. По мне, так это не должна бы быть ссуда. Но, с точки зрения международного сообщества целителей, дело хорошее. Дай бог, – он сложил ладони домиком, – чтобы все прошло нормально.
В мире борьбы с туберкулезом эксперты все еще спорили по поводу лечения МЛУ-ТБ. Журнальные статьи служили главным оружием в этих баталиях. Но, как сказал Говард Хайатт, Фармер и Ким доказали, что лечить МЛУ-ТБ можно, причем не слишком дорого. Отчасти благодаря результатам их работы в Перу Всемирный банк согласился на компромисс: ссуда пойдет на лечение всех штаммов ТБ в России, то есть и на программу DOTS, и на DOTS-plus. Российские чиновники не возражали – в сущности, они давно именно этого и добивались. Но по вопросу распределения полученных средств мнения расходились, а состав участников обсуждения представлял собой взрывоопасную смесь, точно европейские страны накануне Первой мировой войны. Отряд консультантов банка с солидными послужными списками (некоторые и с не менее солидным самомнением) вел переговоры с российскими генералами и полковниками, бывшими аппаратчиками и старыми борцами с ТБ, осколками поверженной империи, не терпевшими снисходительного тона.
Да и Алекс Гольдфарб собственной персоной усложнял ситуацию.
Как-то вечером за коктейлями один из экспертов Всемирного банка сказал Фармеру: “Мне Алекс симпатичен, но, пожалуйста, не пускайте его на совещания”. В этих переговорах Гольдфарб был главным союзником Фармера. Пол, как специалист по туберкулезу в тюрьмах, представлял банк, Алекс – российское Министерство юстиции, в чьем ведении находились пенитенциарные учреждения. На этой неделе они преследовали общую цель – добиться, чтобы тюрьмы получили приличную часть ссуды. Мне же Фармер поведал и о своей дополнительной задаче: “Я должен приглядывать за Алексом”.
На той неделе в Москве Алекс почти каждое утро и каждый вечер заходил к нам в гостиницу обсудить стратегию. Он смахивал на профессора – бородатый, слегка сутулый, в твидовом пиджаке и вельветовых штанах.
– Я весьма уважаемый биохимик, – сообщил он мне.
Тут же ко мне обернулся и Фармер:
– Алекс обнаружил один из генов, ответственных за возникновение устойчивости. – Он улыбнулся Гольдфарбу. – А так ничего особенного.
Затем он принялся пересказывать Алексу, что происходило на минувших совещаниях.
Тот немного послушал, затем высказался о главном оппоненте Фармера среди представителей Всемирного банка:
– Да кто он вообще, этот козел? Слов нет! Столько гонора – и такое невежество. Может, мне этот эпизодец завтра в “Известиях” пропечатать?
– Так и знал, что ты это скажешь, – отозвался Фармер. И посмотрел на меня: – Вот вы смеетесь, а с него правда станется.
– Всемирный банк, – продолжал Алекс, – отправляет сюда, в эти жуткие снега, индийского эксперта в тюрбане, который ни черта не знает о России, и ему тут крышка. Они понятия не имеют, как все устроено в этой стране.
Фармер попытался продолжить рассказ, но Алекс снова его перебил.
– Дай мне закончить, – попросил Фармер.
Алекс не унимался:
– Слушай, что я тебе скажу. Люди, с которыми ты совещаешься, не играют абсолютно никакой роли.
– Алекс, дай мне закончить, твою мать! – рявкнул Фармер. Посетители гостиничного ресторана стали на нас оглядываться, и Пол заговорил тише: – Прекрати меня перебивать. Ты можешь менять наше предложение как тебе угодно. Мое дело – предупредить, к чему они станут цепляться.
– Никакой роли они не играют, – повторил Гольдфарб.
По его словам, совещания затрагивали интересы разных секторов политического ландшафта. Мол, в рядах иностранцев, обсуждающих условия предоставления ссуды, сплошные раздоры. Например, работающие в Москве чиновники ВОЗ недовольны тем, что на их территорию суются неправительственные организации, такие как ПВИЗ и фонд Сороса. А фонд и сам делится на конкурирующие фракции, поскольку Сорос охотно стимулирует соперничество внутри собственных компаний. Кроме того, некоторые из упомянутых чиновников ВОЗ поляки по национальности, а исторически сложившаяся вражда между поляками и русскими еще не выветрилась до конца.
Все это Алекс излагал, как мне показалось, чуть ли не с наслаждением. Потом добавил:
– Но это не играет роли.
А играет роль, причем главную, раскол между двумя российскими министерствами – здравоохранения и юстиции, говорил он. Министерство здравоохранения, ответственное за гражданский сектор, стремится заполучить под свой контроль всю ссуду целиком. Не столько чтобы бороться с ТБ, подчеркнул Алекс, сколько ради укрепления собственной системы, из которой уже песок сыплется. К тому же существуют некие темные сделки между Минздравом и фармацевтическими компаниями, которым никто никогда не доверил бы поставки крупных партий противотуберкулезных препаратов, если бы критериями служили качество и цена. Да еще многим чиновникам министерства кажется, будто иностранцы их оскорбляют. (В том числе Алекс, обзывавший их клоунами и словами похуже, заметил Фармер.)
Что же касается Министерства юстиции, продолжал Гольдфарб, пусть мотивы у них не безупречные, зато намерения правильные. В тюрьмах сосредоточена почти половина всех больных ТБ, и там же находится большинство страдающих устойчивой формой заболевания. Тюрьмы, как выразился Алекс, выполняют функцию “эпидемиологического насоса”: способствуют распространению ТБ среди заключенных, а потом выпускают их обратно в общество.
– Насос обновляется каждые три года. Следовательно, лучший способ остановить эпидемию в обществе – это очистить от нее тюрьмы, точно так же, как мы чистим масляный фильтр в машине.
Со всем этим Фармер соглашался, а кроме того, считал, что заключенные заслуживают внимания в первую очередь.
– Раз уж государство подвергает заключенных повышенному риску, то и лечить их надо первыми, иначе нельзя.
Он верил, что Министерство юстиции искренне хочет вылечить отбывающих срок больных. Как же можно не хотеть? Ведь тюремная эпидемия угрожает их собственному персоналу, их собственным владениям. Министерство дало ему доступ к разного рода секретным материалам, и это он тоже принимал как довод в пользу искренности чиновников. Но на сегодняшнем совещании эксперты Всемирного банка, похоже, договорились, что Минюсту (то есть заключенным) достанется всего двадцать процентов ссуды. Перед Фармером и Алексом стояла общая задача – заставить их изменить решение и добиться пятидесяти процентов для Минюста.
Сочувствовал Фармер и Министерству здравоохранения, где он обхаживал старых борцов с ТБ и у многих вызывал симпатию. Он казался ходячей вывеской, гласящей, что посредством дипломатии, фактов и личного обаяния можно со всеми наладить добрые отношения и объединить враждующие стороны. В конце концов, враг-то у них один на всех – палочка Коха.
На подобные речи Алекс отвечал:
– Какой же ты, Пол, наивный.
Все, мол, решат, как обычно, деньги и власть. Но пока, так и быть, пусть Фармер действует на свое усмотрение.
– Но есть и план Б. Вообще-то план Б мне даже нравится. Мы проигрываем. Тюрьмы остаются с носом, все деньги уходят Минздраву. Тогда мы поднимаем адский шум, и у нас в руках оказывается превосходный инструмент для привлечения частных пожертвований.
– Только ты пока с этим не спеши, – ответил Фармер, – а то получится, что я напрасно целый год проторчал в офисах Всемирного банка.
– А чего ты там торчал? – спросил Алекс.
– Чего я там торчал?! – повысил голос Фармер. – А того, что ты меня туда отправил!
Алекс расхохотался:
– Ну да, я, а кто же еще.
Какое-то время мне казалось, что Гольдфарб прав: у Фармера крайне мало шансов добиться пятидесяти процентов ссуды для заключенных. Еще в самолете по дороге в Москву Пол признался, что устал от заседаний и споров во Всемирном банке, от конференц-залов, где медленно кончается кислород и нет никаких пациентов. Его мысли устремлялись к Канжи: сделает ли без него кто-то из врачей любмальную пункцию, когда поступит очередная жертва менингита? Да и физически он казался изнуренным. Утром за первым завтраком в Москве (у него завтраком назывался кофе) он сказал:
– Я все еще в биологическом раздрае.
Он сегодня надел третью, последнюю рубашку, на ней недоставало одной пуговицы. Черный костюм выглядел так, словно в нем спали. На самом же деле Фармер не спал вовсе.
– Зато я ответил на все четыреста тринадцать имейлов, – добавил он, повеселев на мгновение.
Часть волос у него торчала дыбом, точно петушиный гребешок, лицо и шея покраснели – наверное, мысленно он уже втянулся в полемику. В одном из писем, на которые он отвечал ночью, цитировалось высказывание некоего эксперта от Всемирного банка: “Ваше предложение насчет тюрем смехотворно, это же слишком дорого. Просто смешно!” И теперь, за чашкой кофе, Фармер говорил:
– Битва понеслась. Но программа рассчитана на десять лет, это очень долгий процесс. Десять лет! Пожалуй, мне надо бы хоть день продержаться без конфликтов. Я стараюсь, я уговариваю себя сдержаться и не съездить этому типу по физиономии. А заключенные умирают, – продолжал он, – и будут умирать дальше…
Тут его взгляд упал на часы. Он уже опаздывал на утреннее заседание. Фармер помчался к выходу, на ходу натягивая пальто. За ним по ковру волочился выскользнувший из портфеля компьютерный шнур.
– Сэр! – окликнул его швейцар, поднимая упавшие перчатки.
– Ой, спасибо! – обрадовался он и с надеждой спросил: – А снег будет?
Швейцар придержал ему дверь, и Фармер ссутулился, ныряя в ледяной январский воздух.
Вечером он выглядел получше. Главный переговорщик от российской стороны, потрясая переведенной на русский статьей Фармера “Новая волна туберкулеза в РФ”, провозгласил: “Вы единственный, кто понимает про наш туберкулез”. Потом разгорелись споры вокруг представленного Фармером предварительного плана для тюрем, особенно по вопросу дополнительного питания для больных ТБ. Разве для лечения необходимо дополнительное питание? Некоторые считали, что нет. “Мы поцапались из-за еды”, – сообщил Фармер. Но от иного рода конфликтов он заставил себя воздержаться.
Прогноз погоды взбодрил его – в Москве обещали снег. Фармер вообще любил буйство стихий.
– Хочу метель! – заявил он.
Фармер говорил мне, что политические игры на арене международного здравоохранения даются ему нелегко.
Но игроком он, очевидно, был хорошим, и в Москве к нему словно бы день за днем возвращались силы, он вновь стал улыбаться – и вновь каким-то чудом складывалось впечатление, будто он одет элегантно.
Некоторые участники заседаний продолжали настаивать на том, что дополнительное питание для заключенных – неоправданная трата денег, но потом один из переговорщиков отвел Фармера в сторонку и посоветовал подсунуть еду в бюджет, обозначив ее как “витамины”. Это сработало. В конце концов Всемирный банк согласился отдать примерно половину ссуды тюрьмам. На данный момент планировался первый взнос в размере 30 миллионов долларов с последующим ростом общей суммы – ориентировочно до 100 миллионов. Но сам факт предоставления ссуды оставался под вопросом. Не возникало сомнений, что Министерство здравоохранения окажется недовольно своей долей. Как бы то ни было, своих основных промежуточных целей Фармер достиг и Гольдфарба от осуществления его “плана Б” удержал.
Вечером, в гостиничном номере, Фармер сказал:
– Полная победа, как тут не радоваться! Ну что, Алекс, ты доволен?
– Доволен, – ответил Гольдфарб, – но я всегда вижу две стороны. Мне же и разбираться с этими тридцатью миллионами. Следить, чтоб не растащили.
– Так это же твои друзья. Ну украдет один на водку, другой – на подарок для своей девушки. Подумаешь. – Фармер восседал на подоконнике, поскольку все стулья в комнате были завалены бумагами. Он указал на привезенную его ассистентом из Бостона стопку пвизовских бланков, вот-вот готовую обрушиться: – Видишь, Алекс, разницу между твоей жизнью и моей? Это для благодарственных писем за двадцатипятидолларовые пожертвования в ПВИЗ.
– Ты сам этим занимаешься? А где берешь адреса для рассылки? Покупаешь базы данных?
– Да ну тебя! Адреса накопились за тринадцать лет. А тебе только и написать: “Дорогой Джордж Сорос, спасибо за двенадцать миллионов”. – Фармер взял несколько незаполненных бланков: – Ну-ка посмотрим. Мне надо поблагодарить: подругу бабушки, студентку, экономиста-левака, историка, секретаршу из моего отдела, администратора оттуда же, педиатра…
Похоже, оглашение списка еще улучшило его настроение, и без того приподнятое. Мне, если честно, показалось, что он хвастается.
Интересовало меня и мнение Алекса о Фармере. “Пол такой хрупкий, – сказал он мне в приватной беседе. – Такой худенький. Он как Чехов. Им движет не что иное, как сентиментальность. Впрочем, я еще не встречал толкового человека, который не утверждал бы, что сентиментален или что работает ради высшего блага. Даже в сфере бизнеса, а уж в международных делах и подавно”.
Фармер же, со своей стороны, говорил об Алексе так: “Только мать может любить такого. Я его люблю, правда. И вся эта затея с Россией удастся, и знаете почему? Потому что он меня тоже любит”.
Судя по всему, их дружба подпитывалась спорами, и “питания” ей хватало. Взять, например, такую тему, как Куба. Насчет кубинской медицинской статистики Алекс высказывался следующим образом: “Полагаю, товарищ Кастро большой мастер наводить дисциплину, так что и здравоохранение у него должно ходить по струнке. Товарищ Берия в сибирских тюрьмах тоже навел бы порядок. Расстрелять кое-кого, и все”.
Или взять российских заключенных. Фармер спрашивал: “Если большинство из них сажают за моральное уродство, то отчего же их количество так резко повышается во время общественных и экономических кризисов или перемен?”
Алекс смотрел на это иначе. Однажды вечером за ужином он заметил:
– Ничего хорошего нет в этих заключенных. Они важны с эпидемиологической точки зрения.
– Наш главный спор, – прокомментировал Фармер.
– Нет, не так, – сказал Гольдфарб. – Примерно половина из них не должны сидеть.
– Три четверти, – возразил Фармер. – Ладно тебе, Алекс. Это же преступления против собственности.
– Но двадцать пять процентов должны сидеть пожизненно.
– Нет. Десять процентов. Ты меня считаешь наивным.
– Ты не наивный, – сказал Гольдфарб. – Все ты понимаешь. Просто не желаешь смириться с тем, что…
– Люди не ангелы.
– Нет! Сволочи. Ты не наивный. Ты просто умеешь игнорировать все, что тебе неприятно, поэтому ты и не ученый. Ты игнорируешь факты.
– Но ты все равно меня любишь.
– Еще бы!
Фармер действительно любил бури, хотя, упоминая об этом, почти всегда добавлял, что беднякам от разгулявшихся стихий гораздо больше горя, чем всем прочим. В Москве он хотел метели, но нам достался просто снегопад. Немилосердно холодной ночью мы возвращались в гостиницу, шагая по скользким тротуарам. Фармер натянул на нос свой красный шарф, и очки его затуманились. Мы уговорили три бутылки красного. Я сказал:
– Знаете, а вы как будто еще похудели с тех пор, как мы двинулись в путь.
– Долгое вышло путешествие, – ответил он.
– Ну, это было интересно, – заметил я. – Мне нравится Алекс.
– Рад слышать. Алекс замечательный. Когда мы только познакомились, я на него ужасно разозлился за это высказывание о заключенных. – Он изобразил русский акцент: – “Скверные люди, но важные с эпидемиологической точки зрения”.
Я вспомнил их последний спор, вспомнил, как Фармер упорно снижал количество заслуживающих тюрьмы. Продолжи он в том же духе, дожал бы до одного процента, если не до нуля, подумалось мне.
– Думаете, я псих? – спросил он.
– Нет. Но некоторые из них совершили чудовищные преступления.
– Знаю, – ответил Фармер. – И верю в историческую точность.
– Но вы всех прощаете.
– Да, наверное. Думаете, это безумие?
– Нет, – сказал я. – Но эта битва, по-моему, из тех, что невозможно выиграть.
– Ничего. К поражению я готов.
– Но бывают маленькие победы, – добавил я.
– О да! И как же я их люблю!
Мысли у меня уже немного путались, язык чуть-чуть заплетался. Я попытался сформулировать гипотетический вопрос, призванный продемонстрировать глубокое понимание его бродячей жизни.
– Вы прекрасный человек, – начал я, положив ему руку на плечо, – но без вашей клинической практики…
– Я был бы никем, – перебил он.
Часть V ПДБ
Глава 24
В июле 2000 года фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил “Партнерам во имя здоровья” и ряду других организаций 45 миллионов долларов на искоренение МЛУ-ТБ в Перу. Можно сказать, исполнил заветную мечту Джима Кима. Уильям Фейги, научный консультант фонда и человек, стоявший за грантом, рассказывал следующее. Несколько организаций, занимавшихся одной и той же проблемой в сфере международного здравоохранения, годами соперничали друг с другом, пока он не пришел к их руководителям с сообщением: “Гейтс хочет дать на это грант, но только один”. После чего враждующим сторонам понадобилось всего два часа на примирение. Джим позаимствовал эту стратегию. Он взял в соратники некоторых потенциальных и бывших противников, таких как туберкулезный департамент ВОЗ. Деньги должны были поступать через Гарвардскую медицинскую школу, но непосредственно претворять в жизнь программу лечения в Перу предстояло “Партнерам во имя здоровья”.
Грант был рассчитан на пять лет. За это время, по предварительным оценкам Джима, им предстояло провести через терапию около двух тысяч больных хроническим МЛУ-ТБ и вылечить не менее восьмидесяти процентов. А там уже перуанские власти возьмут страшное заболевание под контроль. Тогда мир убедится, что с МЛУ-ТБ можно бороться по всей стране, а заодно получит технологии и недорогие инструменты для достижения этой цели. Если, конечно, все получится. “Партнерам во имя здоровья” и их помощникам надлежало превратить локальный здравоохранительный проект в государственный, а подобное “увеличение масштаба” неизбежно влечет за собой проблемы. “Иногда мне кажется, что у меня вот-вот взорвется голова!” – говорил мне Джим. Однако в успехе он не сомневался.
Не сомневался в нем и Фармер, хотя и разводил порой суету, как и над всяким проектом, – в данном случае отчасти для того, чтобы Джим не отвлекался и не прекращал суетиться. Сам же он беспокоился о побочных эффектах. Когда люди, давно поддерживающие ПВИЗ, узнают про грант – новость попала на первую полосу The Boston Globe, – не решат ли они, что организации больше не нужны их пожертвования? Не заподозрит ли кто-нибудь ПВИЗ в продажности? Выступая перед сподвижниками и жертвователями, Фармер стал рассказывать о “необычных альянсах”. Для наглядности он показывал фотографии, например, Фиделя Кастро с папой римским, Биллом Гейтсом и Бритни Спирс. Слушатели смеялись, а Фармер объяснял насчет гранта Гейтсов: “Это просто чудо, но оно существует только для перуанского проекта. А мы существуем для бедных. Нам важны все их проблемы: несчастные случаи, ножевые ранения, ожоги, эклампсия. А попробуйте попросить у какого-нибудь фонда денег на подобные вещи. Вам ответят: у нас правила, в них нет таких пунктов, смотри том третий нашей инструкции по соисканию грантов. ПВИЗ крупно повезло, но это не решает проблемы наших дочерних организаций в Чьяпасе, Роксбери, Гаити. – Тут он делал паузу и, улыбаясь с кафедры давним друзьям ПВИЗ, провозглашал: – Так что отставка вам не светит!”
Вообще-то крупные фонды и правда обычно предпочитали поддерживать узкоспециализированные кампании, направленные против болезней, вокруг которых поднималось много шума. Вряд ли хоть один согласился бы просто из года в год оплачивать счета медицинского комплекса вроде “Занми Ласанте”. Для Канжи основным источником средств по-прежнему оставались частные пожертвования и иссякающий капитал Тома Уайта. Фармер тем не менее расширял свою программу борьбы со СПИДом в Гаити. Вскоре у него уже двести пятьдесят человек принимали антиретровирусные препараты. Здесь он действовал по тем же принципам, на которых строил противотуберкулезную программу “Занми Ласанте”: терапия под непосредственным наблюдением и ежемесячная материальная помощь. Первые результаты радовали – много историй о возвращении к нормальной жизни, о детях, не оставшихся сиротами. Но очередь умирающих росла день ото дня, а средств на покупку антиретровирусных лекарств было очень мало. Хотя женщина, с которой Фармер познакомился на Кубе, изо всех сил старалась ему помочь, в UNAIDS отклонили поданную им заявку, поскольку его программа лечения СПИДа не соответствовала “критериям устойчивости”. Это означало: препараты слишком дороги, чтобы жители Гаити в обозримом будущем смогли покупать их сами. Такой ответ Фармер получал повсюду, а когда он обращался к фармакологическим компаниям с просьбой о пожертвованиях лекарствами или хотя бы о скидках, ему советовали пойти в те самые агентства и фонды, что сочли его программу “неустойчивой” из-за дороговизны препаратов. Но пока что он выкручивался. Фонд Сороса, имевший отделение в Гаити, дал кое-какие деньги. Том Уайт сделал отдельное пожертвование. А еще ПВИЗ продали здание своей штаб-квартиры в Кембридже, и Фармер потратил основную часть прибыли на препараты для лечения СПИДа в Канжи.
Единомышленники в Гарвардской медицинской школе уже приютили у себя ПВИЗ и дали им второе имя – Программа по инфекционным заболеваниям и социальным переменам. Позже Бригем, не желая отставать, тоже создаст специальный отдел и очередной “псевдоним” для ПВИЗ – Отдел социальной медицины и борьбы с неравенством в здравоохранении. А пока Фармер уговорил медицинскую школу выделить помещения под штаб-квартиру для всего персонала организации, которого становилось все больше и больше. Им отвели места в паре старых кирпичных зданий на Хантингтон-авеню, тесных, но симпатичных внутри.
Приезжая туда, я всякий раз обнаруживал, что пвизовцы переехали в другие кабинеты, и вскоре потерял счет именам и лицам. Казалось, еще вчера типичным пвизовцем был волонтер, анализировавший эпидемиологические данные, а в перерывах искавший, например, потерянный багаж Пола. Когда поджимали сроки, ребята спали по очереди на диванчике в прежнем здании. Теперь же в штате работали профессиональные администраторы, программисты, составители заявок на гранты, не знавшие ни жаргона ПВИЗ, ни тем более обычаев. Офелия много лет была душой штаб-квартиры, каждый мог положиться на нее как на человека справедливого, чуткого и (как правило) уравновешенного. Теперь она занималась адаптацией новичков и пыталась “нормализовать”, по выражению Джима, рабочие процессы пвизовцев, чтобы они могли позволить себе заводить детей, иногда уходить домой в пять, брать отпуск.
Однажды, заглянув в кабинет нового сотрудника, я увидел на стене приклеенный скотчем плакатик: “Если Пол – образец, то мы – сила”. Однако внимательный наблюдатель мог заметить, что “мы – сила” написано на полоске бумаги, а если ее приподнять, откроется изначальная фраза: “Если Пол – образец, то нам…ец”. Дословная цитата из речей Джима, типичная для него обманчивая резкость высказывания. На самом деле это было предупреждение молодым пвизовцам, полагающим своей главной целью подражание Полу. Таких во все времена в организации было много, а Джим считал, что стремление быть как Пол говорит о неверной расстановке приоритетов. Главная цель пвизовца – облегчать чужие жизни, а не самосовершенствоваться. “Мы тут гонимся не за повышением собственной квалификации”, – любил повторять сам Пол. Кроме того, механическое подражание ничего бы не дало. Пол не учил пвизовцев, как распоряжаться своей жизнью, но наглядно демонстрировал, что с нерешаемыми на вид проблемами можно справиться. “Пол выработал методы, помогающие каждому из нас стать лучше, он нарисовал атлас дорог, ведущих к достойной жизни, по которым мы можем следовать, не копируя каждый его шаг. Он дает нам образец того, что нужно делать, но не того, как нужно это делать. Давайте восхищаться им, давайте устраивать так, чтобы люди вдохновлялись его примером. Но не надо заявлять, будто каждый может или должен стать таким, как он, – сказал мне Джим, разъясняя цитату на плакате. И добавил: – А то, если бедным придется ждать медицинской помощи, пока им на выручку не явится толпа двойников Пола, им…ец”.
С этим Фармер не спорил. Однажды он при мне распереживался из-за письма одного студента. Тот писал, что верит в его идеи, но сам, пожалуй, не потянет делать то же, что делает Фармер. “Я же не говорил, что ты должен все делать, как я! – вслух обратился он к экрану компьютера. – Я только сказал, что определенные вещи должны быть сделаны”. Затем он сочинил тактичный ответ.
И все же перемены не целиком захватили ПВИЗ. Кое-что из прежних особенностей сохранилось. Раньше Фармер возвращался из Гаити, являлся в однокомнатный офис, и не успевала Офелия оглянуться, как пол уже ровным слоем покрывали открытые чемоданы и вываливающееся из них содержимое, а сотрудники разбегались в разные стороны выполнять задания для следующего проекта. И вот он уже снова уехал, а она смотрит на Джима и спрашивает: “Это что сейчас было?” Пол и по сей день устраивал, как говорила Офелия, “маленькие ураганы”. Однажды я пришел в новые помещения ПВИЗ через несколько часов после его отъезда. Джим смеялся и качал головой. Только что он заглянул к дамам, которые теперь пытались организовывать график, путешествия и корреспонденцию Пола, и застал их в слезах. Не потому, что Пол с ними грубо обошелся. По словам Офелии, он никогда не хамит, и мой личный опыт это подтверждает. Женщин просто настигла нервная разрядка, или, как выразился Джим, “декомпрессия после Пола”.
Сохранилась в ПВИЗ и прежняя экономия. Организация до сих пор использовала лишь пять процентов пожертвований на собственные нужды, а все остальное уходило на обслуживание больных. Через несколько месяцев после получения гранта Фармер направил своим сотрудникам открытое письмо, в котором выражал опасение, как бы “Партнеры” не сбились с нравственного пути, помимо прочего потому, что некоторые хотят оплаты сверхурочных. “Работа на благо бедным не бывает сверхурочной, – писал он. – Мы лишь судорожно пытаемся наверстать упущенное”. В принципе Офелия с этим соглашалась и не допустила бы, чтобы правила других учреждений связали ПВИЗ по рукам и ногам. Однако на известные компромиссы она шла, поскольку связи ПВИЗ с другими учреждениями давали возможность лечить больше больных. Формальная связь с Гарвардом обязывала их оплачивать сверхурочные часы некоторым служащим с наиболее низкой зарплатой. Офелия, в чьем ведении находились подобные вопросы, данному правилу следовала. Просто не говорила об этом Полу.
Когда я впервые посетил бостонскую штаб квартиру ПВИЗ в конце 1999 года, там работало человек двадцать. Теперь их было пятьдесят, и еще десять в Роксбери. В Гаити уже насчитывалось около четырехсот сотрудников, в Перу около ста двадцати, да еще предстояло “унаследовать” пятнадцать служащих в России, поскольку ПВИЗ, вдобавок ко всему прочему, обзавелись сибирским филиалом.
Этого никто не планировал. Этого могло и вовсе не случиться, если бы Алекс Гольдфарб не вступил в некие загадочные отношения с олигархом Борисом Березовским, эмигрировавшим из России. Согласно одной из опубликованных версий, некий бывший агент КГБ заявил, что получил приказ ликвидировать Березовского, но вместо этого предупредил его, тем самым позволив олигарху покинуть страну и уберечь заодно свои счета в швейцарских банках. Позже агент и сам бежал в Турцию. А потом Гольдфарб оказал Березовскому услугу – помог агенту перебраться в Лондон. Российские же власти возбудили против бывшего агента какое-то уголовное дело, и поступок Гольдфарба привел их в ярость. Сорос тоже был в гневе, поскольку, вмешавшись в политику, Алекс бросил тень на весь проект по борьбе с туберкулезом. В любом случае проекту требовался новый директор, так как Гольдфарб теперь не мог нормально работать в России. “Российская газета” якобы цитировала его в таком духе: “Будучи в здравом уме, я еще как минимум пару недель в России не появлюсь. Я же не дурак”.
Фонд развил бурную переписку и в конце концов попросил ПВИЗ взять на себя руководство проектом в Томской области. Сибирский город стал родиной важнейшего пилотного проекта, призванного пресечь российскую эпидемию и продемонстрировать способы борьбы с туберкулезом, как чувствительным, так и устойчивым, в тюрьмах, городах и селах. “Томск должен сработать”, – сказал мне Гольдфарб еще в Москве. Джим и Пол разделяли его настрой. Проект в Томске имел неоценимое значение. Джим очень хотел им заняться, несмотря на то что отвечал за Перу и участвовал в бостонских проектах. Пол тревожился. “Партнеры” и так уже работали на пределе сил. Если они попытаются взвалить на себя слишком много и проекты начнут давать сбои, тут же из всех щелей полезут желающие указать на неудачи и объявить, что вот, мол, доказательство: нельзя лечить ТБ и МЛУ-ТБ в бедных регионах. Но на Томск Пол согласился, при условии, что его роль в основном будет чисто медицинской, а управленческие задачи и большая часть дипломатических лягут на Джима. Джим обещал приступить к делу безотлагательно, но почти месяц спустя, когда они с Полом и Офелией выбрались поужинать в кембриджский ресторан, он так еще и не съездил в Россию. Я присутствовал на том ужине.
– Ты согласился на Россию, – сказал Пол Джиму, как только мы уселись за стол. Тон был такой, будто он кричит.
Громкости пока недоставало, но и она нарастала. – Ты мне, черт подери, обещал! А сам не собираешься ехать.
Нет, он планировал лететь в Томск в этом месяце, возразил Джим, но выяснилось, что ему необходимо присутствовать на конференции по туберкулезу в Белладжио, в конференц-центре фонда Рокфеллера на озере Комо. Мероприятие чрезвычайно важное, объяснил он.
– Плевать! – ответил Фармер. На его покрасневшей шее вздулись вены. – Ко всем чертям Белладжио! Белладжио, мать твою, Белладжио! Тебе надо в Москву и в Томск, там ждет настоящее дело. Тебе надо поработать в Москве. А потом можешь валить в Белладжио и страдать там своей гарвардской херней. – Он повернулся к Офелии: – Я просто говорю, Мин, что он должен ехать в Россию. Я же предупреждал: ты не станешь, я знаю, ты все отменишь и не поедешь. А теперь он мне толкует о… Белладжио. Чтоб он провалился, этот Белладжио. Озеро Комо! Слушайте, да я до самой смерти готов не ездить в Белладжио.
Далее Пол заявил, что Джим был в Москве всего раз в жизни, да и то не выехал за пределы аэропорта.
– Это неправда, – тихо сказал Джим.
– Ты поехал в центр смотреть какую-то ерунду в Большом театре!
– Я бы поехал, – парировал Джим, – но спектакль отменили.
Фармер снова обратился к Офелии:
– Они отменили спектакль, Мин. А так бы он поехал. Лично я, – продолжал он, – собираюсь в этом году пару раз наведаться в Россию, но мне бы хотелось сосредоточиться на делах, которым Джим посоветует уделить внимание. – И снова к Джиму: – Так какие у меня будут дела? Скажи ей.
Джим улыбнулся:
– Большой театр и.
– И цирк, – подхватила Офелия.
Фармер не засмеялся.
– Я прошу его минимизировать ущерб в России, – сказал он ей.
– Он это понимает, Пи-Джей, – мягко ответила она.
– Ну и?.. Заставь его это сделать.
– Он пытается меня разозлить, чтобы… – начал Джим.
– Знаю, – перебила Офелия.
Им теперь редко выпадал случай собраться и посидеть втроем, но сегодня даже ностальгические перебранки не звучали безобидно.
– Джим раньше всегда тебя забирал из аэропорта, – сказала Офелия Фармеру.
– Раньше, – буркнул Пол.
– А ты меня никогда не забирал, – вставил Джим.
– Он вечно об этом талдычил, – объявил Фармер всему столу. – Вечно твердил, ты, мол, никогда меня не забираешь. Когда ты летишь из Лос-Анджелеса? Ну извини.
– Ни разу не забрал, – сказал Джим.
– Откуда ты летел? – отвечал Пол. – Ты прилетал из Лос-Анджелеса. Или из Чикаго.
– Ага, ага, – устало бросила Офелия.
– А я прилетал из Гаити, – продолжал Пол. – И хотел с тобой поговорить о. Вот о чем я хотел поговорить? О ерунде какой-нибудь? Я всегда говорил о Гаити.
– В общем. – начала было Офелия.
– Признаю свою ошибку, – не унимался Пол. – Больше не повторится. Я тебя никогда больше не попрошу забрать меня из аэропорта.
– Сейчас не об этом, – ответил Джим. – Сейчас о том, что ты меня никогда не забирал.
Офелия объяснила, что Пол держит свой нрав в узде, когда вспышка может поставить под удар задачи ПВИЗ.
А если он сорвется иногда при ней и Джиме, это ничего. Это безопасно, считала она, и к тому же наверняка полезно для его душевного равновесия. После ужина она сказала мне:
– Думаете, это была ссора? Как он обращался с Джимом – это вообще мелочи. По десятибалльной шкале тянет баллов на пять.
Я решил, что она, пожалуй, права. Когда Пол с Джимом выходили из ресторана, я заметил, что они уже шагают в обнимку и смеются. А пару недель спустя Джим полетел в Сибирь. Я отправился с ним.
Перелет из Москвы длился четыре часа. Поцарапанный деревянный круг на унитазе в российском Ту-154 был, кажется, ровесником самолета. Томск – полумиллионный город, отчасти застроенный советскими зданиями из бетона, стекла и стали, но есть в нем и старинные деревянные домики, покосившиеся за долгие годы от холодных зим, с потрясающими резными наличниками и карнизами. Несколько административных зданий выполнены в стиле классицизма. Томский университет – старейший в Сибири. Здесь также находится весьма уважаемый медицинский университет, есть электроламповый завод и спичечная фабрика. По улицам ездят трамваи, интернет предоставляют четыре провайдера-конкурента. Но местные авиалинии ко времени нашего визита обанкротились, и городской аэропорт принимал всего несколько рейсов в день вместо прежних сорока семи. И воду пить не рекомендовалось из-за начинавшегося паводка. Мы попали в город, где за памятниками войны тщательно ухаживали, а дворы и палисадники жилых домов были завалены хламом, торчавшим из-под снега. В гостинице, где мы остановились, нещадно топили, а полы как будто шли немного под откос. В первую же ночь мне приснился странный сон: долина памятников, где на мраморных колоннах торчали дряхлые автомобили-развалюшки.
В Томске и на окружающей его огромной территории проблема МЛУ-ТБ стояла остро, но – отчасти благодаря хлопотам Алекса Гольдфарба – выглядела в целом вполне решаемой. С другой стороны, благодаря хлопотам того же Гольдфарба вокруг упомянутого беглого агента каждый, кто работал над проектом по борьбе с туберкулезом, становился объектом сплетен. Ползли слухи, что это все шпионы, враги родины, участники зловещего заговора, а больные лишь служат им прикрытием. Чтобы развеять подозрения местных жителей, был организован визит замминистра юстиции в Томск. Чиновник должен был в присутствии тележурналистов одобрительно отозваться о проекте и о роли ПВИЗ в его осуществлении. Некий русский генерал сообщил мне, что замминистра согласился на это мероприятие только потому, что дружил с Фармером. Планировался банкет, на который пригласили и Пола. Но он застрял в Париже – его новая молоденькая ассистентка в Бостоне что-то перепутала, и визу он смог получить только на следующий день. Так что Джиму пришлось отдуваться в одиночку.
Место, где проходил банкет, смахивало на конспиративную квартиру для особо важных персон – маленький, но роскошный частный отельчик, притаившийся в углу серого бетонного жилищно-торгового комплекса, огромного и еще не достроенного. По какой-то непонятной причине этот район Томска называли Парижем. Мероприятие было важное. Без активной помощи генералов, заправлявших тюрьмами, стратегия DOTS-plus не имела никаких шансов на успех в России. Не имел их и томский проект, если генералы не проникнутся доверием к Джиму, которого впервые видят. Первые пару часов на банкете царила атмосфера строгого официоза, несмотря на десятки тостов и полдюжины опорожненных бутылок водки.
По одну сторону сдвинутых столов сидели замминистра и десять влиятельных генералов и полковников в оливково-зеленой форме, по другую – иностранцы и русские врачи, сотрудничающие с ПВИЗ. Барьер между двумя сторонами казался непреодолимым. Однако Джим углядел телевизор с приставкой для караоке, и, когда принесли рыбные блюда, я услышал его шепот: “Была не была”. Он встал и поднял рюмку:
– Пою я ужасно, но в моей родной корейской культуре, если горячо симпатизируешь сотрапезникам, уважаешь их и восхищаешься ими, принято петь для них, не устрашаясь позора. Так что сейчас я вам спою.
И Джим бодро исполнил “Мой путь”. Из телевизора неслись звуки оркестра, слова бежали по экрану, но аппарат вдруг завис, и Джим, пару раз сфальшивив, закончил песню сам. Все зааплодировали, потом встал член британской международной здравоохранительной организации MERLIN, тоже работавшей в Томске, и спел Summertime. Затем русский генерал-лейтенант велел пустить в караоке какой-то отечественный хит с жизнерадостной мелодией, а прочие генералы и замминистра Юрий Иванович Калинин, хлопали в такт. Потом один из генералов пригласил на танец даму – врача из команды Сороса, а глава гражданских служб Томска по борьбе с ТБ пошел танцевать с молодой сотрудницей MERLIN. Джим спел La Bamba, очередной генерал выступил с еще одной русской песней. На экране тем временем мелькали то сцены с Бродвея, то красотки, плещущиеся в волнах Карибского моря. И тут случилось нечто почти волшебное. Без предупреждения и без помощи караоке запел сам замминистра Калинин. Глубоким, чистым, как у профессионала, баритоном он затянул прекрасную, медленную и, кажется, печальную балладу, которую подхватили все генералы и полковники. Тюремщики России, объединенные песней! Честное слово, учитывая поздний час и количество выпитого спиртного, можно было запросто наслаждаться этой картиной товарищества, даже не вспомнив, в чем оное товарищество, собственно, заключается.
Не думаю, что у меня просто разыгралось воображение, – прощальные речи и впрямь звучали с искренней теплотой.
– Дорогие друзья, – провозгласил один из генералов. – Я на полном серьезе называю вас своими друзьями.
Опять выпили до дна.
Встал другой генерал:
– Мы собрались вместе за этим замечательным столом. Чувства у всех людей в мире одинаковые. Мы просто хотим сделать что-то полезное для нашей планеты. – Он поднял рюмку: – За благополучное завершение нашего дела согласно программе DOTS. – Он указал на стоявшую перед ним бутылку водки: – Лечение под непосредственным контролем.
За окном снежные хлопья сверкали в воздухе. Генералы разъезжались с милицейским эскортом, на небольших седанах с крутящимися синими мигалками на крыше. Джим наблюдал за их отбытием, его улыбка сияла, точно снежинки во тьме.
– Ночь поющих гулагмейстеров. Такое в жизни нечасто увидишь.
На следующее утро Джим уехал, но приехал Пол. Он провел в Томске всего один день, который посвятил обследованию больных МЛУ-ТБ и нескольким пресс-конференциям на пару с Калининым. Вечером снова состоялся банкет, на сей раз потише и в более узком кругу, но в том же странном маленьком отеле. В какой-то момент замминистра Калинин поднял рюмку и произнес:
– За Алекса Гольдфарба. Он работал не покладая рук и был искренен.
Фармер тоже поднял рюмку:
– За Александра Давыдовича. Чтобы беды обошли его стороной.
Посреди ужина в зал забрел взлохмаченный тип: физиономия красная, глаза-щелочки – точь-в-точь пьяница, сошедший с полотна Гойи. Переводчик наклонился к Фармеру и объяснил, что это местный олигарх, совладелец жилищно-торгового комплекса, а также сибирских газовых и нефтяных месторождений. Олигарх тем временем зигзагами добрался до торца стола, расправил плечи и объявил:
– Дорогие гости, хочу сказать несколько слов. Энергия – это двигатель жизни. В Томской области есть нефть, уголь. – Он поджал губы. Затем поправился: – Угля в Томске вообще нет, и нам приходится использовать все больше газа. Скоро мы будем в состоянии полностью обеспечивать энергией несколько областей.
– Браво! – крикнул один из генералов.
– За энергетическую программу! – подхватил Фармер.
– Мораль сей басни такова, что энергия – ключ ко всем тайнам жизни, – продолжал нетрезвый пришелец. – Спасибо, что приехали в Сибирь.
– Я люблю Сибирь! – воскликнул Фармер со своего места на противоположном конце стола.
Олигарх, пошатываясь, отошел. Сначала нам показалось, что он решил удалиться, но он всего лишь сходил себе за стулом. Подтащил его к столу и тяжело плюхнулся.
– Прошу прощения, что вторгаюсь в вашу жизнь. – Он откашлялся. – Я уже немало помогал. Я много вкладываю в культуру и медицину города.
Вокруг него возобновились разговоры. Олигарх, похоже, вел беседу сам с собой.
– Что он говорит? – спросил я переводчика.
– Сейчас рассуждает, почему в России жизнь такая трудная.
В конце концов олигарх куда-то убрел, и вскоре начались финальные тосты и прощания. Все постепенно переместились в вестибюль. Фармер, в русской меховой шапке, прощался с Калининым:
– Я очень расстроился, что не смог присутствовать вчера, но теперь вижу, что все в порядке. Мы ждем от вас приказа выступать.
Когда он по-военному отдавал честь заместителю министра, из боковой двери вновь появился нефтегазовый олигарх, облаченный в одно лишь полотенце, обернутое вокруг бедер. Направляясь в бильярдную, он протопал мимо замминистра, который улыбнулся, пожал плечами и вернулся к прощальным любезностям. Через несколько секунд в вестибюль выбежала директор отеля, пышная дама в деловом костюме и туфлях на высоких каблуках. С крайне встревоженным лицом она устремилась вслед за олигархом. Я не мог толком разобрать, что происходит. Фармер тоже ничего не понимал, но с восторженной улыбкой обернулся, чтобы полюбоваться погоней.
На следующий день мы вылетали в Париж. Когда мы устраивались в холодном салоне Ту-154 (“Неужели до этого дошло? Неужто мы дожили до этого возраста?” – вопрошал Фармер, пока мы укутывали колени самолетными пледами), я задал ему технический вопрос насчет борьбы с туберкулезом, приведя слышанное кое от кого мнение.
– Это верно?
– Любой рассказ пристрастен. – Он улыбнулся мне. – Кроме моих. – И продолжил: – Должен вам сказать, русские мне по душе.
– Не первый раз от вас это слышу, – заметил я.
– Пвизовцы ворчат, что я про всех так говорю. Но это полезно при моей работе – хорошо относиться к людям.
Он принялся перечислять, кому не следует становиться врачами: злыдням, садистам… Затем перешел к “соскоку” с нашего краткого визита в Томск. Суть его речи сводилась к лаконичной лекции о лекарствах. Недорогие препараты второго ряда вот-вот должны были отправиться в Россию, но пока что задерживались из-за разных неувязок. Другие организации, теперь тоже заинтересовавшиеся лечением МЛУ-ТБ в России, все еще ждали дешевых лекарств. Но Фармер и Ким попросили у Тома Уайта 150 тысяч долларов и закупили лекарства – по высоким ценам – в достаточном количестве, чтобы безотлагательно начать лечение нескольких дюжин больных МЛУ-ТБ в Томске. Зачем так делать? Зачем сейчас тратить 150 тысяч на лечение тридцати семи человек, если можно немного подождать и потом на эти же деньги вылечить сотню? Видите ли, ответил Фармер, позволить себе ждать снижения цен могут руководители проектов, но далеко не все пациенты.
– Чтобы остановить эпидемию, потребуются ресурсы, – сказал он. – И если на покупку ресурсов нужны деньги, пожалуйста. Мне все равно, какие средства использовать. Хоть ракушки каури.
Вскоре Фармер уснул. Он продремал почти всю дорогу до Уральских гор, а я тем временем пытался переварить его высказывания о деньгах. У меня возникло подозрение, что ПВИЗ, вероятно, обречены на вечные финансовые трудности, ибо Фармер и Ким органически неспособны придерживать деньги – ждать снижения цен на лекарства, пока МЛУ-ТБ убивает российских заключенных, или копить на целевой фонд для “Занми Ласанте”, пока крестьяне Гаити умирают от СПИДа. Их подход к делам, особенно к финансам, выглядел со стороны абсолютно непрактичным, и все же он, похоже, работал.
Фармер путешествовал еще больше обычного: по знакомым местам, таким как Перу и Сибирь (однажды он проделал весь путь из Гаити в Томск ради двухчасовой встречи, которой остался очень доволен); в Париж, где он согласился читать престижный курс лекций, чтобы почаще бывать с Диди и Катрин; в Нью-Йорк, где он выступал в суде в защиту больного СПИДом гаитянина, которому грозила депортация. Он посещал десятки университетов и колледжей в Америке и Канаде, проповедуя свою священную ПДБ (преференцию для бедных), участвовал в международной конференции по СПИДу в ЮАР, где вступил в пререкания с сотрудником Всемирного банка. (Африканцы должны научиться сдерживать свои сексуальные аппетиты, заметил банкир, и Фармер ответил: “А я хочу поговорить о других банкирах, не из Всемирного банка, а вообще. Сдается мне, маловато у них в жизни секса. Иначе зачем им так усердно на…вать бедных?”) Ездил он и в Гватемалу наблюдать за эксгумацией. (“Партнеры во имя здоровья” нашли спонсора для проекта ETESC по психологической поддержке местных жителей. Проект заключался в эксгумации из братских могил и подобающем захоронении индейцев майя, уничтоженных гватемальской армией.) Однажды, вскоре после того как он упал в Канжи, сломав одновременно руку и копчик, Фармер практически облетел планету, направляясь в Азию по туберкулезным делам.
Я держал с ним связь по электронной почте – он писал почти каждый день, – а иногда мы и встречались. Как-то раз в Сан-Кристобале, в Чьяпасе, мы с Офелией стояли и смотрели с небольшого расстояния, как долговязый худой бледнолицый в черном костюме энергично шагает по узкому тротуару, ловко огибая торгующих всякой мелочью темнокожих женщин в индейских шалях. По мнению Офелии, он смахивал на загадочную персону в начале романа Грэма Грина. Кто этот человек в помятом костюме, куда он так торопится? Не думаю, что правдивые ответы устроили бы романиста. Фармер предпринял это путешествие с целью убедить крошечный мексиканский форпост ПВИЗ распространить свою здравоохранительную деятельность на нищие, беспокойные деревеньки Чьяпаса – и в случае успеха им с Джимом и Офелией предстоял дополнительный сбор средств. А сейчас он торопливо шел по улицам Сан-Кристобаля, чтобы вовремя успеть в наш отель к телефонному интервью с лос-анджелесской радиостанцией, интересовавшейся его взглядами на проблему СПИДа.
Как и прежде, он периодически возвращался в Бригем отрабатывать очередной месяц. Мне довелось стать свидетелем нескольких примечательных случаев. Из больницы Мэна в Бостон переправили мексиканского гастарбайтера, страдавшего от гангрены Фурнье – этот недуг впервые был описан в XIX веке во Франции как “молниеносная гангрена мошонки”. После хирургического иссечения мертвых тканей промежность и живот мужчины выглядели как туша на скотобойне, и кое-кто из врачей считал, что пора поместить его в хоспис на паллиативное лечение. Но Фармер жизнерадостно сказал: “Он еще на своих ногах отсюда выйдет”. Спустя месяц мужчина вышел из больницы.
В Бригем поступил молодой человек, аспирант, на самом пороге смерти. Вызвали Фармера, и он немедленно нашел ошибку в диагнозе бригемских врачей. Это токсический шок, сказал он и назначил другие лекарства. Две недели спустя парень лежал на койке в горячечном бреду, его трясло до того сильно, что я от двери слышал, как у него стучат зубы. Кончики пальцев на руках и ногах больного почернели. Глядя на него и размышляя о том, что он вряд ли доживет до утра, я услышал, как Фармер говорит его родителям:
– Следующие две недели будут нелегкими, но худшее уже позади. Он еще выйдет отсюда на своих ногах.
Рыдающая мать ответила:
– Мы вам верим. Спасибо вам огромное.
Через две недели отец юноши интересовался, как он может отблагодарить Фармера. Не купить ли ему машину?
Однажды вечером, когда Фармер ехал по вызову к бостонскому пациенту, зазвонил мобильный телефон.
– Пол Фармер, инфекционные заболевания, – сказал он в трубку.
Насколько я понял, звонил коллега-врач, просил совета.
– Ага, ясно, – пробормотал Фармер. Затем спросил: – А какая именно обезьяна?
Работа в Бригеме доставляла ему столько удовольствия, что иногда он вслух задавался вопросом, не следует ли от нее отказаться. Каждый день приносил новые интересные случаи, и так приятно было работать в больнице, где персонал и оборудование соответствуют высочайшим современным медицинским стандартам, где можно отправить пациента на биопсию мозга, не собирая денег на оплату процедуры. Как врач, он заряжался энергией во время этих бостонских передышек, но назвать их отдыхом уж точно нельзя. Офелия, заметив, что его костюм выглядит как подобранный на помойке, но понимая, что в магазин Фармера не вытащить, вручила ассистентам сантиметр. Однако Фармер за весь месяц ни разу не простоял на месте достаточно долго, чтобы они успели снять с него мерки, и покинул город все в той же одежде.
Электронная почта – не всегда удобный способ следить за перемещениями Фармера, поскольку иногда он забывает упомянуть, где находится. Но известно, что большинство его путешествий начинаются и заканчиваются в Гаити. Некоторые из его друзей и союзников все еще считали, что ему стоило бы ездить туда гораздо реже и основное свое время посвящать мобилизации медицинского воинства для кампаний мирового масштаба. Говард Хайатт тоже все больше на этом настаивал, пока не посетил “Занми Ласанте”. Тогда доктор Хайатт впервые увидел это учреждение, после чего, вернувшись в Бостон, написал редакторский комментарий для газеты The New York Times: “Я только что побывал в медицинском комплексе в стране полнейшей экономической деградации… В этом районе Гаити ВИЧ-инфекция контролируется не менее эффективно, чем в Бостоне, штат Массачусетс. Более того, медицинскую помощь здесь оказывают столь же заботливо и профессионально, как в бостонских университетских клиниках”. Мне же Хайатт признался, что ни одно впечатление в жизни не затронуло его так глубоко, как “Занми Ласанте”. То, что Пол сделал в Канжи, необходимо воспроизводить в других местах, сказал он. И добавил, что намерен прилагать к этому максимум усилий до конца своих дней.
Воспроизводимость и экономическая устойчивость – возможно, в случае Канжи эти термины означали одно и то же. Джим Ким полагал, что “Занми Ласанте” не выжить без поддержки какого-нибудь крупного фонда или международного агентства, а такая поддержка возможна, только если в “Занми Ласанте” будут видеть нечто вроде мировой лаборатории, а не просто чудесную аномалию. Подобные разговоры временами раздражали Фармера. “Это унизительно, – говорил он мне зимой 2002 года. – Надо смиренно служить бедным, и все”. Однако всего несколько месяцев спустя воспроизведение “Занми Ласанте” стало его главной заботой.
С самого момента появления эффективных средств борьбы со СПИДом (в конце 1990-х) разгорелись споры о том, как и где применять антиретровирусные препараты. Полемика обрела гигантские масштабы, обросла сложнейшими нюансами, но в основе своей весьма напоминала дискуссию вокруг лечения МЛУ-ТБ. Большинство экспертов утверждали, что лечение в таких регионах, как Гаити или Черная Африка, немыслимо – только профилактика. Остальные, особенно организации вроде ACT UP, возражали: отказывать людям в лечении не только аморально, но и глупо, поскольку очевидно, что одной профилактикой надвигающуюся пандемию не остановишь. Фармер и вовсе находил разграничение профилактики и лечения искусственным – по его мнению, оно было выдумано в качестве оправдания бездействию. Он давно выражал свою позицию в публичных выступлениях, книгах и бесчисленных журнальных статьях. Позже, в августе 2001 года, в британском медицинском журнале The Lancet вышла его статья с описанием программы лечения и профилактики в Канжи. На ПВИЗ тут же обрушилась лавина писем – в какой-то момент я насчитал почти сотню. Министерства здравоохранения, консультанты, благотворительные организации со всех континентов обращались за советом или информацией. “Гарвардский консенсус”, заявление о необходимости лечения СПИДа в бедных странах, подписанное 140 сотрудниками Гарвардской медицинской школы, ссылается на проект в Канжи. Новый руководитель департамента ВОЗ по туберкулезу написал в газету The New York Times, расхваливая “Занми Ласанте”. Экономист Джеффри Сакс тем временем распространял статью из The Lancet где только мог.
Сакс сам нанес визит в “Занми Ласанте” и отреагировал примерно так же, как Говард Хайатт. Мне он писал следующее:
Работа Пола, как и его концепция высококвалифицированной медицинской помощи для бедных, произвела потрясающий эффект. За последние несколько лет я не раз приводил ее в пример на важнейших форумах по всему свету: перед конгрессом США, перед Комиссией ВОЗ по макроэкономике и здоровью, в Белом доме, в Министерстве финансов США, перед генеральным секретарем ООН Кофи Ананом и т. д. Когда я помогал генеральному секретарю с организацией Всемирного фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, работа Пола служила нам главным образцом.
А Фармер говорил мне: “Неловко, что мелкие проекты вроде нашего служат образцом. Это лишь потому, что люди не выполняют свой долг”. В данном случае вопиющая диспропорция между причиной и следствием действительно бросалась в глаза. В мире насчитывалось 40 миллионов ВИЧ-инфицированных, а программа, занятая лечением всего нескольких сотен в деревнях Гаити, почему-то вдруг приобрела огромный вес. Но программа “Занми Ласанте” и впрямь была уникальна, по крайней мере в то время, когда вышла статья Фармера в The Lancet. В бедных странах потихоньку шевелились и другие проекты по лечению и профилактике СПИДа, но только “Занми Ласанте” выбирала своих пациентов среди нищих сельских жителей исключительно по медицинским показаниям, а не по их платежеспособности. И только “Занми Ласанте” предоставляла квалифицированную медицинскую помощь и тщательный уход за больными бесплатно.
Всемирный фонд, в создании которого участвовал Сакс, был совсем новым учреждением и ожидал финансирования от правительств и других фондов. Его основатели надеялись ежегодно собирать многомиллиардные пожертвования на борьбу с тремя великими пандемиями. К весне 2002 года средств набралось на выполнение лишь малой части поставленных задач. Тем не менее фонд начал принимать заявки на гранты и одобрил среди прочих заявку от Гаити, составленную с помощью ПВИЗ. Планировалось, что “Занми Ласанте” возьмет на себя руководство большой серьезной программой по лечению и профилактике СПИДа почти на всем Центральном плато. На проект возлагались большие надежды: он должен был служить примером для аналогичных проектов и в остальных административных департаментах Гаити, и в других беднейших странах.
Задача выглядела пугающе трудной во всех отношениях, а в свете политической ситуации обещала стать еще сложнее – и еще насущнее. Когда в 1994 году правительство президента Аристида было восстановлено, целая плеяда государств и банков международного развития обещала помощь в благоустройстве Гаити. Но к переизбранию Аристида в конце 2000 года поток средств извне уже иссякал. Теперь же США целенаправленно стремились не допускать никакой помощи правительству Гаити – не только американской, но также грантов и ссуд из других источников, например ссуды от международного агентства, намеревавшегося финансировать дополнительные поставки питьевой воды, ремонт дорог, развитие образования и здравоохранения. Официально приводились разные причины такой политики, то одни, то другие. Среди подлинных причин наверняка фигурировали иные: издавна опасливое и недоверчивое отношение американских властей к Аристиду, надежда, что гаитяне станут винить его за нарастающую разруху в стране, и общая усталость от проблем Гаити. Фармер писал мне о сорванных ссудах: “Иногда мне кажется, что это я схожу с ума, а в том, чтобы не давать чистой воды людям, у которых ее нет, перекрывать неграмотным детям путь к образованию и препятствовать возрождению здравоохранения в стране, где оно больше всего нужно, и впрямь есть какой-то смысл”. “Полный бред, вот что это такое”, – добавил он.
В Канжи, по крайней мере, результаты иссякающей внешней помощи были налицо. К 2002 году общедоступные клиники на Центральном плато практически прекратили работу из-за нехватки средств. Неимущим крестьянским семьям некуда было податься, кроме Канжи. Они толпами стекались в “Занми Ласанте”, их стало вчетверо больше, чем два года назад. Каждая больничная койка в медицинском комплексе, каждый лежак, каждый квадратный метр пола были заполнены больными. Выходило, что жители Центрального плато умоляют “Занми Ласанте” о том же, о чем просил ее Всемирный фонд.
Осуществление лишь одного пункта в плане, расширение программы “Занми Ласанте” по предотвращению заражения младенцев ВИЧ от матерей, представлялось делом не менее трудоемким, чем общенациональный проект по лечению МЛУ-ТБ в Перу (а он считался одним из самых сложных здравоохранительных предприятий в бедных странах по внешней инициативе). В сельских местностях Гаити всего 20 процентов женщин получали хоть какую-то медицинскую помощь. По оценкам, ВИЧ-инфицированных насчитывалось 5 процентов. Чтобы их отыскать, команде Фармера, состоящей из общественных медработников ПВИЗ и “Занми Ласанте” и гаитянских госслужащих, пришлось бы информировать о СПИДе полумиллионное население гористого региона, разбросанное по площади примерно в четыреста квадратных миль. Им пришлось бы устроить лаборатории и пункты приема анализов на местности, где главные дороги даже в хорошую погоду почти непроходимы. (“Что касается транспорта, – писал Фармер пвизовцам, – мы полагаем, это будут ослики + велосипеды + мотоциклы + джипы”.) Им пришлось бы обучить лаборантов работать в условиях частичного, а то и полного отсутствия электричества, пришлось бы нанять и обучить дополнительный легион общественных медработников, чтобы те доставляли профилактические препараты каждой беременной женщине дважды в день в течение девяти месяцев и каждому новорожденному в течение недели. Поскольку вирус передается через грудное молоко, пришлось бы снабжать каждую мать запасом детского питания как минимум на девять месяцев, а поскольку питание надо разводить в воде, команде Фармера пришлось бы еще и очистить воду в десятках деревень.
Деньги Всемирного фонда – 14 миллионов долларов для Центрального плато, выплачиваемые в течение пяти лет, – предназначались в основном для покупки антиретровирусных препаратов, найма гаитянских медработников и восстановления нескольких уже существующих в регионе государственных клиник. Но лечение и профилактика ВИЧ идут рука об руку с лечением и профилактикой туберкулеза. А с появлением клиник, лечащих эти два недуга, туда повалят люди и с другими проблемами: со сломанными ногами, ножевыми ранениями, брюшным тифом и бактериальным менингитом. Проект ПВИЗ – не то место, где больным дают от ворот поворот, если у них “неправильные” заболевания. Все это означало, что им придется создать копии медицинского центра в Канжи по всему огромному гористому голодающему Центральному департаменту и четырнадцати миллионов при особом везении и должной экономии едва хватит на первые шаги.
Но Фармер все равно был на седьмом небе. Узнав о деньгах от Всемирного фонда, он написал мне: “Я чуть не плачу. Гаитяне, как никто, этого заслуживают”. Еще он писал, что проанализирует свой график и отменит все, что только можно, лишь бы побольше времени проводить в Гаити. Пару недель спустя он был в Томске – навещал пациентов и проверял, как работает программа. А вскоре уже выступал в Барселоне на ежегодной Международной конференции по СПИДу.
Однажды, прилетев в Бостон выжатым после очередного месяца путешествий, он сказал Офелии, что слышит два хора: в одно ухо друзья и союзники твердят, что он должен сосредоточиться на глобальных проблемах мирового здравоохранения, в другое стонут его пациенты-гаитяне. Голос мира говорит: “Это очень важное совещание”; голос Гаити говорит: “Мой малыш умирает”. Порой, втиснувшись в самолетное кресло, он заводил речь о том, что хочет полностью посвятить себя Канжи, жить там постоянно и быть “просто сельским врачом”. Но я не очень-то ему верил. Я подозревал, что, пока он способен переносить дорогу, он будет покидать Гаити ради таких мест, как Томск и Лима, чтобы и лечить отдельных пациентов, и играть свою роль в борьбе с мировыми напастями и неравенством в здравоохранении, практикуя, таким образом, оптово-розничную медицину по собственному рецепту. Но он всегда будет возвращаться в Канжи. Мне казалось, что у него не столько планы на жизнь, сколько жизненный алгоритм. Пол Фармер напоминал мне компас, одна стрелка которого крутится по всем сторонам света, а другая твердо указывает на Канжи.
Глава 25
Раньше, когда Фармер был еще студентом-медиком, перемещения между Бостоном и Канжи выбивали его из колеи. Покинув нищие хижины, полные голодающих младенцев, он слушал в аэропорту Майами, как хорошо одетые люди обсуждают свои попытки сбросить вес. В каком бы направлении он ни летел, его подстерегало нервное потрясение. Сегодня он знакомится с высочайшими современными стандартами ухода за пациентами в бостонской университетской клинике, а завтра утром вылезает из тап-тапа с серым от пыли лицом и направляется в сквоттерский поселок на растрескавшейся земле над плотиной, где и медицины-то нет, какие там стандарты ухода. Со временем он научился реагировать на смену обстановки спокойнее. “Постепенно до меня дошло, что можно прекрасно лечить больных, не поддаваясь гневу”, – сказал он мне. Думаю, он просто стал придавать гневу более приятную форму, форму мечты об устранении контраста – по крайней мере, медицинского – между Бостоном и Канжи.
Разумеется, мечта эта казалась неосуществимой, но Фармер от нее не отказывался. “Я же не говорю, что надо делать в Канжи трансплантацию костного мозга. Но стандартное лечение необходимо, – говорил он в своих лекциях. – Справедливость – единственная приемлемая цель”. Он далеко продвинулся на этом пути. В “Занми Ласанте” уже были приличные условия, в том числе хорошая операционная, всегда сияющая чистотой. Но высокотехнологичного оборудования пока очень не хватало: ни банка крови, ни компьютерного томографа. Фармер намеревался рано или поздно приобрести и это, и многое другое. А пока, не имея возможности перенести бостонскую медицину в Канжи, он время от времени возил пациентов из Канжи в Бостон.
В начале 2000 года пвизовцы привезли в Бригем молодого гаитянина по имени Вильно с редким врожденным пороком сердца. Хирурги сделали ему операцию, отказавшись от оплаты своего труда. Несколько месяцев спустя, в самом начале августа, жительница города Энш, испугавшись жутких условий местной больницы (полы из прогнивших досок, открытая канализация на заднем дворе, лекарства только за наличные), на тап-тапе привезла сына в “Занми Ласанте”. Мальчика звали Джон. Как и смерть, рождение большинства гаитян нигде не регистрируется, так что точный возраст Джона неизвестен – вероятно, ему было лет одиннадцать-двенадцать. Близких родственников у них с матерью не осталось. Муж и трое других детей женщины умерли один за другим в течение последних нескольких лет, судя по всему, от различных заболеваний. Когда спросили мнения Фармера, что именно их сгубило, он ответил резко, совершенно в духе гриновских “Комедиантов”. “Гаити, – сказал он. – Они умерли от Гаити”. Мать Джона называла свою жизнь чередой катастроф. Семейная история, хоть и отнюдь не беспрецедентная, придавала случаю Джона особую значимость. По медицинским же показателям случай был уникальным.
У Джона на шее образовались опухоли. На первый взгляд это напоминало золотуху – шейный лимфаденит, туберкулез лимфатических узлов шеи, довольно распространенный в Гаити недуг. Но при золотухе узлы мягкие. Прощупав опухоли Джона, Фармер нашел их слишком твердыми. А поскольку уровень белых телец в крови оказался гораздо выше, чем обычно наблюдается при внеле-гочном туберкулезе, Фармер заподозрил какую-то разновидность рака.
Установление диагноза, занимающее в Бостоне всего несколько часов, может длиться неделями, если проводить его между Бостоном и Канжи. Серена Кёниг, бригемский врач тридцати с небольшим лет, организовала операцию для Вильно, а также сбор средств на оплату его перелетов и госпитализации. Теперь она же нашла в Массачусетской больнице общего профиля онколога, который согласился поставить диагноз бесплатно. Разумеется, онкологу нужен был образец тканей Джона. А чтобы добыть такой образец, требовалась сложная хирургическая процедура, за которую Фармер по возможности предпочел бы не браться сам. Он обратился к работавшему в Мирбале гаитянскому хирургу, заслужившему его профессиональное доверие. Хирург согласился приехать в Канжи за несколько тысяч долларов – огромная сумма для Гаити. На Центральном плато шли дожди, и, чтобы съездить за врачом, надо было одолеть грязевые болота и разливы рек от Канжи до Мирбале. Дорога заняла двенадцать часов. Биопсия длилась до зари, а утром Фармер улетал в Бостон. Он увез с собой образцы крови и тканей Джона, а Серена отнесла их в Массачусетскую больницу в обычном пластиковом пакете. В “Занми Ласанте” не было оборудования для хранения образцов в замороженном виде, так что их поместили в формальдегид. А из-за этого установление диагноза заняло четыре дня вместо одного.
Новости оказались скверными. У Джона была носоглоточная карцинома, очень редкая разновидность рака, составляющая менее одного процента среди всех детских онкологических заболеваний. Однако при выявлении проблемы на ранней стадии в 60–70 процентах случаев ребенка можно было спасти.
Поначалу Фармер рассчитывал лечить Джона в Гаити – провести химиотерапию прямо в Канжи. Он поручил Серене добыть график лечения у знакомых в Массачусетской больнице. Но когда та уже собиралась покупать лекарства – цисплатин, метотрексат, лейковорин, – бостонский друг, онколог, остановил ее: “Серена, если вы хотите убить парнишку, есть менее болезненные способы”. Как выяснилось, всего несколько больниц в США имели оборудование и опыт, необходимые для грамотного лечения болезни Джона, поэтому Серена с Фармером решили попытаться перевезти мальчика в Бостон. Фармер был, естественно, страшно занят и по большей части следил за развитием событий дистанционно. Серена почти все делала сама. Госпитализация обошлась бы Джону примерно в 100 тысяч долларов. Серена три недели непрерывно умоляла и убалтывала администрацию Массачусетской больницы, пока там наконец не согласились принять мальчика бесплатно.
Прошел уже целый месяц с тех пор, как мать привезла Джона в Канжи. Серене еще предстояло оформить кучу документов и для больницы, и для американского консульства в Гаити, чтобы получить визу для ребенка. Она даже не знала, как зовут его родителей, и, чтобы не терять драгоценное время, сама выдумала им имена – Жан-Клод и Йоланда. Она представляла себе, как страшно будет Джону, никогда не покидавшему Центральное плато, лететь в Америку одному, без мамы. Креольского языка Серена не знала, зато знала американку гаитянского происхождения, ординатора в Бригеме и Массачусетской больнице, по имени Кароль Смарт. Кароль специализировалась на внутренних болезнях и педиатрии. В детстве она много времени проводила в Гаити, прекрасно владела креольским, а теперь охотно помогала ПВИЗ – как-то раз работала несколько недель в “Занми Ласанте”. Она согласилась поехать в Канжи вместе с Сереной и помочь переправить Джона в Бостон.
Серена позвонила Фармеру, он тогда был в отъезде. Она боялась, что за минувший месяц болезнь Джона сильно прогрессировала, и хотела узнать, при каких условиях его госпитализация в Массачусетскую больницу теряет смысл.
– Ни при каких, – ответил Фармер. – Это его единственный шанс.
– А что говорить, если меня спросят, зачем мы это делаем?
– Что мать привезла его к нам и мы изо всех сил стараемся ему помочь.
Впервые увидев Гаити, Серена пришла в ужас. Но “Занми Ласанте” произвела на нее глубокое впечатление. По ее словам, вся эта история с лечением Вильно в Бостоне перевернула ее жизнь. Оставаясь сотрудницей Бригема и Гарвардской медицинской школы, почти все свое свободное время она теперь посвящала работе на Пола и Джима.
Разумеется, пвизовцы не были все на одно лицо, но многие из них имели солидный академический статус, многие были религиозны, большинство составляли женщины, причем, как правило, “весьма презентабельной внешности”, по выражению Офелии. Серена и Кароль полностью соответствовали всем этим параметрам. Пока мы с ними мчались по аэропорту Логан, на нас то и дело оборачивались.
Серена везла с собой два чемодана, один набитый плюшевыми зверьками и игрушками для педиатрического отделения в Канжи. Кароль тащила гигантскую сумку в стиле “гаитянин возвращается из Америки”, полную лекарств, которые могли, по ее мнению, помочь Джону перенести дорогу. Кроме того, она несла пакетик с водой, в котором плавали два шубункина – золотые рыбки для нового садового прудика возле дома Фармера в Канжи. Он просил привезти парочку, если нетрудно.
Самого его в Гаити сейчас не было – ему пришлось отправиться в Европу на научную конференцию. Глава фонда Сороса попросил его принять участие, и он не смог отказаться. В данный момент он находился, представьте себе, в одном из замков Германии. Но его молодые коллеги из двух лучших в мире университетских клиник были, несомненно, превосходными врачами и, насколько я мог судить, предусмотрели все, что только можно. По горло занятая организационными вопросами, Серена не сомкнула глаз минувшей ночью. Теперь она вслух сверяла сделанное со списком задач и еще не закончила, когда мы сели в самолет.
Девушки планировали по прибытии в Порт-о-Пренс получить визу для Джона, затем отправиться на машине в Канжи и на следующий день забрать мальчика в Бостон – он должен был лететь первым классом вместе с Кароль. Фармер, всегда стремившийся сэкономить, чтобы потом больше потратить, прислал по электронной почте распоряжение не покупать билеты первого класса за деньги, а воспользоваться его богатым запасом миль, накопленных за счет постоянных перелетов.
Первая часть плана проходила гладко, в основном благодаря Ти Фифи. Эта дама была одним из старейших и ближайших друзей Фармера в Гаити, и на нее он смело полагался в решении любых задач. Фармер называл ее гаитянским крестным отцом. Ти Фифи была маленькая, тихая, все время улыбалась. Встретив нас в аэропорту, она сообщила, что ей удалось оформить гаитянский паспорт для Джона. Но сначала ей пришлось подделать свидетельство о рождении. Серена сказала:
– Если будете подделывать еще одно, можете назвать его маму Иоландой?
Все рассмеялись. Сам я почему-то не испытывал ни подобающей решимости, ни сопутствующего ей нервного напряжения. Меня тянуло погрузиться в отпускной настрой, словно нам предстояло всего лишь поучаствовать в безобидном высоконравственном приключении, не сулившем никаких отрицательных эмоций. Американское консульство выдало визу без промедления. Ближе к вечеру мы уже двигались на север, в сторону Канжи, в пикапе, принадлежавшем “Занми Ласанте”.
Около года назад я видел у подножия Морн-Кабри, где кончался асфальт, табличку, оповещавшую о грядущем ремонте Национального шоссе № 3. Теперь же ее покрывала ржавчина, облетающая с креплений, но все равно табличка была в лучшем состоянии, чем дорога. Несколько валунов, лежавших у подножия горы, кто-то передвинул с места на место, но ни метра дороги не выровняли и не заасфальтировали. Все экскаваторы и бульдозеры исчезли, только одна машина, забравшаяся примерно на треть пути вверх по склону, стояла там и потихоньку загнивала.
– Что случилось? – спросил я Ти Фифи.
Она пожала плечами. До нее, мол, доходили слухи, что европейские и южноамериканские подрядчики то ли просадили все деньги, то ли украли.
На горной дороге перевернулся старый потрепанный пикап и перегородил путь. Образовался затор из тап-тапов и грузовиков, вокруг покойного пикапа суетилась толпа.
После бурных споров и нескольких неудачных попыток, при которых нескольких человек чуть не раздавило, пикап общими усилиями оттащили на обочину. Все это заняло немало времени. В “Занми Ласанте” мы добрались уже в полной темноте и, с облегчением ощутив под колесами гладкий асфальт, я вновь поддался приятному чувству покоя и безопасности, но на сей раз совсем ненадолго. Серена и Кароль тут же поднялись в Детский павильон. Помещение будто бы изменилось с тех пор, как я был тут в последний раз. Больница выглядела уже не такой чистой, стены – не такими белыми, вроде бы тут стало жарче и мух прибавилось. Но, скорее всего, перемены мне примерещились – секрет заключался в отсутствии Фармера. Без него больница словно утратила атмосферу надежности. А вид Джона на больничной койке поверг меня в шок.
На снимках, сделанных месяц назад, он выглядел просто больным. Теперь же его руки и ноги отощали до предела, просматривалась каждая косточка. А локтевые и коленные суставы казались слишком большими на фоне усохшей плоти. Ему сделали трахеотомию. Шея вокруг торчащей посредине трахеостомы сильно распухла, язык вываливался изо рта. Мальчик ерзал в постели, явно пытаясь избавиться от давления на шею. Он издавал булькающие звуки – слизь забивала дыхательные пути. Медсестра вычищала слизь электрическим отсосом. Вдобавок ко всему у ребенка был жар.
Я не сразу смог взглянуть на него снова. Стал осматриваться в помещении, и мой взгляд уперся в колыбельку возле лестницы. В ней лежала крошечная девочка с квашиоркором – глаза огромные, как у перепуганного лесного зверька. Я посмотрел на мать Джона, истощенную темнокожую женщину. Она сидела у кровати, уставившись в пространство, ее лицо абсолютно ничего не выражало. Покосившись на Серену, я заметил, что и она отводит взгляд – уставилась, поджав губы, на стену над койкой. Она молчала долго, кажется, несколько минут прошло. Потом, взъерошив себе волосы пальцами, произнесла:
– Так. Надо выяснить, отчего у него температура, какие ему дают лекарства.
Она начала листать историю болезни, а Кароль тем временем подошла к Джону.
Мальчик стал жестами показывать на ее черную сумочку, его интересовало, что там внутри. Кароль открыла сумку и протянула ему. Он пошарил в ней руками, потом равнодушно отмахнулся: мол, ничего интересного. Она наклонилась и тихо заговорила с ним.
– Не бойся, – сказала она по-креольски.
По щекам Джона покатились слезы, блестящие, как жемчужинки, в тусклом освещении Детского павильона.
Бостонские врачи и Ти Фифи отошли от кровати, чтобы посовещаться.
– Больше всего меня успокаивает, что организм совершенно детский, – заявила Кароль и пояснила: – Ни селезенка, ни печень не увеличены. Только вот гиперемия…
– Думаю, с гиперемией в сидячем положении будет полегче, – ответила Серена.
Она беспокоилась о том, как сажать завтра мальчика в самолет. Может, замотать ему шею пледом? Нет, это не вариант, решила она.
– Сомневаюсь, что нам удастся посадить его на коммерческий рейс. Вряд ли его пустят в самолет. Может, пора подумать, как бы нам доставить его другим самолетом? Кароль, скажи! Везем его коммерческим рейсом или нет?
– Эти слизистые выделения смертельно опасны, – отозвалась Кароль. – Как врач, я считаю безответственным везти его на обычном самолете, без отсоса.
Серена еще раз обрисовала ситуацию. Главный детский онколог Массачусетской больницы сказал ей, что у Джона неплохие шансы, если только метастазы не проникли в кости. А случилось уже это или нет, в Канжи определить было невозможно.
– Надо дать ему шанс выжить, – подвела итог Серена.
– Может, получится организовать вертолет до Порто-Пренса, а дальше медицинский самолет, – сказала Ти Фифи. Потом задумалась. – Уж не знаю, почем сейчас медицинские самолеты.
– Тысяч двадцать долларов, – сообщила Кароль.
– Ну так давайте заплатим, – сказала Серена. – Я, конечно, хороша сейчас: мол, двадцать тысяч, ерунда какая. Но вдруг он умрет в самолете? Так и вижу сюжет для прессы: гарвардские врачи ПВИЗ безалаберны до предела. Джим убьет меня. Нельзя было оставлять здесь парнишку на целый месяц. Это все я виновата. В следующий раз буду шевелиться быстрее.
– Месяц назад у нас даже диагноза еще не было, – напомнила Кароль.
– Да вот я и переживаю, что не следовало его бросать здесь месяц назад. Мы профукали кучу времени, дожидаясь диагноза.
Кароль опустила глаза. И увидела на полу пакетик с шебункинами для Фармера.
– Тьфу ты черт! Я вас из такой дали сюда притащила, не вздумайте теперь сдохнуть!
Они устроили перерыв, и мы все вместе пошли с фонарями через gwo wout la к домику Фармера. Когда садовый пруд осветился лучами наших фонариков, Кароль посмотрела на пакет с рыбками и сказала:
– Это Жан-Клод и Йоланда. Я буду скучать, ребята, но вам пора двигаться дальше. Постарайтесь найти друзей.
Она выплеснула содержимое пакета в пруд, и мы, наклонившись над водой, наблюдали, как золотые рыбки снуют между новых товарищей.
На рассвете Серена и Ти Фифи отправились в Порт-о-Пренс искать вертолет и медицинский самолет. День получился долгим.
Когда пикап достиг асфальтированной дороги у подножия Морн-Кабри, Аликс, водитель из “Занми Ласанте”, разогнался до семидесяти миль в час и ворвался в город, распугивая кур и карликовых коз. Чтобы обогнать грузовики и тап-тапы, он выехал на встречную полосу, превращая двухполосную дорогу в трехполосную, а иногда и в четырехполосную, когда обгонял тех, кто тоже выехал на обгон. Кароль рассказала, что в Порт-о-Пренсе водители гудят друг другу на особый манер, чтобы предупредить: “Поворачиваю за угол по встречке”. Во времена ее детства говорили, что, когда даешь этот сигнал и слышишь в ответ точно такой же, надо молиться о смерти при столкновении, лишь бы не угодить в Центральную больницу.
Я сказал себе, что если бы родился гаитянином, то стремился бы всеми способами демонстрировать свое превосходство в любом деле и наверняка тоже водил бы, как псих. А потом подумал: Серена с Ти Фифи пытаются спасти жизнь ребенку, а Аликс тем временем, мило улыбаясь за рулем, подвергает опасности десятки других жизней – вот сейчас он чуть не сбил двух мальчишек на одном велосипеде, боковое зеркало пронеслось в сантиметре от их плеч. Когда мы застряли в пробке на подъезде к аэропорту, мне ненадолго полегчало.
В пробках мы еще не раз постояли за этот день, пока ездили в столичный дом Ти Фифи, где был компьютер, подключенный к интернету, потом в аэропорт, потом в офис к друзьям Ти Фифи, где был факс, потом опять в аэропорт, потом опять к ней домой. Я успел досыта насмотреться на обочины городских дорог. Ярко раскрашенные деревянные ларьки с лотерейными билетами, чьи владельцы надеялись нажиться на чужой надежде. Горы хлама по обеим сторонам дороги: старые шины, мусор, обломки бетона, остовы пикапов и легковушек, обглоданные дочиста, точно скелеты в пустыне. Мужчины с ружьями на коленях, сидящие возле каждой заправочной станции. Умирающие попрошайки обоего пола. Люди на костылях, люди с пластиковыми лотками, кажется от мороженого, на культях ног. В потоке транспорта впереди я заметил надпись на заднем стекле грузовика: “Ах, Морн-Кабри!” Формулировка, пожалуй, годилась и для краткого описания сегодняшних хлопот Серены и Ти Фифи.
Организовать рейс медицинского самолета из Порто-Пренса в Бостон оказалось не так уж трудно – хватило нескольких телефонных звонков и одной пробки. Но цена составляла 18540 долларов. Серена была готова заплатить и собрать средства постфактум, но Ти Фифи хотела получить одобрение Фармера. Серена отправила ему имейл: “Состояние Джона внушает все больше опасений. Он любопытный, невозможно милый, общается с нами. Но он очень-очень-очень слаб, боюсь, не вынесет дороги до аэропорта, да и в самолет его не пустят. Поло, я понимаю, что это отдает безумием, но у него все еще остается шанс. Может, у него все-таки просто локальная опухоль с абсцессом, растет и высасывает из него силы. Я беру на себя ответственность за оплату перелета. Ждем твоего ответа, а пока продолжаем действовать по плану”.
Но Фармера, похоже, встревожила цена медицинского самолета – как и сам прецедент. Он ответил: “Серена, милая, пожалуйста, обдумай другие варианты”.
От этого сообщения Ти Фифи занервничала, что для нее нехарактерно. Сидя за своим компьютером, она рассуждала:
– Обычно Пол отвечает: я вам доверяю, действуйте. Он никогда не запретил бы нам действовать. Но если бы разрешил, так бы и сказал.
– То есть на языке Поло это означает “нет”, – перевела Серена.
– Почти, – подтвердила Ти Фифи. – Надо думать о последствиях. Что будем делать, если к нам поступит еще один такой же ребенок? Это же не одноразовое предприятие. Мы не закрываем больницу завтра. Все сложно, правда. Персонал станет спрашивать, зачем мы потратили столько денег. Потому Пол и беспокоится.
– Я думаю об одном конкретном ребенке, – сказала Серена.
– Вот именно, – подхватила Ти Фифи. – А сколько детишек ждут операции на сердце! Врачи требуют повышения зарплаты. Медицинский самолет – неслыханное дело для Гаити. – И тихо, словно обращаясь к самой себе, она добавила: – Уверена, люди начнут говорить: если у вас заболел ребенок, везите его в Канжи, оттуда его доставят самолетом в Бостон. Это станет сенсацией на Центральном плато.
– Идея! – воскликнула Серена. – Давайте просто я сама заплачу, а местным жителям вы так и скажете, что это я. Сердце рвется, как подумаешь, что в конце пути его ждет бесплатное лечение.
– Надо все подготовить, уточнить цену и спросить Пола, – ответила Ти Фифи. – Потому что я его знаю.
Казалось, Серена вот-вот расплачется. Ти Фифи встала и обняла ее. Гаитянка, едва достававшая Серене до плеча, приподнялась на цыпочки, а девушка присела, чтобы обнять ее в ответ. Мягко усмехнувшись, Ти Фифи произнесла:
– Все больше и больше пациентов. Каждый день какой-нибудь кризис. Как у Джона. Это ничто. Каждый день, каждую минуту у нас такие случаи. Кто-то болен, кто-то умирает.
Потом Ти Фифи села за компьютер и написала Фармеру: “Скажи нам, да или нет”.
Я представлял себе, как он, прочтя сообщение, не находит себе места в баварском замке. Ответ от него пришел быстро. О стоимости медицинского самолета он писал: “Что ж, могло быть и хуже”. А еще: “Я прилечу в течение суток, но не собираюсь критиковать ваши общие решения. Раз самолет – единственный способ спасти мальчику жизнь, я за”. И в заключение: “Так или иначе, надежда для него есть только за пределами Гаити, независимо от того, каким путем уходить. Это, увы, верно и для многих других гаитян”.
Но еще оставалась проблема транспортировки Джона в Порт-о-Пренс по Шоссе № 3. “Он умрет по дороге”, – сказал накануне вечером один из местных врачей. Мне подобный исход представлялся весьма вероятным. Ти Фифи прочесала весь аэропорт в поисках вертолета, но их как будто вовсе не существовало в Гаити, по крайней мере для Ти Фифи, несмотря на ее превосходные связи. Возможно, подошел бы и маленький самолет, но в окрестностях Канжи не было ни клочка земли, пригодного под посадочную площадку. А значит, предстояло везти Джона по дороге, по валунам и огромным ямам, через реки. Ти Фифи такая перспектива не нравилась.
– Сдаваться я не намерена, – сказала она. – Но как будет лучше для Джона?
– В машине мама будет держать его на коленях, – ответила Серена. – Ти Фифи, я понимаю, что он очень слаб, но ведь было бы преступлением даже не попытаться.
– Ладно, – сказала Ти Фифи.
– Я с Полом это все обсуждала, потому и переживаю теперь так.
– Пола здесь нет, – вздохнула Ти Фифи. Потом улыбнулась: – Что толку спорить? Сама видишь, это замкнутый круг.
– Ну почему мы не привезли ручной отсос!
Препятствие казалось непреодолимым. Без отсасывающего слизь устройства Джон запросто мог умереть по дороге в Порт-о-Пренс. В Канжи были только электрические отсосы, в пикапе такие не подключишь.
Ти Фифи пришло в голову попробовать нанять машину скорой помощи с нужным оборудованием. Она подняла свои связи и нашла государственную службу скорой помощи, готовую помочь Джону бесплатно… только вот машина у них стояла сломанная в ремонтной мастерской. Услышав новости, Ти Фифи с улыбкой покачала головой:
– На Господа, лишь на Господа вся наша надежда.
Потом она снова взялась за телефон и отыскала частную службу скорой помощи.
Фирма находилась на Джон-Браун-авеню и называлась “Скорая помощь Сэма”. В ее распоряжении имелось ровно одно транспортное средство – типичный кеннеди, красивая, но дряхлая переоборудованная американская модель годов этак семидесятых, без полного привода.
Тем не менее Ральф, владелец фирмы, был не прочь замахнуться на дорогу в Канжи. Мускулистый атлет, он десять лет служил в армии США и вернулся в Гаити, чтобы заняться малым бизнесом, – хотел принести какую-то пользу родине. Но его постигло разочарование: хотя Гаити изобиловало нуждающимися в скорой помощи, мало кто мог позволить себе ее оплатить. Так что он, похоже, не видел причин отказываться от предложения.
Ральф и четверо его подчиненных оделись на выезд – футболки с надписью “Скорая помощь Сэма”, твердые белые шапочки – и забрались в машину. Включили сирену и помчались прочь из Порт-о-Пренса, крикнув через установленный у них на крыше громкоговоритель: “Давайте за нами!”
Первый раз машина скорой помощи встала примерно на полпути вверх по Морн-Кабри. К тому времени уже стемнело, хлестал ливень. Сидя в пикапе “Занми Ласанте”, припаркованном у края скалы, мы наблюдали, как служащие Ральфа кварту за квартой льют масло в свой двигатель. Фары обеих машин светили чуть ли не вертикально в небо. Я обратил внимание на дождевую воду, небольшим ручьем стекавшую по так называемой дороге. Сухое речное русло размокло, и я представлял, что же будет, если дождь не прекратится. А как насчет zenglendo – бандитов, которые, по слухам, охотятся на застрявших в аварии путников? Ти Фифи – человек очень спокойный, но и она призналась, что ей неприятно торчать в темноте на gwo wout la. Она тоже опасалась zenglendo. Впрочем, Фармер говорил, что гаитяне не любят мокнуть под дождем. Хотелось бы верить, что это относится и к гаитянским бандитам.
С полчаса мы просидели в пикапе, дожидаясь конца ремонтных работ. Без машины скорой помощи не будет и отсоса. Из-за отсутствия простенького механического устройства все труды пойдут насмарку, а мальчишка распрощается с жизнью. Пока я размышлял об этом, Серена сказала:
– Ну что ж, ребята, мы это сделали. Завтра он улетит.
– Серена, это же еще не ясно, – возразил я.
– Лишний раз обрадоваться в процессе не вредно, – ответила она и пустилась в явно преждевременные рассуждения о грядущих проблемах: – Машина скорой помощи должна прибыть в Порт-о-Пренс точно к вылету. Джон по возможности должен попасть в Массачусетскую больницу до пяти вечера, потому что…
К стыду своему, я пробормотал, что “Скорая помощь Сэма” и Морн-Кабри никогда не одолеет, куда уж ей добраться до Канжи. Серена расплакалась, я начал извиняться, и тут вдруг зазвонил мобильный Ти Фифи. Это был Ральф, находившийся в нескольких метрах от нас.
– Они согласны ехать дальше? – спросила Серена.
– Я так понимаю, да, – ответила Ти Фифи.
– Ох, я их обожаю! – воскликнула девушка.
Ти Фифи усмехнулась:
– Господь милостив.
Но когда до вершины оставалась треть пути, скорая помощь опять встала. В сценическом освещении наших фар было видно, как у них из-под капота валит пар. Двое помощников Ральфа вылезли под дождь в своих шапочках, накинув пончо, и для устойчивости подперли валуном одно из колес. У Ти Фифи снова зазвонил телефон.
– Они старались, – сказала она Серене. – Но у них опять кончается масло, а запасов больше нет.
– Тогда, может, пусть одолжат нам свой отсос? – предложила Серена.
– Если так, то надо будет им что-то заплатить.
– Заплатим много!
После краткой дискуссии Ральф ответил: “Без проблем”. К Серене вернулось бодрое настроение. Они с Ти Фифи отправились в машину к Ральфу проследить за работой мужчин. В нашем пикапе Патрис, медработник из “Занми Ласанте”, сказал:
– Похоже, Серена никогда не сдается.
Да, в этом смысле она женское воплощение Фармера, подумал я. Но я все равно не понимал, зачем им перетаскивать отсос. Он же электрический! Не такие же эти ребята гениальные механики, чтобы среди ночи под проливным дождем на склоне Морн-Кабри подключить его к пикапу “Занми Ласанте”.
Время тянулось, по моим ощущениям прошел не один час. Дождь стих. Я вылез из пикапа и слушал возню Ральфа с помощниками в их машине. Там непрерывно что-то гремело, скрипело, словно они решили весь автомобиль разобрать на части. Я сунулся к ним через заднюю дверь и услышал, как Ральф говорит Ти Фифи:
– Вы бы меня наняли перевозить ваших больных, и, говорю вам, никаких проблем!
“Ага, вообще никаких, судя по тому, как ты уродуешь свою несчастную сломанную тачку”, – подумал я. Так легко (по крайней мере, мне) перепутать материальные ресурсы человека с его внутренними ресурсами.
Стоя на краю скалы, я смотрел на огни Порт-о-Пренса внизу. Прошло еще сколько-то времени, а потом я увидел, как из задней двери скорой помощи высунулась рука Серены с поднятым вверх большим пальцем, а несколько секунд спустя Ральф уже переносил агрегат в пикап. Он установил отсос в салоне и приладил к нему какой-то штекер, подходящий к прикуривателю пикапа. Перегнулся через водительское сиденье, воткнул штекер в прикуриватель, и аппарат зажужжал. Серена захлопала в ладоши.
Потом Ти Фифи сказала, что надо вернуться в Порт-о-Пренс, переночевать там и взять еще один пикап, ибо в этот мы с Сереной и Патрисом завтра не поместимся. Но Серена ответила:
– Нет, так нельзя. Это задержит нас еще на день.
Мы с ней поедем завтра в аэропорт в открытом кузове пикапа, заявила она.
– Так сказал бы Пол. Убери свою задницу в кузов.
Ручьи, пересекавшие Шоссе № 3, переполнились, в свете фар они казались бурными порожистыми реками. Перед первым Аликс даже притормозил, но потом лихо рванул вперед. Несколько секунд наши фары светили из-под воды – и вот мы уже на суше. Позже Серена призналась мне, что ужасно тогда испугалась. “А вдруг я умру?” – пронеслось у нее в голове, когда фары нырнули под воду. “Я не могу умереть, – ответила она себе, – у меня еще столько всего впереди”. А затем, когда пикап выбрался на твердую землю, мысленно добавила: “Вот, запомни это. Когда речь идет о твоей собственной жизни, она тут же становится самой важной вещью на свете”.
На следующее утро вся компания выехала в Порт-о-Пренс спозаранку. Во дворе, как всегда, толпились больные. Они в торжественном молчании наблюдали, как доктор Гуго Жером на руках вынес Джона к пикапу. Он поцеловал мальчика и посадил его на заднее сиденье рядом с матерью и Кароль. Насколько я мог судить, доктор Ж., как мы его называли, был из тех врачей, кто нипочем не покинул бы Канжи ради места получше. Однажды в моем присутствии он поднял стакан местного рома и сказал Фармеру: “Вы – лучший из гаитян”.
Аликс не подвел. Медленно-медленно проезжал он выбоины на Шоссе №2 3, длинные участки неровной, растрескавшейся коренной породы, крутые скаты, где вся дорога состояла из нагромождения булыжников. В пикапе мать и Кароль хлопотали вокруг мальчика. Бедняга мучился, каждый толчок отдавался острой болью. “Представьте, что у вас жутко болит горло, и умножьте на тысячу”, – говорила Кароль. Но отсос ни разу не дал сбой, и Джон нормально добрался до аэропорта, а потом и до Бостона. Наверное, он стал первым гаитянским крестьянином, летавшим на частном самолете. В аэропорту Логан скорая помощь забрала нас всех прямо с посадочной полосы. Я ехал впереди, рядом с водителем.
Он предупредил:
– Сейчас будет беда.
– А что такое?
– Дороги. Отсюда до Массачусетской больницы некоторые участки просто кошмарные.
Вроде бы смешно, но поди объясни водителю комизм ситуации… И от этого мне, сам не знаю почему, сделалось очень грустно.
Наш маленький самолет сначала приземлился в Уилмингтоне, штат Северная Каролина, чтобы мы прошли таможенный контроль. Таможенница задала Серене стандартный вопрос: “Везете что-нибудь из Гаити?” И сама же добавила: “Хотя что оттуда везти, кроме болезней?” Когда мы снова взлетели, Серена сказала: “Так хотелось врезать ей по носу. Но я убежденная пацифистка”.
Там же, в Уилмингтоне, Серена переоделась в платье. Остальная ее одежда насквозь пропылилась на gwo wout la. “Не могу же я явиться в Массачусетскую больницу в таком виде”, – пояснила она. Ей и так не давал покоя вопрос, что скажут врачи и медсестры, когда увидят Джона. И не напрасно она тревожилась.
Сотрудники педиатрического отделения интенсивной терапии действовали быстро и слаженно, через минуту Джон уже лежал в кровати. Но Серена слышала, как одна из дежурных врачей жаловалась по телефону своему начальнику: “Шея да кости!” Когда из Гаити позвонил Фармер, она сказала ему: “Знаешь, мы поступили правильно”. Тот, судя по всему, горячо соглашался, и Серена повторила: “Да, Поло, мы все сделали правильно, никаких сомнений, все правильно”.
Вскоре мы с Сереной удалились в соседнюю комнату поглощать больничный ужин. К нам присоединилась девушка-интерн, на вид совсем юная, чуть ли не подросток. Она едва окончила медицинскую школу, тогда как Серена была штатным врачом в Бригеме. Но девушка явно слишком разнервничалась, чтобы помнить об этикете. Они что там, в Гаити, вообще ребенка не кормили? – поинтересовалась она.
– Я в шоке, – заявило это дитя и добавило менторским тоном: – Знаете, ведь это ужасно – умереть от химиотерапии.
Серена поджала губы. Потом попыталась пуститься в объяснения: надо же понимать, что такое Гаити и как трудно кого-то оттуда вытащить, а Джон, конечно, страдал от недоедания, но Пол Фармер, известнейший врач, распорядился усиленно его кормить и даже поставить пищевой зонд, что в Гаити делается редко, однако и здешний детский онколог сказал, что никаким питанием не откормишь ребенка с такой формой рака, а у Джона все-таки есть шанс… Но тут вошел миниатюрный элегантный пожилой господин в черном костюме – доктор Алан Эзековиц, заведующий педиатрическим отделением. У меня мелькнула мысль, что он, возможно, слышал, как интерн отчитывает врача, потому что первым делом он, улыбаясь Серене, произнес громко и жестко:
– Да, у мальчика трудный случай. Но вытаскивал я детишек и из худших передряг.
Серена нервно рассмеялась:
– Ну, теперь он в лучшей больнице на свете.
– Как только мы возомним себя лучшими, сразу и перестанем ими быть, – усмехнулся доктор Эзековиц. – Он повернулся к интерну: – Верно? Всегда есть куда расти, правда же?
Девушка опустила глаза: Да, доктор Эзековиц.
На следующий день после обеда Серена позвонила мне, чтобы сообщить: только что внушительный консилиум рентгенологов, педиатров и онкологов целый час изучал рентгеновские снимки, КТ и сканограммы костей Джона. Потом, без паузы, рыдая в трубку, она продолжила:
– Метастазы везде. Во рту, проникают в позвонки. Бедного ребенка терзали адские боли. Все началось с носовой области, одна плотная опухоль, растущая назад – в нёбо, в позвоночник. Нельзя облучать четыре позвонка. Так что он умрет. Его обслуживают по первому разряду, но в воздухе все равно висит вопрос: зачем вы его притащили? Почему? А потому, что, во-первых, он человек, во-вторых, я не знала, что его нельзя вылечить. И в-третьих: почему не позволить его матери горевать в отдельной комнате, где мухи не садятся ей на лицо? Разве нельзя обеспечить ему квалифицированную паллиативную помощь? Разве паллиативная медицина не важна? И место, где мама сможет поплакать одна, а не у всех на виду, облепленная мухами?
Конечно, за Джоном прекрасно ухаживали. Давали ему все необходимые лекарства в правильной дозировке, так что боли он, судя по всему, больше не испытывал. Следующие две недели Серена и Кароль почти безвылазно дежурили в его палате, по очереди ночевали там же, на раскладушке. Любимым развлечением Джона был детский диктофон, подсоединенный к игрушечному телефону. Он брал трубку и говорил в нее.
– Кому ты звонишь? – спрашивала по-креольски Кароль.
– Маме.
– А что ты ей говоришь?
– Vini, vini.
Приезжай скорее. Мальчик жестами просил Кароль повторить те же слова в трубку, она повторяла, и он успокаивался.
Его мать прилетела через несколько дней вместе с Ти Фифи, организовавшей поездку. Фармер много времени проводил в палате Джона. Мальчика навещали все пвизовцы и многие бостонские гаитяне, его палата с роскошным видом на реку Чарльз была завалена игрушками. Серена переоборудовала свою квартиру в хоспис, и через пару дней после переезда туда Джон просто не проснулся. Кароль сидела рядом на кровати, держа его за руку и слушая пульс. Чейнстоксово дыхание, поверхностное и быстрое, минутное апноэ – и пульс исчез.
Мне казалось, что для Джона все сложилось наилучшим образом, каким только могло сложиться с учетом условий в Гаити. Пвизовцы об этих условиях отзывались гневно. Некоторые говорили друг другу: “Спасибо, что не дали ему умереть там”. Конечно, исходу дела никто не радовался – ведь мальчик мог бы выжить, если бы получилось увезти его из Гаити пораньше. Но были и неожиданные утешительные последствия.
Матери Джона Фармер предложил работу в “Занми Ласанте”, для нее собрали пожертвования – изрядную сумму. Ти Фифи предупредила, что не следует выдавать женщине деньги большими порциями, и оказалась права – наглядный урок, сколь опасны бывают добрые намерения в такой бедной стране, как Гаити. Новости разлетаются по Центральному плато быстрее, чем передвигаются люди, и логично было бы предположить, что у женщины, чьего сына отправили на частном самолете в “страну денег”, есть чем поживиться. В ее дом в пригороде Энша проникли воры, но благодаря Ти Фифи они не нашли там ничего ценного и больше не возвращались. Ти Фифи опасалась, как бы “Занми Ласанте” не начали осаждать родители, требующие и их больных детей тоже отвезти в Бостон, но ничего подобного не произошло. В следующий свой визит в Канжи я спросил Ти Жана, главного мастера на все руки в “Занми Ласанте”, как местные жители относятся к истории с Джоном. Он ответил, что все ее обсуждают. “И знаете, что они говорят? Они говорят: вот видите, как эти люди о нас заботятся”.
Серена беспокоилась: вдруг это был последний раз, когда Массачусетская больница бесплатно приняла гаитянского протеже ПВИЗ? Но не прошло и месяца со смерти Джона, как она уже везла из Гаити другого ребенка – маленькую девочку из деревни, расположенной напротив Канжи через водохранилище. Злокачественная опухоль в почке, зато отличные прогнозы и нормальное общее состояние, позволявшее лететь с девочкой коммерческим рейсом. Массачусетская больница отказалась брать плату за ее лечение.
Отношение сотрудников педиатрического отделения к Серене и Кароль заметно потеплело. Особенно их полюбил доктор Эзековиц. Он восхищался их всесторонней заботой о пациентах и хотел, чтобы его собственные подчиненные брали с девушек пример.
Однажды он вызвал Серену на разговор и сказал ей:
– Вы потрясающий защитник своих подопечных. Вы можете гордиться собой.
– Вовсе я собой не горжусь, – ответила Серена. – В Гаити больные умирают. Там такой бардак, что гордиться нечем. – Но столь удобный случай она упустить не могла: – Доктор Эзековиц, я хотела бы прозондировать почву на предмет возможного сотрудничества. Не будет ли вам интересно познакомиться с Полом Фармером?
Оказалось, что Эзековицу очень даже интересно. Он много слышал о Фармере. Позже он поделился со мной впечатлениями: “По-моему, Пол – удивительный человек”. И добавил, что, по его мнению, такие больницы, как Массачусетская, просто обязаны бесплатно принимать таких пациентов, как Джон. “Кроме того, бесплатное лечение служит, на мой взгляд, важной цели – оно вправляет людям мозги. Нищету стран вроде Гаити трудно представить себе по-настоящему. А когда она у тебя перед глазами, ты осознаешь ее реальность”.
В общем, знакомство прошло прекрасно. Фармер сказал:
– Если позволите мне быть откровенным, нам нужна помощь. Как вы смотрите на то, чтобы каждый год брать у нас пациента-другого?
– О, это как минимум, – ответил доктор Эзековиц.
Наблюдая, как пвизовцы стараются вытащить Джона из Канжи, я иногда, в самые черные минуты, беспокоился: а вдруг дело скорее в них самих, чем в Джоне? Может, показать героизм ПВИЗ им важнее, чем спасти ребенка? Но потом я возражал себе: будь Джон моим сыном, подобные мысли меня бы не посещали. Для пациента делаешь все, что можешь. Если бы я сам был тяжело болен, то не усмотрел бы ничего неразумного в такой установке.
И все же меня не покидало чувство, что вся эта история призвана наглядно продемонстрировать трудность и, быть может, в конечном итоге тщетность затеянного Фармером предприятия. Я собирался – позже, когда пройдет достаточно времени, – поинтересоваться, что он об этом думает.
Глава 26
На дворе декабрь. С медицинского рейса в Бостон прошло два месяца, и вот я опять здесь, с Фармером, по другую сторону великого эпибарьера. В угасающем свете дня пригородные районы Порт-о-Пренса видятся мне точно такими же, какими я видел их раньше: хаос, грязь, разруха. Выезжая из города на коварную дорогу к Морн-Кабри, мы некоторое время следуем за тап-тапом, на бампере которого краской выведена злободневная надпись. В переводе с креольского она гласит: “Господи, прокомментируй ситуацию”. Фармер смеется.
В горы он углубляется, как всегда, на хорошей скорости. Свет фар скользит по выбоинам и валунам. Я спрашиваю, сколько имейлов он сейчас получает.
– Около двух сотен в день, – отвечает он. – Пока справляюсь.
То же самое он говорил год назад, когда получал по семьдесят пять писем в день.
Фармер добавляет:
– Что-то придется менять. Но я вовсе не выгораю, как считают некоторые. – В свете приборной панели я замечаю, как у него на мгновение напрягается челюсть, словно он вот-вот бросится в драку. – И мне не надоело.
И вновь мы прибываем в Канжи затемно, после изрядной тряски, но без приключений – ни аварий в дороге, ни столкновений с zenglendo. Фармер снимает костюм и переодевается в свою местную одежду. Мы сидим под увитым лианами навесом возле его домика. Ти Жан приносит ужин и составляет нам компанию.
Ти Жан – мускулистый парень с потрясающей улыбкой во весь рот, сын местного земледельца. Ему около тридцати, так что он успел стать свидетелем всех стадий преображения Канжи.
– Чудеса, – говорит он. – Раньше люди жили тут, как свиньи в свинарнике. А теперь к ним надо стучаться в двери.
Он имеет в виду, что у них теперь есть двери.
Ти Жан не только главный мастер на все руки, но и ближайшее доверенное лицо Фармера среди местных мужчин. “Мой начальник штаба” – так называет его Пол. И не напрасно. Часть своей зарплаты Ти Жан отдает в пользу неимущих пациентов. Насчет Национального шоссе № 3 он как-то высказался: “Я предпочел бы отремонтированную дорогу и лишних сто тысяч пациентов в год. Потому что принимать их – наше призвание”. А еще говорил мне, что если бы он был philosophe (то есть если бы у родителей хватило свиней на его обучение в старших классах школы), то написал бы книгу о гаитянской буржуазии. Сердитую книгу, подчеркнул он. Ти Жан немного разбирается в медицине и разделяет презрение Фармера к теориям, превозносящим старые традиционные методы лечения, – например, к мнению, будто травяные отвары в целом предпочтительнее синтетических лекарств. И вдобавок он главный инструктор Пола по части местных верований.
Ти Жан убежден: животные не всегда то, чем кажутся.
– Видишь черного пса, Поло? Он был здесь вчера?
– Нет.
– И он гавкнул дважды?
– Да.
Ти Жан важно кивает:
– Ммм. Гммм.
В космологии Ти Жана, как ее понимает Фармер, люди превращаются в животных только ради какой-нибудь пакости, либо же их превращают колдуны – в наказание или просто чтобы съесть. Фармер видит во всем этом “гигантское моралите, комментарий на социальное неравенство”. “Почти без исключений”, – уточняет он.
После ужина Фармер включает подводное освещение в пруду и разглядывает рыбок, перечисляя нам их виды. Воспитанному гостю надлежит любоваться рыбками и внимать. Я говорю, что это, похоже, замена маниакальному садоводству.
– Нет, – отвечает Фармер, – это то же самое, что маниакальное садоводство.
Ти Жан замечает, что пруд обходится недешево, затем обращается к Фармеру:
– Но я вовсе не осуждаю. Человек не может быть счастлив чем-то одним. Если бы ты только смотрел пациентов, ты, наверное, не был бы счастлив.
А как же путешествия, спрашивает Фармер. Ти Жан соглашается, что путешествует Фармер много.
– Ты как птица без гнезда, – говорит он.
– Но где же все-таки мое гнездо? – спрашивает Фармер.
– Твое гнездо в Гаити, – отвечает Ти Жан. – Ты ездишь повсюду, но база у тебя здесь.
Из тех пациентов, что я встречал здесь в прошлые приезды, некоторые давно похоронены, многие (их гораздо больше) разъехались по домам, но кое-кто остался. Сотрудники, информирующие население о профилактике болезней, большей частью бывшие пациенты; они, как правило, очень старательны, им верят, и, кроме того, кое-кто из них заболел как раз из-за чрезмерной уязвимости. Год назад здесь лечилась от МЛУ-ТБ семья из пяти человек. Все они поправились и уехали, за исключением одного из сыновей. Он считал, что вся семья заразилась именно от него, и так мучился чувством вины, так нервничал из-за самых разных вещей, что Фармер решил: не дело отправлять его обратно в условия пищевой конкуренции. И взял парнишку в “Занми Ласанте” социальным работником. Ти Офа, молодой человек, норовивший подарить Фармеру курицу или поросенка, прибавил в весе восемь фунтов, с тех пор как начал принимать антиретровирусные препараты. Старуха, уверенная, что ее сын убил брата при помощи колдовства, после долгой череды консультаций одумалась. Нанятый Фармером адвокат в конце концов добился снятия всех обвинений с молодого охранника из Кэ-Эпен и вытащил его из тюрьмы. Но в стране, где медицины все еще кот наплакал, еды мало, как никогда, а правосудие в лучшем случае рудиментарно, “консультациям по колдовству” и “пресечениям заключения” не будет конца. И потоку больных, конечно, тоже.
Несколько месяцев назад в Детский павильон “Занми Ласанте” поступил мальчик по имени Алькант. Как и у Джона, у него появились опухоли на шее, но в данном случае они действительно оказались симптомами золотухи. Препараты первого ряда полностью устранили инфекцию. Опухоли исчезли, оставив на память лишь маленькие шрамы, Алькант поправился на восемь фунтов, то есть на десять процентов от своего прежнего веса. Тринадцатилетний мальчик казался младше своего возраста, такой был миниатюрный и доверчивый, из тех детей, кто берет за руку постороннего. И еще он был необыкновенно красив: безупречное сложение, блестящие темные глаза, ямочки на щеках. Благодаря ему атмосфера в Детском павильоне изменилась, и у Фармера уже не так болезненно сжималось сердце, когда он поднимался сюда по лестнице. Ведь именно здесь его глазам открывались самые мучительные зрелища в “Занми Ласанте”, именно здесь за ним бродили самые беспокойные призраки. Думаю, Альканта стали воспринимать как ангела-хранителя – то ли детского отделения, то ли самого Фармера. Он продержал мальчика в Канжи на несколько недель дольше необходимого, называя его полоняником – пленником Пола. Но в конце концов отправил домой.
Как правило, золотухой ребенок заражается от кого-то из близких, обычно от отца или матери. Поэтому один из общественных медработников “Занми Ласанте” привез в Канжи всю семью Альканта – “выудил” их, по выражению Фармера. Туберкулез обнаружили у нескольких членов семьи, включая отца, который все еще лечится. Теперь Фармер хочет своими глазами увидеть, как живет Алькант дома, и собирается идти к нему в гости пешком.
– Семья такая болезненная, – объясняет он и добавляет: – Кто-то скажет, что у нас бессистемный подход. Но мы ответим: вовсе нет! Именно навещая пациентов, мы выявляем нужды и проблемы.
Городишко, где проживает Алькант, называется Касс. Идти туда еще дальше, чем до Морн-Мишель, куда я ходил в свой первый долгий поход с Фармером, но тропы не такие крутые. Все это Фармер сообщил мне вчера вечером. Так что я лишь смутно представляю себе, сколько часов займет дорога, пока мы не выходим за ворота, где сопровождающий нас Ти Жан спрашивает, взял ли я фонарь.
Я не взял и предлагаю за ним вернуться. Фармер говорит: не надо, а то ведь обязательно всплывет какая-нибудь чрезвычайная ситуация, ему придется вмешаться… Задержимся сейчас – и не будет конца задержкам. На голове у Фармера бейсболка, которая, кажется, велика ему на несколько размеров, и на мгновение я представляю его неуклюжим подростком, топающим с отцом на матч. Его худоба и мальчишеский блеск в глазах добавляют картинке правдоподобия, к тому же иногда у него проскальзывает этакая наивность – например, он любит посреди высоконаучной беседы о связи экономики и инфекционных заболеваний огорошить вас пылкой просьбой: спросите у меня что-нибудь про “Властелина колец”! (Эту трилогию он бесконечно перечитывал с одиннадцати лет.) Но сейчас он уводит нас прочь от “Занми Ласанте”, вожак во всех смыслах слова, и я вдруг понимаю, что ничуть не обеспокоен отсутствием фонарика. Вот странно, удивляюсь я. Обычно мне нелегко положиться на провожатого, но Фармеру я доверяю.
Мы пускаемся в путь по тропинкам, вытоптанным на склонах холмов, окружающих озеро Пелигр, а вскоре я уже карабкаюсь по изъеденной эрозией скале. Когда мы добираемся до вершины, где нас поджидает успевший первым Фармер, пот течет с меня ручьями. Мне вспоминается эпический поход в Морн-Мишель. Двигаемся дальше, и Фармер кричит мне через плечо, чтобы я немедленно ему жаловался, если защемит в груди, – по голосу ясно, что он шутит. Я надолго присасываюсь к бутылке с водой, пока мы одолеваем поросший желтой травой гребень холма. Фармер показывает “крутой холм странной конической формы”, на котором много лет назад сидел в одиночестве и писал “СПИД и обвинение”.
У Ти Жана с собой большая бутыль, наполненная водой из-под крана в медицинском комплексе. Это питьевая вода. У Фармера и Ти Жана иммунитет к содержащимся в ней микробам, но американские гости, если часто ее пьют, огребают расстройство кишечника – неопасное, но приятного мало. Так что я взял себе отдельную бутылку с фильтрованной водой, но она невелика. К моменту первого привала у меня половина уже выпита, тогда как Ти Жан, Фармер и фармацевт из “Занми Ласанте”, который тоже идет с нами, свою бутыль еще даже не открывали.
По дороге в Касс к Альканту у Фармера запланирован еще один промежуточный визит. Где-то в горах мы заходим в хижину: две крошечные комнаты, земляной пол, крыша из пальмовых листьев, проаристидовские плакаты на стенах. На соломенной циновке сидит пожилая пара. Фармер достает медицинскую карту мужчины, садится на стул возле двери и зачитывает выдержки вслух.
– С 1989 года он регулярно приходил в “Занми Ласанте” за гипотензивными препаратами. Я его последний раз видел в 1997-м, когда он подхватил малярию, а потом тут сказано: “Контрольный визит назначен на четверг”. Но он не пришел. И оп – пожалуйста, написано: “С трудом встает на ноги”. За лекарствами от давления приходил его сын.
Опустившись на колени на земляной пол, Фармер измеряет мужчине пульс и давление, потом надевает фонендоскоп и прослушивает грудную клетку. Снаружи орут петухи. В неподвижном раскаленном воздухе хижины жужжат мухи. Старик рассказывает, что у него немножко заболело в середине груди, а потом ноги не очень слушались. Фармер обращается ко мне:
– Я знаю, что делать. Снизим ему давление до нормального уровня, а потом дадим пару канадских костылей. Похоже, он перенес инсульт, но, на мой взгляд, сможет оправиться. Недостаточность у него минимальная. Значит, надо подрядить кого-нибудь, чтобы помогли мне доставить сюда канадские костыли. В Бригеме ему бы запросто нормализовали давление. А здесь запросто не бывает. Как за ним проследить, чтобы не пренебрегал физиотерапией?
Жена старика просит измерить давление и ей тоже. Стоя возле нее на коленях, Фармер говорит по-английски:
– Ей шестьдесят два. А дать можно все сто. – Затем себе под нос бормочет: – Бригем далеко, друг мой.
У старушки тоже давление повышенное, сообщает он. Я тем временем пытаюсь сосредоточиться на своих размышлениях: вспоминаю, как год назад Фармер говорил мне об огромной разнице – быть прикованным к постели в симпатичном домике на окраине Бостона или быть прикованным к циновке в хижине вроде этой. Но меня постоянно отвлекает покалывание в левой стороне груди, то возникающее, то пропадающее еще с нашего первого восхождения на холм.
В конце концов я признаюсь про покалывание Фармеру. Начинаю извиняться, но он перебивает:
– Не говорите глупостей. Расскажите подробнее.
Он задает мне десяток вопросов и приходит к выводу, что у меня, скорее всего, просто изжога.
– Но если станет хуже, обязательно мне скажите. Вам не настолько необходимо увидеться с Алькантом. Уговор?
К двери подбегают несколько малолетних детишек. Топчутся на пороге, заглядывают внутрь. Фармер, указывая на печальную хозяйку дома, обращается к ним:
– Вы ее очень любите? Не забываете ей об этом говорить? Ну-ка отвечайте мне честно!
Дети хихикают. Старушка улыбается. Фармер кивает на голого карапуза на пороге:
– Гляньте на его игрушку.
Мальчик сосет большой палец. А в другой руке у него кусок грубой пеньковой веревки, к которому привязан камень.
– Голиафу не поздоровится! – говорит Фармер, и меня разбирает смех. Смеюсь и не могу остановиться, и Фармер тоже начинает смеяться, приговаривая: – Вот теперь и у меня начнутся боли в груди. Господь меня поразит насмерть.
Он обещает дать мне на всякий случай половинку бета-блокатора, а я все не никак не успокоюсь.
– Господь меня поразит насмерть, – повторяет он. – За то, что пью больше воды, чем мне отмерено, за недостаток смирения и дурацкий юмор. Это все вы виноваты. Я выпендриваюсь перед зрителями.
Кстати, к воде он, по-моему, так до сих пор и не притронулся.
Он снабжает стариков лекарствами и указаниями. Прощания в Гаити всегда долгие. Когда мы выходим, Фармер говорит:
– Это был bel kout nas, удачный заброс сетей. Пришли за дедом, а поймали и бабушку. Очень вовремя, пока ее не сбил северный олень[15].
Рыболовные метафоры я слышал от него часто. Случайно обнаружив больного, он радовался “хорошему улову”. Можно подумать, в “Занми Ласанте” не хватает пациентов.
– Долго еще идти? – спрашиваю я, уже на ходу.
– Ой долго. Мы прошли четверть пути.
– Четверть?..
С тех пор как умер маленький Джон, я все пытался сформулировать вопрос к Фармеру по поводу этой истории. Я не забыл, как год назад среди этих самых холмов он говорил мне: “Страдания надо сравнивать. Кто страдает сильнее. Это называется триаж”.
Понятие “триаж” родом из XIV века, образовано от французского глагола trier – отбирать, сортировать. Поначалу оно обозначало сортировку шерсти по качеству. В современном медицинском языке “триаж” имеет два значения, почти противоположных друг другу. В ситуациях, когда количество врачей, медсестер и инструментов ограниченно, например на поле боя, триаж проводят, в первую очередь оказывая помощь тяжелораненым, у которых наилучшие шансы выжить. Цель – спасти как можно больше людей; остальные будут, вероятно, брошены на произвол судьбы и умрут. В мирное же время, например в хорошо оборудованных и укомплектованных персоналом американских реанимациях, триаж не предполагает лишения помощи, он означает лишь расстановку приоритетов и первоочередное обслуживание больных в наиболее тяжелом состоянии.
Фармер всю свою жизнь выстроил вокруг триажа второго типа. Ведь это и есть не что иное, как преференция для бедных в медицине. Но Гаити скорее напоминает поле боя, чем мирный регион. Шагая вслед за Полом, я говорю, что здесь, наверное, постоянно возникают ситуации, когда решение сделать что-то необходимое автоматически означает решение не сделать чего-то другого, тоже необходимого. Не просто отсрочку, а именно отказ.
– Все время, – отвечает он.
– То есть вам всю дорогу приходится с этим сталкиваться, верно?
– Да-да, каждый день. Сделать одно вместо другого. День за днем, с утра до ночи, я только этим и занят. Неделанием разных вещей.
Тогда, спрашиваю я, как же насчет истории Джона? Как насчет двадцати тысяч долларов, потраченных пвизовцами на его воздушную эвакуацию из Гаити? Вскоре после смерти мальчика одна девушка, сравнительно недавно работавшая в ПВИЗ, призналась мне, что ее преследуют мысли о том, сколько всего можно было бы сделать на эти двадцать тысяч. А что бы Фармер ей на это ответил?
– Только не воспринимайте это как критику, – добавляю я, едва поспевая за ним.
– Да ладно, – бросает он через плечо, – не такой уж я обидчивый. Но мы же с вами это столько раз обсуждали! Либо я просто плохо объясняю, либо вы мне так и не поверили. Быть может, я никогда не сумею вас убедить, что мы принимаем правильные решения.
Я вовсе не хотел его задирать. Между прочим, сегодня он мой проводник и лечащий врач. Но я уже разбираюсь в его интонациях. На самом деле он не сердится, это просто преамбула, разогрев перед основным выступлением.
Все так же обращаясь ко мне через плечо на ходу, он продолжает:
– Позвольте мне отметить пару моментов, касающихся этого конкретного случая. Во-первых, конечно, не будем забывать, что Джона переправили в Бостон, поскольку он умирал от очень редкой, но поддающейся лечению опухоли. В Массачусетскую больницу его устроили только после того, как мы выяснили диагноз. То есть он туда поступил потому, что его взялись лечить бесплатно, и потому, что у него было редкое заболевание, которое лечится с вероятностью 60–70 процентов. Ладно. Пока все ясно. Вот на таких основаниях принималось решение. А что у него вовсе не локальная опухоль без метастазов, мы здесь узнать никак не могли за неимением необходимого диагностического оборудования. И, следовательно, во-вторых, главный, итоговый вопрос: почему мы так яростно всеми доступными средствами боролись именно за этого ребенка, а не за какого-то другого? Потому что мать привезла его к нам и он находился у нас, в нашей клинике.
– Когда Серена и Кароль за ним приехали, я все думал: окажись вы на месте, вы бы все-таки решили его везти? Он был такой истощенный.
– Истощение меня бы не остановило. Если бы я видел его, видел, насколько ему стало хуже, я не отменил бы операцию. С какой стати? На каких основаниях? Мы же не знали, что метастазы проникли в позвоночник, это выяснилось только в Бостоне.
Мы снова лезем в гору, и одышка не дает мне вымолвить ни слова. Фармер, немного помолчав, говорит:
– Но знаете, подобные комментарии от новеньких меня несколько беспокоят. Ведь мне же с этими людьми работать. Еще только не хватало тратить силы на переубеждение собственных сотрудников. Теперь приходится, конечно, но мне это не нравится. Гаитяне вот могли бы многое порассказать насчет пригревания на груди кого не следует.
– Мне не хотелось бы, чтобы вы поняли ее превратно, – отвечаю. – Девушка вовсе не имела в виду, что вы не должны были везти Джона в Бостон. Просто жалела, что столько денег потрачено, учитывая, сколько полезного можно сделать на двадцать тысяч.
– Ну да, только есть множество способов выразить эту мысль. К примеру: вот авиакомпания, которая делает деньги, эти наемники, почему они не предложили оплатить перелет? Можно так спросить. Или как насчет другой формулировки? Если я скажу, что всю свою жизнь вел долгую борьбу, обреченную на поражение? Что тогда? Если я скажу: все это в сумме дает лишь один итог – поражение?
– Долгое поражение.
– Я вел долгую борьбу, обреченную на поражение, и вовлекал в нее других, и я не отступлюсь только потому, что мы это поражение терпим все время. Теперь мне даже кажется, что иногда мы можем и побеждать. Я отнюдь не против побед. Мы с вами столько раз уже это обсуждали.
– Простите.
– Нет-нет, я не жалуюсь. Знаете, люди с биографиями вроде наших – такие как вы, как я, как большинство пвизовцев – привыкли играть в команде победителей, а в ПВИЗ мы, по сути, пытаемся объединиться с побежденными. Разница огромная. Нам хочется быть в команде победителей, но если ради этого надо отвернуться от побежденных – нет, такая игра не стоит свеч. Поэтому мы ведем долгую борьбу, обреченную на поражение. – Помолчав, он спрашивает: – Как вы себя чувствуете? Больше не колет?
Мне чудовищно жарко, но покалывающая боль прошла.
Фармер продолжает:
– И когда люди спрашивают нас про триаж, чаще всего они спрашивают не с откровенным упреком, но с глубоким недоверием к нашим словам. У них-то ответ уже готов. И вот это все ужасно выматывает, потому что, понимаете, основная масса вопросов задается… ну, как бы это лучше сказать…
– С предубеждением?
– Угу.
Пока мы слезаем вниз по крутому участку тропы, он молчит. Когда почва под ногами выравнивается, снова подает голос:
– Зарплата врача в стране первого мира. Что, если так посмотреть? Раз уж зашел разговор о деньгах, которые можно было бы потратить иначе, как насчет зарплаты врачей?
– Это мне в голову не приходило, – смеюсь я.
– Ну разумеется. Видите ли, человек поистине смиренный вспомнит об этом прежде, чем скажет что-либо еще. Мне до истинного смирения далеко, но я стараюсь. Так что давайте зададим вопрос иначе. Почему люди не думают в этом направлении? Почему молодой американский врач не говорит: боже, моя годовая зарплата в пять раз выше, чем стоимость перелета для Джона, а ведь мне всего двадцать девять или там тридцать с хвостиком? Если высказать что-то такое вслух, тебя сочтут придурком. А если скажешь иначе, то ты как бы вдумчивый. Но вот что тут такого? Что не так в этой картинке? Если человек говорит: ну я тут просто подумал, сколько всего можно сделать на двадцать тысяч, – он, значит, такой вдумчивый, здравомыслящий, понимаете ли, разумный, рациональный, с ним прямо хочется быть заодно. А если человек отметит: но молодой практикующий врач получает сто тысяч долларов, в пять раз больше, чем стоит попытка спасти ребенку жизнь, – он, значит, просто болван. Тот же мир, те же цифры, те же пропорции, та же валюта. Знаете, я вот этого никогда не понимал. То есть теперь-то понял, но и осознал, как долго к этому пониманию идти, к умению это все объяснить, никого не обижая. Ну вот, что скажете?
– Мне понравилось про долгую борьбу, обреченную на поражение.
– Я бы назвал это главной установкой ПДБ, – отвечает он. – Пусть мы проиграем, плевать, я все равно буду стараться делать что должно.
– Но и к победе вы все-таки стремитесь.
– Конечно! Мы же не мазохисты какие. А потом любая победа – штука сладкая, правда же? Альтернатива – решить, что все надоело, потому что восемнадцать лет вел эту обреченную борьбу, пытался отменить поражение, пытался там, не знаю, хотя бы спасти Кенолю локтевой сустав…
Он имеет в виду нынешнего пациента в Канжи, мальчика, которому прищемило руку прессом для сахарного тростника – “примитивным средневековым агрегатом”, ругался Фармер, – отчего развилась гангрена. В итоге ему ампутируют руку над локтем. После операции он скажет, что мечтает о радио, и Фармер купит ему приемник в последний день в Майами. “Занми Ласанте” отправит его в школу.
– Как ваши боли? – осведомляется Фармер.
Вообще-то все в порядке. Правда, воды в моей бутылке осталось всего на глоток, а пить нефильтрованную из запасов Ти Жана Фармер мне не советовал. Так что лучше пока помучаюсь жаждой.
Фармер возвращается к своей речи:
– Если бы мы могли выявлять обреченных, таких как Джон, и не тратить на них время и силы, в Штатах сказали бы, что мы молодцы. Верно? Но весь смысл ПДБ в том, чтобы никогда так не поступать, никогда не идти на такой риск. Потому что, прежде чем бросить на произвол судьбы парнишку вроде Джона, надо быть уверенным на сто процентов, а чем больше узнаешь о семье Джона, тем яснее понимаешь, что весь их род, весь их… ну то есть они практически вымирали, так? Он был последним ребенком. И они совсем вымерли, генофонд его матери просто исчез. Звучит по-дарвиновски, но вы же понимаете, о чем я. Черт, да разве можно быть врачом, исповедовать ПДБ и идти на подобный риск, не собрав всей возможной информации? Каждый пациент – знак. Каждый пациент – испытание. Как этот дедуля, которого мы сейчас навещали. Который живет в грязи, а ему нужны канадские костыли. Представляете, сколько помоев на меня выльется за канадские костыли в гаитянской глуши?
– Потому что они не “соответствующая технология”?
– Ага. Теперь вы видите истинное лицо всей этой критики. Но мне приходится ограничивать время, которое я трачу на объяснения. Потому что это высасывает душу, если с утра до ночи доказывать, что нет, дедуле нужны костыли, а еще пол и потолок. То есть если постоянно играть в обороне. Ну а если сказать: идите к такой-то матери, я уже построил тысячу домов в этой стране, а вы сколько построили? Тоже бессмысленно. Все равно критикуют-то они все того же врача, который окончил ординатуру и прошел практику в… бла-бла-бла. Если все время тратить на подобные споры, если все время оправдываться, работать станет некогда. Не зря же Ти Жан никогда не говорит о таких вещах, как “соответствующие технологии”.
По словам Фармера, мы проходим через территорию, где и в рабовладельческую эпоху, и в период оккупации Гаити военно-морскими силами США вспыхивали восстания. Пейзаж несколько отличается от окрестностей Канжи. Поля и огороды и даже холмы выглядят чуть плодороднее – немножко лучше почва, немножко больше деревьев. Но народу так же полно. Мы топаем по самой глухомани, вдали от всех путей, которые хотя бы условно считаются дорогами, однако и минуты не бывает, чтобы кто-нибудь не маячил у нас в поле зрения или не выворачивал навстречу из-за поворота тропы.
Одну большую реку мы пересекли вброд. По берегам копались в земле свиньи, шматы почвы плюхались в воду, и меня охватило иррациональное желание ловить землю руками и вытаскивать обратно на берег. Я потерял счет времени – должно быть, мы идем уже часа четыре. Столько холмов осталось позади, а нам все еще встречаются плоды трудов ПВИЗ. Иногда неодушевленные, такие как школа, построенная силами “Занми Ласанте” для местных горцев, но чаще всего – пациенты. Я уж и со счета сбился, стольких мы повстречали, а на глаза попадаются все новые. Некоторые выглядят вполне бодрыми и приветствуют Фармера по-креольски: “Привет, мой док!” или “Как здоровьице нашего дока?” Другие еще в процессе лечения. Самое сильное впечатление на меня производит девочка, некоторое время назад получившая ожоги лица и груди. Кажется, будто плоть в нижней части ее лица растаяла и затвердела в форме этакой кожистой бороды, прочно прижимающей челюсть и подбородок к груди и плечам – все прочнее по мере того, как девочка растет. Страшен не только ее гротескный вид – через год-два она уже не сможет закрывать рот. Помочь тут может только пластический хирург. Фармер давно старается организовать необходимые операции в Штатах.
– Это bwat, – говорит он.
– Касс уже близко? – спрашиваю я.
– Пока вам лучше не знать, – улыбается Фармер. Он останавливается и показывает на вершину холма вдалеке: – Когда вон тот перевал одолеем, я вам скажу. Хайберский проход. Руби-Ридж. Пардон. “Властелин колец”, Врата Краснорога. Чувствуете, чем пахнет? Это кампеш.
Остатки воды я допил некоторое время назад, и теперь голова немного кружится на ходу. Во рту до того пересохло, что, когда я пытаюсь говорить, получается какое-то карканье.
От Фармера мое состояние не укрылось, и, проходя мимо каждого огорода, он кричит: “Апельсины есть?” В итоге я сижу под деревом, опершись спиной о ствол, и поглощаю один за другим шесть апельсинов. Когда мы наконец добираемся до Касса, построенного из дерева и ржавого железа, коричневого от пыли городка с немощеными дорогами (где, однако, есть рынок), Фармер поит меня кока-колой.
– Выразить не могу, как мне полегчало.
– Гидратация, – поясняет он.
Местный медработник “Занми Ласанте” – босая женщина в платье – провожает нас к дому Альканта. (Фармер дождался, пока она сама нас найдет, не стал спрашивать дорогу у незнакомых местных жителей. “Здесь же Гатландия, нас каждый направил бы куда-нибудь не туда. Год эдак на третий-четвертый это усваиваешь”.) Еще полчаса ходьбы – и мы на ферме, состоящей из просяного поля, навеса для готовки с очагом “три камня” и мазанки из хвороста и глины. Крыша из старой коры бананового дерева, там и тут залатанная тряпьем.
– Алькант! – говорит Фармер. – Как я рад тебя видеть!
– А я как счастлив вас видеть! – отвечает очаровательный мальчишка. Сестрам, высыпавшим из мазанки, он кричит: – Есть еще стулья? Нам нужно побольше стульев!
– Маленький командир, – комментирует Фармер. – Ну такой, такой… – Он умолкает, но улыбается до ушей.
Когда мы пришли, отец Альканта брился – лезвием бритвы перед кусочком цветного стекла вместо зеркала, без воды и мыла. Он завершает процесс. Постепенно вся семья перемещается из дома во двор, и мне вспоминается стандартная цирковая практика, когда из маленького вагончика выходит бесконечная вереница людей. Размеры хижины – навскидку футов десять на двадцать, а обитателей ее я насчитал десять душ. Фармер разглядывает мазанку.
– Думаю, в инспекции жилого помещения нет нужды. – Он присматривается внимательнее. – По десятибалльной шкале это единица.
Далее следует долгая беседа, из которой Фармер успевает делать для меня разные поучительные выводы. Из всех случаев ТБ в семье только отцовский поддавался выявлению по анализу мокроты. То есть только у отца туберкулез был легочный и заразный – единственный эпидемиологически значимый случай и единственная форма болезни, которой занимается DOTS.
– Вот вам полный дом туберкулезников, а согласно системе DOTS больной здесь всего один, – говорит Фармер. – У остальных внелегочные формы, а они не считаются. Это убивает, но не считается, ага. – На мгновение он переносится мыслями в Перу: – Мы вовсе не хотели отменить las normas. Хотели только расширить их и добавить им гибкости.
Не обходится, конечно, и без социополитического урока:
– Взгляните на семью Альканта. Все живы, детишки шустрые, умные, а отец не может ходить. И они попросту не справляются. Это, черт подери, нечестно. Много лет назад одна женщина мне сказала: “Ты что, не способен понимать сложное?” Это стало для меня откровением. Неужели надо наказывать людей за то, что они верят, будто ТБ наводится ворожбой? Как один парень из нашей же команды – обещал помочь мне в местном городке с проектом по водоснабжению, но только если жители убедительно докажут, что оно им надо. А если бы ко мне подходили с такой меркой в детстве, когда я еще не знал, что в воде бывают микроорганизмы, от которых люди болеют?
“Соскок” он завершает словами:
– Я рад, что мы пришли, потому что теперь мы знаем, какой здесь мрак, и можем вмешаться агрессивно.
Я понимаю, что это значит: новый дом с бетонным полом и железной крышей, дополнительные меры по улучшению питания семьи, школа для детей. Добродетель в действии, идеальный образчик фармеровского метода. Сначала “периферийное вмешательство” – лечим семью от туберкулеза. Потом начинаем менять условия, которые, собственно, и сделали этих людей легкоуязвимыми для болезни.
Я сознаю, что некоторые похвалят наш поход за благородную цель, но тут же приведут его в пример как типичный недостаток системы Фармера. Как же так: влиятельный антрополог, дипломат от медицины, руководитель здравоохранительных проектов, эпидемиолог, вдохнувший новые силы и надежду в борьбу с целым рядом крупнейших мировых проблем, – и вдруг тратит семь часов на визиты к пациентам домой. Сколько неимущих семей в Гаити? А он предпринял целый поход, чтобы навестить две.
Мне вспоминается богатый друг Говарда Хайатта, который знал о работе Фармера и высоко ее ценил, но сомневался, что кто-либо сможет повторить подобные подвиги, а потому отказался сделать пожертвование в пользу ПВИЗ. Я слышал немало вариаций на эту же тему. Фармер и Ким делают то, что никому больше не под силу. “Занми Ласанте” не переживет Фармера. “Партнеры во имя здоровья” – организация, чересчур зависимая от своего гения. Вся серьезная, доброжелательная критика сводится к двум аргументам: отправляясь пешком в горы, чтобы проведать одного-двух пациентов, Фармер глупо расходует свое время, а если бы даже и не так, то немного найдется людей, способных последовать его примеру. Слишком мало, чтобы всерьез что-то изменить в мире.
Однако привычные представления об эффективности, экономичности и о том, что “большому человеку – большие дела”, тоже не очень-то хорошо работают. Когда-то давно в Северной Каролине Фармер видел, как монахини берут на себя утомительные хлопоты ради гастарбайтеров, и за прошедшие годы пришел к выводу, что именно в готовности к скучному, тяжелому труду и заключается секрет успеха программ в таких местах, как Канжи и Карабайльо. “И еще один секрет, – добавлял он. – Именно из-за нежелания пачкать руки грязной работой многие мои коллеги не участвуют в подобных начинаниях”. При осуществлении здравоохранительных проектов в “трудных” регионах теория часто обгоняет практику. Об отдельных больных никто не думает, и проблемы, кажущиеся мелкими, никто не замечает, пока они не разрастутся до огромного масштаба, как произошло с МЛУ-ТБ. “Если окружать заботой каждого пациента, – говорил Джим Ким, – небрежности не останется места”.
У ПВИЗ такой подход дает результаты. Могу представить, как Фармер отвечает, что ему плевать, последует ли кто-то его примеру. И подчеркивает, что все равно будет ходить по домам, потому как, утверждая, что семичасовая прогулка ради двух больных семей – это слишком долго, вы тем самым утверждаете, что их жизни значат меньше, чем чьи-то другие. А идея, будто одни жизни ценнее других, есть корень всего мирового зла. Мне кажется, Фармер “пускается в путь к больным” (как он сегодня выразился) отчасти еще и потому, что ему самому это необходимо, дабы не ослабевать. “По-настоящему живым я себя чувствую, когда помогаю людям”, – сказал он мне однажды в самолете. Свои надомные визиты он предпринимает регулярно и обычно без свидетелей-бланов, чтобы никто из Гарварда или ВОЗ не смотрел, как он стоит на коленях на земляном полу с фонендоскопом в ушах. По-моему, для него важно хотя бы иногда врачевать в безвестности и чувствовать, что лечит он людей в первую очередь потому, что верит: так надо.
А если делать как надо, тщета тебя не коснется. Почти все пациенты Фармера выздоравливают. Утешение получают все без исключения. Он же уносит с собой, помимо прочего, память об их лицах и их допотопных жилищах. Эта память придает ему энергии и страсти, помогает одолевать четверть миллиона миль в год, продумывать ходы, писать о здравоохранении. На мой взгляд, врачевание для него – главный источник силы. Суть его послания миру проста: этот человек болен, а я врач. Каждый потенциально способен это понять и проникнуться сопереживанием, потому что болезнь испытал на себе или видел каждый. Вряд ли большинству людей так уж трудно себе представить, каково это, когда нет ни врача, ни лекарства, ни надежды на помощь. Думаю, Фармер нащупал уязвимые точки в универсальных страхах, а также где-то в глубине неспокойной совести иных счастливчиков, слегка стыдящихся своего привилегированного положения (сам он определяет такое состояние ума как “амбивалентность”). Когда-то он говорил мне, что вся его собственная жизнь подчинена уходу от амбивалентности.
“Эти походы к больным – лучшее, что делает Пол, – считает Офелия. – Нужно верить, что малые поступки имеют значение, что они складываются в нечто большое”. Сегодня Фармер упоминал, что привлек людей к “долгой борьбе, обреченной на поражение”. Их количество впечатляет. Это священники и монахини, профессора и секретари, предприниматели и благочестивые дамы, крестьяне, такие как Ти Жан, а кроме того, десятки врачей и студентов-медиков, добровольно отправившихся работать в Канжи, в Сибирь, в трущобные районы Лимы. Кто-то из врачей и студентов трудится бесплатно, кому-то платят гораздо меньше, чем платили бы в других местах, кто-то сам добывает гранты, из которых получает зарплату. Однажды я слышал от Фармера, что он надеется дожить до того дня, когда одно его появление будет приносить пользу. По-моему, это время уже настало. Немало его начинаний теперь функционируют и без него – в Роксбери, в Томске, в Перу, а какую-то часть года и в Гаити тоже. И именно от него разошлись по миру новые, нетрадиционные представления о том, что возможно и что имеет смысл в области медицины и здравоохранения. Они все еще расходятся от него, словно рябь по глади пруда.
Каким образом один незаурядно талантливый человек заставляет весь мир к себе прислушаться? Полагаю, в случае Фармера ответ кроется в кажущемся безумии, в откровенной непрактичности доброй половины его занятий, включая пеший поход в Касс.
Нам еще предстоит обратный путь в “Занми Ласанте”. Когда мы наконец прощаемся с семьей Альканта, солнце уже садится. Над холмами, через которые мы сегодня перебирались, клубятся серые облака.
– Уходящее на запад солнце упрекает нас, – произносит Фармер.
Они с Ти Жаном совещаются. Решают, что в темноте, без фонарика, не стоит нам возвращаться тем же путем, каким мы пришли: через реки, по крутым тропинкам. То есть подразумевается, что я, по их мнению, не справлюсь. И слава богу, что они так думают, пусть это и нелестно. В сумерках мы снова подходим к центру Касса. По немощеной дороге проезжает старик на лошади, затем молодой парень на мотоцикле – его Фармер останавливает. Он спрашивает мотоциклиста, не подвезет ли тот одного из нас, фармацевта, до Канжи. Парень говорит, что подвезет за сто долларов.
– Как тебя зовут? – спрашивает Фармер по-креольски.
– Джеки, – отвечает парень. Потом интересуется: – А вы Докте Поль?
– Да. Мы понимаем, что твой мотоцикл потребляет бензин, и возместим расход. Мы принесли немного денег одной местной семье. Они живут в нищете – в отличие от тебя, Джеки. А если ты заболеешь, я не потребую с тебя сто долларов.
Вокруг нас уже собрались любопытствующие, и теперь все смеются, в том числе и сам Джеки. Дело улажено. Фармацевт вернется в Канжи на мотоцикле с Джеки и пришлет пикап за Фармером, Ти Жаном и мной. Фармер даже не вспотел за долгие часы ходьбы, и теперь ему хочется еще прогуляться. (“Все считают, будто у меня слабое здоровье, – говорит он мне. – А на самом деле? Я здоров как лошадь!”) Так что мы не станем дожидаться машины в Кассе, а пойдем по грунтовой дороге, ведущей в Томонд, которой водителю в любом случае не миновать.
В сгущающихся сумерках мы неторопливо удаляемся от городка. Воздух уже не раскаленный, а просто теплый. Зимними ночами в северных краях я буду вспоминать этот воздух и думать, что он мне, наверное, приснился. Вскоре небосклон усеивают звезды. Поскольку на много миль вокруг нет ни одной электрической лампы, они сияют так ярко, что, кажется, даже немножко освещают дорогу.
– Как хорошо, – говорит мне Фармер. – Можно отдохнуть от клиники, от самолетов. Понимаю, что вы устали, но я предпочитаю ходить пешком, в самых разных смыслах.
От него исходит ощущение уюта. Как будто мы трое мальчишек, сбежавших из дому после отбоя, и можем откровенно болтать о чем заблагорассудится – но это необязательно. Я затягиваю строчку из армейского марша:
– У тебя был хороший дом, но ты ушел.
– У тебя был славный автобус, но ты ушел, – подпевает Фармер.
В ночи кричат петухи. Порой раздается собачий лай. Потом до нас доносится странный звук, как будто что-то скребет по дороге. Звук приближается.
– Что это? – спрашивает Фармер у Ти Жана.
– Job pa-l, – отвечает тот.
Дословный перевод: “собственное дело”. То есть “что надо”. Не спрашивай. Через мгновение уже можно различить темные силуэты двух мужчин, волокущих какой-то хлам по направлению к Кассу. Фармер повторяет свой вопрос, и Ти Жан отвечает довольно резко:
– Zafèbounda-l!
Дословно: “собственная задница”. То есть он велит Фармеру заткнуться и не совать нос не в свое дело. Минуту спустя мимо нас в звездном свете проезжает еще один темный силуэт, на скрипучем старом велосипеде.
Так и продолжается. Очередному прохожему Фармер говорит “добрый вечер”, Ти Жан шикает на него, потом заводит лекцию: если ночью кто-то молча проходит мимо, надо тоже молчать, но если он спрашивает, кто ты, надо отвечать: “Я тот же, кто и ты”, а если спрашивает, что ты делаешь, тогда отвечай: “То же, что и ты”. Фармер интересуется, в чем же опасность. Ти Жан объясняет, что это может оказаться демон, возжелавший украсть твой дух. Тогда утром проснешься с рвотой и диареей, а врач скажет, что у тебя брюшной тиф или малярия, но на самом-то деле проблема будет куда серьезнее.
– Лекарства принимать надо, – предупреждает Ти Жан, – но и к жрецу вуду сходить тоже.
Мы движемся дальше прогулочным шагом. Фармер говорит, что нравоучения Ти Жана напомнили ему о тех временах, когда он жадно изучал культуру Гаити и десятки раз посещал церемонии вуду. Эти якобы зловещие таинства, о которых он столько читал, оказались попросту длинными и скучными.
– Чаще всего они проводились, когда кто-то заболевал.
Он интересуется мнением Ти Жана: можно ли сказать, что половина церемоний вуду – это попытки вылечить больного?
– Три четверти, – отвечает Ти Жан.
– Ну разве не поразительно, – обращается Фармер ко мне, – что все авторы бесчисленных текстов о вуду упускают из виду этот простой факт?
От Касса мы идем уже три часа, в сумме получается одиннадцать часов ходьбы за сегодняшний день, и в конце концов я чувствую, что не могу больше сделать ни шагу. Как только я сообщаю об этом, Фармер объявляет привал. Я благодарен ему за то, что он меня не поддразнивает. Мы усаживаемся чуть в стороне от неровной грунтовой дороги, на вершине холма, лицом к востоку. У меня с собой шоколадный батончик, и мы делим его на троих под звездами, точно юные бойскауты. Ти Жан показывает нам мигающий красный огонек вдали – это телебашня по ту сторону границы с Доминиканской Республикой. Глядя на огонек, я слышу рядом голос Фармера, ласковый голос врача, справляющийся о моем самочувствии. Отвечаю правду – устал, но чувствую себя хорошо. И тогда, проверив последнего на сегодня пациента, временно свободный от всех обязательств, он ложится на спину и смотрит на звезды.
– Вон Пояс Ориона…
Откуда-то из долины под нами раздается перестук барабанов. Я вспоминаю то время, что провел здесь, на Центральном плато, с солдатами американской армии. Как, сидя по ночам в казармах Мирбале, мы иногда слышали барабаны вуду и как некоторые из нас нервничали из-за этих таинственных сигналов. Уверен, мы бы воспринимали их иначе, если бы знали, что до нас, скорее всего, доносятся отголоски ритуала, призванного исцелять больных. Лично мне сейчас нравится этот звук – словно стук множества сердец, усиленный мембраной фонендоскопа.
Послесловие
В 2002 году, спустя семь лет после смерти преподобного Джека Руссена, ВОЗ утвердила новые рекомендации в отношении МЛУ-ТБ, основанные на тех самых принципах, что применялись “Партнерами во имя здоровья” в Карабайльо. Для Джима Кима это знаменовало окончание долгой кампании. “Вчера изменился мир”, – написал он из Женевы всем сотрудникам ПВИЗ. Цены на препараты второго ряда продолжали снижаться, и поставки лекарств вполне гладко шли теперь через Комитет зеленого света в разные места, в том числе в Перу, где около тысячи хронических больных либо лечились, либо уже выздоровели. В Томске лекарства получали около 250 человек, а российское Министерство юстиции наконец согласилось (в основном стараниями ВОЗ) на условия Всемирного банка, и ссуда была выдана – 150 миллионов долларов, чтобы начать борьбу с эпидемией по всей стране.
Конечно, пандемии-неразлучницы – СПИД и туберкулез – продолжали бушевать, взаимно усугубляя друг друга, в Африке и Азии, Восточной Европе и Латинской Америке. Математические модели предсказывали расширяющуюся глобальную катастрофу – 100 миллионов ВИЧ-инфицированных на планете к 2010 году. Некоторые влиятельные голоса, в том числе и в правительстве США, по-прежнему утверждали, что в регионах, живущих за чертой бедности, СПИД лечить невозможно. Однако эта позиция, похоже, уходила в прошлое. Благодаря набирающей силу всемирной кампании за повсеместное лечение СПИДа цены на антиретровирусные препараты падали еще стремительнее, чем на противотуберкулезные препараты второго ряда. Джим Ким часто повторял, что реакция мировой общественности на СПИД и туберкулез определит моральный облик его поколения. В 2003 году руководство ВОЗ перешло к новому генеральному директору, и он пригласил к себе Кима старшим консультантом. Тем временем пример “Занми Ласанте” обретал все больший вес. В Канжи стали активно наведываться американские политики и влиятельные деятели международного здравоохранения.
Выплаты Всемирного фонда задерживались, как это часто случается с подобными грантами, но Фармер не захотел ждать, и в 2002 году началось расширение “Занми Ласанте” – расширение всей системы, включая антиретровирусное лечение, по всему Центральному плато. Пока не пришли деньги от Всемирного фонда, ПВИЗ взяли на оплату счетов два миллиона долларов в кредит у коммерческого банка в Бостоне. Том Уайт выступил гарантом займа и вскоре вернул банку часть суммы, а самые высокооплачиваемые работники ПВИЗ взяли на себя выплату процентов по остатку. По сути, план Фармера предусматривал “укрепление” медицинских учреждений Центрального плато, для начала – в окрестностях Канжи. Он отправил группы американских и гаитянских врачей и техников в три городка. Одной группе досталось поселение Ласкаобас в нескольких милях к северу от Канжи. Там обнаружились запущенная, практически пустая частная больница и такая же пустая государственная клиника, где почти не было лекарств в наличии, электричество включалось на пару часов в день, да и то с перебоями, а персонал, состоящий из одного врача и пяти медсестер, дружно заканчивал работу и уходил домой в час дня. Серена Кёниг, входившая в группу Ласкаобаса, описывала ситуацию как “ночной кошмар”. Но к октябрю, через месяц “укрепления”, в клинике уже имелись генератор, лаборатория и полный набор лекарств, а врачи работали целый день. И больные потекли рекой – по двести, а то и по триста человек в день. Иностранная помощь правительству и народу Гаити все еще шла на убыль, а толпы больных в Канжи, соответственно, прибывали. Но из Ласкаобаса уже почти никто не ехал. Пассажирский грузовик, курсировавший между Ласкаобасом и Канжи, раньше вечно полный до отказа, прекратил ездить по этому маршруту, потому что некого стало возить.
Гаити продолжало выветриваться, точно как его почва. Положение паршивое, писал Фармер, но добавлял: “И все же есть проблески надежды”. С помощью Ти Фифи жители Канжи составили петицию президенту Аристиду с просьбой провести к ним электричество. К концу октября уже ставились столбы между Канжи и плотиной на озере Пелигр, чтобы по нескольку часов в день поселок снабжался электроэнергией. А Красный Крест объявил о своих планах устроить пункт переливания крови в “Занми Ласанте”. Почти два десятилетия прошло с тех пор, как Фармер стал свидетелем смерти женщины из Леогана, которую спасло бы переливание крови, и вот наконец у него есть собственный банк, обслуживающий Центральное плато, источник крови, за которую его пациентам не придется платить. “Не будет больше кровавых слез”, – написал он мне.
Иногда его письма кипели энергией: “Мы расширяемся огромными скачками!” Персонал “Занми Ласанте” уже насчитывал более двухсот общественных медработников, добрую дюжину медсестер и двенадцать врачей, среди которых были хирург и педиатр с Кубы. У них наблюдались более трех тысяч ВИЧ-инфицированных и около трехсот пятидесяти человек получали антиретровирусные препараты. Клиника теперь располагала оборудованием и обученными специалистами для самостоятельного проведения некоторых высокотехнологичных процедур по диагностированию СПИДа. А отец Лафонтан тем временем организовал строительство второй операционной. Кроме того, в 2002 году в Канжи состоялись первые операции на открытом сердце, выполненные врачами из Бригема и Южной Каролины. Я чуть не поддался искушению спросить Фармера, соответствующая ли это технология, – не чтобы узнать ответ, а просто чтобы послушать, как он его произносит.
Эпилог. Март 2009 года
С тех пор как в 2003 году книга “За горами – горы” вышла в свет, многие колледжи, старшие школы и публичные библиотеки (в сумме чуть ли не 150 учреждений) выбирали ее для совместного чтения и обсуждения. Это мне, конечно, очень приятно, как наверняка было бы приятно любому писателю. Кроме того, несколько руководителей “Партнеров во имя здоровья” говорили мне, что книга помогала им добиваться своего – и как реклама для потенциальных спонсоров, и как средство распространения некоторых идей ПВИЗ.
Принимаясь за книгу, я ставил перед собой всего одну цель. Наткнувшись на интересный, как мне показалось, сюжет, я решил изложить его как можно лучше. Я не замахивался на добрые дела, и если книга таковым поспособствовала, заслуги моей здесь мало. В конце концов, рассказанную в ней историю я не выдумал. И собственно в работе участия не принимал – в том тяжелом, нескончаемом труде, какого требует всякая попытка изменить мир к лучшему.
Офелия Даль, до сих пор возглавляющая ПВИЗ – можно назвать ее генеральным директором, – однажды сказала мне: “Гаити вплавляется в мозг”. С ее первой поездки туда прошло двадцать пять лет, но она ясно помнит, как стояла у окна, выходящего на Ла-Салин, один из нескольких огромных трущобных районов, по сей день составляющих значительную часть столицы Гаити. Трущобы Ла-Салин похожи на отдельный город – бесконечные акры грязно-зеленых палаток раскинутых на земле, кишащей бактериями брюшного тифа. Офелии казалось, что трущобы тянутся вдаль милями, до самого моря. Ей было всего восемнадцать, и это зрелище привело ее в отчаяние. Она призналась Полу Фармеру, которому было целых двадцать три, что не понимает, что толкового можно сделать с нищетой в таком месте, как Ла-Салин, – ведь трущобы эти необъятны, и таящимся в них бедам нет числа. И Офелия помнит, как Пол ободряющим жестом положил руку ей на плечо и ответил: “Посмотрим, что у нас получится в одном маленьком уголке”.
Пока я писал “За горами – горы”, Офелия рассказала мне, что, когда они начали работу в том самом уголке, в Канжи, Пол Фармер твердил ей: “Мы должны понимать здравоохранение в самом широком смысле”. С момента выхода моей книги деятельность маленькой клиники, основанной Фармером и его друзьями в начале восьмидесятых, обрела совершенно иной масштаб. “Занми Ласанте” превратилась в крупную медицинско-здравоохранительную систему, которая ежегодно отправляет в школу около девяти тысяч детей, создает школы там, где их нет, обеспечивает рабочими местами почти три тысячи гаитян, ежедневно кормит многие тысячи людей, построила сотни домов для своих беднейших пациентов, очистила воду в десятках поселений, а в последнее время еще начала устанавливать фильтры для воды в домах отдельных больных. Кроме того, ПВИЗ запустили либо поддерживают ряд разнообразных экологических и экономических проектов в Гаити, таких как возобновление лесных массивов или кредитование малых предприятий. В настоящий момент система напрямую обслуживает более миллиона неимущих гаитян – примерно одну седьмую населения страны. Реальные же цифры намного больше, поскольку в относящиеся к системе больницы и клиники народ стекается со всего Гаити. В 2000 году, когда я только начинал ходить по пятам за Фармером, больница была всего одна. И вот не прошло и десяти лет, как “Партнеры во имя здоровья” восстановили либо построили с нуля еще восемь больниц и оздоровительных центров в Гаити плюс еще запустили передвижные клиники. В разнообразных учреждениях лечатся все известные человечеству болезни. Вся медицинская помощь по-прежнему оказывается на высшем уровне и по-прежнему бесплатна для пациентов. И почти весь персонал, за исключением нескольких человек, состоит из гаитян. Кроме того, на каждом этапе расширения ПВИЗ предусмотрительно привлекали к делу Министерство здравоохранения Гаити в качестве полноправного партнера.
Врачи и общественные медработники организации уверены, что на данный момент выявили всех ВИЧ-инфицированных на Центральном плато. Каждый из этих людей получает необходимую помощь. Все нуждающиеся в антиретровирусных препаратах ими обеспечены – 3562 пациента, по данным за 2007 год. В течение 2007 года ПВИЗ также выдали голодным и недоедающим 454 метрических тонны продуктов питания, каждый месяц принимали около 420 новорожденных и проводили около 750 консультаций по планированию семьи. Медицинские учреждения системы осуществили почти два миллиона лечебных процедур. Это медицина в масштабе большой университетской клиники в Бостоне – или даже двух, – где годовой бюджет обычно составляет более миллиарда долларов. В Гаити же “Партнеры во имя здоровья” за 2007 год потратили всего 16 миллионов долларов на всю свою работу – медицинскую, исследовательскую и здравоохранительную (если понимать здравоохранение в самом широком смысле).
Кто-то однажды заметил, что один день из жизни Пола Фармера равен нескольким месяцам жизни обычного человека. То же самое можно сказать и о “Партнерах во имя здоровья”. Их влияние широко распространилось. Они сыграли свою роль в международных спорах, лечить ли СПИД в таких регионах, как Гаити и Черная Африка, – в спорах, которые на данный момент, похоже, разрешились в пользу лечения. Произошло это отчасти благодаря значительному снижению цен на лекарства. Если в начале текущего десятилетия я писал, что только препараты для годового лечения одного больного СПИДом обойдутся примерно в 14 тысяч долларов, то теперь, по последним моим сведениям, эта сумма составляет что-то около 125 долларов.
Целый ряд стран – 128, по последним подсчетам, – следует рекомендациям ПВИЗ по лечению лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Справедливо будет отметить, что ПВИЗ не только доказали миру, что такое лечение возможно, но и разработали действенные способы его осуществления. И, пожалуй, столь же справедливо будет напомнить, что все эти усилия, ныне прилагаемые на международном уровне, были бы немыслимы без упорных, изобретательных и в итоге успешных попыток Джима Кима снизить цены на необходимые препараты.
Когда “За горами – горы” вышли из типографии, Джим Ким только-только начал работать на Всемирную организацию здравоохранения. На тот момент, в 2003 году, всего 300 тысяч человек лечились от СПИДа в странах, деликатно называемых “развивающимися”. Попав в ВОЗ, Джим организовал кампанию по увеличению их числа до 3 миллионов к 2005 году – он окрестил это мероприятие “3 к 5”. Недостижимая цель, считали многие – и оказались правы. К 2005 году количество пациентов, получающих лечение, увеличилось на миллион с чем-то, а их общее число в Африке возросло в восемь раз. Невозможно предсказать, к чему приведет подобный “провал” в конечном итоге, но чиновники, два года назад выступавшие против повсеместного лечения СПИДа, уже стали заявлять, что они с самого начала были за. В высших эшелонах международного здравоохранения кампания “3 к 5” произвела эффект “шара для боулинга, брошенного на шахматную доску”, как выразился Джим Ким. Он вернулся в Бостон и в ПВИЗ, чтобы, помимо прочего, возглавить Отдел общемирового равенства в здравоохранении – оплот союзников ПВИЗ внутри больницы Бригем-энд-Уименс. Весной 2009 года его назначили президентом Дартмутского колледжа.
Издали следя за переменами в ПВИЗ, я порой тревожился, а порой просто поражался. ПВИЗ продолжают работать над искоренением лекарственно-устойчивого туберкулеза в Перу и в России, в основном выступая в роли консультанта либо партнера других международных организаций и местных властей. (Когда ПВИЗ только начинали работать в Томске, туберкулез был главной причиной смертности среди заключенных. К 2003 году процент смертей от ТБ упал до нуля и с тех пор оставался низким.) Также ПВИЗ продолжают заботиться о неимущих больных СПИДом в Бостоне и поддерживают на плаву маленькие проекты в Мексике и Гватемале. Проникли они и в Африку – в живущую за чертой бедности республику Малави и в маленькое горное Королевство Лесото, где свирепствует одна из самых страшных в мире эпидемий СПИДа. Очень широко развернулись ПВИЗ в Руанде, а недавно пришли и в соседнюю Бурунди, еще не оправившуюся после тринадцати лет этнической гражданской войны. В общем и целом организация сейчас напрямую обслуживает около двух миллионов больных, обеспечивая большинство из них тем же, чем она давно обеспечивает жителей Гаити, – здравоохранением в расширенном понимании Пола Фармера.
Время от времени я задавался вопросом, не слишком ли ПВИЗ распыляют свои силы. Они получают гранты от правительств и фондов, но на многие аспекты их деятельности грантов особо не получишь – ведь они лечат не только СПИД, но и весь ассортимент человеческих болезней, включая, например, эклампсию и ножевые ранения. Так что ПВИЗ всегда будут в значительной степени полагаться на частные пожертвования. Но пока им удается бесперебойно оплачивать счета, отчасти путем экономии на себе – всего пять процентов частных пожертвований идут на административные расходы. Члены организации верят, что она должна расти – это “моральный императив”, по выражению Фармера. В эпоху, когда носителями ВИЧ являются около зз миллионов человек – и это лишь одна из текущих глобальных катастроф в сфере здравоохранения, – с такой позицией трудно спорить.
В географическом отношении их работа распределена, мягко говоря, неравномерно, но цель у них везде одна – облегчать и предотвращать страдание. И в целом наблюдается определенная симметрия. Куда бы они ни пришли, неизменным мощным фундаментом их деятельности становятся обученные и оплачиваемые общественные медработники, то есть используется методика, отшлифованная за четверть века в Гаити. Даже в Бостоне они задействуют общественных медработников, так что получается весьма занятный перенос технологий – из Гаити, где вечная беда с медициной, в Бостон, где местами ее даже избыток. Начинания ПВИЗ в Руанде постепенно становятся похожи на их систему в Гаити – и размахом, и во многом методами. Причем группа пвизовцев, приступившая к работе в Руанде в 2005 году, состояла не только из врачей, получивших образование в Америке, но и из гаитянских врачей и медсестер – выходит, потомки похищенных африканцев, профессионалы, прошедшие обучение в “Занми Ласанте”, отправились за тысячи миль на помощь своим дальним родственникам.
Зачастую международные благотворительные организации своим вмешательством лишь ослабляют общество, которому пытаются помочь. Обычно они почти полностью полагаются на специалистов из богатых стран, и потому их проекты не становятся для местных жителей родными. А это почти гарантия того, что проект не будет расти и не продержится долго. С ПВИЗ дело обстоит иначе. На данный момент в штате организации числятся 6500 сотрудников. Абсолютное большинство – уроженцы беднейших стран, где работают ПВИЗ. Граждан же США не набирается и сотни.
В процессе исследований для книги я немало путешествовал с Полом Фармером. Вспоминая сейчас все эти путешествия скопом, я назвал бы их прочесыванием ада. Фармер показал мне столько причин для отчаяния, сколько я никогда прежде не видел и даже вообразить не мог. И все же это было самое захватывающее приключение в моей жизни. В первые годы нового тысячелетия ПВИЗ еще были маленькой организацией, но уже тогда они наглядно демонстрировали, что болезни, которые успешно лечатся в развитом мире, можно столь же успешно – и недорого – лечить и в беднейших странах, в самых трудных условиях. Видеть доказательства тому своими глазами – волнующее переживание. Пассивно созерцать беду и смотреть, как люди трудятся, чтобы эту беду облегчить, – совсем, совсем разные вещи.
Вспоминается мне и множество эпизодов, не вошедших в книгу. Я мог бы гораздо больше рассказать про нашу неделю на Кубе и про кубинского инфекциониста доктора Хорхе Переса, ежедневно сопровождавшего Фармера. Хорхе единолично, собственным, так сказать, примером излечил меня от некоторых предрассудков, привезенных с собой на Кубу. Годами впитывая нелестные отзывы СМИ, я представлял себе остров унылым и серым, оплотом чистейшего сталинизма. Однажды вечером нас занесло в бар модного отеля, отремонтированного на европейские деньги. Директор, кубинка по имени Нинфа, пациентка Хорхе, сама кормила нас ужином. В какой-то момент Хорхе заметил:
– Нинфа – прелестное имя. Но откуда твои родители знали, что ты вырастешь такой красавицей?
Нинфа улыбнулась ему, потом повернулась ко мне.
– У Хорхе особый подход к пациенткам, – сказала она. – Мы все мечтаем с ним переспать.
Я начал осознавать, что на Кубе можно замечательно провести время. Я уже знал, что любимое развлечение Фармера – навещать больных. На Кубе он поступал так же, как часто поступал и в других местах, где у него не было своих пациентов, – заимствовал их у коллег. Поскольку Хорхе тоже считал обходы лучшим в мире развлечением, этим они в основном и занимались, а я бродил за ними хвостом. Они навещали пациентов Хорхе, большей частью женщин и большей частью беременных. Не раз я спрашивал Хорхе: “И эта беременна?” И он неизменно отвечал: “Да, но не от меня”.
Помню вечерние обходы в Бригеме с Фармером и его учениками, затягивавшиеся до поздней ночи, причудливую атмосферу, веселую и серьезную одновременно, но всегда почему-то бодрящую – возможно, потому, что все инструменты, когда-либо изобретенные для починки человеческого организма, находились прямо здесь, под рукой. Помню бессчетные дни и вечера в центральной больнице ПВИЗ в Канжи, в Гаити. Как-то раз больные туберкулезом устроили показ мод в честь дня рождения Фармера; пациенты с гипотиреозом дефилировали перед ним в ярких нарядах. Я был уверен, что вечеринке непременно найдется место в моей книге, но как-то не нашлось – наверное, потому, что я не мог нормально вести записи: то смеялся до слез, то целиком растворялся в очаровании момента. Помню долгие марши и разговоры со словоохотливым, темпераментным Ти Жаном, построившим бог знает сколько домов для беднейших подопечных “Занми Ласанте”. Однажды Ти Жан перенес меня через реку. В другой раз угощал нас с Полом цесаркой на ужин и поил ромом “Барбанкур”. Пару лет назад Ти Жан погиб от огнестрельного ранения – вроде бы несчастный случай. Я по нему скучаю. Он имел привычку требовать, чтобы Пол заткнулся, если тот осмеливался перебить его рассуждения, и самое интересное, что Пол, который никогда не лез за словом в карман, слушался.
Еще были крещения новорожденных у пациентов, например в Перу, где Пол выступал в роли крестного отца. Когда летом, два года назад, я был в Руанде, то узнал, что его уже приглашают крестным и в Африке. Я тогда подумал: “Вот это круто! У него крестники по всему миру – больше, чем у любого главаря мафии”.
Помню, как Мамито, матриарх “Занми Ласанте”, отругала меня за какой-то проступок Пола, совершенный лет пятнадцать назад. А попался я ей под горячую руку из-за того, что Пол просил меня – чуть ли не умолял – заступиться за него перед Мамито и объяснить ей, почему мы отправились в одиннадцатичасовой пеший поход.
Очень живо помню, как Пол давал свидетельские показания в тесном обшарпанном зале суда в Нью-Йорке. Служба гражданства и иммиграции пыталась депортировать больного СПИДом гаитянина, а Пол свидетельствовал, что отправка его на родину равносильна применению пыток. Окружной прокурор, женщина сурового вида с резкими манерами, послушав, как Пол описывает условия жизни в Гаити, прекратила всякое противостояние и начала задавать вопросы, явно рассчитанные на то, чтобы утопить обвинение. То и дело она восклицала: “Боже ты мой! Я и понятия не имела, что там так ужасно!” И еще помню, как по дороге в суд Пол забеспокоился о своем галстуке: не слишком ли броский, чтобы расхаживать в нем перед судьей? И заставил меня отдать ему свой, куда более консервативный. Его ярко-красный галстук, полученный взамен, я храню до сих пор, хоть и не ношу.
А особенно мне запомнился один вечер в Москве, после того как мы душевно поужинали с одним известным специалистом по здравоохранению. Днем они с Полом поспорили. Разошлись во мнениях по поводу молока, если не ошибаюсь: Пол хотел, чтобы российские заключенные, страдающие туберкулезом, каждый день получали по стакану молока, а почтенный эксперт не видел в этом необходимости. Я выпил довольно много вина и после ужина, пока мы шли в темноте по заснеженной московской улице, решил чуть-чуть подразнить Пола. Процитировал ему высказывание, которое часто слышал от людей, занимающихся международным здравоохранением. Звучит оно примерно так: “Врачи очень славные. Они считают, что пришедший к ним больной – это самое важное. Но мы заботимся о еще более важной вещи – о здоровье населения”. И вот я выдал нечто в этом духе и сказал о нашем сегодняшнем сотрапезнике:
– Он просто заботится о здоровье населения.
– Я тоже забочусь о здоровье населения! – ответил Пол. – Но что такое население: семья, деревня, город, страна? И кто они такие, эти люди, чтобы решать, кого считать населением?
Он улыбался. Наверное, тоже принял терапевтическую дозу вина. Его голос звучал шутливо, но я к тому времени уже знал, что именно в таком тоне он часто заявляет о вещах, имеющих для него огромное значение. И по сей день я постоянно прокручиваю в голове эти его слова. Его Московскую декларацию, если угодно.
“Партнеры во имя здоровья” не владеют универсальным рецептом преодоления чудовищной нищеты и болезней, которым сегодня подвержены миллиарды людей на планете. По-моему, никто из пвизовцев никогда не утверждал обратного. Но даже если бы у них и были все ответы, они не смогли бы взять под контроль вселяющие ужас пандемии СПИДа, туберкулеза и малярии – в одиночку не смогли бы. Только своими силами не справиться им и с такими катастрофическими проблемами, как исчезновение лесов в Гаити, послужившее непосредственной причиной недавних смертоносных наводнений (основная причина, ясное дело, восходит к образованию французской рабовладельческой колонии несколько столетий назад). Но ПВИЗ доказали миру, что контролировать болезни можно и в беднейших регионах, а также что можно исправить некоторые исходные условия, из-за которых эти болезни превращаются в пандемии. Доказательство в том и состоит, что они все это делают сами – и в самых разных местах: в Гаити, в Перу и в сибирских тюрьмах, а теперь и в Африке. Прежде всего, на мой взгляд, они бросили и упрек, и вызов США и другим богатым странам; они подарили нам всем осязаемую надежду – надежду, подкрепленную фактами. А достигли они этого потому, что были внимательны к нуждам отдельных больных – и в Гаити, и в Перу, и в Бостоне, и в России, и в Африке. Именно отдельные больные, такие же люди, как мы с вами, научили их лечить семью, деревню, город, страну, а может быть, и весь мир.
Еще одно последнее замечание: “За горами – горы” – это в основном портрет одного человека. Как всем нам известно, старое клише о том, что в одиночку мир не изменить, не совсем верно. Но Пол Фармер прилагал все усилия, чтобы я не вообразил, будто “Партнеры во имя здоровья” родились благодаря ему одному. Думаю, будь он писателем, отвел бы в своей книге поровну места для каждого из тех, кто помогал организации делать первые шаги: для Тома Уайта и Джима Ён Кима, для Фрица Лафонтана и Офелии Даль, для Лун Вио (она же Ти Фифи), и Тодда Маккормака, и Хона Сосси, и еще для доброй дюжины сопричастных лиц. Но я бы такую книгу написать не сумел и рад, что даже не пытался.
Я искренне сожалею о том, что иногда моя книга доставляла Полу Фармеру определенные неудобства. Мне и самому подчас становилось неловко, когда кое-кто из моих читателей проникался к нему своего рода нравственной завистью. Некоторые, прочтя “За горами – горы”, говорили что-нибудь вроде: “Черт, я прожил жизнь зря. Надо было жить, как Пол Фармер”. Но это в лучшем случае. А в худшем, насколько мне известно, читатели реагировали примерно так: “Вот я ему отомщу за то, что заставил меня почувствовать себя бессмысленным болваном”. И начинали искать к чему придраться, а не найдя весомых недостатков, попросту их выдумывали.
Не стану притворяться, будто я сам вовсе не способен на зависть и никогда не примериваю на себя чужие судьбы. Однако после того как я в течение трех лет периодически мотался туда-сюда за Полом Фармером, ему завидовать я действительно не способен. Было совершенно очевидно, что я никогда не смог бы совершить того, что совершил он, и даже в юности на подобное не замахнулся бы. Мы с ним до сих пор переписываемся по электронной почте и встречаемся как минимум несколько раз в год. Я уже давно перестал анализировать его персону, и теперь он для меня просто друг. Я не идеализирую его, но я счастлив, что он живет на этой земле.
Благодарности
Я признателен всем людям, упомянутым в этой книге, особенно Хайме Байоне, Офелии Даль, Говарду Хайатту, Джиму Ён Киму и Тому Уайту. Я безмерно благодарен Полу Фармеру и судьбе, устроившей так, чтобы наши пути пересеклись.
Хочу поблагодарить моих редакторов Кейт Медину и Ричарда Тодда за то, что одобрили идею, всячески меня поощряли и тщательнейшим образом редактировали текст. Спасибо Джону Беннету, Энн Гольдштейн и Дэвиду Рэмнику из журнала The New Yorker. Спасибо писателям Стюарту Дайбеку, Джонатану Харру, Крейгу Нова, Джону О”Брайену и Дугу Уайнотту. Спасибо Фрэн, Нат и Элис; спасибо Жоржу Борхардту, Эвану Кэмфилду, Бенджамину Дрейеру, Эми Эдельман, Джону Грэффу, Джейми Килбрету, Джессике Киршнер и Майклу Сиглу.
Также хочу выразить благодарность Диди и Катрин Фармер, Хорхе Пересу, Серене Кёниг и Кароль Смарт, умнейшей и очаровательной Мерседес Бесерре и всем остальным сотрудникам “Партнеров во имя здоровья”, прежним и нынешним. Огромное спасибо вам, пвизовцы: Аня Барчак, Донна Бэрри, Хайди Бефоруз, Арачу Кастро, Крис Дуглас, Элизабет Фоули, Кен Фокс, Хэмиш Фрейзер, Николь Гастино, Мелисса Джиллули, Радж Гупта, Энн Хайсон, Кейт Джозеф, Кэтрин Кемптон, Кидер Мейт, Эллен Мельтцер, Джойс Миллен, Кэрол Митник, Марк Моусли, Джойя Мукерджи, Кристин Нельсон, Дениз Пейн, Майкл Рич, Синтия Роуз, Аарон Шейкоу, Дженн Синглер, Мэри Кэй Смит-Фоузи, Лора Тартер, Крис Вандерваркер, Дэвид Уолтон и Мишель Уэлшенс. Хотел бы поблагодарить Джина Бухмана, Эда Нарделла и Питера Смолла за беседы о лекарственной устойчивости, туберкулезе и связанных с этим проблемах. И перед вами я тоже в долгу: Джон Эйениэн, Итан Кэнин, Дженни Лабальм, Энн Маккормак, Тодд Маккормак, Хон Сосси и Джеки Уильямс, спасибо за ваши мысли и воспоминания; Леон Эйзенберг, Байрон Гуд и Артур Клейнман, спасибо за рассказы о студенческих годах и последующей карьере Пола Фармера; Гвидо Баккер и Ричард Лэнг, спасибо за познавательные дискуссии о лекарствах и ценовой политике; Лиам Харт и Аарон Шейкоу, спасибо за беседы об утилитаризме и экономической эффективности; Кристин Коллинз, спасибо за экскурсию по Бригему; Елена Оссо, спасибо за ознакомление с Карабайльо; Арие Нейер, спасибо за подробную информацию о деятельности института “Открытое общество” по борьбе с туберкулезом в России; Арата Кочи и Дж. У. Ли из ВОЗ, а также Марио Равильоне, спасибо за приятные долгие разговоры в Женеве; Джейми Макгуайр и Маршалл Вулф, спасибо за рассказы о медицинской карьере Пола Фармера; Джулиус Ричмонд, спасибо за бессчетные долгие беседы о ПВИЗ и международном здравоохранении; Майкл Айзман, спасибо за интервью о работе Пола Фармера и за то, что развеяли некоторые мои заблуждения насчет туберкулеза; спасибо очаровательной Оксане Пономаренко за возможность посетить Сибирь, а Тиму Хилингу, Саше Пасечникову и Саше Трусову – за то, что поездка вышла познавательной и приятной; Биллу Фейги и Марку Розенбергу спасибо за обсуждение самых разнообразных вопросов.
Отдельно хочу поблагодарить Оксук Ким и большую семью Фармер, особенно Джинни, Кэти, Джеффа, Дженнифер и Пегги, за их воспоминания, теплоту и гостеприимство.
Что касается упомянутых в этой книге граждан Республики Гаити, я не стал называть фамилии некоторых, а другим изменил имена. Причина проста: вероятность возвращения политических репрессий в Гаити, систематических и беспощадных, а значит, и историй вроде той, что произошла с Шушу Луи, никуда не делась. Но я горячо признателен всем прекрасным сотрудникам и пациентам “Занми Ласанте” за их удивительную доброту. Спасибо вам, Ти Фифи, доктор Ферне Леандр, доктор Гуго Жером, Ти Жан и, конечно, Фриц, Мамито и Флор Лафонтан.
Избранная библиография
Полный (на май 2003 года) список опубликованных работ Пола Эдварда Фармера
Книги
Farmer, Р. Е. AIDS and Accusation: Haiti and the Geography of Blame. Berkeley: University of California Press, 1992.
Farmer, P E. The Uses of Haiti. Monroe, Maine: Common Courage Press, 1994. (Second edition published in 2002.)
Farmer, P E. iHaitipara que? Hondarribia, Spain: HIRU Argita-letxea, 1994.
Farmer, P E. Sida en Haiti: La victime accusee. Paris: Editions Karthala, 1996.
Farmer, P E. Infections and Inequalities: The Modern Plagues. Berkeley: University of California Press, 1999. (Second edition published in 2001.)
Farmer, P. E. Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor. Berkeley: University of California Press,
Составленные сборники
Farmer, Р. Е., Connors, M., Simmons, J. (eds.). Women, Poverty, and AIDS: Sex, Drugs, and Structural Violence. Monroe, Maine: Common Courage Press, 1996.
Главы в книгах
Daily, J., Farmer, P E., Rhatigan, J., Katz, J., Furin, J. J. Women and HIV infection. In Farmer, P E., Connors,
M., Simmons, J. (eds.). Women, Poverty, and AIDS: Sex, Drugs, and Structural Violence. Monroe, Maine: Common Courage Press, 1996: 125–144.
Farmer, P E. AIDS and accusation: Haiti, Haitians and the geography of blame. In Feldman, D. (ed.). AIDS and Culture: The Human Factor. New York: Praeger Scientific, 1990: 122–150.
Farmer, P E. Birth of the klinik: The making of Haitian professional psychiatry. In Gaines, A. (ed.). Ethnopsychiatry. Albany: State University of New York Press, 1992: 251–272.
Farmer, P. E. New disorder, old dilemmas: AIDS and anthropology in Haiti. In Herdt, G., Lindenbaum, S. (eds.). The Time of AIDS. Los Angeles: Sage, 1992: 287–318.
Farmer, P. E. Culture, poverty, and the dynamics of HIV transmission in rural Haiti. In Brummelhuis, H. T., Herdt, G. (eds.). Culture and Sexual Risk: Anthropological Perspectives on AIDS. Newark, N. J.: Gordon and Breach, 1995: 3-28.
Farmer, P. E. Pestilence and restraint: Haitians, Guantanamo, and the logic of quarantine. In Hannaway, C., Harden, V A., Parascandola, J. (eds.). AIDS and the Public Debate: Historical and Contemporary Perspectives. Burke, Va.: IOS Press, 1995: 139–152.
Farmer, P. E. The significance of Haiti. In North American Congress on Latin America (ed.). Haiti: Dangerous Crossroads. Boston: South End Press, 1995: 217–230.
Farmer, P. E. L’anthropologue face a la pauvrete et au sida dans un contexte rural. In Benoist, J., Desclaux, A. (eds.). Anthropologie et sida: Bilan et perspectives. Paris: Editions Karthala, 1996: 89-106.
Farmer, P E. Quelles possibilites de reponses locales face au nouvel ordre mondial? In Hurbon, L. (ed.). Les Transitions democratiques. Paris: Syros, 1996: 257–264.
Farmer, P E. Women, poverty, and AIDS. In Farmer, P E., Connors, M., Simmons, J. (eds.). Women, Poverty, and AIDS: Sex, Drugs, and Structural Violence. Monroe, Maine: Common Courage Press, 1996: 3-38.
Farmer, P. E. Ethnography, social analysis, and the prevention of sexually transmitted HIV infection. In Inhorn, M., Brown, P.(eds.). The Anthropology of Infectious Disease. Amsterdam: Gordon and Breach, 1997: 413–438.
Farmer, P. E. AIDS and social scientists – Critical reflections. In Becker, C., Dozon, J. P., Овво, C., Toure, M. (eds.). Vi-vre et penser le sida en Afrique. Paris: Editions Karthala, 1999: 33–39.
Farmer, P. E. Cruel and unusual: Drug-resistant tuberculosis as punishment. In Stern, V (ed.). Sentenced to Die? The Problem of TB in Prisons in East and Central Europe and Central Asia. London: Prison Reform International, 1999: 70–88.
Farmer, P. E. Brujeria, politica, y concepciones sobre el sida en el Haiti rural. In Armus, D. (ed.). Entre Curanderosy Medicos: Historia, Cultura, y Enfermedad en America Latina. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2002: 419–455.
Farmer, P E. AIDS e mazzismo: Medicina, stereotipi ed epidemiologia tra gli immigrati haitiani negli USA, 1981–1994.
In Spettri di Haiti: Dal colonialism francese all’imperialismo americano. Verona: OmbreCorte, 2002.
Farmer, P E. The house of the dead: Tuberculosis and incarceration. In Mauer, M., Chesney-Lind, M. (eds.). Invisible Punishment: The Collateral Consequences of Mass Imprisonment. New York: The New Press, 2002: 239–257.
Farmer, P. E., Bertrand, D. Hypocrisies of development: Health and health care among the Haitian rural poor. In Kim, J. Y., Millen, J. V., Gershman, J., Irwin, A. (eds.). Dying for Growth: Global Inequalities and the Health of the Poor. Monroe, Maine: Common Courage Press, 2000: 65–90.
Farmer, P E., Castro, A. Salud y derechos humanos: una via para la medicina y la salud phblica. In Derechos humanos y salud: Encontrando los lazos. Lima, Peru: Edhuca Salud, 2002: 88–90.
Farmer, P E., Connors, M., Fox, K., Furin, J. J. Rereading social science. In Farmer, P E., Connors, M., Simmons, J. (eds.). Women, Poverty, and AIDS: Sex, Drugs, and Structural Violence. Monroe, Maine: Common Courage Press, 1996: 147–205.
Farmer, P. E., Daily, J. Tuberculosis: Essentials of diagnosis, treatment, and prophylaxis. In Thaler, S. J., Maguire, J. H., Sax, P E. (eds.). Primary Care Handbook of Infectious Diseases. Totowa, N. J.: Humana Press.
Farmer, P E., Good, B. Illness representations in medical anthropology: A critical review and a case study of the representation of AIDS in Haiti. In Skelton, J., Coryle, R. C. (eds.). The Mental Representation of Health and Illness. New York: Springer-Verlag, 1991: 131–167.
Farmer, P E., Kim, J. Y., Mitnick, C., Timperi, R. Responding to outbreaks of multidrug-resistant tuberculosis: Introducing “DOTS-Plus”. In Reichman, L. B., Hershfield,
E. S. (eds.). Tuberculosis: A Comprehensive International Approach. Second ed. New York: Marcel Dekker, 1999: 447–469.
Farmer, P. E., Shin, S. S., Bayona, J., Kim, J. Y., Furin, J. J., Brenner, J. G. Making DOTS-Plus work. In Bastain, I., Portaels, F. (eds.). Tuberculosis. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000: 285–306.
Farmer, P. E., Walton, D. Condoms, coups, and the ideology of prevention: Facing failure in rural Haiti. In Keenan, J., Fuller, J., Cahill, L. S. (eds.). Catholic Ethicists on HIV/AIDS Prevention. New York and London: Continuum, 2000: 108–119.
Farmer, P. E., Walton, D., Becerra, M. C. International tuberculosis control in the twenty-first century. In Friedman,
L. N. (ed.). Tuberculosis: Current Concepts and Treatment. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2000: 475–495.
Farmer, P E., Walton, D. A., Furin, J. J. The changing face of AIDS: Implications for policy and practice. In Mayer, K. D., Pizer, H. F. (eds.). The Emergence of AIDS:
The Impact on Immunology, Microbiology, and Public Health. Washington, D. C.: APHA, 2000: 139–247.
Kim, J. Y., Shakow, A. Castro, A., Vanderwarker, C., Farmer, P E. Specificity and collectivity of global public goods: The case of tuberculosis control. In Global Public Goods for Health: Promoting Global Collective Action for Health. Oxford: Oxford University Press, for the World Health Organization.
Shin, S. S., Bayona, J., Farmer, P E. DOTS and DOTS-Plus: Not the only answer. In Davies, P D. O. (ed.) Clinical Tuberculosis. Third ed. London: Arnold Publishers.
Simmons, J., Farmer, P E., Schoepf, B. G. A global perspective. In Farmer, P E., Connors, M., Simmons, J. (eds.). Women, Poverty, and AIDS: Sex, Drugs, and Structural Violence. Monroe, Maine: Common Courage Press, 1996: 39–90.
Viaud, L., Farmer, P. E., Nicoleau, G. Haitian teens confront AIDS: A Partners In Health program on social justice and AIDS prevention. In Goldstein, N., Manlowe, J. (eds.). The Gender Politics of HIV/AIDS in Women: Perspectives on the Pandemic in the U. S. New York: New York University Press, 1997: 302–322.
Статьи в журналах
Banatvala, N., Matic, S., Kimerling, M., Farmer, P E., Goldfarb, A. Tuberculosis in Russia. Lancet 1999; 354: 1036. Becerra, M. C., Freeman, J., Bayona, J., Shin, S. S., Furin, J. J., Kim, J. Y., Werner, B., Timperi, R.,
Sloutsky, A., Wilson, M. E., Pagano, M., Farmer, P E. Using treatment failure under effective directly observed short-course chemotherapy programs to identify patients with multidrug-resistant tuberculosis. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 2000; 4 (2): 108–114.
Castro, A., Farmer, P E. Anthropologie de la violence: La culpabilisation des victimes. Notre librarie: Revue des litteratures du sud 2002; 148: 102–108.
Cohen, A., Farmer, P E., Kleinman, A. Health-behaviour interventions: With whom? Health Transition Review 1997; 7: 84–89.
Farmer, P E. Haitians without a home. Aeolus (Duke University) Feb. 24, 1982.
Farmer, P E. The anthropologist within. Harvard Medical Alumni Bulletin 1985; 59 (1): 23–28.
Farmer, P E. Bad blood, spoiled milk: Body fluids as moral barometers in rural Haiti. American Ethnologist 1988; 15 (1): 62–83.
Farmer, P E. Blood, sweat, and baseballs: Haiti in the West Atlantic system. Dialectical Anthropology 1988; 13 (1): 83–99.
Farmer, P E. The exotic and the mundane: Human immunodeficiency virus in Haiti. Human Nature 1990; 1 (4): 415–446.
Farmer, P E. Sending sickness: Sorcery, politics, and changing concepts of AIDS in rural Haiti. Medical Anthropology Quarterly 1990; 4 (1): 6-27.
Farmer, P E. Pauvrete a risque. Sidalerte 1992; 18: 24–25.
Farmer, P E. The power of the poor in Haiti. America 1992;
164 (9): 260–267.
Farmer, P E. Graham Greene: An appreciation from Haiti. America 1993; 168 (4): 17–20.
Farmer, P E. AIDS-talk and the constitution of cultural models. Social Science and Medicine 1994; 38 (6): 801–809.
Farmer, P E. What”s at stake in Haiti? Z Magazine 1994; 7 (2): 21–25.
Farmer, P E. Medicine and social justice. America 1995; 173 (2): 13-17.
Farmer, P. E. On suffering and structural violence: A view from below. Daedalus 1995; 125 (1): 261–283.
Farmer, P E. Haiti”s lost years: Lessons for the Americas. Current Issues in Public Health 1996; 2 (3): 143–151.
Farmer, P E. Social inequalities and emerging infectious diseases. Emerging Infectious Diseases 1996; 2 (4): 259–269.
Farmer, P E. AIDS and anthropologists: Ten years later. Medical Anthropology Quarterly 1997; 11 (4): 516–525.
Farmer, P. E. Letter from Haiti. AIDS Clinical Care 1997; 9 (11): 83–85.
Farmer, P. E. Listening for prophetic voices in medicine. America 1997; 177 (1): 8-13.
Farmer, P. E. Social scientists and the new tuberculosis. Social Science and Medicine 1997; 44 (3): 347–358.
Farmer, P. E. Inequalities and antivirals. Pharos 1998; 61 (2): 34–38.
Farmer, P E. A visit to Chiapas. America 1998; 178 (10): 14–18.
Farmer, P E. Case 8, Clinicopathological Conferences: Gramnegative sepsis of uncertain etiology. New England Journal of Medicine 1999; 340 (10): 869–876.
Farmer, P E. Desigualdades sociales y enfermedades infecciosas emergentes. Tareas 1999; (102): 77–97.
Farmer, P. E. Hidden epidemics of tuberculosis. Infectious Disease and Social Inequalities: From Hemispheric Insecurity to Global Cooperation. A Working Paper of the Latin American Program at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. Washington, D. C.: Wilson Center, 1999; 31–55.
Farmer, P E. Managerial successes, clinical failures. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 1999; 3 (5): 365–367.
Farmer, P E. Pathologies of power: Rethinking health and human rights. American Journal of Public Health 1999; 89 (10): 1486-96.
Farmer, P E. ТВ superbugs: The coming plague on all our houses. Natural History 1999; 108 (3): 46–53.
Farmer, P E. The consumption of the poor: Tuberculosis in the twenty-first century. Ethnography 2000; 1 (2): 211–244.
Farmer, P. E. The major infectious diseases in the world – to treat or not to treat? New England Journal of Medicine 2001; 345 (3): 208–210.
Farmer, P E. Can transnational research be ethical in the developing world? Lancet 2002; 360: 1266.
Farmer, P E., Bayona, J., Becerra, M. Multidrug-resistant tuberculosis and the need for biosocial perspectives. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 2001;
5 (10): 885–886.
Farmer, P E., Bayona, J., Becerra, M., Furin, J. J., Henry, C., Hiatt, H., Kim, J. Y., Mitnick, C. D., Nardell, E., Shin, S. S. The dilemma of MDRTB in the global era. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 1998; 2 (11): 869–876.
Farmer, P. E., Bayona, J., Becerra, M., Kim, J. Y., Shin, S. S. Reducing transmission through community-based treatment of multidrug-resistant tuberculosis. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 1998; 2 (11 supp. 2): S190.
Farmer, P. E., Bayona, J., Shin, S. S., Alvarez, L., Becerra, M., Nardell, E., Nucez, C., Sanchez, E., Tim-peri, R., Kim, J. Y. Preliminary results of community-based MDRTB treatment in Lima, Peru. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 1998; 2 (11 supp. 2): S371.
Farmer, P. E., Furin, J. J. Sexe, drogue, et violences structu-relles: Les femmes et le V I. H. Journal des Anthropologues 1997; 68–69: 35–46.
Farmer, P E., Furin, J. J., Bayona, J., Becerra, M., Henry, C., Hiatt, H., Kim, J. Y., Mitnick, C. D., Nardell, E., Shin, S. S. Management of MDR-TB in resource-poor countries. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 1999; 3 (8): 643–645.
Farmer, P E., Furin, J. J., Shin, S. S. Managing multidrug-resistant tuberculosis. Journal of Respiratory Diseases 2000; 21 (1): 53-56.
Farmer, P. E., Gastineau, N. Rethinking health and human rights: Time for a paradigm shift. The Journal of Law, Medicine & Ethics 2002; 30 (4): 655–666.
Farmer, P E., Kim, J. Y. Anthropology, accountability, and the prevention of AIDS. Journal of Sex Research 1991; 25 (2): 203–221.
Farmer, P E., Kim, J. Y. Community-based approaches to the control of multidrug-resistant tuberculosis: Introducing DOTS-plus. British Medical Journal 1998; 317:671–674.
Farmer, P E., Kim, J. Y. Resurgent ТВ in Russia: Do we know enough to act? European Journal of Public Health 2000; 10 (2): 150–152.
Farmer, P. E., Kleinman, A. AIDS as human suffering. Daedalus 1989; 118 (2): 135–160.
Farmer, P. E., Le andre, F., Mukherjee, J. S., Claude,
M. S., Nevil, P, Smith-Fawzi, M. C., Koenig, S. P, Castro, A., Becerra, M. C., Sachs, J., Attaran, A., Kim, J. Y. Community-based approaches to HIV treatment in resource-poor settings. Lancet 2001; 358: 404–409.
Farmer, P E., Le andre, F., Mukherjee, J., Gupta, R., Tarter, L., Kim, J. Y. Community-based treatment of advanced HIV disease: Introducing DOT-HAART (directly observed therapy with highly active antiretroviral therapy). WHO Bulletin 2001; 79 (12): 1145-51.
Farmer, P E., Lindenbaum, S., Good, M. J. Women, poverty, and AIDS: An introduction. Culture, Medicine, and Psychiatry 1993; 17 (4): 387~398-
Farmer, P E., Nardell, E. Nihilism and pragmatism in tuberculosis control. American Journal of Public Health 1998; 88 (7): 4–5.
Farmer, P E., Robin, S., Ramilus, S. L., Kim, J. Y. Tuberculosis, poverty, and “compliance”: Lessons from rural Haiti. Seminars in Respiratory Infections 1991; 6 (4): 254–260.
Farmer, P E., Rylko-Bauer, B. L. L’exceptionnel systeme de sante americain: Critique d’une medecine a vocation commerciale. Actes de la recherche en Sciences sociales 2001; 139: 13–30.
Farmer, P. E., Smith-Fawzi, M. C., Nevil, P Unjust embargo of aid for Haiti. Lancet 2003; 361: 420–423.
Farmer, P E., Walton, D., Tarter, L. Infections and inequalities. Global Change and Human Health 2000; 1 (2): 94-109.
Furin, J. J., Mitnick, C., Shin, S. S., Bayona, J., Becerra, M., SlNGLER, J., ALCBNTARA, F., CASTANEDA, C., Sanchez, E., Acha, J., Farmer, P E., Kim, J. Y. Occurrence of serious adverse effects in patients receiving community-based therapy for multidrug-resistant tuberculosis. International Journal for Tuberculosis and Lung Disease 2001;
Furin, J. J., Becerra, M. C., Shin, S. S., Kim, J. Y., Bayona, J., Farmer, P. E. Effect of administering short-course, standard regimens in individuals infected with drug-resistant Mycobacterium tuberculosis strains. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2000; 19 (1): 132–136.
Furin, J. J., Mitnick, C. D., Becerra, M., Shin, S. S., Singler, J. M., Bayona, J., AlcAntara, F., Sanchez, E., Bomann, M., Kim, J. Y., Farmer, P E. Absence of serious adverse effects in a cohort of Peruvian patients receiving community-based treatment for multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB). International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 1999; 3 (9 supp. 1): S81.
Gaines, A., Farmer, P E. Visible saints: Social cynosures and dysphoria in the Mediterranean tradition. Culture, Medicine, and Psychiatry 1986; 10 (4): 295–330.
Gupta, R., Kim, J. Y., Espinal, M. A., Caudron, J.-M., Pecoul, B., Farmer, P E., Raviglione, M. C. Responding to market failures in tuberculosis control. Science 2001; 293: 1049-51.
Kim, J. Y., Furin, J. J., Shakow, A. D., Millen, J. V, Brenner, J. G., Fordyce, M. W., Lyon, E., Bayona, J., Farmer, P. E. Treatment of multidrugresistant tuberculosis (MDR-TB): New strategies for procuring second– and third-line drugs. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 1999; 3 (9 supp. 1): S81.
Miranda, J., Farmer, P E. Social exclusion must be considered in global terms. British Medical Journal 2001; 323: 1370.
Mitnick, C., Bayona, J., Palacios, E., Shin, S. S., Furin, J. J., AlcAntara, F., SA nchez, E., Sarria, M., Becerra, M., Smith-Fawzi, M. C., Kapiga, S., Neuberg,
D., Maguire, J. H., Kim, J. Y., Farmer, P E. Community-based therapy for multidrug-resistant tuberculosis in Lima, Peru. New England Journal of Medicine 2003; 348 (2): 119–128.
Mukherjee, J. S., Shin, S. S., Furin, J. J., Rich, M. L., Leandre, F., Joseph, K. J., Seung, K., Acha, J., Gelmanova, I., Goncharova, E., Pasechnikov, A., Vir u, F. A., Farmer, P. E. New challenges in the clinical management of drug-resistant tuberculosis. Infectious Diseases in Clinical Practice.
Rylko-Bauer, B., Farmer, P. E. Managed care or managed inequality? A call for critiques of market-based medicine. Medical Anthropology Quarterly 2002; 16 (4): 476–502.
Singler, J., Farmer, P E. Treating HIV in resource-poor settings. MSJAMA 2002; 288: 1652–1653.
Timperi, R., Sloutsky, A., Farmer, P. E. Global laboratory testing capacity for tuberculosis. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 1998; 2 (11 supp. 2): S290-291.
Другое
Farmer, P E. Social medicine and the challenge of bio-social research. In Innovative Structures in Basic Research: Ringberg-Symposium 4–7 October 2000. Plehn, G. (ed.). Munich: Gene-ralverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft, Referat fkr Presse-und Offentlichkeitsarbeit, pp. 55–73. Available at http://www. mpiwg-berlin.mpg.de/ringberg/main.html.
Farmer, P. E. Prevention without treatment is not sustainable. National AIDS Bulletin (Australia) 2000; 13 (6): 6–9, 40.
Farmer, P E. What is appropriate empiric therapy for active tuberculosis? Ask the Expert. APUA Newsletter 2000; 18 (3): 6.
Farmer, P E. AIDS heretic. New Internationalist Jan. – Feb. 2001; 331: 14–16.
Farmer, P E. Arresting global epidemics: Are some people too poor to treat? GSAS Newsletter (Harvard University) 2001: 4–5, 12–13.
Farmer, P. E. Use of antiretroviral therapy in developing countries: A biosocial analysis. Abstracts of the 10th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, 2003, session 92, abstract 48, p. 4.
Farmer, P. E., Castro, A. Un pilote en Haiti: De l”efficacite de la distribution d”antiviraux dans des pays pauvres, et des objections qui lui sont faites. Vacarme Apr. 2002; 19: 17–22.
Farmer, P E., Castro, A. Castigo a los mas pobres de America. El Pais, Jan. 12, 2003, p. 8–9.
Farmer, P E., Castro, A. Urgence humanitaire en Haiti. Courrier International 2003; 640: 20–21.
Farmer, P E., Leandre, F., Bayona, J., Louissaint, M. DOTS-Plus for the poorest of the poor: The Partners In Health experience in Haiti. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 2001; 5 (11): S257.
Farmer, P. E., Leandre, F., Koenig, S. P., Nevil,
P. Mukherjee, J., Ferrer, J., Walker, B., Ore lus, C., Smith-Fawzi, M. C. Preliminary outcomes of directly observed treatment of advanced HIV disease with ARVs (DO-THAART) in rural Haiti. Abstracts of the 10th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, 2003, session 33, abstract 171, p. 120.
Naroditskaya, V, Werner, B. G., Farmer, P. E., Becerra, M., Sloutsky, A. Limited mutation pattern found by DNA sequence analysis of rifampinresistant (rif-R) clinical Mycobacterium tuberculosis isolates from Peru. Abstracts of the Annual Meeting of the American Society of Microbiology, Chicago, Ill., 1999, session 27U, abstract U-11, p. 635.
Walton, D., Farmer, P E. The new white plague. MSJAMA (online), 2000, 284 (21): 2789.
Мне очень помогли следующие материалы о Гаити:
Aristide, J.-B. In the Parish of the Poor. Maryknoll, N. Y: Orbis Books, 1990.
Bell, M. S. All Souls Rising. New York: Pantheon, 1995.
Bell, M. S. Master of the Crossroads. New York: Pantheon, 2005. Danner, M. Beyond the mountains I. New Yorker, Nov. 27, 1989, pp. 55-100.
Gaillard, R. Hinche Mise en Croix. Port-au-Prince, Haiti: Impri-merie Le Natal, 1982.
Greene, G. The Comedians. London: Bodley Head, 1966.
Hall, R. A., Jr. Haitian Creole: Grammar, Texts, Vocabulary. Philadelphia: American Folklore Society, 1953.
Heinl, R. B., Jr., and Heinl, N. G., rev. by Heinl, M. Written in Blood: The Story of the Haitian People, 1492–1995. Lanham, Md.: University Press of America, 1996.
James, C. L. R. The Black Jacobins: Touissant Louverture and the San Domingo Revolution. Second ed. New York: Vintage Books, 1989.
MeTRAUx, A., trans. by Hugo Charteris. Voodoo in Haiti.
New York: Schocken Books, 1972.
Shacochis, B. The Immaculate Invasion. New York: Viking Press, 1999.
Wilentz, A. The Rainy Season: Haiti After Duvalier. New York: Simon and Schuster, 1989.
Книгами и статьями о туберкулезе и СПИДе можно заполнить целую библиотеку. Читателям, интересующимся клинической и социологической литературой на эти темы, я рекомендую труды Фармера и источники, на которые он ссылается. Также могу посоветовать следующие книги и их библиографии:
Bukhman, G. Reform and Resistance in Post-Soviet Tuberculosis Control. Doctoral diss., University of Arizona, Tucson. Ann Arbor: University Microfilms, 2001.
Garrett, L. The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World out of Balance. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1994.
Garrett, L. Betrayal of Trust: The Collapse of Global Public Health. New York: Hyperion, 2000.
Эту книгу я читал как введение в историю анализа экономической эффективности:
Shakow, A. A Brief History of Cost Efficacy. Working paper, Partners In Health, Boston, 2000.
Авторитетный образец анализа экономической эффективности применительно к борьбе с туберкулезом можно найти здесь:
Murray, С. J. L., DeJonghe, Е., Chum, Н. J., Nyangulu, D. S., Salomao, A., Styblo, K. Cost effectiveness of chemotherapy for pulmonary tuberculosis in three sub-Saharan African countries. Lancet 1991; 338: 1305–1308.
Первая цитата ВОЗ, приведенная в главе 15, взята отсюда:
World Health Organization, Treatment of Tuberculosis:
Guidelines for National Programmes. Second edition. Geneva, 1997.
Вторая цитата отсюда:
World Health Organization, Groups at Risk: WHO Report on the Tuberculosis Epidemic. Geneva, 1998.
Также обратите внимание на следующую цитату: “Программа ВОЗ по борьбе с туберкулезом рекомендует аналогичным государственным программам в развивающихся странах давать низкий приоритет лечению хронических случаев заболевания препаратами второго ряда ввиду высокой стоимости такого лечения и малой вероятности исцеления больного”.
Weil, D. Drug supply – Meeting a global need. In Tuberculosis: Back to the Future. Porter, J., McAdam, K. (eds.). Chichester: John Wiley, 1994, 124–129; quoted in Farmer, Infections and Inequalities.
Ознакомление с историей нью-йоркской эпидемии хорошо начать со следующих статей:
Brudney, К., Dobkin, J. Resurgent tuberculosis in New York City: Human immunodeficiency virus, homelessness, and the decline of tuberculosis control programs. American Review of Respiratory Disease 1991; 144: 745–749.
Frieden, T. R., Fujiwara, E., Washko, R., Hamburg, M. Tuberculosis in New York City: Turning the tide. New England Journal of Medicine 1995; 333 (4): 229–233.
Прекрасный обзор эпидемии туберкулеза в России можно найти в докладе “Партнеров во имя здоровья”:
The Global Impact of Drug-Resistant Tuberculosis. Boston: Program in Infectious Disease and Social Change, Department of Social Medicine, Harvard Medical School, 1999.
Еще одна полезная книга о МЛУ-ТБ:
Reichman, L. В., with Tanne, J. Н. Timebomb: The Global Epidemic of Multi-Drug-Resistant Tuberculosis. New York: McGraw-Hill, 2002.
Работы Фармера и книги Букмана, Гаррета и Рейхмана дают внятное представление о международном здравоохранении. Кроме того, я опирался на следующие источники:
Kim, J. Y., Millen, J. V, Irwin, a., Gershman, J. (eds.). Dying for Growth: Global Inequality and the Health of the Poor. Monroe, Maine: Common Courage Press, 2000.
MURASKIN, W. The Politics of International Health: The Children”s Vaccine Initiative and the Struggle to Develop Vaccines for the Third World. Albany: State University of New York Press, 1998.
Для описания деятельности Рудольфа Вирхова я обращался к следующим источникам:
Ackerknecht, Е. Н. Rudolph Virchow: Doctor, Statesman, Anthropologist. Madison: University of Wisconsin, 1953.
Boyd, B. A. Rudolph Virchow: The Scientist as Citizen. New York and London: Garland, 991.
Rudolf Ludwig Karl Virchow, where are you now that we need you? American Journal of Medicine 1984; 77 (3): 524–532.
И еще один нетипичный, но изумительный источник:
Rudolph Virchow on Pathology Education. Lecture by “Ed” at a meeting of the Group for Research in Pathology Education, Hershey, Pa. (Есть на сайте: / virchow.htm.)
Материалы о матери Терезе взяты отсюда:
Hitchens, С. The Missionary Position. London and New York: Verso, 1995.
Кубинский санаторий для больных СПИДом назван концентрационным лагерем в этой редакционной статье:
Rosenthal, А. М. Individual ethics and the plague. New York Times, May 26, 1987, sec. A, p. 23.
Беспристрастный рассказ о политике Кубы в отношении СПИДа и правдивое описание Сантьяго-де-лас-Вегаса рекомендую прочесть в статье:
Scheper-Hughes, N. AIDS, public health, and human rights in Cuba. Lancet 1993; 42: 965-967
Подробное сравнение двух карантинов для больных СПИДом на Кубе приводится в работе Фармера Pathologies of Power.
Рекомендую захватывающую статью о гражданской войне в Перу:
Starn, О. Missing the revolution: Anthropologists and the war in Peru. In Rereading Cultural Anthropology. Marcus, G. (ed.). Durham, N. C.: Duke University Press, 1992.
Цитаты, касающиеся Алекса Гольдфарба, взяты из газетной статьи:
Gill, Р. Russian defector fears for life. Russia Journal Weekly, Nov. 11, 2000.
См. также:
Reichman, Timebomb, and Gessen, M. From Russia with secrets: What will he expose? U. S. News and World Report, Nov. 13, 2000.
Подробную информацию о “Партнерах во имя здоровья” можно найти на сайте .
Примечания
1
Перевод С. Степанова.
(обратно)2
Тап-тап – гаитянское маршрутное такси, обычно ярко раскрашенный автобус или пикап. (Здесь и далее – прим. перев.)
(обратно)3
Пятая группа пищевых продуктов – жиры: растительные и животные масла, сладости и т. д.
(обратно)4
Препараты первого ряда – основная группа противотуберкулезных лекарств, наиболее эффективных и наименее токсичных. В случаях первичной или приобретенной устойчивости больного к таким лекарствам приходится применять препараты второго ряда, менее эффективные и более токсичные.
(обратно)5
Дженерики – лекарства, продающиеся либо под непатентованным международным названием, либо под патентованным, но отличающимся от фирменного названия разработчика.
(обратно)6
Шутка Фармера сложнее, чем кажется. Более подробное объяснение ждет читателя в главе 26.
(обратно)7
Адмиральский клуб (The Admirals’ Club) – американская сеть комфортных салонов ожидания в крупных аэропортах мира.
(обратно)8
Крестьян (исп.).
(обратно)9
MEDLINE – обширная онлайн-база статей по медицине из основных научных изданий мира, созданная Национальной медицинской библиотекой США.
(обратно)10
Международный журнал “Туберкулез и легочные заболевания” (The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease) – официальное периодическое издание Международного союза против туберкулеза и легочных заболеваний, распространяется в 165 странах.
(обратно)11
Исайя 1:17.
(обратно)12
Родина – это человечество (исп.).
(обратно)13
Довольно распространенная индийская фамилия Чаттерджи (Chatterji в англ. транскрипции) для носителя английского языка ассоциируется с болтовней (chatter).
(обратно)14
В фильме персонаж рассказывает о скупом далай-ламе, который вместо чаевых обещает ему ясную работу сознания в момент смерти, и заканчивает свой монолог выводом: “Так что за это я спокоен. Уже неплохо”.
(обратно)15
Фармер имеет в виду сюжет популярной старой песенки о том, как бабушку одного семейства переехала упряжка оленей Санта-Клауса.
(обратно)

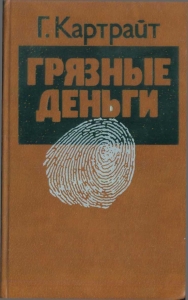

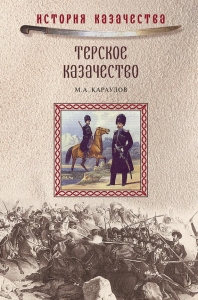
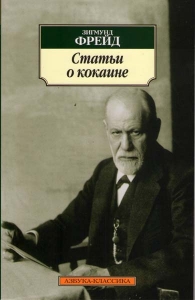



Комментарии к книге «За горами – горы», Трейси Киддер
Всего 0 комментариев