Сергей Николаевич Абашин Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией
Введение В ПОИСКАХ ОБЪЯСНЕНИЯ
У этой книги долгая и трудная история. Она была задумана давно. Еще в 1995 году, получив грант Фонда Веннер-Грен (The Wenner-Gren Foundation), я провел почти полгода в Ленинабадской (ныне Согдийской) области Таджикистана, где бóльшую часть времени жил в узбекском кишлаке Ошоба, а часть времени собирал всевозможные сведения об этом кишлаке в архивах областного центра Ходжент и районных центров Канибадам и Шайдан (Илл. 1, 2). В 1997 году я продолжил сбор сведений в архивах Душанбе и Ташкента, а в 1998 году — в областных архивах Ферганы и Намангана1. Разного рода материалов — публикаций, документов, интервью, наблюдений — набралось много, но что с ними делать, признаюсь, я представлял плохо. Я совершенно не знал, какой вопрос должен задать себе, какую проблему могу увидеть в своих материалах, с каким теоретическим аппаратом и понятийным словарем буду описывать то, что видел, слышал и читал. Почему так случилось?
Мое становление как ученого происходило в рамках позднесоветской исторической и этнографической традиции, где господствовала догматическая версия марксизма. Конечно, внутри этой традиции существовали разные направления, между представителями которых шли порой ожесточенные дискуссии, что открывало некоторое пространство для свободомыслия. Кроме того, в университете преподавали зарубежную историографию, а некоторые западные книги даже переводились на русский язык (почти потрясением стала для меня, например, книга британского антрополога Эдварда Эванса-Причарда «Нуэры», которая была переиздана в СССР в 1985 году!2) — все это позволяло увидеть краем глаза или хотя бы представить, чтó происходит (точнее — происходило) «там», в несоветской науке.
Илл. 1. Карта Таджикистана
Илл. 2. Карта Аштского района Согдийской области Таджикистана
На рубеже 1980—1990-х годов идеология, которая определяла теоретический язык исследований, была полностью дискредитирована, писать в прежней манере стало немодно и неинтересно, да и недостатки старых концепций сделались очевидными. Значительная часть предыдущего опыта обучения и чтения, обсуждений и размышлений оказалась в новой ситуации не нужна молодому ученому ни для получения грантов (главного финансового источника выживания после краха СССР), ни для налаживания научных контактов в открывшейся для советских граждан глобальной науке. И главное — я сам в какой-то момент испытал разочарование в прежних идеях, оно накапливалось на протяжении моей учебы в университете, где схоластика, изучение отвлеченных, оторванных от жизни схем было превалирующим занятием. Большую роль в усилении таких настроений сыграли первые опыты полевой этнографии в 1988–1991 годах, когда на протяжении четырех лет я ежегодно по два-три месяца в одиночку или с российскими и узбекскими коллегами проводил исследования в разных кишлаках Ферганской области Узбекистана. То, что я видел и испытывал тогда, оказалось трудно передать с помощью понятий, которым я был обучен. В этом общем контексте сформировалось убеждение в необходимости радикальной смены приоритетов и теоретического языка.
В 1990-е годы появился более широкий доступ к идеям других научных школ, теориям и дискуссиям, имевшим место за пределами бывшего СССР, но это мало что меняло. Во-первых, в силу ограниченности моей языковой компетенции и невозможности получать необходимые книги и статьи на руки (библиотеки просто перестали комплектоваться новой литературой, да и старый набор был далеко не полным) этот доступ к мировым знаниям был весьма относительным. Во-вторых, самому сориентироваться в огромном море авторов и текстов, понять, как они соотносятся друг с другом, какие направления представляют, каковы тенденции научной актуальности, было крайне сложно. К тому же действовал эффект переводов: тех же Фуко и Бурдье, ссылку на которых сегодня можно найти во многих российских работах, очень быстро и в большом количестве перевели на русский язык, сделали доступными, поэтому их понятийный словарь и подходы усваивались в первую очередь, иногда без учета той критики и того контекста, которые работы этих авторов имели на Западе.
Все это вместе не давало никакой внутренней уверенности для того, чтобы приступить к разбору полевых и архивных материалов по Ошобе. Книгу пришлось отложить. Это объясняет, почему между началом исследования в 1995 году и активной стадией написания настоящего текста — такой большой временной разрыв.
Более десяти лет ушло у меня на другие проекты, связанные, в частности, с проблематикой национализма3. Все эти годы я занимался — и продолжаю заниматься, — по сути дела, самообразованием, стараясь хоть как-то восполнить свои представления о современных социальных концепциях и исследованиях, читая новые книги и статьи и непосредственно общаясь со многими зарубежными коллегами, которые в те же 1990-е и 2000-е годы начали интенсивно изучать бывшее советское пространство. В самой России за это время появились ученые и целые направления, которые пытались предложить новое осмысление российской/советской/среднеазиатской истории и этнографии.
Вернуться к книге об Ошобе я решил только в 2009 году, когда получил возможность в течение пяти месяцев работать в Центре славянских исследований в японском Университете Хоккайдо, где смог наконец получить полноценный доступ к современной литературе. В 2010 году я продолжил работу в архивах Ходжента и Канибадама, а также побывал в Ошобе, где за девять дней успел собрать много дополнительной информации. В частности, мне удалось сделать много фотоснимков архивных дел, видов кишлака и личных фотографий — в 1995 году я был лишен такой технической возможности. А кроме того, я собрал некоторую информацию о том, что произошло в кишлаке за прошедшие пятнадцать лет.
Возвращение к книге спустя такой значительный срок изменило мои первоначальные цели. Конечно, момент распада советского строя и начало другой эпохи, перестройка экономики и социальной жизни, новые конфликты, новые идеи, новые действующие лица — все это само по себе очень интересно. Но сугубо антропологический фокус на сегодняшний день потерял какой бы то ни было смысл, так как события и вообще ситуация, которые имели место в начале 1990-х годов, уже сами превратились в историческое прошлое. К тому же в 1995-м я собирал материал, наверное, по инерции, главным образом о советских реалиях, распад же прежней эпохи я скорее переживал, чем изучал. Поэтому в итоге моя книга стала превращаться в работу историко-антропологическую, посвященную скорее не постсоветскому времени, а советскому и даже, когда материалы это позволяют, досоветскому.
Изменение замысла диктовалось или облегчалось и тем обстоятельством, что в последние десять — пятнадцать лет можно было наблюдать значительный рост интереса к имперской и советской истории Средней Азии4, чего нельзя сказать об антропологическом изучении постсоветского периода, результаты которого пока остаются весьма скромными (хотя и здесь в самые последние годы, кажется, происходят сдвиги). Развернувшиеся дискуссии об особенностях российской имперскости, о природе советского строя, об итогах трансформаций в XIX–XX веках, произошедших в различных сферах (ислам, положение женщины, национализм, колхозная экономика), создали такие рамки, в которых можно выбирать ту или иную позицию, отстаивать ее или опровергать, применять различные теоретические схемы, ставить новые вопросы и вести осмысленный диалог. Именно поэтому, видимо, немалое число антропологов, занимающихся постсоветским пространством, пишут сегодня на исторические темы. Я также решил пойти по этому пути.
В фокусе моих интересов будут понятия, которыми обычно описывается и характеризуется среднеазиатское общество, — традиционное/нетрадиционное, модернизированное/немодернизированное, советское/несоветское, колонизированное/неколонизированное. В основной части книги я покажу, как неоднозначно эти понятия соотносятся с фактами и свидетельствами, собранными мной в Ошобе. Такая задача требует, конечно, каких-то теоретических рамок и отсылок к ведущимся на более широком научном поле исследованиям и дискуссиям. Во введении я попытаюсь прочертить эти рамки, чтобы было ясно, под каким углом зрения я рассматриваю и анализирую свой материал, — кратко, опираясь на историографию, я попробую показать проблемность перечисленных выше понятий, споры, которые они вызывают, и направления поисков, которые ведутся, чтобы оправдать и обновить их либо отвергнуть.
Традиционность
Краткий анализ идей, обсуждаемых в книге, начну с советских корней. Разумеется, я не претендую на полное и подробное описание разных мнений и вопросов, а затрону лишь те, которые, как мне кажется, оказали влияние на мои собственные размышления об Ошобе.
Описывать советский язык постановки и обсуждения тех или иных проблем непросто. Дело в том, что он существовал и менялся в особом политическом и идеологическом режиме, который предъявлял довольно жесткие требования к тому, чтó и как говорится, подвергал сказанное и написанное внимательной цензуре. В этом режиме дискуссия часто велась полунамеками, подчеркнуто марксистская риторика могла скрывать не вполне марксистские предпочтения, да и вообще все имеющиеся разногласия, которые могли проявляться в устных диспутах, не находили своего отражения в литературе. Здесь мне отчасти помогает не только внимательное чтение советских книг и статей, но и своеобразное включенное наблюдение, то есть личное знакомство со многими советскими исследователями, беседы с ними, знание академической повседневности. Взгляд изнутри дополняет тексты, позволяет увидеть в последних то, что иногда осознанно или неосознанно в них пряталось, говорилось иносказательно, а это дает, как мне кажется, более полную и точную картину состояния умов ученых в советские годы.
Пожалуй, самая сложная для советских этнографов проблема состояла в том, как писать о современности. Эта общая проблема включала в себя множество частных вопросов: с какого времени заканчивается не-современность и начинается современность, какие признаки считать несовременными или современными? Не буду вдаваться в подробный анализ мнений по всем этим пунктам, а остановлюсь кратко лишь на понятии пережитков, вокруг которого разворачивались дебаты среди ученых, писавших о Средней Азии.
Изначально понятие «пережитки» использовалось, чтобы реконструировать прошедшие стадии исторического развития, и подразумевало своего рода артефакты сродни археологическим, которые затерялись где-то под толщами земли, утратили свое прежнее значение и которые надо раскопать и с их помощью узнать о том, что было когда-то, в исчезнувшие эпохи. Такой взгляд приводил к интересному эффекту: в некоторых местах обнаруживались огромные залежи подобных артефактов-пережитков, поэтому делался вывод, что кое-где прошлое сохраняется по сей день, а пережитки являются действующими элементами социальной жизни. Эти места прошлого локализовались на тех или иных территориях, в различных социальных группах и культурах, а путешествие этнографа, предпринятое для их поисков, воспринималось и описывалось как путешествие из настоящего в глубь веков. Средняя Азия принадлежала, с точки зрения российских ученых, именно к таким местам.
Такое положение дел сохранялось еще в 1930-е годы, когда этнографы воспринимали среднеазиатские общества как отсталые. Классические работы того времени так и назывались: «Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахио-боло» и «Патриархальная домашняя община и общинные дома у ягнобцев»5. Советский этнограф Александр Кондауров, проводивший исследования в 1934–1935 годах в Ягнобе (высокогорной области Таджикистана), так формулировал свою цель: «…изучение тех остатков предшествующих стадий общественного развития ягнобцев, которые еще можно засвидетельствовать в настоящее время или о которых можно говорить, что они существовали в недавнем прошлом…»6. При этом понятие пережитков оставляло поле для маневра — их всегда можно было объявить содержанием или формой, сутью или оболочкой, в зависимости от личных предпочтений либо идеологических требований. Тот же Кондауров утверждал, например, что прошлое в настоящем как бы уже и не совсем прошлое: при феодальном строе та же община уже не была настоящей первобытной общиной, а служила «оболочкой для эксплоатации трудящихся», большие же домохозяйства при социализме («в эпоху великой Сталинской конституции») перестали быть «патриархальными общинами в собственном смысле слова»7.
Похожую манипуляцию с понятием пережитков демонстрировали так называемые колхозные монографии 1950—1960-х годов8. По Средней Азии таковых было шесть, в том числе одна по Таджикистану и две по Узбекистану9. В исследованиях принимали участие не только московские и ленинградские, но и среднеазиатские этнографы — иногда в качестве помощников-аспирантов, иногда в качестве соавторов.
Язык, которым были написаны книги в 1950-е годы, отличался демонстративными проявлениями идеологической лояльности, большим количеством цитат из произведений классиков марксизма и партийных лидеров, многочисленными лозунгами, прославляющими достижения советской власти. Вот, например, как это выглядело в узбекской монографии, авторами которой были замечательные этнографы Ольга Сухарева и Муршида Бикжанова: «…история селения Айкыран и образовавшегося в нем колхоза им. Сталина отражает победу ленинско-сталинской национальной политики нашей партии. Она показывает в подробностях грандиозную перестройку всей жизни и быта узбекского народа, вызванную Великой Октябрьской социалистической революцией…», и далее: «Главной задачей, которую поставили перед собой авторы настоящего труда, было выявление черт, порожденных эпохой социализма, в быту и культурном облике современного сельского населения. Мы старались показать, как эти новые, прогрессивные черты складываются в борьбе с пережитками феодального прошлого, особенно живучими в области идеологии…»10.
Издание колхозных монографий сопровождалось жаркими спорами, в которых, благодаря постановке вопросов методики и методологии, обсуждалось, как нужно смотреть на среднеазиатское общество, каким его видеть. Толчком к спорам послужило разочарование первыми результатами изучения колхозного крестьянства. Публикации на эту тему выглядели формальными, шаблонными, поверхностными, скучными. Московский этнограф Павел Кушнер выступил со статьей11, в которой провозгласил, что причиной неудачи или тупика является несовершенство методики полевых исследований. Вместо анкетных опросов и разведок он предложил шире использовать стационарный метод исследования с длительным проживанием в поле и с практикой наблюдения за тем, что происходит в жизни изучаемого общества. Другим направлением критики Кушнера стал тот факт, что этнографы слишком много внимания уделяли истории колхоза, организации колхозного производства, разного рода цифрам по колхозной экономике, тогда как «национальная специфика» культуры и быта проходила мимо их внимания. Он выступил за отказ от «экономизма» и за изучение «народной жизни в ее бытовых проявлениях»: «Разве социалистическое сознание колхозников формируется только под влиянием колхозной экономики?»12 Кушнер предложил, в частности, поставить в центр изучения не колхоз, а селение, мотивируя это тем, что не все сельские жители являются членами колхоза и что жизнь людей не сводится только к колхозной жизни.
Этнографы, поддержав стационарные исследования13, высказали, однако, и опасения, что «…частные, местные явления… могут быть ошибочно признаны общими для республики и народа…», поэтому «…как бы ни был типичен избранный для работы колхоз, его нельзя исследовать обособленно»14. Что же касается предложения Кушнера отказаться от изучения колхозного производства, то оно встретило возражения15. Кто-то критиковал ученого за «бытовизм» и настаивал на том, что этнографы обязательно должны изучать экономику, так как все стороны жизни тесно связаны между собой. Кто-то был против того, чтобы противопоставлять колхоз и село, поскольку колхоз сливается с селом, да и сам колхоз — это не только производственный, но и «общественно-политический» коллектив. Кто-то, наконец, писал, что недостаточно обращаться к памяти и восприятию людей — нужно работать и со статистикой, архивами, анкетами, чтобы составить полное представление об обществе.
К концу 1950-х годов характер критики колхозных монографий изменился: если раньше их авторов обвиняли в том, что они преувеличивают значение пережитков, то теперь был выдвинут противоположный упрек — в том, что они скрывают многие недостатки, показывают жизнь приукрашенной, без проблем и «отрицательных сторон колхозной жизни», замалчивают существование социальных противоречий в обществе16. Это изменило взгляд ученых, которые задались вопросом, почему пережитки сохраняются. Пожалуй, наиболее углубленно на эту тему среди этнографов размышлял Глеб Снесарев17.
Снесарев резко выступил против тех, кто отвергал наличие пережитков: «Оспаривать наличие этих пережитков и степень их отрицательного влияния на некоторую часть населения нашей страны могут только те, кто стоит в стороне от жизни, не сталкивается с окружающей действительностью»18. Он считал, что поскольку внимание к пережиткам ослабло, то сложилось мнение, что они лишились прежнего значения и быстро отмирают, хотя «дело обстоит значительно сложнее». Ученый полагал, что надо не только раскрыть «подлинную картину их бытования», но и установить причины сохранения тех или иных пережитков до наших дней, при этом, по его словам, «было бы неверным искать какую-то единую, универсальную, все объясняющую причину этих явлений. Причины могут быть различны у разных народов, в разных слоях населения, у лиц разного возраста, наконец, — в женском быту»19.
Снесарев разделил причины сохранения пережитков на общие и специфические. К первым он отнес «отставание сознания от развития производительных сил и производственных отношений», Великую Отечественную войну и ее последствия, влияние капиталистического окружения, недостатки культурно-воспитательной работы. Во вторые — специфические — московский этнограф включил культурную отсталость женщин и изоляцию быта семьи, «одной из наиболее консервативных ячеек общества»20. Другой специфической причиной было существование общественного мнения и общины: Снесарев подчеркнул, что «реликты общины занимают, несомненно, одно из первых мест» среди причин сохранения религиозных пережитков, «…элат с его замкнутостью, с особым внутренним укладом, построенным на старых традициях, с влиянием группы стариков является той ячейкой, в которой консервируются пережитки прошлого»21.
Что касается последнего пункта про общину, то Снесарев не пояснял, как, собственно, сама эта община смогла дожить до 1950-х годов. Но на эту тему еще в далеком 1949 году высказывалась московский этнограф Татьяна Жданко, которая обнаружила, что у каракалпаков родовая организация по-прежнему играет заметную роль в колхозной жизни, а колхозные бригады представляют собой по сути родовые подразделения22. Похожие наблюдения сделала ленинградский этнограф Роза Рассудова, которая в последней колхозной монографии, изданной в 1969 году, недвусмысленно писала о том, что узбекские колхозы в окрестностях Самарканда формировались и развивались на основе общинных структур, общинные же интересы совпадали с колхозными23.
В конце 1980-х к проблеме пережитков в среднеазиатском обществе возвращается еще один московский этнограф — Сергей Поляков. В 1989 году он издал небольшую книжку «Традиционализм в современном среднеазиатском обществе»24. Следуя логике Снесарева, Поляков объявил, что книга посвящена традиционализму, и дал определение этому явлению: «„традиционализм“, „традиционное общество“ — это полное отрицание чего-либо нового, привнесенного извне в привычный, „традиционный“ образ жизни. Традиционализм не просто выступает против нового. Он активно требует постоянной корректировки образа жизни по старой, изначальной или „классической“ модели»25. При этом он критиковал понятие пережитков: «К сожалению, исследования современного традиционализма не всегда дают реальную картину <…> Помимо несовершенства, а чаще и просто негодности методов сбора первичной информации (анкетирование), неприемлема в подавляющем большинстве исследований и методологическая основа понимания явления. Оно трактуется и оценивается только как пережиток ранних форм общественного сознания, что и влечет за собой дезинформацию на всех уровнях о реальном значении традиционализма в среднеазиатском обществе. Только пережитком, в марксистском понимании этого явления, он никогда не был. Традиционализм всегда выступал как отражение социально-экономического строя, как образ жизни, основанный на специфической хозяйственной структуре»26.
В отличие от других своих коллег, в том числе Снесарева, Поляков видел в советской Средней Азии не отдельные фрагменты несовременности, а внутренне целостное несовременное общество, включающее в себя все основные элементы такового: общину, семейно-родственную группу, мужские объединения. Эти элементы, в свою очередь, опираются на «мелкобуржуазное производство», иначе говоря, на теневую экономику, которая дает основные источники доходов для местного населения. Все это и составляет суть того социального строя, который существовал в регионе в советское время, тогда как политические институты и идеология являются лишь прикрытием, формой без содержания. Такова была логика его интерпретации.
Сходную с точкой зрения Полякова позицию в конце 1980-х годов разделяло, пожалуй, большинство советских этнографов и специалистов в других дисциплинах27. Например, в статье С. В. Чешко «Средняя Азия и Казахстан: современное состояние и перспективы национального развития», которая появилась в том же 1989 году, также говорилось, что преобразования советского времени не привели к разрушению прежних, досоветских структур и отношений: «Патриархально-общинный уклад модифицировался в своеобразный колхозно-общинный уклад с чертами крепостной зависимости»28. При этом автор подчеркивал, что коллективизация способствовала «…консервации и воспроизводству патриархально-общинных и феодально-патриархальных форм социальной организации», тогда как индустриализация «проводилась преимущественно на базе местного европейского населения <…> и мало затронула коренное сельское население»29.
Упомяну еще две статьи, которые были опубликованы в журнале «Восток» в 1991 году: Юрия Александрова «Средняя Азия: специфический случай экономической слаборазвитости» и Валентина Уляхина «Многоукладность в советской и зарубежной Азии»30. Хотя эти авторы не занимались изучением Средней Азии, а были специалистами по зарубежным странам, хотя оба они были экономистами, а не этнографами и хотя, наконец, их статьи вышли в последний год существования СССР, когда критика советского строя была нормой, — названные статьи демонстрируют те точки зрения и те способы мыслить, которые сформировались в советское время и, очевидно, прятались за разными жанрами эзопова языка. В обоих текстах, написанных под явным влиянием упомянутой выше книги Полякова, Средняя Азия описывается через аналитическую рамку третьего мира.
Александров ввел для характеристики среднеазиатской экономики понятия слаборазвитости и периферии. Автор говорил о «централизованном перераспределении», о «мощных центрах частных интересов и давления», которые в советской экономике доминировали и подчиняли себе все другие хозяйственные секторы. Хлопковая монокультура, основанная на принудительном труде в колхозах, превратилась в самодостаточное монопольное производство, которое утратило связь с задачами развития Средней Азии. Александров прямо сравнивал среднеазиатскую экономику с прежними колониальными порядками в Индонезии, где голландцы развивали сахарные плантации, консервируя местные традиционные социальные структуры, и называл среднеазиатское общество квазисовременным31. Правда, исследователь избегал того, чтобы называть советскую Среднюю Азию колониальной, хотя фактически описывал ее именно в качестве таковой.
В статье Уляхина использовалось понятие многоукладности, которое восходит к работам Ленина о переходе к социализму32, — очень популярное в 1960—1970-е годы в качестве объяснения происходивших в третьем мире процессов. По мнению автора, «модернизация по-советски, узко понимавшаяся как индустриализация по преимуществу» не смогла создать целостную экономическую систему отношений, «регион оказался неподготовленным к привнесенной извне индустриализации», поэтому здесь сохранились другие общественно-экономические уклады, в первую очередь «органичное для Средней Азии» мелкое производство и социальная структура «доиндустриального прототипа»33. Однако, рассуждал автор, в советское время различным укладам не была предоставлена возможность постепенного развития и власть пыталась искусственно насадить крупнопромышленный государственный уклад, что и создавало в среднеазиатском обществе проблемы, дисбалансы и тупики. Пафос статьи заключался в том, что нужно отказаться от политики навязывания многоукладному обществу какой-то одной модели, предоставить всем формам хозяйствования легальный статус и обеспечить тем самым подлинную модернизацию.
Итак, советские этнографы — и представители других научных дисциплин — не могли не заметить, что общие вроде бы для всего советского общества трансформации в Средней Азии имели свою специфику. Проводимые властью реформы, которые должны были нивелировать различия, не достигали своей цели — среднеазиатские республики по-прежнему оставались другим/особым миром внутри одного государства. Понятийный словарь, который находился в распоряжении этнографов, позволял им описывать этот мир как «прошлое», которое по ряду причин (их список и являлся предметом разногласий) задержалось в «настоящем», что в итоге логически неизбежно вело к игнорированию вообще каких-либо изменений, а далее — и к отказу среднеазиатам в самой способности меняться. Концепция традиционализма усложняла понимание советского общества, позволяла увидеть в нем многообразие социальных — а также культурных — отношений. Но при этом она заменяла закрашенную в один цвет картину на простую двухцветную схему, в которой две половины — традиционализм и модерность — противопоставлялись друг другу как несовместимые полюса.
Модерность
Мнение о том, что среднеазиатское общество было и остается по существу традиционным, получило в 1990-е годы широкое распространение в российской науке34. Однако остается вопрос, чтó с ним произошло или не произошло в советское время, были ли хотя бы какие-то результаты у тех реформ, которые проводились в советскую эпоху, и если были, то каким образом их можно описать и охарактеризовать?
Поляков в статье «Современная среднеазиатская деревня: традиционные формы собственности в квазииндустриальной системе» предложил заменить понятие социализма понятием индустриального общества и рассматривать советское общество как переходное от доиндустриальной «общественно-производственной системы» к индустриальной35. По его мнению, перехода этого не произошло и сложилась квазииндустриальная система, которая на самом деле представляла собой «аграрное среднеазиатское общество уже в сталинской, общинно-крепостнической форме»36. Поляков, таким образом, оставаясь в рамках марксистского языка, пытался как-то подправить его с помощью новых терминов, чтобы описать объект своего исследования.
Российский демограф Анатолий Вишневский в статье «Средняя Азия: незавершенная модернизация» отказался от сложной марксистской терминологии и взял на вооружение простую дихотомию «традиционность/модерность». Вишневский пишет, что вхождение региона в Российскую империю было «историческим поворотом», вовлечением его в модернизационные процессы, хотя «застойность» среднеазиатского общества не была поколеблена, поскольку советская «модель ускоренной экономической модернизации» не была ориентирована на Среднюю Азию и имела там «лишь ограниченное применение»37. В результате модернизация этого региона началась, но осталась, как полагает автор, незавершенной. Хотя изменения привели к усилению «горизонтальных связей» и кризису «локальных интеграторов», в целом, однако, среднеазиатское общество осталось «вертикальным» (иерархизированным, сегрегированным) и сохранило, пусть в скрытом виде, все основные элементы традиционности — общинные структуры, пронизанные родовыми и семейно-родственными связями, ограничение самостоятельности индивида, распределение социальных полномочий «по вертикали». Советская система, по мнению Вишневского, играла при этом противоречивую роль: с одной стороны, она не мешала традиционализму и даже консервировала его, с другой — «несомненно смогла запустить механизм модернизации», но «не сумела довести ее до конца»38.
Теория (или теории) модернизации, в рамках которой Вишневский сформулировал свое понимание среднеазиатских реалий, подвергается ожесточенной критике уже не менее полувека. Значительную часть претензий к ней сформулировал в уже далеком 1973 году Дин Типпс в статье «Теория модернизации и сравнительное изучение обществ: критическая перспектива»39. Он разделил претензии на три группы: идеологические, эмпирические и методологические.
Критика идеологической составляющей заключается в том, что, говоря о будто бы универсальной модерности, сторонники этого понятия за точку отсчета либо за основную модель берут западное общество или даже англо-американское, относя все, что с ним не совпадает, к традиционализму. При этом ими не учитывается в полной мере тот факт, что западное общество, которое само включает в себя разные социальные и культурные типы, сформировалось в конкретных обстоятельствах, не являющихся общими и одинаковыми для всех. В этой схеме заложена, как считал Типпс, возникшая после Второй мировой войны асимметричность отношений между разными странами, где доминирующие силы диктовали подчиненным свои правила и ценности как универсальные. Теория модернизации несет на себе, следовательно, явные черты этноцентризма и идеологической предвзятости.
Эмпирическая критика, о которой писал Типпс, указывает на «несостоятельность взгляда теории модернизации на природу традиции и модерности, их динамики и взаимосвязей»40. Типпс обратил внимание, например, на то, что модерность вряд ли можно анализировать как закрытую систему, в которой разные процессы взаимосвязаны и изменения в одной сфере обязательно ведут к изменениям в других. В действительности можно наблюдать либо параллельную трансформацию тех или иных элементов, либо даже обратное воздействие — когда модернизация одной сферы ведет к традиционализации другой (например, появление новых средств информации приводит к распространению знаний о традициях и их усилению). Здесь можно вспомнить рассуждения британского историка Эрика Хобсбаума об изобретении традиций, которое происходит во всех, в том числе современных, обществах (например, в виде национальных традиций)41.
Типпс также указал, что в дихотомии современность/традиционность возникают сложности с определением выражения «традиционное общество». Последнее определяется как антисовременность, а не через перечисление его собственных характеристик, ему приписывают тотальность и неизменность, тогда как реальные сообщества, которые попадают в категорию традиционных, порой довольно существенно отличаются друг от друга и претерпевали (продолжают претерпевать) разнообразные трансформации. Типпс писал также, что такая дихотомия не учитывает взаимодействия современных и традиционных обществ между собой. Я бы добавил, что до сих пор эти общества рассматриваются как спортсмены на соревнованиях, один из которых вырвался вперед, а другие его догоняют или безнадежно отстают. Типпс говорил, в частности, что общества, прошедшие через колониализм, являются, как правило, гибридными, то есть не модерными и не традиционными42. К понятию гибридности я еще вернусь, когда речь будет идти о (пост)колониальной критике, но сейчас, думаю, уместно вспомнить работы американского социолога-марксиста Иммануила Валлерстайна, который предложил не рассматривать социальный строй каждой страны в отдельности, а исследовать единую миросистему со своими центрами, перифериями и полуперифериями43. В такой перспективе современность и традиционность становятся не изначальными характеристиками того или иного общества, а результатом неэквивалентного распределения власти и ресурсов в рамках мировой экономики. Другими словами, традиционность — это тоже современность, но современность периферии, а не центра.
Наконец, методологический изъян теории модернизации состоит, по мнению Типпса, в том, что она носит излишне обобщающий характер, сводя вместе различные процессы, которые имеют свои собственные объяснения. К тому же то, что называется современностью, обычно связано с нынешним состоянием дел, с тем, как оно видится в настоящий момент, а это придает взгляду телеологический характер. Американский социолог отметил также проблематичность сопоставления современных и традиционных обществ, которая связана с тем, что понятие «общество» применительно к разнообразным ситуациям может иметь разное толкование — речь идет о явлениях различного масштаба и, соответственно, разных способах анализа.
Вслед за критикой теории модернизации появилось множество попыток переосмыслить феномен модерна. В мою задачу не входят систематизация и критический разбор всех этих позиций; укажу лишь на несколько из них, чтобы показать общее направление рассуждений на данную тему.
Например, британский социолог Энтони Гидденс в книге «Последствия современности» попытался обойти или решить методологические проблемы, на которые указал Типпс44. Вместо обществ он стал рассматривать модусы «дистанциации пространства и времени» как разные способы организации социальных отношений. Отказываясь от исторической телеологии и замкнутой в себе модерности, Гидденс выделил четыре институциональных кластера, которые автономны друг по отношению к другу и вместе определяют содержание современности, — капитализм, индустриализм, надзор и военная власть. Гидденс не отрицал, что модерность является по происхождению западным проектом, но, говоря о поздней модерности, или глобализации, он настаивал, что речь идет о «мировой взаимозависимости и планетарном сознании», в позднюю модерность включены «концепции и стратегии, которые происходят из незападного окружения»45. Предложенная модель сохраняет, таким образом, универсалистскую перспективу для анализа истории и общественной жизни.
Попыткой выйти за пределы этноцентризма стало изучение множественной (полицентричной, альтернативной) модерности. Как писал израильский социолог Шмуэль Айзенштадт, «…процессы, на деле происходившие в модернизирующихся обществах, опровергают унификаторские и гегемонистские предпосылки, характерные для западного понимания модернизации»46. Понятие множественной модерности позволяет различить разные институциональные и идеологические модели, которые являются современными и при этом связаны с особенностями культурных традиций и проделанного исторического пути. Это понятие позволяет также увидеть разнообразных акторов современности, даже если они привержены антизападной и антимодерной риторике, и их взаимодействие. Модерность не равна вестернизации, пишет Айзенштадт, хотя западная модель и является основной референтной ссылкой для остальных моделей. В ряду вариантов модерности он рассматривает советское общество и разного рода колонизированные сообщества, которые заимствовали элементы западной культуры и одновременно создали свои собственные, оригинальные программы и интерпретации модерна, воплотившиеся в разного рода местных идентичностях, коммунальных формах общежития и этикета, религиозных практиках и идеологиях, местных политических институтах и так далее. Тем не менее все эти модели сохраняют «базовые проблемы модерности», которыми, по мнению израильского социолога, являются глубокая рефлексивность, использование медиа, идеологизация и политизация дискуссии о современности, стремление осмыслить реалии «нового глобального контекста», высокая поляризация жизненного пространства, тотальные формы насилия47.
Американский политолог Тимоти Митчелл выражает скептическое отношению к идее множественной модерности, справедливо указывая на то, что если модерность многовариантна, то неясно, в чем ее сила, которая позволяет ей становиться инструментом экспансии и власти48. Митчелл предлагает иную концепцию. По его мнению, те социальные и политические практики, которые называются модерными, сложились как раз не в Европе, а в процессе ее взаимодействия с другими частями света; более того, он указывает, что эти практики зарождались нередко в колониях, а после этого уже переносились в метрополии. Именно в этом взаимодействии, продолжает исследователь, возникали и формировались представления о модерности и европейскости/западности с их претензиями на универсализм, единственность и гомогенизирующий эффект. Модерность производилась как западный мир, тогда как «…мир, лежащий за пределами Запада, должен был играть роль иного и внешнего, которое очерчивает пространство модерна»49.
Развивая свою идею о том, что модерность — это представление и даже своего рода инсценировка, Митчелл подчеркивает: «Модерн, как и капитализм, определяется стремлением к универсальности и однозначности <…> И все же полное единство и полная унификация в его рамках недостижимы. Каждый шаг на пути к модерну должен преумножать его общую глобальную историю, хотя на любом таком этапе возникают отклонения, создающие возможность противоречий, которые, в свою очередь, могут подтачивать единство и тождественность. В таком случае модерн становится не слишком адекватным, но неизбежным термином, описывающим все отклоняющиеся истории подобного типа»50. Иначе говоря, незавершенность — такая же черта современности, как и ее претензии на универсализм, этот разрыв обусловливает сложную игру вокруг категории модерности, с попытками ее присвоения, монополизации или, напротив, отторжения51.
Мне представляется, таким образом, что дискуссии о модерности идут в направлении усложнения понимания самого понятия модерности и способов его применения к тем или иным ситуациям. Парадокс в том, что выставленная оценка — неудача модернизации, неудовлетворенность ее результатами — не означает отсутствия существенных трансформаций, а сама по себе уже является чертой иного, чем прежде, восприятия истории и ценностей. В такой оценке уже заложены отношения, которые связывают между собой различные социальные пространства (называемые «традиционными» и «современными») и создают возможность обмена опытом и влияниями. Следовательно, тот факт, что среднеазиатское общество не стало индустриальным (капиталистическим, рациональным, секулярным и так далее), еще не говорит о том, что оно вообще никак не менялось или что эти изменения не были радикальными. Он скорее говорит о том, что в советском государстве Средней Азии отводилась определенная роль, для нее существовал собственный проект реформ и, соответственно, в ответ возникал свой опыт присвоения модерности.
Советскость
Еще одним источником вдохновения при написании книги стали для меня споры по поводу того, чем было советское время и каким образом нужно его описывать. Опять же, не буду подробно расследовать все нюансы этой дискуссии, а укажу лишь некоторые из поставленных в ее ходе вопросов, которые привлекали мое внимание и как-то пересекались с наблюдениями и размышлениями по результатам моего собственного исследования в узбекском кишлаке.
Один из вопросов я бы сформулировал, наверное, так: является ли советское общество итогом социального эксперимента, осуществленного группой облеченных властью или захвативших ее людей (большевиков или коммунистов), или же советское общество было многослойным конгломератом самых разнообразных классов, групп и сообществ, которые находились в непрерывном взаимодействии друг с другом? Или так: были ли советские люди винтиками советской машины, ее порождением и ее жертвой, либо они существовали как самостоятельные акторы со своими собственными интересами и представлениями, которые могли совпадать с интересами власти, а могли и противоречить им? В этих или несколько других вариациях данный вопрос стал активно обсуждаться среди американских историков в 1970—1980-е годы, что получило известность как спор тоталитарной школы и ревизионистской52.
О позиции ревизионистов можно судить, в частности, по работам американского историка из Чикагского университета Шейлы Фицпатрик. Она отвергает подход представителей так называемой тоталитарной школы, согласно которому советский человек был полностью подчинен абсолютной власти большевиков. Одной из главных тем ее книги «Сталинские крестьяне» становится сопротивление крестьян советскому строю53. Сопротивление в трактовке Фицпатрик — это не обязательно вооруженные восстания и бунты, но еще и работа спустя рукава, мелкое воровство, невыходы в поле, уклонение от работы, бегство из деревни, разного рода слухи, антиправительственные и апокалиптические разговоры, различные способы саботажа, инакомыслия и так далее54. Другая тема — стратегии «активного и пассивного приспособления», «манипулирования» государственными институтами в местных интересах, включая попытки крестьянина «поставить колхозы на службу собственным интересам», восходящим к представлениям об общине (моральном сообществе55): «Бóльшую часть всего происходившего в 30-е гг. можно рассматривать как процесс притирания, перетягивания, притяжения и отталкивания…», когда происходили постоянные «своего рода повседневные переговоры и соглашения», в результате которых государство порой шло на уступки, при этом «крестьянин мог привычно ругать колхозы <…> и столь же привычно <…> соглашаться с тем, что колхоз принес ему все мыслимые и немыслимые выгоды, причем ни одна из этих затверженных позиций не могла служить отражением его истинного мнения как мнения отдельного человека, имеющего свой собственный счет прибылей и убытков, принесенных колхозом ему лично, собственные претензии и стремления»56.
Придерживаясь той же логики, в следующей книге — «Повседневный сталинизм»57 — американская исследовательница делает ключевым понятием своего анализа повседневность, не упоминая больше о сопротивлении. Она опять обращается к теме стратегий выживания и продвижения, рассматривая сталинизм (или советский строй в целом) как «целый комплекс институтов, структур, ритуалов, образующих в совокупности среду обитания homo sovieticus»58. Ее внимание соответственно смещается на этнографию советского общества и концентрируется на таких явлениях, как жилье (коммуналки и бараки), торговля и спекуляции, знакомства и связи, блат, новые формы бытового поведения, смена имен, развлечения, привилегии, ордена и знаки почета, спецпереселенцы, бомжи, семейные отношения, аборты, кухонные разговоры, самоубийства и так далее.
В книге «Срывайте маски» Шейла Фицпатрик пишет о формах самопрезентации советских людей59. Это исследование — о создании или, точнее, пересоздании идентичностей и о практиках (чистки, самокритика, доносы), которые сопровождали этот процесс. «Людям предстоит переосмыслить себя, сформировать или найти внутри себя личность, способную жить в постреволюционном обществе. Этот процесс поиска есть одновременно реконфигурация (новая интерпретация знаний о себе) и открытие (новое понимание собственной значимости). Он неизменно требует стратегических решений („какое место я займу в новом мире?“), а порой стимулирует и глубокую онтологическую рефлексию („кто же я есть на самом деле?“)»60. Фицпатрик рассматривает советские идентичности как эффекты, сконструированные внешними культурными и социальными порядками и нормами, при этом она употребляет метафору масок или ролей, которые человек разыгрывал в течение жизни, наполненной разнообразными ритуалами.
Книга «Срывайте маски» затрагивает тему, которая оказалась в центре новых дискуссий и провела новый концептуальный водораздел — на этот раз между условно называемыми ревизионистами и сторонниками изучения советской субъективности. Последние — их иногда называют новыми ревизионистами — в какой-то мере развивают идеи предшественников о том, что советские люди были самостоятельными акторами истории, а не марионетками в руках государства, и в то же время критикуют этих предшественников за то, что они превратили советскость в искусственную и поверхностную конструкцию, в маску, которую можно было надеть и снять. Главный тезис этой критики, проистекающий из фукольдианских идей61, состоит в том, что власть — это более сложная и многомерная реальность, которая не локализуется в каком-то определенном месте, а пронизывает собой все представления, действия и практики. Это означает, что концепция противостояния или параллельного существования двух сфер — государственной власти (сталинского/советского режима) и общества — ложная, а это, в свою очередь, означает, что фокус исследования должен смещаться с изучения сопротивления или приспособления в сторону изучения стратегий и тактик освоения советскости, превращений ее в собственное «Я» жителями СССР.
Первым, как считается, сформулировал такой подход американский историк Стивен Коткин в книге «Магнитная гора: сталинизм как цивилизация». Он писал: «Сам большевизм, даже на стадии его вызревания, нельзя рассматривать просто как набор институтов, группу личностей или идеологию. Он всегда представлял собой совокупность наполненных содержанием символов и мировоззренческих установок, языка и новых форм речи, новых моделей поведения на публике и в частной жизни, и даже новых стилей одежды — короче говоря, непрерывный опыт, посредством которого можно было вообразить и воплотить в жизнь новую цивилизацию, называемую социализмом»62. Аналитическим новшеством у Коткина, по сравнению с Фицпатрик, является более сильный акцент на том, как советский строй смог преобразовать человека и общество, как большевики смогли навязать свой язык, заставить или убедить людей «говорить по-большевистски» и «жить по-социалистически», принять ценности революционной утопии в качестве своих собственных. Коткин пишет о том, что советские люди имели «возможность изощренных, хотя и неравноправных, сделок с режимом», могли — до известного предела — «поторговаться» с ним, пытаясь его видоизменить, причем шли на это не только из простого расчета, но и принимая цели режима. Он отвергает попытки рассматривать советское общество в качестве варианта традиционной архаики (морального сообщества), будто бы сохранившейся под советской маской. Для него большевистская программа — вполне модернистский проект, который создавал современное, пусть и со своей спецификой, понимание человеком самого себя как индивида63.
С более, я бы сказал, радикальным желанием пересмотреть прежние подходы к исследованию советского общества выступил другой американский/немецкий историк Йохан Хелльбек, который назвал свою книгу «Революция в моем сознании»64. Радикализм в данном случае заключается в том, что исследователь, используя фукольдианский подход, смотрит на советскость с точки зрения конструирования советской субъективности, советского «Я», которое осмысляется, описывается и создается в личных дневниках (а также в письмах, автобиографиях и так далее). Хелльбек возвращается, в частности, к понятию идеологии, от которого отказались ревизионисты. Он считает, что вместо изучения того, как люди сопротивлялись или приспосабливались к ней, необходимо обратить внимание на то, как идеология «распаковывалась» и «персонализировалась» в индивиде, превращая последнего в осознающего себя в качестве «советского субъекта»65. «Коммунистический проект, — объясняет историк, — может рассматриваться как грандиозный „Я“-проект по превращению несовершенных партикуляристских человеческих существ в универсальных социализированных субъектов»66. Важно уточнить, что это не означает возвращения к тоталитарной модели, поскольку Хелльбек наделяет отдельного человека правом не только слепо следовать идеологической доктрине, но и интерпретировать ее, достраивать, изменять, даже сопротивляться и оспаривать, оставаясь в рамках того понимания модерного «Я», которое было обусловлено советской доктриной67.
Хелльбек свой анализ применяет только к сталинскому или раннесоветскому времени, а о позднесоветском пишет неопределенно как о времени «зрелого цинизма» и «двойственного языка»68. Это кажется несколько странным, поскольку именно в 1970—1980-е годы советская субъективность стала способом людей мыслить о себе и окружающем мире, «говорить по-большевистски» (если воспринимать слово «большевистскость» как синоним советскости) стало означать «говорить обыденной речью». Более того, именно в 1970—1980-е годы государство не прибегало к репрессиям, чтобы с помощью насилия заставить гражданина быть советским человеком. Советский человек создавал себя сам, на основе тех дисциплинарных практик, о которых писал Фуко. Этому позднесоветскому парадоксу посвятил свою книгу «Это было навсегда, пока не кончилось: Последнее советское поколение» американский антрополог (родом из Ленинграда) Алексей Юрчак69.
Юрчак не принимает участия в споре между старыми и новыми ревизионистами и не ссылается ни на Фицпатрик, ни на Хелльбека, но его размышления разворачиваются вокруг тех же вопросов, которые обсуждают историки сталинизма70. Как и сторонники модели советской субъективности, он видит проблему в бинарном описании советской действительности (официальная культура и контркультура, официальная и теневая экономика, тоталитарный язык и контръязык, публичная и частная субъектность, реальное поведение и притворство и так далее). Как и сторонники модели советской субъективности, американский антрополог российского происхождения обращается к анализу дискурса и форм знаний, которые не даны в каких-то зафиксированных состояниях, а постоянно воспроизводятся и реинтерпретируются в повседневности.
Алексей Юрчак полагает, что в 1950-е годы, после смерти Сталина, идеологический дискурс претерпел «гипернормализацию» и стандартизацию, в результате чего поиск правильной его интерпретации сменился простым исполнением ритуалов, указывающих на идеологическую лояльность. Поскольку же смысл идеологем стал менее важным, то у людей появилась возможность, сохраняя эту самую лояльность, создавать «новые, непредвиденные смыслы, интересы, виды деятельности и типы существования», которые могли как-то соотноситься с идеологемами, противоречить им или просто находиться в каком-то параллельном сосуществовании с ними. Однако эти практики не были сопротивлением советскому режиму: «Им не обязательно было конфликтовать с политическими и идеологическими установками системы; еще более важно то, что им даже позволялось пользоваться возможностями, ресурсами, положительными идеалами и этическими ценностями, предлагаемыми системой, избегая при этом негативного и репрессивного давления с ее стороны»71. Позднесоветский режим, утверждает Юрчак, создал условия для сосуществования множества различных стилей жизни, которые были одновременно внутри и вне советскости, воспринимались как нормативные и как свои.
Споры о советскости позволяют, как мне кажется, переформулировать проблему традиционности/модерности в проблему производства эмоций, идентичности, лояльности, идеологии, культурных практик, уйдя от жесткого экономического детерминизма, который все еще нередко подразумевается, когда речь заходит об успехах или неудачах произошедших в XX столетии изменений. Была ли, стала ли Средняя Азия «советской» и что это означало, какие смыслы вмещало в себя это определение, какие последствия и эффекты влекла за собой принадлежность к сфере советского? Такого рода вопросы дают возможность перейти от внешней оценки состояния общества к внутренней (само) — интерпретации людьми своего опыта.
Колониальность
Для Фицпатрик, Хелльбека и Юрчака не актуален вопрос об имперской природе советского строя, хотя в их работах постоянно фигурируют ссылки на исследователей (пост)колониализма. Они спорят о природе власти, о том, как последняя реализует свои проекты — с применением насилия или с помощью идеологии, — о способности людей сопротивляться, приспосабливаться, формировать свое «Я» и свои идентичности, находиться одновременно внутри и вне идеологии. В этих исследованиях, за редким исключением72, не ставится вопрос о культурных различиях, о том, как отношения власти преломляются в них. Отчасти это связано, видимо, со спецификой источников — все упомянутые авторы пишут главным образом о России и населении русских регионов, не сравнивая их с нерусскими частями СССР. Возможно, однако, что исследователи не видят какой-то особой колониальной специфики советского строя, а имеющихся в их распоряжении понятий власти, тоталитаризма, сопротивления самих по себе для них вполне достаточно, чтобы описывать реалии советского времени.
Тем не менее в историографии существует отдельное направление, которое занимается изучением советской национальной политики и форм советскости в нерусских регионах. Среди американских историков развернулась дискуссия: являлся ли СССР империей и можно ли отношения между разными частями советского общества рассматривать как колониальные? В качестве примера могу привести две точки зрения по вопросу о советской национальной политике 1920—1930-х годов — Терри Мартина и Фрэнсин Хирш73. Мартин считает неверным называть советское государство империей, имея в виду классические империи XIX века, и предлагает более витиеватое название — «империя положительной деятельности» (или, как чаще переводят, «позитивного действия», есть и еще один вариант — «позитивной дискриминации»), которая не столько угнетает окраины, сколько предоставляет им привилегии и даже помогает создавать сами нации вопреки, казалось бы, идее, что нации подрывают империю74. Хирш, признавая особенности политики СССР, говорит, что ее интересует вопрос не «что», а «как»; при этом она обращается за помощью к работам Бенедикта Андерсона, Николаса Диркса и Бернарда Кона75, в которых анализировались «культурные технологии управления» и колониальное доминирование в европейских империях76.
Пожалуй, наиболее остро ставит вопрос об имперской природе СССР немецкий историк Йорг Баберовски в книге «Враг есть везде: Сталинизм на Кавказе»77. Изучая политику Российской империи и СССР (в 1920—1930-е годы) в мусульманских регионах Закавказья, он приходит к однозначному выводу не только о колониальном характере большевистской власти и столкновении разных культур, но и о том, что «большевистский стиль насилия» родился на периферии и лишь потом был перенесен в центральные регионы России, и, соответственно, «феномен сталинизма можно понять только в его имперском измерении»78. Впрочем, многие исследователи склонны видеть в СССР скорее своего рода «гибридную целостность, комбинирующую элементы централизованной империи и высокомодернистского государства», что несколько размывает аналитическую схему, но в то же время позволяет гибко описывать советское общество с разных позиций79.
Вопрос о колониальности в СССР отчасти (но не полностью) пересекается с проблематикой сталинизма/советскости и представляет собой новый ракурс, который обычно выпадает из поля зрения ученых, занимающихся этой эпохой. В частности, с точки зрения ревизионистов, возникает дополнительный вопрос — создавала ли риторика «старших» и «младших» братьев, с ее требованием признавать элементы русской/российской культуры в качестве базовых, какие-то новые разграничительные линии, новые механизмы доминирования, сопротивления и приспособления? В аспекте проблемы советской субъективности вопрос состоит в том, была ли такая субъективность у населения, которое могло воспринимать себя (или представляться) чужим по отношению к основному — русскому или российскому — обществу?
Ссылка на колониальность кажется естественной и даже привлекательной80. Во-первых, она позволяет увидеть культурные различия между разными группами советского населения и ввести культурное измерение в анализ отношений власти. Во-вторых, она дает возможность раздвинуть рамки анализа и включить в поле зрения не только советское время, но и период вхождения Средней Азии в состав Российской империи, то есть принять во внимание более длительную временнýю перспективу и сравнить споры о советском обществе со спорами о типичности или нетипичности Российской империи81. В-третьих, ссылка на колониальность позволяет произвести сравнительный анализ опыта СССР с опытом мировых империй.
Однако само по себе называние СССР империей не упрощает задачу анализа. В исследованиях нет какой-то единой точки зрения по вопросу, что такое империя, а сами такого рода исследования по своему размаху на порядки превосходят всю литературу о советском времени, опираются на разные и даже противоречивые подходы. Приведу несколько примеров.
Книга американского литературоведа палестинского происхождения Эдварда Саида «Ориентализм», которая вышла в свет в 1978 году, сразу после опубликования стала мировым интеллектуальным бестселлером82. Саид продемонстрировал, и весьма ярко, что знание о Востоке (научное, литературное, изобразительное), последние столетия формировавшееся в европейских странах, никогда не было нейтральным по отношению к практике завоевания и подавления, которую Европа осуществляла во взаимоотношениях с неевропейскими культурами и территориями. Это знание, каким бы оно ни было — более правдивым или более ошибочным, более негативным или более положительным, всегда являлось инструментом колониального угнетения. Ориентализм как способ мысли был также «западным стилем доминирования, реструктурирования и осуществления власти над Востоком»83. Саида прежде всего интересовало, как европейские политики, ученые, художники дискурсивно создают образ «Востока» и как в этом образе формируется зависимое положение неевропейских культур, поэтому для него были важны ссылки на рассуждения Мишеля Фуко о вездесущем характере власти и рефлексия итальянского коммуниста Антонио Грамши о гегемонии.
Несколько иначе расставляют акценты приверженцы изучения так называемых угнетенных, или подчиненных (subaltern studies). Основатель этого направления в науке, индийский историк Ранаджит Гуха, в книге «Элементарные особенности крестьянских мятежей в колониальной Индии» оспаривал две позиции — марксистскую и национальную, согласно которым, поскольку в мятежах в колониальной Индии XIX века не было заметно ни классового, ни национального начала, их следует считать спонтанными и иррациональными84. Гуха же находит в этих событиях их собственную логику, указывая, что крестьянская культура имеет ряд специфических черт (в том числе общинность, разного рода региональные и кастовые лояльности, ритуальные формы поведения, «негативное сознание» и так далее), которые определяют практики и идентичности мятежников во время беспорядков. Эту скрытую культуру индийский историк, живущий в Европе, называет культурой подчиненных, подчеркивая тем самым, что элитные идеологии заставляют ее молчать и подчиняют своим схемам и интересам.
В 1990-е годы школа изучения подчиненных стала разворачиваться в сторону более критического рассмотрения европейского знания в целом и в направлении поиска аутентичных форм «своей» культуры, которые существуют за пределами западного влияния и сопротивляются ему85. Важными для такого поворота стали работы Эдварда Саида и Джеймса Скотта, а также М. Фуко и Ж. Деррида.
Индийско-американский историк и политолог Парта Чаттерджи в книге «Нация и ее фрагменты» отказался от преимущественно марксистских рамок дискуссии, которую вел Гуха, и сосредоточился на анализе националистического прочтения колониализма86. Чаттерджи обратил внимание на парадокс: с одной стороны, идея нации была изобретена в Европе и привнесена в колонии как элемент модернизационного проекта колонизаторов, а затем заимствована местной элитой, осознавшей себя национальной, с другой же стороны, местный национализм принял антиколониальную форму и пытался отличить себя от Европы, осознать свою самость. Чаттерджи предложил разграничить мир колонизированных на две части — внешнюю (или материальную) и внутреннюю (или духовную). Во внешней части господствовал политический национализм и индийская элита говорила на универсалистском европейском языке, заимствуя у той же Европы идейный словарь и технические достижения. Внутренняя же часть, которая включала в себя язык повседневного общения, семью, женщину, общину, разные региональные и религиозные идентичности, оставалась сферой, где местные жители были самостоятельными акторами, строящими свою социальную жизнь и историю, неподвластные колониальному проектированию.
Попытку преодолеть эссенциалистские мотивы, которые неизбежно возникали при разделении внешнего и внутреннего миров, предпринял американский историк индийского происхождения Гиян Пракаш. В целом ряде работ он предложил обратить внимание не столько на разделение колонизаторов и колонизированных, сколько на сложное их взаимодействие, на противоречивое расщепление идентичностей и практик87. Проблематика доминирования и сопротивления, критика универсалистских нарративов остались в поле зрения Пракаша, но в большей степени он стал подчеркивать их неоднозначность и погруженность в исторический контекст. Пожалуй, это была попытка выйти за рамки школы изучения подчиненных, хотя ученый настойчиво определял себя в качестве ее последователя.
Сходное с идеями Пракаша развитие критика колониализма, но уже за рамками изучения подчиненных, получила у американского литературоведа индийско-парсского происхождения Хоми Бхабхи. В книге «Местоположение культуры» он предложил метафору гибридности, которая позволяет характеризовать такие неопределенные состояния, как «нахождение в разных местах одновременно» или «быть тем же, но уже не совсем тем же»88. Бхабха видит различные стратегии — камуфляж, мимикрию, надевание масок, которые позволяют избежать полного слияния с другим или однозначного отторжения от него89. Гибридность идентичности, поведения, культуры имеет дисциплинирующий эффект, о котором писал Фуко, поскольку позволяет колонизируемому принимать власть колонизатора, смотреть на себя и на мир его глазами, считать мир колонизатора своим миром, при этом оставаясь исключенным из него или дискриминированным. Бхабха видит в такой гибридности источник неудовлетворенности, неврозов и конфликтов, оставляя, как я понимаю, в поле своего внимания колониальную проблематику подчинения и сопротивления, хотя и перенося ее на персональный уровень, даже помещая внутрь человека.
Я назвал здесь лишь некоторых авторов тех работ, которые относятся к постколониальным исследованиям, но даже из этого краткого экскурса видно, что они дают набор весьма разных методологических подходов. При этом в изучении империй существует множество других направлений и групп, представители которых видят иные темы и проблемы и, в свою очередь, критически оценивают взгляды и выводы представителей постколониальных исследований90.
В качестве примера сошлюсь на работы британского историка Кристофера Бейли, причисляемого к так называемой кембриджской школе изучения колониальной Индии. Бейли упрекает сторонников изучения подчиненных в том, что они выдвигают эклектичный и не вполне ясный набор установок91. В своих работах этот ученый последовательно разоблачает построения своих оппонентов и их теоретических кумиров92. По его мнению, империи не были созданы европейскими странами, а возникли в результате взаимодействия европейских стран и неевропейской элиты, развивавшей свои формы капитализма и торговой экспансии и имевшей сложную социально-политическую структуру93. Индийский национализм, утверждает Бейли, произрастает из прежнего, доколониального регионального и общинного патриотизма, создавшего «концептуальную сферу, кластеры институтов и умонастроения масс», из которых затем сформировались национальные идеи94. Вместо ориентализма и имперского дискурса британский ученый предложил рассматривать повседневные потоки информации, способы их накопления и перемещения, на которые у колониальной власти не было монополии95. Наконец, Бейли написал собственную историю «рождения современного мира», не испугавшись обвинений в создании очередного большого нарратива96.
Отдельное направление в изучении понятий империи и колониализма развивают также, к примеру, американский историк Фредерик Купер и — в российском научном поле — редакторы журнала «Ab Imperio»97. Суть их подхода выражается в желании раскрыть «множественность собственно имперских голосов, генеалогий и контекстов», показать сложную конфигурацию власти и соподчинения, в которых позиции сильных и слабых постоянно меняются и переопределяются. Как и Бейли, эти исследователи призывают к более внимательному изучению исторического контекста и критически относятся к тому, чтобы нагружать понятие империи негативными характеристиками. В отличие от Бейли, который дистанцируется от теоретических схем и призывает изучать экономическую и социальную историю, они, напротив, ссылаются на того же Фуко и включают себя в число тех, кто в первую очередь изучает дискурсивные и нарративные виды отношений. В этом их взгляды сближаются с точкой зрения Пракаша.
Рассмотрение колониальности не столько как суммы неких исчисляемых признаков, сколько как особого типа нарратива и даже идентичности выводит на вопрос о том, почему значительная, если не подавляющая, часть среднеазиатского общества не мыслила и сегодня не мыслит себя в качестве «(пост)колониальной». Можно ли данный факт объяснить успешной социальной политикой советской власти и ностальгией по ней в эпоху постсоветского упадка и кризиса? Или же это результат (тоже успешный!) основательной идеологической промывки мозгов, подкрепленный беспрецедентными репрессиями? Поиск ответа заставляет постоянно держать в поле зрения тему насилия, доминирования, манипулирования и не поддаваться искушению затушевать неравенство, которое всегда присутствует в социальных и культурных взаимодействиях.
Локальность
Несмотря на разную генеалогию, понятия традиционности и модерности, советскости и колониальности пересекаются, переходят друг в друга путем ссылок и заимствований, а также параллельного изучения близких тем. Споры о традиционности предполагают постановку проблемы признаков модерности, вопрос о советской модерности требует колониального ракурса. Поляков, говоря о традиционном обществе, думает так же, как и ревизионисты, при этом проблематизация субъектности (способности к действию) сближает описания Фицпатрик, Гухи и Чаттерджи, а поворот к дискурсивной перспективе объединяет точки зрения Митчелла, Хелльбека, Юрчака и Бхабхи, гибридность же в теориях последнего напоминает, пусть и отдаленно, многоукладность, о которой пишет Уляхин. Наблюдая за этими интеллектуальными поисками и дебатами, мы видим непрерывно расходящиеся и сходящиеся линии размышлений.
Я не ставлю перед собой задачу ни придерживаться какой-то одной линии и подгонять свои материалы под ту или иную «правильную» схему, ни пытаться искусственно объединить разные линии/схемы в некую сложную конструкцию. У меня нет таких амбиций. К тому же и то и другое, как я себе представляю, не соответствует современным тенденциям в историографии, где господствуют скепсис в отношении больших нарративов и склонность к деконструкции любых понятий и теорий. Я скорее намерен скользить от одной линии к другой, наблюдать за разными понятиями, примерять их к своему случаю, смотреть на изучаемое сообщество с разных концептуальных точек зрения. Моя позиция не равна позиции эмпиризма и отрицанию теории, что было бы ложной попыткой скрыть тот язык (те языки), который определяет мой взгляд. Это не будет и всеядностью, но скорее пониманием, что реальность не сводима к чему-то одному, а прерывиста, разорвана и может быть осмыслена через столь же разорванное множество языков. В данном случае я подписываюсь под словами американских антропологов Джорджа Маркуса и Майкла Фишера, которые, говоря об усложняющейся реальности, написали в книге «Антропология как культурная критика», что современные исследования характеризуются «эклектизмом, использованием набора идей, свободных от утвердившихся парадигм, критическим и рефлексивным взглядом на проблему, а также восприимчивостью к различным влияниям, вне зависимости от их практической реализации, и терпимым отношением к неопределенности касательно направления исследования и неполноты некоторых его перспектив»98.
Маркус и Фишер говорили об «экспериментальном моменте» в антропологии, то есть о поиске новых тем, новых вопросов и ракурсов, новых этнографических техник, которые позволили бы критически смотреть и на саму исследовательскую работу, и на привычные стандарты описания и объяснения. Но хотя «отцы» постмодернистской антропологии на самом деле понимали эксперимент очень широко — как любой критический разрыв с прежними схемами, — я не уверен, что мою книгу можно отнести к числу экспериментальных. Скорее наоборот, жанр монографического изучения одной деревни принадлежит к разряду многократно воспроизводимых и осмысленных99, да и давно, в общем-то, устаревших. Этот жанр не раз критиковался и за стремление приписать отдельному месту закрытость, изолированность, зафиксированность, целостность (системность/органичность) и неизменность, и за желание этнографа отделить себя от этого места и обеспечить отсылкой к нему («я там был», «я это видел сам») как его экзотизацию, так и «истинность» выводов100. В этом жанре заложены, таким образом, многочисленные ограничения, которые предопределяют и искажают этнографическое исследование, загоняют его в очень узкие рамки определенного взгляда на мир.
Тем не менее попробую сформулировать несколько исходных позиций, чтобы обосновать если не оригинальность выставляемого мной на суд читателей исследования, то по крайней мере те намерения, которыми я руководствовался. Ключевым словом здесь становится локальность — с ее помощью или сквозь ее призму я собираюсь взглянуть на проблемы традиционности, модерности, советскости и колониальности в изучаемом мной узбекском кишлаке Ошоба. Такой подход требует некоторых пояснений.
Во-первых, локальность не связана с проблемой типичности, репрезентативности или усредненности. Я изначально пытаюсь уйти от экстраполяции своего случая на всю Среднюю Азию или на какие-то национальные государства, будь то Узбекистан или Таджикистан. Я изначально пытаюсь увидеть специфичность одного узбекского кишлака, в каком-то смысле даже его уникальность и исключительность, всю совокупность местных особенностей географии, хода истории, личных биографий. Говоря об одном кишлаке, я предлагаю увидеть среднеазиатский регион как внутренне сложное пространство, в котором существует множество таких кишлаков, где рядом с общими тенденциями присутствуют маргинальные исключения, которые либо подтверждают правило, либо опровергают его. Тем самым мой текст подразумевает критику самого понятия «Средняя Азия» как целого, как отдельной сущности — по аналогии с критикой понятий «Индия», «Африка», «Восточная Европа», «Восток» и так далее101. Я предлагаю увидеть разные «Средние Азии», которые пересекаются между собой или оказываются очень непохожими одна на другую, меняются во времени и по-разному оцениваются со стороны102. При этом, критикуя (само)ориентализированную «Среднюю Азию», я хотел бы избежать и национальной перспективы, которая эссенциализирует целостность региона в соответствии с национальными (этническими) границами и располагает отдельные, неизменные сущности в границах «Узбекистана», «Таджикистана» и других государств, оформившихся исторически недавно. Внимание к частности и отдельности должно, как я надеюсь, показать разнообразие тех пространств, которые обычно приписываются той или иной сущности, и в то же время вызвать поиск сравнений и ассоциаций, различий и сходств — то есть привести к конструированию новых сущностей, новых объектов рассмотрения.
Во-вторых, говоря о локальности, я стараюсь избегать исключительно территориального ее понимания и не ставлю знак равенства между словами «местный» и «локальный». Локальность — это не только и не столько место и «точка обзора», для меня это еще и «точка зрения», способ видеть процессы, отношения, события, понятия, теории. С высоты птичьего полета, возможно, видны большие социальные потоки, несущиеся сквозь время, и в них, наверное, можно различить даже отдельные течения — экономические процессы, демографические, политические и прочие. Я же хочу, не поднимаясь так высоко, посмотреть, каким образом отдельные человеческие жизни (или повседневности) разворачиваются одновременно в разных течениях, как разные позиции — родственные, политические, религиозные, этнические, классовые — смешиваются, накладываются друг на друга, закручиваются в водовороты, растекаются по разным направлениям и опять собираются в потоки. Локальный взгляд — это, следовательно, способ критиковать любые метанарративы и детерминизмы, это способ понимать, что любая общая схема имеет свои аналитические пределы. Локальный взгляд — это своего рода «насыщенное описание», о котором говорил американский антрополог Клиффорд Гирц103 и которое позволяет раскрыть возможности разных интерпретаций, проследить взаимосвязи разных тем и проблем, увидеть то, что с высоты птичьего полета кажется несущественным или вообще невидимым.
В соответствии с этим принципом я отказался от того, чтобы писать книгу в виде монографического исследования с хронологическим обзором истории и всех сторон жизни узбекского кишлака Ошоба. Моя книга — это серия очерков, посвященных ряду конкретных случаев и отдельным темам, которые, как мне кажется, сами собой соединяются в одну цепочку. Я лишь протягиваю эту цепочку через всю книгу — она позволяет удерживать взгляд, не дает ему рассредоточиться и утонуть в деталях и в то же время не подменяется жесткой, заранее заданной структурой и разделением целого на части. Локальность, таким образом, каждый раз собирается из разных фрагментов и опять распадается на них, оставаясь направлением взгляда, а не его объектом.
В-третьих, локальный взгляд позволяет добраться, что называется, до «низов», услышать не столько идеологов, элиту и узкую группу привилегированных акторов, сколько самый широкий круг тех, кто жил и живет в Ошобе, соединить самые разнообразные источники, через которые эти голоса доносятся, — публикации, архивные документы, статистику, наблюдения, интервью и устные истории. Мне было важно уйти от доминирования одного голоса, одного вида источника104. Каждый вид источника можно критиковать за свои искажения, умолчания и ангажированность, за то, что он создает свою картинку прошлого и настоящего и тем самым предопределяет выводы исследователя. Но в этих искажениях и ангажированности я вижу особенности разных взглядов на реальность со стороны тех, кто эти источники создавал, то есть участников изучаемой истории, их споры между собой, их конфликты, взаимосвязи. Более того, чтобы избежать тотального доминирования своих интерпретаций, я полностью публикую имеющиеся в моем распоряжении тексты и обильно насыщаю книгу разнообразными цитатами, давая голосам самих ошобинцев звучать если не наравне с моим голосом, то как можно отчетливее. Однако, чтобы не превращать свое сочинение в краеведческое — в сбор, цитирование и пересказ разных интерпретаций, я сохраняю за собой право на собственную трактовку событий и высказываний, на собственный анализ, пусть даже неполный или ошибочный. Я остаюсь в роли автора, который несет главную ответственность за все выводы и определяет канву и логику повествования, не претендуя на некую объективность или равноправие со своими «соавторами»105.
В-четвертых, локальный взгляд, разумеется, не панацея от методологических и эпистемологических трудностей. У него есть свои недостатки. С одной стороны, невозможно знать все о каждом человеке и сообществе, обо всех обстоятельствах истории и всех участниках событий. В любом случае информация о жизни даже небольшого сообщества оказывается в той или иной мере конструкцией самого исследователя, пребывая в зависимости от степени его погруженности в мир исследуемых, от его теоретических и стилевых предпочтений. С другой стороны, объяснение локальности само по себе требует постоянного расширения рамок анализа — до каких-то регионов или даже до масштаба миросистемы в целом. Очевидно, что отдельный кишлак сам по себе, изнутри не производит импульсы к радикальной трансформации своего социального и экономического строя, а скорее принимает их извне и передает дальше, оказывается под воздействием самых разных влияний, приходящих в него из других селений, из городов или от приезжих реформаторов. Многие процессы и события имеют надлокальную или транслокальную конфигурацию и для своего объяснения требуют, следовательно, выхода за пределы ограниченного места. Локальность, иными словами, не есть просто данная изначально «точка», откуда я смотрю, но сознательно удерживается мной в таком качестве.
В этой связи интерес для меня представляет небольшая статья американского антрополога Аржуна Аппадураи «Производство локальности», который различает локальность как категорию или ценность и соседство как одну из социальных форм, в которой локальность может реализовываться106. Одно из определений рассматриваемого явления у него звучит так: «Сложное феноменологическое качество, формируемое серией взаимосвязей между ощущением социальной обязательности, интерактивными технологиями и относительностью контекста»107. Такой взгляд на локальность позволяет ему видеть, как она воображается и конструируется — и внутри этого самого соседства его членами, и усилиями внешних сил, находящихся за его пределами. Аппадураи предлагает смотреть на местные ритуалы, местные хозяйственные практики и, например, местные архитектурные техники, местные знания как на способы постоянного производства и воспроизводства сообщества. Ученый обращает внимание на то, что возникновение национальных государств, массовые миграции и появление электронных СМИ сопровождаются детерриторизацией и дестабилизацией соседств, приводят к переопределению локальности, к ее созданию в новых социальных формах. Источники и факторы воспроизводства локальности могут, таким образом, находиться вне данного конкретного места, они могут быть расположены в разных местах и перемещаться от одного к другому.
Соображения Аппадураи важны для меня в двух отношениях. Я хочу через изучение соседства Ошоба во времени показать, как в нем менялись практики локализации, как местное собщество создавалось и пересоздавалось в разные исторические эпохи. Ретроспективный взгляд усиливает понимание того, что нынешние социальные формы не даны извечно, а находятся в процессе постоянной дестабилизации и нормализации, разборки и сборки. Это означает, что я стремлюсь соединить в книге антропологический анализ с историческим108, другими словами, хочу проследить временнýю протяженность разных местных практик и представлений, надеюсь увидеть разные траектории исторической динамики — те, которые получили распространение, стали доминирующими, и те, которые угасли, потерпели поражение, маргинализировались. При этом я осознанно избегаю сугубого историзма, принятых членений на формации и стадии, в которых скрываются свои опасности телеологизма и предопределенности. В книге нет ни жесткой хронологической последовательности разделов, ни широко распространенного чуть ли не магического отношения к некоторым датам — таким, как 1917 или 1991 годы. Время в каждом очерке течет в своем направлении, со своей скоростью, со своими вехами, примеряясь к судьбам конкретных людей и к особым видам практик, которые оказываются в поле моего зрения.
Я также отдаю себе отчет в том, что моя собственная работа сама является одной из таких практик конструирования локальности, о которых пишет Аппадураи. То, какой я увидел и не увидел Ошобу (какие материалы собрал или не собрал), как написал и не написал о ней, уже содержит в себе некий окончательный образ, сколько бы я ни убеждал себя и читателя, что не стремился создавать такой образ. Ошоба, которая возникла в моих представлениях и затем в моей книге, начинает свою собственную жизнь параллельно с той Ошобой или с теми «Ошобами», которая/которые существует/существуют в представлениях самих ошобинцев. Эти образы неизбежно вступят во взаимодействие и даже конкуренцию, причем могу предположить, что моя версия окажется для многих предпочтительнее — хотя бы в силу того, что другие версии будут недоступны для ознакомления. Это неизбежный и трудноконтролируемый побочный эффект любого исследования, когда его результаты определяют восприятие и отношение к тому или иному явлению или реальности. В моих силах лишь понимать возможные последствия, предупреждать их и ожидать критики вместе с альтернативными выводами.
* * *
Я хочу сказать несколько слов о технических проблемах, с которыми сталкиваюсь регулярно, когда пишу свои работы. Дело в том, что не существует общепринятого и непротиворечивого написания узбекских (и таджикских) имен, названий и терминов, которые записывались в арабской графике, а затем более ста лет бытовали в кириллическом виде. Точнее говоря, существует несколько противоречащих друг другу способов обозначения кириллицей арабских, персидских и тюркских слов. Это узбекская кириллица, которая содержит несколько дополнительных букв для передачи специфических звуков (свои буквы имеются и в таджикской кириллице). Это профессиональная востоковедческая кириллица, использующая дополнительные диакритические знаки для передачи особенностей арабской графики. Это русская кириллица, которая имеет свои законы транслитерации слов из других языков. Наличие нескольких систем написания осложняется неустоявшимися литературными нормами, а также множеством исторических и региональных/диалектных вариантов произношения и написания тех или иных слов. Привести все это многообразие к общему, логически обоснованному и понятному для обычного читателя знаменателю представляется совершенно невозможным. В настоящей книге я использую такие формы написания имен, названий и терминов, которые соответствуют правилам русской грамматики и сложившимся традициям их написания; в случае когда такой традиции нет, я стараюсь максимально приблизить слово к тому произношению, с которым мне довелось иметь дело.
Приведу единственный пример. В русскоязычных документах начиная с XIX века название кишлака Ошоба писалось как Ашаба, реже — Ашоба и даже Ушаба. В арабографических текстах, как любезно пояснил мне узбекский востоковед Бахтияр Бабаджанов, первая буква иногда была со знаком мадда (آشابه), что означает фонему «о», иногда без этого знака, что означает «а» (اشابه). Какое из написаний исторически наиболее правильное, сказать сложно. По мнению Бабаджанова, слово «Ашаба», скорее всего, восходит к какому-то согдийскому/восточноиранскому или среднеиранскому термину (это касается значительного числа ферганских топонимов), а в этих языках не было открытого гласного «о». Так или не так, но в настоящий момент — возможно, под влиянием западноиранского/таджикского языка — слово имеет форму «Ошоба», в которой употребляется в официальных документах. Именно эту форму я выбрал в качестве основной в своем тексте, оставив в неприкосновенности только цитаты.
С такими дилеммами я сталкивался очень часто, и каждый раз приходилось делать выбор, учитывая всю совокупность разнообразных факторов. Уточню лишь, что я старался ориентироваться на русскоязычную аудиторию и традицию (в частности, в написании имен и фамилий с добавлением «-ов», даже когда речь идет о XIX веке). В некоторых случаях я даю местный вариант написания, используя узбекскую кириллицу.
* * *
Я признателен своим многочисленным коллегам по всему миру, в общении, в том числе и в спорах, с которыми я формировал идею своей книги. Я благодарен Анне Афанасьевой, Бахтияру Бабаджанову, Софие Касымовой, Баходиру Сидикову и Сергею Соколовскому за то, что они согласились прочитать рукопись (или ее части) и высказать свои замечания. Я благодарен людям, которые на разных этапах работы над книгой помогали мне: Аббасхану Асадуллаеву, Адхаму Аширову, Валентину Бушкову, Валерию Германову, Светлане Джексон (Svetlana Jacquesson), Андрею Захарову, Иномджану Мамадалиеву, Акбару Тагаеву, Томохико Уяме (Tomohiko Uyama), Мухиддину Файзуллаеву, Ринату Шигабдинову. Хочу выразить также благодарность жителям кишлака Ошоба и сотрудникам архивов за содействие и благожелательное отношение ко мне и моей работе. Я весьма признателен Умиду Бобоматову, который сам является выходцем из Ошобы, за то, что он взял на себя труд прочитать рукопись и дать свои комментарии и замечания. Особую признательность я высказываю своей супруге Анне Абашиной за помощь в литературной правке текста.
Я благодарен Фонду Веннер-Грен (The Wenner-Gren Foundation), благодаря финансовой поддержке которого в трудные годы я смог осуществить свои полевые исследования. Я благодарен Центру славянских исследований (The Slavic Research Center) Университета Хоккайдо, который создал идеальные условия для завершения моего исследования. Я благодарен Российскому гуманитарному научному фонду и Российскому фонду фундаментальных исследований, Фонду Гарри Франка Гуггенхейма (The Harry Frank Guggenheim Foundation), Фонду Макартуров (The MacArthur Foundation), Фонду Сороса (The Open Society Foundations/Soros Foundation), руководству и сотрудникам Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Института востоковедения РАН, Института истории АН Узбекистана, Французского института изучения Центральной Азии (Institut français d’Études sur l’Asie centrale), Института социальной антропологии им. Макса Планка (The Max Planck Institute for Social Anthropology) и участникам проекта «От колхоза к джамаату: трансформация сельских исламских общин в бывшем СССР: межрегиональное сравнительное исследование, 1960–2010» Фонда Фольксвагена (The Volkswagen Foundation), которые на разных этапах поддерживали продолжение и развитие моего проекта, а также Американскому совету учебных сообществ (The American Council of Learned Societies) за поддержку работы над книгой на заключительном этапе. Наконец, я благодарен издательству «Новое литературное обозрение» и Илье Калинину за согласие прочитать мою рукопись и опубликовать ее в виде книги.
Очерк первый ТРИ ВЗГЛЯДА НА ЗАВОЕВАНИЕ109
Один из наиболее активных представителей постколониальных исследований, Гиян Пракаш, анализируя индийскую историографию, выделил несколько этапов изучения региона и несколько разных типов научного дискурса, связанных с осмыслением его истории и культуры110.
Первым из них был ориентализм111. Он являлся «европейским предприятием», создававшимся европейцами для европейской аудитории. Ориенталисты, пишет Пракаш, рисовали в своем воображении Индию как сущность, отдельную от Европы. Это был взгляд извне, который конструировал Индию в качестве другого, полностью противоположного западному миру112. Такое видение Индии было эссенциалистским, то есть придавало изучаемому и конструируемому в процессе изучения объекту целостный, гомогенный, неизменный характер, наделяло его постоянными характеристиками, отличными от характеристик Запада (если Запад — рациональный, то Индия — иррациональная, если Запад материалистичен, то Индия духовна, если Европа находится в движении, то Индия спит, и так далее). Это было не просто знание, но знание, которое оправдывало имперское доминирование Европы над Индией, представляло его неизбежностью и закономерностью, вытекающими из сущностных черт индийского общества. Пракаш оговаривается, что ориентализм не оставался одним и тем же на протяжении десятилетий, он накапливал информацию, а представления ориенталистов об Индии уточнялись и корректировались, но прежняя, созданная ими линия размежевания между Индией и Европой и подчиненное положение индийской культуры по отношению к западной все так же оставались основными особенностями такого рода научных рассуждений.
С критикой ориентализма выступила национальная научная историография, возникшая в самой Индии113. Соглашаясь, как полагает Пракаш, с тем же эссенциалистским видением Запада и Индии как отдельных друг от друга и самостоятельных сущностей, сторонники этого течения взамен пассивного, инертного образа Индии, который создавался ориенталистами, предложили свой образ страны — активной и самостоятельной. Индия в их работах была равной Европе, а не подчиненной ей. Используя привнесенные из Европы концепции, классификации и понятия, а также, как заметил Пракаш, ссылки на европейских ориенталистов, индийские националисты поставили под сомнение авторитет и право европейцев говорить об Индии. Внутренние противоречия и даже конфликты внутри национальной историографии, когда одни делали акцент на традиции, а другие — на модернизации, не мешали всем сторонникам этого направления говорить об индийском обществе как о единой, органической, укорененной в истории нации, которая была главным и единственным объектом их интереса, внимания, заботы и защиты. И в этом Пракаш видит «элементы ориенталистского канона», который был усвоен националистами, получившими европейское образование.
После обретения Индией независимости в 1947 году возникло несколько новых течений в изучении региона. Западные антропологи и специалисты по региональным исследованиям нарисовали образ традиционной Индии со своей особой культурой114. Они смотрели на мир с точки зрения культурного многообразия, а не дихотомии Запад/Восток, но в этом подходе, как отмечает Пракаш, сохранялись старые эссенциалистские основания, которые наделяли индийское общество предписанными и заданными свойствами. Марксисты и социальные историки кембриджской школы критиковали и ориенталистскую историографию, и национальную, рассматривая их как идеологические и устаревшие проекты115. Вместо истории борьбы Запада с Востоком и истории подчинения Западом Востока они попытались написать новую историю сложного и нелинейного взаимодействия классов, социальных и региональных групп. Однако Пракаш критикует оба эти течения за то, что в их исследованиях Индия по-прежнему сохраняла статус маргинальной или периферийной части западного мира или глобального (то есть, опять же, западного) модернизма, к канонам и идеалам которого она должна стремиться.
Анализ индийской историографии Пракаш завершает ссылками на работы последователей школы изучения подчиненных, к числу которых он сам себя относит116. В их трудах, по его мнению, взгляд на индийское общество освобождается от тех или иных гегемонистских категорий (Восток, нация, класс, модернизация), навязанных ориенталистским и национальным нарративами, что позволяет увидеть множество изменяющихся позиций — сложное переплетение лингвистических, экономических, социальных и культурных взаимодействий и отношений власти. Индия перестает быть особой и неизменной на протяжении десятилетий и веков сущностью, превращаясь в пространство многообразных социальных и культурных столкновений и пересечений.
Конечно, было бы наивно на основании аргументов Пракаша делать вывод, что школа изучения подчиненных является венцом индийского и вообще любого историографического процесса, исследующего колониализм. Категориальный аппарат, созданный последователями этой школы, сам не всегда свободен от гегемонизма, особенно в тех случаях, когда они начинают искать «подлинно индийские», свободные от западного влияния социальные и интеллектуальные сферы. Я, наверное, присоединился бы к тем, кто считает, что такого рода подчиненные могут стать лишь новой версией экзотического другого, воспроизводя в новой упаковке эссенциализм других понятий (община, каста, бенгальскость). Заслуга представителей этой школы не в том, что они открыли «настоящую», «истинную» историю колониальной Индии, противопоставив ее «лживой», «выдуманной» истории своих предшественников и оппонентов. Главное, на мой взгляд, то, что они указали на существование множества разнообразных, ранее недооцененных перспектив и точек зрения, с которых можно смотреть на историю.
Предложенный Пракашем взгляд на историографию и историю Индии полезен, я думаю, для изучения колониальной истории и историографии Средней Азии — при всех отличиях между этими регионами117. Обсуждение, например, вопроса о том, что имело место в XIX веке — завоевание Россией Средней Азии или ее добровольное присоединение, зашло в тупик, поскольку сторонники двух основных позиций — национальной и имперской — не могут ни переубедить друг друга, ни выстроить какого-либо диалога. Методологический же ракурс, который предлагает Пракаш, включает в себя критику обеих этих гегемонистских категорий и является попыткой показать иные способы описания прошлого, увидеть многообразие нарративов, противоречия между ними и внутри каждого из них, используемые этими нарративами приемы убеждения, преувеличения, подтасовки, умолчания, эмоциональную составляющую, с помощью которых конструируются различные версии произошедшего. Такой подход позволяет прочитать разные варианты донациональной истории и альтернативные региональные истории, услышать голоса женщин, религиозных деятелей, тех или иных социальных групп как особые, идущие вразрез с колониально-ориенталистской и национальной риторикой.
В первом очерке книги, который будет посвящен истории завоевания Ошобы и ее включения в состав Российской империи, я намеренно отказался от написания собственной версии этой истории и анализирую то, как по-разному она видится разными акторами и толкователями. Я предлагаю вниманию читателя три рассказа об одних и тех же событиях в Ошобе в 1875 году, когда Ферганская долина была оккупирована российской армией. Один — это донесения российских военных, участвовавших в событиях того времени, и затем интерпретация этих донесений в трудах имперских военных историков. Второй — описание, которое давали тем же фактам местные интеллектуальные лидеры, и новая оценка произошедшего в постсоветской национальной историографии Узбекистана. Третий рассказ был услышан и записан мной от руки в Ошобе в 1995 году (а в 2010 году дополнен аудиозаписями). Меня в данном случае интересует, как в каждой из этих версий описывается ситуация завоевания, подчинения, сопротивления и противостояния, с каких точек зрения рассматриваются события, какие образы и метафоры используются, какие модели объяснения предлагаются, какие концепции и представления стоят за этими моделями, как происходят процессы вспоминания и забывания, как факты конструируются и встраиваются в изначально заданную логику рассказа.
События осени 1875 года
Прежде чем говорить о нарративах, я должен изложить последовательность событий, чтобы можно было понять, о чем вообще идет речь118.
Итак, летом 1875 года в Кокандском ханстве, которое с момента подписания российско-кокандских договоров в 1868 и 1872 годах фактически находилось под протекторатом Российской империи, влиятельные представители высшей кокандской элиты потребовали низвержения правителя — Худоярхана. Оппозиционное движение приняло такой размах, что в июле последний вынужден был бежать из Коканда в сопровождении российских казаков. На престол взошел его сын Насреддинхан. Смена власти обеспокоила туркестанского генерал-губернатора Константина Петровича фон Кауфмана. Новая кокандская верхушка могла объединиться с бухарским эмиром и правителем Йеттишара Якуббеком119, и эта коалиция, при поддержке англичан, составила бы — как опасался Кауфман — мощную силу, направленную против российского присутствия в регионе.
Под предлогом защиты от действий кокандцев, которые в районе реки Ахангаран120 совершили ряд нападений на российские посты и центр Кураминского уезда — Аблык, военные части в августе стремительно вторглись в Ферганскую долину со стороны города Ходжент121. 22 августа в тяжелом бою была разгромлена большая кокандская военная группировка около крепости Махрам, 29 августа российские солдаты захватили столицу — Коканд, а в течение сентября заняли остальные крупные города Ферганы. Несмотря на продолжавшиеся бои, 22 сентября 1875 года Насреддинхан подписал с Кауфманом новый договор, восстанавливающий российский протекторат над ханством на еще более жестких условиях.
В частности, по соглашению предусматривалась передача всей территории на правобережье Сырдарьи и Нарына — бывшее Наманганское бекство — в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Весь восточный склон Кураминского хребта (бывшее Бабадарханское бекство), и в том числе кишлак Ошоба, был включен в состав новой административной единицы — Наманганского отдела (с центром в городе Намангане и дополнительной военной базой в Чусте). Отдел должен был служить своеобразным буфером между Кокандским ханством и основной территорией генерал-губернаторства. Войска, которые здесь располагались, могли контролировать основные перевалы и пути из Ферганы на север и запад, легко появляться в любой части долины, чтобы подавить возможное сопротивление. В то же время естественная граница в виде рек Сырдарья и Нарын затрудняла, как считали тогда российские военные, плохо оснащенным и неорганизованным кокандским отрядам неожиданные нападения на русских. Во главе отдела был поставлен М. Д. Скобелев.
Надежда легко взять под контроль ситуацию в Кокандском ханстве, однако, не оправдалась. 10 октября Насреддинхан тоже вынужден был, вслед за отцом, бежать из Коканда, а новым правителем среди части повстанцев был провозглашен некто Пулатхан. Таким образом, наступил кульминационный момент в конфликте, когда одновременно происходила борьба за власть между различными фракциями кокандского общества и борьба с завоевателями.
Кокандцы небольшими группами перебирались на территорию Наманганского отдела и спокойно перемещались там, находя поддержку среди местных жителей, которые чаще всего даже не понимали, что вдруг оказались подданными России. Одним из наиболее беспокойных районов новообразованного Наманганского отдела была его самая западная часть — горы и предгорья Кураминского хребта, вдоль которого и через который проходили важные пути из Ходжента и Ташкента в Наманган, по ним шли поставки продовольствия и военного снаряжения. Это была территория степей и гор, где не было мест постоянной дислокации российских военных, поэтому кокандские отряды действовали здесь свободно и угрожали затруднить сообщение между основными военными базами. Российские отряды время от времени появлялись на этой территории, вели боевые действия с противником, преследовали его, но ситуация оставалась сложной, поскольку кокандцы нападали внезапно, маленькими группами и быстро рассыпались, исчезая из поля зрения менее мобильных регулярных войск. Малодоступные кишлаки в предгорьях и горах Курамы предоставляли повстанцам запасы и укрытие, а российские военные не решались вести там боевые действия без артиллерии и обозов с провиантом и снаряжением…
Перехожу к деталям. Речь о том, как развивалась ситуация в октябре — ноябре в западной части Наманганского отдела и что происходило в Ошобе и соседних селениях.
Начну с одного донесения о передвижении небольшого отряда из двадцати пяти солдат во главе с майором Ястржемским из Ангренской долины в Наманган, которое весьма художественно передает настроения, существовавшие в тот момент у российских военных. 11 октября экспедиция двинулась из ахангаранской базы и122,
перевалив горный кряж [из долины Ахангарана через Кураминский хребет в Фергану], имела ночлег в небольшой отдельной Курганче123 около кишлака Мулла-Мир [Мулламир]; несмотря на вечер и пост Уразу124, аксакал [старшина, старейшина] деревеньки Мулла-Мир явился, вызванный нашими джигитами, и охотно, за деньги, доставил нам все необходимое. Такое поведение Мулла-Мирского аксакала я объясняю близостью этой деревни к нашей границе и незначительностью населения. На другой день мы проследовали кишлак Бабадархан <…> Бабадарханцы были положительно удивлены нашим внезапным появлением и отнеслись к нашему приходу как-то недоумевая; мы не слыхали ругательных слов и все встреченные жители кишлака старались скрыться или в ворота, или в переулок, а оставшиеся на улице, пугливо прижимаясь к стенкам сакель [глинобитный дом], недоумевая, провожали нас глазами.
Не то было в Шайдане; жители этой большой горной деревни, предуведомленные бабадарханцами, встретили нас иначе; два аксакала босиком ожидали нас перед кишлаком и проводили нас через всю деревню; в середине деревни внутри базара, они радушно предлагали нам ночлег в большой чайхане [общественная чайная], убранной чистыми кошмами [войлочные ковры], но майор Ястржемский отклонил их предложение и категорически объявил им, что будет ночевать с отрядом в поле, около кишлака, и потребовал, чтобы туда была проведена вода и доставлены за деньги дрова, клевер, ячмень и проч., все это было исполнено буквально через два часа125. Такая торопливость в исполнении заставила нас отнестись крайне подозрительно как к аксакалам, так и вообще к жителям деревни Шайдан; тут уже не замечалось недоумение, а скорее проглядывало нечто сознательное, и предупредительность аксакалов давала повод подозревать, что вся деревня Шайдан, узнав о нашем движении и численности, замышляла попытаться ночью врасплох напасть и уничтожить нас.
Впрочем, сам Кауфман, читая такого рода донесения, был настроен по отношению к ним критически и более оптимистично оценивал положение дел. 16 октября он отправился из Намангана в Ходжент, тогда же в селении Самгар, недалеко от Ходжента, был выставлен летучий отряд под командованием полковника Пичугина для поддержки группы, в которой находился генерал-губернатор, в случае нападения на нее126. 19 октября Кауфман во время остановки в селении Камыш-курган писал в письме Скобелеву127:
Во время настоящего моего следования от Чуста к Камыш-Кургану, жители попутных кишлаков, за исключением небольшого кишлака Ашлык [Аштлик] (на переходе между Пунганом и Камыш-Курганом), были большею частью на местах и выходили ко мне навстречу с достарханами128. По рассказам и разным сведениям, жители этих кишлаков замешаны в грабежах и нападениях на наших джигитов <…> Но нельзя не признать, что все эти грабежи и разбои произведены ими по внушению и подстрекательству вождей движения в народе, частью из жителей правого берега Дарьи [Сырдарья], преимущественно из кипчаков129, частью же разбойничьими партиями с левого берега реки.
Под сложившимся у него впечатлением о лояльности местного населения Кауфман решил привлечь местных жителей на свою сторону. Он писал в приказе130:
Для обеспечения сообщения между Самгаром и Чустом, для поимки главных разбойников и коноводов волнения в населении правого берега <…> я остановился на следующей мере: по рекомендации мне лиц, знающих бывшего бабадарханского бека Мирзу-Абдуллу, я назначил его наибом131 всей страны между Самгаром и Тусом [древнее название Чуста] с подчинением штабс-капитану Бекчурину. Я поручил Мирзе-Абдулле набрать сто охотников-стрелков из известных ему бабадарханских жителей. С этими милиционерами наиб Мирза-Абдулла будет следить за безопасностью сообщения между Самгаром и Чустом и вообще за спокойствием в районе между этими двумя пунктами. Я назначил на содержание охотника-стрелка по 10 руб. в месяц на каждого. Наибу Мирзе-Абдулле я определил на первый месяц 300 руб. сер.
В тот же день исполняющий должность военного губернатора Сырдарьинской области генерал-майор Эйлер в докладе сообщил Кауфману о том, что, узнав от Ястржемского о «скопищах» противника в Шайдане, направил туда из Кураминского уезда полковника Гуюса с отрядом солдат132. 23 октября Кауфман дал указание Пичугину, который был в Самгаре, соединиться с отрядами наиба Мирза-Абдуллы и полковника Гуюса в Шайдане. 24 октября отряд Пичугина прибыл в Камыш-курган и остановился неподалеку, в урочище Бахмаль. Однако планы пришлось изменить — в сообщении от 25 октября начальник Кураминского уезда писал133:
Сейчас прибыл ко мне на Куйлюк Наиб Мирза-Абдулла, назначенный Вашим Высокопревосходительством начальником милиционерного отряда, и сообщил мне следующее: что он, собрав около себя 20 джигитов, поехал с ними в сел. Шайдан, чтобы там набрать хороших людей до сотни, что в Шайдане ему удалось приискать еще 20 джигитов; таким образом, около него было уже 40 человек, как в это время Хал-Турсун с язинскими кипчаками и с жителями кишлаков: Ашаба, Гудаса и Ашта окружили его и предлагали ему ехать в Кокан [Коканд], но, что ему удалось, приблизившись к кишлаку Пангасу [Пангаз], с помощью жителей этого селения, бежать в Аблык.
В послании Скобелева Кауфману от 28–29 октября отмечалось, что еще 23 октября он направил отряд во главе с полковником Меллер-Закомельским в кишлак Ак-джар, откуда тот должен был пройти по пути в Бабадархан, Мулламир, Пангаз, Ошобу (где должен был быть 28 октября) и Гудас. Однако этот поход не состоялся из-за активных действий кокандцев около Намангана. 3 ноября Кауфман приказал выставить из Ходжента на Акджарскую переправу на Сырдарье отряд в составе двух рот 3-го Туркестанского стрелкового батальона, взвода 2-й батареи, полусотни оренбургских казаков и 5-й Сибирской сотни. Начальником Акджарского отряда был назначен полковник Пичугин. В задачу отряда входила охрана переправ на Сырдарье на западе Ферганы и дороги от селения Пап до Камыш-кургана, то есть практически контроль всей территории юго-восточных предгорий Курамы134.
В течение нескольких дней подразделения, которые должны были составить Акджарский отряд, прибыли в район, после чего были проведены карательные операции в близлежащих селениях по обоим берегам реки. Из селения Ашт прибыла депутация местных жителей и изъявила готовность помогать русским и снабжать их провиантом. Тем не менее Пичугин был обеспокоен активностью, которую проявляли повстанцы. По его сведениям, в районе его ответственности действовало несколько «шаек», крупнейшей из них — в несколько сотен воинов — руководил бывший бек Аблыка Танаберды (Тангры-Берды-Фарман)135, который находился под началом Зульфакарбека136. Кроме того, были «шайки» под предводительством кипчака Батыркула (из небольшого селения Сарвак), таджика Исмандияра (из окрестностей Ашта), Колтырсуна (из Ошобы), муллы Кушая (из селения Моргузар недалеко от Папа) и киргиза Ишпута137. Основная база кокандцев располагалась около Шайдана.
Чтобы подавить сопротивление в горных районах, полковник решил совершить военный поход в окрестные кишлаки. В поход отправились полторы роты 3-го Туркестанского стрелкового батальона и сотня сибирских казаков, то есть около трехсот человек, артиллерийские орудия с собой в горы не взяли.
16 ноября российские солдаты, выйдя из Ак-джара, достигли Камыш-кургана и там переночевали, на следующий день они прибыли в Шайдан, где полковник Пичугин велел наказать перед народом двух старшин, которых обвинял наиб Мирза-Абдулла и упоминал в своем донесении месячной давности Ястржемский138. После этого отряд направился в Бабадархан, где население не сопротивлялось и выполняло все требования — предоставляло продукты и информацию139. Вечером, далее по пути в Пангаз, Пичугин получил известие, что крупная «шайка» Танаберды и Батыркула предприняла нападение на Шайдан, а потом направилась к Ошобе. Он без промедления, в полдвенадцатого ночи поднял свой отряд и двинулся в направлении Ошобы, где утром 18 ноября состоялось ожесточенное сражение. Разгромив неприятеля и разрушив кишлак, российские военные не стали задерживаться, опасаясь нападения по-прежнему численно превосходившего их противника, и продолжили карательную операцию — вошли в Гудас, жители которого изъявили полную покорность140. 19 ноября отряд Пичугина вышел к Ашту, а вечером того же дня возвратился на позицию у Акджарской переправы. Получив от Пичугина информацию о результатах похода, Кауфман выразил ему, офицерам и низшим чинам «искреннюю благодарность за лихое движение»141.
Имперский нарратив
Донесение Пичугина
В изложенной выше истории меня интересуют события в Ошобе, и в частности сохранившееся описание ожесточенного боя, который состоялся в кишлаке рано утром 18 ноября. Это описание существует в трех вариантах: в виде двух донесений на имя Скобелева и на имя Кауфмана от самого Пичугина и в виде пересказа этих донесений военным историком А. Г. Серебренниковым. Прочитаем все три одно за другим, чтобы увидеть, как изображалась, уточнялась и менялась в них картина произошедшего.
Вот что сообщал Пичугин в донесении от 19 ноября 1875 года на имя начальника Наманганского отдела142:
Вечером 17-го я получил известие, что шайка Тана-Берды ночует у кишлака Ашаба. Подняв в полночь отряд, я направился туда по затруднительной дороге и прибыл к 7 часа утра 18 ноября. Кроме шайки отряд был встречен пальбою из-за стенок кишлака. После упорной, хотя и непродолжительной перестрелки пехота бросилась на штурм. Сопротивление жителей было отчаянное: били людей из-за баррикад и бойниц. Жители пощады не просили и гибли с оружием в руках; женщины кидались с ножами на солдат и бросали в них каменьями. Все было переколото. Затем соединенные шайки Таны-Берды и Батыр-Кула, державшиеся на высотах, в стороне во все время резни, были рассеяны ружейным огнем и скрылись по направлению к Садыку.
В кишлаке (сожжен) осталось более 150 переколотых трупов, за кишлаком и на высотах около сотни. Взято с боя 1 бунчук [древко с конским хвостом, символизирующее власть], 1 значок, 60 сабель, 80 пик, 120 ружей и несколько сот батиков [палка, плеть]. Потеря наша значительна: нижних чинов убито три, ранено 11, ушиблено и контужено 3, лошадей казачьих убито 6.
Не имея вовсе перевязочных средств, я тем не менее счел неудобным не окончить задуманного движения и, окончив разрушение мятежной Ашабы, двинулся далее; 9 носилок с тяжелоранеными замедляли движение, совершаемое по горным труднодоступным тропам. В полночь едва мы прибыли к кишлаку Гудас, который лепится в скалистых ущельях. Таким образом, люди отряда были на ногах 24 1/2 часа, не ели все это время (успели лишь выпить чай), выдержали жаркое дело и прошли по горным тропам в этот тяжелый день 44 версты без арб <…>
Погром Ашабы сильно подействовал на все соседние кишлаки. Раболепствуют донельзя. Исполняют все требования. Накладываю реквизиции и полагаю, что полоса горного района затихла, так что не потребует пока экзекуции со стороны Намангана, за исключением трех воровских кипчакских кишлаков (Чадак, Сарвак и Раджак), куда удалились Тана-Берды и Батыр-Кул с почти разбежавшеюся шайкою.
20 ноября Пичугин описывал те же события в донесении на имя Кауфмана. На этот раз стиль его рассказа был еще более эмоциональным и художественным143:
Желая захватить эту шайку, я в 11 1/2 часов ночи 17 ноября поднял отряд и повел его горными тропами на Ашабу. Нарочно с точностью указываю время подъема, потому что, как Ваше Высокопревосходительство лично убедитесь из моего строго верного фактам донесения, энергия и самоотвержение русского солдата в наступивший затем день 18 ноября, высказались в такой степени, что Ваше Превосходительство можете с гордостью видеть у себя в округе таких солдат.
Пехота шла пешком, арбакешные лошади были навьючены десяточными котлами и пятидневным провиантом. Дорогая была тяжелая, горная, с беспрестанными обрывистыми спусками и подъемами. Затруднительность пути увеличивалась темною ночью. Колонна, пройдя с лишком 20 верст, к семи часам утра приблизилась к аулу, лежавшему в глубокой рытвине [Илл. I, II]144.
Мы шли нижнею боковою дорогою и не видели еще строений. Вдруг были замечены бежавшие конные пикеты с высоты. Я немедленно направил вслед за спасавшимися 5-ю Сибирскую сотню. Сотня вскакала на высоты, пикеты без оглядки бежали в кишлак. Сотня подошла ближе. Вдруг со всех крыш, из-за стенок, заборов был открыт огонь. На высоте также высыпала конная шайка. Сотня несколько отошла, люди спешились, и началась перестрелка. По силе неприятельского огня, по меткости его видно было, что кишлак имеет много ружей и ждал нас давно. Пехота, несмотря на сильно утомительный переход, бегом взбежала на высоту, густая стрелковая цепь залегла по всему гребню, охватывая линию неприятельских стрелков. Перестрелка была чрезвычайно упорна. Для усиления огня я употребил казаков как пехоту. Огонь из кишлака начал слабеть, видно было, как правый фланг неприятельских стрелков побежал назад. Дальнейшая перестрелка вела бы только к потерям людей, потому что горцы — жители Ашабы били замечательно метко. Пехота была двинута на штурм: 3 полувзвода и 2 роты под командою штабс-капитана Бартенева бросились на правую сторону кишлака, взвод первой роты капитана Русанова кинулся на левую. Обе колонны встретили сильнейшее сопротивление, жители били из-за баррикад, из бойниц в саклях, заборах, стенках. Весь кишлак был в баррикадах. Люди наши подвигались неудержимо вперед, офицеры были впереди. Началась резня, или, вернее, ряд отдельных боен, ни один ашабинец не сдавался, все гибли с оружием в руках. Женщины кидались с ножами на солдат или пускали в них с крыш камнями. Наконец кишлак был взят, все легло под штыками. Взвод 2 роты с поручиком Журавлевым взобрался на противоположные высоты против конной шайки и открыл по ней убийственный огонь, та кинулась спасаться, взбираясь под нашим огнем на перевал, и исчезла из виду, оставив на месте несколько десятков трупов <…>
В 9 1/2 часов все было кончено. Изредка гремели выстрелы, потому что отдельные фанатики выскакивали из разных закрытий, стреляли в наших и были тут же избиваемы. Ударив сбор и собрав отряд, я отправил часть отряда для разрушения кишлака. Через некоторое время он представлял сплошную массу огня, в котором горели трупы, завалившие все улицы, сады и дворы, скот, забившийся в разных закутях и все не нужное отряду имущество <…>
В деле 18 ноября как офицеры, так и солдаты вели себя молодцами. Могу упрекнуть только в том, что люди в начале дела слишком рисковали собою, пренебрегая закрытиями, но к концу перестрелки они уже прекрасно применились к местности <…>
Дальнейшее движение в горы представляло некоторые трудности: в колонне было до начала дела 200 штыков и 100 сабель, приходилось идти горами, для 9 носилок нужно было отрядить 72 человека, для носки ружей 54, у меня оставалось свободных всего 70 штыков. Путь вперед шел тесным ущельем, где расположены сады и хутора Ашабы, на пути лежали кишлаки Гудас (около 100 дворов) и Аш [Ашт] (400). В случае нового дела я мог быть поставлен в трудное положение, но отойти назад было невозможно, не потеряв нравственное значение успеха под Ашабою. Кишлакам было заранее объявлено, что русские придут, колебаться было нечего, и отряд, не поев, не отдохнув, сварив только чай, в 2 часа пополудни втянулся в Ашабинское ущелье. Узкая дорога была во многих местах забаррикадирована, разбирали их депутаты от разных кишлаков. По временам раздавались выстрелы, стрелки пристреливали одиночных сартов, показывавшихся из расселин, но по нам не стреляли <…>
Таким образом, люди были на ногах 24 1/2 часа, пили только чай, в это время выдержали горячее дело и прошли 44 версты по едва доступным дорогам. Факт говорит сам за себя, и прибавлять мне к нему нечего.
Горцы били «замечательно метко», «фанатики стреляли в наших», русские солдаты шли «неудержимо вперед», а офицеры были «впереди» — эти новые характеристики добавили драматизма и героизма в описание боя. Автор не жалел красок, подчеркивая трудности, с которыми пришлось столкнуться его отряду, и героизм, проявленный военными. Значительную часть текста, которую я здесь опускаю, составили сведения о захваченных трофеях (оружии, знаменах) и подробное перечисление потерь. Полковник привел, в частности, имена погибших со стороны русских: 1-й роты унтер-офицер Мирошников, 2-й роты стрелок Иванов, 5-й Сибирской сотни казак Мандрышин — трое погибших в бою; еще два казака, урядник Железчиков и Дорогой, были, видимо, смертельно ранены. Пичугин поименно отметил за «заслуги» нескольких военных, например унтер-офицера Шемеля, «отнявшего бунчук и заколовшего 10 сартов»145. В обоих донесениях было названо количество погибших противников (как ошобинцев, так, видимо, и бойцов из «шаек» Танаберды и Батыркула, которые заняли оборону в Ошобе) — 150 «с оружием в руках», кроме того, «в садах, рытвинах, скатах высот, везде валялись трупы» — еще не менее сотни. Сославшись на сомнения Кауфмана по поводу таких больших чисел, Пичугин добавил «с уверенностью», что названная им цифра потерь среди «неприятеля» — минимальная.
Все ли в рассказе Пичугина достоверно? Надо понимать, что перед нами — донесение, направленное в адрес начальства, а вовсе не публикация, предназначенная для общественного обсуждения. Задача подобного рода донесений заключалась, в числе прочего, в том, чтобы выставить свои действия в наиболее выгодном свете и получить все возможные бонусы (похвалы, награды, повышения по службе). Весь текст был строго выдержан именно в таком стиле. Пичугин приписывал защитникам Ошобы упорство и умелость, тем самым указывая на значение победы, одержанной в этом бою русскими. Той же цели служила и «минимальная» цифра 250 убитых — в противовес нескольким погибшим русским солдатам. Разница с двух сторон в числе погибших (250 и 5) выглядела нарочито высокой, и Пичугин старательно ее подчеркивал146.
В донесении ни слова не говорится о том, что в составе российского отряда был назначенный Кауфманом наиб Мирза-Абдулла (и, видимо, его джигиты), который, как можно предположить, был провожатым и указывал дорогу русским. Между тем год спустя сам Пичугин ходатайствовал о награждении бывшего бека серебряной медалью «За храбрость» и почетным халатом за то, что «в деле под Ашабою, 18 ноября 1875 года, находясь в цепи под сильным ружейным, почти в упор огнем неприятельских стрелков, показывал пример редкого хладнокровия»147. В рапорте ничего не было сказано ни о количестве людей из местного населения, которые находились в российском отряде, ни о той роли, которую они выполняли, ни о возможном числе погибших и раненых среди них. Эта небольшая уловка позволяла подчеркнуть свои заслуги, еще больше приукрасить успех.
В других своих донесениях на имя начальства Пичугин всячески демонстрировал решительность и готовность к жестоким мерам. В одном из писем на имя Скобелева этот полковник, недовольный его новыми приказами после отъезда Кауфмана148, писал149:
Как человек военный, то есть человек, показывающий уже зачатки настоящего военного дарования, которому дай Бог впоследствии развиться, Вы должны понять, что после Ашабинского дела нужна не полиция, не посылка мелких отрядов по указаниям участковых начальников, потому что эти отряды могут погибнуть, а штык, военная диктатура и распоряжение начальника, который бы на известном пространстве имел бы безграничную власть, действуя именем Константина Петровича и Вашим150.
Военное донесение как имперский жанр и как вообще любой документ милитаристского содержания отличалось циничным прагматизмом и жестокостью, в нем обсуждались и решались сугубо военные и управленческие проблемы, и поэтому оно освобождалось от необходимости включения каких-то политических и моральных оговорок. В донесении в наиболее простом и ясном виде присутствовало противопоставление тех, кто завоевывает, и тех, кто сопротивляется. Этот конфликт мог быть разрешен только уничтожением и покорением противника с помощью безграничной власти и военной диктатуры. Страдания противника не принимались в расчет, огромное количество жертв с противоположной стороны не умаляло, а, наоборот, подчеркивало безусловность одержанной победы, силу российского оружия. Необходимость такой жестокости была совершенно очевидна Пичугину и его адресату — противник должен быть повержен и должен понести наказание за свое сопротивление.
В донесении подчеркивались все атрибуты победы — потери врага, умелые и самоотверженные действия российских военных, достигнутый результат. Пичугин персонализировал победу, указывая имена героев и жертв с российской стороны — все они должны были быть вознаграждены славой и посмертной памятью. Разумеется, жанр военного донесения предполагал также ответное восхваление и вознаграждение самого Пичугина. Противник же был, напротив, представлен непонятной и безымянной массой, за исключением имен двух главных предводителей, которые, впрочем, не являлись субъектами повествования. Пичугин с некоторым удивлением говорил о яростном сопротивлении, оказанном в Ошобе, о меткости стрелков, о женщинах, участвующих в бою. Но в этом удивлении сквозили, с одной стороны, намек на варварство врага, который идет на бессмысленное самоубийство, а с другой стороны, желание еще раз отметить значение одержанной над столь упорным врагом победы.
Пересказ Серебренникова
Имперский нарратив проявлялся в разных жанрах, каждый из которых диктовал свою логику и свою интерпретацию событий. Донесения одного военного другому уже содержали элементы данного нарратива, при этом оставаясь жанром бюрократического и в то же время секретного, непубличного общения начальника и подчиненного. В этой переписке подчиненный стремился преувеличить свои достижения и преуменьшить неудачи, он мог себе позволить быть циничным и откровенным. Совсем другой жанр — публикация для широкой аудитории. В 1897–1901 годах в журнале «Военный сборник» появилась серия статей историка (по образованию — инженера), проходившего военную службу в Туркестане, А. Г. Серебренникова151. Статьи, посвященные истории завоевания Кокандского ханства, представляли собой авторский пересказ документов и донесений того периода, которые Серебренниковым тщательно собирались и копировались. Автор ставил перед собой скромную задачу — рассказать о кокандском походе, и его не особенно интересовало, каковы были общие цели и интересы империи в регионе. Тем не менее публичный жанр заставлял его говорить во вступительном слове о необходимости и значении завоевания Кокандского ханства. С его точки зрения, оно «…является одним из важнейших событий в наступательном движении русских в Средней Азии, так как с присоединением и умиротворением Кокана Россия покончила с одним из самых сильных и беспокойных своих азиатских соседей и достигла во многих местах естественных границ, каковыми можно считать первоклассные хребты, отделяющие русские владения от Китая на юго-востоке и Индии на юге»152.
Серебренников почти дословно переписывал второе донесение Пичугина Кауфману, придавая ему более правильную литературную форму и усиливая этим эмоциональный эффект от чтения153. Картина, им нарисованная, опять содержала акцент на тех трудностях, которые пришлось преодолеть российским воинам, и на том суровом наказании, которому подверглись жители Ошобы. Описывая драматизм произошедшего, Серебренников словно не видел, что в его описании действия карателей выглядят безжалостными — данный вопрос для него не стоял, хотя в отличие от Пичугина он обращался не к военному начальнику, а к широкой гражданской аудитории. Ему было гораздо важнее, что благодаря этим усилиями достигнут результат — прекращение сопротивления. Вслед за Пичугиным он повторял:
Движение части Ак-Джарского отряда в горные кишлаки северо-западной части Наманганского отдела было выполнено вполне удачно, образцово, а разгром неприятельской шайки в кишлаке Ашабе произвел на окрестных жителей глубокое, подавляющее впечатление и отбил всякую охоту противодействовать и сопротивляться русским. Это движение оказало отличное действие и на общее успокоение населения Наманганского отдела, так как все шайки мятежников, волновавших население, находили всегда хорошее укрытие именно в этой малодоступной части края, населенной воинственными племенами154.
Верный строгому фактологическому подходу, Серебренников не ставил перед собой вопроса о человеческих жизнях. Для него не было необходимости скрывать шокирующие подробности, напротив — десятки жертв и массовые погромы демонстрировали мощь, силу и превосходство русского оружия и российского государства, и это само по себе уже оправдывало жестокость, избавляло от какого-либо морального упрека. Это цена, которую покоренные народы неизбежно платили за достижение Россией «естественных границ» ее имперского расширения. Правда, вместе с описанием того, как российская армия «решительными действиями наводила порядок» в Ферганской долине, Серебренников убеждал читателя, что «…значительная часть мирного и трудолюбивого населения, сильно страдавшего от междоусобий, никогда не сочувствовала беспокойному меньшинству, возбуждавшему остальных к мятежам лишь благодаря насилию, и в глубине души всегда симпатизировала русским, под управлением которых население могло безбоязненно предаваться своим обычным занятиям»155. Впрочем, это утверждение было больше похоже на имперскую демагогию, поскольку события в Ошобе опровергали его, но автор сам не замечал этого противоречия и не искал ему никакого объяснения.
«История завоевания Средней Азии» Терентьева
Имперский нарратив — это не какая-то единая логика изложения и объяснения событий и вовсе не какой-то один автор, обладающий монополией на те или иные образы и аргументы. Это то, что создавалось в разных обстоятельствах разными авторами, обладавшими своими собственными образами и аргументами. Но в то же время у этого нарратива были и общие закономерности, сквозные темы, позволяющие говорить о нем как о едином тексте.
Например, если открыть опубликованную в 1906 году трехтомную книгу российского генерала М. А. Терентьева «История завоевания Средней Азии», которая являлась, пожалуй, самым обширным и авторитетным справочником по данной теме, то мы увидим все основные черты имперского нарратива и одновременно почувствуем авторскую интонацию. В отличие от Серебренникова Терентьев писал историю не отдельных походов и событий, а многодесятилетнего и даже многовекового завоевания Средней Азии. В этом новом масштабе имперские черты становились еще более заметными, а конкретные факты сокращались до небольших упоминаний, полностью подчиняясь логике имперского нарратива.
Несмотря на большой объем своего труда, Терентьев упоминал в нем эпизод с Ошобой, но всего лишь несколькими фразами156:
Пичугин разбил 18-го ноября значительную шайку у горного кишлака Ашаба, который был уничтожен до основания. Отряд, отправленный в горы, состоял всего из 1 ½ роты и 1 сотни. Потеря состояла из 3 убитых и 11 раненых нижних чинов.
Почему этот эпизод неинтересен военному историку?
Первое объяснение — Терентьев вводил градацию существенных событий и несущественных, то есть достойных подробного рассказа, упоминания или забвения. В изложении Серебренникова история тоже имела разную степень детализации описания тех или иных событий, но он скорее следовал за документами и тем, насколько подробно сами первичные материалы отражают определенное событие. Терентьев же, который имел доступ к неопубликованным и опубликованным (тем же Серебренниковым) документам, выстраивал собственную иерархию фактов, подразумевая разную их значимость в общей картине завоевания Средней Азии157. Значительную часть своего рассказа о кокандском походе он посвятил интриге взаимоотношений между Кауфманом, его первым заместителем Колпаковским и Скобелевым, которая была важнее для Терентьева, чем боевые действия в Кураминских горах.
Есть и второе объяснение. Терентьев подверг некоторой коррекции ту жестокую бесстрастность, с какой описывали завоевание Средней Азии многие его предшественники и современники. Он не скрывал того, что произошло с кишлаком, но и не вдавался в детали, не описывал и не смаковал ужасы (те же трупы в горящих домах), не занимался подсчетом числа убитых противников. Почему он этого не делал? Можно было бы предположить, что автор скрывал ужасы войны от впечатлительного и морализирующего читателя, который вдруг стал бы задавать вопросы о человеческой цене войны. Однако была более прозаическая причина: Терентьев довольно критически оценивал действия военных, в том числе те сведения, которые они представляли в своих рапортах. Как он писал во введении, «…не желая быть рабом реляций, я относился к ним критически: панегириков я писать и не собирался, а правду высказать не боялся, мало заботясь о том, понравится ли это тому или другому из деятелей, прославленных уже и превознесенных на полях Средней Азии»158.
Желание знать «настоящую, не приукрашенную и не закрашенную правду» означало для Терентьева не столько описание всех жестоких подробностей боя, сколько сомнение в правдивости той информации, которую давали генералы, старавшиеся произвести впечатление на публику и начальство. В частности, Терентьев был явно «неравнодушен» к Скобелеву, придирчиво и недружелюбно следил за всеми его действиями и отмечал его стремление приписать себе несуществующие или не только собственные заслуги. Он иронизировал над имперским героем, позволяя себе фразы вроде «Неприятель потерял до 3800 человек, по счету Скобелева (чего жалеть бумагу и басурман!)», ставя тем самым победы и успехи последнего под сомнение159. Гигантские цифры потерь кокандцев, в которых соревновались российские генералы и офицеры, вызывали у военного историка скепсис, что, возможно, и стало одной из причин игнорирования многих военных событий в его книге.
Следовательно, рассказ, который был создан Терентьевым, вовсе не был таким уж прямолинейным и некритичным. Он видел ошибки и даже преступления тех, кто представлял империю, тем более что они были объективно направлены против российского закона или русской чести, то есть, в конечном счете, против самой империи. Автор не скрывал, что многие генералы и офицеры жаждали новых наград, которые Кауфман щедро раздавал подчиненным за любые, даже мнимые заслуги. Такая критика внутри самого имперского нарратива некоторых действий империи, безусловно, являлась данью публичному жанру серьезного исследования. Одновременно она была и шагом в развитии имперского нарратива, который искал новых аргументов и новой риторики своего оправдания160 и вовсе не был во всех своих проявлениях лжив и бесчувствен, а мог быть вполне ироничным и наблюдательным.
Терентьев, конечно, не отрицал всех жестокостей и потерь. Как и Серебренников, он вынужден был оправдывать их неизбежностью и целесообразностью произошедшего. В первом томе своей книги Терентьев нарисовал общую картину, предлагая развернутую аргументацию, обосновывающую завоевание Россией Средней Азии161:
Одолев одного врага, Россия тотчас же должна была справляться с другим <…>; в этом как будто и состоит ее дальнейшее призвание: орда за ордою является к ее пределам, стучится, так сказать, в дверь Европы, но суровый страж бесцеремонно выпроваживает непрошенного гостя <…> История дальнейшего движения нашего на восток характеризуется, в общих чертах, таким образом: соседство с дикими, не признающими ни международных и никаких прав, кроме права силы, вынуждало нас укреплять границы линиею крепостей; под защиту этих крепостей являлись, по временам, с просьбою о правах гражданства, то есть о защите, дикие племена, теснимые более сильными; эти новые подданные через несколько времени оказывались хуже врагов; нам приходилось или задавить их окончательно, или прогнать, но и в том, и в другом случае необходимо было оцепить занятую ими территорию рядом новых укреплений, — являлась, значит, новая линия <…> Так перекатными линиями и продвигается Русь на восток в тщетной погоне за спокойствием. И не найдет она этого спокойствия, пока не дойдет до народа, уважающего договоры, народа настолько цивилизованного, чтобы не жить грабежами и разбоем, и настолько сильного, чтобы не допускать нарушения наших границ разбойничьими набегами своих шаек.
В этом отрывке мы видим и отождествление России с Европой, и причисление ее к «цивилизованным» странам, но оправданием для завоеваний является не благородная миссия помощи и просвещения соседних народов, как это станет популярным в других версиях имперского нарратива, а вынужденная защита от «дикарей». В описании Терентьева Россия парадоксальным образом оборонялась, продвигаясь в глубь среднеазиатских территорий и подчиняя их себе. Россия стремилась «нести мир и порядок», но «азиатцы» неизменно нарушали договоры, обманывали, не слушались, за что терпели справедливое и умиротворяющее наказание.
Начиная с 1930-х, и особенно в 1950-е годы, имперский нарратив, упакованный в марксистскую риторику прогресса, опять вернулся в научную и публицистическую литературу162, а в 1990-е и 2000-е годы получил новый импульс на волне постсоветской имперской ностальгии163. Оправдание империи, артикулированное в рассуждениях о «естественных границах» и «защите от варваров», сместилось к поиску «закономерных, объективных» процессов развития и положительной деятельности имперских чиновников на благо местных жителей. В этом новом варианте имперскому нарративу и вовсе перестала быть нужной тема жертв и сопротивления — она практически исчезла из поля зрения, была забыта. Эпизод с завоеванием Ошобы больше не привлекал внимания российских историков.
Национальный нарратив
Участники и свидетели
Имперский нарратив имеет то существенное преимущество, что он воспроизводится в огромном числе документов, которые империя создавала и потом сохраняла в архивах, а также в многочисленных научных, публицистических и художественных работах, написанных за многие столетия. Такая масса текстов сама по себе создает условия для диспропорции между разными мнениями и, соответственно, для доминирования имперской точки зрения над всеми другими.
И все же очевидно, что те, кто воевал с Россией, вовсе не были молчаливой стороной — они думали и говорили о происходившем, обсуждали, создавали свои рассказы. В значительной части последние имели устную форму и не сохранились для историков в полном объеме. Что-то записывалось в виде призывов и донесений — эти документы тоже пропали, за исключением очень редких и случайных текстов, которые сохранились, например, в тех же имперских архивах. Я нашел один такой текст — прокламацию кокандцев, сохранившуюся в русском переводе164:
Прокламация Ак-Бута-Бека и Муллы-Нур-Мухамеда (перевод от 31 октября 1875 г.) за печатью Ак-Бута-Бека, сына Абдулгафара, и Муллы-Нур-Магомеда из Гудаса.
Аксакалам и аминам [старшина крупного селения, в его подчинении могло находиться несколько аксакалов] кишлаков: Пунука, Ашта, Гудаса, Пыскаката [Пискокат], Шайдана, Ашабы, Пангаса [Пангаз]. Проклятые русские в воскресенье рано утром ушли из Ак-Джара в Камыш-Курган. Все вы, старшие и младшие, соберитесь во имя Газата [война, которую ведут воины-мусульмане за веру] и во имя мусульманской веры и встретьте их на Бардын-Куле. Этой службою вы сделаете угодное Богу дело. Для этого посылаем Мама-Захид-Юз-Баши [юзбаши — сотник; здесь есть приписка — «родом из Гудаса»165]; отправьтесь с ним и служите вместе.
Из этого документа видно, что кокандские отряды имели налаженную разведку и поддерживали связь между собой, соблюдая необходимую военную иерархию. Обращает на себя внимание, конечно, сугубо религиозная риторика, которую используют руководители сопротивления для идеологической мобилизации людей, — ссылки на богоугодность и необходимость священной войны против неверных.
Существует также несколько сочинений, написанных местными авторами, в которых была предпринята попытка изложить ход событий времен завоевания и осмыслить произошедшее166. Что любопытно, эпизод завоевания Ошобы был кратко запечатлен в одной из таких исторических хроник — «Тарих-и-джадида-йи Ташканд». Ее автором являлся ташкентский религиозный деятель Мухаммад-Салих-ходжа Ташканди. Он родился в Ташкенте примерно в 1830 году, начальное образование получил у своего деда — муллы Абдурахима-ходжи, жил в Коканде, Бухаре и Самарканде, начиная с 1863 года служил имамом в одной из ташкентских мечетей и был непосредственным свидетелем захвата города российскими войсками, умер предположительно в 1909/1910 году. Над своим трудом Мухаммад-Салих работал в течение 25 лет, с 1863 по 1887/1888 год167.
Рассказывая о боях за Наманган в октябре — ноябре 1875 года, Мухаммад-Салих писал о военных отрядах, которые пришли на помощь русским, — речь шла, видимо, об отряде Пичугина168:
Они прошли через предгорья селения Шахидан [Шайдан] и остановились у селения Ашти, что напротив селения Ашаба, в непосредственной близости к ним. Мусульмане и моджахеды [воины за веру] этих селений узнали об этом, стрелки того упомянутого сообщества [Ошоба] начали обстреливать [нападавших] и ввязались в бой. То сообщество проявило удивительное усердие и старание. И в это время Мирза Абдаллах бик [Мирза-Абдулла], по прозвищу Пансад-гази [пансад/пансадбаши — пятисотник, гази (гозий) — воин за веру] из потомков Мулла Рахматаллаха Пансад-баши, был известен своей подлостью и презренностью и тем, что был у русских осведомителем и проводником в горных и степных дорогах, довел до этого селения [Ошоба], затем неизвестное число [число, которое невозможно пересчитать] мусульман из селения Ашаба сделали шахидами [погибшие за веру], ограбили и подожгли дома. От того селения они отправились в Шахидан. Там они избили своими пистолетами одного из ученых людей, а Касимбая, которого люди считали своим близким учителем, и Баба Шахида приказали избить палками. У людей Шахидана они взяли штраф. Из селения Шахидан они обратили свои стремена насилия к городу Наманган. И через некоторое время они [отряд русских] присоединились к христианам.
Описание событий в Ошобе у Мухаммад-Салих-ходжи довольно точно повторяло то, что было в донесении Пичугина и других имперских источниках: карательная экспедиция военного отряда в горы; наказание двух авторитетных лиц (аксакалов) в Шайдане; жестокий бой в Ошобе, закончившийся сожжением кишлака; помощь Мирза-Абдуллы российским военным. Разница была лишь в том, что он чуть более подробно рассказывал об участниках событий с кокандской стороны и не давал никаких деталей о русских, которые для него, как и местные жители для Пичугина, представляли единое враждебное сообщество. Существенное же отличие состояло в том, что автор говорил о поражении, а не о победе, и размышлял о его причинах:
Люди Ферганы вступили в распри. Шли брат на брата, племена на племена, городские на степняков, подчиненные на хозяев, простые люди на бедняков, падишахи на дервишей. И наступил великий разброд. И у смутьянов появилось желание без всяких прав захватывать имущество людей, воссев на трон управления, завладеть их дворами и землями, не брезгуя даже покушением на их жен, детей и их семьи и слуг. А в войне за власть поднявшие смуту и мятеж стали чинить бесправные убийства. Они убивали безо всяких шариатских прав потомков тех, кто многие века и годы были правителями и высокородными принцами, величественными сайидами [потомки пророка Мухаммада], квинтэссенцией и отпрысками благородных семей.
В этом продолжении видно, как Мухаммад-Салих-ходжа сместил акцент с жестокостей, творимых русскими, на печаль и сожаление по поводу смуты и жестокостей, которые совершались в самóм кокандском обществе — по отношению друг к другу. Мусульмане перестали следовать шариатским нормам, нарушили предписания ислама, отвергли порядок, который зиждется на мусульманской традиции, — это и стало причиной поражения в борьбе с русскими. Религиозный аргумент и здесь являлся главным риторическим элементом исторического нарратива169.
Впрочем, в представленной религиозной риторике можно увидеть еще и своеобразный местный патриотизм. Сожаление Мухаммад-Салих-ходжи о распрях внутри Кокандского ханства — обратная сторона его представлений об идеальном обществе, которое не имеет внутренних противоречий и способно противостоять иноземному завоевателю; в таком обществе различные социальные слои существуют в гармонии, а власть находится в руках легитимной наследственной элиты. Такое воображаемое ташкентским хронистом общество можно было бы даже назвать протонациональным, хотя для превращения в национальное ему не хватало множества необходимых элементов — представления о едином наименовании, едином языке и единой культуре, светского взгляда на эволюционное развитие истории, сильного антиимперского пафоса и так далее.
И еще одно замечание. Говоря о точке зрения Мухаммад-Салих-ходжи, я не хочу тем не менее создать впечатление, что его позицию разделяли все жители Кокандского ханства. Мухаммад-Салих-ходжа представлял в своем сочинении особую точку зрения религиозного интеллектуала, который выражал интересы определенной социальной и даже региональной группы. Он сам смотрел на Ошобу извне, что тоже можно считать чертой протонационального взгляда, который подразумевает идеологическое превосходство говорящего над аудиторией.
Интерпретация Абдуллаева
Процесс формирования национального нарратива прошел несколько этапов: от мусульманских прогрессистов (джадиды и другие170), затем большевистской антиколониальной критики 1920—1930-х годов, оставившей след во всей дальнейшей советской академической традиции171, и до публицистических и художественных произведений эпохи Хрущева и Брежнева, в которых в лояльной к советскому строю форме разрабатывались самые разнообразные сюжеты национальной истории и культуры. И наконец, получив независимость в начале 1990-х годов, среднеазиатские национальные нарративы восприняли антиимперскую и антисоветскую риторику, которая должна была обосновать распад СССР и легитимировать возникновение новых государств. Безусловно, окончательно сформировавшиеся в последние десятилетия национальные нарративы сыграли значительную роль в раскрытии новых тем и источников, в снятии запрета на обсуждение целого ряда замалчивавшихся в советскую эпоху фактов и проблем, в преодолении империоцентричного взгляда на историю, который был заменен на нациоцентричный.
После длительного, почти 90-летнего, забвения эпизод завоевания Ошобы вновь оказался в публичном поле зрения. 10 апреля 1992 года, когда Узбекистан уже был провозглашен независимым государством, в газете «Литература и искусство Узбекистана» появилась большая, на два полных разворота, статья Ортыка Абдуллаева «Трагедия Ошобы», написанная по-узбекски172. В поисках исторической правды автор статьи решил обратиться не к малочисленным и труднодоступным местным источникам, а к имперским текстам, что позволило ему найти факты для создания национальной интерпретации завоевания Россией Средней Азии. В числе таких текстов Абдуллаев обнаружил работу Серебренникова в журнале «Военный сборник», которую он прочитал, по его словам, в библиотеке в Москве (о том, что первичные материалы, легшие в основу статей Серебреникова, хранятся в ташкентском архиве, он не догадывался). Имперский рассказ был актуализирован и, что парадоксально, стал неотъемлемой частью национального текста, ссылка же на московскую библиотеку послужила, как это ни странно на первый взгляд, для легитимации национального нарратива.
Собственно, «Трагедия Ошобы» представляла собой подробный пересказ тех мест из статей Серебренникова, где говорилось о карательной экспедиции Пичугина. После рассказа о том, что жители Шайдана и Пангаза подчинились русским без сопротивления, Абдуллаев привел длинную цитату, в которой описывался бой в «маленьком горном кишлаке», то есть в Ошобе. Это противопоставление выглядело едва заметным упреком в адрес таджиков, составляющих основное шайданское и пангазское население, и стремлением подчеркнуть разницу между двумя народами. Но главной темой статьи являлось, конечно, не описание узбекско-таджикских различий, а критика империи, причем окрашенная в яркие эмоциональные тона.
Автор писал, что, прочитав работу Серебренникова, «несколько дней не мог прийти в себя»:
Боль и сожаление, печаль и страдание разрывали мою душу. У меня было неприятное впечатление, что даже дождь, непрестанно лившийся в эти дни, плачет вместе со мной, облегчая свою душу.
Почему эти данные о пролитой крови скрывались и не печатались173, почему вместо этого говорилось только о прогрессивном значении присоединения — вопрос, который задавал себе автор.
Завоевывая край, эта беспощадная группировка реками лила человеческую кровь. Были разрушены тысячи громадных зданий, сотни сел и больших городов сожжены, превратились в пух и прах. Мужественные соотечественники, наши предки, которые ставили честь и достоинство превыше всего, не сдались врагам. Они сражались за Родину, за каждый клочок священной земли, отдавая свою жизнь достойно. Отвага ошобинцев — маленький, но показательный пример этих ни с чем не сравнимых сражений. Читая об этом, я был потрясен тем, как миролюбивые и отважные жители этого села сражались с врагом лицом к лицу до последнего вздоха, даже женщины считали для себя позором покориться врагу, ставя выше свою честь. В то же время трагедия этого кишлака показывает подлинное лицо русских оккупантов. Она раскрывает лживые доводы о том, что они в виде одолжения принесли в этот край спокойствие, свободу, равноправие и культуру.
Текст Абдуллаева был построен на сочетании, с одной стороны, пафоса разоблачения ужасных преступлений российских завоевателей и, с другой стороны, гордости за героизм и страдания ошобинцев. При этом он весь являлся буквально зеркальным отражением имперского взгляда на события: если Пичугина, Серебренникова и Терентьева занимали подвиги и страдания русских воинов, тогда как местные жители были изображены, с некоторыми оговорками, в виде фанатичной, жестокой и неблагодарной массы, то у Абдуллаева, наоборот, русские оказались жестокими и коварными, а местное население героически сражалось с врагом и приносило священные жертвы во имя свободолюбия. Как имперские историки при описании завоевания не видели серьезных внутренних конфликтов в своем собственном обществе и среди покоряемого населения, так и национальный журналист-историк отказался видеть в произошедшем множество разных интересов и мотивов, сведя их к схематичному противостоянию двух сторон.
«Я в кишлаке Ошоба не был», — продолжал Абдуллаев:
Я еще не видел потомков — внуков, правнуков тех героев, которые не щадили своей жизни в борьбе за независимость Родины. Но думаю, что стоит гордиться ошобинцами, которые смогли сохранить в своих сердцах свободолюбивый дух и доблесть далеких предков, за то, что они родились в одном из героических кишлаков Туркестана.
Ссылаясь на примеры того, как сами русские чтят память погибших на Куликовом поле, под Бородино и в Севастополе, автор спрашивал: «Почему мы их [жертв борьбы с империей] не помним, не почитаем, не возвеличиваем?» — и затем предлагал в каждом кишлаке поставить памятники погибшим в ходе завоевания. Закончил свою статью он так:
Может быть, первыми начать это святое дело дать ошобинцам? <…> Сегодня, в великие праздничные дни достижения нашей Республикой независимости, я преклоняюсь перед духом мучеников-ошобинцев. Пусть их чистый дух удостоится благодарности Аллаха. Аминь!
Абдуллаев не писал в своей статье об Узбекистане и узбеках, а говорил о Туркестане как об общей родине. Однако это обманывало читателя и создавало иллюзию, что между разными постсоветскими государствами нет противоречий, в том числе по поводу интерпретации истории. Этот невольный обман становится очевидным, когда мы вспоминаем, что Ошоба находится на территории Таджикистана (о чем, видимо, Абдуллаев не догадывался?) и апелляция к «мы» в данном случае не срабатывает. Ошобинцы никак не могли участвовать в празднике независимости Узбекистана. Призыв Абдуллаева начать строить памятники в Ошобе оказался направленным в пустоту, и кишлак опять был вычеркнут из истории, только теперь не из-за стыдливой забывчивости имперского нарратива, а из-за острого противостояния двух соседних национализмов.
Подмена и забывчивость
В книге известного узбекского историка Хамида Зияева «Борьба против вторжения и гегемонии России в Туркестане (XVIII — начало XX века)», изданной на узбекском языке и полностью посвященной истории среднеазиатского сопротивления российскому вторжению, мы тоже встречаем упоминание эпизода о сражении в Ошобе174:
18 октября 1875 г. полковник Пичугин, войдя в Ашобу и вступив в бой с восставшими, уничтожил кишлак до основания. В этом бою трое захватчиков были убиты, 11 ранены. Участники восстания были сурово наказаны.
Хотя ссылка на источник отсутствует, видно, что фраза в книге Зияева очень напоминает фразу из третьего тома «Истории» Терентьева, переписанную, разумеется, в новом ключе. Из заметных изменений (не считая ошибки в дате) отмечу замену «значительной шайки» на «восставших», «нижних чинов» на «захватчиков» (босқинчи) и добавление последнего предложения о «суровом наказании», что соответствует истине, но меняет эмоциональное восприятие информации. Мы опять видим, что имперские тексты включаются в национальный нарратив с зеркальной перестановкой акцентов175. К тому же Зияев говорит о сражении в Ошобе, не упоминая исторического контекста, поэтому читателю не ясно, где находится кишлак и почему там произошел бой. Собственно, сама событийная канва в данном случае не интересна автору, которому важнее показать столкновение и его ужасные последствия.
Есть еще один пример упоминания эпизода в Ошобе — в узбекской учебной литературе. Речь идет о школьной хрестоматии «Архивные источники для изучения истории Узбекистана», предназначенной для восьмого класса176. В ней приведена фотография очень плохого качества с подписью, что это изображение «уничтожения» населения ферганского кишлака Ошоба (Илл. 3). На ней угадываются пять-шесть российских, судя по форме, военных с оружием, в теплой одежде, вокруг них опять же угадываются лежащие тела, видимо, убитых людей. В тексте хрестоматии нет никаких пояснений к этой фотографии, она просто представлена как иллюстрация, без ссылок на источник и его автора177. Ни в военных донесениях, ни у Серебренникова не было никакой информации о том, что в отряде Пичугина находился фотограф. Я вообще никогда не встречал фотографий, посвященных кокандскому походу 1875 года. Само изображение тоже несколько странное: одежда военных выглядит слишком теплой для ноябрьских дней в Ферганской долине, даже если речь идет о горах.
Илл. 3. Спорная иллюстрация в школьной хрестоматии
По моей просьбе один из наиболее осведомленных в истории Туркестана ученых, Валерий Германов, дает такой комментарий к этому изображению: «На снимке изображена группа вооруженных казаков из шести человек в одежде партизан периода Гражданской войны 1918–1922 гг. (на них — тулупы, куртки, солдатские шинели; на ногах валенки; на головах — папахи с лентами). Можно предположить, что это казаки из так называемой партизанской дивизии, впоследствии Семиреченской армии атамана Анненкова, действовавшей в Семипалатинской губернии и Семиречье с осени 1918 г. по весну 1920 г. Анненковцы отличались невероятной жестокостью в подавлении крестьянских восстаний. На снимке перед казаками изображены убитые повстанцы — русские крестьяне. На убитых валенки. Жители Ферганы валенок не носили».
Является ли данная фотография подменой или нет, случайна ли эта вероятная подмена или сознательна — в общем, вопросы второстепенные, принимая во внимание в том числе то обстоятельство, что карательная экспедиция в Ошобу с огромными жертвами среди местного населения действительно имела место; этого не скрывали сами российские военные. Однако случай с фотографией в школьной хрестоматии показывает: многие авторы, создающие свои версии национального нарратива, стремятся сделать главный и единственный акцент именно на этих жертвах, чтобы всеми — текстуальными и визуальными — средствами показать колонизаторов исключительно жестокими и беспощадными завоевателями, которые стремились подчинять, господствовать, эксплуатировать. Никакие другие мотивы колонизаторов в расчет не принимаются. Колонизаторы предстают как нечто целое и чаще всего описываются как другая нация — в нашем случае это русские178.
Несколько слов о таджикском нарративе и узбекском меньшинстве
Имперский и национальный нарративы сами по себе не являются монолитными и непротиворечивыми. Внутри каждого из них есть свои версии, свои конфликты интересов и возможностей.
Когда я читал и подбирал разные тексты по истории завоевания Средней Азии, мне сразу бросилось в глаза, что таджикская историография оценивает процесс включения региона в состав Российской империи гораздо позитивнее. Нынешний таджикский нарратив говорит о своей истории и культуре тем же эссенциалистским языком, что и узбекский, в его логике таджикская нация — это единое сообщество, которое постоянно борется с внешними врагами. Однако таджикские историки не фокусируются на периоде Российской империи и не занимаются коллекционированием темных страниц этого периода. Российское завоевание Ходжента и других городов, относящихся к современному Таджикистану179, не воспринимается как национальная травма, и этой темой мало кто из исследователей занимается. Скорее в качестве исторического соперника в таджикском нарративе выступает узбекский национализм, который описывается как своего рода мини-империя и главный конкурент в символическом присвоении территории и культурного наследия180.
Такая разница между таджикским и узбекским национальными нарративами в случае с Ошобой имеет принципиальное значение, поскольку населенный узбеками кишлак находится на территории Таджикистана.
В Таджикской Республике отсутствует отдельный официальный национальный нарратив для узбекского меньшинства, проживающего в этой стране. Таджикские узбеки, составляющие около 15–20 % населения и, разумеется, представленные в политической и культурной элите, не создают своей отдельной истории и не стремятся на политическом и государственном уровне выделиться в замкнутое сообщество, а, напротив, мимикрируют, подстраиваются под доминирующий язык таджикоцентризма или даже иногда перенимают таджикское самосознание181. Узбекистан, в свою очередь, тоже не стремится выстраивать какую-то специальную политику по отношению к узбекским меньшинствам в других странах, в результате люди, записанные или чувствующие себя узбеками, но живущие за пределами Узбекистана, не осознают своей общности с Узбекистаном и не имеют с ним постоянных связей символического характера, не испытывают на себе идеологического и пропагандистского влияния и не переживают вместе с узбекскими гражданами чувства боли за павших в борьбе с империей и чувства радости за обретение долгожданной национальной независимости.
В противостоянии двух национальных нарративов — узбекского и таджикского, имеющих свои территориальные и государственные проекции, образуются символические периферии или зоны умолчания, которые создателями узбекского и таджикского нарративов не осваиваются. В этих зонах возникают свои, альтернативные нарративы, а чаще преобладают и даже консервируются локальные рассказы, описывающие историю с точки зрения каких-то региональных интересов и идентичностей.
Локальный нарратив
Есть ли другие голоса?
Символический конфликт между узбекским и таджикским национальными нарративами показывает нам зоны и пространства, где могут существовать другие голоса, которые можно было бы назвать голосами или нарративами подчиненных. Я полагаю, что в Средней Азии нет одного-единственного доминирующего национального нарратива — до него, рядом с ним, внутри него, «под ним» всегда возникали и существовали другие нарративы. Это могли/могут быть голоса низших классов среднеазиатского общества, женщин, разного рода культурных и религиозных меньшинств, локальных и профессиональных групп, которые воспринимали/воспринимают разные события прошлого и настоящего с какой-то своей точки зрения, производят свои интерпретации, исходят из своих интересов, дают свои объяснения и свою логику описания. Национальный нарратив, как правило, отвергает эти интерпретации и не замечает, например, те слои и группы, которые получили выгоду от империи, в лучшем случае просто игнорируя их, в худшем — называя предателями.
Я хотел бы заметить, что подчиненные были не только со стороны тех, кого завоевывали, но и со стороны тех, кто завоевывал. Историю покорения и присоединения Средней Азии к Российской империи мы обычно изучаем по донесениям военных офицеров и генералов, а также по трудам имперских военных историков, для которых война и колониальные завоевания были неизбежными и справедливыми. Но мы не слышим, например, голосов обычных солдат, бывших крестьян, или казаков, которые шли под пули неприятеля и лицом к лицу сталкивались с местным населением. Что ими двигало в действительности — воинский долг, угроза наказания, перспектива поощрения или еще что-то? Как они представляли себе свою миссию, в какой степени осмысливали и разделяли имперские цели? Мы не различаем точек зрения российских меньшинств — поляков, грузин, евреев, украинцев и других, кто составлял значительную часть мира колонизаторов. Мы не слышим голосов гражданских лиц — санитаров, женщин или переводчиков из числа татар или казахов, которые находились в обозе военных и наверняка создавали в своем воображении собственную версию происходящего. Только по крупицам каких-то воспоминаний и сведениям из других источников мы можем реконструировать их мысли и восприятие тех событий.
Приведу в качестве примера воспоминания В. П. Наливкина, которые относились как раз к ноябрю 1875 года. Они напрямую Ошобы не касались, но передавали в какой-то мере настроения тех дней, когда полковник Пичугин писал свои донесения Скобелеву и Кауфману с призывами к «диктатуре»:
Когда мы обходили кишлак с восточной стороны, перед нами открылась такая картина: под острым углом к нашему магистралу, направляясь к видневшимся вдали песчаным барханам, врассыпную бежали безоружные мужчины, женщины и дети. Дальше, между барханами, виднелось несколько арб, чем-то нагруженных и уходивших по дороге в Токайли и Маргелан.
Скобелев, ехавший в 20–30 шагах перед нашим дивизионом, скомандовал: «Шашки — бой! Марш-марш!» Сотенные командиры приняли команду, и казаки ринулись карьером; а Нил [штабс-капитан артиллерии Нил Николаевич Куропаткин], которого Скобелев не мог не слышать, обернувшись к дивизиону, крикнул: «Не сметь вынимать шашек! Рысью!»
Я так и обомлел. Помню: первое, что шевельнулось внутри меня, это — страх за Нила, которого я любил от всей души. Мы сейчас отстали от Скобелева и от сотенных казаков.
Но так как раньше сотни шли на флангах дивизиона, то на первое время между нами образовался довольно большой интервал, в котором бежал безоружный сарт с ребенком на руках.
Нил первый увидел, что на него несутся два казака, и крикнул мне: «Володька! Скачи! Убьют!»
С криком — «не смейте трогать; не смейте трогать» — я понесся к сарту; но было уже поздно: один из казаков махнул шашкой, и из рук оторопевшего, обезумевшего сарта выпал на землю несчастный 2—3-летний малютка с глубоко рассеченной головой. У сарта, кажется, была рассечена рука. Окровавленный ребенок судорожно вздрогнул и кончился. Сарт дико-блуждающими, расширенными глазами бессмысленно смотрел то на меня, то на ребенка.
Не дай Бог никому пережить такого ужаса, который я пережил в эту минуту. Я чувствовал, что какие-то мурашки ползут у меня по спине и по щекам и что-то сжимает мне горло, отчего я не могу ни говорить, ни дышать. Я много раз видел убитых и раненых; я видал раньше смерть, но такого ужаса, такой мерзости, такого позора воочию я еще не видал. Для меня это было ново.
Подошел дивизион, и мы пошли дальше. Везде трупы зарубленных или застреленных безоружных мужчин, женщин и детей. Пройдя с полверсты, мы увидели такую картину: под крутым отвесным берегом широкого сухого арыка лежит целый ворох женских и детских трупов; немного в стороне, лицом кверху и с раскинутыми руками, лежал труп, по-видимому, застреленной в грудь молодой красивой сартянки.
Какой ужас! Какой позор! Мы, русские воины, не найдя сколько-нибудь достойного противника, занимаемся зверским избиением женщин и детей! <…>
Я пошел бродить по бивуаку. Подхожу к артиллерийскому взводу: вижу, казак, рядовой, с крагой [накладные голенища с застежками] на ноге, нянчит грудного сартовского ребенка. Я знал этого казака лично, потому что раньше, до моей командировки в Петро-Александровск, некоторое время он служил у меня драбантом [денщиком]. К сожалению, я не помню его имени и фамилии.
«Где, — спрашиваю, — взял?» «В кишлаке, ваш-бродь, подобрал. Так что жалко очинно, ваш-бродь; робеночек махонький, кволый; еже бросить, безпременно пропадеть; опять же не знаю, куда, то-исть, мне его определить».
Так как я взялся говорить только одну правду, то должен сказать, что, к стыду моему, я не знаю, удалось ли сердобольному казаку «определить» куда-либо «кволаго робеночка».
Продолжая бродить по бивуаку и по опустевшему кишлаку, я все думал и думал182.
Действительно ли такой случай имел место, или Наливкин его придумал, пытаясь как-то уравновесить рассказ о жестоких побоищах, — невозможно проверить. Однако сомнения автора, которые появились спустя годы после описываемых событий, говорят о том, что отношение со стороны русского офицера к происходившему могло выходить за рамки официального имперского нарратива.
Гегемония нарративов
Имперский и национальный нарративы возникли и существуют вне самого кишлака, но ошобинцы имеют о них свое представление. Имперский нарратив в советское время транслировался через школьные и институтские программы, через телевидение, газеты, книги, которые в 1950—1980-е годы были доступны местным жителям как в самой Ошобе, так и за ее пределами. С одной стороны, крепко заученные и постоянно повторяемые клише о дружбе народов и интернационализме, с другой стороны, похожее на цензуру умолчание о многих фактах и интерпретациях прошлого воспитывали и воспроизводили отсутствие знания и даже отсутствие желания знать, что случилось с кишлаком в 1875 году.
В конце 1980-х годов советская идеология стала быстро терять свою доминирующую роль. Через то же телевидение, через те же газеты, журналы люди начали получать доступ к национальным версиям прошлого, которые полулегально и нелегально создавались и хранились среднеазиатской элитой. Открытие новых тем и проблем взбудоражило ошобинское сообщество, прежде всего местную интеллигенцию — учителей, врачей, колхозных управленцев. Как и люди по всему Советскому Союзу, они обсуждали сталинские репрессии, Октябрьскую революцию, следили за высказываниями своих интеллектуалов и за деятельностью разного рода «народных фронтов» и «партий», нередко сочувствуя им.
Весной 1992 года в районной газете «Слава Ашта» была перепечатана на узбекском языке упомянутая выше статья Абдуллаева «Трагедия Ошобы». В Ошобе ее прочитали очень многие. Я не могу передать точно реакцию на прочитанное именно 1992 года, но в 1995 году, рассказывая мне об этой статье, ошобинцы всячески выражали чувство гордости за то, что их предки оказали такое отчаянное сопротивление более сильному противнику. При этом свою гордость они обращали не ко мне, приезжему из Москвы, которого можно было бы легко ассоциировать с прежними российскими воинами, а к жителям соседних селений, прежде всего таджикских, предки которых сдавались противнику без боя и шли к нему на поклон, как об этом говорилось в рассказе ташкентского журналиста. Этот момент соперничества, неожиданно для меня, оказался для многих моих собеседников важнее, чем возмущение жестокостью противника, о которой, несмотря на старания Абдуллаева, никто не вспомнил (может быть, из вежливости ко мне?).
Я не увидел массового переживания сегодняшними жителями Ошобы, внуками и правнуками погибших в том бою, личной или тем более национальной травмы в связи с событиями 120-летней давности. Я не встретил ни у местной власти, ни у простых жителей коллективного отклика на предложение Абдуллаева соорудить в кишлаке памятник погибшим в сражении с российскими завоевателями (хотя не исключаю, что такого рода желание у кого-то и могло быть). К слову, несколько человек указали мне на предположительное место захоронения погибших в том бою, перечислили несколько имен (Бозор-мерган, Сапар-мерган и другие) и назвали умерших шахидами, то есть мучениками, погибшими за веру, но отнеслись к этому как к давней и почти забытой истории. Мне показалось, что несколько невзрачный памятник ошобинцам, погибшим в войне 1941–1945 годов, который приютился напротив здания сельсовета, был понятнее и ближе жителям кишлака, несмотря на весь официоз, который окружал культ последней войны (Илл. 4).
Конечно, такую реакцию надо прочитывать в конкретном контексте. После распада СССР в 1991 году среднеазиатские государства стали развиваться по разным траекториям. Представители бывшей партноменклатуры Узбекистана, быстро расправившись с внутренней оппозицией, взялись за создание и укрепление своей официальной национальной идеологии, тогда как таджикские элиты разделились на противоборствующие группировки и вступили в настоящую гражданскую войну друг с другом, причем в центре публичных дебатов оказались вопросы ислама и региональной лояльности. Ошобинцы, которые продолжали смотреть узбекское телевидение и отчасти принимали на свой счет идеологические новшества Узбекистана, своими повседневными интересами все-таки были больше связаны с Таджикистаном и воспринимали мир через тот конфликт, который поразил таджикское (таджикистанское) общество.
Однако не очень эмоциональное и не очень идеологизированное восприятие самими ошобинцами призывов «гордиться предками-ошобинцами» объяснялось не только тем, что понятие родины для них несколько отличалось от того, что подразумевал под ним гражданин другой страны. Важны были и другие факторы: какие в самом ошобинском сообществе сохранялись и передавались локальные представления о том, что значит быть ошобинцем; какая у Ошобы история; какие представления о внутренней иерархии и внутренней этике; какие отношения у местных жителей с соседями и какими качествами, с их точки зрения, надо ошобинцу гордиться183.
Илл. 4. Памятник погибшим в войне 1941–1945 гг.
История кишлака
Начну издалека — со времени, которое предшествовало завоеванию. Локальный нарратив, как и имперский и национальный, тоже имеет свою протяженность, свою историческую глубину, которая определяет логику происходящего и придает ей смысл. Кроме того, этот небольшой экскурс в более отдаленное прошлое должен прояснить некоторые детали, важные для последующего описания и анализа.
Сами ошобинцы рассказывали о происхождении своего селения одну и ту же историю — в ее центре мерганы, которые основали Ошобу. Вот несколько типичных рассказов184:
Здесь ничего не было, только жители Пангаза устраивали летовки. Однажды пангазцы сидели и кушали ош (около нынешнего Чинар-бува185), и к ним подошли семь мерганов (охотников, стрелков). Пангазцы их увидели и убежали, бросив или опрокинув ош в воду, отсюда возникло название Ош-обба [ош — еда; об — вода; ба — предлог «в», то есть еда в воду] — Ошоба. Охотникам место понравилось, и они построили здесь крепость-курганчу [Илл. III].
В Ходженте была красивая девушка, и из Турции ее хотели сосватать, но жениху отказали, и Турция пошла сюда войной. От войска тюрков отделилось сорок мерганов, они пришли сюда и поселились. Здесь было место кочевий пангазцев, мерганы у них отобрали скот. Пангазцы пришли воевать сюда, но с перевала (Пангаз-ками) увидели курганчу, построенную мерганами, и ушли домой. Сорок мерганов брали себе из округи жен: своему старшему они взяли девушку из селения Алмас, другие взяли из Каркидана (каркиданцев звали «тога» [то есть дядя по матери]) и из Кара-хитая.
Каждый год принцесса Сара, дочка царя Ирана, приезжала отдыхать в Туран, в Ташкент. Однажды разбойники захватили ее, тогда царь Ирана отправил воинов, чтобы освободить ее, и поставил для нее охрану из мерганов. Мерганы жили в Занги-ата186. У них обычаи немного отличались, они читали праздничную молитву-намаз после рамадана на один день раньше187, начался конфликт, мерганы испугались и убежали из Занги-ата в разные стороны. Сюда, где сейчас Ошоба, пришли сорок мерганов, они оставили одного наблюдателя на горе с названием Кара-ходжа, но пришли пангазцы и убили его. За его смерть пангазцы вынуждены были потом отдать мерганам сорок отар баранов и сорок женщин в жены.
Первыми пришли в Ошобу сорок мерганов (мерган — это не охотник, а солдат, воин). Это случилось в 1658 году. Пришли они вроде бы с Северного Кавказа, из Карачая. Вообще же еще говорят, что ошобинцы — это дети тюрков-маджар и они пришли из Маджаристана. Еще говорят, что в Ошобе живут две группы: одна пришла из Кара-хитая, другая — из Каркидана.
Из Турции на корабле в свадебное путешествие отправились турки с женами — их корабль разбился, они постепенно шли и оказались в Ташкенте. Из Ташкента часть ушла в Кара-хитай, из Кара-хитая часть (сорок человек) ушла в Ошобу, а из Ошобы часть ушла в Каркидан и в Лашкарак — все жители этих селений говорят «вот» вместо «яп»188. Когда турки пришли сюда, то здесь были летние пастбища пангазских таджиков. Таджики пришли, увидели новое поселение и закрыли Курган-арык в районе Чинар-бува, говорили: «Приходите сюда, мы вас, узбеков, здесь убьем». Когда они около Чинар-бува кушали еду, узбеки-турки к ним подобрались и стали сверху палить по ним из ружья (ружей тогда было мало) — таджики испугались и убежали, опрокинув пищу (ош) в горную речку (сай). Когда одного пойманного таджика спросили «где ош?», то тот ответил «ош-обба».
При первом знакомстве с такого рода рассказами бросается в глаза обилие в них мифологических образов и элементов189. Сюжет разворачивается вокруг свадьбы, что часто происходит в сказках и мифах. Числа семь и сорок обычно используются в качестве сакральных и указывают на некий особенный характер событий или людей: в Средней Азии, в частности, популярны истории о қирқ-чилтан (сорока чильтанах, иногда 41-й — предводитель) или етти-оғайни (семи святых братьях)190. Мифологичной является далекая и таинственная страна Маджаристан (чаще всего ее ассоциируют с Венгрией), которая нередко встречается в среднеазиатских преданиях, а вот упомянутый Карачай все-таки, наверное, относится к современной импровизации. Со слов одного из моих пожилых собеседников, он слышал историю о сорока мерганах еще в 1930-е годы от одного старика, который говорил, что это случилось 360 лет назад. Последняя цифра явно условная, так как 360 лет — один из популярных циклов в мифологическом восприятии времени и истории.
В предании упоминались соседние кишлаки, с которыми у ошобинцев были особые отношения. Это Алмас, Каркидан, Кара-хитай191, Лашкарак, все они сейчас находятся на территории Узбекистана: первые два — на территории Наманганской области, а остальные — в Ангренском районе Ташкентской области, за пределами Ферганы, на другой стороне Кураминского хребта. Еще одна интересная деталь: конфликт мерганов (ошобинцев) с пангазцами, то есть жителями соседнего кишлака Пангаз, который является одним из самых больших селений в Аштском районе. Только в одном рассказе этот конфликт переводился в этническую классификацию — как конфликт узбеков и таджиков (Пангаз населяют таджики, или ираноязычное население192). Правда, это была единственная версия, где при упоминании пангазцев и ошобинцев были добавлены определения «таджик» и «узбек». В остальных, многократно услышанных мной рассказах национальность никак не фиксировалась, а заменялась локальной принадлежностью. Ссылка на Турцию в этом контексте также не была случайной, а служила своеобразным объяснением прежнего самоназвания ошобинцев — турк (тюрк), которое фиксировали в том числе архивные источники конца XIX века193. Жители Ошобы противопоставляли себя не только ираноязычному населению, но и местным тюркоязычным группам, которых называли элат, то есть племена, — так в Фергане, в частности, называли кочевников и полукочевников (ответной кличкой в адрес ошобинцев было «маджары»)194.
Мы видим, следовательно, что исторический нарратив ошобинцев имел мифологические элементы, привязку к местной географии и что в нем отсутствовала какая-либо ясная национальная классификация. При этом я хотел бы отметить: все сказанное не означает, что этот нарратив никак не соотносился с реальными событиями прошлого. В памяти людей оставались многие действительные факты, которые получили мифологическую и локальную обработку и в таком виде сохранились.
В одном из рассказов прозвучало, что Ошоба была основана в 1658 году195. Автор никак не объяснил, откуда взялась такая точная дата, но она, видимо, очень близка к реальности. В XVI–XVIII веках долина Ангрена и Кураминские горы были ареной многочисленных стычек между различными воинственными группами, которые претендовали на власть в Ферганской долине и в Ташкенте. Среди них были войска Шейбанидских и потом Аштарханидских правителей, казахских султанов, отряды местных племенных вождей и разного рода наемников196. Боевые действия сопровождались перемещениями населения, изгнанием одних жителей и переселением на их место других, поэтому появление в одном из ущелий военного отряда и его силовая попытка утвердиться здесь выглядят в ошобинском предании вполне правдоподобно.
В начале XIX века жители Кураминских гор не только «славились» грабежами караванов, которые шли из Ташкента в Фергану и обратно, но и активно участвовали в междоусобицах. Так, Кураминские предгорья оказались в эпицентре военных действий между кокандским правителем Алимханом и ташкентским правителем Юнус-ходжой. Последний вторгся через Кураму и прошел от Камыш-кургана до Гурум-сарая, где потерпел поражение от кокандцев197. Вскоре после этого Алимхан в очередной раз вторгся через Кураму в ташкентские владения. В это время в Коканде власть захватил его дальний родственник Омар, поэтому Алимхан решил вернуться в Фергану: «перевалив через Кендыр-Даван198, хан узнал о том, что <…> его поджидают в засадах пангазцы, поставленные здесь Омаром и считавшиеся в то время лучшими в Фергане стрелками и охотниками [курсив мой. — С.А.]»; Алимхан, чтобы избежать засады, через горы вышел к Камыш-кургану, а потом — правым берегом Сырдарьи — к Ак-джару; когда он перешел через реку, то был схвачен и убит199. Хотя в данном эпизоде упоминаются пангазцы, но это, конечно, обычное для того времени перенесение названия крупнейшего населенного пункта — в данном случае Пангаза — на население целого района.
Одной из любопытных деталей является, в частности, прозвище «мерган» (стрелок), которым именовались первопоселенцы Ошобы. Жители кишлака, опираясь на современное значение этого слова в узбекском языке, часто объясняли его тем, что их предки были охотниками. Однако кто-то из информаторов помнил, что мерганами называли воинов в составе кокандской армии. Они были вооружены стрелковым оружием и имели существенные льготы — освобождение от налогов200. Есть свидетельства, что в 1830—1840-х годах в охране кокандского хана было особое подразделение под названием қирқ-мерган, то есть сорок мерганов201. Неожиданно возникшие в другом, реально-историческом контексте «сорок стрелков» наводят на мысль, что ошобинцы могли быть как-то причастны к этому военному подразделению и уже потом переосмыслили данный факт как историю происхождения Ошобы.
В начале 1870-х годов все Кураминское предгорье входило в состав отдельного Бабадарханского бекства, которое подчинялось наманганскому наместнику202. Основными источниками доходов здесь были пограничные торговые сборы и выработки соли недалеко от Камыш-кургана. Плодородной земли здесь было немного, поэтому жители занимались разного рода кустарными промыслами (Ошоба, в частности, славилась своими коврами и паласами, которые ткали женщины), кто-то уходил в отходничество. Немалая часть местного населения служила в кокандской армии, поскольку солдатские хозяйства освобождались от выплаты основных налогов. Видимо, именно экономическая скудность сформировала у населения такие качества, как воинственность и умелость в военном деле. Постоянные войны в регионе закрепили эти качества, сделали военную карьеру обычной практикой.
Завоевание Ошобы в местной версии
Рассказы о завоевании Ошобы русскими я услышал сразу после истории о происхождении кишлака. Вот как выглядел один из них:
Русские воевали с ошобинцами несколько раз. Первый раз (первая война): они пришли со стороны Шайдана — ошобинцы победили (было убито 247 русских) благодаря тому, что с тыла к русским зашла Онор-холя (Онор-пансад203) с отрядом девушек-воинов (женщины-ошобинки тоже умели тогда стрелять). Второй раз (вторая война) и третий (третья война) обороной Ошобы руководил Курбаши-бобо (было убито 400 и 150 русских). Курбаши-бобо служил в армии Худоярхана и занимал там высокую должность — он служил, в частности, в Туркестане (поэтому своего сына назвал Султан204). В подчинении Курбаши-бобо были Ходжамурот, мулла Пинез (его сын — мулла Эгамберды, его сыновья мулла Холимбой Эгамбердиев и мулла Саттар Эгамбердиев), Сафар-мерган, Эшмат-пансад (вообще около 400 ошобинцев служили в армии Худоярхана). Только в 1877 году ошобинцы (по совету мулл и ишанов205) решили заключить мир с русскими: из Коканда приехали русский генерал (с татарином-переводчиком) и какой-то кокандский мулла. Договор был заключен с условием, что жители Ошобы освобождаются от выплаты налогов (якобы ошобинцы не платили их царю вплоть до 1917 года).
В рассказах других ошобинцев эта история выстраивалась вокруг фигуры Онор-пансад:
В местечке Бой-тула была одна семья, в которой жила Онор. Однажды пришли сюда русские и схватили ее отца, стали пытать — намотали ему тесто на голову, как салла [головной убор в виде платка, который обматывают вокруг головы], и стали сверху заливать горячим маслом. Онор, увидев это, схватила шашку у русского солдата и ударила солдата, сказав: «Зачем вы мучили моего отца, лучше бы так же ударили его шашкой и он не мучился бы, умер сразу». Солдаты схватили ее за руки, хотели ударить, но Онор вцепилась зубами в горло солдату, как волчица [в местном произношении қоришқи, в литературном варианте — қашқир]. После этого ее стали звать Онор-волчица. Она собрала двадцать девушек, обучала их ездить на лошадях и стрелять, основной их лагерь был чуть выше Ошобы.
Однажды разведка сообщила, что русские солдаты пришли и расположились отдыхать в саду на другом берегу Ошобы-сая, напротив кишлака. В это время из Даханы206 пришли сорок джигитов-мерганов помочь ошобинским, сказали, что они сами будут воевать, а ошобинцы пусть помогут им, если у них сил не хватит. Онор ночью пришла со стороны Бой-тула со своим отрядом и стали стрелять с другой стороны в русских. Солдаты вышли на открытое место, а в это время мерганы из засады всех их убили. Осталось только трое русских, они ушли в Наманган, оттуда вернулась комиссия, и был установлен договор с ошобинцами: чуть ниже Ошобы, в месте, где росла береза, провели границу — ниже нее должны были управлять русские, а выше должна была смотреть Онор. Ошобу освободили от налогов.
На первый взгляд перед нами, если вспомнить донесения военных и вообще весь ход событий, описанный много раз различными историками, — совершенно выдуманная история, не имеющая никакого отношения к реальности. Три войны с русскими, три безуспешные попытки последних захватить Ошобу — это явная дань мифологической логике повествования. Одно только количество убитых российских солдат в два раза больше всей численности Акджарского отряда, руководимого Пичугиным, который писал о трех убитых со стороны нападавших во время штурма Ошобы 18 ноября 1875 года. Однако вспомним, что российские офицеры и генералы тоже любили преувеличить цифры потерь неприятеля, в чем их упрекнул Терентьев, и что написанному в донесениях и исторических повестях надо верить с осторожностью, делая поправки на самые разные объективные и субъективные обстоятельства. Историю, которую рассказал местный житель, разумеется, нельзя назвать изложением действительных фактов, как и легенды о происхождении Ошобы, но она являлась переработкой и переосмыслением реальных событий с использованием доступных средств выражения — локальной мифологии, локальных знаний и локальных классификационных схем.
Самое удивительное, что версия о разгроме русских в Ошобе сложилась, судя по всему, не задним числом, а уже в ходе самих военных действий. В одном своем послании Кауфману от 28–29 октября, то есть за три недели до сожжения кишлака Пичугиным, командир Наманганского отдела Скобелев сослался на следующее сообщение другого военного — Бекчурина207:
Сообщаю Вам об одном известии, полученном мною, не придавая [ему] особого значения. Вчера, говорят, высланы из Коканда до 2 тыс. человек при 9 орудиях на Ак-Джар и что Мулла-Кушай, с партиею в 500 человек, намеревается будто бы действовать против Санга. Такое новое возбуждение коканцев вызвано, как передают мне, распространившимся в Коканде слухом о том, что русские, находившиеся в Ашабе, все уничтожены. Мне передавали также, что вся эта толпа выслана из Коканда насильно; не желавших идти били палками.
В данном случае не совсем ясно, как такие слухи могли возникнуть и какие были для них основания, никакие другие источники этого не поясняют. Возможно, действительно было несколько боевых столкновений между ошобинцами и российскими отрядами, которые не нашли отражения в донесениях (поскольку все противники были для российских военных на одно лицо и они не различали их ни по месту проживания, ни по статусу, ни по каким-то другим признакам). Однако тот факт, что зафиксированные уже российскими свидетельствами слухи совпадают с рассказом, услышанным мной 150 лет спустя, говорит о том, что последние закреплялись в народной памяти и становились частью восприятия прошлого.
Есть данные об активном участии ошобинцев в боях против русских и после ноябрьского погрома208:
Из всех собранных мною сведений во время движения отряда оказывается, что на том [левом] берегу с начала января [1876 г.], когда стала Дарья [Сырдарья], появились вооруженные шайки, пребывающие главным образом в кишлаках: Джан-Туде, Бахмале, Томаше, Джан-Джане, находящихся против переправы Чиль-Махрам; главные предводители этих шаек: Тана-Берды, бывший мулла в сел. Ашаба — Ахмет-Удайчи [придворный чиновник, который сопровождал хана, принимал челобитные от населения и докладывал о них], Олимкул и Иш-Магомет-Байбачи [буквально «сын бая», употребляется также для обозначения принадлежности к богатой, уважаемой семье]; последний, по некоторым сведениям, будто бы выбран самим Пулат-ханом <…> Шайки эти преимущественно составлены из киргизов горных кишлаков и жителей Курамы; принимают же участие в них и жители кишлаков, лежащих противу упомянутой переправы. Цель всех этих шаек — добывать себе силою всякого рода продовольствия и грабеж.
А вот другой документ, датированный январем 1876 года209:
Господину Начальнику Наманганского отдела
Рапорт
Начальник Ак-джарского и Чустского соединенных отрядов, полковник Барон Меллер-Закомельский, при посещении в декабре месяце прошлого года пригорных кишлаков вверенного мне участка, захватил четырех жителей мятежного кишлака Ашабы и препроводил их ко мне для заключения под стражу, впредь до распоряжения Вашего Превосходительства. Не получая до настоящего времени распоряжения по сему делу, я имею честь испрашивать указаний Вашего Превосходительства, как поступить с заключенными ашабинцами.
Другими словами, разгром Ошобы в ноябре вовсе не привел к прекращению сопротивления. Ошобинцы продолжали участвовать в боях против российских войск и продолжали создавать собственную историю своих побед и подвигов.
В местных рассказах о завоевании кишлака много других конкретных деталей — даты, названия мест, цифры, имена, упоминание генерала и его переводчика-татарина. Даже упоминание о соглашении 1877 года и отмене налогов похоже на правду: завоеватели установили свою власть в Фергане в начале 1876 года и уже в следующем году стали организовывать сбор налогов с завоеванной территории210. В 1880 году Кауфман ввел в действие в Ферганской области свой проект об управлении, который включал в себя, в частности, государственную подать, существенно более низкую, чем налоги, собиравшиеся прежней, ханской властью. В локальном нарративе этот факт переосмыслен и представлен как договор русских с Ошобой.
Некоторые такого рода детали говорят о том, что устное повествование, записанное мной, не является современной выдумкой. Датировать его сложно, но в нем чувствуется знание досоветской ситуации, нынешними жителями уже утерянное, поэтому вполне можно предположить, что этот рассказ возник где-то в конце позапрошлого или начале прошлого века и передавался устно от одного поколения к другому211. Поразительно, что он сохранился до нашего времени и, не имея широкой аудитории, тем не менее продолжает жить, вопреки массе написанной учеными и идеологами литературы.
Однако вопрос не только и не столько в том, когда был создан этот рассказ. Ясно, что перед нами не исторический источник — в нем слишком много мифологических искажений. Но мифология в данном случае — это элемент того оригинального локального нарратива, который не вписывается ни в имперские рамки, ни в национальные. Его мифологичность противостоит идеологичности последних. Локальный нарратив создает свою собственную историю со своими действующими субъектами, своими этапами и своими смыслами, приписываемыми происходящему.
В локальной памяти не было завоевания Ошобы, а, наоборот, удивительным образом ошобинцы оказывались даже в каком-то смысле победителями русских, вынуждая последних принять условия мира. Рассказчик называл огромные цифры (в первом случае с точностью до человека!) потерь среди российских солдат и ничего не говорил о потерях среди местного населения, они совершенно не беспокоили его и не осознавались в качестве травмы. Причем у него не было не только сочувствия к потерям со стороны российских войск, но и упреков в их адрес за собственные потери. В рассказе подчеркивалось также, что после сражений стороны вели переговоры и пришли к согласию, заключив взаимовыгодный договор.
В нарративе совершенно отсутствовала темы жертвенности. Акцент был сделан скорее на том, что среди ошобинцев многие служили в регулярных кокандских войсках, поэтому их участие в боевых действиях было вполне закономерным. Подразумевалось, что они выполняли свой военный долг, подчинялись приказу вышестоящих начальников.
В этом рассказе никак не отражалась какая-либо национальная классификация, и только в самом конце упоминались муллы и ишаны, что придавало рассказу мусульманскую окраску. Не было в локальном нарративе понятия родины и вообще какой бы то ни было отсылки к более широкому сообществу — существовал только мир Ошобы, который и определял конечный горизонт для рассказчика.
Для локального нарратива прежде всего были важны имена конкретных людей, их титулы и прозвища, было важно, кто является их потомками. Я бы хотел обратить внимание на то, как подробно в рассказе говорилось о женщинах, которые участвовали в сражениях, и их предводительнице Онор-пансад. Напомню, что Пичугин тоже с нескрываемым удивлением писал, что женщины в Ошобе оказывали отчаянное сопротивление, но только в его донесении это были анонимные и неорганизованные местные жительницы. Вслед за Пичугиным о том, что «даже женщины считали для себя позором покоряться врагу», писал ташкентский журналист Абдуллаев, который видел в этом факте уже не фанатизм, а доказательство любви к свободе и ненависть к врагу. В локальном же нарративе говорилось об организованном женском военном отряде, и это выглядело скорее нормой, чем аномалией. Можно, наверное, сказать, что подчиненные, повествуя о войне с русскими, совершенно по-другому видели и оценивали роль женщины в обществе, не приписывая ей заведомо униженного и второстепенного положения и в то же время не превращая ее в особый объект символического поклонения212.
* * *
В своем исследовании я стремлюсь заново поставить вопрос о том, как изучать очень острую и спорную в политическом отношении тему подчинения Россией Среднеазиатского региона, особенно момент непосредственно завоевания и включения его в сферу российского — и, шире, европейского — влияния, который часто вызывает желание превратить объяснение в оправдание или обвинение. Я пытаюсь отстраниться и от имперского нарратива, и от национального, для чего использую помимо традиционных источников (письменных свидетельств современников тех событий) местные устные воспоминания, конструируя с их помощью как минимум еще одну сторону или еще один взгляд на прошлое. Я хочу показать, что выбор не ограничивается лишь двумя возможностями. Третья позиция открывает новое проблемное поле, позволяет иначе увидеть контекст и обстоятельства произошедшего, задуматься о том, в каких формах прошлое продолжает жить в сегодняшнем дне, обратить внимание на то, каким образом и из чего формируются разные взгляды.
Имея перед глазами все позиции и по очереди обозревая их, хочу в заключение зафиксировать два наблюдения. Первым и вполне очевидным выводом из проделанного анализа может быть указание на то, что обе доминирующие точки зрения — имперская и национальная — на историю колониального присоединения Средней Азии подразумевают идеологически мотивированные умолчания и преувеличения, иногда даже приводят к искажениям фактов в угоду идеологическим предпочтениям. В форме ли докладных записок, публицистических новелл или научных работ — создатели обоих нарративов одинаково предвзято описывают прошлое, руководствуясь заранее заданными схемой и симпатиями. Разумеется, я не утверждаю, что локальная версия истории завоевания Ошобы является наиболее аутентичной, точной и, соответственно, привилегированной по сравнению с другими. Напротив, эта версия возникла и сохранилась при вполне конкретных, в том числе политических, условиях. Она содержит собственные ограничения, искажения, мифологию и стереотипы. Однако весь смысл признания локальной версии состоит не в том, чтобы обнаружить наконец настоящую правду, а в том, чтобы показать — таких правд может быть много и ни одну из них нельзя считать само собой разумеющейся. Поставленные же в один ряд, они более отчетливо демонстрируют свою относительность и ангажированность.
И второе наблюдение: полное господство той или иной версии невозможно. Даже если тот или иной нарратив становится доминирующим в публичном пространстве, это вовсе не означает, что он обязательно полностью вытесняет другие нарративы из индивидуальной и коллективной памяти. Все три версии продолжают сосуществовать — в разных комбинациях и в разных контекстах. Каждая из них занимает свою нишу, обращена к своей аудитории, апеллирует к определенной самоидентификации, к определенному пониманию личных или групповых интересов. Каждый нарратив имеет свои места и способы хранения, свои ритуалы и практики исполнения/воспроизводства. Отдельно взятый человек в той же Ошобе способен вполне бесконфликтно воспринимать и повторять разные версии истории, иногда даже смешивая их друг с другом, в зависимости от того, где он находится, с кем и в какой обстановке общается. Слушая то, что говорят по телевизору, читая газеты и книги, учась в школе или находясь на каких-нибудь мероприятиях, где звучат официальные речи, он заучивает рассказы, составленные профессиональными историками и политиками и повествующие о жестокости противника и непримиримости сторон. В семейном же кругу, во время застолья и других обычных посиделок, в разговорах с гостем, который интересуется ошобинским прошлым, тот же самый человек неожиданно вспоминает истории об удивительной женщине Онор и русском генерале, приехавшем заключать мир с храбрыми ошобинцами.
Очерк второй КУРБАШИ
За боевые подвиги при разгроме ряда крупных басмаческих отрядов, действовавших на территории Наманганского уезда, комбриг В. А. Синицин был награжден орденом Красного Знамени. Синицин готовился к выезду в Москву, получить высокую награду из рук Михаила Ивановича Калинина. Но выехать туда ему не удалось. Басмаческие шайки Рахманкула, Баястана, Султана и Дадабая в горном ущелье Чадак-Су окружили один из полков второй дивизии. В неравном бою погиб командир полка <…>
Свободных от дела воинских частей не было. Комбриг сформировал полусотню из писарей, телефонистов штаба и хозкоманды и выступил в Гурум-Сарай; там взял батальон пехоты и устремился на выручку окруженного полка. Приказав батальону двигаться по дороге на кишлак Чадак, комбриг с полусотней бойцов форсированным маршем пошел вперед к зимовке Ханабад. Но его обнаружили басмаческие разведчики и донесли Рахманкулу. Враг устроил в зимовке засаду. Когда бойцы подошли вплотную к дувалам, по ним открыли сильный огонь, сразив первым же залпом половину отряда <…>
С остатками отряда Синицин укрылся в караван-сарае и занял круговую оборону, в надежде продержаться три-четыре часа, пока подойдет батальон пехоты.
Но батальон в Ханабад не прибыл, и вот почему: воспользовавшись полевой сумкой убитого адъютанта комбрига, белогвардейский офицер Войцеховский, находившийся при банде Рахманкула, сфабриковал предписание комбригу, подделав подпись Синицина, направил батальон в горы, в противоположную сторону.
— Товарищи! — услышали бойцы голос комбрига, — будем обороняться, берегите патроны. Гранаты метать только по скоплениям басмачей. Надо продержаться часа три <…>
Рахманкуловцы вели огонь из-за дувалов и с крыш кибиток. Вдруг, словно по команде поднялся страшный крик и вой, стрельба усилилась и сразу же со всех сторон к стенам караван-сарая полезли озверелые толпы <…>
В течение дня басмачи бросались на приступ караван-сарая, но каждый раз откатывались с потерями <…>
В полночь на северной окраине кишлака слышались шум, громкие отрывистые крики и ругань. Затем откуда-то с высоты донесся властный гортанный голос. Стрельба со стороны басмачей сразу же прекратилась.
В тишине на чистом русском языке кто-то крикнул:
— Эй, там, в караван-сарае! Сейчас с вами будет говорить господин поручик Войцеховский!
Кто-то из бойцов выстрелил на крик. Потом забасил Войцеховский:
— Красноармейцы и вы, господин штабс-капитан Синицин! По поручению курбаши Рахманкул-бека к вам обращается офицер русской армии. Рахманкул-бек дает вам на размышление пятнадцать минут. Если вы сложите оружие, он обещает сохранить вам жизнь, а желающих примет в свою армию!
— Гранату! — шепнул Синицин <…>
Сбросив шинель, комбриг вырвал чеку и с силой метнул гранату на крышу противоположного дома, откуда доносился голос Войцеховского. В стане басмачей закричали, раздались хлопки выстрелов. Голоса Войцеховского больше не было слышно.
Подгоняемые курбаши, басмачи вплотную облепили караван-сарай и, выкрикивая «Алла-а, Уу-ур!», полезли на стены. Две атаки отбили гранатами, но запас гранат у красноармейцев иссяк. Басмачи проломали стену в конюшне и ворвались во двор.
— Отходить в кибитку! — приказал комбриг и схватился рукой за плечо, пуля пробила левую ключицу <…>
Забаррикадировав окна и дверь сундуками, кошмами, седлами и другим хламом, оказавшимся в кибитке, бойцы приготовились к бою… Комбриг окинул взглядом товарищей. С ним оставалось всего четырнадцать храбрецов: два из них тяжело и один легко ранены, остались две гранаты и по двадцать патронов на винтовку. Наган с семью патронами Синицин держал для самого критического момента. Люди сутки не ели, не было воды, хотели пить, но об этом смертельно усталые бойцы молчали…
Время шло мучительно медленно. Синицин прилег в углу <…> Комбриг лежал с закрытыми глазами. Вдруг он тихо запел:
«Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает…
Врагу не сдается наш гордый „Варяг“,
Пощады никто не желает…»
Басмачи не стреляли, решив, очевидно, что перед смертью русские поют молитву.
Вскоре в комнате запахло дымом. Басмачи набросали на крышу сухой клевер и, обложив заднюю стенку янтаком и колючкой, подожгли.
— Товарищи коммунисты! Подсаживайтесь поближе, проведем партийное собрание, — вдруг взволнованно объявил Сомов.
— Ты что, Сомов? — спросил Синицин.
— Решил, товарищ комбриг, провести, может быть, последнее партийное собрание!
— А… ну что-ж. Я, как беспартийный, отодвинусь в уголок…
— Не отодвигайтесь, товарищ комбриг. О Вас будем решать вопрос.
— Обо мне?! — приподнимаясь, спросил Синицин и внимательно посмотрел на Сомова.
К секретарю партячейки подсели еще два коммуниста.
— Товарищи! На повестке дня один вопрос: прием комбрига Синицина в нашу славную Коммунистическую партию…
Приподнявшись, Синицин облокотился о стенку и смотрел на Сомова, а тот продолжал:
— Полгода назад мы не приняли его в партию… Это была очень досадная и грубая ошибка. Мы плохо знали своего командира бригады. Теперь всем ясно, чтó представляет собой Василий Алексеевич Синицин! Я предлагаю принять его в Коммунистическую партию.
— Правильно! — поддержал Мезенцев.
— Правильно! — согласились все коммунисты.
— Кто за то, чтобы комбрига Синицина принять в Коммунистическую партию, прошу голосовать, — предложил Сомов.
Все четыре коммуниста подняли руки.
— Синицин Василий Алексеевич принят в партию единогласно. Собрание считаю закрытым, если живы будем, оформим… — закричал Сомов и тише добавил, — если выберемся из этой западни <…>
Синицин растроганно обнял Сомова и сказал:
— Спасибо, друзья, за доверие, умереть коммунистом будет легче!
За углом караван-сарая басмачи сложили несколько кучек сухого клевера и старые ватные одеяла, подожгли их и шестами стали подвигать к окнам и двери.
Камыш на крыше воспламенился. Загорелась терраса, дверь. Кибитка наполнилась удушливым дымом, бойцы задыхались, особенно страдали раненые. Синицин, протерев глаза, заглянул в бойницу. Двор наводнили басмачи <…>
— Товарищи! — обратился комбриг к бойцам. — Мы честно выполнили свой долг. Единственное, что нам осталось, подороже отдать свою жизнь…
— Коммунисты, вперед! — Комбриг ударом ноги выбил обгоревшую дверь и первым выскочил во двор, вскинув руку с последней гранатой.
Одиннадцать бойцов метнулись за ним с винтовками на перевес. Комбриг бросил гранату и с криком «Ура-а!» ворвался в самую гущу басмачей, разя их клинком <…> Вырвавшаяся из огня и дыма горстка храбрецов в окровавленных повязках привела басмачей в панический ужас, они с воплями «алла-а» кинулись к раскрытым настежь воротам. Но в это время в обширный двор караван-сарая ворвался с «янычарами» Рахманкул. Он приказал растерзанных воинов бросить в горящую кибитку.
Часа через три к месту боя из Коканда прибыл кавалерийский дивизион. Дивизион окружил и нанес поражение банде Рахманкула.
Обугленные трупы героев-синицинцев нашли в сгоревшей кибитке. Останки Синицина, бережно уложенные в наспех сколоченный гроб, доставили в Коканд. С воинскими почестями, под артиллерийский салют, похоронили в Кокандском парке героя Гражданской войны — комбрига Василия Алексеевича Синицина, и рядом с ним похоронили его боевых друзей.
Это весьма красочное описание одного из эпизодов борьбы с антисоветским сопротивлением в Средней Азии в 1918–1923 годах, известным как басмаческое движение, я нашел в рассказе Сергея Калмыкова «Комбриг Синицин», который был опубликован в 1963 году в сборнике «За Советский Туркестан»213. Автор — участник этой борьбы, член Особого отдела (специальный орган в войсках, подчинявшийся ВЧК) дивизии, в будущем работник НКВД Узбекской ССР — анонсировал свой рассказ («волнующий очерк старого чекиста», по характеристике в предисловии к книге) как воспоминание.
В 1950—1970-е годы жанр таких воспоминаний стал необычайно популярным и даже потеснил академические исторические исследования. В это же время рос весьма своеобразный интерес советской публики к романтике Востока и Гражданской войны, где, возможно, многие искали какую-то утерянную в сталинские годы истину. Именно на это время пришелся расцвет советских «истернов» — приключенческих фильмов о борьбе с басмачеством, в которых советская риторика легко соединялась с ориенталистской экзотикой и разбавлялась трюками каскадеров, мужественными лицами героев и крылатыми фразами вроде «Восток — дело тонкое». Фильмы «Белое солнце пустыни» (1969, режиссер В. Мотыль), «Седьмая пуля» (1972, режиссер А. Хамраев), «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974, режиссер Н. Михалков) приобретали миллионы поклонников и вытесняли в сознании людей прежние любимые образы — Чапаева и Максима214.
История гибели комбрига Синицына (Синицина)215 принадлежала к той же ностальгически-кинематографической проекции (имевшей к тому же коммерческий успех) настроений позднего социализма на романтическое раннесоветское прошлое. Подозрение, что Калмыков не столько вспоминал, сколько придумывал, откликаясь на эти настроения, возникает уже во время чтения написанного им текста. Вместо сухого изложения событий мы видим довольно художественное описание, с диалогами и даже размышлениями героев повествования. Первый и самый естественный вопрос: если все участники боя в караван-сарае погибли, то откуда известно, чтó они говорили и делали?
Однако помимо художественного вымысла, возможно и неизбежного в любых воспоминаниях, в рассказе Калмыкова есть сведения, которые не подтверждаются другими источниками. Например, в рассказе местного ферганского жителя Расулджана Мадаминова, опубликованном в 1957 году в сборнике «В боях за Советскую власть в Ферганской долине», мы находим такую историю216:
В 9 км от Ашабы главарь другой басмаческой банды Рахманкул построил крепость. Она находилась среди гор и была почти неприступной. Секретные малоопасные подходы к крепости были известны только нескольким ближайшим его соратникам, а также влиятельным баям Ашабы. Рахманкул имел большие запасы военного снаряжения и продовольствия, достаточные в случае войны на три года. Банда насчитывала более 1500 человек и была вооружена английскими винтовками. Ближайшими помощниками были пять его братьев. В 1921 г. против Рахманкула вышел отряд красноармейцев в количестве 65 бойцов. После упорного боя они остановились на ночлег в мечети Ашабы. Ночью банда Рахманкула окружила мечеть и сожгла ее. Все 65 красноармейцев, героически защищаясь, погибли от рук палачей.
В августе 1922 г. штаб Туркестанского фронта бросил против Рахманкула крупные военные силы <…> Бои между советскими войсками и бандой Рахманкула продолжались 16 суток. Наконец банда Рахманкула была разгромлена. Большую помощь советским войскам оказали местные жители Ашабы, которые показали красноармейцам секретные подходы к крепости. В этих боях принимала участие авиация. После ожесточенных кровопролитных боев Рахманкул покинул крепость и скрылся. В октябре 1923 г., поняв безвыходность своего положения, он с 40 джигитами и 4 палачами сдался советским войскам.
Это слишком краткий рассказ, но история о том, как курбаши Рахманкул сжег красноармейцев, скорее всего, была основана на тех же событиях, о которых написал Калмыков. Правда, они происходили не в Ханабаде (это кишлак в Наманганской области нынешнего Узбекистана, на границе с Аштским районом Таджикистана), а в Ошобе; красноармейцы, которых было не пятнадцать, а шестьдесят пять, гибли не в «кибитке», а в мечети, и к тому же ни слова не было сказано о комбриге Синицыне. Что еще бросается в глаза в этом рассказе — явный интерес к Рахманкулу, к тому, как было организовано его войско, как построена его крепость, как он со своими сторонниками упорно сопротивлялся Красной армии. Даже упоминание сорока бойцов-джигитов, явно мифологического числа217, придавало фигуре Рахманкула ореол легендарности, несмотря на дежурные фразы о палачах и банде (которые могли быть вставлены редактором книги). Автор воспоминаний сам был на стороне Красной армии и участвовал, как он писал, в боях с войском Рахманкула, но тем не менее с позиции местного жителя он помнил, точнее, оценивал историю явно иначе, чем это делал Калмыков.
Следующую, более подробную версию этих событий можно найти в том же сборнике воспоминаний «В боях за Советскую власть в Ферганской долине» у другого участника борьбы с басмачеством — Арменака Арутюнова218:
Однажды, когда мы стояли в Намангане, наш Кокандский крепостной и Наманганский эскадроны получили приказ выступить в кишлак Ашава. Мы выехали под командованием командира кавалерийской бригады т. Ушакова.
По приезде в Ашт Ушаков, собрав комсостав, объяснил, что в Ашаве идет крупный бой против басмача Рахманкула, бой ведет горная бригада Синицына. Мы немедленно выехали на помощь Синицыну, горная бригада которого была окружена в Ашаве бандой Рахманкула и его брата.
Кишлак Ашава, расположенный в горах, состоял как бы из двух частей — верхней и нижней. В нижней части располагались бойцы Синицына, верхняя часть была в руках басмачей. Мы шли без остановки всю ночь. На рассвете наш передовой отряд достиг первых басмаческих позиций. Бой шел в самом кишлаке. Жителей не было видно.
Басмачи почти вытеснили бойцов Синицына из кишлака; небольшая часть бригады вместе с командиром осталась в окружении. Нам было трудно подойти к кишлаку, так как он был плотно оцеплен басмачами. Их было больше 1500 человек. Мы решили пройти в кишлак обходным путем, соединиться с Синицыным с левой и правой сторон. Когда наконец мы с боем пробились в кишлак, басмачи, видя, что ситуация изменилась, были вынуждены оттянуть свои войска с нижней части кишлака в верхнюю. Превратив в крепость каждый дом, басмачи сопротивлялись очень упорно. Шаг за шагом, с большими потерями освобождая переулки и улицы, мы добрались до смельчаков из горной бригады.
Комбриг Синицын был уже убит. Его тело охраняли 12 красноармейцев. Они засели в трех домах, находившихся почти в центре кишлака, и, несмотря на то, что были со всех сторон окружены бандитами, в несколько раз превосходившими их в числе, отчаянно боролись, не желая отдавать трупа своего командира на поругание басмачам. Вражеское кольцо, однако, было настолько плотным, что красноармейцы не смогли вырваться из окружения и вывезти тело Синицына. Видя, что красноармейцы не сдаются, басмачи облили одеяло керосином, подожгли его и бросили во двор дома, в котором укрывались красноармейцы. Загорелась часть дома. Красноармейцы не сдавались — бились до последнего патрона. Освобождая дом за домом, мы подошли к дому-крепости, в которой укрылись 12 красноармейцев, и освободили их. Оказалось, что они сражались уже несколько дней, не имея ни пищи, ни воды (по двору этого дома протекал арык, но красноармейцы не имели возможности им пользоваться, так как басмачи запрудили его).
Мы продолжали бой. Наши красноармейцы показывали чудеса храбрости: захватить очередной дом — значило вести настоящее сражение. Наконец, в результате беспрерывных трехдневных боев нам удалось очистить кишлак от басмачей. С большими потерями басмачи отступили в горы и направились в Баба-Яб219.
Как только бой прекратился, мы с почетным караулом отправили полуобожженное тело Синицына в Коканд. Он был похоронен в городском сквере.
В этом рассказе речь шла тоже о бое в Ошобе, как и у Мадаминова220, но при этом некоторые существенные детали совпадали с «воспоминаниями» Калмыкова. Прежде всего, говорилось именно о Синицыне и двенадцати красноармейцах (у Калмыкова их четырнадцать), о том, что они забаррикадировались в кишлаке и отстреливались от нападавших на них со всех сторон басмачей, о том, что последние пытались поджечь дом, и о том, что именно в этом бою Синицын погиб, после чего был торжественно похоронен в Коканде. Впрочем, кроме места, где все это происходило, имелось и другое расхождение с версией Калмыкова — погибшим оказался только комбриг, а двенадцать его красноармейцев были спасены. В отличие же от Мадаминова, Арутюнов в своей памяти держал действия «наших красноармейцев», и его не очень волновали Рахманкул и вообще басмаческая сторона, хотя в его сухом изложении не было и каких-то уничижительных характеристик в их адрес, как у Калмыкова.
Рассказ Арутюнова по жанру очень напоминал донесение полковника Пичугина, который в ноябре 1875 года точно так же брал штурмом Ошобу221. Сходство этих двух текстов просто поразительное, хотя события 1921 года по масштабу и длительности были, безусловно, трагичнее событий полувековой давности. Мы читаем те же слова о каждом доме, который приходилось брать штурмом, о яростном сопротивлении противника и храбрости идущих в наступление222. Арутюнов видел произошедшее в 1921 году теми же глазами, что и Пичугин или имперский историк Терентьев, для которых жестокость победителей без всякого сомнения оправдывалась высокой целью и жертвами со стороны штурмующих. Словно под копирку имперского нарратива, Арутюнов прочитывал трагическую гибель советского командира как мученичество, служащее оправданием права наказать виновных. Торжественное захоронение большевика-мученика — очень популярный в раннесоветское время ритуал — символически закрепляло эту новую легитимность223.
Три истории, получившие в советское время официальный статус воспоминаний и прошедшие формальную цензуру, демонстрируют, таким образом, три вида памяти и три разных способа прочтения гибели Синицына от рук повстанцев, возглавляемых Рахманкулом. Все три версии противоречат друг другу, путают факты или явно их фальсифицируют, акцентируют разные детали и символы. Каждая версия отражает особенности личной биографии ее автора, особенности его мировосприятия, жизненного опыта, интересов и тактики вспоминания. Каждая история имеет свою логику, свой политический, исторический и культурный контекст — свою аудиторию, чаще предполагаемую, нежели реальную, к которой осознанно или неосознанно обращается тот или иной бывший участник борьбы за установление советской власти в Средней Азии. Рассказ Калмыкова эксплуатирует романтику большевистского мужества, у Мадаминова читатель может почувствовать восхищение силой противника, что увеличивает цену победы над ним, рассказ Арутюнова воспроизводит клише имперского завоевания. При этом все они остаются в рамках легитимного советского нарратива.
В самóм процессе вспоминания я вижу две тенденции. Первая — это стремление через память, через конструирование прошлого создать пространство общих значимых символов, поместить время в определенные координаты, которые диктовали бы разделяемые всеми смыслы, ценности, способы легитимации. 1917 год и Гражданская война, в нашем случае — борьба со среднеазиатским басмачеством, маркировались как важный временной разрыв, конец одной истории и начало другой. Обращение к личным воспоминаниям наполняло эти идеологические схемы живыми голосами и тем самым еще больше усиливало эффект сопричастности и сопереживания.
Вторая тенденция, которая особенно интересна для меня, — это желание самих людей встроить в пространство общих символов свои собственные представления, интересы, жизненный опыт и сделать их значимыми или по крайней мере принятыми обществом. Это происходило потому, что высшая власть, которая вроде бы имела безусловную возможность диктовать какую-то одну позицию, во-первых, сама не имела такой единственной позиции и постоянно пересматривала свои идеологемы, а во-вторых, была не в состоянии контролировать идеологические рамки исключительно с помощью репрессий и оказывалась вынуждена допускать или пропускать разные точки зрения в создаваемом дискурсивном пространстве, требуя взамен лишь выражения лояльности. Три рассказа, упомянутые выше, демонстрируют как раз такие разные попытки высказаться об одном из эпизодов Гражданской войны в Средней Азии в начале 1920-х годов.
Рассматривая версию событий со стороны тех, кто боролся с басмачами, и тех, кто приходил в Ошобу, чтобы установить свою правду о прошлом, закономерно задаешь себе вопрос: а что думают сами ошобинцы о тех событиях, как они помнят их? В первом очерке я уже писал о том, как разные нарративы конкурируют и сосуществуют, предлагая свое описание и свою интерпретацию событий 1875 года, когда Ошоба была взята штурмом и сожжена войсками царского генерал-губернатора. И тогда я обратил внимание читателей на то, что помимо имперского и национального нарративов, которые стремятся к доминированию, живет локальный нарратив — «подчиненная» история прошлого, рассказанная самими ошобинцами с местной точки зрения на окружающий мир. В данном очерке я собираюсь прислушаться к тому, как жители Ошобы говорят о периоде 1916–1922 годов, когда в кишлаке правил курбаши Рахманкул. Мне интересно, кем себя видел сам Рахманкул и каким его видели современники. Мне интересен также вопрос, как отсылка к Рахманкулу и принадлежности к его басмаческому войску служила инструментом местной политики после Рахманкула и как такая отсылка влияла на социальные позиции в Ошобе. Интересен, наконец, вопрос, как формируется в ошобинском сообществе собственное воспоминание о прошлом и как это воспоминание ищет способы своей легитимации. Данные, которые я собрал по этому поводу, заведомо неполны и противоречивы — но они позволяют, как мне кажется, проанализировать некоторые важные черты местной жизни.
Как стать курбаши?
В одном из документов 1922 года говорилось: «Рахманкул по происхождению — таджик [!!], совершенно неграмотный человек, бывший конный караульщик Ашабинской волости [!!], а затем помощник арычного аксакала. Очень хитрый и вероломный человек, ненавидит русских»224. В другой книге, написанной гораздо позже, Рахманкул превратился в «бывшего полицейского», что, конечно, выглядело гораздо более зловеще и красноречиво, чем караульщик225. В первом случае ошибки в определении национальности и в названии волости дополняли непривлекательные черты, какими они виделись тогдашнему советскому чиновнику, во втором случае социальная характеристика становилась главным обвинением и объяснением чуждости. Эти оценки вытекали из официально-негативного отношения советской власти к басмачеству и его лидерам.
Теперь посмотрим, как ошобинцы помнили биографию Рахманкула и оценивали его деятельность. В их глазах курбаши не являлся ни человеком, одержимым исключительно идеями борьбы с русскими или большевиками, ни чужаком в национальном или каком-то ином, социальном смысле. Будущий курбаши происходил из семьи Махмарозыка (Мухаммад-Розыка), или Абдурозыка, из Катта-Урта-махалли, который был, по одним воспоминаниям, обычным крестьянином, по другим — муллой. До 1917 года, по разным сведениям, Рахманкул работал охранником (қоровул) при ошобинском аксакале, выполнял обязанности почтальона, работал извозчиком в Намангане. Вспоминали также, что он хорошо играл в козлодрание-улак (улоқ), популярное состязание, которое демонстрировало физические качества молодого человека, делало его известным в селении и позволяло организовать команду — пока еще спортивную — сторонников226. К моменту, когда его имя стало известно, Рахманкулу было около 30 лет (Илл. 5).
Возвышение Рахманкула в различных воспоминаниях интерпретировалось по-разному. По словам ошобинцев, еще до революции на кишлак часто делал набеги некий басмач Умаркул из Коканда, поэтому однажды Рахманкул собрал людей в местечке Чинар-бува227 и предложил им организоваться для защиты Ошобы — это произошло где-то в 1914 году; постепенно он со своим войском разгромил все конкурирующие группировки басмачей в Бабадарханской и Аштской волостях и стал самым сильным военным лидером (Илл. IV). В этом рассказе популярность Рахманкула объяснялась интересами местного сообщества, необходимостью защиты последнего от чужаков и задачей борьбы с конкурентами. В историях о Рахманкуле упоминались, в частности, соперники из Пангаза (курбаши Аширмат), то есть из сообщества, выступающего, как мы помним228, в качестве локального «иного», отношения с которым становятся способом объяснения событий прошлого229. Я слышал в одном интервью, что отряд Рахманкула первоначально состоял из сорока человек — в данном случае это число было способом мифологического прочтения и легитимации событий. Один ошобинский житель, который считал себя коммунистом, в своем рассказе подчеркивал, что Рахманкул был из бедной семьи — он возглавил группу молодых людей, чтобы бороться с бандитами и защищать Ошобу, брал деньги у богатых и отдавал их бедным. Здесь мы видим уже идеологическую советскую риторику, с ее помощью Рахманкул, с которым советская власть боролась, неожиданно трансформируется чуть ли не в идейного сторонника большевиков.
Илл. 5. Рахманкул-курбаши, 1922 г., после ареста
Во всех этих трактовках Рахманкул вовсе не был изначальным противником колониальной власти. Последняя не могла в полной мере осуществлять полицейские функции, поэтому вынуждена была создавать в помощь «туземной» администрации постоянные или временные отряды из местного населения, которым поручала следить за порядком. В городах и крупных селениях именно с подачи этой самой колониальной власти были назначены курбаши (қўрбоши), начальники таких отрядов, получавшие официальное жалованье и подотчетные уездным начальникам230. Можно предположить, что молодой Рахманкул, происходивший из семьи, которая не имела много земли и скота, служил в таких отрядах, стараясь заработать на жизнь, и, возможно, поддерживал какую-то из ошобинских группировок, выполнял поручения сельского старосты и местных пятидесятников231. У него была, иначе говоря, довольно обычная для Ошобы биография.
Указ Николая II о наборе на фронт жителей Средней Азии (которые до этого были освобождены Александром II от обязанности военного призыва) от 25 июня 1916 года вызвал цепную реакцию восстаний и бунтов. Уже 4 июля произошли беспорядки в Ходженте. 17 июля, как свидетельствуют архивные данные, в селении Ашт толпа местных жителей напала на дом волостного управителя Мухаммад-Садыка Алимбаева, полностью разгромила и разграбила его, сожгла все списки о сборах налогов и другие документы. При этом были убиты брат и дядя управителя. Был убит также старшина сельского общества Верхний Ашт. В тот же день в соседнем селении Пунук жители напали на своего старшину и его писаря, избили их и сожгли дом старшины, был убит пятидесятник, который пытался уговорить толпу разойтись. Погромы произошли также в Джар-булаке, где был сожжен дом волостного управителя. Российская власть быстро отреагировала — были введены военные силы и арестованы десятки активных участников погромов232. Это позволило прекратить погромы и убийства, но не успокоило страсти — люди продолжали выражать недовольство233.
Хотя погромы, прокатившиеся по всему региону, затронули переселенческое русское население (особенно в Семиречье) и провели четкую границу между колониальной властью и местными мусульманами, главными пострадавшими в Ферганской области и Аштской волости были, как мы видим, вовсе не колонизаторы, а представители низового («туземного») чиновничьего звена и их родственники. Именно в руках последних оказались мощные инструменты давления — право составлять списки призывников и реквизировать имущество. Сложившийся баланс интересов и сил в разных общинах был нарушен, что вызвало насильственное сопротивление со стороны тех, кто чувствовал себя ущемленным. Указ царя спровоцировал, таким образом, серьезный раскол внутри общества — обострились старые противоречия между различными конкурирующими группировками и появились новые линии разлома и недовольства. Насилие вернулось в повседневную практику как способ решения проблем и накопления социального и материального капитала.
Я не видел документов, рассказывающих о каких-то столкновениях в Ошобе в 1916 году. По устным рассказам, Одина-аксакал, который, возможно, был сельским старшиной, спрятался во время волнений и остался жив. Но в сводках о происшествиях за апрель 1917 года я нашел такую запись234:
В доме жителя сел. Ашаба Аштской волости Мумынбая Абдувахиббаева произошел пожар, убытку пожаром причислено приблизительно на 2000 рублей. Заподозренные в поджоге жители сел. Ашаба Тешабай Курбан-Назаров и Каюмбай Ашур-Мухамедов сданы на поруки.
Эта вроде бы обычная уголовная заметка несет в себе важную информацию. Дело в том, что упомянутый в ней Мумынбай Абдувахиббаев — это Муминбай-аксакал Абдувахидов, бывший пятидесятник и затем сельский старшина Ошобы. Вполне возможно, что поджог его имущества тоже имел характер нападения на представителя власти или был местью за какие-то его поступки.
Есть все основания утверждать, что в 1916–1917 годах в Ошобе разгорелась ожесточенная борьба за власть и лидерство. Ошобинцы вспоминают, что отец упомянутого Муминбая — Абдувахид-хаджи, самый зажиточный ошобинский скотовладелец, будто бы ненавидел Рахманкула и что именно он подговорил кокандского Умаркула убить его, из-за чего Рахманкул вынужден был в течение полугода скрываться в горах. Правда, когда последний собрал отряд для защиты, то не тронул Абдувахида и его сыновей, потому что они были богатыми и помогали содержать воинов. Более того, дочь Муминбая вышла замуж за Каримкула, брата Рахманкула. По всем воспоминаниям, Муминбай-аксакал оставался достаточно самостоятельной фигурой — и Рахманкул, и советские начальники пытались привлечь его на свою сторону, пока шли боевые действия. В некоторых семейных историях упоминалось, что Муминбай мог отстаивать перед Рахманкулом какие-то свои интересы, ограждать своих родственников от участия в военных действиях.
Были у Рахманкула и другие соперники. Местные истории гласили, что еще в самом начале деятельности Рахманкула, когда отряд самообороны только организовывался, на роль ошобинского лидера претендовал Джангир-ходжа (Джахангир), представитель местной знатной фамилии и влиятельной семьи, сын известного Ишанхана235. Рахманкул, как утверждают, убил Джангира и его брата Турсун-ходжу, якобы из опасения, что народ пойдет за ходжами, а не за ним236. В Ошобе вспоминали также, что представитель еще одной известной семьи — Муллабек, сын Мирхолдор-аксакала237, — «устанавливал советскую власть».
К числу противников курбаши относился Дадамат Турсунов — начальник аштской милиции — отряда, который был организован в 1919–1920 годах из числа местных жителей для борьбы с басмачами238 (Илл. 6). Сам Турсунов был примерно того же возраста, что и Рахманкул. По отцу он был родом из соседнего кишлака Гудас. Сестра Турсунова была женой Махсуда, сына Гозыбая, представителя другой могущественной ошобинской семьи239. Конечно, само по себе родство не говорит о каких-то тесных контактах, поддержке или, напротив, нейтралитете — в Ошобе все друг другу приходятся родственниками в той или иной степени, но, как я думаю, избирательное упоминание о родстве в устных историях, услышанных мной в кишлаке, указывает на то, что в памяти отложились связи, которые сыграли какую-то важную роль в прошлом. Какую именно роль — этого, видимо, мы не узнаем достоверно никогда. После поражения Рахманкула Дадамат Турсунов поселился в Ошобе, взял себе на правах победителя вторую жену — бывшую жену Каримкула (и дочь Муминбай-аксакала), брата курбаши240.
Илл. 6. Дадамат Турсунов с родственниками
Однако у Рахманкула были не только влиятельные оппоненты и соперники, но и не менее влиятельные союзники. Среди его военачальников был, например, Джаркин, сын бывшего волостного управителя Эшмат-мингбаши Ирназарова241. Сестра Рахманкула вышла замуж за Одина-аксакала (1870 г.р.), который, как и его отец Давранбай Исламбаев, представлял еще одну сильную ошобинскую семью242. Правда, как вспоминал сын Одина-аксакала, последний жил в Аксинджате и старался не вмешиваться в дела Рахманкула. Значительным фактором возвышения Рахманкула была поддержка со стороны его братьев. Всего их было у него восемь: пять от его родной матери, три — от другой жены отца. Последние (Абдуджаббар, Абдусаттар, Абдусамат) в басмаческом войске не состояли. Два старших родных брата Рахманкула — Маманозыр и Мамасодык-хальпа — тоже не участвовали в боевых действиях, а Мамасодык даже будто бы советовал брату прекратить войну. Но три оставшихся брата — Омонбой, Турсунбой и Каримкул — были командирами в войске Рахманкула. Особенно запомнился ошобинцам Каримкул — как самый жестокий командир, которого все боялись.
Все приведенные свидетельства, конечно, не дают полной и ясной картины того, что происходило в ошобинском сообществе в 1916–1922 годах, однако они позволяют утверждать, что Рахманкул не был единоличным диктатором в кишлаке. Его власть опиралась на поддержку влиятельных семей, и она имела, как и любая власть, свои пределы — своих оппонентов и недовольных, которые могли бросить вызов курбаши.
Экспансия за пределы Ошобы
По мере того как военная мощь Рахманкула усиливалась, его власть и влияние распространялись на соседние кишлаки и затем на более отдаленные регионы. Ошобинский лидер вступал в контакты со многими людьми и с целыми сообществами.
Ничего не известно о том, как Рахманкул относился к учрежденному в Коканде в начале 1918 года правительству Туркестанской автономии, как он воспринял ее разгром большевиками. Однако уже, видимо, в том же 1918 году бывший ошобинский охранник, возглавивший отряд самообороны, стал рассматривать свою деятельность как участие в общеферганском движении против советской власти. Рахманкул активно контактировал с главой ферганских повстанцев Мадаминбеком, признавал его первенство, приезжал на совместные совещания и координировал с другими басмаческими лидерами свои военные планы243. Весной 1919 года он участвовал в совместном нападении повстанцев на старую часть Намангана. Войско Рахманкула действовало на большой территории, которая кроме Кураминских гор и предгорных кишлаков включала в себя многочисленные селения вплоть до города Чуста — западную часть Наманганского уезда244, а также долину Ахангарана.
Со временем войско Рахманкула стало включать в себя не только ошобинцев, но и жителей других селений. В его подчинение входили другие курбаши со своими отрядами. Например, один из документов 1922 года перечисляет некоторых из них245:
Чустский Райревком 2-го марта донес, что из Рахманкульских курбашей: 1. Абдусаттар, 2. Баба-ходжа пансат246 [Бува-ходжа-пансад], 3. Аман-аксакал247, 4. Ирмухамед пансат, 5. Абдумутталиб юзбаши248, 6. Кичкина Иргаш.
Информации о том, кто они и откуда, у меня немного, так как жители Ошобы, с которыми я разговаривал, не очень ориентируются в карте социальных связей за пределами своего кишлака249. Из перечисленных фигур больше всех запомнился ошобинцам Бува-ходжа250, один из ближайших соратников Рахманкула. Откуда он был родом — мои собеседники не могли прийти к согласию, но все говорили, что он, во-первых, женился на дочери уже упоминавшегося мной Одина-аксакала и стал, следовательно, родственником Рахманкула, а во-вторых, убил Абдусаттара-юзбаши, одного из местных жителей — сподвижников курбаши (видимо, его имя названо первым в списке). Бува-ходжу помнят еще и потому, что он скрывался в горах вплоть до конца 1930-х, и убить его удалось только, согласно местным преданиям, из-за предательства жены-ошобинки. Труп Бува-ходжи привезли в Шайдан, как вспоминают очевидцы, и выставили на всеобщее обозрение, а солдаты стреляли в него.
Не все курбаши шли в подчинение к Рахманкулу добровольно, о чем свидетельствует продолжение того же документа:
…приблизительно 150 верховыми разбойниками прибыли в местности Кукташ и пробыли где 2 дня и задержали Шадман курбашия и отбирали с него 17 лошадей и 17 винтовок, а самого Шадмана и некоего Курбаши Туйчибая Каримбаева забрали с собой и направились в сторону сел. Ашаба. Последний курбаши Туйчибай по дороге из сел. Чакисаре [Чоркесар] убежал с трехлинейной винтовкой и к ней 60 шт. патронов и присоединился к нам.
Рахманкул использовал родственные и брачные стратегии для укрепления отношений с другими сообществами. Известно, например, что у него было две жены — ошобинка и жительница Ашта (говорят еще о жене из Алмаса). Рахманкул имел свой дом в Аште и, значит, пользовался там поддержкой населения.
В опубликованных воспоминаниях о борьбе с басмачеством мне попалась на глаза также следующая история251:
В 1922 г. Абду-Малик был застрелен своим джигитом Хакимом, который занял его место. Этот новый курбаши назначил своего друга Кучкара курбашой кишлака Алмас. Они имели тесную связь с Рахманкулом. Последний приказал Кучкару курбаши подобрать 40 самых красивых девушек в возрасте от 10 до 15 лет с тем, чтобы выдать их замуж за 40 лучших джигитов Рахманкула. Кучкар приступил к выполнению воли своего хозяина. Было отобрано 40 молоденьких девушек, после чего назначили день свадьбы. Жители Алмаса сообщили об этом мне. В день свадьбы наш отряд внезапно напал на этих «женихов» из банды Рахманкула. Растерявшиеся басмачи не смогли оказать сопротивления. Было убито много басмачей-женихов, ожидавших своих невест. Басмачи потеряли в этой операции 75 лошадей, 31 винтовку и еле успели скрыться. Все девушки были возвращены родителям.
Рассказ, конечно, оброс мифологическими деталями (все то же число сорок), но он вполне соответствует представлениям населения, видевшего в браке инструмент распространения и поддержания власти.
Имея такие отрывочные письменные свидетельства и крайне выборочные воспоминания, можно, разумеется, только догадываться о том, каким образом Рахманкул ежедневно боролся за распространение и сохранение своего влияния, какие меры был вынужден для этого принимать. Борьба с большевиками была в этой повседневной деятельности далеко не единственной его целью, а скорее способом получения ресурсов и легитимности.
В войске Рахманкула было много пришлых людей. Особист Калмыков, с обращения к воспоминаниям которого я начал настоящий очерк, упоминает некоего русского офицера Войцеховского, также в его рассказе говорится об «английском шпионе», турецком советнике Сабир-эфенди, который будто бы исполнял обязанности начальника штаба у Рахманкула252. Впрочем, как я уже говорил, Калмыков легко смешивает реальные факты с вымыслом. Один из активных участников борьбы с басмачеством, Нуритдин Ахмедов (родом из Пангаза), называл имя другого эфенди — Камол253.
Гораздо более достоверна информация о том, что в войске Рахманкула была группа «афганцев». О них говорилось в донесениях непосредственно во время событий. Их вспоминает тот же Ахмедов, который даже называет два имени — Зариф-шах Афгани и Бобо-афгани Хонсоев254. Память об афганцах живет у ошобинцев — в местных апокрифах упоминался, в частности, некий Огаджан-афган, правда, это не имя, а прозвище255. Кто они были на самом деле — не вполне ясно: возможно, это были действительно выходцы из Афганистана, которые служили в армии бухарского эмира, потом попали в советский плен и бежали из него, а возможно, речь шла о каратегинцах или других горцах, получивших из-за своей одежды или каких-то необычных привычек прозвище афганцев. В местной памяти афганцы остались как некоторая экзотика, гораздо же крепче в ней удерживались факты, что местный житель Эшмат Азизов, который служил еще в армии Худоярхана, обучал солдат Рахманкула военному делу, а, например, другой ошобинец — Кашамшам — наладил ремонт вооружения. За этими людьми стояли знакомые и понятные всем биографии, семейные и родственные связи.
Любопытно, что в памяти жителей Ошобы совершенно не сохранилась другая фигура — Садриддинхан Шарифходжаев, который какое-то время находился среди повстанцев256. Между тем для большевиков и, видимо, для самого Рахманкула присутствие этого человека было очень знаменательным фактом. Садриддинхан родился в 1878 году в Ташкенте и принадлежал к богатой и религиозной семье, получил образование и был муфтием, в 1917 году он состоял в консервативной партии «Улама Джамияти» (Общество богословов), из которой в августе вышел и возглавил небольшую организацию «Фукаха Джамияти» (Общество мусульманских правоведов). По словам итальянского исследователя Паоло Сартори, Садриддинхан использовал идеи мусульманской нации, патриотизма и исламских реформ, был сторонником объединения мусульман Туркестана. Он был членом народной ассамблеи Туркестана, которая возникла в Коканде в 1918 году, после ее разгрома, в отличие от многих своих соратников, не пошел служить в советские учреждения, а пытался участвовать в разного рода нелегальных организациях и одобрял сотрудничество с басмачами. Именуя себя «президентом центрального комитета национального союза Туркестана», в марте 1921 года Садриддинхан написал два письма в консульства Британии и Японии в Кульдже, говоря о существовании союза туркестанских, бухарских и хивинских повстанцев и прося у англичан военной и финансовой помощи для борьбы против «тирании» большевиков. Эти письма, в которых также критиковалось царское прошлое и говорилось о будущем независимом Туркестане, попали в руки советских спецслужб, после чего Садриддинхан и его сторонник Абдулладжан Зия-Мухаммедов, который был инструктором в советском комиссариате образования, бежали к ферганским повстанцам и нашли убежище у Рахманкула. Именно их называет «двумя ташкентскими узбеками» один из советских документов, в котором сказано, что они отговорили Рахманкула вести переговоры с советской властью (см. ниже). После разгрома Рахманкула Садриддинхан бежал и перебрался в Афганистан.
Приезжий гость, или, точнее, беглец, был в глазах Рахманкула уважаемой и важной персоной, представляющей одновременно традиционную среднеазиатскую257 и современную политическую элиты. Садриддинхан мог четко и изощренно сформулировать идеологическую программу сопротивления и дать в руки бывшего ошобинского охранника инструменты легитимации его власти258. Выходец из Ташкента мог также благодаря своим связям помочь с оружием и финансами. Другими словами, контакты с ним были для Рахманкула очень важны, и это подтверждается тем, что и большевики, и лидеры антибольшевистского сопротивления знали о таком союзе и следили за ним259. Но все подобные соображения и взаимоотношения — и в этом особенность и даже парадокс локального сознания — были мало понятны ошобинцам. Последние не были в курсе, какие переговоры ведет Рахманкул с приезжими, каковы ставки в этих переговорах и в каких процессах замешан их вождь, а следовательно, в местной памяти эти факты не оставили никаких следов.
Чего хотел Рахманкул?
Спустя сорок — пятьдесят лет после описываемых событий советские историки утверждали: «…крупный басмаческий курбаши Рахманкул создал в Ходжентской волости некое подобие ханства с характерными признаками восточной феодальной деспотии <…> Тирания Рахманкула в Ашаве явилась как бы образчиком той формы правления, которую хотели создать басмаческие курбаши в случае победы над Советской властью. Местные трудящиеся презирали и ненавидели этих новоявленных „ханов“. Когда жители Ашавы узнали о приговоре, вынесенном Рахманкулу, они устроили в кишлаке большой праздник (сайил)»260. Однако такая трактовка имела позднее происхождение. Более ранние оценки звучат несколько иначе. Приведу еще одну цитату. В 1923 году, выступая в Москве на пленуме ЦК ВКП(б), туркестанский функционер Хидыралиев произнес речь перед партийным руководством страны, и в том числе перед Сталиным и Троцким, объясняя поражение басмачей. В его речи были следующие слова261:
Басмачи фактически в глазах населения потеряли всякую политическую физиономию. Населению они надоели до невозможности. Население везде готово идти в бой и воюет в лице добровольной милиции. Главное же басмачество убивается экономическими мероприятиями, которые советское государство предпринимает. Так, например, в прошлом году [1922 г.] осенью, когда мы в районе, до того занимавшемся шайкой Рахманкула, наиболее боеспособного из всех басмачей, имевшего свой кожевенный завод, обмундировывавшего джигитов и проч., — когда мы в этом районе обсеменили поля, кормили голодающих, поддерживая население, то это население и джигиты заставили такого сильного курбаша сдаться в плен, после чего мы его расстреляли.
Обращают на себя внимание некоторые любопытные детали этого эпизода. Во-первых, интересен уже тот факт, что ситуацию в регионе описывал не российский администратор, а представитель местного населения, который являлся теперь одним из высших руководителей в Средней Азии. При этом сведения из региона, даже такие подробности, как действия одного из руководителей повстанческого движения, докладывались напрямую высшей власти страны, заинтересованной в знании таких подробностей и настроений. Во-вторых, мы слышим в речи Хидыралиева характеристику Рахманкула как сильного лидера, оказавшегося способным организовать военное и экономическое обеспечение своей власти. В-третьих, туркестанский представитель говорил о том, что действиям Рахманкула советская власть противопоставила еще более масштабную интервенцию в экономическую жизнь региона и смогла тем самым изменить настроения «населения и джигитов», добившись их лояльности и поражения противника.
Попробую теперь чуть более подробно рассмотреть, чтó представляла собой власть Рахманкула в глазах ошобинцев, с одной стороны, и большевистских чиновников — с другой.
20 сентября 1922 года на объединенном заседании Наманганского угорревкома (уездно-городского революционного комитета) сообщалось262:
Тов. Макаев, говоря про политическое состояние Аштского района с волостями — Аштской, Бабадарханской и Чадакской, указывает, что там ныне производится операция против Рахманкула, причем сел. Ашаба — главная база Рахманкула — разбита, население этого кишлака в 700–800 домов разбежалось по горам, но часть его возвратилась по воззваниям, распространенным среди них; оставило население Ашабу боясь операций и возможных боев. Население Ашта в плачевном состоянии, так как наличные запасы продовольствия забраны войсками; остальные селения района — Ашт, Шайдан, Чадак — в лучшем состоянии, в Аште работающей комиссией проведен ряд митингов, и можно считать, что оно [население] перешло на нашу сторону; причем влиятельная часть населения решила послать к Рахманкулу делегацию, чтобы он прекратил басмачество; делегация выезжала, виделась с Рахманкулом, который сначала хотел начать переговоры, но потом, по совету двух ташкентских узбеков, от этого намерения отказался. В районе Ашта и Чадака был ряд боев, также в Гудасе, Шайдане и Ашабе, где был убит комбриг Синицын; недостаток войск повел к тому, что часть наших сил была окружена, басмачи все же понесли большие потери. Вести в районе работу среди населения тяжело. Район был все время в ведении Рахманкула, не обижавшего население, а обложившего в 10 % отчислений и обязавшего его засеять для него и его джигитов хлебные и фуражные злаки. Население недоверчиво относится к нашим заявлениям о намерении прочно установить в районе соввласть, говоря, что с уводом войск вернется Рахманкул, не раз уже расправлявшийся с населением за поддержку, оказываемую войскам. Спокойствие в районе возможно лишь с уничтожением Рахманкула. Часть влиятельного населения определенно перешла на нашу сторону. В продовольственном отношении население района обеспечено плохо; посевов хлебных злаков мало, часть населения питается сухим тутом263; много отобрано продуктов и фуража Рахманкулом. В момент приезда в район комиссии хлеб не был еще собран по приказу Рахманкула. Скотоводство в районе было развито ранее слабо (не более 20 %), но последнее время оно окончательно разобрано. Случаи перебежек бывали, причем Рахманкул строго следит за своими джигитами, которые набраны им частью из местного населения. В отношении взятия по приказу Троцкого264 заложников комиссия полагала взять заложниками родственников Рахманула и его курбашей, но их в районе не оказалось — все они находятся или с Рахманкулом, или далеко в горах. Зелени в районе недостаточно, большинство населения занимается или добычею соли, или мелким кустарничеством; экономическое положение района в самом плачевном положении; все оно обобрано, с одной стороны, басмачами, с другой — войсками. Запасов в районе никаких, и надо принять меры к обеспечению населения и войск продовольствием и фуражем.
Несмотря на свои военные успехи и констатацию того факта, что часть влиятельного населения, в том числе, очевидно, многие бывшие повстанцы, перешла на сторону советской власти, победителям пришлось признать — смелее, чем это сделал Хидыралиев, — что Рахманкул «не обижал» местных жителей. Это соответствует тому, что я много раз слышал в кишлаке от самих ошобинцев. Они часто демонстрировали единодушное мнение, что курбаши не грабил местное население, а, наоборот, защищал людей от грабителей.
Рахманкул сохранил прежнюю, колониальную систему управления — аксакалов (сельских старшин) и мингбаши (волостных управителей), которые отвечали за сбор налогов. В 1918 и 1922 годах, как следует из документов личного архива Я.А.265, местные жители продолжали обращаться для заключения разного рода сделок и соглашений в казийский/народный суд, который был создан еще при колониальной администрации и действовал по ее правилам (в том числе используя кириллические печати). В цитированном выше материале есть ссылка на 10 %-ный налог266, который Рахманкул собирал с населения, следуя налоговым нормам колониального времени, а также упоминание того факта, что курбаши пытался регулировать посевы определенных сельскохозяйственных культур, необходимых для содержания войск. Выше я уже приводил материалы пленума ВКП(б), где сообщалось, что у Рахманкула действовал кожевенный завод, мне говорили также о мастерских, в которых был налажен ремонт оружия. В Ошобе мне показывали заброшенный канал, построенный при Рахманкуле и орошавший тогда верхнюю часть кишлака. Все эти достаточно разрозненные сведения свидетельствуют об элементах активной и даже централизованной экономической политики, которую проводил ошобинский лидер. Такая политика диктовалась условиями военного времени, но при этом была попыткой решить те хозяйственные проблемы, с которыми столкнулось население.
Меньше известно об идеологических взглядах и планах Рахманкула. Как сам он объяснял свои действия и мотивы, мы не знаем. За него все время говорит кто-то другой, кто-то другой интерпретирует его поведение. Мне в руки попался только один архивный документ — перевод воззвания, в котором от имени Рахманкула комментируются заявления большевиков об их согласии признать ислам267:
От Начальника Мусульманского войска Рахманкула Газия. Господа родные мусульмане, понимаете ли бессовестных большевиков, они хотят нас обмануть, пишут объявления от имени города Ташкента грамотных граждан и приклеивают на стену268. Бессовестные большевики нас назвали басмачами, не признавали Бога, а кто признавал, над тем смеялись и об этом занесли в книгу. Уже 5 лет не могут они делать чего-нибудь хорошего, приносили вред государству, а в настоящее время пишут в объявлениях водворить веру. Ах, бессовестные большевики, если признаете веру, зачем [неразборчиво] мусульман и русских и разрешили учиться в одной школе вместе с девочками и разрешили разводиться мужу с женой, в школе у девочек нарождались дети. Эти недоразумения известны всему народу из высшего декрета, а сейчас не стыдно ли вам, не покраснеют ли ваши лица от стыда, что теперь признаете веру, нет, дураки, что вы обманываете, не верят вашим ложным объявлениям, не боятся вас, потому что на руках у них имеется Коран, а ум их не обманет.
Трудно сказать, действительно ли этот текст отражал мысли самого Рахманкула или кого-то из его советников (напомню, что в 1922 году в войске курбаши находился ташкентский общественный деятель Садриддинхан). В документе упоминался Коран, большевики именовались неверующими, а сам автор обращения был назван главой мусульманского войска и наделялся титулом ғозий, то есть борец за веру, что подчеркивало религиозный характер его риторики. Примечательно, что в тексте не было ссылок на многочисленные жертвы, которые оправдывали бы сопротивление. При этом воззвание апеллировало к аргументам, явно рассчитанным на очень простого слушателя, и содержало в себе набор очень простых морализаторских аргументов, в первую очередь касающихся такой чувствительной темы, как положение женщины. Ошобинцы также вспоминали, что Рахманкул защищал женщин и был против того, чтобы «женщины спали под одним одеялом», имея в виду слухи, что большевики хотели сделать женщин общими для всех мужчин. Любопытно в воззвании разве что упоминание «государства» и «вреда», который большевики ему принесли. Эти слова можно интерпретировать так, что Рахманкул обвинял большевиков в разрушении прежнего — колониального (с сегодняшней и большевистской точек зрения) — порядка.
Этот текст (к сожалению, других нет или я их не нашел) показывает нам человека и лидера, ориентированного скорее на местное сообщество, на его стереотипы, предпочтения, интересы, нежели на какие-то отвлеченные политические и идеологические проекты. Рахманкул, безусловно, испытывал влияние разного рода политиков и старался действовать по их совету, но при этом, видимо, все равно оставался локально мыслящим вожаком. Люди воспринимали его точно так же — как своего местного лидера, который должен был отстаивать их интересы, и все они переводили абстрактные лозунги политиков на более понятный для них язык местных представлений и потребностей.
Вина Рахманкула
В своей книге о басмачестве Калмыков описывал последние дни Рахманкула следующим образом269:
На обширной террасе Кокандского старогородского медресе негде яблоку упасть…
Подсудимых — девятнадцать. В первом ряду в середине сидел мрачный человек, погруженный в беспросветные думы — Рахманкул. Рядом с ним пятнадцатилетний юноша — его сын Худайкул, командир двухсот «янычар», или еш-аскеров. Он смотрел по сторонам весело и беспечно, даже рисовался перед сотнями любопытных глаз. Остальные держали себя кто скованно, а кто и непринужденно, одни не поднимали глаз, другие смотрели на зрителей с ухмылками, чувствуя себя героями дня.
После того как было оглашено обвинительное заключение, суд начал допрос обвиняемых. Первым допрашивали брата Рахманкула — Мамасадыка, такого же коренастого, с черной бородой и кустистыми бровями.
Вначале он пытался отказаться от показаний, данных на предварительном следствии. Но под перекрестным допросом председателя и общественного обвинителя вынужден был подтвердить сказанное прежде. Слушая, как допрашивают брата, Рахманкул подумал: «Оказывается, эти судьи еще хитрее терговчи (следователя), они хитрыми вопросами совсем запутали Мамасадыка».
Вторым допрашивали Худайкула. Он стоял перед судейским столом в длинном не по росту халате и выглядел совсем подростком.
— Признаете себя виновным? — спросил председатель трибунала.
— Нет! — дернув сына за рукав, еле слышно шепнул Рахманкул.
Худайкул с улыбкой посмотрел на судей и громко сказал: «Нет!»
Зал встретил заявление возгласами возмущения.
— Сколько времени вы находитесь в банде Рахманкула? — задал второй вопрос председатель.
— Два года.
— Принимали участие в боях против Красной армии?
Рахманкул снова что-то зашептал сыну. Худайкул не стал слушать, он чувствовал на себе множество любопытных взглядов и больше всего боялся, как бы его не посчитали за труса.
— Я со своими еш-аскерами всегда принимал участие в боях и никогда не бегал от русских отрядов.
— Расскажите трибуналу, при каких обстоятельствах был расстрелян амин кишлака Тупик? — громким голосом задал вопрос общественный обвинитель.
— Это было во время тоя, устроенного моим отцом в честь создания отряда «Еш-аскер»… — Худайкул со всеми подробностями и циничным откровением поведал о судьбе несчастного амина, погибшего от рук юных басмачей на зеленых холмах в окрестностях Ашта <…>
— А по пленным красноармейцам и по дехканам, которые чем-либо не угодили вашему отцу, еш-аскеры тоже стреляли?
— Тоже… Вот, например, в кишлаке Чаркачар [Чоркесар?] в плен попали три красноармейца…
«Зачем он об этом болтает? Не понимает, что с коротким языком — жизнь длиннее?» — зло подумал Рахманкул, хмурясь и так и ни разу не подняв головы <…>
На второй день председатель трибунала огласил приговор.
Главарь банды Рахманкул и его шестеро близких пособников — курбашей были приговорены к расстрелу. Остальные осуждены на разные сроки. В отношении несовершеннолетнего преступника Худайкула трибунал решил назначить заведующего облнаробразом Ахмедханова его воспитателем.
Народ встретил приговор одобрением, многие аплодировали.
Эти «воспоминания» опять представляют собой смесь фактов и вымысла. Действительно, в рядах басмачей воевал старший сын Рахманкула — Худайкул, которого вместе с отцом судили в Коканде и приговорили из-за несовершеннолетия к перевоспитанию (Илл. 7). Остальное — внутренние монологи курбаши — является, конечно, художественной вольностью. В этих «воспоминаниях» о судебном разбирательстве, на котором он, безусловно, мог присутствовать лично, Калмыков называет в качестве вины Рахманкула лишь убийство старосты одного из кишлаков, что, возможно, и в действительности было одним из основных обвинений, так как с точки зрения советского суда важно было доказать не то, что ошобинский курбаши воевал с большевиками, а то, что он угнетал местное население. Впрочем, в памяти самих ошобинцев такого рода эпизоды не сохранились. А что сохранилось? Попробую вначале восстановить некоторые события того времени.
В конце 1919 года тактика большевиков в Туркестане претерпела серьезные изменения. Они сняли с повестки дня наиболее одиозные и раздражающие лозунги, легализовали мусульманские суды и имущество, привлекли в свои ряды и расставили на многих ответственных постах выходцев из местного населения, образовали из числа мусульман вооруженные части — милицию. В марте 1920 года руководитель объединенных сил ферганских повстанцев Мадаминбек (Мухаммад-Амин-бек), добившись от большевиков ряда уступок, подписал с ними соглашение и признал советскую власть, что вызвало большие противоречия среди повстанцев270. Однако после скорой и неожиданной гибели перебежчика военные действия возобновились с новой силой — уже под руководством нового, более непримиримого лидера — Курширмата (Шер-Мухаммад-бека). Советская власть перебросила в Фергану значительные военные силы, вооруженные современной техникой и закаленные в боях с регулярными белогвардейскими войсками, после чего началось активное и последовательное уничтожение повстанческих баз, которое к 1923 году привело к почти полному подавлению массового вооруженного сопротивления.
Илл. 7. Вдова Рахманкула с семьей младшего сына
Есть свидетельства, что Рахманкул вслед за Мадаминбеком в марте 1920 года также признал большевиков, но уже в апреле у него начались с ними трения271. По воспоминаниям участника событий Мирза-ходжи Бобоходжаева, летом 1920 года Рахманкул сообщил (опять?) о своем решении подписать соглашение с советской властью. В Ошобу приехал начальник отдела ВЧК Ходжентского уезда Бобобек Мавлянбеков в сопровождении других чиновников, но все они неожиданно были захвачены Рахманкулом. Советские руководители в ответ взяли в заложники несколько известных лиц в Ходженте и направили к курбаши делегацию во главе с религиозным деятелем — ишаном Хамидханом-тура, обещая расстрелять заложников. Рахманкул освободил пленных и сделал это, по утверждению Бобоходжаева, из уважения к ишану, чьим мюридом (то есть духовным послушником) он якобы был272.
Боевые действия продолжались, и одновременно, видимо, продолжались попытки заключить некое соглашение с Рахманкулом. Красная армия, судя по очень отрывочным и противоречивым данным, по крайней мере два раза брала штурмом Ошобу, но как только военные подразделения возвращались в места своей дислокации или уходили сражаться с другими повстанческими отрядами, Рахманкул со своим войском вновь возвращался и восстанавливал контроль над кишлаком и горным регионом. Советская власть опять была вынуждена вести с ним какие-то переговоры, после чего опять начинала военные действия. Близость гор, растянутость коммуникаций, отсутствие больших запасов продовольствия и фуража у населения создавали большие трудности для действий регулярных войск, поэтому Рахманкул оставался вне досягаемости очень долгое время.
Несмотря на усиливающееся давление со стороны большевиков, ошобинский курбаши продолжал контролировать значительные территории западной части бывшего Наманганского уезда. Например, в рапорте начальника Варзикского волостного исполнительного комитета от 5 июля 1921 года было сказано273:
Сообщаем, что в настоящее время 1-я съемка клевера окончилась, началась жатва созревших пшеницы и ячменя. Рахманкул-курбаши выставил 100 человек в сел. Гава во главе с Бадаль-баем и Шадманом, которые обложили все кишлаки Варзикской волости и требуют ежедневно от населения баранов, муки, деньги, клевер и маты [хлопчатобумажная ткань] на каждый кишлак <…> 15–20 человек из джигитов Рахманкула ежедневно объезжают кишлаки Варзикской волости и наблюдают за ее своевременный сбор <…> По слухам, Рахманкул как в своем районе, так и в других кишлаках объявил, что (на весь кишлак) кишлачного урожая взимает 1/5 часть, [но] под видом 1/5 будет взимать 1/2 урожая и можно предполагать, что в течение 1 месяца после ничего не останется.
Информационная сводка от 30 августа 1922 года сообщала274:
Рахманкул-курбаши с несколькими джигитами приехал в сел. Юкори-Алмаз и Куе-Алмаз Алмазской волости и оставил предписание жителям, чтобы последние приготовили в субботу 200 пуд. фуража, 200 кусков маты и два миллиарда денег. Такое же предписание ими оставлено и агасарайскому обществу. За неисполнение сего Рахманкул грозит жителям беспощадно грабить и убивать <…>
Рахманкул-курбаши со своими джигитами около 100 человек напал на Алмазскую самоохрану, с которыми имел несколько часов перестрелку. Во время перестрелки ограбил у населения много имущества, забрал с собою 3 человека из мирных граждан. Ограбленные вещи удалось задержать, после чего басмачи бежали <…>
По донесению начальника Алмазской охраны Рахманкул-курбаши со своими джигитами и курбашами около 300 человек находится в селении Сирпули, из которых 200 человек вооружены 3-х линейками и 100 человек берданами; также у них имеется 2 пулемета, из которых один негодный. Рахманкул сделал предложение Гавинскому обществу о немедленном представлении 200 пудов зерна, 200 кусков маты и 2-х миллиардов денег. За неисполнение сего общество будет беспощадную караться.
В другом документе говорилось275:
С августа месяца в Аштском районе, в сфере деятельности Рахманкула, царившего в этом районе безнаказанно более 4-х лет, велась усиленная политработа одновременно с [неразборчиво] операциями, на которую брошены были все ответственные работники. Эти меры дали и желательный результат: много курбашей и джигитов убито или перешло на сторону Соввласти, часть купленных шаек Рахманкула, Аман-палвана или других распалась и главари их с некоторыми джигитами скитаются ныне по уезду, избегая встреч с отрядами милиции и воинскими частями <…> Население, в большинстве поняв все причиненное ему басмачеством зло, охотно идет на помощь в деле борьбы с басмачами, указывая место нахождения отдельных басмачей, их скот, посевы и имущество. Благодаря этому удалось изъять в Аштском районе, например, до тысячи голов скота, много оружия и боеприпасов, равно как предметов продовольствия и награбленного имущества, которое все взято на учет.
Летом 1922 года штаб Туркестанского фронта решил провести очередную и, как планировалось, последнюю масштабную военную операцию против Рахманкула276, войско которого в тот момент насчитывало около 500 бойцов277. В докладе о состоянии Ферганской области говорилось278:
Последние нападения на наши гарнизоны Ашаба, Гудас, происшедшие после соединения Рахманкула с Баястаном279, лишний раз доказывают серьезность этого противника. Теперь его следует считать самым сильным курбашой в Фергане, на Рахманкуловский район со стороны центра должно быть обращено самое сильное внимание в смысле снабжения армии продуктами, деньгами, а также операции со стороны Аблыка. Части его, дерущиеся в горах и ущельях главным образом, меньше всего подвержены нашему влиянию через население. Разлагающих элементов и демобилизационных настроений в связи с близким соприкосновением с населением или нашими уступками нет. Части почти полностью вооружены трехлинейками и обильно снабжаются патронами из Ташкента (перед последним нападением Рахманкул получил пять ящиков патронов из Ташкента). Наличие русских белогвардейских и афганских инструкторов, установлено с несомненностью, привело эти отряды в организованную и боеспособную силу до 700–800 человек. Большой запас денег дает возможность закупить продукты, не прибегая к сильным грабежам населения. Вместе с этим в последнее перед нападением время перебежки в одиночку на нашу сторону учащаются, что доказывает, что при усиленной работе в этом районе можно добиться гибельного для Рахманкула перелома среди его джигитов.
В последнем сражении за Ошобу приняли участие как регулярные части, так и милиция. Была использована, по утверждению некоторых источников, даже авиация для бомбометания по укрепленным позициям в горной местности. В августе остатки войска Рахманкула были блокированы и разбиты и только самому курбаши с небольшим числом соратников удалось скрыться глубоко в горах. В октябре Рахманкул сдался, и вскоре над ним состоялся показательный судебный процесс в Коканде, по итогам которого ошобинский лидер и некоторые его ближайшие сподвижники были приговорены к расстрелу.
Каким образом все эти события отразились в восприятии местных жителей и их памяти? В ситуации, когда одни курбаши воевали с другими, одни группы большевиков находились в конфликте с другими группами, когда большевики и курбаши постоянно то воевали, то вели тайные переговоры, то заключали соглашения, то разрывали их, когда и те и другие убивали и грабили, когда по обе стороны воевали мусульмане, ошобинскому населению было непросто разобраться, кто есть кто и в чем вина данного конкретного человека, в нашем случае — Рахманкула (Илл. V).
В Ошобе помнили о сожжении красноармейцев — событии, которое занимало, как мы знаем, важное место в процитированных в начале настоящего очерка воспоминаниях Калмыкова, Мадаминова и Арутюнова. Однако этот эпизод военного противостояния между Рахманкулом и большевиками не приобрел в местной памяти такого же значения и зловещего характера. Ошобинцы хорошо помнили, что Красная армия сама несколько раз сжигала их кишлак, поэтому гибель красноармейцев воспринималась ими в качестве естественного следствия жестокой войны. К тому же местные жители объясняли этот эпизод по-другому: будто бы басмачи собрали и какое-то время хранили в кишлаке трупы погибших в боях красноармейцев, те стали гнить, но так как хоронить на мусульманском кладбище их было нельзя, то решили собрать их и сжечь. Ни о каком Синицыне в этих воспоминаниях не говорилось — его имя никому в кишлаке не было известно.
В центре местного нарратива о борьбе Рахманкула с большевиками оказалась, неожиданно для меня, некая женщина. Вот одна из версий записанного мной устного рассказа:
Оказывается, был советский командующий и та девушка была его дочерью. Чтобы узнать внутренние порядки Рахманкула-курбаши, а затем и чтобы ликвидировать его, той девушке была поставлена задача. Потом через каких-то людей сделали так, чтобы курбаши взял ее в жены. После этого девушка здесь свободно передвигалась, высматривала и все брала на заметку. У нее не было никаких документов, она ставила заметки на запястье (ниже локтя), эти шифры никто читать не мог. Однажды, когда они спали ночью вместе, она взяла ружье курбаши и зарядила его, но в этот момент появилась его мать и воскликнула: «Ой, сынок». Курбаши проснулся и спросил жену: «Что ты делаешь с ружьем?» Она ответила: «Просто так, я не могла заснуть, играла с ним, смотрела». Специально ли ее готовили для того, чтобы его уничтожить, или для другого — неизвестно.
Потом советники курбаши сказали: «Раз на раз не приходится, она нас всех может уничтожить». И был такой человек по имени КозиДилазор. Этот человек, говорят, во времена курбаши участвовал то ли в убийствах, то ли в расстрелах людей. Курбаши сказал ему: «Отвези ее к родителям». Кози-Дилазор сказал девушке: «Я отвезу тебя к твоим родителям», на что она ответила: «Нет, нет, ты меня расстреляешь, я не поеду». Кози-Дилазор подсадил ее на лошадь и повез в местечко под названием Торкия [буквально «узкий откос», местечко недалеко от кишлака], там и убил ее. Об этом рассказывал Ахмаджан Базаров, он тогда втихаря последовал за ними.
После того как Кози-Дилазор застрелил эту девушку, пришли русские со своей армией. Рахманкул посмотрел на это и понял, что вместе со своими бойцами не выстоит против них. Он сказал своим бойцам: «Пусть каждый спасает свою шкуру». Сам курбаши прибыл с гор на своем коне и сказал, что он сдается, его повезли в Коканд и там судили в парке. Об этом рассказывал Агзам-кал [кал — плешивый] из Гудаса. Он говорил, что Рахманкула не расстреляли, а вначале решили отвезти в Москву и там допросить. Но потом суд вынес решение расстрелять, и его расстреляли в Коканде. И эта девушка была причиной. Люди того времени говорили, что она очень статной девушкой была.
В версии, рассказанной мне внуком Рахманкула, эта история выглядела менее художественно:
Я слышал от своей бабки, что девушка после побывки здесь некоторое время собралась куда-то уехать. После того как она объявила об этом, дед мой [Рахманкул] сказал Абдуназару: «Абдуназар, отвези ее в Ташкент, доставь ее к родному отцу. Эта девушка еще молода, малютка». После этого он отвез ее в Чаккар и там застрелил, потом десять дней у ручья отсиживался, прятался. Почему он пристрелил ее? Не надо было. Когда десять дней прошло, он вернулся. Дед спросил: «Отвез ее?» Он ответил: «Да, доставил ее». А дед сразу смекнул, сказал: «Нет, ты не доставил ее. Если бы ты ее доставил, то тебя бы там схватили, я бы узнал об этом, потом бы они про меня спрашивали. А ты ее не доставил». Она молодой девушкой была, двенадцать-тринадцать лет ей было. Я слышал, что она сюда пришла на разведку. Но, наверное, украли и потом купили ее.
В Ошобе часто можно было услышать, что эта девушка была дочерью важного русского командира Полторацкого, поэтому, собственно, последний решил жестоко отомстить Рахманкулу за ее смерть и разгромил его войско. В действительности же П. Г. Полторацкий, большевик и народный комиссар труда в Туркестанской республике, погиб в 30-летнем возрасте в 1918 году в Мерве (на территории нынешнего Туркменистана) и никак не мог быть отцом таинственной девушки. Кто она была и что с ней произошло, почему и при каких обстоятельствах вдруг всплыло имя Полторацкого — вряд ли можно теперь установить достоверно. Важно лишь то, что именно ее история стала для ошобинцев главным объяснением причин конфликта Рахманкула и советской власти, а сам этот конфликт превратился в сведение счетов из-за женщины. В таком нарративном повороте опять же можно увидеть логику локального взгляда, когда события видятся и оцениваются исходя из местных представлений о долге, его нарушении, обиде и мести.
После курбаши
Быстрый и жестокий разгром войска Рахманкула окончательно утвердил в регионе советскую власть, которая немедленно взялась за установление контроля над Ошобой. Способы управления, применявшиеся новой властью, характеризует доклад областного революционного комитета, датированный 1922 годом. Приведу его почти полностью280:
Политическое состояние Аштского района до окончания суда над Рахманкулом и его юзбашами было неопределенное, ибо некоторые элементы в районе [неразборчиво] среди населения и имели связь с главарями шаек, оставшимися пока не пойманными. Беднейший, запуганный класс населения вплоть до расстрела Рахманкула и его сподвижников полагал, что Рахманкул будет освобожден. При выступлении с докладами в каждом селении нам задавались со стороны населения вопросы: освободился ли район из-под влияния Рахманкула окончательно, или же Рахманкул будет помилован. Когда населению объяснялось, что с Рахманкулом покончено навсегда и пощады ему ждать от рабоче-крестьянской власти не приходится, то оно успокаивалось и выражало свою благодарность Советской власти.
Во время сентябрьской политкампании нами было определенно заявлено населению, что до окончательной ликвидации Рахманкула и его банд Советская власть и ее войска из района не уйдут, и в виду этого предлагали населению Рахманкула и его банд не бояться, не оказывать ему никакой помощи и ничем его не поддерживать. Большинство населения удивленно спрашивало, как ему не бояться Рахманкула, хозяйничавшего в районе более 4-х с половиною лет безнаказанно. Теперь население само убедилось, что с его помощью гораздо скорее можно ликвидировать банды Рахманкула, если бы их не снабжать продуктами и другим содействием и отозвать из рядов его банд своих односельцев, завербованных в шайку путем угроз и насилия. Население теперь горячо благодарит Красную армию за освобождение от Рахманкуловского гнета. В данный момент определенно заявляем, что настроение населения политически наклонено в сторону Советской власти.
Из остатков шаек Рахманкула после их ликвидации был случай перехода 8 или 12 джигитов из Облука [Аблык] в Баястанскую шайку. Население передает случай этот таким образом: руководители красноармейских частей после ареста Юсуфа-курбаши устроили митинг, на который собрали только что сдавшихся рядовых джигитов, причем перед митингом говорили между собою по-русски о судьбе сдавшихся главарей и их родственников, среди сдавшихся джигитов были знающие русскую речь, по окончании митинга ушедшие джигиты дошли до дому Юсуфа-курбаши, взяли оставшуюся у него винтовку, захватили его хорошую лошадь, раскрыли закопанные Юсуф-курбашой 14 винтовок, а зерновые его запасы распродали едущим в Аблук за хлебом торговцам за наличные деньги, проехали через горы в Чаткал [Чаткальский горный хребет, который ограничивает с северо-запада Ферганскую долину, находится к северу от Кураминского хребта] и присоединись к шайке Баястана.
Кроме этих лиц, не сдался еще никто. Аманкул, ранее вышедший из отрядов Рахманкула с тремя джигитами, — за ними гонится ташкентский отряд, стоящий в Аблукском районе. Результаты погони пока еще не известны, но думаем, в скором будущем Аманкула приведут к нам его же доверители, если он раньше не попадет в руки Аблукского отряда, которому местонахождение его известно.
Политический руководитель Рахманкуловской шайки Садреддин Магзум Шарифходжа Казиев (Ташкентский узбек), по полученным сведениям, скрывается в местности Самгар между Ташкентской и Ходжентской границей и думает, если удастся, уйти в Авганистан. Остальные каратагинцы [выходцы из Каратегина — долины вдоль среднего течения реки Вахш (Сурхоб), южнее Ферганской долины (территория современного Таджикистана)] (именовавшие себя авганцами) скрылись вблизи Ходжента в уезде в связи с переходом к мирной жизни и за отсутствием вооруженных операций в западно-восточной части Аштского района и близ Чаткала. В Чадакской волости, в местности Чаракисар [Чоркесар]иХанабад, несколько раз появлялись Баястанские джигиты и был случай угона 7–8 числа табуна в 150 голов, принадлежавшего кочующему населению этой местности.
В Аштском районе в связи с выборами сельсоветов проведена определенная политкампания в каждом кишлаке, организованы сельсоветы из наиболее надежных и не причастных к Рахманкуловскому движению людей, каждый сельсовет проинструктирован в отдельности о его правах, обязанностях и задачах, в волостях организованы волревкомы [волостной революционный комитет], куда введено по одному ответственному работнику районного и уездного масштаба. Организован и районный ревком, введен «ответственный партийный работник» уездного масштаба. Всего в районе организовано 17 сельсоветов, 2 волревкома и райревком.
Главной задачей нашей работы было также изъятие и раскрытие спрятанного оружия. Тут необходимо было задержать администраторов и заведующих оружием Рахманкула, из которых пока пойман только Аманча, выдавший 7 винтовок из числа зарытых и немного домашнего имущества. Другого же хранителя оружия, Мирзахана, задержать не удалось, он скрылся в горах, а между тем поимка его имеет важное значение, т. к. он пользовался большим доверием Рахманкула. Всего нами в районе взято 11 винтовок и 15 револьверов из годного оружия, 450 патронов и 2 ствола для пулемета «шоша», 180 нагановских патронов, опись которым и представляется.
Предназначенная для района семенная ссуда — раздача ее почти закончена, в этом деле работает по району зав. уземотдела [уездный земельный отдел] Кадыров, попутно с раздачей ссуды идет организация Союза Кошчи [массовая общественная организация, созданная в начале 1920-х годов в Туркестанской республике и объединявшая бедняков и издольщиков], который в Бабадарханской волости, например, организован уже полностью. Нельзя сказать, что розданная ссуда удовлетворила все население района, ибо роздано всего только 3100 пудов. Говоря про семссуду, нельзя обойти недоразумения с расходами по переброске ссуды с линии желдороги до места. Сказался недостаток у населения перевозочных средств, почему некоторыми сельсоветами произведены расходы по переброске зерна, расходы эти для населения, пострадавшего и так уже достаточно, обременительны, это было заявлено нам, и мы дали слово ходатайствовать перед облревкомом о покрытии их расходов, которые по всему району не превысят в общей сложности 600 000 руб. знаков 22-го года. Учет засева будет нами на днях представлен подробно по каждому сельскому обществу. Заметно отсутствие у населения рабочего скота, и ему придется прийти в этом на помощь, выделить из первой партии имеющего прибыль скота хотя бы 340 голов, чтобы можно было для каждого кишлака отпустить хотя бы по 20 голов.
В целях скорейшего ускорения восстановления района необходимо изъять оттуда в первую очередь следующий подозрительный элемент:
1. Ташмата-мингбаши из селения Шайдан, как бывшего волостного старосту Рахманкула.
2. Мирза-Баба [Бува-ходжа?] из селения Гудас, как [неразборчиво] и подозреваемого в участии в шайке Рахманкула, из-за которого несколько джигитов не могут сдаться до сих пор, скрываются в горах.
3. Игамберды Худайбердыева и его отца Худайберды Мавлянкулова281 из селения Ашаба, которые под флагом помощи и содействия командирам наших войск всячески обижают население угрозами жалоб и придания особому отделу или командирам. Таким путем типы эти собрали с населения много скота и до сих пор обижают население.
4. Окбай с селения Дагана [Дахана], как завхоз курбаши Ирмата, решительно ничего не выдавший из скрытого имущества этого курбаши.
5. Хайдар-аксакала из селения Камыш-курган, старшего брата заключенного на 11 лет юзбаши Кадаяра, за угнетение населения в бытность брата главарем шайки.
В отношении укрепления и организации милиции в районе необходимо отпустить немедленно 35 штук трехлинеек и достаточное количество патронов, утвердив по 25 конных милиционеров на каждую волость. Самое главное — не оставлять на плечах населения содержание этой милиции, а необходимо принять содержание за счет республики хотя бы за четыре месяца во всем решительно, до подковы, необходимо принять осторожным путем меры к розыску, ибо такового, по словам мирного населения, еще много не сдано. Но в этом отношении надо избегать запугивания сдавшихся джигитов. Во что бы то ни стало надо разыскать служащего Рахманкула — Мирзахана, который заведовал хозяйством и оружием банды.
Что же касается имущества Рахманкула и его шаек, взяты на учет по всему району земельные участки Рахманкула и его юзбашей, а также и домашнего имущества, всего более тысячи голов скота (баранов и коз), 27 бракованных лошадей, которых тотчас же раздали дехканам через Союз Кошчи, около триста пудов зерна и приблизительно 700 арб, т. е. 20000 пудов, соли282. Взято на учет в районе голодающее население: около 800 взрослых и 720 детей, но с выпадом снега количество увеличится примерно втрое, 99 % населения Ашабы не имеет жилища и из 800 домов осталось целыми только 9 или 10, остальные сожжены. Предполагается организовать в трех волостях района питательные пункты для голодающих с оборудованием приблизительно на 450 человек, из которых один пункт — приют-интернат для детей на 250 человек, смета будет представлена на днях.
При определенности района милиция должна быть организована не менее 75 конных, т. е. по 25 на волость, вооруженных трехлинейками. Пока нами организована милиция из 40 человек, вооружению которых отпущено угормилицией 10 бердан, облмилицией — 20 «гра», из найденного имущества взято для милиции 10 винтовок, 7 револьверов. Необходимо теперь же решить вопрос об отпуске недостающих 35 винтовок.
К организации добровольческой милиции население относится хорошо, принимает в этом участие, выделяя в милицию надежных людей под круговую поруку. Только в отношении снабжения население сильно затруднено. Во всем районе, можно уверенно сказать, не осталось ни одного снопа клевера, ни одного стога сена, а равно зернового фуража. До сдачи Рахманкула были в милиции 13 или 15 перебежчиков, но теперь все они отстранены и на их место были приняты милиционерами местные жители под круговую поруку населения. Согласно существующего приказа Туркфронта все трофейное имущество, отбитое милицией, должно быть израсходовано на нужды самой милиции, но облревком разрешил расходовать на это только 10 %, чего недостаточно для удовлетворения милиции даже за два месяца. Вопрос этот тоже требует разрешения.
В заключение надо сказать, что политический подход к населению надо проводить очень осторожно, необходима зоркая слежка за оставшимися басмачами и за сдавшимися джигитами, для работы среди устрашенного дехканства нужны опытные политруководители, которые не повторяли бы того, что делалось в 18—19-м годах283.
Нужно постоянно иметь двух организаторов-инструкторов угорревкома, чтобы окончательно наладить и поставить на верный путь работу Советских органов.
Ко всему добавочно представляется доклад секретного характера.
Отв. секретарь Наманганского угоркома.
Председатель Наманганского угорревкома.
г. Наманган, 23 декабря 1922 года.
Секретно.
Докладная записка ответственного секретаря Наманганского угоркома КПТ[Коммунистическая партия Туркестана] Макаева и Наманганского предугорревкома Шамансурова.
В дополнение нашего письменного и устного доклада, заслушанного на объединенном заседании Наманганского угорревкома с представителями Фероблревкома, командования Фергруппы, представителей ГПУ, угоркома, особого отдела и угормилиции (копия доклада и протокола заседания прилагаются), по поводу положения Аштского района необходимо обратить внимание на следующие ненормальности в проведении там работы. Как указано в докладе, население Аштского района, только что освободившееся от угнетателей в лице Рахманкула и его банд, сумевших в течение ряда лет заставить порабощенное население стоять за их сторону, теперь усиленно следит за каждым шагом работы тех или иных представителей власти и из их поступков выносит свое суждение о будущих условиях жизни. Для поднятия в глазах населения престижа власти тут приходится обращать серьезное внимание не только на крупные проделки представителей власти, но и на самые мелкие.
Сотрудник пункта особого отдела Фергруппы Нуретдин Мулла Ахмедов, житель селения Пангаз Бабадарханской волости, проживавший в Коканде приблизительно лет 20, сговорившись с начальником гарнизона в Биш-тале [селение Бештал в предгорьях Курамы], сорганизовал себе из родственников отряд в 3–4 человека, вооружил его винтовками и все время разъезжал между Биш-талом и Пангазом, занимаясь насилием, вымогательством и терроризацией населения. По сведениям, сообщенным председателем Ашабинского сельревкома Каршибаем, основанным на показаниях очевидцев и потерпевших, названный Нуретдин по дороге из Пангаза в Ашабу отобрал у жителя сел. Ашаба Имам-Назара несколько коров, мелких шелковых платьев и т. п.; затем в Пангазе арестовал трех наиболее нейтральных влиятельных граждан и, связав им руки, угнал их днем в Биш-арык [Беш-арык — крупное селение недалеко от Коканда] пешком. Около Дарьи [Сырдарья] одного из них расстрелял под предлогом, что тот стремился сбежать, но такая оговорка маловероятна, если принять во внимание, что человек со связанными руками прошел пешком из Пангаза до Дарьи около 30 верст; трудно поверить, чтобы при этих обстоятельствах у кого-нибудь явилась бы мысль о побеге, тем более, что, по словам населения, человек, о котором идет речь, был совершенно самостоятельным, нейтральным и во время организации Рахманкулом шайки пытался сжечь самого Рахманкула, облив керосином крышу помещения, где находился Рахманкул. Характерно, что сегодня Ахмедов угнал пешком через ряд кишлаков человека, труп которого на другой день через те же кишлаки привезли его сыновья обратно на верховой лошади — в поводу. Что касается судьбы остальных арестованных, то один из них скрылся в Биш-арыке или расстрелян, а второй там же выпущен на свободу. По этому делу мы совместно с членом Турцика [Туркестанский центральный исполнительный комитет — высший орган власти в Туркестанской республике] т. Калянходжаевым вели разговор с указанным сотрудником особого отдела Ахмедовым, который факт грабежа у Имам-Назара отверг, а относительно расстрела показал, что арестованный был убит его джигитами при попытке бежать.
По словам населения, Нуретдин Мулла Ахмедов отбирал у перешедших к нам джигитов, их близких родственников и пастухов много скота, домашних вещей и оружия разных систем; нами лично установлено, что у четверых джигитов он не потребовал выдачи оружия, но снабдил их от себя удостоверениями на право свободного жительства, а у одного из джигитов отобрал одиннадцатизарядную винтовку и дал удостоверение такого содержания: «Удостоверение. Предъявитель сего Абиджан Абдурахимов действительно есть наш уполномоченный особого отдела. Ахмедов». Нами помимо этого отобрано у этого джигита револьвер системы наган и 59 шт. патронов к трехлинейке. Не выезжая из пределов Бабадарханской волости, Мулла Ахмедов большую часть времени проводил в своем селении Пангазе и со времени сдачи Рахманкула по 5–8 декабря жил за счет населения, довольствуя таким путем кроме себя 5 джигитов и 4–5 лошадей. Сельревком против этого ничего предпринять не мог, ибо после расстрела, указанного выше, население было окончательно запугано Ахмедовым.
Есть в районе еще зловредный элемент в лице Худайберды Мавлянкулова и его сына Игамберды Худайбердыева, живущих в Ашабе. Эти типы вели двойственную игру: с одной стороны, давали сведения о местонахождении Рахманкуловских шаек и имуществе, конечно, при содействии населения, а с другой стороны, обижая население забором у него имущества, скота, продуктов, фуража и пр., причем имея при себе оружие, угрожают населению, что укажут на мирных жителей как на участников шаек Рахманкула, причем в отношении некоторых односельцев угрозы эти и привели в исполнение. Наши же начгары [начальник гарнизона], не проводя ни дознания, ни следствия, верили этим проходимцам на слово, арестовывали указываемых мирных граждан, некоторых «выводили в расход», а некоторых отправляют по начальству. Эти люди втроем [вдвоем?] живут с лошадьми тоже за счет населения, которое, боясь быть спровоцированным ими, терпеливо молчит. Нами дано указание населению о прекращении им отпуска чего бы то ни было, о чем предупреждены и сами названные провокаторы. В первом нашем докладе они предназначены к высылке из района.
Самой главной задачей работы нашей в районе было изъятие оружия у рядовых джигитов с выдачею копий актов о сданном оружии. Однако среди рядовых джигитов находились элементы, не пожелавшие сдать оружия добровольно, и у некоторых пришлось отобрать таковое путем угроз арестом и преданием суду. То же самое наблюдалось и при сдаче имущества Рахманкула и его пансатов. Дознание и следствие о раскрытии спрятанного оружия в данное время ведется начальником районной милиции. Вот в этом деле — при обнаружении скрытого оружия и необходимо дать указания райревкому и раймилиции, как поступать в дальнейшем с лицами, не сдавшими оружия добровольно, а которое было обнаружено следствием. По нашему мнению, такие лица не должны оставаться безнаказанными. Второе — надо срочно принять меры к розыску в дальнейшем как оружия, так и имущества басмачей, ибо, по словам населения, его должно быть еще много. Для работы этой необходимо отпустить средства, командировав в район надежного партийного товарища, который в 2–3 месяца сумел бы выполнить эту задачу. Но к этой работе ни под каким видом нельзя допускать таких сотрудников карательных органов, как Нуретдин Мулла Ахмедов, неграмотный и не понимающий нашей задачи работы в районе. Такие сотрудники подорвут в корне начатую работу, расстроят все наши планы и доведут дело до того, что и сдавшиеся джигиты сбегут, будут вооружаться и вновь басмачествовать. Выбор сотрудников для этой ответственной, тяжелой и трудной по выполнению работы должен быть особо осторожен и тщателен, ибо неумелые и нетактичные приемы могут повести к недоверчивому отношению к нам населения, только что принявшегося за мирный труд и вздохнувшего свободно после ряда лет насилия и грабежа.
Гор. Наманган, 27 декабря 1922 года.
Ответственный секретарь угоркома КПТ (Макаев).
Председатель Наманганского угорревкома (Шамансуров).
Я привел доклад, чтобы можно было окунуться в атмосферу того времени. Этот документ вызывает вопросы о том, какие практики управления и подчинения использовались в момент перехода от активных военных действий к относительно мирному существованию, каковы были обстоятельства выживания местного населения в условиях войны и каким образом новый режим утверждался в Средней Азии. В частности, я хочу обратить внимание на то, как в документе возникала своеобразная стигма принадлежности, как проводились линии разделения на своих и чужих для советской власти. Это интересно с точки зрения того, каким образом люди выстраивали затем свои стратегии вспоминания и забывания.
В книге «Срывайте маски» Шейла Фицпатрик рассматривает, каким образом люди представляли себя в сталинском обществе в разных текстах (анкетах, доносах, письмах-просьбах, автобиографиях) — она называет это «индивидуальными практиками идентичности»284. Исследовательница предложила анализировать классы, национальность, конфессии и другие виды принадлежности не столько как объективно данные сообщества, сколько как предписывание и самопредписывание, сокрытие и открытие идентичностей, исполнение и манипулирование ими. В ситуации, когда власть создавала режим разделения общества на «наших» и «врагов», применяя различные меры преследования и поощрения в соответствии с этим принципом, принадлежность становилась важной сферой борьбы.
Процитированный доклад тоже есть своего рода карта принадлежностей и лояльностей, как ее увидели и воспроизвели два большевистских чиновника (один — русский, другой — «туземец») в 1922 году в Аштском районе. Однако на ней отсутствовали классовые, национальные или конфессиональные разметки. Главным же критерием для определения своих и чужих стала причастность к «рахманкуловскому движению»: те, кто надежен, нейтрален и не участвовал в басмаческих отрядах, считались сторонниками советской власти или по крайней мере потенциальными ее сторонниками, те же, кто был как-то вовлечен в басмаческую деятельность (пусть даже только через родственные связи), входили в категорию врагов, подлежащих наказанию, или подозрительного элемента, за которым надо наблюдать или который надо «изъять» (видимо, пока лишь отстранить от занимаемых в местном управлении должностей). Причастность/непричастность к «рахманкуловскому движению» стала стигмой, которая определяла положение в новой иерархии и доступ к государственным ресурсам, она была также указанием для политического действия, выбора местных союзников, заключения локальных альянсов и так далее.
Однако доклад показывает одновременно, что использование факта причастности к «рахманкуловскому движению» не могло решить все проблемы и дилеммы, с которыми сталкивалась власть. Те, кто был непричастен к Рахманкулу и, более того, участвовал в борьбе с басмачеством, сами вызывали вопросы в связи с тем, чтó они делали — грабили население, злоупотребляли полномочиями, выдвигали своих родственников на выгодные должности. При этом, чтобы риторически разоблачить тот вред, который приносили эти сторонники советской власти, чиновники опять использовали имя Рахманкула, ссылаясь на то, что притеснение населения идет на пользу басмачам и говорит о двурушничестве.
В качестве примеров упоминались два случая. Первый пример: выходца из Пангаза, сотрудника особого отдела Нуретдина Ахмедова авторы доклада обвинили в том, что он неграмотный, не понимает «нашей задачи работы», и предложили заменить на «надежного партийного товарища». Одним из обвинений в его адрес стал расстрел им «самостоятельного» и «нейтрального» человека, который будто бы даже пытался сжечь когда-то «самого Рахманкула»285. Другой пример — ошобинец Худайберды Мавлянкулов, «зловредный элемент», как он назван в докладе, который ведет «двойственную игру». Он был обвинен, в числе прочего, в том, что угрожал «указать на мирных жителей как на участников шаек Рахманкула», то есть применить к ним необоснованные репрессии. Парадоксальность обвинений в адрес Нуретдина Ахмедова и Худайберды Мавлянкулова заключалась в том, что те сами использовали в своей практике обвинений и наказаний ту же самую ссылку на причастность к «рахманкуловскому движению». Население Аштского района, и тем более Ошобы, которое «освободилось от угнетателей», было так или иначе вовлечено в 1918–1922 годах в повстанческую деятельность — и любой, кто хоть какое-то время жил при Рахманкуле, мог быть под подозрением в поддержке басмачества. Это, в свою очередь, неизбежно вызывало в качестве реакции различные свидетельства, поручительства и доказательства того, что тот или иной конкретный человек пострадал от Рахманкула или был в открытом либо скрытом конфликте с ним. Манипуляции такого рода обвинениями и оправданиями превратились в способ выяснения отношений и решения самых разных проблем. В конце концов, и тех чиновников, которые написали доклад, можно было упрекнуть в том, что они дискредитируют людей, боровшихся с басмачами, а значит, потворствуют врагам советской власти. Правдивость тех или иных фактов уже не имела большого значения — важно было соотношение сил и интересов, которое в итоге и диктовало характер риторики и цензуры памяти.
Обвинение в причастности к басмачеству сохранялось как инструмент разделения на своих и чужих по крайней мере до конца 1940-х годов. В частности, его активно использовали, судя по всему, в доносах, которые стали в сталинский период популярным жанром286. Фицпатрик говорит о двух функциях доносов — надзорной и манипуляционной: в первом случае власть использовала их как способ контроля за настроениями в обществе, во втором — люди сами использовали доносы для достижения личных целей287. В архивных материалах районного суда мне удалось найти газетную статью 1934 года, которая, по сути дела, являлась анонимным доносом, поскольку подписана псевдонимом (Kislata). Вот ее перевод с узбекского языка288:
Товарищ прокурор, вот вам колхоз, ограбленный мышами.
В кишлаке Ашаба, одном из самых больших в районе, 58 человек образовали колхоз «имени Буденного». Во время выборов правления колхоза классовые враги действовали по принципу «стреляй, пока не упал» [куй железо, пока горячо] и всеми силами старались захватить власть в свои руки. Комиссары, создавшие правление, не обратили внимания на это. Председатель колхоза Казыбай Гайиб-оглы289, кого во всем районе ни спроси — все скажут, был в прошлом отъявленным головорезом, правой рукой Рахманкула-курбаши. Очень странно, что человек, который вчера воевал против солдат Красной армии, сегодня является председателем колхоза. Став председателем, Казыбай начал грабить имущество колхоза.
Завхоз колхоза, мулла Мурад-дамулла Мулла-оглы, является имамом кишлака и вместе со своими родственниками совершает разные духовные дела. Даже внутри амбара в дневное время он занимается религиозными обязанностями.
Посмотрите на проделки классовых врагов. В первые же дни своего председательства они взяли под свой контроль мельницу. Перечисленные выше люди всего в амбар сдали 6690 кг [зерна], но при проверке там оказалось всего 3700 кг. 2990 кг были присвоены ими.
Когда создавался колхоз, они завладели мельницей, после этого [неразборчиво, но смысл тот, что нижеперечисленные лица сдавали зерно колхозу]: 1) [неразборчиво] Салиджанов 1696 кг, Мирза [неразборчиво] 1280 кг, Ж. Азизов 280 кг, [неразборчиво] 304 кг, Карабай 400 кг, А. [неразборчиво] 640 кг, Нематулла 340 кг, [неразборчиво] 32 кг, Рахимджан 320 кг, [неразборчиво] 80 кг, еще один кулак (сбежавший из кишлака) 400 кг — всего 6690 кг сдали, но при проверке выяснилось, что в амбаре оказалось 3700 кг, 2990 кг они присвоили.
И еще один вред, принесенный руководителями колхоза, — они продали одну лошадь на базаре Коканда за 1300 рублей, а составили акт на 900 рублей и 400 рублей присвоили себе. У Хайитмата Кырыкйигит-оглы купили одну лошадь за 860 рублей, а оприходовали в колхоз за 960 рублей. В феврале купили 4 лошади от финансового отделения и 2 оприходовали в колхоз, а остальные две скрытно продали и присвоили деньги. Вредительства Казыбая отражаются на колхозном скоте — недавно 11 коз и 2 вола бесследно исчезли. Казыбай спекулирует на продаже земель — недавно он на украденные у колхоза 3000 рублей купил у Орунбая Коканбай-оглы землю и перепродал ее.
Бригадир колхоза — Сафар Джаббаров. Это один из их подельников. В прошлом он также был одним из головорезов басмача Баба-ходжи [Бува-ходжи], отряды которого были уничтожены в 1934 году. С помощью денег и имущества он стал бригадиром колхоза. Будучи бригадиром, он по-прежнему продолжает заниматься басмачеством. Недавно, собираясь присвоить не входившие в план колхоза земли Туйгил, дочери Мавлана, он избил ее и всю покалечил.
Заваленные жалобами от жителей кишлака, районная земельная секция и районная государственная прокуратура бездействуют. Теперь мы надеемся на высшую прокуратуру и ждем наказания виновных.
На основе доноса появилась опубликованная на русском языке листовка290:
Листок действия № 677/5787, «Правда Востока»: за срыв листка виновные подлежат к уголовной ответственности291.
Кулаки растаскивают колхозную собственность.
В Аштском районе (сельсовет Ашаба) колхоз им. Буденного состоит из 58 хозяйств. Председатель колхоза Казы Гоибов — первая рука известного в Фергане курбаши Рахманкула. Заведывающий хозяйством Мурадханов, сын старого домуллы, члены правления колхоза Мулла Ишмат Хидыр, Джабаров и другие — проходимцы и бывшие растратчики. Недавно с колхозной мельницы поступило 6690 кг пшеницы, председатель Гоибов и завхоз Мулла Курбан-домулла оприходовали 3700 кг, а остальные 2990 килограмм присвоили. Гоибов продал в Коканде колхозную лошадь за 1300 р., составили акт, что лошадь продана за 900 р., 400 р. прикарманил. При покупке для колхоза лошади Гоибов нажил 100 р. Из четырех лошадей, купленных у финотдела, в колхоз привез только двух. Гоибов продал 11 колхозных коз и две коровы. Выручку присвоил. Единоличников Гоибов настраивает против колхозов, он пугает, что колхоз отберет у них сады. Папки райпрокурора наполнены этими материалами, но он на них не реагирует. Требуется срочное вмешательство верховного прокурора.
Алмас (Almass).
От редакции: Ждем ответа от прокурора не позднее 30 сентября 1934 г.
Отв. редактор (Вязовский).
По сравнению с докладом 1922 года оба документа написаны уже в другом контексте и отражают реалии следующего десятилетия — коллективизацию и борьбу различных групп за доступ к государственной власти, о чем подробнее пойдет речь в других разделах книги292. Здесь я хочу лишь отметить, что отсылка к басмачеству, упоминание имен Рахманкула и Бува-ходжи еще довольно долгое время оставались важными средствами обвинения и оправдания. Наравне с новыми формулами — социальное (или религиозное) происхождение, злоупотребление властью, моральная распущенность293 — принадлежность к «рахманкуловскому движению» была частью языка конфликтов в местном обществе. Причем, как показывает сравнение узбекоязычной и русскоязычной версий приведенного выше доноса, отсылка к басмачеству была даже важнее для локального сообщества, нежели для советских чиновников неместного происхождения. Стиль доноса, описывающего головорезов, должен был произвести впечатление прежде всего на аудиторию, которая более чутко воспринимала и чувствовала противоречия между различными местными группировками.
Новая антибасмаческая волна имела место после Великой Отечественной войны. В 1947–1948 годах в Казахстан была депортирована группа ошобинцев с семьями — их обвинили в том, что они служили в отрядах басмачей294. Когда Сталин умер, большинство из них вернулось обратно. Тем не менее Отечественная война отодвинула тему Гражданской войны 1918–1923 годов на второй план — как часть истории. Смерть Сталина привела к сокращению использования репрессивных практик. Выросло и вступило в жизнь новое поколение, не заставшее революционных событий. Выросли дети Рахманкула, которые жили в Ошобе и ничем не выделялись среди других ее жителей, один из его сыновей погиб на фронте.
В 1950—1960-е годы принадлежность к басмачам постепенно перестала фигурировать в официальных обвинениях, разного рода личных делах и быть предметом страха и умолчания. Ссылка на причастность к «рахманкуловскому движению» перестала быть орудием в местных конфликтах. Но память об этих событиях, которую власть закрепила через репрессии в предыдущие годы, трансформировалась в элемент локального самосознания. Вот как об этом говорил один из моих собеседников:
В последующие после басмачества годы по настоящее время всех ашабинцев по привычке в Ферганской долине и Ташкентской области продолжают называть курбаши. С одной стороны, это приподнимает самосознание ашабинцев и дает возможность идентифицировать себя с каким-то сообществом. Особенно это было важно, например, мне, как ашабинцу, выросшему вне родного кишлака. Мои старшие братья всегда, если я показывал слабость, указывали на это: «Какой же ты курбаши?! Ашабинцы не плачут!» Я артековец, пионер-комсомолец, выросший на ленинско-коммунистических принципах, принимая все советское — идеологию, лозунги, цели, принципиально расходился во всем, что касается басмачества. Слово «басмач» для меня не было ругательством, а наоборот: при просмотре фильмов про басмачество я всегда был на стороне басмачей. Принадлежность к потомкам курбаши с детства прививалась старшими младшим и являлась важным элементом в воспитании «настоящего ашабинца». Большинство ашабинцев, особенно молодых, знают, что Рахманкул — курбаши. И все! Каждый из них знает, что это известный предок и нужно быть похожим на него. Именно этот период считается среди ашабинцев периодом «идеальной Ашабы». Это также давало возможность всем, кто живет вне кишлака, привязывать себя к кишлаку.
В 1973 году в Ташкенте на узбекском языке вышла книга «Коран и маузер»295. Ее автором был Сергей Калмыков, с рассказа которого о гибели Синицына я начал этот очерк. В книгу рассказ о комбриге не был включен, но Рахманкул оказался одним из ее героев. «Коран и маузер» — всего лишь историко-революционный роман, художественный вымысел, который автор совместил с реальными событиями. Однако книга имела большое значение для самосознания ошобинцев — те, кто сумел ее прочитать, пересказывали содержание романа односельчанам, а те, в свою очередь, передавали услышанное по цепочке. Образ Рахманкула неожиданно обрел своеобразную легальность, и на книгу Калмыкова стали ссылаться как на документальное свидетельство о прошлом Ошобы.
* * *
Американский антрополог Брюс Грант в статье «Одно обычное азербайджанское село» рассматривает память об антисоветском восстании в азербайджанском городке Шеки в 1930 году. Он пишет: «Я изучаю вопрос о том, в какой мере опубликованные и архивные источники способны конкурировать между собой по силе воздействия на различные аудитории. Объединяя письменные и устные рассказы для того, чтобы воссоздать историю наиболее полно, я смог избежать тупика, в котором оказываются многие пишущие о Кавказе, где политика издавна воспринималась как нечто относящееся к прерогативам исключительно власти, история виделась летописью государственных дел, а этнография представлялась собранием диковин. Долгая жизнь восстания в Шеки показывает, насколько политика, история и культурная основа неотделимы друг от друга в тех случаях, когда некое значимое событие приобретает символическое значение»296.
Грант отказывается от идеи восстановить действительный ход событий и выяснить подлинные мотивы действий героев. Его больше интересует, в частности, то, что в устных историях о главном герое восстания — Молле Мустафе Шейхзаде — местные жители описывают происходившие события в качестве проявлений его сакральных качеств, унаследованных им как потомком известного мусульманского святого. Это восприятие никак не отражается в документальных источниках и добавляет к истории восстания новое, метафизическое измерение, важное с точки зрения участников данных событий и тех, кто о них вспоминает или их реконструирует. Такой подход, как считает Грант, позволит точнее учитывать местный культурный и религиозный контекст, в котором события происходили и интерпретировались, увидеть «явления, глубоко укоренившиеся в рутинной политической практике Кавказа»297. Эта позиция представляется мне интересной и продуктивной в том числе и при анализе различных рассказов о Рахманкуле и басмачестве.
Напомню, что в советской историографии сложился взгляд на басмачество как на выражение интересов «байства, местной буржуазии и реакционного духовенства», хотя в силу отсталости региона в него была вовлечена часть «трудового дехканства»298. В новой историографии Узбекистана оценка басмачества сместилась в сторону антиимперской и антисоветской критики. Согласно одной из здешних точек зрения, повстанческое движение начиналось с восстания 1916 года, когда попытки имперского правительства мобилизовать местное население на фронт вызвали массовое недовольство, которое переросло затем в более или менее организованное сопротивление большевизму, продолжившему колониальную политику299. Некоторые исследователи, впрочем, предлагают не сводить это движение к борьбе с большевиками и видят в его рядах различные региональные, этнические, политические и даже криминальные группы, которые нередко противостояли друг другу и решали свои собственные задачи300. Для ученых Таджикистана тема басмачества пока находится в тени, а в их оценках преобладает мнение, что это была «стихийная народная реакция на безвластие»301.
Все эти мнения имеют под собой основания, и всегда можно найти факты, которые их подтверждают. Но меня в данном случае интересует не взвешивание на весах, кто прав или виноват, не реконструкция истинной истории и не поиск какой-то одной правильной объяснительной модели. Вслед за Брюсом Грантом я ставлю вопрос о том, каким образом местное население вспоминает о тех событиях, что оно видит или не видит, что акцентирует или забывает, какие образы, представления, интересы обнаруживаются, когда речь идет о прошлом.
В тех рассказах о Рахманкуле, которые я слышал в Ошобе, не было какого-то сакрального плана (хотя, возможно, мне просто не повезло его найти302). Курбаши не принадлежал к сословию «потомков святых», и жители кишлака воспринимали его как обычного человека. В некоторых рассказах были мифологические образы, но они не составляли основы нарратива. Тем не менее подход Гранта вполне приложим к моему случаю. Только я бы заменил сакральный контекст на локальный, с позиции которого ошобинцы видели и оценивали происходившее совсем иначе, нежели это делалось и делается в официозных историях басмачества, когда рассуждают об экономике, революции, классовой или национальной борьбе и так далее. Для жителей кишлака при описании и оценке Рахманкула важны обстоятельства, которые не видны внешнему наблюдателю: происхождение, родственные связи, наличие или отсутствие поддержки со стороны влиятельных семей, следование определенным нормам поведения, особенно по отношению к женщинам, защита интересов Ошобы. Можно предположить, делая поправку на более поздние искажения, что такое же местное восприятие господствовало и тогда, когда все эти события разворачивались в реальности. Люди участвовали в них на стороне басмачей либо на стороне их противников, или переходили с одной стороны на другую, или оставались нейтральными не по какой-то одной схеме, а согласно множеству частных соображений, которые им приходилось осознанно или неосознанно учитывать.
Я бы лишь добавил к той позиции, которую обозначил Грант, что местный нарратив не был полностью закрытым и независимым от внешнего воздействия — мы должны учитывать и изучать такого рода воздействия и пересечения с официальными нарративами. Репрессии против тех, кто был причастен к басмачеству, сформировали особый язык оправдания и осуждения Рахманкула. В местных преданиях ошобинский лидер действовал в интересах сообщества, но нарушил договоренности и был неизбежно, а значит, справедливо наказан. Этот язык позволял в случае необходимости гибко использовать историю басмачества и для доказательства своей особости (за жителями Ошобы закрепилось полушутливое прозвище басмачей), и для выражения лояльности советской идеологии.
Очерк третий ИМПЕРИЯ
Британский историк Рональд Робинсон в статье с провокационным названием «Неевропейские основания европейского империализма», которая была опубликована в 1972 году, провозгласил необходимость создания новой «теории империализма»303. «Старые» теории исходили исключительно из логики капиталистического развития Европы, которой понадобились колонии (как рынки сбыта и сферы извлечения ресурсов) и которая, соответственно, безраздельно господствовала в них. По мнению Робинсона, «новая теория должна признать, что империализм в равной мере был производной как самой европейской экспансии, так и сотрудничества (или отказа от сотрудничества), демонстрируемого его местными жертвами. Мощные силы, производимые индустриальной Европой, было необходимо объединить с элементами аграрных обществ остального мира. Без этого империя не смогла бы функционировать»304. Другими словами, империи создавались, как считает автор, совместно европейцами и неевропейцами через их взаимное сотрудничество.
Европа, писал Робинсон, приходила в другие части света со своими представлениями и интересами, но смогла создать устойчивую систему управления, только переведя свою власть на язык «местной политической экономии». По убеждению британского историка, без коллаборационистов (исключая какой бы то ни было негативный оттенок этого слова), или посредников, то есть людей, которые сами заинтересованы в приходе европейцев, империи невозможны. «Финансовые сухожилия, а также военные и административные мускулы империализма задействовались при посредничестве местных элит самих завоеванных стран»305. С точки зрения посредников, завоеватели приносят с собой новые источники власти и богатства, которые могут быть использованы местной элитой и послужить для укрепления ее могущества, а значит, колониальное управление местным элитам было нужно не меньше, если не больше, чем иноземным. Завоеватели же имели довольно ограниченные силы, чтобы полностью контролировать коллаборационистов и использовать их исключительно в своих собственных интересах.
Несмотря на то что в такого рода рассуждениях проглядывает стремление оправдать колониальную политику, они представляют тем не менее целый ряд привлекательных возможностей. Эта точка зрения позволяет увидеть более сложную совокупность моделей поведения колонизируемых и колонизаторов, нежели простая схема доминирования, подчинения и сопротивления, которая все взаимоотношения в колонизированном сообществе сводит к довольно ограниченному набору реакций на действия извне. Схема Робинсона также ставит под вопрос всесилие европейской колониальной власти, ее безграничную способность односторонне создавать знание о неевропейцах и навязывать свои представления и предрассудки подчиненным обществам, вынуждая их безоговорочно принимать новые категории и порядки.
В настоящем очерке я попытаюсь приложить эту схему к Средней Азии. В частности, попытаюсь проанализировать то, как представала мало чем примечательная, запрятанная в горах, далеко от городов, Ошоба в разного рода документах, составленных российскими имперскими чиновниками, какими представлялись в их глазах ошобинское сообщество и отношения внутри него, чтó именно в первую очередь интересовало колониальную власть. Тот факт, что источников не так уж и много, сам по себе важен, так как позволяет обнаружить лакуны, разрывы и ошибки в колониальном знании, увидеть, с одной стороны, как эта неполнота возникает, а с другой — как благодаря такой неполноте образуются диспропорции во взаимодействиях колонизаторов и колонизируемых, как она используется для управления и подчинения, каким образом слабость превращается в силу.
Империя собирает сведения
Пути
В России первые сведения о юго-восточных предгорьях Кураминского хребта стали появляться в первой половине XIX века, когда через перевал Кендыр-даван (Кендырлик)306, разделяющий долину реки Ахангаран и Ферганскую долину, началось интенсивное передвижение российских посольств, направлявшихся в Коканд или из Коканда307. Эти данные содержались в «дорожниках» (дорожных записках) с более или менее подробным описанием пути следования. Такие «дорожники» выполняли двойную задачу: с одной стороны, давали какое-то общее представление о регионе, который путешественник мог ограниченно наблюдать, а с другой — фиксировали маршрут, по которому могли продвигаться войска в случае необходимости.
Российский военный А. Хорошхин, который побывал в Фергане в 1867 году, оставил краткую характеристику здешних селений: «Мулла-мир — таджикское селение в 30–40 дворов», «В Бодархане [Бабадархане] 100 дворов; жители таджики. Влево от Бодархана <…> стоит городок Пангаз в 1000 дворов; за Бодарханом <…> кышлак Курук в 100 дворов, затем городок Шайдан в 500 дворов», «Влево от Шайдана <…> лежит селение Курумсараи [Гурум-сарай] в 300 дворов; <…> кышлак Кудаш в 40 дворов и <…> городок Аш [Ашт] в 1000 дворов; вправо <…> находится укрепление Камыш-курган»308. Ошоба, которая располагалась чуть в стороне от основных транспортных артерий, была незаметна для путешественников-разведчиков и отсутствует в списке.
Первые систематические сведения о системе управления Кокандским ханством были собраны в 1875 году востоковедом А. Л. Куном, который имел возможность работать с официальными документами. Российского ученого интересовали прежде всего экономические возможности ханства, и в первую очередь — собираемые налоги. В это время, по его информации, территория современного Аштского района входила в состав отдельного Бабадарханского бекства. Это бекство, состоявшее из двенадцати «значительных селений» (правда, автор их не назвал), поставляло в казну 6 тыс. батманов зерна натурального налога309, 1,2 тыс. тилля310 — налог-танап с огородных и хлопковых культур, 6 тыс. тилля — налог-закят на скот, 300 тилля — налог-закят «на базарные весы» и 1 тыс. тилля на ввозимые и вывозимые товары311. По сравнению с другими кокандскими бекствами Бабадарханское давало относительно меньше налогов с зерна и базара, зато больше — с огородных культур и скота. Это вполне соответствовало горным условиям хозяйства, где преобладали сады и животноводство. Одну из главных налоговых статей составляли таможенные сборы, поскольку в селении Бабадархан находился таможенный пункт, через который шло интенсивное движение товаров в Ташкент и далее в казахскую степь, Россию и обратно (и далее в Китай). Рядом с Камыш-курганом находились также крупные солеразработки, известные во всем Кокандском ханстве.
Собранные Куном сведения дают самое общее представление об экономике этого уголка Ферганской долины, но ничего не говорят о хозяйственной жизни Ошобы. Отдельный кишлак не существовал для российского востоковеда, которому была интереснее картина в целом — система политического управления и экономический строй Кокандского ханства. Эта картина не должна была быть слишком детальной, а ее контуры рисовались лишь по некоторым узнаваемым точкам.
Территория
Завоевание ханства заставило российскую власть задуматься о переустройстве территории, приведении ее в тот порядок, который был бы понятен новым правителям. В сентябре 1875 года, когда весь правый берег Сырдарьи отошел по договору с Насреддинханом к Туркестанскому краю, российская власть вместе с проведением военных операций приступила к организации управления и сбору сведений о подвластной территории. В составе Наманганского отдела был образован Чустский участок, к которому отнесли территории бывшего Чустского и Бабадарханского бекств. В декабре 1875 года начальник Наманганского отдела генерал Скобелев дал указание полковнику Меллер-Закомельскому установить «хотя бы приблизительные» данные о числе дворов всех селений участка, численности «душ мужского пола», «происхождении их и занятиях», площади возделываемой земли, количестве базаров и лавок, а также назначить новых или утвердить прежних «аксакалов и аминов»312. Тогда же Скобелев дал указание рассмотреть вопрос о целесообразности создания отдельного Бабадарханского участка.
После прекращения активных боевых действий, ликвидации Кокандского ханства и образования в феврале 1876 года Ферганской области в составе Туркестанского генерал-губернаторства началась систематическая административная разметка вновь присоединенных к империи земель.
Наманганский отдел был расформирован, и на его территории возникло два уезда — Наманганский и Чустский. Чустский уезд, в свою очередь, состоял из девяти волостей, в том числе Аштской и Бабадарханской, которые раньше составляли одно Бабадарханское бекство. Уездный начальник занимался полицейскими, хозяйственными и военными делами. В 1887 году Чустский уезд был ликвидирован, а его территория включена в состав Наманганского уезда, однако на месте бывшего уезда сформировали Чустский участок. В обязанностях участкового пристава осталось исполнение исключительно полицейских функций. Позднее пять волостей, включая Аштскую и Бабадарханскую, составили отдельный Чадакский участок.
Согласно разграничению, сделанному в 1876–1877 годах, в Аштскую волость вошли селения Ашт, Ошоба, Гудас, Пунук, Ак-джар, Аштлык, Ак-кудук, Баштал, Пискокат, в Бабадарханскую — Бабадархан, Пангаз, Шайдан, Камыш-курган, Мулламир, Дулана (Карамазар), Курук. Граница между волостями пролегла между Ошобой и Шайданом. В 1884 году Аштская волость включала в себя шесть сельских обществ: 1) Верхний Ашт (в том числе селение Пискокат), 2) Нижний Ашт, 3) Гудас, 4) Пунук, 5) Ошоба, 6) Ак-джар (в том числе селение Аштлык). Такое разделение, с небольшими изменениями313, осталось вплоть до 1917 года.
Административное устройство в глазах российских чиновников было тесно связано с представлениями о территориальности. Империя осознавала себя как пространство, имеющее центры и окраины, площади и границы, которые следовало измерять, наносить на карты и которые были основными ориентирами в организации управления. При этом расположение мест, где находились институты власти (не в последнюю очередь — военные базы), расстояние, а значит, и скорость сообщения (передвижения войск) между ними становились главными критериями для распределения территории на единицы управления. Разумеется, такая логика вступала в противоречие с местными практиками и представлениями об удаленности и близости, для которых важнее были совсем другие критерии — происхождение и брачно-ритуальные контакты, хозяйственные циклы, водные системы и другие факторы.
В колониальной картине кишлак Ошоба (в российских документах использовалась транскрипция Ашаба) был всего лишь точкой на карте, но в действительности ошобинское сообщество представляло собой сложно организованное пространство. Сам по себе поселок был типичной зимовкой, куда население собиралось только в наиболее холодные периоды года. Весной те местные жители, которые занимались животноводством (выращивали коз и овец), уходили далеко на горные пастбища, рассеиваясь по всему Кураминскому хребту. Значительная часть ошобинцев переселялись на лето в длинное, растянутое на десятки километров горное ущелье, по которому протекала речка Ошоба-сай (сой), именно его полковник Пичугин в своем донесении в 1875 года назвал Ашабинским ущельем. Здесь они использовали небольшие речные поймы, большие и маленькие родники, которые стекали со склонов или выходили из-под земли, для полива и возделывания садов и огородов. Какая-то часть ошобинцев-земледельцев спускалась в Аштскую степь, а какая-то уходила еще дальше в горы, чтобы обрабатывать земельные участки, которые возникли вокруг небольших родников и речушек. У ошобинского учителя истории Умурзака Маматкулова, по его словам, был список с указанием 81 родника-булак (булоқ)314: одни из них были естественными, а другие искусственными — ошобинцы в степи или на горных склонах копали колодцы и выводили воду из них на поверхность315. У некоторых родников жители иногда оставались и на зиму, а сами эти места, по сути, превращались в выселки с постоянным населением, которое тем не менее не теряло связей с Ошобой и ошобинским сообществом.
Вся эта запутанная картина расселения и сезонной миграции никак не учитывалась в административной сетке колониального управления316. Власть не имела сил и инструментов, чтобы отслеживать все перемещения людей. Когда же выселки вдруг обнаруживались, то российские чиновники помещали новые элементы в уже существующее административное пространство, исходя из своих собственных представлений о территории и расстоянии. Именно таким образом «дача» Аксинджат, один из выселков Ошобы, в 1890-е годы оказалась приписанной к сельскому обществу Гудас317.
Налоги
Одной из главных забот имперской власти помимо сохранения спокойствия на завоеванной территории и ее военного контроля был сбор налогов. Вновь приобретенные земли должны были как минимум окупать текущие расходы на администрацию, а по возможности и приносить империи доходы. Однако последняя задача была достигнута лишь к 1910–1911 годам318. Тем не менее полный учет экономического производства, его классификация, установление налогов и полный их сбор были, пожалуй, самой главной заботой российской власти в Туркестане.
В первые три-четыре года своего присутствия в Фергане власть продолжала применять некоторые прежние, использовавшиеся в Кокандском ханстве, виды налогообложения. Часть налогов (базарные сборы, лесные, наследственные и прочие) была отменена — то ли за невозможностью их учитывать и контролировать, то ли из-за желания успокоить страсти после кровопролитной войны. Закятные сборы на торговлю были заменены сборами на право заниматься торговлей (процент не с оборота, а с капитала). Были оставлены два главных налога — танап (определенный сбор с единицы площади, засеянной культурой, которую невозможно измерить по объему) и херадж (десятая доля действительного урожая). В прошлом эти два налога собирались местными чиновниками, которые каждый год измеряли посевы и урожаи. Российская власть в Ферганской области поначалу решила собирать налоги в тех размерах, как они были зафиксированы в старых кокандских записях319.
Таблица 1
Записи налоговых сборов в Ошобе в 1879 году
Источник: Свод поступлений танапных податей по Чустскому уезду в 1879 г. // ЦГА РУз, ф. 276, оп. 1, д. 887 в. Л. 8 об., 9, 22 об., 23, 34 об., 35, 45 об., 46, 65 об., 66, 75 об., 76, 82 об., 83.
В архивах я нашел записи 1879 года о налогах с сельского общества Ошоба (табл. 1). Они довольно подробно зафиксировали структуру и размеры (не всех, а лишь налогооблагаемых!) посевов в том виде, как это представлялось кокандской власти накануне российского завоевания, переведя их в русские единицы измерения. Из записей мы узнаем, что общая посевная площадь составляла чуть больше 650 дес. (около 710 га), две трети из которых отводились под пшеницу (буғдой), остальное — под ячмень (арпа), сорго (жўхори), лен (зиғир), итальянское (қўноқ) и другие виды проса (тариқ). К этому надо добавить не учтенные в архивном документе садовые и огородные насаждения, которые могли занимать немалую территорию — не менее 100 га.
Однако ежегодное составление таких списков, учитывающих реальную засеваемую площадь и реальный урожай по каждой сельскохозяйственной культуре, требовало от власти непомерных затрат времени и сил, наличия своих специалистов-землемеров и множества платных помощников из числа местных жителей, а также вызывало риски беспрерывных конфликтов по поводу недостачи налога. Несколько лет беспрестанных попыток отследить хозяйственную деятельность населения Ферганской долины привели власть к решению ограничиться определением общих размеров возделываемых земель отдельных сельских обществ, главной сельскохозяйственной культуры, которая здесь выращивается, и расчетом раз в несколько лет среднего размера ее урожая320. Вместо танапа и хераджа был введен один денежный (поземельный) налог — в размере 10 % от общей стоимости условного урожая, рассчитанную сумму должно было выплачивать общество в целом, внутреннюю же раскладку предлагалось устанавливать самим жителям. Эта упрощенная схема исчисления и сбора налога была введена по указанию генерал-губернатора Кауфмана в 1880 году, а в 1886 году она была узаконена Положением об управлении Туркестанским краем.
Сбор поземельного и других налогов превратился из местных споров между конкретным землевладельцем и сборщиком налогов, как было при хане, в отношения между уездным начальником — с одной стороны, волостным управителем — с другой стороны, сельским старшиной — с третьей, и отдельным крестьянином — с четвертой. Первый на основании переговоров с волостным и полученных расчетов, порой весьма далеких от реальности, исчислял ожидаемые суммы сборов, после чего волостной в переговорах со старшиной распределял их выплату между сельскими обществами и, наконец, внутри общества старшина договаривался с каждым землевладельцем о доле последнего в общей сумме. Такая ситуация больше устраивала российских чиновников, так как значительная часть споров и конфликтов переводилась на самый низовой уровень управления, колониальная же власть оставалась от них в стороне.
Экспликация на дачу
В 1898 году поземельная подать с Ошобы составляла 498 руб. 96 коп.321, то есть меньше рубля на одного землевладельца. В 1899 году в сельском обществе были произведены подробная съемка и описание территории322 и выявлено, в частности, что общая орошаемая площадь составляет 751 дес. (около 820 га), примерно столько же, сколько по записям 1877 года. Из них 251,7 дес. (275 га) находились под пшеницей. По результатам съемки все земли оказались разделены на три «дачи»: собственно вокруг селения Ошоба, отдельно горные участки (было, в частности, упомянуто местечко Тахтапез) и третья «дача» — Аксинджат, которая была, как я упоминал выше, описана в составе Гудасского сельского общества. В 1910 году чиновники опубликовали часть сведений из экспликации (табл. 2).
Таблица 2
Данные экспликации в Ошобе в 1899 году
Источники: Материалы для статистического описания Ферганской области. С. 14, 15, 18, 110, 111; ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 34081. Л. 1—29.
На каждую «дачу» производился отдельный расчет налога, то есть она становилась основной податной единицей.
Путем измерений было установлено, что общая площадь одной «дачи» Ошоба (включая земли в кишлаке, вокруг кишлака и в выселках по ущелью) составляет чуть больше 835 дес. (около 900 га), в том числе орошаемых — около 535 дес. (около 580 га) и засеваемых — около 332 дес. (около 360 га). Колониальные чиновники привели в документе показатели как в десятинах, так и в танапах323, которые соответствовали местной традиции измерения: всего в «даче» Ошоба оказалось 5013 танапов, из них 3215 танапов обрабатываемой земли.
Взяв в июле «пробный умолот пшеницы», составив протоколы, собрав отпечатки пальцев у местных жителей и поставив печать у сельского старосты, комиссия установила, что средний урожай пшеницы в данной местности составляет 35 пудов (573,3 кг) с 1 дес., средняя цена за пуд пшеницы — 50 коп., следовательно, средний валовой доход от десятины пшеницы равен 17 руб. 50 коп. Поскольку пшеница была преобладающей культурой (44 % от всех посевов, еще 30 % составляли лесонасаждения, остальное — прочие посевы, клевер, сады, виноградники), то вся засеваемая площадь (332,4 дес.) умножалась на указанный средний доход, и получался валовой доход в размере 5817 руб.; 10 % этой суммы — 581 руб. 70 коп. — назначались «даче» в качестве государственного поземельного налога. Вместе с налогами на вторую «дачу» — Тахтапез — общая сумма подати со всего сельского общества увеличилась по сравнению с прежним уровнем почти на 40 %324.
Также российские чиновники подробно описали систему орошения Ошобы:
Земли дачи расположены в горных ущельях и орошаются снеговой водою Гарван-сая (то же Ашаба-сай) и ключевою.
Гарван-сай образуется из двух саев: Куюнды-сай — с запада и Урта-сай — с востока. Эти два сая берут начало в горах тех названий. Гарван-сай принимает в себя с правой стороны Ингичке-сай и с левой — Кызыл-Алма-сай, которые берут начало в горах вне дачи.
В разных местах дачи есть много ключей. Самый большой ключ Булак-Баши находится близ впадения Кызыл-Алма-сая в Гарван-сай. В годы с обыкновенным достатком снега в горах орошение дачи вполне достаточное для всех ее земель; в 1899-м же, исключительно маловодном году, снеговой воды было очень мало и дача орошалась почти исключительно только ключевой водою, которой также было меньше, чем бывает в обыкновенные годы, а потому в самом низу дачи, ниже Мазар-Баба-Чинар325, посевы пшеницы, расположенные в открытой местности и потому требующие более частой поливки, получили недостаточное орошение.
После снежной зимы земли дачи получают постоянное орошение, а в маловодные годы — очередное, причем вся вода расходуется в 11 дней, из которых 8 дней орошаются поля 8-ми кварталов дачи326, каждый по 1 дню, и остальные 3 дня вода отпускается на те поля нижней части дачи, которым ее не хватило в очередной день.
25 октября 1899 года сначала сельский старшина, а затем депутаты (о них см. ниже) удостоверили документы. В конце стояли также подписи «комиссара», подполковника Николая Ивановича Янцына, землемеров Лавра Анфимовича Клугина и Акила Фаддеевича Микрюкова.
17 марта 1900 года комиссар IV участка наманганской поземельно-податной комиссии официально объявил местному населению налоговый расчет по всем «дачам», «причем на этот расчет возражений не последовало». В материалах дела также указано, что еще в мае 1898 года жителям Ошобы было объявлено:
…те из упоминаемых в ст. 255 Положения искусственно орошаемых обрабатываемых земель, кои не будут указаны как принадлежащие населению, не будут сняты на планы, не войдут в выдаваемые по ст. 263 Положения свидетельства на владение и не будут подлежать утверждению за населением.
Данная фраза означала, что «дача» становилась податной единицей, а нанесенная на карту и описанная территория утверждалась во владении ее жителей327. Это объясняет, почему российских чиновников при составлении экспликации интересовала не столько классификация посевных культур, как это было в записях 1877 года, сколько классификация всех типов земли — обрабатываемых и необрабатываемых — и точная привязка их к местности (к делу приложена соответствующая карта). В последнем нуждались и для более корректного расчета поземельного налога, и для определения земель, остающихся у государства или переходящих в его собственность, которая к тому времени также стала интересовать колониальную власть Туркестана как новое потенциальное поле деятельности, например для проведения каналов и переселения русских (или русскоязычных) крестьян или для инвестирования в добычу ископаемых.
Итак, мы имеем явное стремление власти к большему контролю над экономикой и собственностью местных жителей. Но возникает вопрос: насколько эффективен был этот контроль и укрывали ли ошобинцы какую-то часть своей жизни от колониального взгляда? В частности, можно осторожно предположить, что, видимо, часть земли в горной местности, а также богарные посевы могли не попасть в поле зрения российских чиновников328. Хотя ошобинцев, как следует из документов экспликации, предупредили, что неуказанная земля не будет записана в качестве их собственности, для местных жителей такая угроза была не слишком ясной. В повседневной жизни они поступали в основном по своим собственным правилам и обычаям, которые регулировали практическое землевладение и землепользование, появление каких-то посторонних людей, претендующих на эти (повторю — горные) земли, было крайне маловероятно. К тому же подобный обман был не особенно существенным, так как горные участки и богарные поля засевались и давали урожаи очень нерегулярно, а значит, колониальной власти было трудно уследить за этими землями.
Примечательно, что в 1909–1910 годах была проведена дополнительная проверка ошобинских земель. В результате к имеющейся земле были добавлены новые площади и на них установлен дополнительный налог329. Обращает на себя внимание то, что в основном вновь записанные за сельским обществом территории составляли необрабатываемые земли и выгоны, которые жители кишлака решили официально оформить в свое владение, избежав таким образом их полного отчуждения в государственную собственность.
Впрочем, главное даже не в том, что местное население что-то скрывало от колониальной власти, а в том, что предложенные последней способы измерения и начисления налогов оставляли целые сферы экономической деятельности вне какого-либо государственного наблюдения. П. Е. Кузнецов, который в начале XX века путешествовал по этому региону, отмечал, что население здешних предгорий живет «посевами хлебных злаков, отхожими промыслами, торговлею ситцами с курамою и продажей абрикосов»330. Налоговая система, которая делала акцент на посевах пшеницы, не учитывала важных для местной экономики садовых (шелковица-тутовник, яблоки, абрикосы, грецкий орех) и огородных культур, имевших в том числе и товарный характер — эта продукция вывозилась на рынки в Коканд и Чуст331. Причем доходность этих культур могла значительно превышать прибыль от пшеницы332. Колониальная экономика никак не учитывала местных женских промыслов — изготовление ковров и паласов, которыми Ошоба славилась и которые составляли одну из статей доходов ее жителей. Наконец, в учет не попадала, пожалуй, самая доходная и главная в глазах населения сфера — разведение мелкого рогатого скота (овец и коз)333. Все эти хозяйственные отрасли, по сути дела, были выведены из-под государственного контроля и полностью отданы на откуп самому местному сообществу и тем местным способам регулирования, которые в данной общине сложились.
Могла ли колониальная власть при желании увидеть (измерить, подсчитать) дополнительные, часто тщательно спрятанные источники доходов и установить на них налоги? Может быть, чиновники сознательно закрывали глаза, надеясь на умиротворение завоеванного населения? Вряд ли на эти вопросы можно ответить однозначно. В случае с Ошобой неспособность повседневно контролировать население и стремление не вызывать протестных настроений, по-видимому, дополняли друг друга и сдерживали власть от резких решений.
Собственность
Вернусь еще раз к проблеме собственности. Несмотря на то что сбор налогов имел коллективный характер, российская власть Положением 1886 года закрепила статус частной земельной собственности в Туркестанском крае. Правда, по этому вопросу велись довольно бурные дебаты между различными партиями чиновников и экспертов334. Первый генерал-губернатор Туркестанского края К.П. фон Кауфман пытался отстоять ту точку зрения, что земельная собственность в регионе должна быть государственной, а пользование землей — подворным или даже общинным. В 1871 и 1873 годах Кауфман направлял в Санкт-Петербург свои предложения по земельному устройству Туркестана, при этом он отмечал, что земельные отношения у оседлого населения Средней Азии были «запутаны, неясны и разнообразны», но в них был один основной принцип, безусловно исключающий «во всех этих отношениях признание начала „частной собственности“, характеризующего наше европейское понятие о землевладении», поскольку все местные землевладельцы были поставлены в зависимость от государства335. Однако ревизионная комиссия под руководством сенатора Ф. К. Гирса, начавшая свою работу сразу после смерти Кауфмана, выступила резко против кауфманской идеи огосударствления земель и потребовала юридического оформления полной частной собственности. Члены комиссии пришли к выводу, что «каждое селение в Туркестанском крае разделяется на участки, владельцы которых пользуются ими на праве полной собственности»336.
Положение об управлении Туркестанским краем зафиксировало в статье 255, что «за оседлым сельским населением утверждаются земли, состоящие в постоянном, потомственном его владении, пользовании и распоряжении (земли амляковые), на установленных местным обычаем основаниях»337. В этой формулировке не было прямого указания на полную собственность, а отсылка к местным обычаям вроде бы давала зацепку для существования различных форм коллективного земле— и водопользования, что отчасти отражало, видимо, настроения сторонников Кауфмана. Однако обрабатываемая земля все-таки не была названа государственной собственностью, а фраза о потомственном владении, пользовании и распоряжении фактически означала признание частной собственности, на чем настаивали те, кто поддерживал позицию Гирса338. Положение, хотя и признавало сельское общество основным плательщиком налогов, тем не менее допускало и выделение частного землевладельца в самостоятельную налоговую единицу, и куплю-продажу земельных участков (с переходом налоговых обязательств).
Хлопковый бум, который охватил Туркестан в начале XX века, поставил точку в спорах о частной собственности. Производство этого продукта основывалось на системе кредитов, которые выдавались крестьянину, нередко под залог земли, с обязательством выплаты суммы с процентами после продажи выращенного хлопка. В этой системе, зависящей от колебаний цен и кредитных ставок, происходили массовые разорения и переход земель из одних рук в другие339. В Ошобе хлопок не выращивался, но бум купли-продажи земли, видимо, охватил и местное население. В 2010 году в семейном архиве Я.А. я обнаружил несколько документов о купле-продаже земли. Вот один из них340:
1324 8-го раби ал-аввал ([1 мая] 1906).
Свидетельство от старшины Ашобы.
Дано настоящее свидетельство жителям Ашобы Асамаддину и его матери, престарелой Халджан, в том, что принадлежащий им участок земли — а его границы таковы: на западе граница длиной в 40 гязов341 примыкает к наследственной земле Худайбирды, сына мулла Ир-нийаза, и частично, длиной в 10 гязов, к наследной земле Джин-бая, сына Ходжабиргана; северная сторона границы длиной в 30 гязов полностью примыкает к наследственной земле Гайиб-назара, сына Исмаил-бая; с востока граница длиной в 50 гязов примыкает частично к наследной земле Адина, сына Кара-ходжи, и частично к земле Ниматаллах устада342, сына Ахунджана; с юга граница длиной в 30 гязов примыкает к наследной земле Таш-фулада, сына Базар-бая, — все границы которой ясно обозначены, в моем присутствии и в присутствии незаинтересованных людей, чьи имена будут приведены ниже, за сумму сорок два с половиной золотых343 [этот участок] был продан Мумин-баю, сыну Абд ал-Вахид-бая, и деньги были получены сполна. Упомянутый участок земли принадлежит им [продавцам] по закону и никому не заложен, и никто не является его совладельцем на паях, и земля является их [продавцов] законным имуществом. Об этом свидетельствую я и беру в качестве гарантов следующих достойных доверия лиц: Кирк-йигита, сына Риза-кули; Иш-Мухаммада, сына Мингбаши Ир-Назар-бая; Гайиб-Назара, сына Исмаил-бая, и ставлю свою печать.
Аксакал Ашобы [подписи на документе нет, но есть печать с надписью на кириллице: «Ашабинский сельский старшина, Аштской волости Наманганского уезда Ферганской области»]
Другой документ:
Запродажная
Границы участка земли, находящегося в кишлаке Ашоба в местечке Куюнди-булак: с запада примыкают к горам Баламалик, с востока тоже примыкают к горам Баламалик, с юга — к частному владению Али, сына Уста Саййида, а с севера — тоже к горам Баламалик. Все границы ясно обозначены. Площадь земли равна примерно пяти танапам.
В год хиджры 1329-й 4-го мухаррама, что соответствует христианской дате 23 декабря 1910 года, жители Ашобы Мирза Алим Аксакал, сын Тахир-бая, и второй Мухаммад-Заман, сын Мухаммад-Камала, явились в Дар ал-Кудат [казийский/народный суд], сделали заявление согласно почитаемому шариату. А их заявление, соответствующее шариату и согласное с ним и сделанное в правомочном состоянии, было таково: «Мы признаем, что передаем все свои права, подтвержденные шариатски, на названный участок земли за сумму сто шестьдесят рублей жителям Ашобы — Нур-Али и Ир-Али, сыновьям Рахим-бай шайха. Названную сумму денег мы получили сполна. Еще одна часть земельного участка, принадлежащая нам, отделена от названной [проданной] ясными знаками с четырех сторон. Проданный участок разделен дорогой».
Всему этому были свидетелями: Иш-Мухаммад, сын Пир-Мухаммада; Гайиб-бай, сын Исмаил-бая; Ашур-Мухаммад-бай, сын Сафар-Миргана; Мухаммад-Алим, сын упомянутого Ашур-Мухаммада.
По просьбе покупателей и свидетелей я, Саййид Мирза Ходжа, написал это и подписался в присутствии упомянутых выше покупателей и продавцов, а также свидетелей, приклеил две марки по пять копеек, принял двадцать копеек за печать и записал это в тетрадь.
Подпись поставлена мной: Кади Иса Ходжа Ишан, сын Кади Камаладдина344.
Печать поставлена мной [неразборчиво]
Печать казия: Кадий Мулла Гани Ходжа, сын Кади Камаладдина Ходжи.
Документ под номером 688, четверг345.
В Ошобе не выращивался хлопок, но и ее экономика, как я уже сказал, была втянута в процесс перераспределения земли. Причем оно не обязательно шло в одном направлении — от бедных и маломощных хозяйств к богатым. Да, этой категории соответствует первая из упомянутых сделок, где покупателем был будущий сельский старшина Муминбай Абдувахидов (свидетелем же, кстати, являлся бывший волостной управитель Эшмат Ирназаров). Однако во втором случае покупателями были Нурали и Эрали, шейхи святого места Бойоб-бува346, а одним из продавцов — бывший сельский старшина Мирзаолим Таирбаев, которому, видимо, потребовалась крупная сумма наличности для каких-то нужд.
Хочу обратить внимание на то, что, признав права местного населения на земельную собственность, российская власть имела очень ограниченные возможности для контроля за всеми изменениями состояния собственности — наследованиями, разделами, дарениями, куплями-продажами, залогами и так далее. Согласно тому же Положению об управлении Туркестанским краем, все сделки размером до 300 руб. были отданы на утверждение местного народного суда, сделки свыше 300 руб. должны были оформляться и, соответственно, отслеживаться российскими чиновниками. В 1910 году за эту сумму можно было купить, как следует из документов, около 9 танапов, или почти 2,5 га, поливной земли. В малоземельной Ошобе, где доход от сельского хозяйства не был высоким, сделки такого масштаба заключались, судя по всему, очень редко, большинство же сделок были меньше указанного уровня.
При оформлении запродажной 1910 года были соблюдены все нормы российского закона того времени: сделка утверждена официальным народным судьей, ей присвоен порядковый номер, под которым она была записана в книге казия, на документ приклеены две марки комиссионного сбора по 5 коп., казию оплачены услуги в размере 40 коп. Что же касается запродажной 1906 года, то ее статус не вполне понятен. Внешне документ повторяет структуру официального документа о совершенной купле-продаже участка, но ни номера, ни марок, ни печати и подписи народного судьи на нем нет. И хотя он засвидетельствован официальным лицом — сельским старшиной, формально такая бумага не должна была иметь юридической силы ни по российскому закону, ни, судя по всему, по закону шариата (старшина не имел полномочий судьи). Остается только гадать, в чем заключалась функция этой запродажной: очевидно, такого рода юридически несостоятельные документы все-таки служили вполне достаточным свидетельством совершения сделки для внутреннего, ошобинского пользования347. Выходит, что местное сообщество само имитировало присутствие закона (российского и шариатского) — даже тогда, когда колониальная власть не имела возможности следить за его выполнением.
Люди
Контроль и сбор любой статистики самым тесным образом связаны с классификацией людей, деятельности и явлений, а также с идеей последовательности, закономерности и детерминизма348. Парадокс, однако, заключается в том, что эти классификации по-разному использовались в тех или иных контекстах и вызывали разные и вовсе не однозначные эффекты. В статистических справочниках колониального периода мы находим некий набор цифр, имеющий несистематический и противоречивый характер. Российская власть применяла время от времени то одни, то другие категории для описания местного населения, но как эти категории помогали ей управлять и доминировать, остается неясным. Да и сама власть, судя по всему, сомневалась в том, что она контролирует ситуацию с помощью статистики.
Первым, что интересовало колониальных чиновников, были данные о численности местного населения. Но обеспечение даже этого, казалось бы самого элементарного, знания вызывало много вопросов и трудностей349. Вот что писал в 1900 году один из русских исследователей региона, П. Е. Кузнецов350:
…все туземцы вообще подозрительно относятся к собиранию русскими разного рода статистических сведений, в особенности же сведений о численности населения: они обыкновенно думают, что, делая подсчет жителей, русские намерены брать их в страшную для них военную службу, ссылать в Сибирь или выдворять из Туркестана в другие места империи. Поэтому туземцы при представлении сведений о численности населения показывают его в большинстве случаев по крайней мере вдвое меньше, чем следует. Так, например, если у отца есть двое уже семейных сыновей, то при подсчете о них умалчивают, показывают только одного отца. Что же касается различных сборов с населения, то они уплачиваются совместно, то есть отец и сыновья раскладывают уплату их между собою. Возможно, что я и ошибаюсь, но в справедливости этого мнения меня убеждают сами же туземцы: несколько административных лиц из них спрашивали меня, что лучше лично для них: представлять ли начальству преувеличенные сведения или уменьшенные.
Самые ранние из найденных мной сведений о численности ошобинского населения датируются примерно 1877–1878 годами — по данным «Списка кишлакам области», в селении было 105 «домов» и 525 душ351. Последнее число образовалось в результате механического умножения ста пяти на пять — такова была обычная практика счета у российских статистиков в первые годы существования Туркестанского края, когда предполагалось, что в среднем в каждом домохозяйстве должно быть пять человек352. По данным второй половины 1880 — первой половины 1881 года, в Ошобе было уже 303 дома353, а к декабрю 1881 года — 300354, в 1883 году — 310 «дворов»355. Такие сведения собирались, как правило, путем опроса сельских старшин, очень редко колониальные чиновники имели возможность обойти населенный пункт лично и подсчитать его жителей.
В 1884–1885 годах российская администрация предприняла попытку составить сводный «список всех оседлых поселений Ферганской области». Начальник Чустского уезда в своем рапорте пояснял, что составляет свой список, используя податные списки кокандского времени. Он же отмечал, что полученные таким образом цифры иногда не совпадают с данными ежегодных отчетов сельских старшин. Эта разница видна и на примере Ошобы. В документе, составленном чустским начальником, фигурируют два числа: 422 двора и 310 (последнее зачеркнуто)356. Поскольку 310 — показатель, который отражен и в других российских документах, то 422 — это, судя по всему, заимствование из кокандских записей.
Итак, мы уже имеем несколько разных чисел: 422, потом 105, а затем 300–310. Можно предположить, что в Ошобе было 422 дома к моменту российского завоевания, после погрома в ноябре 1875 года, о котором я писал в первом очерке книги, число дворов сократилось в четыре раза — до 105, остальные жители либо погибли, либо бежали. К началу 1880-х многие беженцы вернулись обратно и численность ошобинского населения достигла 300–310 дворов, то есть примерно трех четвертей от начального уровня.
Проблемой для учета являются не только наличие разных цифр, но и сами понятия дома и двора, с помощью которых оценивалась численность жителей. Что понималось под этими понятиями в кокандское время, что — в 1877–1879 и в 1880–1884 годах, как они соотносились с понятиями брачной пары или семьи и, соответственно, какую реальность они фиксировали — неясно. В случае с кочевым населением, которое должно было платить кибиточную подать, такая неясность вызывала вполне ясные последствия, так как несколько семей могли записываться одной «кибиткой» и платить уменьшенный налог357. Что же касается оседлого населения, то в установленной для него системе податной единицей стало сельское общество в целом (а с 1900 года — «дача»), раскладка же налогов внутри него оставлялась колониальной властью на усмотрение самих членов общества и его выборных руководителей. Поскольку размер налога исчислялся в зависимости от обрабатываемой площади, то предполагалось, что раскладка будет устанавливаться в зависимости от количества земли, находящейся в фактическом владении той или иной группы. Это означало, что численность домов/дворов не представляла для колониальной власти важного практического вопроса. Местные жители сами решали, на основании каких критериев они будут определять, чтó является двором: в одних случаях это могло быть совместное проживание, в других — совместное питание «из одного казана», в-третьих — крепость родственных связей358. Также местные жители сами решали, на основании каких критериев — размер земли, число взрослых членов семьи или едоков и так далее — налог распределяется между жителями кишлака. По сути, сельский старшина, который доставлял эти сведения уездному начальнику или участковому приставу, транслировал местные представления, которые могли меняться во времени или корректироваться в зависимости от каких-то личных или коллективных интересов.
Почти двадцать лет (с момента завоевания) данные о численности населения Ошобы ограничивались весьма приблизительным знанием количества дворов в кишлаке. Ни точного числа жителей, ни их половозрастного состава, ни каких-то других — социальных, экономических, культурных — характеристик новая власть не фиксировала. Эти характеристики ее, конечно, интересовали, но ни подготовленных людей, ни финансов — и, по-видимому, практической надобности — для такой процедуры подсчета не было. Чиновники ограничивались единичными примерами и личными оценками, а также экстраполяционными расчетами, которые относились ко всему Туркестанскому краю или к отдельным его областям.
По-настоящему подробные описания появились только в конце 1890-х годов: в 1897-м была проведена всеобщая перепись населения, а в 1899-м — поземельно-податное описание сельского общества, о чем я уже говорил выше.
В 1897 году переписной процесс был организован по хозяйствам: переписчик узнавал о численности членов хозяйства, их именах, семейном положении, поле, возрасте, занятиях, вероисповедании, родном языке, грамотности, месте рождения и проживания, сословии, физических недостатках359. Как был организован сбор этой информации на самом деле, неизвестно. Наиболее правдоподобный из возможных сценариев выглядит так: к приезду назначенного переписчика и его переводчика в кишлаке организовывался общий сход жителей, на который собирались мужчины — главы семей, они поочередно подходили к переписчику и сообщали ему требуемые сведения; сельский старшина и депутаты-пятидесятники, которые обязаны были здесь же присутствовать, уточняли, корректировали или дополняли эту информацию. Заполненные листки отвезли в Санкт-Петербург, где их обработкой занялись столичные статистики. К сожалению, данные были опубликованы лишь в целом по области, по уездам и городам, результаты же по Ошобе остались неизвестными.
Экспликация 1899 года дает весьма ограниченный набор сведений о местном населении. В сельском обществе Ошоба, в двух «дачах», чиновники насчитали 521 землевладельца360 (если добавить «дачу» Аксинджат из сельского общества Гудас, то общее число предполагаемых ошобинских землевладельцев составит 579). К документу приложен полный поименный их список, выполненный арабской графикой в тюркской традиции (добавление к имени отца «-оглы» (ўғли), то есть сын такого-то, вместо русифицированного «-ов», как часто писали российские чиновники). Не совсем понятной, правда, является сама категория «землевладелец» — кто и как определял ее состав, были ли это все женатые мужчины кишлака или только главы больших семей, включающих несколько брачных пар. Некоторые жители Ошобы могли иметь сразу несколько земельных участков, то есть значиться землевладельцами одновременно в двух (и даже трех, учитывая Аксинджат) «дачах». В «даче» Ошоба 6 землевладельцев не имели земли, а владели только домами — их участки могли находиться в других «дачах». Отдельно в документе были указаны местные жители, которые проживали за пределами кишлака. В «даче» Ошоба таковых оказалось 29 человек: 15 — в Ташкентском уезде, 6 — в Андижанском, 2 — в Узгенском, 6 — в Наманганском. Экспликация, таким образом, не предложила какой-либо внятной общей характеристики населения, сосредоточившись больше на определении тех, кто имеет права владельцев/налогоплательщиков в Ошобе.
Пожалуй, самые подробные сведения об ошобинцах дал опубликованный в 1909 году Статистическим комитетом Ферганской области «Список населенных мест», который, как отмечали его составители, появился в результате уточнения данных переписи 1897 года. В нем говорилось, что в сельском обществе (селении) Ошоба находилось 457 хозяйств, из них 417 земельных, 40 безземельных, и всего проживало 2400 человек, включая 1341 мужчину и 1059 женщин361.
В связи с этой информацией возникает сразу несколько вопросов.
Какой смысл вкладывали составители «Списка» в понятие хозяйства? Число хозяйств в 1909 году в полтора раза больше, чем число дворов в 1880-м. Означает ли это, что численность населения Ошобы за почти тридцать лет выросла примерно в такой же пропорции, или мы имеем дело с процессом распада больших семейных групп, которые могли скрываться за термином «двор», на более мелкие семейные ячейки-хозяйства? Непонятно также, почему число хозяйств в сельском обществе в 1909 году равно (что само по себе подозрительно) числу землевладельцев в одной только «даче» Ошоба в 1899 году, при том что численность населения за десять лет должна была заметно вырасти, но никак не уменьшиться? Связано ли это с недоучетом многих ошобинцев в 1909 году либо с тем, что категория «хозяйство» образовывалась как-то иначе, чем категория «землевладелец»? По обоим вопросам имеющихся данных недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Замечу лишь, что составителей «Списка» не интересовала такая категория жителей, как временно отсутствующие (которая была в экспликации), а значит, какая-то часть населения, регулярно выезжавшая на заработки, оказалась вне поля их зрения.
Любопытно наличие в «Списке» двух отдельных категорий хозяйств — земельных и безземельных, причем, если сравнивать с 1899 годом, когда эти две категории также учитывались, в 1909 году число безземельных хозяйств было намного больше числа безземельных землевладельцев. Означает ли это, что за десять лет в ошобинском сообществе произошли серьезные процессы внутреннего расслоения и перераспределения земли? Или же в 1909 году статистики вдруг увидели то, на что раньше не обращали внимания или что им было не под силу контролировать?362 И снова ответа нет. Подчеркну лишь тот факт, что в 1909 году колониальных чиновников по-прежнему волновал главным образом земельный вопрос — никакой другой хозяйственной деятельности местных жителей они не регистрировали.
В 1909 году впервые появились данные о половом составе населения Ошобы. Обращает, впрочем, на себя внимание большая разница между числом мужчин и женщин (что было характерно для всей статистики по Ферганской области363). Некоторые современники объясняли такую разницу, в частности, более высокой смертностью женщин364. Другие отмечали, что при опросах, которые проводились представителями колониальной власти, местные жители нередко скрывали реальное число членов семьи женского пола365, а российские чиновники не всегда имели возможность эту цифру проверить, поскольку старались не нарушать местного этикета женского затворничества.
Наконец, в «Списке» фигурирует еще одна категория — национальность, которая, следовательно, оказывается в числе наиболее важных тем, интересующих колониальную власть366. В графе преобладающей национальности в «Списке» ошобинцы названы киргизами, что является явной ошибкой, поскольку ни сами жители кишлака так себя никогда не именовали, ни соседи не употребляли этого слова по отношению к ним. Путаница говорит о том, что национальную классификацию устанавливали отдельные чиновники колониальной власти, которых, видимо, ввел в заблуждение тот факт, что ошобинцы, как и большинство ферганских киргизов, живут в горах и занимаются животноводством. Очевидная ошибка указывает также на то, как легкомысленно относились чиновники к процедуре установления национальности, ставя ее в зависимость от множества случайных обстоятельств.
Империя ведет следствие
Управление
Помимо систематического знания об Ошобе, которое было представлено в разного рода статистических отчетах и поземельно-податных описаниях, колониальная власть постепенно накапливала разнообразную информацию о кишлаке, осуществляя повседневную практику управления и взаимодействия. Чаще всего это происходило, когда российским чиновникам приходилось вмешиваться в местные конфликты или чрезвычайные ситуации. Эта информация никак не обрабатывалась и не превращалась в какие-либо обобщенные базы данных — чаще всего она просто складировалась в архивах и о ней постепенно забывали. Тем не менее недооценивать значение такого рода практического знания я бы не спешил.
Прежде чем перейти к одному из таких дел, которое я нашел в ташкентском архиве, несколько слов следует сказать о модели управления, сложившейся в регионе.
Система управления в Туркестанском крае, установленная положением 1886 года, называлась военно-народным управлением367. Областное и уездное управление находилось в руках колониальных чиновников и было подчинено генерал-губернатору и Военному министерству. Волостное и сельское (у кочевников — аульное) управление было «туземным». Последнее действовало таким образом: раз в три года в каждом сельском обществе на сходе происходили выборы сельского старшины-аксакала (оқсокол, буквально «белобородый»), его кандидата, то есть помощника и заместителя, а также пятидесятников-элликбаши (элликбоши, буквально «глава пятидесяти»), своеобразных депутатов от каждых пятидесяти домохозяйств. В выборах, которые происходили в присутствии волостного правителя («не вмешивающегося в самое направление выборов»), участвовали только главы домохозяйств — решение считалось принятым, если проголосовала половина от присутствующих, при кворуме не менее половины общего числа представителей заранее объявленных и учтенных домохозяйств. На этих же сходах большинством голосов производилась раскладка податей на домохозяйства. На указанные выше должности мог быть избран «каждый туземный житель» не моложе 25 лет, не имеющий наказаний в судебном порядке. В обязанности сельского старшины входили сбор всех податей и повинностей, выдача квитанций, наблюдение за порядком.
Депутаты-пятидесятники участвовали в волостном съезде, на котором, на этот раз в присутствии уездного российского чиновника (которого называли наибом368), они избирали волостного управителя-мингбаши (мингбоши — тысяцкий, глава тысячи), кандидата (заместителя) к нему и народного судью. Волостной съезд признавался действительным, если в нем участвовало не менее двух третей «выборных» от всех сельских обществ, входящих в волость. Волостной управитель мог иметь писаря и рассыльных на жалованье. В обязанности волостного управителя входили контроль за приведением в исполнение судебных решений, ведение учета домохозяйств, убыли и прибыли населения, наблюдение за своевременным поступлением сборов и исполнением повинностей. Сельский старшина и волостной управитель имели «особые знаки» для ношения и «печати по должности» (Илл. 8). Волостной имел право на должностной оклад от 300 до 500 руб., сельский старшина — до 200 руб., эти деньги собирались с населения по раскладке вместе с налогами и передавались в казначейство, а оттуда выплачивались «туземным» чиновникам.
Избранные (а иногда назначенные) на все эти три должности (я не говорю о должности народного судьи) люди находились в непростых отношениях между собой, с населением и с российской властью. Положение их всех целиком зависело от последней — колониальные чиновники имели полное право не только лишить должности, но и в случае серьезного нарушения установленных правил и порядков сурово наказать провинившегося. Поэтому элликбаши, аксакалы и мингбаши обязаны были по крайней мере соблюдать лояльность по отношению к российской власти и придерживаться всех исходящих от нее требований.
Илл. 8. Печать аксакала
Однако эта лояльность не была абсолютной. Процедура, которую установила сама колониальная власть и согласно которой «туземные» чиновники выбирались, заставляла их постоянно искать поддержку у населения или различных его фракций и выстраивать совместную стратегию локального сопротивления. Одним из главных был, например, вопрос о податях и повинностях. Как я уже упоминал, колониальная власть ввела систему круговой поруки при сборе налогов, когда сумма налога начислялась на все сельское общество, а члены последнего сами решали, каким образом распределять ее между собой. Разумеется, при такой схеме и «туземные» чиновники, и обычные крестьяне были связаны общей заинтересованностью в сокрытии тех или иных ресурсов от налогообложения.
При этом фронт сопротивления вовсе не был, как и лояльность к российской власти, абсолютно единым. Некоторая автономия и существенные, но плохо определенные и плохо контролируемые полномочия «туземных» чиновников позволяли им преследовать собственные цели. Например, сельский старшина мог, используя большинство на сходе или свое право выдавать квитанции, вступать в игру, в которой тот же сбор налогов превращался в демонстрацию власти и силы, он мог выступать в этом процессе как манипулятор, вести персональные переговоры с каждым рядовым членом сообщества, обманывать одновременно все стороны, укрывая часть собранных налогов в свою личную пользу, он мог шантажировать своей близостью к колониальной власти, чтобы получить за сокрытие от нее информации и налогов какие-то дополнительные рычаги влияния на остальных «туземцев», обеспечивая их моральную или социальную зависимость от себя. В такого рода играх пятидесятники, сельские старшины и волостные могли выступать и как союзники, и как соперники — либо используя полезные связи для укрепления своих позиций, либо вступая в конкуренцию и даже конфликт в надежде получить дополнительный выигрыш. Причем «туземные» чиновники действовали по-разному: одни создавали коалиции друг с другом, другие опирались на влиятельные фракции и семьи в обществе, третьи апеллировали к общему мнению широких слоев, четвертые искали возможности свалить противника руками колониальной власти.
Отголоски всех этих локальных битв мы находим в многочисленных жалобах и петициях, которыми была буквально завалена российская администрация. В них говорилось о взятках, незаконных поборах, разных формах давления — грубости, угрозах, утаивании земельных наделов, и вообще они содержали массу разной информации, на основании которой у колониальных чиновников складывались свои практические представления о регионе369.
Событие 1892 года370
Спустя всего семнадцать лет после кровавых боев за Ошобу в Туркестане появляются первые свидетельства о повседневных конфликтах, которые изнутри сотрясали жизнь местного сообщества. Если описание захвата кишлака никак не отражало внутренних делений и соперничества внутри этого сообщества, то новые материалы приоткрывают перед нами совершенно другой мир — полный собственных противоречий, взаимных недовольств и острых противостояний, которые своими корнями наверняка уходили в доколониальную эпоху.
19 декабря 1892 года начальник Наманганского уезда отправил на расследование к кокандскому мировому судье материалы дознания, проведенного чустским участковым приставом. В сопроводительном письме он сообщил, что 11 декабря в селении Ошоба Аштской волости при выборах сельского старшины произошел «беспорядок», был избит аштский волостной управитель, у которого также забрали внушительную сумму денег — 375 руб. Это преступление было совершено прежним сельским старшиной Мирзаолимом Таирбаевым и его братьями.
К делу прилагались показания потерпевших и обвиняемого:
1892 года декабря 15-го дня, я, чустский участковый пристав, подпоручик [неразборчиво], спрашивал аштского волостного управителя Магомет-Фазыла Шады-Магомедова, который показал следующее. 11-го декабря он произвел в кишлаке Ашаба выборы сельского старшины, домовладельцы разделились на две партии: в одной было 100 человек, которые держали сторону теперешнего старшины Мирза-Алима Таир-баева, а в другой — 300 человек, державших сторону Адина-Магомета Иса-Магометбаева. Руководствуясь законом, он объявил жителям, что всего домовладельцев в Ашабе 400 и из них 300 желают выбрать Адину-Мухамеда — это он и будет, согласно требований закона. Объявив о выборе, сам он пошел в дом Имамбая Муллабаева, где остановился, вошел в комнату и спал. Спустя некоторое время явился старшина Мирза-Алим со своими пятью братьями, вошел в комнату, схватил волостного за ворот одной рукой и за пояс другой, вытащил его на улицу, там стал его бить кулаками и пинать ногами, били его братья старшины — Мир-Амин, Газыбай, Далымбай, Магомет-Розык и Абду-Шаи. Кроме этих братьев в нанесении ему побоев принимали участие следующие лица, сторонники старшины: Дали Кабулбаев, Шир-Наукар Кадыр-Назаров, Шукур Кузыев, Нияз, не помнит по отцу, Хал-Тюря Сарымсаков и Бий-Тюря Сарымсаков. Когда его били, старшина Мирза-Алим вынул у него из кармана две сторублевых бумажки, 10 десятирублевок и 5 пятирублевок и 25-рублевку, всего 375 рублей. После этого явился с шашкой Саид-Мурад Ша-Мурадов и хотел его зарубить, замахнулся, после чего у него, у волостного, потемнело в глазах, так как он считал себя погибшим, и что было дальше, не знает. Пришел в себя он только тогда, когда его перенесли в комнату, где он все думал, что вот сейчас отдаст душу, его отпаивали чаем, резали козла и прыскали кровью371, после чего ему стало легче. Свидетелями, как его били, были следующие лица: Мулла-Рахматулла Мулла-Халыков, Имамбай Муллабаев, Адина-Мат Мат-Каримов, Мумин Имамбаев, Джуман Уста-Ашуров, Иш-Мат Пир-Магометов, Абдувахит Ма-Ризаев, Али-Мат Иса-Матов, Кул-Мат Мир-Насыров, Канаат Мат-Мурадов, Марасул Ирназаров и Кабул Ирназаров. Когда его били, пострадали Салихан Ишанханов, у которого в свалке было отнято 90 рублей 15 копеек, и Худайберды Маулянов, у которого ранен на руке палец шашкой, что волостной видел своими глазами, это было в 10 шагах от него в начале драки. Побои ему нанесены были так часа в четыре пополудни. Ночью его караулили человек сорок, которые все думали, что он умрет. На другой день утром он выехал в к. Ашт, на дороге в сае Гудас его поджидал старшина Мирза-Алим с братьями и Саид-Мурадом Иса-Мурадовым с целью убить, об этом его предупредил Муминбай Имамбаев. Проезжая через Гудас-сай, волостной их увидел и во весь карьер поскакал в объезд, с ним были его писарь Мирза-Ахмад Насреддинов, Мад-Мурад Ша-Мурадов, Имамбай Муллабаев, Ашур-Мат Тюрябаев, Иш-Мат Пир-Магомедов, Адина-Мат Мат-Каримов и Абдувахит Мулла Магомет Ризаев, которые тоже с ним поскакали.
Побои он чувствует, и теперь болят: левое плечо, грудь, правая нога и под ложечкой. Вот все, что с ним случилось. О наказании за ложный донос по ст. 940 Улож. о показаниях заявителю объявлено. Заявитель приложил печать.
1892 года декабря 16-го дня, я, чустский участковый пристав, подпоручик [неразборчиво], спрашивал сельского старшину Ашабинского общества Мирза-Алима Таирбаева, который заявил, что 11-го сего декабря месяца приехал волостной управитель Магомет-Фазыл Шады-Магомедов и собрал народ для выбора выборных, а затем, когда народ выбрал выборных, произвел выборы сельского старшины. Народ разделился на три партии: волостной две партии сосчитал и сказал, что будет выбран Адина-Мухамед Иса-Матов, так как за него около двухсот человек, что достаточно для закона, после этого волостной ушел [Илл. 9]. Толпа недовольных пошла за ним, требуя, чтобы он и их сосчитал, тогда волостной со сторонниками нового старшины Ишанхан Батырхановым, Мулла Рахматуллой Мулла Халыковым, Иш-Матом Пир-Матовым, Имамом Муллабаевым, Мумином Имамовым, Джуманом Уста-Ашуровым, Худай-Бердыем Мауляновым, Салиханом Ишанхановым и Кабулом Ирназаровым побили его с братьями, отнесли в его дом и заперли, напугали его жену Рузы-биби, которая от страху родила и находится между жизнью и смертью, так как толпа была вооружена палками и кричала «грабь и жги». Перед тем, как его побил волостной, новый старшина Адина-Магомед в переулке отнял у него казенную печать и должностной знак, при этом был брат нового старшины Нур-Магомет Иса-Матов, у него же свидетелей не было. О наказании за ложный донос заявителю объявлено. Заявитель неграмотен, приложил тамгу372 <…>
1892 года декабря 16-го дня, я, чустский участковый пристав, подпоручик [неразборчиво], спрашивал Ашабинского сельского старшину Мирза-Алима Таирбаева в дополнение показания, причем последний показал, что 12-го декабря он поехал с пятью братьями в Ашт и еще кроме этого с ними были Саид-Мурад Ша-Мурадов и Шир-Назыр Кадыров. Уехал он из Ашабы, так как боялся оставаться в Ашабе, думая, что его убьют. Опрашиваемый неграмотен, приложил тамгу.
Илл. 9. Центральная улица Ошобы, 2010 г.
Пристав допросил также других участников и свидетелей декабрьских событий в кишлаке. Одни повторяли версию аштского мингбаши, другие — бывшего ошобинского аксакала, третьи же и вовсе утверждали, что ничего не видели и ничего не знают. В результате главный обвиняемый, Мирзаолим Таирбаев, был все-таки арестован и помещен в наманганскую тюрьму, но уже в январе 1893 года братья внесли за него залог в размере 900 руб. и он был освобожден.
В мае того же года помощником мирового судьи Кокандского уезда были произведены новые дознания по этому делу и еще раз опрошены все участники произошедшего конфликта. Приведу выдержки из показаний Мирзаолима Таирбаева:
Зовут меня Мирза-Алим Таирбаев, 34 лет от роду, мусульманского вероисповедания, я тюрк к. Ашаба, живу в к. Ашаба, женат, занимаюсь земледелием и скотоводством, из имущества имею дом с усадьбою, землею, под судом не был.
Я не признаю себя виновным в том, что в декабре прошлого года нанес побои аштскому волостному управителю после того, как он произвел выборы нового старшины с. Ашаба. Я не наносил побои волостному управителю. Это волостной управитель выдумал. Ему сказали, что я желаю быть волостным управителем, и [он] чтобы что-нибудь повредить мне, выдумал, что я побил его. Ничего этого не было. Свидетелей он, вероятно, подговорил. Напротив, после выборов, когда я пришел к волостному управителю в дом, то он с жителями с. Ашаба Рахматуллой Мулла Халыковым, Кобылом [неразборчиво], [неразборчиво] Ирназаровым набросились на меня и избили, ничего не говоря. Приходил я к волостному с тою целью, чтобы проводить его в Ашт. На другой день с толпою я не встречал и не поджидал волостного управителя на дороге в Ашт, на реке. Неграмотен. Ставлю знак.
В октябре 1893 года дело было сдано, а в апреле следующего года вынесено новое постановление, согласно которому по личному предложению ферганского областного прокурора дело должно было быть передано судебному следователю при Ферганском областном суде для дополнительного производства. Разбирательство и новые допросы возобновились в июне 1894 года.
В частности, в показаниях аштского волостного управителя спустя полтора года после происшествия появились новые детали:
Я, Магомед-Фазыл Шады-Магомедов, [неразборчиво] показываю. После окончания выборов, производившихся мною в к. Ашаба в 1892 году, я оставил всех выборщиков, выбранных и зрителей на площади за кишлаком, а сам поторопился уйти, зная, что выборщики сильно возбуждены, с площади я уехал лишь в сопровождении моего джигита Халь-Магомеда. Приехав к дому Имамбая, я вошел в михмонхану [гостиную], где расположился ранее, а Халь-Магомет остановился на улице при лошадях. В это время в доме Имамбая никого не было, но вскоре вслед за мной приехал сын Имамбая, Мумин, который с перепуганным лицом вбежал ко мне в помещение и объявил, что братья Таирбаевы идут сюда за мной. Объявив мне это, он поспешил удалиться вовнутрь двора и там где-то спрятаться. Ко мне в михмонхану вошел Мир-Алим и грубо потребовал, чтобы я пошел производить новые выборы. Когда же я начал что-то возражать, то он схватил меня за пояс и вытащил из михмонханы на айван [веранду], там оказался старшина Мирза-Алим, который прямо схватил меня за горло и стал кричать: «Ты чего меня не выбрал? Ступай делать новые выборы». При этом оба они, Мирза-Алим и Мир-Алим, тащили меня долой с айвана, и так как я упирался, то они стали бить меня кулаками и толкать. Я говорил, что выборов новых произвести по закону не могу, но они не слушали и продолжали тащить меня, нанося мне побои. Я стал просить, чтобы мне дали надеть калоши, но они и этого не дали и волокли меня дальше. На дворе оказались остальные братья Таирбаевы — Газыбай, Далимбай, Магомет-Разык и Абду-Шаи, которые все спустились [дом Имамбая находился в нижней части кишлака, а площадь — в верхней] на помощь к своим братьям, окружив меня, стали тоже тащить и толкать к воротам, требуя, чтобы я произвел новые выборы. Когда мы всей толпой проходили под воротами на улицу — то Газыбай схватился за мой карман в [неразборчиво] и вырвал [зачеркнуто «пояс и развязал»] его, вынул из него бывшие в нем мои собственные 375 рублей денег, причем все они кричали: «Это у тебя, наверное, деньги, которые ты получил с нового старшины». Я божился, что это мои собственные деньги и даже поклялся именем моей жены, чем осквернил ее честь, по нашим понятиям [имеется в виду, что муж не должен публично называть имени своей жены], но Таирбаевы мне не поверили и Газыбай деньги удержал у себя.
Когда меня таким образом вытащили на улицу, то там оказалась уже целая толпа приверженцев Таирбаевых — теперь их всех по именам не помню, и их имена были мною все тогда же вечером записаны и сообщены приставу при дознании. Из них один, Саид-Мурад Ша-Мурадов, имел в руках шашку, которую он потом передал старшине Мирза-Алиму. Тут меня продолжали все бить и толкать, возбуждая [неразборчиво], и братья Таирбаевы стали уже кричать: «Чего смотришь, надо его убить, не убивая его, мы ничего не сделаем». Тут была вокруг меня такая свалка, что я вполне точно не мог определить, кто именно тащил меня за руки, кто наносил побои и толкал меня. Все братья Таирбаевы были тут вокруг меня — какие-то из них били меня и толкали. Когда же в руках Мирза-Алима блеснула шашка, то я совсем потерял голову, считая себя потерянным. Еще ранее, когда меня только вытащили на улицу, на крыше соседнего дома я заметил одну женщину и Салихана. Женщина стала кричать: «Дот [караул!], волостного убьют», вследствие чего Салихан, обративший внимание на свалку, а может, и ранее заметивший ее, бросился бежать ко мне на помощь. Он втиснулся в толпу и, говоря Таирбаевым: «Что вы делаете, это нельзя», стал оттаскивать меня за рукава из толпы, но тут его сейчас же оттерли от меня, причем также нанесли сильные побои, кто именно — Салихан не заприметил.
Почти в это время прибыл откуда-то Худай-Берды, который тоже стал порываться извлечь меня из толпы и образумить нарушителей порядка, но и ему тоже были нанесены побои, причем я видел, как в воздухе мелькнула над ним шашка, после чего он упал. Кто именно нанес ему удар шашкой — это я точно разобрать не мог. В это время вследствие поднятого шума, криков и суматохи с площади сюда стал стекаться народ, а именно прибыли все те, которых я показывал раньше приставу, кроме того, масса народу сбежалась, почти все участвовавшие на выборах. На площади распространился слух, что меня убили, и толпа бежала с тем, чтобы ловить и вязать убийцу. Когда Таирбаевы и их приверженцы увидели бежавшую с криком, шумом и возгласом «где убийцы, вязать их» толпу, то они, не дожидаясь столкновения с прибывшими, бросились бежать, оставив меня валявшимся во прахе среди улицы, откуда меня подняли прибежавшие и отнесли в дом Имамбая.
Я был без сознания час-полтора, не приходил в себя, потом только избитые места мне промачивали кровью свежезаколотого барана. Когда я очнулся, то увидел себя окруженным рядом лиц, имена их я не знаю, так как мало был знаком с ними. Они все были сообщены мною приставу по своей памяти. Я спросил их осведомиться, где мой мирза Мирза-Ахмад, уже не убит ли он, тут стали разыскивать его, и оказалось, что когда он ехал ко мне с площади, то он был перехвачен Мир-Алимом и заперт в какую-то конюшню, где и просидел несколько часов, пока его не освободили разыскивавшие его люди, Иш-Мад Джуман и многие другие. Деньги Таирбаевы мне не возвратили. Они сговорились между собой отдать мне деньги и просить меня, чтобы я с ними помирился — но об этом мне известно только по базарным слухам, мне многие сообщали это как слух, но ко мне лично Таирбаевы с такого рода предложением не обращались и мира не просили, также никого ко мне не подсылали с этой целью. Денег у меня [неразборчиво] собралось много, потому что я тогда только что получил жалованье за несколько месяцев — во время холеры [в 1892 году в Туркестане была эпидемия холеры] я за жалованьем не ездил, а получил деньги все сразу. Что я взял с собой эти деньги в Ашабу, мне никому говорить не пришлось и это никому известно не было.
После полученных мною побоев я прохворал приблизительно около месяца. И на следующий день после происшествия Мирза-Алим со своими приверженцами пережидал меня на Гудас-сае, как я полагаю, с целью убить меня, но со мною было много народу и столкновение между нами не произошло.
Всего по делу было еще раз допрошено более двадцати человек. К сожалению, я вынужден сократить эту часть и не цитировать все показания, которые, хотя и рисуют в разных красках картину произошедшего, мало что добавляют с точки зрения ее анализа. Упомяну лишь, о чем сообщили еще двое участников тех событий:
Ишанхан-тюря Батырханов, 49 лет, живет в Ашабе, тюрк, несудим, грамотен. Для производства выборов в пятидесятники и старшины в 1892 году волостной приехал в кишлак и остановился в доме моего соседа Имамбая. Он созвал нас, объявил, что произведет выборы. Мы в назначенный день отправились к площади. Сперва были избраны пятидесятники, потом мы приступили к выборам старшины. Кандидатов было два: Адина и Мирза-Алим. За Мирза-Алима подали голоса человек 70, а за Адина-Мада человек 200 и того больше. Волостной сосчитал вторую партию, объявил избранным Адину и уехал домой, вслед за ним полегоньку отправились и мы. Я шел домой, по улице шло много народа, все с выборной площади направлялись по своим домам. Вдруг в стороне моей послышались крики «дот», мы бросились бежать на крик и, подбегая к дому Имамбая, увидели, что братья Таирбаевы, все шестеро, толпятся вокруг волостного, лежавшего на земле. Неподалеку лежал мой сын [Салихан], разбитый в кровь. Таирбаев, несмотря на то, что нас сбежалось довольно скоро много народа, продолжал лезть к волостному и ругался, кричал, что его и совсем убить надо, однако их скоро вытолкали с двора, и я принялся подавать помощь избитым. Сын очнулся довольно скоро, волостной долгое время лежал с закрытыми глазами, не приходя в себя. Мы зарезали барана, стали поливать свежей кровью избитые места — плечи и грудь, я стал читать Коран над волостным, после чего он очнулся. Тут он, придя немного в себя, рассказал нам, что его не только побили, а, кроме того, еще вырвали у него из чекменя вместе с карманом 375 р. денег, и показал нам вырванный карман. Сын мой Салихан тоже пришел ко мне и заявил, что у него Мирза-Алим отнял 90 р. 15 к., которые я оставил ему на хранение, отправившись на выборы. Я рассердился на него, стал его журить, зачем он не спрятал сразу деньги в сундук, как я ему приказал. Он же стал оправдываться, что заработался по домашнему хозяйству и поэтому не мог спрятать деньги, а тут как раз случилось такое несчастье <…>
Адина-Мад Иса-Мадбаев, 38 лет, тюрк к. Ашаба, несудим, неграмотен. После выборов я вернулся домой и ко мне по обычаю, как к новому старшине, собралось много народа поздравить меня с избранием. Когда у меня сидели гости, то вдруг послышался крик и смятение в кишлаке, поднялась беготня, кто-то сообщил, что волостного избили. Некоторые из моих гостей ушли, некоторые остались, я, как хозяин, отлучиться не мог и поэтому оставался дома до вечера, только вечером я улучил время и побежал проведать волостного. Он лежал, вокруг него было много народа, он рассказал, что его не только побили, но и ограбили. Больше мне ничего не известно. Ни печать, ни должностного знака я у Мирза-Алима не отбирал, это он все наврал. Печать и должностной знак я получил от пристава.
В июле 1894 года Мирзаолим опять был арестован, а в августе освобожден из-под стражи, после того как его брат Мухаммад-Гозы (в документе Магомет-Газы) внес за него залог — 400 руб. В октябре следующего года дело рассматривалось Общим присутствием Ферганского областного правления, а в мае 1896 года было передано в Ферганский областной суд, и наконец в июне, спустя три с половиной года после скандальных выборов ошобинского старшины, было вынесено заключительное решение. Суд постановил, что наказанием за совершенное преступление должны стать лишение Мирзаолима Таирбаева всех прав и ссылка его на поселение, но потом, признав «легкомыслие» и «крайнее невежество» обвиняемого и сославшись на манифесты об амнистии, наказание смягчили до заключения в тюрьму на пять месяцев и десять дней.
Попытки категоризации
Происшествие, ставшее предметом разбирательства, в общем-то довольно банальное и достаточно невинное по своим последствиям. Подобные конфликты между семьями, конкурирующими в борьбе за те или иные ресурсы, происходят в любом локальном сообществе и имеют во многом символический характер, редко подрывая основы единства и взаимозависимости членов общины. В. П. Наливкин, обобщая такого рода случаи, с иронией писал373:
Разодрались два сарта; разодрались, конечно, не a la russe, то есть без вышибания зубов, без сворачивания скул и другого членовредительства, а чинно, по-сартовски. Драка эта происходила приблизительно так: сначала оба из-за чего-то поругались, причем один упомянул о матери; другой не спустил и к матери присовокупил дочь; после этого досталось всем, и отцу, и деду, и могиле прадеда, и опять матери, и, наконец, чалме и тюбетейке; тогда, прийдя в заправский азарт, они схватили друг друга за ворота, стали кричать еще громче, порвали рубахи и менее увертливый получил две плюхи, на память о которых остались синяк под глазом и царапина на левой щеке. Поплатившись целостью рубахи, получив синяк и царапину на щеке, сарт считает себя не только побежденным, но даже и изобиженным. Он кричит «вай-дод» (караул). Около дерущихся собирается толпа; лишь очень немногие подзадоривают; большинство стремится к умиротворению.
Освободившись от противника, успевшего дать ему на прощанье еще и подзатыльник, побежденный начинает выть, иногда совершенно по-бабьи, и просить присутствующих быть свидетелями оказанной ему несправедливости. Учуяв кровь, он размазывает ее по лицу, иногда нарочно расковыривает царапину, дабы добыть оттуда несколько лишних капель, необходимых ему для надлежащего татуирования, искусственно приводит свое одеяние в возможно безобразный вид и тогда только, найдя, что он вполне достаточно замаскировался, отправляется к начальству искать правосудия. Через полчаса на базаре рассказывают, что в такой-то улице происходила страшная драка — «джуда уруш булды»!
Такие драки и выяснения отношений между отдельными местными жителями или целыми их группами периодически случались, но оставались вне поля зрения российской власти, не представляясь ей интересными или угрожающими, — она либо вовсе ничего не знала (и не собирала никаких сведений) о них, либо знала, но считала их внутренним делом местного сообщества, которое само могло урегулировать проблему. Очередная драка в Ошобе оказалась в центре внимания лишь потому, что речь шла о должностных лицах — прежде всего волостном управителе, на которого было, как он утверждал, совершено покушение. Нападение на представителя власти, пусть даже «туземной», или угроза такого нападения требовали по закону специального расследования и наказания виновных. Возможно, внимание к этому конфликту было обусловлено тревогой российских чиновников после событий в июне 1892 года в Ташкенте, где похожие межфракционные столкновения закончились убийствами и антиколониальными выступлениями374.
Как колониальная власть описывала указанный конфликт в Ошобе и классифицировала его участников?
Во время первого дознания участкового пристава не интересовала какая-либо информация об участниках событий. Второго чиновника — помощника мирового судьи — интересовали их имена, возраст, вероисповедание, национальность, место проживания, семейный статус, источники дохода, имущество и наличие судимости. Наконец, судебный следователь в протоколе отмечал только имя, возраст, место проживания, грамотность и судимость.
Из материалов помощника мирового судьи можно узнать, в частности, что из шести братьев Таирбаевых четверо занимались земледелием, пятый — претендент на должность сельского старшины — земледелием и скотоводством, шестой — неформальный лидер беспорядков — торговлей. Все были женаты, имели дома с усадьбой и землей. Однако эти социальные характеристики, приоткрывающие нам содержание экономической деятельности жителей Ошобы, были не объяснительной моделью конфликта, а всего лишь формальным и стандартным набором сведений, входящих в опросную форму.
Весьма интересной является национальная классификация. Все опрошенные по делу местные жители назывались «туземцами», что было официальным наименованием. Первого чиновника национальность не интересовала вовсе. Второй отметил только одну категорию — тюрк. В протоколе же третьего чиновника фигурировало тридцать человек, из которых двадцать были записаны «тюрками», пять — «сартами», а остальные пять (включая волостного управителя, его писаря и джигита, то есть неошобинцев) остались без национальности. Из документов непонятно, каким образом следователь отличал тюрков от сартов, были ли это самоназвания — и почему тогда не одно, а два, или же чиновники использовали данные категории произвольно, исходя из собственных представлений и предубеждений? Один раз в материалах употреблена категория «таджик», но в особом случае: таджиком был сначала записан один из участников происшествия, Салихан Ишанханов, затем это слово было исправлено на «тюрк». Была ли это просто описка или перед нами пример, когда чиновник не мог точно определить национальность, опять же не совсем ясно375. В целом национальная категоризация, как и социальная, была скорее формальной и не служила для объяснения произошедшего конфликта.
Учитывая, что российские чиновники несколько раз проводили допрос одних и тех же лиц, можно, наверное, сделать заключение, что они затруднялись с установлением подлинных обстоятельств дела. Показания разных сторон довольно сильно различались, при этом было очевидно, что все стороны что-то утаивают и пытаются представить ситуацию в выгодном для себя свете. На той и на другой стороне были люди, которые занимали должности местных чиновников, то есть уже выражали свою лояльность к власти. У колониальных чиновников не было достаточных знаний о местном сообществе, чтобы точно отследить все взаимосвязи, и не было инструментов, чтобы такие знания получить. Слишком общие и неточные социальные и национальные классификации тоже оказались бесполезными для анализа вполне конкретного случая. В результате трех с половиной лет разбирательств, когда конфликт давно уже потерял свою актуальность, власть была вынуждена ограничиться почти формальной его оценкой и назначить обвиняемому не слишком тяжелое наказание.
Мы знаем, что в некоторых случаях, таких как холерный бунт 1892 года в Ташкенте или андижанские события 1898 года, колониальная власть предпринимала гораздо более основательные меры для расследования, сбора информации и анализа местного общества и отношений внутри него. Это касалось в первую очередь тех событий, которые привели к жертвам среди российских чиновников и вызвали жесткие ответные действия. Впрочем, и такие события тоже получали самые разнообразные интерпретации, в том числе в духе теорий заговора, и становились предметом нескончаемых споров и преувеличенных страхов. Большинство же локальных конфликтов наподобие ошобинского оставались на периферии колониального внимания, власть была неспособна в них разобраться, да и не особенно к этому стремилась.
Попытки манипулирования
Дела, подобные тому, о котором я пишу, демонстрируют не только способы, какими колониальная власть пыталась говорить о местном обществе, но и те механизмы, которые использовали местные жители, чтобы влиять на колониальную власть. Расследование уголовного дела уже само по себе основывалось на неравенстве этих двух сторон — власть выступала в абсолютно доминирующей роли, подразумевающей легитимное, неоспоримое право на вынесение окончательного вердикта о произошедшем, определение и применение наказания. Однако даже в этих заданных рамках у колонизированных акторов были возможности для обмана, манипуляции и сопротивления с помощью отсылки к тем нормам, которые содержались в российских же законах, и к той публичной риторике, которой придерживались колониальные чиновники.
Обе стороны в конфликте апеллировали прежде всего к тому, что они сами представляют местную власть, действуют в соответствии с российскими законами и насилие против них было совершено именно как против власти. Даже бывший сельский старшина, который вроде бы потерял должностные права, настаивал на том, что должностные символы — печать и знак — были отняты у него насильно, а значит, это было покушение на властный порядок. В свою очередь, волостной управитель подчеркивал, что не только он, но и его писарь, тоже своего рода представитель власти, были схвачены и лишены свободы.
Сторона победившего сельского старшины подчеркивала, что их противники воспользовались шашкой, то есть боевым оружием, хранение которого было, видимо, запрещено. При этом приводились свидетельства, что недовольные выборами готовы были даже убить волостного управителя, что, конечно, отягощало их вину и придавало событиям характер вооруженного мятежа против законной власти. И хотя в показаниях это выглядело несколько карикатурно, но стремление уличить противника в наиболее тяжком, с точки зрения колониальных чиновников, деянии говорит о желании манипулировать колониальными страхами.
Волостной управитель особенно подробно описывал свои страдания от побоев и пытался изобразить произошедшую потасовку в явно преувеличенном виде. Но и сельский старшина не оставался в долгу. Он дал показание, что сторонники волостного ворвались в его дом и в комнату, где находилась его беременная жена, которая после этого от страха преждевременно родила. Здесь я хочу обратить внимание на то, что само по себе проникновение посторонних мужчин в женскую половину дома было серьезным оскорблением и нарушением местных норм этикета, тем не менее бывший сельский старшина говорил не о собственной оскорбленности, а о физических страданиях жены. Он явно пытался играть не только на теме насилия, но и на чувствительности колониальной власти к проблеме угнетенных мусульманских женщин. К слову, судебный следователь действительно отреагировал на это сообщение и даже провел допрос жены обвиняемого сельского старшины — 25-летней, как сказано в деле, «тюрчанки» Рузиджан-биби Иса-Мухамедовой. Однако в данном случае не нашлось каких-то оснований для преследования сторонников волостного управителя.
Отдельной темой расследования стала кража денег у волостного управителя и у одного из ошобинцев. Она выглядела, с одной стороны, как важный пункт обвинения в адрес бывшего сельского старшины и его братьев, а с другой стороны, как тема для намеков и оправданий. Откуда у волостного управителя оказалась в день выборов весьма приличная сумма денег? Откуда значительная сумма оказалась и у сына одного из наиболее влиятельных жителей Ошобы, который поддержал на выборах нового сельского старшину? Колониальные чиновники решили не изучать эти вопросы детально, ограничившись получением устных объяснений, но, кажется, всем было понятно, что здесь что-то нечисто. Чиновники просто отказались рассматривать дальше эту линию.
Обвиненный в нападении на волостного управителя бывший сельский старшина не пытался доказать, что чиновник из Ашта был подкуплен его соперниками, хотя этот мотив звучал в разбирательстве. Мирзаолим тем не менее стремился свернуть расследование на проблему неверного подсчета голосов на выборах.
Волостной управитель несколько раз назвал результаты выборов в Ошобе: первый раз — 300 (потом добавляет «почти») против 100, второй раз — 291 против 109. По утверждению же Ишанхана Батырханова, сторонника выигравшей стороны, за прежнего сельского старшину проголосовало 70 человек, за вновь избранного — 200 «или более». Сам проигравший Мирзаолим Таирбаев рассказал и вовсе другую версию событий: было три, а не две партии, но волостной сосчитал сторонников только двух партий и, получив «около» 200 голосов, решил присудить победу его сопернику, поэтому третья партия, которая не имела лидера, требовала сосчитать и их тоже (или «провести новые выборы», как это звучало в версии волостного управителя).
400 (или 399) домохозяев, имеющих право голоса, — это официально фигурирующая в российских документах в 1892 году численность «домов». Поэтому волостной управитель строго придерживался этого числа в своих расчетах, чтобы оставаться в рамках официальной колониальной картинки. Сами же ошобинцы имели собственные представления о том, кто имеет право участвовать в голосовании и как подсчитывать голоса. На коллективные публичные мероприятия собирались, как правило, старики и главы семей, причем нередко такого рода сходы совмещались с какими-то ритуальными мероприятиями376 (Илл. VI). Из личных данных допрошенных видно, что женатые мужчины в возрасте двадцати — тридцати лет в выборах не участвовали, но это не означает, что они лишались права голоса: от их имени могли выступать и говорить старшие члены семьи. Судя по всему, на выборы в Ошобе пришло не 400 человек, а гораздо меньше — по показаниям Ишанхана Батырханова, напомню, 270. При этом получилось расхождение между действительным числом присутствующих и числом голосов, которые могли учитываться, что уже создавало возможность для манипуляции при подсчете.
Еще одна особенность голосования состояла в том, что оно проводилось, видимо, открыто, путем публичного опроса волостным управителем каждого голосующего — поднятием руки, как говорил мне сын одного из аксакалов. Причем, если верить проигравшей стороне, предлагали голосовать за каждого кандидата в отдельности. В такой ситуации многие из тех, кто колебался, не имел своей точки зрения или боялся поссориться с обеими партиями, готовы были проголосовать и за прежнего сельского старшину, и за нового. В этом случае волостной управитель, пользуясь своим правом, вначале поставил на голосование кандидатуру Одинамата Исаматова (Адина-Магомет Иса-Магомет-баев) — подсчитанных голосов «за» оказалось формально достаточно, чтобы считать выборы состоявшимися. Сторонники же Мирзаолима Таирбаева вполне логично требовали перевыборов, которые могли дать, если бы первым поставили имя прежнего аксакала, другие результаты, поскольку часть проголосовавших за Одинамата при такой системе подсчета могла проголосовать и за Мирзаолима. Это объясняет, почему последний говорил о трех партиях, а не о двух — к дополнительной партии он отнес, видимо, тех, кто колебался. При такой схеме выборов предложенные российской властью инструменты давали в руки волостного управителя рычаг для манипулирования этой запутанной ситуацией и продавливания тех, кому он симпатизировал. И, конечно, крупная сумма денег, которая будто бы случайно оказалась с ним в Ошобе, и Таирбаевых, и меня заставила сомневаться в его бескорыстии.
Чего российская власть не увидела?
Реконструировать жизнь в Ошобе на рубеже XIX и XX веков, как ее видели и строили сами местные жители, сложно, так как доступные источники отражают скорее искажающий взгляд российских чиновников на эту жизнь. Я попробую, используя разные архивные документы и результаты некоторых родственно-генеалогических изысканий, предпринятых мной в 1995 и 2010 годах, хотя бы чуть-чуть дополнить информацию об основных участниках конфликта. Моя цель — показать сложное переплетение отношений в Ошобе, борьбу различных группировок и конкретных людей за власть.
Из архивов мы узнаем, что ключевой фигурой для колониальной администрации был волостной управитель. Российские чиновники внимательно следили за претендентами на эту должность, вели, можно сказать, на каждого особое досье. Волостные управители довольно часто менялись. Известно, что в 1880-е годы в Аштской волости эту должность последовательно занимали по меньшей мере три человека. В 1887 году волостным управителем был избран известный нам по вышеописанному делу аштский житель Мухаммед-Фазыл Шады-Мухаммедбаев (Магомет-Фазыл Шады-Магомет-баев). Из разных документов известно, что ему в тот момент было сорок лет, он был назван «малограмотным», в его пользовании было 50 танапов земли и имущества на сумму 3 тыс. руб.377 В 1892 году Мухаммед-Фазыл уже владел 130 танапами земли и имуществом на сумму до 7 тыс. руб.378 По данным же 1896 года, он имел в селении Ашт два дома, сад и 200 танапов земли — всего стоимостью до 1 (по-видимому, 10?) тыс. руб.379 В 1897 году был избран новый волостной управитель380. Мухаммед-Фазыл продержался, таким образом, на своей должности десять лет, показав бесспорное умение выстраивать отношения и с российской властью, и с местными элитами, от которых зависели его перевыборы. За этот срок ему удалось в несколько раз увеличить свой легальный капитал, что, конечно, говорит о том, что должность была для него в экономическом отношении не бременем, а источником роста благосостояния.
В Аштской волости селение Ашт было наиболее старым и крупным, а значит, давало самое большое число выборщиков (пятидесятников) на волостной съезд. Здесь же жили многие элитные и богатые семьи, поэтому неудивительно, что среди волостных управителей и народных казиев в течение полувека встречаются главным образом аштцы. Однако аштские жители вовсе не имели абсолютной монополии на власть. Известны случаи, когда на должность мингбаши и его заместителя претендовали выходцы из других селений, в том числе и из Ошобы. В устных рассказах мне называли, в частности, Эшмата-мингбаши. Видимо, речь идет об Иш-Мухаммаде Эр-Назарове (в документах Иш-Магомет Ир-Назарбаев), который на выборах 1884 года был избран на должность заместителя волостного управителя — за него проголосовали 37 из 38 выборщиков381. В баллотировочном листе говорилось382:
Иш-Магомет Ир-Назарбаев, ашабинский житель, 42 года, неграмотный, под судом и следствием не был, по профессии перекупщик, капитал оборотный — 200 рублей, земли имеет в Ашабе 15 танапов, садов и дом, всего недвижимого имущества на сумму двести тиллей.
Далее российский чиновник резюмировал:
Иш-Магомет Ир-Назаров по роду занятий занимался постоянной мелочной торговлей: спичками, иголками и пр. в Ташкенте, никогда не занимался хозяйством и потому не может быть представителем интересов волости.
Что случилось дальше с Иш-Мухаммадом, неизвестно383. Но факт такого избрания, пусть на короткий срок, показывает, что ошобинцы вполне могли быть реальными конкурентами аштцев, в частности Мухаммад-Фазыла, на должность волостного. Ошоба была вторым по численности населения сельским обществом в Аштской волости, здесь избиралась в начале 1890-х годов значительная группа депутатов на волостной съезд. Поэтому влиятельный лидер, имеющий известность и поддержку со стороны родственников и разного рода зависимых от него людей, обладающий значительными финансовыми ресурсами для ведения избирательной кампании (то есть подкупа депутатов из других селений) и способный выстроить доверительные отношения с российскими чиновниками, вполне мог бросить вызов Мухаммад-Фазылу. Об этом как раз и говорили братья Таирбаевы в показаниях помощнику кокандского мирового судьи.
Братья Таирбаевы действительно были вполне реальной силой. Даже в 1995 году многие мои собеседники в Ошобе хорошо помнили о них и называли одним из самых влиятельных ошобинских семейств, правда, в воспоминаниях фигурировали семь братьев, а не шесть384. Братья, каждый из которых имел собственную разветвленную сеть друзей и родни (по жене и по детям, вступившим в брак), действовали солидарно и могли мобилизовать значительное число общих сторонников.
К слову, 34-летний Мирзаолим был младшим из братьев, старшему из них, Долимбаю, было 52 года. Это обстоятельство также не удивляет. Из многочисленных источников того времени известно, что выдвижение младшего брата или даже сына на официальную должность было обычной практикой для влиятельных семей. Настоящие лидеры в таких случаях чаще всего предпочитали держаться в тени, что позволяло не выставлять напоказ связь между могуществом и властью, скрывать личные амбиции и более эффективно использовать риторику защиты не индивидуальных, а коллективных нужд и интересов.
Такой теневой фигурой среди братьев Таирбаевых был 48-летний Мухаммад-Гозыбай (или просто Гозыбай). Это имя хорошо сохранилось в памяти ошобинцев. В местных устных историях говорилось, что он был картежником (қиморчи) и однажды, сильно проигравшись в карты, бежал в Кашгар385, там женился на вдове состоятельного человека, после чего вернулся в Ошобу богачом, сумел приобрести много земли (напомню, что во время дознания основным видом его заработка была названа торговля). Гозыбай, кажется, прибегал к откровенно популистским мерам общественного подкупа, чтобы заручиться поддержкой населения кишлака. Молва приписывала ему, например, такое нововведение, как приглашение в Ошобу канатоходцев, которые устраивали представления для ошобинцев — после Гозыбая это вошло в моду.
Важная для обсуждения фигуры Гозыбая деталь — его бегство в Кашгар. Хотя в устных историях это выглядело как результат порочных наклонностей героя, я думаю, что в реальности дело обстояло сложнее. Напомню: в конце 1860-х годов в результате восстания против китайцев в Кашгаре образовалось несколько самостоятельных мусульманских владений, наиболее крупным из которых руководил бывший кокандский подданный Якуббек. Под его знамена собиралось много мусульман из разных регионов: одни из них рассчитывали исполнить свой религиозный долг в борьбе с «неверными» китайцами, другие надеялись быстро сделать на войне карьеру и разбогатеть. В 1875–1876 годах многие жители Кокандского ханства бежали к Якуббеку, скрываясь от российского завоевания и, возможно, надеясь продолжить в рядах его войска священную войну. В 1877 году Якуббек внезапно умер, созданное им государство было разгромлено китайской армией, десятки тысяч людей бежали обратно в Среднюю Азию, в том числе и в уже к тому времени российский Туркестан. Не исключено, что Гозыбай, которому, если верить колониальному досье, в 1875 году было около 31 года, относился к тем, кто воевал с российскими войсками, а потом отправился в Кашгар, чтобы продолжить там освободительную войну386. Если так и было, то это характеризует нашего героя как человека весьма активного, амбициозного, склонного к авантюрам.
У Гозыбая были, безусловно, свои властные амбиции. В архивах я нашел свидетельство, что в 1887 году он был избран сельским старшиной Ошобы. В «Краткой выписке о прохождении службы старшины Ашабинского сельского общества Аштской волости Магомед-Газы Таирбаева», составленной в 1889 году, говорилось387:
Мухамед-Газы Таирбаев, 45 лет, знаков отличия не имеет, житель Ашабы, магометанского вероисповедания, неграмотный. Поступил на службу сел. старшины 29 апреля 1887 года по выбору народа, наград не получал, в отпусках не был, имеет 2-х жен: 1) кашгарская жительница Балтыджан Турсункулова, 28 лет, ее дети Нарымбай 6-ти лет, и Нишанбай 5-ти лет, и Хал-Мухамед 3-х лет, 2) ашабинская жительница Тилля-биби Мухамед-Каримбаева, 16 лет, детей нет388. В 1887 году начальником уезда был подвергнут штрафу в размере 10 рублей за нерадение к службе.
Последняя фраза говорит о том, что отношения Гозыбая с российскими чиновниками и, видимо, с волостным управителем складывались неудачно. Гозыбай стал сельским старшиной одновременно с избранием на должность волостного управителя Мухаммад-Фазыла. Какими их отношения были в самом начале — напряженными или, наоборот, дружескими, теперь сказать невозможно. Но и у того и у другого имелись деньги, влияние и амбиции, чтобы укреплять и расширять свою власть (кстати, аштец был чуть моложе ошобинца, хотя в принципе их можно назвать ровесниками). У волостного управителя, однако, было преимущество — постоянные связи с колониальными чиновниками, через которых он мог легко воздействовать на Гозыбая или даже устранить его из числа конкурентов. Возможно, поэтому последний, прослужив старшиной до 1889 или 1890 года, решил не оставаться на этой должности, а способствовать избранию на нее своего младшего брата, что еще на три года продлило власть Таирбаевых в кишлаке389.
В 1892 году на выборах в Ошобе Гозыбай и его братья потерпели, не без вмешательства, судя по всему, волостного управителя, новое поражение — на этот раз от ошобинцев.
Самое время теперь взглянуть на тех, кто противостоял семейству Таирбаевых. Новым сельским старшиной был избран Одинамат Исаматов. О нем из материалов дознания известно немного: 38 лет, несудим, неграмотен, у него был брат Нурмат (Нур-Мад, Нур-Мухаммад). В собранных мной устных родословных упоминались три брата: Одинамат, Нурмат и Исматулла, отцом которых был Исамат, бывший, по словам моего собеседника (внука Исматуллы), влиятельным и богатым человеком в кишлаке. Я уверен, что это те же самые люди. Хотя Одинамат был чуть старше своего соперника, Мирзаолима, он все-таки был слишком молодым, чтобы в нем видели признанного лидера ошобинского сообщества. Видимо, и за ним стояла какая-то теневая влиятельная фигура из числа его ближайших родственников. Кто это был, трудно сказать; возможно, его брат Нурмат. Кстати, в Ошобе все старики помнили Мирхолдор-аксакала, который был сыном как раз этого самого Нурмата Исаматова и занимал должность сельского старшины ближе к 1924 году — это говорит о том, что данное семейство сохраняло свое влияние еще долго после того, как конфликт с Таирбаевыми остался в прошлом.
Хочу отметить интересную деталь: братья Исаматовы и братья Таирбаевы принадлежали к одной и той же Кичкина-Урта-махалле. Это означает, в частности, что они были связаны между собой очень тесными взаимными обязательствами и, скорее всего, были не столь уж дальними родственниками390. Иными словами, стычка во время выборов в 1892 году носила характер внутриродственного соперничества разных семей и не вела к какому-то радикальному и необратимому переделу властных отношений. После конфликта братья Исаматовы и Таирбаевы продолжали оставаться в прежней системе взаимной зависимости.
Список сторонников Одинамата раскрывает новые любопытные факты. В нем, например, значится 49-летний Ишанхан-тура Батырханов, который был одним из немногих в Ошобе грамотных людей и поэтому, в частности, расписывался за остальных на разного рода составленных русскими чиновниками документах, он же «лечил» побитого волостного управителя (Илл. VII). Уже по имени — с такими титулами, как ходжа, ишан, хан и тура, — ясно, что перед нами представитель почитаемой религиозной семьи. Я еще расскажу об этой семье подробнее в другом очерке391, здесь же отмечу лишь, что в силу своего особого происхождения Ишанхан должен был поддерживать тесные родственные и деловые связи с влиятельными аштскими семьями, которые имели схожий религиозный статус. Это, в свою очередь, возможно, объясняет поддержку им волостного управителя. Фигурирующая в деле сумма в 90 руб., украденная у его сына, была, я не исключаю, элементом финансирования избирательной кампании.
У Ишанхана, как представителя религиозной элиты, были собственные властные амбиции. Согласно документам, в 1880–1881 годах он был сельским старшиной Ошобы392, а позже, в 1899 году, если верить экспликации, которую я рассматривал выше, занимал должность пятидесятника. У Ишанхана были неплохие отношения с российскими чиновниками: в архиве мне попалось несколько документов, из которых видно, что в 1883 году он обращался к ним за разрешением осваивать новые земли и получил его393.
Другой сторонник нового сельского старшины — некто Имамбай Муллабаев, в чьем доме остановился волостной управитель. О нем мне известно немного. В 1880–1881 годах он был заместителем сельского старшины, которым тогда был упомянутый Ишанхан394 (напомню также, что их дома находились по соседству395). В экспликации 1899 года Имамбай появляется в роли одного из ошобинских пятидесятников, там же к его имени добавлено прозвище «саркер» — название должности сборщика налога херадж в Кокандском ханстве. Из другого документа мы узнаем, что в конце 1880-х годов Имамбай имел дом в «местности Япукли» (сейчас Епугли — ниже Ошобы, в степи), а его сын Муминбай выполнял роль посыльного, передающего документы от тогдашнего сельского старшины волостному управителю (то есть от Гозыбая к Мухаммад-Фазылу)396. Все эти данные говорят о том, что перед нами очень влиятельный человек, который имел тесные отношения с различными властными институциями. В современной памяти ошобинцев, правда, имя Имамбая Муллабаева оказалось почти стертым, так как его прямых потомков в кишлаке не осталось.
Все эти сведения соблазнительно было бы интерпретировать в том духе, что события в декабре 1892 года были столкновением старой ошобинской элиты, имевшей налаженные связи с аштскими элитами и российскими чиновниками, и новой элиты, которая пыталась, используя деньги и популизм, закрепить свои претензии на власть. Но, конечно, фактов для такого обобщения не слишком много. В любом случае очевидно, что этот конфликт имел свою предысторию и свой контекст, которые были не особенно понятны колониальной власти.
Надо еще отметить, что перечисленными фигурами, которые так или иначе проявили себя на выборах сельского старшины в 1892 году, ряд претендентов на властные позиции в Ошобе вовсе не ограничивался. В экспликации 1899 года сельским старшиной Ошобы назван некто Бадалбай Мулла-Мирза Рахимов. В одном из документов, датированных 1900 годом, говорится, что ошобинский сельский старшина Мулла Мирза-Рахим Мухаммад-Назаров заступил в должность заместителя (кандидата) волостного управителя, которым тогда же стал аштец Мулла Аскар Мирза-Саидов. В рапорте сказано, что оба они «люди состоятельные, благонадежные и распорядительные»397. Из других документов известно, что в 1901 году из-за болезни Муллы Аскара на должность волостного управителя временно назначен Мулла Мирза-Рахим Мухаммад-Назаров398, а в 1903 году последний был уволен с должности ввиду преклонного возраста — ему было уже 70 лет399. По-видимому, уйдя на повышение в последний год XIX столетия, сельский старшина Мулла Мирза-Рахим поспособствовал тому, чтобы на его должности остался сын Бадалбай.
В той же экспликации 1899 года в списке пятидесятников кроме знакомых Имамбая Муллабаева, Ишанхана Батырханова, Муллы Рахматуллы Халык-Назарова (который также был на стороне Одинамата Исаматова) можно встретить новые имена — Муминбая Абдувахидова, Маллабая Назарбаева и Давранбая Исламбаева. Из своих изысканий я знаю, что Давранбай Исламбаев — отец Одина-аксакала, исполнявшего обязанности сельского старшины где-то в 1910-е годы (по словам его сына, он трижды избирался на двухлетний срок), Муминбай Абдувахидов — это Муминбай-аксакал, который занимал должность сельского старшины в Ошобе в начале 1920-х годов400.
Все перечисленные ошобинцы представляли наиболее значительные и сильные семейные группировки, за ними была также поддержка более широкого круга родственников, видимо, и других альянсов — по соседскому, приятельскому, экономическому признакам. Власть мингбаши и аксакала, хотя и легитимированная колониальным режимом, не была внешней по отношению к сообществу, она опиралась на всю сеть отношений и позиций внутри кишлака, передвигалась по этой сети, переходила от одной влиятельной семьи к другой и никогда не была абсолютной и надстроечной. Та или иная должность в колониальных институтах не была единственным механизмом влияния и обогащения, поскольку в руках ошобинцев сохранялись и другие ресурсы — экономические, социальные, культурные. Представители одной семьи могли уйти с официальных должностей, уступая место представителям других групп, терпели поражение в конкурентной борьбе, потом копили силы, опять побеждали и возвращали себе статусные позиции. Власть как таковая была не столько функцией установленного извне порядка, сколько результатом сложного баланса сил и ресурсов внутри самой общины.
* * *
Британский историк Александр Моррисон в книге «Российское управление в Самарканде» пишет, что «русские <…> не могли предотвратить подчинение местной управленческой машины тем, кто обладал властью на низовом, сельском уровне <…> Государственной властью и государственным авторитетом манипулировали, используя их в разнообразных целях, будь то личное обогащение или создание патронажной системы, посредством которой царское правительство замещало должности на местах. Провал был вызван не столько отсутствием реального принуждения, кадров или денег, сколько нехваткой знаний»401. Автор считает, что Российская империя, как и все остальные европейские империи в своих колониях, была неспособна установить эффективное управление в Средней Азии и модернизировать местное общество, превращая его в некое подобие себя или собственных представлений о современности и цивилизации. Моррисон отмечает не только слабость российской власти, но и преемственность между доколониальными и колониальными режимами, рассматривая местные элиты как заинтересованных участников имперского управления402. Только подключение к внешним, колониальным механизмам доминирования еще и местных механизмов управления и регулирования давало российским чиновникам возможность господствовать в регионе, в том числе осуществлять свои проекты его трансформации, причем распределение выгод и дивидендов от этих проектов также было многосторонним и не обязательно несправедливым.
С тезисом о слабости российской колониальной власти спорить трудно. Если посмотреть на то, как чиновники использовали накопленные ими знания для контроля за локальными сообществами, такими как Ошоба, то окажется, что их знания были далеко не полными и даже ошибочными, а сама власть — неэффективной. А если удается, убрав колониальное искажение, увидеть, чтó происходило в таких сообществах, то там обнаруживаются социальные разграничения, свои сильные и слабые, победители и проигравшие, свои противоречия и борьба, не сводимые к оппозиции колонизаторы/колонизируемые. Российские чиновники вынуждены были опираться на те или иные местные группировки, члены которых вольно или невольно превращались в коллаборационистов.
Однако я бы сделал тем не менее несколько уточнений к этому тезису403. Российская империя все-таки пыталась создавать на завоеванных территориях институты и пространства, которые могла бы обустраивать полностью или почти полностью по собственному плану, — это города и промышленное производство (фабрики, железные дороги), русские и «русско-туземные» школы, суды, тюрьмы, клиники и так далее. Отдельные сельские районы, селения и социальные группы по тем или иным причинам также становились объектом пристального внимания колониальных чиновников, и они учились использовать свои знания, чтобы управлять ими. Контроль за этими ключевыми и опорными пунктами и сообществами позволял колониальной власти удерживать все завоеванное пространство в своем подчинении, не вникая в специфические детали, не заглядывая пристально во все уголки, не тратя времени и средств на их изучение. Значительная часть местного общества, особенно в стороне от городов и железных дорог, продолжала, конечно, жить в соответствии со своими классификациями времени, географии, истории и социальных делений, но и она менялась, пусть очень медленно, незаметно, в результате множества хаотических движений, без какого-то плана и прямого воздействия со стороны колонизаторов. Постепенно колониальное влияние кумулятивно набирало силу, власть расширяла сферу своего контроля, захватывала все новые и новые области — в территориальном и социальном смысле, рекрутировала и сама взращивала лояльных «туземцев». Эту динамику следует учитывать, внося соответствующую поправку в оценку колониальной политики в Туркестане.
Далее, тезис о слабости российской власти вовсе не означает, что мы не должны говорить о колониальном характере присутствия Российской империи в Средней Азии и существенной диспропорции между российскими завоевателями, подчинившими себе регион, и местным обществом, которое оказалось в составе страны с иной политической и культурной системами404. На мой взгляд, мы должны видеть все пространство колониальной власти, которое не было гомогенным — в нем были точки сильного и слабого напряжения противоречий, в одних таких точках конфликт между колонизаторами и колонизированными был острее и предопределял динамику событий, в других колониальные диспропорции были менее заметными, чем диспропорции внутри самого местного общества. Сам факт того, что история одного конфликта в Ошобе стала предметом внимания, разбирательства и попытки описания со стороны российских администраторов, говорит о том, что неравенство между колонизаторами и колонизированными реально существовало.
Мы видим, что появление в кишлаке российских приставов и следователей, наверняка сопровождаемых военной охраной, было решающим моментом в цепочке событий — именно они, неважно по каким соображениям, провозглашали окончательный вердикт и наказывали виновного, утверждая тем самым свое господство в этой ситуации. Появление вслед за солдатами переписчиков и землемеров, которые никого не репрессировали, а описывали самих ошобинцев и их имущество, означало, что колониальная власть по крайней мере претендует на вездесущность, вводит новые правила и ограничения, становится более навязчивой и требовательной. Таким образом, одновременно с тем, как линии взаимодействия растягивались и опутывали общество, количество точек с сильным напряжением, да и само напряжение нарастали, конфликты смещались к ним, создавая условия для грядущих восстаний и войн, о которых я уже рассказал в предыдущем очерке. Собственные, внутренние иерархии и противоречия в Ошобе сохранялись, как сохранялась и некоторая замкнутость, закрытость этого мира для внешнего наблюдателя, но империя настойчиво вмешивалась в локальную жизнь, предлагала не виданные ранее возможности и вызывала в ответ и новый интерес, и новые возмущения.
Очерк четвертый МАЛЕНЬКИЙ СТАЛИН
Вот запись в полевом дневнике, которую я сделал в один из первых дней пребывания в Ошобе. Это история, рассказанная К.Х.:
Глава первая: как Ортык Умурзаков стал председателем сельсовета. Умурзакову к 37 году было около 25–30 лет, он окончил четыре класса и считался учителем; в Ошобе была школа, и он в ней считался вроде директора. Председателем сельсовета в то время был Маматкул Джуманов. Однажды он [Маматкул] направился куда-то (в район? или в область?) на повышение квалификации, а печать председателя временно передал Умурзакову, который собирался жениться на его сестре. Когда Джуманов вернулся в Ошобу, Умурзаков печать ему не вернул и так в 37 году остался председателем сельсовета (да еще и на сестре Джуманова не женился).
Глава вторая: как Умурзаков басмачам помогал да потом их и предал. В 1941 году, как известно, началась война, немцы подошли к Москве. Однажды Умурзаков собрал несколько человек в одном месте (Ак-дуппи-булак) между Ошобой и Шайданом и сказал следующее: «Москву немцы взяли, Советского Союза больше нет, Андижан [город в восточной, узбекистанской части Ферганской долины] уже захватили тамошние басмачи, и сюда они придут, поэтому надо тоже вооружиться и делать как в Андижане». Собравшиеся согласились. Старшим был Умурзаков, но он и его родственники (старший брат мамы Тоштемир Нурматов, другие братья мамы и их сыновья — все работали в колхозах бригадирами) остались в Ошобе ждать помощи из Андижана, а 22 человека ушли в горы. Среди этих двадцати двух были: Тошмат (сейчас один из его сыновей — учитель, другой — бухгалтер колхоза), Тургун (работал сторожем в магазине), Хомит Соибов, Мумин Бозоров, братья Тухтар и Джура Юнусовы. Возглавил эту группу некий Мулла (это имя). У них были одна боевая винтовка (у Муллы) и охотничьи ружья. Умурзаков показал им, у кого взять лошадь, у кого другие вещи, и сказал им, чтобы они ехали через Кызыл-Олма [выселок в верхней части Ошобинского ущелья] в горы, там резали быка и угощались. Сам же Умурзаков решил вдруг отправиться в Шайдан и доложить о басмачах, он сам же и привел милиционеров для поимки басмачей. Тошмат (когда его поймали?) упрекнул Умурзакова, что, мол, сначала он помогал им, а потом их же и предал, но в ответ получил от Умурзакова пулю (был убит). Где-то в ноябре 1941 года всех басмачей схватили, отправили в Ленинабад и там расстреляли.
Глава третья: как Умурзакова разоблачили. Председатель колхоза «НКВД» Давлат Искандаров, двоюродный брат Умурзакова, с чего-то вдруг решил «покатить бочку» на своего родственника. Было это в 1947 году. Умурзаков был «большим» и сильным человеком, у него были друзья не только среди районного, но и среди областного и даже республиканского начальства; он сам назначал председателей колхозов в Ошобе; брал мясо и займы у населения по три раза в год (хотя положено один раз в год), то есть клал себе в карман все; кого хотел, во время войны отправлял в армию, а кого хотел, за взятку (овцами и козами) оставлял дома; кто ему не нравился, того мог взять и пристрелить. Суровый был человек, и всего-то в 35 лет. Искандаров показал, где Умурзаков хранит незаконно свой скот (и скот своих родственников). К.Х. и его приятель составили акты и решили отдать их «госконтролю» (какой-то приезжий из Ташкента?). Умурзаков вызвал к себе своих друзей: секретаря райкома, председателя райисполкома, районного прокурора, районного начальника милиции. Они попытались запугать К.Х. и его приятеля, но не вышло (К.Х. с гордостью вспоминал, как они посылали начальников матом). В конце концов приехали еще люди и были заново составлены акты: обнаружилось у Умурзакова около 600 коз и овец, 52 коровы, 12 лошадей (они все были в горах, паслись в колхозных и частных стадах, и местные пастухи за ними смотрели). Кроме того, Искандаров показал, где Умурзаков и его родственники незаконно использовали землю колхозов для своих целей. Наконец на Умурзакова набрали свидетельские показания (правда, вначале ошобинцы не хотели, боялись говорить о нем) и посадили на 15 лет (его друзей, районных начальников, выгнали с их постов).
Глава четвертая, заключительная: как Умурзаков вернулся. Где-то после смерти Сталина Умурзаков попал под общую амнистию и вышел на свободу. К.Х. вспоминает, как они встретились, поругались и как он пьяный бегал за Умурзаковым с топором в руке. В это время председателем колхоза был Маджидов, старый приятель Умурзакова, поэтому он назначил Умурзакова своим заместителем. Где-то в 1956—57 году на колхозном собрании ошобинцы потребовали, чтобы Умурзаков ушел. Вот такая история.
Со слов Н.Р. я записал еще одну историю об Ортыке Умурзакове и событиях, связанных с его арестом:
Тоштемир Нурматов был после войны мовуном [муавин — заместитель, помощник] (1-м заместителем председателя) в колхозе «Буденный». Один его брат (Хасан) был бригадиром, еще один (Хошим) — бригадиром и зав. фермой, мудиром [мудир — заведующий], еще один (Абдахат) — простым колхозником. Вообще в то время всех назначал Умурзаков. Он говорил кому-нибудь: «Ты будешь раисом [раис — председатель]», и тот становился председателем колхоза (из района потом только утверждали этого человека — с их стороны они как бы советовались с Умурзаковым, кого назначить раисом). Умурзаков таким образом назначил и Давлат-раиса, и Бободжана Юлдашева, и Согинбая (он был и бригадиром, и председателем колхоза «Социализм») — своего поччо (мужа сестры). Умурзаков и Нурматов всем управляли в Ошобе. Однажды (в 44 году) к ним заехал участковый милиционер Дададжан Саттаров (из Гудаса), который хотел отправить всех, кто не имеет документов (а тогда большинство их не имело), на фронт. Умурзаков и Нурматов ему запретили, а Нурматов даже вроде бы побил его кнутом.
Где-то после войны Давлат-раис и Согинбай поссорились между собой: оба хотели дешево купить один участок в Ошобе. Умурзаков обоим отказал на том основании, что согласие на продажу этого участка должны дать ближайшие соседи того, кто участок продает. Давлат-раис обиделся на Умурзакова и написал на него (в район? в область?) письмо, в котором обвинял Умурзакова в том, что он имеет много не зарегистрированных нигде овец и коз. Умурзакова и Тоштемира Нурматова в 47 году арестовали и отправили в лагеря. Умурзаков в тюрьме, в свою очередь, стал писать, что Давлат-раис тоже имеет незарегистрированный скот. Где-то в 47–48 году арестовали Искандарова, Бойназар-мудира и других (Бободжан Юлдашев — председатель «Буденного» — в ссоры не вмешивался, поэтому его никто ни в чем не обвинял, но его потом сняли, так как он был неграмотный). И в том, и в другом случае речь шла об овцах и козах, которые принадлежали не Умурзакову и не Искандарову: каждая ошобинская семья имела незарегистрированных овец и коз (допустим, 10 зарегистрированных и 30–40 — нет), и весь этот скот жителей Ошобы в обвинении приписали Умурзакову, а потом — Искандарову. Кстати, когда арестовали Нурматова, его брат Хасан бежал в Узбекистан. И еще одна история: когда взяли Умурзакова, Давлат-раис решил найти печать сельсовета и завладеть ею — он решил, что эта печать находится у Турдали Нуралиева (поччо — мужа одной из сестер Умурзакова, простого колхозника), и он якобы подослал людей потребовать печать, а когда тот не дал (сказал: «У меня нету»), они его убили (этому якобы содействовал участковый Дададжан Саттаров). Вообще же после ареста Умурзакова сельсовет вроде бы несколько лет (?) не работал, пока в Ошобу не назначили нового аксакала (из Шайдана) с новой печатью.
Умурзаков многое сделал для Ошобы: построил хашаром [добровольным коллективным трудом] школу Горького, гидроэлектростанцию, стену вокруг кладбища. Он всегда досрочно сдавал государству займы (был в этом деле передовиком): заранее, до объявления займа, собирал деньги у людей (сам распределял, кто сколько должен дать). Он кое-кому помогал — не отдавал мужчин, если это единственный сын, на фронт (писал, что их нет в кишлаке). Он ловил воров, но всех не сажал: кто бедный — того как-то спасал, а кто настоящий вор — водил по кишлаку и всем показывал как вора (кстати, милиции в Ошобе не было, были «внештатные» активисты или дружинники). Если кто приезжал из района с проверкой и не заходил к Умурзакову, он того из Ошобы выгонял. Говорил: «В Ошобе есть власть, и если приехали, то сначала ко мне зайдите». Однажды был случай: он вызвал к себе Мирзо-юзбаши (он служил у Рахманкула и за ним был надзор, в кишлаке были агенты НКВД), а тот повел себя грубо и стал ругаться, и Умурзаков выстрелил в него, ранил, но не убил (Умурзакову это поставили в вину лишь на суде, через несколько лет). Во время войны Умурзаков выгнал «в 24 часа» из Ошобы многих учителей (Тошматова, Рузиматова, Мавлонова и других). Тогда люди друг на друга много жаловались и просили учителей писать анонимки. Чтобы это пресечь, Умурзаков их выгнал.
После войны Умурзакова обвинили в том, что у него много скота (Н.Р. сказал, что у него у самого было 22 незаписанных козы в горах, этих коз потом списали на Умурзакова). Его вызвали в Шайдан, на бюро райкома и там внезапно арестовали. Револьвер и печать сельсовета Умурзаков не отдал — их так и не нашли. Когда Умурзаков вернулся из тюрьмы, он работал какое-то время мирабом [мироб — лицо, смотрящее за распределением воды в оросительной системе] в колхозе. После ареста Умурзакова кто-то убил его отчима (Мавлона) и поччо — мужа сестры, вроде бы искали у них богатство Умурзакова.
Я слышал много разных историй и мнений об Умурзакове. Но каково же было мое удивление, когда кто-то на улице показал мне на одинокого, сухощавого старика с красными, воспаленными глазами и сказал, что это и есть тот самый Ортык Умурзаков! Конечно, я попытался с ним пообщаться. Умурзаков сначала меня избегал, но потом неожиданно легко согласился поговорить, хотя и был очень осторожен в словах, подбирал их так, словно выступал на собрании или общался со следователем (Илл. 10). Вот выдержки из моей записи этого разговора:
Родился в 1912 году. В 1916 году умер его отец, Умурзак, мать потом вышла замуж за Мавлона Далиева. До 1930 года он жил в доме Тоштемира Нурматова. В 1925 году в Ошобе открылась первая школа («козон-татар-мактаби», то есть казанско-татарская школа), и Умурзаков в ней учился до 30 года. Потом, в 30–31 годах он учился на курсах подготовки учителей в Шайдане. Потом работал учителем в Ошобе. С 33 года (?) работал аксакалом и учителем до 1947 года (до него аксакалом был Джурабай Сохибов). В 31–32 годах участвовал в создании колхоза «Буденный». С 25 года был членом комсомола до 34 года (с 25 до 30 года был секретарем ячейки?), потом стал членом ВКП(б). В Ошобе тогда было два-три члена ВКП(б), а в 39–41 годах секретарем ячейки был Хамрали Алиев, родом из Ашта, который работал в Ошобе в заготпункте.
Илл. 10. Ортык Умурзаков, 1995 г.
Какие свои заслуги на посту аксакала Умурзаков назвал? Строил в 39 году Большой Ферганский канал (поехал туда, собрав 900 человек ошобинцев) и в 40 году — Северный Ферганский канал (собрал около 800 человек)405. Создал три колхоза: в 38 году «НКВД» (раис Мамади Одинаев, потом Давлат Искандаров), в 39 году «Социализм» (раис Давлат Бойханов, потом Согинбай Худайбердыев) и «Литвинов» (раис Нозирали Кадыров, потом Юсуп Юлдашев), в 40 году люди из последнего перешли на земли Северного Ферганского канала и создали колхоз «22-я годовщина». Умурзаков уговаривал и заставлял людей идти в колхозы, так как многие не хотели (считали, что еда, которую давал колхоз, — это харом [запретные с точки зрения ислама действия и вещи]). В 40 году сделал электростанцию на воде, мотор помогли достать друзья в Коканде, устанавливал мотор кокандец Ахмедов — включили 3000 лампочек. В 40 году установил радиостанцию (друзья помогли достать). В 39 году построил новое здание школы Горького, возвел стены вокруг кладбища и выровнял площадку в Чинарабаде, в 40 году построил здание правления сельсовета и клуб. В 41–42 годах возглавлял отряд по борьбе с 300 басмачами (во главе стоял Рахим-бово Кадыров), в отряд Умурзакова входили 10 милиционеров из Шайдана и 30 активистов — бригадиры, раисы. С 52 по 56 год он работал в МТС — завхозом, зав. нефтебазой. С 58 по 61 год работал заготовителем в райпо, а с 61 по 86 год (до выхода на пенсию) — наблюдателем в райводхозе.
Весь набор мнений об Ортыке Умурзакове словно в миниатюре повторяет споры о сталинизме. Одни жители Ошобы, вспоминая о деятельности Умурзакова, называют его преступником, который правил единолично и только в своих интересах. Другие, наоборот, оправдывают бывшего председателя сельского совета, считая, что он сделал для кишлака много хорошего, а его жестокость объясняют условиями времени (Илл. VIII). Как сказал сторонник последних, «Умурзаков был честным человеком и хорошо руководил, очень жестко, но хорошо. Порядок был. Как Сталин руководил». Такое сравнение со Сталиным позволяет, на мой взгляд, взглянуть на природу сталинизма не сверху — с точки зрения того, чтó планировали и делали советский диктатор и его ближайшие сподвижники, а снизу — оттуда, где было множество своих «маленьких Сталиных»406, которые ежедневно в своем локальном пространстве воспроизводили собственную власть. Кто они, эти «маленькие Сталины»? От имени кого они правили и чего хотели? Были ли они теми, кто управлял, или же теми, кем управляли?
Американская ревизионистская школа в оценке сталинизма исходит из тезиса о том, что в Стране Советов государство и общество (в частности, крестьянство) представляли собой не один и тот же, а два отдельных друг от друга, антагонистических мира, между которыми шла постоянная социальная война. Например, американский историк Линн Виола в книге «Крестьянский бунт в эпоху Сталина» пишет о непримиримой борьбе крестьянства с советской властью, о «столкновении двух культур», «внутренней колонизации крестьянства», «гражданской войне между государством и крестьянством, городом и деревней». Коллективизация, по ее мнению, разрушила местную культуру и была попыткой создания в деревне «культурной и экономической колонии»407.
Крестьянство для Виолы не просто социальный класс, но и некая общая культура, поэтому его сопротивление советскому государству — это не только и не столько классовая борьба, сколько своеобразная антиколониальная война за сохранение своей социальной и культурной идентичности. «Взгляд через призму сопротивления, — пишет исследовательница, — помогает выделить ключевые характеристики крестьянского общества, его культуры и политики»408. Сопротивление — это не только бунт, но и любые попытки приспособления, которые опираются на «собственные институты, традиции, ценности, ритуалы, способы выражения и оформления сопротивления». Сопротивление (и приспособление) могло принимать самые разные обличия: отходничество, бандитизм, религиозные представления о конце света, разрушение собственности, выступления на митингах, письма с жалобами, убийства, нападения на советских работников, восстания, попытки самораскулачивания и разбазаривания имущества, разные формы террора, самосуда, угрозы, все формы теневой экономики, взятки, нежелание работать в колхозе, нелегальные аренда и покупка земли, воровство и так далее. «Самооборона сплотила его [крестьянство] как культурное сообщество, — пишет Виола. — Общество, обычно пронизанное конфликтами и разделенное по целому ряду признаков, оказалось способным к единству и сплоченным действиям перед лицом кризиса»409. Внутри крестьянства тоже шла своя гражданская война, но это была война против деревенского меньшинства, ставшего на сторону государства, она не нарушала единства и целостности крестьянской культуры, а, наоборот, подчеркивала их.
В изложенной концепции весьма проблематичным является, по моему мнению, сведение всех сложных отношений в советском обществе к конфликту двух сторон, иначе говоря, рассмотрение любых действий и представлений исключительно в логике борьбы государства с крестьянством и сопротивления последнего первому. С одной стороны, государство выглядит в этой схеме какой-то самодовлеющей силой — словно оно не состоит из конкретных людей со своими биографиями, личными интересами, со своими противоречиями, которые имеют порой весьма локальный характер. С другой стороны, таким же романтически-эссенциалистским выглядит и крестьянство, которое существует будто бы только для того, чтобы сохранять свои неизменные традиции и ценности. Автономная и самодостаточная крестьянская культура — сопротивляющаяся или приспосабливающаяся — кажется мне довольно неясной вневременной и внепространственной абстракцией, плохо согласующейся с реальными историческими контекстами.
В данном очерке я попробую проанализировать, из чего слагалась власть местного «маленького Сталина», каковы были ее источники и способы легитимации. Я охарактеризую различные официальные институты и те возможности, которые они предоставляли местным руководителям, исследую также неформальные механизмы, прежде всего родство, которым советские выдвиженцы активно пользовались для укрепления своих позиций. Рассмотрев конфигурацию социальных позиций и соотношение сил в Ошобе в 1930—1940-е годы, я проанализирую конфликт 1947 года; то, как в нем были задействованы разные социальные группы; какие факторы стали в итоге решающими для свержения местного «культа личности». Таким образом, я покажу, что государство и крестьянство находились не по разные стороны баррикад, а были тесно переплетены на локальном уровне, конкретные люди и институты могли иметь сразу несколько функций — и как выразители государственных интересов, и как защитники местных устоев.
Аксакал
В литературе о советском крестьянстве 1930—1940-х годов в качестве ключевой фигуры обычно рассматривается председатель колхоза, который, как считает Ш. Фицпатрик, изучавшая российскую деревню, напоминает «по своему статусу и функциям прежнего сельского старосту»410. Однако в случае, о котором я пишу, основной фигурой, представлявшей власть, являлся председатель сельского совета. Именно председатель сельсовета институционально был прямым преемником сельского старосты, и его функции, несколько меняясь, оставались в 1920—1940-е годы примерно теми же, сфера его компетенции охватывала всю Ошобу и все выселки этого кишлака, то есть территорию бывшего сельского общества, которым руководил сельский староста. Председателя сельсовета, как и ранее сельского старосту, именовали аксакалом, и эта фигура олицетворяла в глазах местных жителей легитимную власть.
Между прежними сельскими обществами и новыми сельскими советами существовала в начале 1920-х годов еще и переходная форма — сельские революционные комитеты, главным организационным отличием которых было назначение председателя вышестоящим волостным ревкомом. Один из документов 1922 года упоминает в качестве председателя Ошобинского сельревкома некоего Каршибая411. В 1923 году в сельском ревкоме Ошобы председателем был Муминбай Абдувахидов412, являвшийся, как сказано в архивном документе, середняком и неграмотным, 50 лет от роду, а секретарем — 26-летний Хаит-Мухаммад Абдуразыков413. В 1924 году председателем исполкома сельсовета был Мирхолдор, племянник прежнего Одинамат-аксакала414. В 1925 году, согласно документам из архива Я.А.415, председателем исполкома опять стал Муминбай, а в 1926 году — некто Умар, сын Зулькадыра.
В 1924–1926 годах произошло национальное и административное размежевание региона, в результате которого Аштская и Бабадарханская волости объединились в Аштский район416, в 1927 году волости были ликвидированы, а район вошел в состав Ходжентского округа Узбекской ССР. Прежние связи с Кокандом и Наманганом (и Чустом) сохранились, но административные органы управления теперь переместились в более отдаленный Ходжент. Бывшее сельское общество Ошоба получило новое название — Ошобинский кишлачный совет рабочих, дехканских и красноармейских депутатов, или просто сельский совет, сельсовет (в 1936 году — Ошобинский кишлачный совет депутатов трудящихся).
Во второй половине 1920-х годов на должности председателя сельского совета находился, согласно народной памяти, Одина-аксакал, или Одинамат (Одина-Мухаммад) Оминов, который побывал депутатом «курултая», где выступал Михаил Калинин417. После Одинамата, как говорили мне в Ошобе, аксакалом был некто Хомид родом из Ашта (по другой версии — из Гудаса). Ему память приписывает инициативу постройки здания правления сельсовета. После него председателем сельсовета стал Джура Соибов (Сохибов), отец которого был пятидесятником. В действительности аксакалы в 1920-е и первой половине 1930-х годов часто менялись и их имена даже не зафиксировались в памяти ошобинцев. В отчете о проведенной в июне 1929 года проверке работы сельсовета председателем назван Негматджан Ахмедов, а секретарем Махкам Мирзаханов (1910 г.р.) — оба узбеки, грамотные, батраки и члены ЛКСМ. Там же сказано, что прежний председатель — некто Турсунов — переведен на работу в Пангаз, а прежний секретарь, Ашуров, «выбыл на педагогические курсы»418.
Из акта проверки работы сельсовета за 1929 год мы узнаем, что в Ошобе был 31 депутат (один человек на 100 жителей) — 26 мужчин и 5 женщин, из них 30 были узбеками и 1 таджиком, в том числе 26 батраков, 1 бедняк, 3 середняка и 1 учитель. От выселка Аксинджат, который теперь вернулся в состав сельсовета Ошоба, был уполномоченный Фазилов. При исполкоме существовали три секции — бытовая, налоговая, здравоохранения, но следов их деятельности проверяющие не нашли. Сельсовет выписывал газету «Кызыл Узбекистан», но и она не хранилась надлежащим образом. В кишлаке была одна школа (42 ученика, в том числе 1 девочка), одна потребительская кооперация, ячейки ВКП(б) не было, зато была ячейка ЛКСМ, в которой числился 31 человек (большинство неграмотные, одна женщина). Помещение для сельсовета было непригодное, батрачком (батрацкий комитет) бездействовал, почта доставлялась в Ошобу два раза в неделю, делопроизводство велось на узбекском языке, записи рождения и смерти были неправильные419.
Как я уже сказал, система советского сельского управления напоминала прежнюю систему420. Председатель сельсовета избирался на общем сходе глав семей на один-два года. Вместе с председателем избирались депутаты сельского совета. Председатель сельского совета получал зарплату, но по своему размеру — 12 руб. — она носила номинальный характер. Основной государственной функцией председателя сельсовета помимо ведения отчетности и выполнения некоторых полицейских обязанностей был сбор налогов. Во второй половине 1920-х годов налоговая система включала сельскохозяйственный налог, водный сбор, самообложение, а также некоторые другие сборы и повинности. Как определялись размеры налога, не очень понятно. Сохранившиеся в архиве результаты выборочного изучения урожайности различных культур говорят о том, что сельскохозяйственный налог не определялся с валового урожая, а устанавливался, как и в прежнее время, путем умножения размеров участка на предполагаемый урожай с единицы площади. Однако при этом советская власть, которая строго придерживалась классового подхода и дифференцированного налогообложения, стремилась реорганизовать систему круговой поруки в систему похозяйственного обложения. Когда произошла эта реорганизация и насколько эффективными были усилия, предпринятые для измерения частных наделов, опять же не очень понятно. Можно лишь предположить, что такое измерение привело к переговорам, согласованиям и конфликтам между жителями Ошобы и властью, попыткам скрыть часть обрабатываемой земли, спорам о границах участков и так далее. Все это, впрочем, исчезло из современной памяти ошобинцев.
В 1929 году произошло важное, хотя на первый взгляд и незаметное событие — его никто не вспоминал в разговорах со мной. В этом году Ходжентский округ Узбекской ССР был передан в состав Таджикской ССР, которая получила статус отдельной союзной республики. Ошоба оказалась в составе таджикского государственно-административного образования, столицей которого теперь становится Душанбе421. Это, безусловно, изменило приоритеты власти и конфигурацию интересов различных групп в разных органах управления. Мы наблюдаем, что с этого момента время от времени на руководящих должностях в Ошобе оказываются выходцы из таджикских селений, что, возможно, говорит о попытках власти Таджикистана держать в поле своего зрения все то, что происходит в кишлаке, жители которого записаны узбеками.
В 1929–1930 годах радикально изменилась также экономическая политика центральной власти, связанная с попытками усилить контроль за поставками зерна. Сначала была введена прогрессивная шкала налогообложения, затем сельским обществам было предложено самим распределять между крестьянами задания по поставкам зерна или другой продукции, наконец в начале 1930 года началась массовая кампания по раскулачиванию, которая включала процедуру определения того, кто является кулаком и на какие категории кулаки делятся, а далее, в зависимости от категории, полную или частичную экспроприацию кулацкого имущества и высылку кулаков и их семей либо за пределы республики, либо за пределы района422. Для поддержки этой политики в села были направлены тысячи активистов из городов, а в самих деревнях активизировались батрачкомы, состоявшие из советских активистов и бедняков. В начале 1930-х годов в Ошобе батрачкомом руководил учитель Махкам Мирзаханов, который, как я уже упоминал, выполнял какое-то время роль секретаря сельсовета.
Как осуществлялась процедура и какой была практика раскулачивания, по каким критериям находили жертв в Ошобе, кто попадал в число бедняков, а кто в число кулаков, сейчас сказать трудно423, мне не встречались ни устные свидетельства такого рода, ни архивные документы424. Эта процедура осложнялась, в частности, тем, что в обществе, где действовали мусульманские нормы наследования равными долями для всех сыновей, концентрация земельной собственности в одних руках была редким и временным явлением — дети вчерашних богачей сами уже переставали быть богачами. Тем более что речь идет о горных районах, где существовало малоземелье и многие зарабатывали разного рода промыслами. Понятие богатства скорее основывалось на обладании скотом и торговых операциях, которые зависели от удачи и множества факторов, что создавало трудности для определения размеров достатка. Все это вносило в процесс выделения кулаков и бедняков элемент субъективности. Списки составлялись на собраниях активистов. Однако высылали не всех, окончательное решение о высылке того или иного человека принималось районным начальством, хотя какие-то местные позиции, проявления недовольства и пожелания при этом учитывались.
По-видимому, если судить по некоторым именам и спискам, первыми кандидатами на ссылку были те, кто занимал какие-либо должности в местной администрации до революции, религиозные деятели, зажиточные люди, в чьем владении было более гектара земли и две коровы, кто имел наемных рабочих или сдавал землю в аренду. Из кишлака были высланы прежние аксакалы, фактически остававшиеся у власти или при власти, — Одина, Каршибай и Муминбай, которых обвинили в числе прочего в том, что они сотрудничали с Рахманкулом. Вслед за ними были изгнаны многие другие влиятельные люди с семьями, всего, как подсчитывали некоторые мои собеседники, до 60 хозяйств. Их родственники, другие известные и зажиточные ошобинцы, опасаясь репрессий, сами покинули Ошобу — кто-то уехал в соседние кишлаки, кто-то перебрался в Узбекистан, где о них знали мало и где они не могли стать объектом чьей-то неприязни, зависти или заложниками местных семейных конфликтов.
Все эти чистки, спровоцированные и организованные государством, привели к тому, что прежние отношения, иерархии, баланс сил между различными семьями в кишлаке рухнули. В результате этих перемен значение и функции председателя сельсовета претерпели ряд изменений. Он стал менее зависимым от неформальных иерархий и неформальных лидеров. В ходе раскулачивания он получил новые полномочия и новые рычаги легитимного давления на неугодных ему людей. Через его руки проходили немалые материальные ресурсы — налоги, а также имущество кулаков. Необходимость участия в политической кампании требовала от аксакала усвоения и использования официального языка классовой борьбы и строительства социализма, а значит, и новых знаний, новой тактики поведения. Джура Соибов не выдержал этого испытания и после обвинения в родстве с кулаком вынужден был покинуть должность аксакала. Председателем был назначен Маматкул Джуманов, а после него — в 1935 году — 23-летний Ортык Умурзаков (Илл. 11).
Итак, каковы были властные полномочия Умурзакова?
В 1930-е годы председатель сельсовета должен был избираться раз в один или два года большинством жителей. В течение года регулярно устраивались сессии — собрания депутатов, которые обсуждали разного рода вопросы местной жизни. Формальных привилегий у аксакала было немного. В 1930-е годы он получал установленную государством зарплату, которая составляла 100–200 руб. в месяц (секретарь получал 80—160 руб.)425. Это была не слишком большая, но достаточная сумма, делавшая достаток аксакала менее зависимым от местных экономических условий и от колхозов. Возможно, председатель сельсовета имел какие-то скидки по оплате налогов и другие льготы, но в целом формальные преимущества от исполнения данной должности не были очень заметными и сами по себе не являлись ни целью борьбы за власть, ни средством — как это было позже, в 1970—1980-е годы, когда власть разных уровней обладала ощутимыми номенклатурными бонусами.
Илл. 11. Ортык Умурзаков в середине 1930-х гг.
У сельсовета с 1931 года был свой собственный бюджет (в прошлом председатель готовил сметы в вышестоящие инстанции и получал деньги оттуда), при нем по закону должны были работать ревизионная комиссия, избирательный комитет, общественный суд, различные комиссии сельских депутатов и уполномоченные. Обо всем этом в памяти ошобинцев мало что осталось: видимо, все эти инструменты власти носили формальный характер и в глазах местного населения аксакал просто на время делегировал каким-то людям часть своих полномочий.
Одной из главных обязанностей председателя сельского совета, как в свое время и сельского старосты, был сбор налогов и разного рода поставок и платежей. В отличие от царских налогов советские налоги 1930—1940-х годов имели несколько особенностей426.
Во-первых, существенно изменилась структура налогов. Помимо собственно налогов (сельскохозяйственный налог, культурный сбор, военный налог, который действовал во время войны, самообложение, водный сбор) и обязательных займов крестьянин должен был осуществлять обязательные поставки продовольствия со своего участка по ценам, установленным государством. Налоги и платежи выражались в денежном эквиваленте, поставки же имели натуральную форму, а их номенклатура и размеры определялись для каждого района специальными расчетами. Если таких продуктов в домашнем хозяйстве не было, они оплачивались либо денежным эквивалентом (по рыночной стоимости), либо другими продуктами. Натуральные поставки были наиболее тяжелым бременем, и от него освобождались только те хозяйства, где не было трудоспособных членов.
Во-вторых, поставки, налоги и платежи собирались с каждого хозяйства отдельно, в зависимости от размеров конкретного участка, наличия скота и других ресурсов, количества членов семьи и так далее. В 1930-е годы сельскохозяйственный налог с колхозников собирался в виде определенной ставки, с единоличников — в виде прогрессивного начисления, в 1940-е годы этот налог для всех категорий крестьян стал прогрессивным. Размеры поставок носили директивный характер и не зависели от урожая. Каждый домохозяин вынужден был документально подтверждать свои доходы и свою хозяйственную деятельность, после чего выплачивал свою собственную норму поставок и налогов. Такой способ обложения делал ненужными какие-либо коллективные формы обсуждения и гибкие практики установления «справедливой» ставки, которые действовали при круговой поруке.
Третья особенность, которую я бы отметил, — это тот факт, что налоговая система представляла собой довольно сложный порядок обмеров, расчетов и ведения документации, при том что население в своей массе оставалось неграмотным. К тому же порядок исчисления налогов постоянно менялся, были категории, для которых вводились какие-то льготы и исключения, — все это заставляло каждый раз заново приспосабливаться к правилам ведения налоговых переговоров. С одной стороны, это требовало более детальной фиксации и, значит, большего контроля за тем, что делает каждый крестьянин. С другой стороны, все виды доходов становились предметом формальных и неформальных переговоров. Если в прошлом, заплатив налог, крестьянин мог зарабатывать в меру своих сил и сам выбирал себе сферу занятий и заработка, то теперь он вынужден был любое свое занятие оценивать с точки зрения того, насколько оно будет подконтрольно тем людям, которые отвечают за сбор налогов, и какую долю дохода можно будет утаить или сделать незаметной в результате переговоров со сборщиками налогов, соответственно — какие у крестьянина есть возможности воздействия на этих сборщиков.
Все указанные особенности налоговой системы определяли ту конфигурацию формальных и неформальных полномочий председателя сельсовета, которые — повторяюсь, структурно или потенциально — аккумулировали в его руках большую власть (Илл. IX).
В 1937 году функции сбора налогов были переданы районному руководству (финансовому департаменту). Однако на практике, если верить воспоминаниям ошобинцев, процедура сбора налогов осталась прежней — ответственным был по-прежнему аксакал, который распределял положенные сборы и повинности между колхозами, председатели же колхозов распределяли долю своего колхоза между бригадирами, а те, в свою очередь, — между колхозниками. Районные проверяющие или финансовые агенты, которые формально отвечали за налоги, решали все вопросы в присутствии аксакала, с учетом его сведений о конкретном хозяйстве и под его личным надзором.
Требование Умурзакова, выраженное в словах «В Ошобе есть власть, и если приехали, то сначала ко мне зайдите», в принципе носило вполне законный характер и одновременно учитывало все сложные нюансы взаимоотношений между разными уровнями и ветвями управления, не сводившихся к строгому соподчинению, а включавших в себя своеобразные договоренности и учет самых разнообразных факторов. По мнению одного из моих информаторов, «в районе» Умурзакова немного побаивались, так как он якобы мог при желании поднять не менее пятидесяти ошобинских всадников и захватить районный центр Шайдан, который находится всего в нескольких километрах от Ошобы. В Аштском районе не было регулярных войсковых частей, а милиция вряд ли была бы способна противостоять такому налету. Умурзаков в этой картине был не подчиненным, а самостоятельным игроком, вступающим в договорные отношения с другими игроками на поле власти. Впрочем, скорее всего, это были очень преувеличенные страхи, связанные с памятью о недавнем басмачестве и славой ошобинцев как людей лихих, резких и конфликтных. В действительности, благодаря в том числе такого рода страхам и вниманию к Ошобе, Умурзаков поддерживал весьма доверительные отношения с районным руководством, что было одним из источников его личной власти в Ошобе. В списке районных депутатов, выбранных от сельского совета в 1941 году, фигурировали (помимо самого Умурзакова и Т.Г. Марченко, которая работала в ошобинском медпункте) начальник районного отделения НКВД В. Ф. Гурский, зампред районного исполкома А. Ф. Кечин, районный военный комиссар П. В. Ефимов, секретарь районного комитета КП(б) К. Сатыбалдыев427. Ни один другой сельсовет Аштского района не мог похвастаться таким списком. Умурзаков имел также много знакомых в Коканде, куда порой надолго уезжал и где проводил различные финансовые операции.
Возвращаясь к налогам: в конце концов, отчитывались районные чиновники собранной суммой налогов, а не подробностями ее получения, поэтому если несоблюдение некоторых формальных процедур компенсировалось выполнением или даже перевыполнением планов, то на эти отклонения закрывали (до поры до времени) глаза. У Умурзакова была репутация «шустрого» руководителя (или исполнителя — в зависимости от точки зрения). Он вовремя собирал все налоги и выполнял планы. Во время войны он сдавал не только то, что было положено, но и сверх того, а такие способности ценились вышестоящими руководителями. Это был его политический капитал, который он предъявил мне во время нашего разговора и который, судя по всему, он предъявлял каждый раз, когда общался с вышестоящими чиновниками. Этот капитал он мог затем конвертировать в социальный — какие-то полезные связи, контакты и взаимные обязательства, а потом и в экономический — личное благосостояние и/или какие-то ресурсы для развития Ошобы.
Роли сборщика налогов и посредника при их сборе, которые выполнял Умурзаков, открывали для него также большие возможности влияния на жителей Ошобы. В условиях относительно замкнутого образа жизни, общей неграмотности, постоянной смены законов и инструкций, а также преобладания натуральной оплаты у аксакала возникали возможность и соблазн самому объявлять положенный состав и размер налогов, завышать их по отношению к тому, что затем реально учитывалось как налоги, и разницу каким-то образом оставлять у себя или расходовать на стороне (чтобы местные жители не могли контролировать эти расходы) — например, в Коканде. Действительно ли Умурзаков пользовался такой возможностью или нет, сказать трудно, но мои собеседники даже спустя полвека были убеждены, что пользовался, потому что это была неизбежная и необходимая функция его власти, его прибыль и его доля. В данном случае такое убеждение и общая практика использования подобного рода структурных возможностей важнее доказательств бескорыстности конкретного чиновника — собственно, по этой причине Умурзаков и сел в тюрьму, то есть если уж кому-то захотелось найти факты вины председателя, то это всегда можно было сделать.
Самому же председателю сельсовета, возможно, было гораздо интереснее и выгоднее не столько обманывать своих соплеменников, сколько через переговоры о налогах «исполнять» власть — устанавливать и переустанавливать меру зависимости от себя тех или иных людей, подтверждать лояльность и создавать группы поддержки. В этой игре, которая давала власти новую энергию, Умурзаков мог не только забирать что-то в свою пользу, но и отдавать и перераспределять между другими, стараться улучшить жизнь ошобинцев. Так, по воспоминаниям, во время Отечественной войны с колхозов собирали «месячник» — деньги, скот и разные продукты. В районе между колхозами была установлена очередь: каждый месяц «месячник» сдавали два-три колхоза (то есть одно селение)428. Средства от этого дополнительного налога райисполкомом распределялись в помощь тем семьям, в которых кто-то погиб на фронте или не было трудоспособных членов. Один информатор из Шайдана, как раз занимавшийся сбором «месячника», вспоминал, что, когда он приезжал в Ошобу к Умурзакову, тот вызывал к себе председателей ошобинских колхозов и давал им указание выдать сборщику то-то и то-то. При этом мой собеседник риторически спрашивал: ну кто из простых колхозников мог проверить, что и в каком количестве председатели колхозов и председатель сельсовета отдают в вышестоящие органы или оставляют себе? Возможно, этот «месячник» или какую-то иную, собственную инициативу Умурзакова имел в виду другой мой собеседник, который вспоминал, что часть собранного урожая аксакал забирал из колхозных амбаров к себе в дом и потом распределял между бедняками, при этом отчета он нигде не давал, ведь и так все кругом видели, сколько он взял и кому отдал. Были ли это действительно неофициальные действия самого Умурзакова, или люди воспринимали вполне легальные права аксакала как проявление его личного стремления следить за отправлением справедливости, значения, в общем-то, не имеет. Формальные и неформальные властные отношения переплетались между собой, дополняли друг друга и в повседневной жизни не разделялись, составляя общий ресурс власти.
Еще одной хозяйственной обязанностью Умурзакова была мобилизация людей на разного рода коллективные работы, или, как их называли, хашары (ҳашар). Умурзаков сам перечислил наиболее важные дела: участие в строительстве БФК и СФК, постройка зданий сельсовета, семилетней школы, клуба, постройка стен (девор, дувол) вокруг кладбища. Все эти работы производились бесплатно (трудодни за них не начислялись) и считались добровольными. Поэтому важным качеством аксакала было умение убедить людей — аргументами или угрозами — участвовать в таких хашарах. В принципе такого рода принудительные действия — внутри кишлака и за его пределами — были известны еще со времен Кокандского ханства и считались обязательной и легитимной повинностью, поскольку речь шла об общественно значимых делах429. Советская власть охотно использовала эту старую риторику, вписав ее в коммунистический язык добровольного коллективного труда на пользу всего общества и сохранив тот же принудительный характер этой повинности.
Итак, сельсовет был в первую очередь «организацией, собирающей налоги»430. Однако я бы добавил к перечню функций его председателя еще несколько важных пунктов, которые делали его полновластной фигурой в Ошобе. Аксакал обладал правом на категоризацию населения не только по экономическому признаку431, но и по другим: возраст, трудоспособность или нетрудоспособность, национальность, семейный статус и родственные связи, какие-то профессиональные или социальные характеристики. Принадлежность к этим категориям записывалась в похозяйственную книгу или в паспорта432 и имела значение при распределении ресурсов или каких-то обязанностей: некоторые категории граждан (нетрудоспособные, учителя, участники войны) освобождались от налогов, получали скидки и льготы. Во время войны Умурзаков своей волей решал, кто пойдет на фронт, а кому положены какие-то отсрочки (для этого достаточно было указать другой возраст и другой семейный статус). Это давало ему в руки еще один дополнительный рычаг воздействия на односельчан и установления своей власти в Ошобе.
Категоризация была важна также при том репрессивном режиме, который существовал в 1930—1940-е годы. Власть Умурзакова в принципе состояла в том, чтобы приписывать людей к категориям, которые подлежат или не подлежат репрессиям. Так было в 1930-е, когда аксакал вел списки бывших кулаков и басмачей (о чем говорят записи в сохранившейся похозяйственной книге 1935 года), так продолжалось и после войны — в 1947 и 1948 годах (при Умурзакове и его преемниках), когда высылке в Казахстан подверглись несколько ошобинских семей, среди которых были даже семьи колхозных бригадиров433. При этом в руках Умурзакова были и кнут, и пряник — председатель сельсовета имел легитимную возможность принуждать к выполнению государственных решений, но мог и кому-то помочь, кого-то спасти, чего-то как будто не заметить. Приписывающая власть аксакала не приносила немедленных материальных дивидендов, но позволяла ему выстраивать иерархические отношения, наказывать, подчинять и создавать лояльных должников (Илл. 12).
Власть Умурзакова имела видимые, всем понятные символы. Одним из главных атрибутов аксакала была печать. Не случайно в воспоминаниях ошобинцев Умурзаков становится аксакалом, обманом завладев печатью. Напомню и уже приведенный мной рассказ о том, как Давлат Искандаров после ареста Умурзакова постарался найти печать сельсовета и завладеть ею. Кстати, здесь мы видим аналогию с историей конфликта на выборах аксакала в 1892 году, когда также упоминалась печать, которую новоизбранный сельский старшина попытался отнять у своего соперника, чтобы легитимировать собственную власть434. Такого рода знаки сами будто бы наделяли человека властью, поэтому они были предметом вожделения и бдительного хранения.
Интересен еще один символ власти Умурзакова, имевший значение исключительно в местном контексте. Дом, где он жил, будучи аксакалом, находился рядом с домом, в котором когда-то жил Рахманкул-курбаши. Атрибуты, которыми обладали поверженные герои, не теряли своих особых свойств, поэтому победители пытались завладеть ими, таким образом захватывая, как им казалось, и частицу могущества поверженного противника или предшественника. Это произошло с Рахманкулом, харизму которого в каком-то смысле наследовал его «сосед» Умурзаков. То же самое случилось после ареста Умурзакова, когда его двор выставили на продажу и представители новой власти по кускам приобретали имущество своего противника.
Илл. 12. Отчет сельсовета, подписанный Умурзаковым
Помимо власти приписывать к определенным категориям и собирать налоги, у Ортыка Умурзакова было также право на вполне легальное насилие. В его подчинении находилось несколько охранников (в местном произношении — асад435), все из числа ошобинцев, которые выполняли при необходимости милицейские функции. Двое из них постоянно дежурили внизу, у въезда в кишлак, каждого приезжающего в Ошобу постороннего человека записывали. Еще двое патрулировали кишлак (ночью — трое). Кто-то из них оплачивался из колхозных трудодней, а кто-то получал зарплату из небольшого бюджета сельсовета. У самого Умурзакова было оружие (наган и винтовка), на которое он имел официальное право. В 1920—1930-е годы бандитизм был довольно распространен, в горах по-прежнему прятались некоторые деятели басмаческого движения, только в середине 1930-х был убит один из ближайших помощников Рахманкула — Бува-ходжа. В 1941 году несколько ошобинцев ушли в горы и попытались организовать террор против представителей власти, тогда Умурзакову с активистами и районной милицией удалось быстро с ними справиться. Оружие было весомым подтверждением властных полномочий аксакала. И, как следует из воспоминаний, он пускал его в дело, что, правда, стало позже поводом к обвинению Умурзакова в превышении полномочий.
Местная элита
Активисты
С конца 1920-х годов новые институты управления в Средней Азии, и в Ошобе тоже, формировались из числа активистов, то есть людей, которые первыми увидели в сложившейся политической обстановке определенные преимущества для общества или выгоды для себя и поддержали советскую власть в кишлаке. Среди них, по замечанию Фицпатрик, были бывшие бедняки и батраки, многие из которых имели опыт работы на производстве или службы в Красной армии в период Гражданской войны, вдовы, которым пришлось встать во главе бедных хозяйств, и молодые крестьяне — «горячие почитатели комсомольской организации»436. Все эти фигуры мы находим и в Ошобе. Любопытно, однако, что помимо сугубо классовых признаков многие из таких активистов отличались некоторыми локальными особенностями (Илл. 13).
В областном архиве в Ходженте я нашел сохранившуюся копию протокола общего собрания водопользователей Ошобы от 12 марта 1927 года. Как сказано в этом документе, составленном по всем правилам советского бюрократического искусства, на собрании присутствовали председатель сельсовета А. Алиев, арык-аксакал (то есть районный начальник мирабов) Парда Юсуфов, некие Ахунбабаев и Салиджан Раджаби, а также 317 крестьян. В повестке дня были такие вопросы: 1) о посевной кампании, 2) об организации мелиоративного товарищества437, 3) выборы поливальщиков-мирабов, 4) текущие дела. В президиум были избраны — Рузикулов, Мирзабаев, Ашур Алиев, Мумин Абдувахидов, Мухаммад Аминов, а в комиссию мирабов — тот же Ашур Алиев, Гоибназар Рахмонов, Мулла Курбан Рахмонбаев и кандидатом Каюм Назарбаев438.
Илл. 13. Советские активисты в кишлаке
Из документа следует, что аксакалом в Ошобе был некто Ашур Алиев — такого человека мне не называли, но, возможно, речь идет о Джахонали Ашурове или его брате Мумине Ашурове — оба в разное время занимали должности секретаря сельсовета (котиб). В числе участников собрания упоминается бывший аксакал Муминбай. Мухаммад Аминов — это, видимо, Одинамат Оминов, который тоже исполнял должность аксакала в середине 1920-х годов. Один из его младших братьев, Миромин Оминов, воевал на стороне большевиков и состоял в активе, был секретарем комсомольской ячейки в кишлаке, другой — Бобомат — был в войске Рахманкула и позже был репрессирован. Каюм Назарбаев — это, возможно, Каюм-солдат, единственный ошобинец, которого в 1916 году отправили на российско-германский фронт439, а Мулла Курбан — будущий завхоз колхоза «Буденный»440. В число сельских активистов входил местный пролетарий (хлебопек) Гоибназар Рахмонов. Активисты, таким образом, имели разное происхождение и разный опыт взаимодействия с советским государством.
Ш. Фицпатрик упоминает группу отходников и рабочих-крестьян, которые во время Гражданской войны вынуждены были вернуться в деревню, не имея при этом ни инвентаря, ни скота, что порождало конфликты между вновь прибывшими и постоянными жителями. При этом вновь прибывшие имели опыт городской жизни, были более грамотными, они противостояли старшему поколению крестьян и симпатизировали советской власти. Именно им часто приписывался статус бедняков, которые противостоят кулакам в классовой борьбе, хотя реальное соотношение бедных и богатых могло иметь совсем другую конфигурацию441.
Под такое описание в Ошобе в 1920—1940-е годы подпадает одна очень любопытная группа — пекари (нонвой, новвой). В семьях хлеб обычно пекли и до сих пор пекут женщины (в больших семьях невестки), для этого в каждом дворе есть своя печь — тандыр (тандир). Однако для разного рода праздничных, поминальных и вообще коллективных мероприятий нужны сотни и даже тысячи лепешек. Такую работу делали и делают профессиональные мужчины-пекари, у которых во дворе дома есть несколько своих собственных больших тандыров и которые втроем-вчетвером в течение нескольких суток могут произвести необходимое количество лепешек нескольких сортов. Этой профессии необходимо обучаться, поэтому существует иерархия — мастера (усто) и ученики (шогирд), которые нередко являются сыновьями или другими родственниками мастера; существуют также ритуалы передачи звания мастера и ритуалы поминовения духовных покровителей ремесла442. Поскольку массовые мероприятия проводятся весь год, эта работа требует постоянной занятости и приносит основной доход семьям пекарей. В прошлом члены таких хозяйств не занимались ни полевым сельским трудом, ни скотоводством. В статистических отчетах они числились, соответственно, безземельными крестьянами, а в большевистской риторике превратились в сельский пролетариат, составляющий по крайней мере предполагаемую социальную опору для советской политики в регионе.
В предреволюционные годы, в годы Первой мировой войны, а затем в период войны с басмачеством, которая шла в Фергане и сильно затронула Ошобу, многие ошобинские пекари со своими семьями легко покидали кишлак, не будучи привязанными к земле или скоту, и переезжали в относительно более спокойный и относительно более сытый Ташкент (возможно, и в другие города), где они могли найти работу по своей специальности, а также подрабатывали поденщиками (мардикор) и чернорабочими, то есть превращались в настоящих пролетариев. Какие-то ошобинцы бежали в Ташкент и уже там становились нонвоями. В Ташкенте эти пролетарии приобщались к русскому языку и, главное, к идеологическому дискурсу новой власти, делая это неосознанно, а возможно, понимая те выгоды, которые эти два языка им дают. Немалое значение имел и тот факт, что хлебопеки, находясь в стороне от жизни своего родного кишлака, отрывались от местных отношений и иерархий, не чувствовали себя обязанными строго подчиняться местным правилам и обычаям; к тому же их преимуществом было то обстоятельство, что не всех из них можно было обвинить в сотрудничестве с Рахманкулом. Поэтому неудивительно, что многие из них оказались в числе той социальной прослойки, которая отправилась в Ошобу устанавливать советскую власть443.
Вспоминают, что из Ташкента приехали многие ошобинцы, работавшие там пекарями, — Пирмат, Нурали, Мамаджан, Султанназар (всех их учили Саппар-нонвой и Гоибназар). Они не занимали каких-то важных должностей в сельсовете или колхозах, но составляли социальную опору, которая была необходима новым лидерам Ошобы. Нонвоев мы находим и среди родственников Умурзакова: это были Каримберды-нонвой (сын Махмудшоира, брата Гозыбая), Курбанали-нонвой (за ним была замужем сестра Умурзакова — Умринисо), Эргаш Искандаров, который был в числе сторонников, а потом противников аксакала. Я не могу точно сказать, какую роль играли эти люди в судьбе Умурзакова и в жизни Ошобы, но само наличие такой группы отражает сложность социальной структуры ошобинского сообщества в ту эпоху.
Среди хлебопеков по частоте упоминаний выделяется Султанназар. Он родился в 1901 году, вместе с отцом, Джуманазаром, какое-то время жил в Гудасе, после его смерти остался сиротой. Султанназар был сильным человеком, поэтому его звали богатырем (полвон). В молодости он был воином-джигитом (йигит) у Рахманкула, потом выучился на пекаря у Нурали-нонвоя и уехал в Коканд, а затем в Ташкент. В 1930-е годы Султанназар вернулся в Ошобу и, видимо, был поначалу в неплохих отношениях с Ортыком Умурзаковым. Семейное предание гласит, что он подарил последнему китайский чайник, об этом узнал Тоштемир Нурматов и стал требовать у Султанназара себе такой же чайник, а когда тот не дал, объявил его кулаком и отнял у него все имущество. После этого семья Султанназара уехала из Ошобы, а сам Султанназар работал пекарем в Аште. Вернулся он в кишлак только после ареста Умурзакова.
Важными инструментами и одновременно знаками власти была принадлежность к Коммунистическому союзу молодежи и Всесоюзной коммунистической партии большевиков — комсомолу и ВКП(б).
О том, как действовали эти институции в кишлаке, мне известно немного. С 1926 года в сельсовете существовала комсомольская группа (ячейка), которая включала четыре-пять членов. Они работали учителями или секретарями сельсовета и составляли актив советской власти. Комсомольцев называли русскими и сторонились их. К середине 1930-х годов несколько человек из числа комсомольцев были приняты в ВКП(б) и образовали партийную ячейку, которая была маленькой — три-четыре человека. При этом именно партийность стала главным условием, необходимым для того, чтобы занять должность председателя сельсовета, а в начале 1950-х годов — председателя колхоза, к этому времени принадлежность к комсомолу стала терять свое прежнее значение.
Собственно говоря, на уровне кишлака не существовало каких-то специальных административных позиций комсомольца и коммуниста, поэтому в рассказах об Умурзакове этот тип принадлежности упоминается редко, скорее как дополнительное приложение к другим должностям. Быть комсомольцем и затем коммунистом означало входить в число людей, особо близких к вышестоящим органам власти. Ритуалы включения в комсомол и ВКП(б), разного рода символические бонусы и различные наказания, которые были атрибутами такого членства, всевозможные собрания и отчеты в рамках деятельности этих организаций устанавливали дополнительную степень контроля и дополнительный уровень лояльности, что и служило еще одним политическим ресурсом в борьбе за власть или в осуществлении власти.
В Ошобе были также женщины-активистки. Вспоминают двух: одна — Хурмат Оминова, старшая сестра Одинамата Оминова, вторая — Асаль-биби Муминова (1907 г.р.), дочь Муминбай-аксакала. И ту и другую называли аксакалами, хотя, конечно, они этой должности не занимали. В обоих случаях эти прозвища лишь указывали на то, что среди их родственников были аксакалы. Мужем Асаль-биби был Джаркин-мингбаши444, один из ближайших сподвижников Рахманкула, расстрелянный большевиками, что не мешало ей быть в активе сельсовета (в одном из документов упоминается, что она дважды избиралась поливальщиком-мирабом445).
Учителя
Особую группу активистов составляли учителя. В событиях в Ошобе в 1947 году они играли важную, можно сказать, ключевую роль. Сам Ортык Умурзаков был учителем. Согинбай Худайбердыев был директором школы в Ошобе до того, как стать председателем колхоза. Абдуджаббар Искандаров, брат Давлата Искандарова, также был учителем. Учителя стали той социальной силой, с помощью которой Искандарову удалось победить в конфликте с Умурзаковым. Рассмотрим роль учителя подробнее.
Уже не раз упоминаемая мной Фицпатрик в своей книге «Сталинские крестьяне» пишет об учителе как о «жертве произвола» со стороны власти, добавляя, что учителями были в основном женщины, что еще больше ослабляло их положение в патриархальном крестьянском мире. При этом американский историк говорит о «двусмысленном положении» учителя, который, будучи жертвой, в то же время являлся «представителем советской власти»446.
В начале 1930-х годов советская власть под знаменем борьбы с неграмотностью постановила существенно расширить сеть школ, особенно в сельской местности, и ускоренно подготовить новую когорту учителей, призванных «на фронт» культурной работы. Число учителей за 1930-е годы возросло по стране почти в четыре раза, большинство новых учителей, как показывают исследования, составляли молодые мужчины с невысоким — начальным или семилетним — образованием, многие из них состояли в комсомоле447. Учителя действительно были «агентами советской власти», они выполняли не только и не столько сугубо педагогические, сколько важные политические функции, будучи активистами, которые принимали непосредственное участие во всех общественно-политических процессах — коллективизации, раскулачивании, антирелигиозной борьбе, пропаганде советского строя и решений власти, переписи и так далее. В этом качестве они сталкивались с отпором и насилием со стороны крестьян. Но учителя были также и оппонентами советских чиновников, которые нередко видели в учителях возможных образованных вожаков и организаторов антисоветского сопротивления. Учителя были под особым наблюдением со стороны чиновников и спецслужб и нередко подвергались репрессиям. В этом и состоит двойственность их позиции. Однако учителей нельзя рассматривать только как часть власти или часть крестьянского мира, противостоящего власти. Они имели собственные интересы — свою профессиональную солидарность и идентичность, иерархию, институциональную принадлежность. Учителя использовали ресурсы разных структур для достижения своих интересов и защиты собственной корпоративной позиции.
В регионе, который я изучаю, статус учителя имел дополнительные особенности. Здесь существовало традиционное уважение к образованным людям, которое культивировалось в мусульманской культуре. Элементы социального статуса религиозно образованных людей были унаследованы светски образованными учителями — к слову, в 1930—1950-е годы это были преимущественно мужчины. Последних, когда о них говорили или когда к ним обращались, обязательно называли «домулла» (домулло), что помимо прямого значения — учитель — имело очевидную связь с исламом и обозначением человека, получившего мусульманское образование, — муллой (мулло). На советского учителя распространились и другие прежние формы почитания (например, во время ритуала им могут предложить отдельное, более почетное место) и неформального одаривания. Правда, воспроизводство старых практик получило новый смысл, подарки со временем стали принимать вид взятки за хорошие оценки и аттестаты.
В кишлаке учителя — и мусульманские, и потом советские — всегда, пока основная масса населения была неграмотной, выполняли более широкие функции: помогали заполнять разного рода личные документы, писали и зачитывали письма, разъясняли непонятные термины и правила, консультировали по самым разным вопросам, которые требовали минимальных знаний, недоступных крестьянину. Помимо материального вознаграждения такого рода обязанности давали в руки эксперта большую неформальную власть интерпретировать и оценивать информацию, поскольку ее передача не была нейтральным действием, независимым от мнения и интересов ретранслятора. В раннесоветское время, когда государство пыталось повысить свое влияние на общество и поток разного рода указаний и пропаганды чрезвычайно возрос, позиции учителя значительно укрепились — не случайно комсомольский актив в 1920—1930-е годы и партийный в 1940-е формировался в основном из учителей. Основа власти учителя не была институциональной — он не имел рычагов, чтобы кого-то наказывать или отдавать приказы, он опирался на владение специфическим знанием.
Знание, которым обладали учителя, слагалось из нескольких элементов. После гонений и прямых репрессий в 1920—1930-е годы против мусульманских лидеров советские учителя остались едва ли не единственными носителями элементарных навыков письма, счета, представлений о географии, истории, каких-то технических знаний. К тому же учителя, в отличие от мулл, обладали знанием латиницы, а затем кириллицы, на которую была переведена местная, еще недавно арабографическая письменность (узбекского и таджикского языков). Учителя могли прочитать и написать тексты, что в эпоху «печатного социализма»448 становилось важным механизмом формирования идентичности, социального статуса и авторитета. Учителя получили доступ к формированию «воображаемого сообщества» — нации449. Наконец, учителя были не просто носителями знания (в том числе и национального), но владели специфическим советским знанием, включающим знакомство с политической системой, политической иерархией, законами, особым советским языком, с помощью которого легитимировались те или иные действия. При этом учителя в той или иной степени владели русским языком, что давало им прямой доступ и к новым источникам информации, и к вышестоящим чиновникам.
Одним из инструментов власти в руках учителей были публичные письма и тайные анонимки, которые они рассылали в разные органы управления и газеты с целью дискредитации тех или иных своих оппонентов. В 1930-е годы расцвела целая индустрия такого рода обращений, которые были не только механизмом выявления каких-то реальных преступлений или сведения счетов, но и своеобразным псевдопубличным пространством самовыражения, в котором советские люди учились говорить советским языком и играть роль советского гражданина450.
Кроме знания (или культурного капитала) учителя обладали капиталом социальным и экономическим. У них был более широкий круг знакомых, который выходил далеко за пределы Ошобы. Они были более мобильны, учились, жили и работали в других селениях и городах, имели там знакомых, полезные контакты, приобретали жизненный опыт, не характерный для Ошобы. Кроме того, существовала своеобразная профессиональная сеть людей одного статуса, которые могли говорить друг с другом на понятном для них языке, имели одни и те же проблемы и были связаны собственными иерархическими отношениями — учитель, завуч, директор, районо (районный отдел народного образования), облоно (областной отдел), свое министерство.
Учителя имели постоянный государственный заработок451, с этой точки зрения они не зависели от колхоза или от председателя сельсовета. Но, конечно, у каждого учителя было свое домохозяйство (а жена, возможно, числилась колхозницей), что вынуждало их вступать в сложные отношения с местной властью по поводу разного рода хозяйственных и налоговых дел. Среди других привилегий учителя было освобождение, например, от сельскохозяйственного налога и, что, пожалуй, особенно важно, освобождение — брóня — от призыва в армию. Наконец, замечу, что это были молодые люди, которые не были отягощены разного рода социальными обязательствами, стремились самоутвердиться и доказать свои возможности (Илл. 14). Их в силу возраста нельзя было обвинить в сотрудничестве с царизмом или басмачами, а именно эти обвинения играли большую роль в репрессивной риторике 1930—1940-х годов.
Все перечисленные факторы в совокупности выделяли учителей в самостоятельную социальную группу, которая активно участвовала в жизни кишлака. В условиях, когда государственные институты еще не устоялись, когда репрессии и новые практики приводили к высокой мобильности, все названные мной структурные качества давали шанс для накапливания ресурсов и конвертации их во властные полномочия и материальные блага. В 1930—1940-е и в начале 1950-х годов учителя были едва ли не главным резервом для формирования местной советской элиты, включая комсомольские и партийные органы, руководство сельскими и районными советами и колхозами.
Илл. 14. Учителя из Ошобы
Первая начальная школа открылась в Ошобе в 1925 году, учителем в ней был выходец из селения Ашт по имени Масодык-эфенди (Мухаммад-Содык)452. Эту школу называли «школой казанских татар». Масодык-эфенди работал в кишлаке недолго — один-два года, а потом уехал. После него учителем в течение года был Малла Абдуллаев, который приехал из соседнего кишлака Камыш-курган, его жена была ошобинкой. У него учился в том числе Ортык Умурзаков. Повстанцы, которые еще продолжали скрываться в горах, заставили Абдуллаева уехать. Затем учителем был недолго какой-то человек из Пангаза, потом Екуб Хакимов из Ашта — последнего басмачи хотели убить, но ошобинские старики заступились за него. Первым местным учителем в Ошобе стал упоминавшийся выше Махкам Мирзаханов, он начал преподавать в 1928 или 1929 году, его жена Одинаджан тоже работала учительницей.
В 1933 году в Аштском районе, в селении Камыш-курган, где впервые в районе стали сеять хлопок, открылась первая семилетняя школа и при ней — интернат. В 1941 году ошобинская начальная школа была также преобразована в семилетку, а в выселках Шевар и Янги-кишлак (колхоз «22-я годовщина Октября») были образованы еще две начальные школы453 (Илл. X). В середине 1940-х в сельсовете было 14 учителей (в том числе два в Шеваре и один в Янги-кишлаке), из них, как свидетельствуют архивы, семь человек были членами ЛКСМ, один был родом из Ленинабада, один из Ашта. Годы рождения учителей — от 1914-го до 1930-го, то есть младшему было всего лишь около 15 лет, а самым старшим оказался 30-летний директор школы, Согинбай Худайбердыев, завучем при котором был 25-летний Исмадиеров454. В 1946–1947 годах в Ошобе насчитывалось 19 учителей, в том числе одна русская учительница455. Еще более десятка выходцев из Ошобы работали учителями в других селениях Аштского района — в Карамазаре, Адрасмане, Кырк-кудуке, Аште, Пангазе.
Приведу несколько биографий учителей, чтобы показать динамику их карьеры, соотношение тех структурных или институциональных возможностей, которыми они обладали, и личных данных или обстоятельств для реализации этих возможностей.
Т.К. родился в 1914 году, в 1926 году его отправили в Ташкент к родственникам (которые работали нонвоями), там он пошел в школу и немного научился говорить по-русски. В 1928 году он поступил в техникум в Ленинабаде (Ходженте) и учился на агронома, в 1930 году вернулся в Ошобу и работал учителем до 1933 года. В 1933-м участвовал в организации колхоза «Буденный» и работал там табельщиком. В том же году Т.К. стал работать учителем в только что открывшейся камыш-курганской школе. О второй половине 1930-х мой собеседник вспоминал неохотно. По его словам, в 1941 году он был назначен директором ошобинской семилетки, но, побыв немного в Ошобе, уехал в Карамазар, где его назначили директором местной школы. Мой собеседник не говорил о своей ссоре с Умурзаковым, но вспоминал о последнем с неприязнью. Во время войны Т.К. призвали в армию и он чуть не оказался на фронте (он долго рассказывал, как ругался с каким-то русским начальником из военкомата, который хотел забрать его на фронт), служил в подразделениях, где готовили солдат, вступил в партию, в 1946 году в звании младшего лейтенанта вышел в отставку, в 1946–1948 годах работал заведующим районо. В 1948 году, сразу после снятия с должности и ареста Ортыка Умурзакова, ошобинскую семилетку преобразовали в среднюю школу, а Т.К. был назначен ее директором, одновременно он стал парторгом в сельсовете.
Казалось, у Т.К. были все данные, чтобы стать лидером, — хорошее образование, знание русского языка, опыт работы в районных органах власти, офицерское звание и партийность, наконец, близкие родственные связи с Муминбай-аксакалом и Дадаматом Турсуновым456. Все начальство предлагало Т.К. стать новым председателем колхоза «Калинин»457. Приехал третий секретарь обкома партии и уговаривал его. Он, в частности, говорил, что начальником быть нетрудно, надо только не делать следующих вещей: не заводить много жен, не проводить пышные туи458, не строить себе большие дома. В результате Т.К. согласился (считалось, что его послали на укрепление колхоза в числе «тысячников»), Рузматов, другой учитель, стал при нем парторгом.
Однако выгодной структурной позиции, наличия управленческого опыта, культурного и социального капитала и просто представившегося шанса оказалось мало, чтобы стать настоящим лидером. Нужны были еще какие-то личные качества, которых не было. Уже в том же году Т.К. сняли с этой должности — впрочем, по его словам, он и сам не хотел работать в колхозе. После этого Т.К. работал директором школы, потом учителем. Уже будучи на пенсии, он стал заведующим ошобинской сберкассой, где работал до 1987 года. Новым же лидером Ошобы после Умурзакова стал другой человек, который не имел для этого, казалось, никаких данных, но сумел личной энергией, жесткостью и харизмой утвердить свое право на лидерство459.
К.Х. родился в 1921 году, его отец умер, когда ему было три-четыре года, и мать второй раз вышла замуж, сам он остался жить у бабушки (мамы отца). Когда ему исполнилось 14 лет, умерла бабушка, и спустя какое-то время его отвезли в Камыш-курган, в интернат, где он пробыл с 1936 по 1940 год. Каждое лето К.Х. приезжал в Ошобу и работал учителем в летней школе-ликбезе, где учились женщины. В 1941 году он окончил педучилище в Канибадаме, а в 1941–1945 годах работал в семилетней школе им. Горького в Ошобе. Потом у него, видимо, произошел конфликт с Умурзаковым, и К.Х. уехал в Адрасман. В 1947 году он был одним из самых активных преследователей Умурзакова, в том же году вернулся в Ошобу и стал работать учителем, в 1953 году заочно окончил Ленинабадский пединститут. По словам самого К.Х., в 1950-е он был «могущественным» человеком в кишлаке и от его слова многое зависело.
Т.Т. родился в 1914 году, подростком какое-то время пас скот, а в 1931–1932 годах учился в ошобинской школе, в 1933 году продолжил обучение в Канибадаме, тогда же вступил в комсомол, затем стал учителем в Шеваре (пять дней в неделю работал учителем, а два дня — в выходные — сам ездил в Шайдан на учебу). В 1936–1940 годах заочно учился в Канибадамском педучилище и работал учителем в Аксинджате, в 1941–1943 годах был директором школы в селении Кырк-кудук, в 1943—1945-м — завучем в школе в Дахане (директором этой школы был тогда Мирзаханов), в 1945–1947 годах Т.Т. был директором школы в Карамазаре. О каких-либо конфликтах с Умурзаковым он мне не рассказывал, но по его биографии видно, что работал он все время за пределами Ошобы. После снятия Умурзакова Т. Т. сразу же возвратился в родной кишлак и в 1948–1953 годах работал завучем в школе им. Горького. В 1953 году, после снятия Т.К. с поста председателя колхоза «Калинин», райком направил Т.Т. на должность парторга в колхоз, тогда его председателем был Юсуп Юлдашев. В 1955 году Т.Т. опять вернулся в школу, а в 1967–1974 годах был завучем и учителем в школе в выселке Олма.
А.И. родился, по документам, в 1923 году, окончил в Ошобе начальную школу, потом учился в селении Ашт в средней школе, в самом конце 1930-х или начале 1940-х годов стал учителем и заведующим начальной школой в выселке Шевар. Во время войны последнюю закрыли, а А.И. был назначен директором школы в селении Кырк-кудук. В 1949 или 1950 году, вскоре после снятия Умурзакова, он стал председателем ошобинского сельсовета и работал на этой должности почти десять лет, одновременно был директором школы им. Горького и затем другой ошобинской школы — им. Шевченко, заочно учился в пединституте в Ленинабаде. На какое-то время А.И. был назначен парторгом в колхоз «Калинин», а позднее занял должность заведующего районо.
Председатели колхозов
Если вначале Умурзаков опирался в становлении своей власти на учителей и активистов, то очень скоро основной его опорой стали колхозные чиновники, среди которых главную роль играли, конечно, председатели колхозов. Причем если председатель сельсовета воспринимался в Ошобе как представитель государства, то председатель колхоза в 1930—1940-е годы был скорее представителем крестьянского мира460. Во всяком случае, местная его оценка исходила из того факта, что он «был глубоко встроен в исключительно локальную политику с локальными интересами»461.
Первая артель в Аштском районе была создана еще в 1923 или 1924 году в селении Верхний Ашт. В ней состояло 15 прежде безземельных хозяйств, которые получили в свое распоряжение восемь земельных участков общим размером 50 танапов, до этого принадлежавших, как утверждает справка райземотдела, курбаши Рахманкулу462. Спустя пять лет советские чиновники пытались выяснить, продолжает ли артель существовать и какую помощь ей следует оказать.
В 1931 году, в самый разгар коллективизации в РСФСР, в Аштском районе было всего четыре колхоза. В 1933 году в Ошобу приехал сотрудник райзо (районный земельный отдел) — некто Элкундиев, который сам был родом из Камыш-кургана и уже имел опыт организации колхоза в Кырк-кудуке. Он собрал на главной площади ошобинцев и предложил им организовать совместное хозяйство. Как вспоминают, из толпы вышел старик Каюм-солдат и обругал его матерными словами, сказав, что в селении Кырк-кудук создали колхоз и после этого все там стали бедными. Элкундиев уехал ни с чем.
После этой неудачной попытки в районный комитет комсомола вызвали ошобинских комсомольцев и дали им задание организовать колхоз463. Комсомольцы и несколько нонвоев взяли участок земли около Ошоба-сая и участок в Кызыл-Олма, сказав их хозяевам: «Хотите — вступайте в колхоз, не хотите — уходите с земли» (земля была хорошая, а ее хозяевам взамен дали другую землю). Так возник колхоз «Буденный», в котором поначалу числилось всего 25 человек и имелись пять-шесть ишаков и один вол, чтобы пахать землю. Колхозники работали и складывали урожай в общий амбар, а потом каждый работавший забирал свою долю урожая в соответствии с наработанными им трудоднями — государству в первый год своего существования колхоз ничего не отдавал. Согласно отчетам, в 1935 году в «Буденном» состояло уже 70 хозяйств (374 человека), имелось 47,75 га зерновых поливных и 10 га богарных земель, в следующем году к ним прибавилось 6 га хлопка464. По воспоминаниям Т.К., тогда ошобинцы неохотно принимали колхозы, ему самому какое-то время даже пришлось скрывать от своего отца, что он колхозник, и тот не знал, где он и что делает.
Первым председателем «Буденного» был Козибай Гоибов (1900 г.р.), он был неграмотным, но крепким, совсем не бедным крестьянином. Бухгалтером стал Джахонали Ашуров465, о котором я говорил выше. Несмотря на обвинения в растратах и близости к Рахманкулу466, Гоибову удалось проработать на этой должности несколько лет, но он, как говорят противники Умурзакова, поссорился с последним и во время войны переселился в Пангаз. В качестве причины ссоры называют требование Умурзакова, чтобы Гоибов продал ему свой участок в Ошобе, на которое тот ответил отказом. По мнению же сторонников Умурзакова, Гоибов с ним не ссорился, а в Пангаз ушел потому, что у него было много скота и он хотел его сохранить. Один же из братьев Козибая — Соатилло — остался в Ошобе и даже работал в одном из колхозов бригадиром. После Гоибова председателем в «Буденном» стал Тоштемир Нурматов, потом Ниезмат Алматов и, наконец, Бободжан Юлдашев (1905 г.р.).
Колхоз «НКВД» возник, видимо, также в 1933 или 1934 году. Мнения о том, кто были председателями, разошлись: называли Мамади Одинаева (сына аксакала Одинамата Исаматова467), Кашамшама Ашурматова, Рахимберды Баннопова, Кадырова (этот житель Пунука, будучи милиционером, воевал против Рахманкула-курбаши, а потом женился на ошобинке и остался жить в Ошобе), Кадыра Искандарова, Абдуллу Назарова (его сестра Угылхон была одной из жен Умурзакова), Джахонали Ашурова, Турдимата Пирматова. Возможно, все они действительно успели побывать председателями, поскольку люди на этой должности менялись часто — кто-то был раисом три, кто-то шесть месяцев, а возможно, некоторые мои пожилые собеседники приписали к числу раисов других местных начальников.
Оба колхоза — «Буденный» и «НКВД» — находились в самой Ошобе. Их правления были в центре кишлака, недалеко друг от друга. Одни вспоминали, что их земли располагались чересполосно вокруг Ошобы, другие — что по правой стороне Ошоба-сая находились земли колхоза «НКВД», а по левой — колхоза «Буденный». «Буденный» был крупнее, его земли поливались пять-шесть дней, тогда как земли «НКВД» — два-три дня, впрочем, судя по колхозным отчетам, разница была не такой уж большой468.
Третий колхоз — «Социализм» — возник примерно в 1935 году в выселке Гарвон, в самой верхней части Ошоба-сая. Первым председателем стал Давлат Бойханов, после него — Согинбай Худайбердыев. Этот колхоз, несмотря на свои маленькие размеры, играл существенную роль, так как находился в глубоком горном ущелье и располагал землями, которые было трудно контролировать и учитывать, они не представляли интереса для вышестоящей власти, поэтому местная ошобинская власть могла использовать их по своему усмотрению.
В том же 1935 году возник четвертый ошобинский колхоз «Литвинов» (позднее его переименовали в колхоз им. 22-й годовщины Великой Октябрьской революции, далее — «22-я годовщина»), который располагался на землях выселка Аксинджат. Его первым председателем был Нозирали Кадыров, потом стал Юсуп Юлдашев (1912 г.р.). Последний принадлежал к числу потомков Исламбая, который владел большой частью аксинджатских земель469. В 1939 году в Аштский район был проведен Северный Ферганский канал, который позволил оросить участок земли в степной части. Часть жителей Аксинджата и Ошобы была переселена туда, вслед за ней переместился и колхоз «22-я годовщина»470.
Каждый председатель колхоза избирался на общем собрании колхозников большинством в две трети голосов и сроком на два года. Сама по себе эта коллективистская процедура создавала возможности для конкуренции различных претендентов и борьбы фракций за своего кандидата, а также для публичной критики председателя, апелляции к председателю сельсовета или районным начальникам, которые должны были присутствовать на собрании, или даже для выражения общего отказа в доверии раису. Однако конкретных примеров таких действий мне никто не приводил. По мнению ошобинцев, председателей назначал Ортык Умурзаков по своей собственной воле, а районное начальство, с которым аксакал поддерживал хорошие отношения, лишь утверждало эти назначения. Такой практике мои собеседники противопоставляли новую практику, которая сложилась после ареста Умурзакова и появления «на следующий день» в колхозе многочисленных его противников, в первую очередь учителей. Они принесли с собой «демократию», в кишлаке стали проводиться собрания и обсуждаться различные темы, возникла специфическая советская форма публичной жизни (Илл. 15).
Официальные заработки председателя колхоза, как и всех колхозников, рассчитывались по системе трудодней. Каждому члену коллектива за тот или иной вид работы начислялись условные единицы — трудодни (меҳнат). Количество таких единиц на тот или иной вид работ в колхозе было установлено общим ценником, у председателя колхоза была самая высокая норма трудодней — и по числу дней, проведенных на работе, и по оценке его труда в этих самых единицах. Впрочем, реальное наполнение продуктами и деньгами одного трудодня определялось по итогам работы всего колхоза за год. Раис получал в результате сравнительно более высокие доходы, но при этом его возможности заниматься своим частным хозяйством — приусадебным участком, скотом, какими-то промыслами — были существенно ограничены, поэтому для хорошего хозяина, предприимчивого и зажиточного, официальная зарплата председателя колхоза сама по себе вряд ли могла быть привлекательным экономическим стимулом.
У председателя колхоза были другие бонусы, которые могли представлять интерес. В частности, все колхозное имущество и вся произведенная продукция находились в его распоряжении. Раис имел право продавать имущество и излишки урожая, а также покупать для колхоза необходимые вещи, что открывало большие возможности для манипуляций ценами — реальными и теми, которые заносились в отчеты. Кроме того, раис мог не отражать часть имущества и урожая в отчетах, и тогда она оказывалась в его фактической собственности, которой он распоряжался полностью по своему усмотрению. Разумеется, это были незаконные и весьма рискованные операции, поэтому от раиса требовалось умение выстраивать взаимовыгодные отношения в кишлаке и за его пределами со всеми теми, кто мог обеспечить прикрытие таких операций. Какую-то долю неучтенного имущества и продукции раис оставлял в фактическом пользовании рядовых колхозников, какую-то мог передавать в распоряжение бригадиров, заведующих фермами, завхоза и других колхозных чиновников, какие-то операции он мог проводить при участии жителей других селений и районного начальства. Все это обуславливало взаимные обязательства и взаимную лояльность.
Илл. 15. Ошобинская власть в середине 1950-х гг.
(на фото: Султанназар-нонвой, Мамаджан Кашамшамов, Имамназар Ходжаназаров, Рузматов, Тоштемир Комилов, Абдубанноб Исмадиеров, Азим Юлдашев)
Споры вокруг трудодней были одним из механизмов, благодаря которым председатель колхоза мог влиять на своих подчиненных. Распределение работ и начисление трудодней позволяли раису заключать договоренности с теми или иными жителями Ошобы, устанавливать своего рода патрон-клиентские связи, иметь любимчиков и изгоев, первым помогать, а на вторых оказывать давление. В принципе, по мнению многих, председатель колхоза, бригадир и табельщик (который иногда заменял бригадира) могли приписать любому колхознику лишние трудодни. При этом большинство жителей были неграмотны и не знали точно, что им записывает табельщик, поэтому все старались вести собственную бухгалтерию, следили и узнавали, сколько трудодней получил сосед или сослуживец, и из-за этого было много скандалов. Председатель колхоза находился в непростом положении, поскольку должен был отвечать многим и очень разным ожиданиям и интересам. Игнорирование интересов тех или иных колхозников могло быть лишь строго дозированным, так как, превысив некую меру, раис сам оказывался под ударом.
Конфликт с вышестоящими органами власти также грозил ему неприятностями, так как председатель колхоза был слабой фигурой, не имеющей легальных средств защиты. По-видимому, главным для раиса должно было быть умение правильно расставить акценты в отношениях, скрыть какую-то информацию, соблюсти определенные границы дозволенного, наладить рычаги воздействия на людей. Далеко не всем это было под силу, тем более что правила игры и ожидания все время менялись.
В 1930-е многие новоизбранные раисы недолго оставались на своей должности и перемещались на роль заместителя, бригадира или даже простого колхозника471. Впрочем, примерно с конца 1930-х годов председатели колхозов «НКВД» и «Буденный» — Давлат Искандаров и Бободжан Юлдашев — сохраняли свои должности почти на протяжении десятилетия. В данном случае стабилизировали ситуацию, надо полагать, их тесный тандем с председателем сельсовета и более широкая сеть родственных и дружеских связей, о чем я скажу далее. Как только эта сеть была разрушена конфликтом 1947 года между Умурзаковым и Искандаровым, неопределенная ситуация вернулась вновь, многие руководители подверглись гонениям, возобновилась частая смена колхозного руководства.
В иерархии разных должностей в Ошобе председатель сельского совета имел в 1930—1940-е годы, безусловно, более высокий статус по сравнению с председателями колхозов, отчасти потому, что обладал большим набором формальных инструментов воздействия, отчасти — в силу личных авторитарных качеств Умурзакова, его умения договариваться и находить себе союзников в вышестоящих инстанциях. Председатели колхозов были, как правило, неграмотными, беспартийными и, по-видимому, не знали русского языка. Поэтому они находились в большой зависимости от аксакала, который был для них связующим звеном с вышестоящими органами власти.
Со временем, однако, государство стало смещать свои акценты с сельсовета на колхозы, первые постепенно лишались тех или иных полномочий, вторые, напротив, их получали. Эта двойственная ситуация сохранялась в 1940-е годы и дала о себе знать в конфликте 1947 года, когда именно подчиненные Умурзакову председатели колхозов стали в итоге той силой, которая и обеспечила падение его личной власти.
Семейные связи и родство
Итак, события 1947 года в Ошобе — это столкновение целого ряда акторов, которые опирались на позиции и ресурсы, предоставленные им советской властью. Все противоборствующие силы апеллировали к советским правилам и требовали их соблюдения. При этом любопытно, что сами ошобинцы иначе излагали мне (и себе?) внутреннюю логику тех событий, вписывая их в локальный контекст и отсылая к композиции местных взаимосвязей, известных и понятных только самим ошобинцам. Одним из важных аргументов, объясняющих, с точки зрения большинства рассказчиков, поведение Умурзакова и всех других действующих лиц этой истории, было родство.
В действительности язык родства — сам по себе довольно противоречивый и неоднозначный — порой сильно зависит от экономических и политических отношений. Часто трудно понять, какую роль играет родство на самом деле: люди вспоминают о нем тогда, когда нужно объяснить, почему тот или иной человек делает то-то и то-то. Но это не означает, что именно родство является настоящей причиной тех или иных поступков.
При численности ошобинского сообщества на период, о котором идет речь, в три-четыре тысячи человек и при наличии традиции заключать браки преимущественно внутри него все жители Ошобы оказывались родственниками. Со временем одни родственные связи забывались, но возникали другие, поэтому процесс установления родственных связей продолжался постоянно. Следовательно, вопрос о родстве — это вопрос не реконструкции генеалогии, а практического родства, то есть того родства, которое люди почему-либо помнят и на которое ссылаются в своей повседневной жизни. В зависимости от конкретных обстоятельств в понятие родства привносились (и привносятся) разные оттенки — эмоциональная близость, социальная иерархия и авторитет, ритуальные обязательства, важные символы престижа и так далее. Восприятие родственных отношений имело (и имеет сегодня) непосредственную связь с распределением в данный момент материальных и культурных ресурсов. Когда менялась конфигурация этого пространства, то менялись и необходимая человеку родственная сеть, и его представления о родственной близости. Человек мог рвать родство или, наоборот, устанавливать новые родственные связи, мог (и может) требовать от родственников поддержки для себя и одновременно обвинять других в том, что они пользуются такой поддержкой. Человек мог даже выдумывать несуществующие или забытые родственные отношения, объясняя то или иное событие. «Двусмысленная генеалогическая связь, — писал социолог Пьер Бурдье, — всегда дает возможность приблизить самого отдаленного родственника или приблизиться к нему, делая акцент на том, что их объединяет, либо держать на расстоянии самого близкого родственника, выставляя напоказ то, что их разъединяет»472.
Родственные отношения, имея свои нормативные модели, тем не менее на практике использовались с разными целями и в разной конфигурации. Кэролайн Хамфри, исследуя роль родственных связей в бурятском колхозе «Карл Маркс», различала несколько стратегий: практическое родство, которое было важно для взаимной помощи в повседневном выживании; политическое родство, которое использовалось местными чиновниками для усиления своих позиций; общие представления о родственно-племенной структуре, которые были важны для этнической идентичности473. Хамфри отмечает переплетение родственных отношений с колхозными экономикой и политикой, что ведет даже к изменению в родственной практике — прежние патрилинейные связи дополняются билатеральными, родством через браки и приемных детей. Нечто похожее было и в Ошобе.
Родство в местном сообществе имеет несколько способов измерения. Главным считается родство по мужской линии — к отцу, деду (отцу отца) и прадеду (отцу деда). Предполагается, что каждый человек должен знать семь поколений своих предков по мужской линии, но такие знания не имеют какого-нибудь практического значения, поэтому большинство знают прадеда и реже прапрадеда. Если предок был чем-либо знаменит, его имя помнят, оно превращается в символический капитал, который бережно сохраняют и предъявляют при любом удобном случае. Братья отца, деда или прадеда (называемые амаки) и их потомки (амакивачча) включаются в генеалогические схемы памяти. Тетка по отцу или деду (амма) также относится к близкому семейному кругу, но ее дети (аммавачча) уже числятся отдельно. Иногда общий предок забывается, но память о наличии родственной связи по отцовской линии остается.
Родство по мужской линии имеет две важные практические функции, которые неизменно присутствуют в жизни любого человека и, соответственно, делают это родство значимым и необходимым. Во-первых, это вопрос наследования: согласно обычаю собственность наследуется по отцовской линии474. Во-вторых, этот вид родства является ритуальным, то есть все семейные обряды, в том числе самые крупные — махалля-туй и похоронно-поминальные обряды475, — проводятся группой родственников по отцу: родные братья, амаки и амакивачча являются не гостями, а соорганизаторами ритуала, принимающими гостей.
Родство по материнской линии воспринимается как менее формальное. На ритуалах родственники со стороны матери или бабушки — их братья (тоға) или сестры (хола), а также их дети (тоғавачча, холавачча, или, в местном варианте, бўла) считаются близкими, но все равно гостями, которые приходят со стороны. Они имеют определенные обязательства, регламентированные, однако, не так строго, как в случае родственников по отцовской линии. Обычно с ними не бывает никаких взаимных претензий на собственность и взаимных тяжб. Особую эмоциональную окраску отношениям с родственниками по материнской линии часто придает тот факт, что в семье мать держится ближе к детям, чем отец, к тому же бабушка и дедушка, тети и дяди со стороны матери больше балуют детей и меньше требуют от них. Все вместе это создает особую доверительную атмосферу в общении с родственниками по этой линии: можно сказать, что родство по отцу скрепляется через вертикальные генеалогические связи, а родство по матери — через горизонтальные. В следующем поколении эти отношения могут стать более близкими и даже формализованными через родственные браки, которые также часто заключаются именно с родственниками по материнской линии.
Третий тип родства — родственники жены или невестки. Часто, как я уже говорил, это изначально те же родственники по матери или даже по отцу, но после заключения брачного союза партнеры по этому родству, то есть семьи жениха и невесты, называются уже по-другому — қуда и приобретают новое качество, которое подразумевает сумму всевозможных имущественных (обмен калымом и приданым) и ритуальных обязательств476. Особой линией в рамках этого типа родства являются отношения мужчин, женатых на родных сестрах, они даже имеют отдельное название — божа. Это родство основано на близости сестер и частых встречах на разного рода мероприятиях, а также на сходстве обязательств зятьев по отношению к родственникам жен.
Итак, как все эти схемы использовались в событиях 1947 года?
В предыдущем очерке я упоминал братьев Таирбаевых, с именами которых был связан скандал на выборах сельского старосты в 1892 году. Напомню их имена: Мирзаолим-аксакал, Гозыбай, Миролим, Долимбай, Абдушоир, Мамашои, Мамарозык, они принадлежали к Кичкина-Урта-махалле. Пожалуй, самой колоритной фигурой из них был Гозыбай, богатый и активный человек, который до этого тоже успел побыть аксакалом в Ошобе477. У Гозыбая было две жены — кашгарка, которую он привез из Кашгара (современный китайский Синьцзян), и ошобинка. От последней у него было семь сыновей, в их числе Умурзак, отец Ортыка Умурзакова. Коммунист Умурзаков был, таким образом, внуком одного из самых богатых и известных ошобинцев и, соответственно, членом большого и некогда влиятельного родственного коллектива478. Давало ли это ему какие-то преимущества?
Как ни странно, но отцовская линия родства в рассказах об Умурзакове никак не проявляется. По-видимому, к 1920-м годам влиятельность потомков Таирбая сильно упала, косвенным подтверждением чему служит и тот факт, что они почти никак не упоминаются в связи с Рахманкулом. Разве что дочь другого сына Гозыбая, Махсуда, была замужем за Дадаматом Турсуновым, который воевал с Рахманкулом и играл важную роль в установлении в Ошобе советской власти в начале 1920-х годов479. Сыграл ли этот Дадамат какую-то роль в судьбе Умурзакова, который приходился двоюродным братом его жене, мне не известно. Могу лишь упомянуть, что именно он 9 августа 1947 года на заседании сельсовета (которым руководил «засидания раиси» Согинбай Худайбердыев) в присутствии председателя районного исполкома заменил Умурзакова на должности аксакала480. Такая замена скорее всего указывала на желание власти поставить на должность проверенного человека (к тому же таджика), который хорошо знал бы Ошобу, но в то же время не был бы излишне вовлечен в местные распри.
Правда, к этому надо добавить, что отец Ортыка Умурзакова, как уже отмечалось, рано умер и мать вышла замуж за другого человека — Мавлона Далиева. Тот факт, что он был отчимом аксакала, превращал его самого в значимую персону — он занимал какое-то время должность бригадира в колхозе «НКВД» (там же табельщиком и потом бригадиром работал племянник Мавлона). Некоторые мои собеседники приписывали ему — как старшему — более существенную роль и видели в нем чуть ли не тайного советника, который принимал основные решения и направлял действия своего пасынка. Такое восприятие соответствовало сложившейся практике, когда влиятельные лица, оставаясь в тени, назначали на ту или иную публичную должность своего сына или младшего брата481.
В оценке роли Мавлона Далиева при Умурзакове согласия у ошобинцев не было, зато такое согласие сложилось в отношении ряда других фигур. Речь идет о нескольких братьях матери Умурзакова, которые занимали разные должности в колхозах и, по воспоминаниям, были очень влиятельными людьми. Они принадлежали к Катта-Кутон-махалле.
Прежде всего называют Тоштемира Нурматова, занимавшего долгое время должность первого зампредседателя (мовун) в колхозе «Буденный». В документе за 1928 год упоминается, что Тоштемир (которому тогда было 37 лет) работал в Ошобе мирабом, был дехканином, чайрикером (чойракор), то есть брал землю в аренду, своего поливного хозяйства не имел, был неграмотным и с 1924 года состоял членом Союза Кошчи482. После Отечественной войны Тоштемир считался зажиточным для своего времени человеком, имел 50–60 коз и две коровы. Именно у Тоштемира в доме принимали гостей, которые приезжали в Ошобу к Умурзакову483. По словам К.Х., который был противником Умурзакова, Тоштемир фактически руководил всеми председателями колхозов и бригадирами (любопытно, что жена Тоштемира была из Катта-Кутон-махалли и принадлежала к тому же роду, что и К.Х., — их деды по мужской линии были родными братьями).
У Тоштемира были братья — Абдахат, Хасан и Хошим, они работали при Умурзакове бригадирами и занимали другие должности. Долгое время секретарем при Умурзакове был Сотволды Джураев, бывший учитель и двоюродный брат (тоғавачча, то есть сын дяди по матери) Нурматовых. Одна из сестер Нурматовых была замужем за Турсун-ходжой, сыном Ишанхан-ишана, после гибели мужа от рук Рахманкула вдова вышла замуж за муллу Ахмада (который был сыном муллы Бадалбая)484. Мужем другой сестры был Одинамат, который благодаря Умурзакову занял должность амбарщика в колхозе «Социализм». Большое количество близких родственников, находящихся при власти, вызывало у многих ошобинцев неодобрение и скрытый протест. Даже те, кто положительно оценивает деятельность Умурзакова, указывали мне, что братьев Нурматовых не любили и они явно злоупотребляли своим положением.
К числу родственников по женской линии принадлежал и Давлат Искандаров, мать которого была сестрой матери Тоштемира Нурматова, то есть Давлат и Тоштемир были двоюродными братьями (холавачча). Давлат (примерно 1903 г.р.) в молодости был чайханщиком, а с конца 1930-х годов на протяжении многих лет работал председателем колхоза «НКВД». У него было несколько братьев: Кадыр (1899 г.р.) был одно время секретарем в сельском совете при Умурзакове, но за потерю денег, собранных с населения, его осудили, и вместо заключения он ушел на фронт; Абдуджаббар работал учителем, но в результате ссоры с Умурзаковым вынужден был уехать из Ошобы в Коканд; Эргаш (1899 г.р.) — брат по отцу — работал нонвоем в Ташкенте, в 1944 году вернулся в кишлак и трудился в колхозе. В конфликте аксакала с председателем колхоза «НКВД» братья были полностью на стороне Давлата. Они самым активным образом включились в кампанию против Умурзакова. Абдуджаббар, используя свои связи, сумел убедить других учителей, которые были недовольны аксакалом, помочь грамотно составить досье его преступлений. Эргаш, простой колхозник, принимал активное участие в расследовании, помогал выбирать свидетелей и допрашивать их.
Искандаровы, как и Умурзаков, имели заметные генеалогические связи. Абдуджаббар был женат на дочери бывшего аксакала Одины Давранова, Эргаш же — на дочери другого прежнего аксакала, Мирхолдора, племянника Одинамата Исаматова485. Искандаровы были в довольно близком родстве с Рахманкулом: их сестра была замужем за бригадиром в колхозе «Буденный» Джурой Султановым, чья сестра была женой знаменитого курбаши. Правда, в своем рассказе один из младших Искандаровых об этом факте не вспомнил, указав, напротив, что их отец Искандар погиб от рук басмачей. Как и Нурматовы, братья Искандаровы принадлежали к Катта-Кутон-махалле.
Хочу обратить внимание на то, что рассказчики часто указывали мне на родство всех перечисленных лиц между собой, но умалчивали об их родственной связи с известными персонами прошлого. Ни Гозыбай, ни Одина-аксакал, ни Рахманкул не появлялись в их устных историях для того, чтобы объяснить, кто такой Умурзаков или Искандаров и почему они конфликтуют между собой. Однако подобное умолчание не означает, что все эти обстоятельства биографий и генеалогий не играли никакой роли. Все прекрасно знали происхождение друг друга и учитывали его в своих взаимоотношениях. Право Умурзакова или Искандарова занимать ведущие должности и бороться за престижные атрибуты власти подкреплялось всей прежней практикой, когда дети со временем занимали те позиции, которые когда-то занимали их отцы и деды. Молчание в данном случае говорит о том, что такого рода практики принимались как сами собой разумеющиеся и не требовали обсуждения.
Еще одна линия родства, которая упомянута в истории, — это мужья сестер Ортыка Умурзакова, то есть почча. К их числу относился Согинбай Худайбердыев, председатель колхоза «Социализм», который стал одним из зачинщиков конфликта между Умурзаковым и Давлатом Искандаровым. Его старший брат, Аллаберды (1909 г.р.), был какое-то время секретарем в сельсовете Ошоба, потом переселился с другими братьями в колхоз «22-я годовщина». Родство двух семей было закреплено еще раз, когда сын Согинбая женился на дочери Хошимбая Нурматова. Братья Худайбердыевы были близкими родственниками по отцовской линии Козибаю Гоибову, первому раису «Буденного».
Наконец, отдельная тема — жены Ортыка Умурзакова, хотя она скорее связана с символами власти, чем с практической локальной политикой. Вспоминают, что умевший себя эффектно подать Умурзаков на белом в яблоках коне выглядел очень красиво и имел успех у девушек. Предания также гласят, что девушки, когда он был на улице, из дома не выходили — боялись попасться ему на глаза. Любвеобильность аксакала была одновременно и демонстрацией мужественности, а значит, вполне обоснованных претензий на власть, и рискованным покушением на социальные нормы в обществе, которое легитимным считало брачный союз только в виде своеобразной сделки между семьями и родственными группами — отношения мужчины и женщины, сложившиеся за рамками такой сделки, рассматривались как нарушение морали, религии и справедливости.
Обычная местная практика, которая не стала обязательной нормой, но приобрела характер желательного образца поведения, требует, чтобы разведенный мужчина второй и тем более третий раз женился на разведенной же женщине или вдове. В Ошобе, где 1920—1940-е годы были крайне тяжелыми и сопровождались большой смертностью, я слышал много такого рода историй. В этом случае повторный брак выполнял важные для общества социальные функции (новый муж брал на себя обеспечение вдовы и нередко ее детей) и считался вполне приемлемым. При этом такой брак уже не носил характера сделки между семьями и родственными группами — свадьба проводилась скромно, обмен дарами, включая калым и приданое, был сведен к минимуму. Однако поведение Умурзакова в этом смысле являлось исключением. У него было четыре жены, каждая из которых, вступая с ним в брак, выходила замуж в первый раз. Очевидно, это было знаком особого статуса аксакала, его способности навязывать свою волю и менять общепринятые правила.
О первых трех женах Умурзакова трудно сказать что-то определенное, в воспоминаниях ошобинцев не фиксируются какие-то факты, связанные с его женитьбой на этих женщинах. Первая жена Умурзакова — Саппарджан, дочь Д.М., принадлежавшего к той же Кичкина-Урта-махалле, к которой относилась отцовская линия родственников Умурзакова. От этого брака осталась дочь. После развода с Саппарджан он женился на Угылхон486, дочери некоего Назармата, чей участок в Ошобе позже сыграл роковую роль в судьбе Умурзакова. От этого брака остался сын. Третьей законной женой ошобинского лидера была Турдиджан, родом из Гудаса, в этом браке родилась дочь, которая потом вышла замуж за сына Хошима Нурматова. После развода Саппарджан и Угылхон снова вышли замуж.
Четвертой и последней женой Умурзакова была Янишой, от которой у него было несколько сыновей. Этот брак был, пожалуй, самым политическим из всех. Янишой являлась дочерью (или, как утверждают другие информаторы, племянницей) Одина-аксакала Давранова и принадлежала к большой родственной группе, к которой относился, например, Юсуп Юлдашев, председатель колхоза «22-я годовщина». Одина-аксакал, в свою очередь, был в родстве с Рахманкулом, на чьей сестре он был женат. И хотя бывшего сельского старосту объявили кулаком в начале 1930-х и выслали, родство с его дочерью, безусловно, имело для Умурзакова стратегический характер, а не было просто очередным увлечением. Кстати, поскольку сестра Янишой была замужем за Абдуджаббаром Искандаровым, то последний и Умурзаков считались друг другу божа, что, впрочем, не помешало разгоревшемуся конфликту.
Замечу еще, что политика в Ошобе вовсе не строилась исключительно вокруг близких родственных связей Ортыка Умурзакова. Каждый, кто оказывался на той или иной должности, выстраивал собственную родственную сеть поддержки или опирался на уже существующие сети. Например, у Бободжана Юлдашева, раиса «Буденного», в такую сеть входили родные братья: Азим (1907 г.р.), который во время войны работал в Сарыкамыше и даже, кажется, был председателем сельсовета в селении Гоч, потом вернулся в Ошобу и стал раисом колхоза «Социализм», а также Хоким, работавший на дизеле на небольшой ошобинской ГЭС. Юлдашевы принадлежали к Катта-Урта-махалле. Их сестра в начале 1920-х годов вышла замуж за одного пангазца, который воевал против Рахманкула. Она одной из первых сняла с себя паранджу и работала в Шайдане в женском районном совете.
Конфликт
В июле 1947 года в русскоязычной газете «Стахановец» (будущая «Ленинабадская правда»), которая была «органом» Ленинабадского обкома и горкома ВКП(б), а также областного и городского Советов депутатов трудящихся, появились целых две заметки про успешную деятельность Умурзакова.
Первая, небольшая заметка от 2 июля, называлась «Начали подготовку к новому учебному году»487. В ней целый абзац был посвящен Ошобе:
Колхозники Ашабинского кишлачного Совета взялись отремонтировать школу-семилетку на колхозные средства. Для ремонта заготовлен необходимый материал: кирпич, доски, бревна. Активное участие в организации ремонта школы принимает председатель кишлачного Совета тов. Умурзаков.
Так, к сожалению, обстоит дело не во всех кишлачных Советах…
18 июля появилась целая статья «Возрожденное село»488:
Жители села Ошоба, Аштского района, имеют свою замечательную историю возрождения. До 1922 года здесь был очаг басмачества, население подвергалось беспрерывным набегам, разорению и насилию со стороны известного басмача-изверга под именем Рахманкул, в результате чего село Ошоба превратилось в развалины. Только с приходом советской власти окончательно были разгромлены банды басмачества и село Ошоба твердо встало на рельсы социалистического строительства.
Трудолюбивые дехкане много поработали над его восстановлением. За годы сталинских пятилеток Ошоба превратилась в большое, культурное колхозное село. Теперь здесь имеется 4 колхоза. Сельскохозяйственные артели «НКВД», «Социализм» и им. Буденного, засеяв 546 гектаров хлебными злаками и другими культурами, в этом году вырастили обильный урожай хлеба, овощей и фруктов. Колхозы уже приступили к уборке и сдаче хлеба государству. По кишлачному совету принято обязательство собрать в среднем по 16 центнеров хлеба с каждого гектара. Колхозники перевыполняют эту норму. Так, колхоз им. Буденного сдает по 17 центнеров с гектара. Бригада т. Нурматова, этого же колхоза, дала обязательство собрать с каждого гектара по 20 центнеров, звено т. Юлдашева — по 22 центнера и т. д. Сельскохозяйственная артель им. 22-й годовщины Октября — хлопкосеющая. Она уже закончила пятое кетменевание и культивацию хлопчатника и приступила к четвертому поливу всей площади в 120 гектаров.
Колхозники Ошобинского кишлачного совета энергично борются за развитие животноводства, шелководства, садоводства и птицеводства. Число овец и коз в этом году достигло 15483 головы, крупного рогатого скота — 402, лошадей — 167 и ослов — 429. Хорошо обстоит дело с разведением кур. Сейчас здесь имеется около 700 кур, а в конце года их будет в два раза больше. Перевыполнил кишлачный совет все виды госпоставок. Только одного мяса сдано в счет поставок 1948 года более 700 килограммов.
Намного выросло село и в культурном отношении. Только за последние два года здесь построено 594 новых жилых дома, электростанция мощностью в 20 киловатт. Сейчас почти в каждом доме горит лампочка «Ильича», 135 хозяйств радиофицированы. Колхозники получают 232 экземпляра республиканских, областных и районной газет. Имеется две начальных и неполная средняя школа, в которых обучается 529 детей. Построено новое здание сельсовета и клуб на 1500 мест. При сельсовете имеется хорошо оборудованный здравпункт в Доме медработников. В колхозе им. Буденного на площади в 0,25 гектара, окаймленной декоративными деревьями, построено две красных чайханы489, одна из них предназначена специально для стариков. Организованный музыкальный кружок систематически обслуживает посетителей чайхан.
В кишлачном совете имеется артель «Труд», которая занимается поделкой ковров кустарным способом. В мае месяце артель изготовила 56 ковров вместо 40 по плану, в июне — 55 вместо 35. Члены артели взяли на себя обязательство — выполнить годовую программу к 30-й годовщине Великого Октября и до конца года выпустить 60 ковров сверх плана.
Казалось, это был публичный бенефис председателя сельского совета, перечисление и признание его заслуг и успехов. Умурзаков умел подать себя с выгодной стороны: подготовленные им отчеты, которые я видел в архивах, даже сейчас удивляют своим уверенным идеологическим слогом, обилием статистики, даже аккуратным почерком490.
Однако, по-видимому, публикации в «Стахановце» были всего лишь попыткой Умурзакова защититься от начавшегося против него уголовного расследования. Это была своего рода пиар-акция, обращение к власти через газету, желание напомнить, что председатель сельсовета не только имеет заслуги в прошлом, но и может еще сослужить ей службу в будущем. Показательно, что лишь вскользь упомянут колхоз «НКВД», которым руководил Искандаров. Отсутствие же во второй статье имени самого Умурзакова и упоминание одного из братьев Нурматовых — свидетельство того, что аксакал был осторожен, не тянул одеяло на себя и не собирался сдавать своих соратников, а пытался защитить всю ту конструкцию управления, которую он создал в Ошобе. Впрочем, попытка оказалась неудачной. Уже через три недели после публикации «Возрожденное село» Умурзаков был официально снят с должности, а до этого взят под стражу. Еще через месяц он уже именовался не героем, а врагом колхозного строя. Его карьера была закончена491.
12 сентября 1947 года секретарь Ленинабадского обкома Буланов, выступая с докладом на 25-м пленуме обкома, говорил492:
Терпимость к нарушителям колхозного Устава, благодушие и беспечность со стороны отдельных парторганизаций дают возможность действовать кое-где врагам колхозного строя. Так, в Аштском районе некто Умурзаков, работавший председателем Ашабинского сельсовета, продолжительное время безнаказанно обирал колхозы и обогащался за их счет. Умурзаков арестован и понесет заслуженное наказание. Но факт, что руководство Аштского района, имея сигналы, все же не сумело разоблачить Умурзакова, проявило крайнюю близорукость и политическую беспечность. Этот случай должен послужить серьезным уроком для всех парторганизаций.
Надо поднять бдительность колхозников, создать нетерпимую обстановку для лиц, проявляющих вражескую деятельность по отношению к колхозам и расхищающих колхозную собственность.
Передовица в «Стахановце» от 19 сентября подтверждала партийный приговор493:
Если бы бывший секретарь Аштского райкома т. Сангинов и нынешний — т. Назаров серьезно отнеслись к жалобам колхозников, глубже вникали в жизнь и быт артелей, они бы заметили и могли бы вовремя пресечь преступные действия распоясавшегося врага колхозного строя Умурзакова, который, используя служебное положение председателя сельсовета, расхищал колхозное имущество, обогащался и нагло администрировал. Умурзаков нанес серьезный урон деятельности колхозов сельсовета, и, к стыду руководителей района, этот уголовный преступник был разоблачен и арестован не по инициативе местных организаций, которые, кстати сказать, до сих пор не сделали для себя настоящих выводов из этого урока.
Итак, вопреки структурным возможностям и личным качествам Умурзакова, созданной им официальной и неофициальной сети поддержки и системы лояльностей, символическим и социальным механизмам контроля, которые были в его руках, ошобинский аксакал в итоге все-таки оказался поверженным. Как можно объяснить этот факт?
Конфликт Ортык-аксакала и Давлат-раиса имел как минимум три измерения (вполне возможно, что были еще какие-то обстоятельства, которые не остались в памяти ошобинцев или которые мне не удалось уловить). Это был конфликт должностных лиц — председателя сельского совета и председателя колхоза — за перераспределение властных полномочий и контроль над ресурсами. Это был конфликт между родственниками, которые не поделили имущество, а точнее, не нашли баланса между разными родственными позициями. Можно говорить также о конфликте между местными властными практиками, которые предполагали некоторую автономную, скрытую от контроля сферу отношений, и советскими практиками тотальной прозрачности и всеобъемлющего учета.
Баланс сил между председателем сельсовета и председателем колхоза, который сложился в 1930-е годы, отражал соотношение функций двух институтов. Преимущество аксакала заключалось в том, что у него было больше инструментов воздействия и сам он был гораздо более идеологической фигурой, тогда как председатель колхоза выглядел скорее как его технический помощник, похожий на прежнего пятидесятника-элликбаши. Во второй половине 1940-х годов ситуация изменилась. Интерес советской власти к фигуре председателя сельского совета упал. Функция категоризации перестала быть исключительной монополией сельсовета, появилось множество различных институтов и ведомств, которые контролировали этот процесс и вели собственный учет. Функция сбора налогов, как я упоминал, с 1939 года была передана районным финансовым органам, и хотя Умурзаков держал, особенно во время войны, эту процедуру под своим контролем, по мере формализации отчетности, привыкания людей к новым правилам и улучшения подготовки финансовых агентов влияние аксакала неизбежно уменьшалось. Полномочия по сбору налогов, которые в 1930-е годы давали аксакалу рычаг давления на жителей Ошобы, в 1940-е все больше становились рутинной процедурой.
Власть же председателя колхоза постепенно росла. Областные и районные чиновники — партийные, хозяйственные, финансовые — все чаще предпочитали иметь дело непосредственно с ним и напрямую контролировать экономику. К тому же интерес власти с вопроса о налогах переместился на вопрос о развитии хлопководства, что делало посредническую функцию председателя сельсовета лишней. Сыграл свою роль и тот факт, что за почти десять лет, в течение которых раисы «НКВД» и «Буденного» оставались на своих должностях, они сами сумели наладить собственные контакты с вышестоящими органами управления и создать в Ошобе и за ее пределами собственную сеть поддержки и лояльности. Хотя мое внимание сосредоточено на фигуре Умурзакова, все участники тех событий преследовали свои цели, имели свои ресурсы, свои стратегии, поэтому конфликты внутри этих сетей солидарности были неизбежны. Получается, что Умурзаков, который вначале, усиливая свое положение, содействовал председателям колхозов в укреплении их позиций, в результате сам же и вырастил в кругу, который считал своим, потенциальных соперников.
Такого рода структурные изменения дали о себе знать сразу же вслед за снятием и арестом Умурзакова. После 1947 года фигура председателя сельсовета, хотя и оставалась номенклатурной, стала быстро терять свою прежнюю значимость — аксакалы часто менялись и не оказывали никакого влияния на жизнь в кишлаке. Фигура же председателя колхоза превращалась в ключевую, что стало особенно очевидно в 1951 году, когда было принято решение об укрупнении коллективных хозяйств и три ошобинских колхоза («Буденный», «НКВД» и «Социализм») превратились в один — колхоз «Калинин», раис которого стал обладателем огромной власти494.
В поле родственных отношений тоже накапливались противоречия. Неформальные горизонтальные связи по материнской линии оказались для Умурзакова наиболее удобным механизмом выстраивания всей конструкции власти в Ошобе. Альянс с родственниками по матери (Нурматовыми и Искандаровыми) был взаимовыгодным — его члены занимали официальные позиции и могли поддерживать друг друга, скрепляя разные должности и функции в устойчивую социальную сеть. При этом не совсем ясно, играл ли Умурзаков действительно первую скрипку в этой сети или его родственники, более старшие по возрасту и более опытные, были реальными теневыми руководителями.
И все-таки вовлечение большого количества родственников в свою сеть поддержки, раздача им колхозных должностей и предоставление возможности накапливать свои ресурсы и создавать свои сети поддержки в конце концов привели к перекосу в этой конструкции. Умурзакову было все сложнее поддерживать равновесие сил между ними и сохранять со всеми ровные отношения. Местное предание гласит, что один родственник Умурзакова, Согинбай Худайбердыев (он занимал сначала должность директора школы, а потом раиса «Социализма»), захотел купить участок с домом в Ошобе, но этому воспротивился председатель «НКВД» Давлат Искандаров, другой родственник Умурзакова. Умурзаков встал на сторону Согинбая, используя, видимо, и то обстоятельство, что спорная земля принадлежала Назармату, который был отцом одной из бывших жен Умурзакова.
Любопытно, что, вспоминая об этом споре, все ошобинцы в один голос указывают на его внутриродственный, а не политический характер. На мой вопрос: «Почему Умурзаков поддержал Согинбая в его споре с Давлат-раисом из-за участка — они же все родственники?» — кто-то ответил, что муж сестры Умурзакова считается более близким родственником, чем двоюродный брат матери. Но для Тоштемира Нурматова Умурзаков был племянником, а Искандаров — двоюродным братом по матери, а и те и другие — одинаково близкие родственники (кроме того, напомню, что Умурзаков и один из Искандаровых были мужьями родных сестер). Тем не менее Искандаровы преследовали также и братьев Нурматовых, в результате чего те потеряли свои должности и кто-то из них даже был осужден.
Мы видим, следовательно, что происходит конфликт разных линий родства и переопределение близости внутри родственного круга. Одни родственные связи (холавачча) интерпретируются как менее значимые, другие (поччо) — как более значимые, третьи (божа) и вовсе игнорируются. Во-первых, это переопределение зависит от конфигурации экономических и политических интересов в данном конфликте: возникшие противоречия интерпретируются как результат дальнего родства и, напротив, союзнические связи — как результат близкого родства. Во-вторых, переопределение родственной близости имеет более длительную и фундаментальную логику — преимущество получают те родственные линии, которые возникли в результате договоренностей (выдача сестры замуж была уже способом заключения союза), а не те, которые унаследованы от предыдущих поколений, даже если это более неформальное родство по материнской линии.
Наконец, важным фактором смещения Умурзакова был его конфликт с учителями. Он стал аксакалом, получив в свои руки все идеологические и социальные ресурсы, которыми обладал учительский класс. В 1930-е и 1940-е годы (в 1950-е ситуация стала меняться) позиция учителя была необходимой ступенькой в такой карьере, более того, позиция учителя уже сама по себе предполагала стремление человека двигаться дальше во властные иерархии. В этом и состоял источник напряжения. К концу 1930-х годов в Ошобе сложилась уже довольно большая группа учителей с амбициями, тогда как государственных должностей было немного — поэтому неизбежно возникала конкуренция за обладание ими. Конкретные поводы для конфликта в каждом случае были свои, но те, с кем я разговаривал, в один голос жаловались на диктаторский и противозаконный стиль умурзаковского руководства, его желание подчинить себе людей, раздать должности своим родственникам, а также убрать всех потенциальных конкурентов, которые могли бы составить ему в Ошобе оппозицию. Сторонники же Умурзакова настаивали на том, что это учителя своими анонимками разжигали страсти и аксакал вынужден был выгонять их из кишлака, применяя административную власть. Умурзаков действительно использовал в данной ситуации административные рычаги, но это привело только к тому, что оппозиционная группа учителей сплотилась и задействовала все свои связи и знания, чтобы свалить аксакала.
Успешная в итоге тактика учителей включала в себя два инструмента: первый — апелляция к идеологии и официальным правилам, второй — опора на широкую социальную сеть, выходящую за рамки Ошобы и включающую в себя профессиональные связи, которые превращались в канал лоббизма в государственных и политических институтах.
Противники переиграли Умурзакова на его же поле. Ортык Умурзаков был не просто очередным аксакалом — созданная им система личной власти опиралась в числе прочего на новые механизмы советской легитимности и советской категоризации. Умурзаков через свою личную власть внедрял эту легитимность и эту категоризацию в ткань ошобинского общества, делая последнее более прозрачным для наблюдения и контроля. Но чтобы заручиться поддержкой, Умурзаков вынужден был оставлять некоторые сферы жизни Ошобы теневыми, скрытыми для внешнего контроля — это была та часть местных договоренностей, которая позволяла выполнять остальные обязательства перед государством. И теперь именно это недостаточное, неполное открытие было поставлено ему в вину.
Одним из главных обвинений против председателя сельсовета стало отсутствие строгого учета скота и земли (и укрывательство налогов). Учителя, хорошо знакомые с риторикой обличения врагов народа, отправились в горы и насчитали там, как говорят, 2000 нигде не учтенных овец и коз, 80 лошадей, 270 коров и 57 га сада495. Несмотря на то что этот скот и земли принадлежали всем ошобинцам, они были записаны в ходе расследования как сокрытое имущество самого Умурзакова — так вспоминают очевидцы.
В этой истории интересно не количество неучтенного имущества, хотя оно говорит о масштабах экономики, которая находилась вне государственного регулирования. В ней интересны методы, которыми это имущество было обнаружено. Собственно говоря, все местные жители, не только ошобинцы, об этом имуществе всегда знали, не могли не знать, потому что оно было частью имущественных сделок, ритуальных обменов, регулярных перемещений и так далее. Все это было повседневной жизнью и не вызывало у местных жителей вопросов о соблюдении законности. Сама мысль предъявить это имущество к учету и таким образом сформулировать обвинение была идеей человека, хорошо знающего советские законы и порядки, ориентирующегося в советской риторике и умеющего видеть «непрозрачные» для власти сферы жизни. «Обнаружение» состояло не только и не столько в том, что были найдены какие-то тайные укромные места, где это имущество пряталось. «Обнаружение» заключалось в соблюдении определенной процедуры расследования, которая включала составление описи и заполнение протоколов, то есть знание бюрократических правил и, возможно, русского языка. Учителя были идеальными инициаторами и помощниками следствия, потому что они, с одной стороны, были знакомы с советским языком поиска врагов, а с другой — могли использовать свои локальные знания для сбора конкретной информации.
Второй инструмент, который позволил добиться свержения аксакала, — привлечение к расследованию влиятельных чиновников извне. Как я говорил, Умурзаков сумел создать очень разветвленную и влиятельную сеть поддержки не только внутри Ошобы, но и за ее пределами. Чтобы преодолеть сопротивление этой сети, нужно было заручиться помощью по крайней мере не менее влиятельного круга лиц, к ней не принадлежавших. Кто и каким образом нашел этих лиц — такие подробности мне не известны. Известно лишь, что они были найдены (вспомним слова из «Ленинабадской правды» о стыде за то, что разоблачение и арест Умурзакова произошли «не по инициативе местных организаций»): это были некие чиновники из Узбекистана (кто-то вспоминал об «армянине-юристе»)496, обратить внимание которых на ситуацию в Ошобе помогли учителя, имевшие широкий круг знакомств.
Подытоживая ответ на вопрос, почему ошобинский «маленький Сталин» в итоге проиграл, я сформулирую несколько выводов.
Во-первых, само поле власти, в котором действовал Умурзаков, менялось в силу разных причин: появлялись новые внешние факторы и новые ресурсы, значение старых ресурсов и прежних связей ослабевало, накапливались негативные последствия каких-то прежних решений и событий. Авторитарные качества Умурзакова были выгодны в предвоенные годы и во время войны, когда советская власть стремилась усилить свой контроль за обществом и любой ценой мобилизовать как можно больше человеческих и материальных ресурсов. Но после войны выгоды такой местной диктатуры стали неочевидными, теперь вышестоящие чиновники засомневалась в контролируемости уже самого Умурзакова. К такому сомнению их подталкивала и большая группа своеобразной ошобинской оппозиции — людей, которые были так или иначе недовольны аксакалом. Во время войны сформировалась новая элита (офицерское звание получил Т.К., орденоносцем с фронта вернулся Эгамберды Ходжамбердыев), которая имела за плечами новый опыт, новые символические ресурсы, новые амбиции. Это не означает, что эти люди тут же оказались в конфликте с Умурзаковым, но они стали той группой, которая даже своим нейтралитетом могла влиять на соотношение сил в Ошобе.
Во-вторых, Умурзаков сам не оставался «неизменной величиной» во всех этих событиях, он слишком уверовал в свою силу, стал неосторожным, допустил какие-то промахи, может быть, перестал опознавать правила игры, устал, может быть, его мастерства уже не хватало в новых обстоятельствах. К тому же наличие в поле местной власти множества разных игроков, о чем я подробно писал, со своими собственными возможностями и интересами, делало баланс сил постоянно неустойчивым, неопределенным. Умурзакову приходилось прикладывать много усилий, чтобы поддерживать разного рода дружественные союзы, опираясь на которые он сохранял свои собственные позиции. Ошибки в тактике, перекосы в пользу одних интересов в ущерб другим, неспособность отреагировать на все возможные угрозы — все это подрывало положение аксакала.
Наконец, в-третьих, аксакал Ортык Умурзаков проиграл именно потому, что собственными силами и в собственных интересах выстраивал в ошобинском обществе новые властные практики, основанные на контроле за социальными и экономическими категоризациями. Он действительно создавал новое общество, прозрачное для внешнего взгляда и доступное для манипуляций, что и стало условием его собственного поражения в конфликте с Давлатом Искандаровым и учителями.
В заключение замечу, что, потерпев поражение, Умурзаков не сразу выбыл из игры. В 1948 году в результате новой ревизии, проведенной сторонниками бывшего аксакала, были доказаны с помощью тех же приемов реальные или мнимые преступления Давлата Искандарова и он тоже был посажен в тюрьму. Умурзаков, по воспоминаниям, вернулся из мест заключения в 1953 году «очень боевым». Он работал мирабом в Оппоне и однажды будто бы сказал: «Я буду поливать хлопок кровью людей, если надо». Еще какое-то время его продолжали побаиваться и с ним считались, но, не занимая никаких серьезных должностей, он постепенно терял связи и власть и в итоге стал обычным, незаметным жителем Ошобы, проходя мимо которого я поначалу даже не подозревал, что это тот самый Ортык Умурзаков. Типичная судьба «маленьких Сталиных»?
* * *
События 1947 года в Ошобе, если говорить о том, какие более общие тенденции они отражают, трудно оценить по какой-то простой шкале. Можно ли их интерпретировать, например, как неудачу, которую потерпела советская власть, пытавшаяся утвердить в Средней Азии свои порядки и свою идеологию? Или же, напротив, разоблачение «культа личности» в отдельно взятом кишлаке (а затем и в СССР в целом) говорит о существенных трансформациях, произошедших в обществе? Нужно ли следовать за упомянутой мной в начале очерка позицией Линн Виолы, то ли считая случай с Умурзаковым примером перерождения советских идеалов, то ли находя в перевороте, совершенном в Ошобе в отношении советского аксакала, признаки крестьянского сопротивления советскому колониализму? Или, может быть, лучше назвать изгнание Умурзакова восстанием новых, созданных в процессе советской модернизации групп против воплощенной в Умурзакове сталинской формы правления, которая как раз и носила архаичные черты? Подобные вопросы уже содержат в себе аналитические препятствия и ограничения, сводя многообразие процессов и взаимодействий к логике «или-или»: или советское государство с его попытками что-то поменять, или крестьянство, которое придерживается вековых традиций и сопротивляется изменениям.
Если говорить о теоретических моделях, противопоставляющих государство и крестьянство, то нельзя не упомянуть весьма популярную книгу американского политолога Джеймса Скотта «Оружие слабых: Повседневные формы крестьянского сопротивления»497. Эта работа была написана на основе материалов, собранных во время исследования в небольшой малайской деревне. Скотт следует марксистской доктрине и изучает классовую борьбу внутри деревни между бедными и богатыми. Его занимает вопрос, популярный в 1970-е годы: почему экономическое неравенство само по себе не приводит к обострению классового конфликта? И в принципе он дает тривиальный ответ: потому что существует культурная надстройка — общие привычки, обычаи, формы взаимопомощи, родственные и соседские связи и многое другое, — которая, особенно на ранних стадиях развития капитализма, мешает сформироваться классовому сознанию. Однако Скотт спорит с теми, кто вслед за Антонио Грамши понимает эту надстройку как идеологический аппарат господствующего класса, который своей гегемонией не оставляет низшим классам никакой возможности для сопротивления. Бедные крестьяне, утверждает исследователь, имеют свою автономную культуру, имеют голос, могут бороться с помощью повседневных форм сопротивления, могут даже добиваться результатов в этой борьбе, могут навязывать богатым свои представления о долге, правильном поведении, общине, равенстве, а сами эти представления тоже являются формой сопротивления.
В этом и состоит суть метафоры «оружие слабых»: «Для меня важнее было понять, что именно мы можем считать повседневными формами крестьянского сопротивления — прозаичной, но постоянной борьбы между крестьянством и теми, кто пытается изымать у него продукты труда, налоги, ренту и иные блага. Большая часть таких форм весьма похожа на коллективное неповиновение. Здесь я имею в виду типичные инструменты, применяемые теми, кто лишен власти: затягивание трудового процесса, беспричинный уход с работы, неисполнение указаний начальства, мелкое воровство, намеренное неиспользование имеющихся навыков, клевету, саботаж и тому подобное. Все эти формы классовой борьбы, отличавшие героев Брехта или бравого солдата Швейка, имеют определенные общие черты. Обращение к ним почти или вовсе не требует предварительной подготовки и координации; они опираются на молчаливое взаимопонимание и неформальные сети; нередко за ними стоит индивидуальное приспособленчество; их участники избегают прямой, символической конфронтации с властями»498. Цель такого рутинного сопротивления — не отменить или изменить систему доминирования, а выжить — сегодня, на этой неделе, в этом году — внутри этой системы.
Дилемма «гегемония или сопротивление» в модели Скотта и в рассуждениях его многочисленных сторонников, изучающих советское общество, представляется мне слишком схематичной и бедной для описания и понимания происходивших, в частности, в Ошобе событий. Здесь существовало множество разных — пересекающихся и непересекающихся — уровней отношений власти, множество разных интересов и столкновений в борьбе за те или иные ресурсы, множество разных альянсов. В ошобинской истории, реконструируемой через архивные материалы и устные рассказы, смешались разные сюжеты — родство и знания, колхозы и школы, жены и басмачи. Воспоминания хотя и выстраивают прошлые события в какую-то логическую цепочку, но аргументируют ее и иллюстрируют примерами из очень разных отношений, референций и ценностей. Мы видим, что участники тех событий и те, кто их оценивает сейчас, говорят как бы на разных языках: кто-то апеллирует к родству и обмену женщинами, кто-то — к справедливости, кто-то — к материальным успехам. За этими аргументами стоят сложная игра и подвижные, множественные идентичности, незаметные переходы от одной логики к другой, когда трудно точно определить позицию человека, приписать его к какой-то однозначной роли и функции. Мы видим, таким образом, что определение и самоопределение советскости/несоветскости, «за» или «против» становятся неоднозначными, плохо уловимыми, зависящими от разнообразных контекстов, что не дает нам возможности прочертить четкую границу между автономной крестьянской культурой и государством.
Мы видим также, что сама советская власть и советская система в целом предстают как сложный баланс разных интересов и сил, институтов и символов, которые находятся иногда в противоречии друг с другом, иногда в относительной гармонии. Этот баланс не остается неизменным и все время смещается, накапливаются новые символы, создаются новые институты, формируются новые интересы и социальные сети. Кроме того, мы отчетливо видим, что распределение властных должностей и ресурсов связано с локальными связями и вообще локальной политикой, хотя прямой корреляции нет и родственные связи мобилизуются частично, выборочно в зависимости от множества неструктурных факторов. В постоянной борьбе происходит непрерывная конвертация статусных позиций в группы поддержки (в том числе в родственные сети) и, наоборот, конвертация уже имеющихся сетевых ресурсов в статусные позиции. Эта борьба не всегда заканчивается успехом, а внутри сетей возникают свои конфликты и напряжения.
Наконец, мы видим, что властные практики, даже когда они используются в сугубо местной борьбе, приобретают со временем совершенно другой характер: достаточно, например, сравнить ошобинские события 1947 года с, казалось бы, похожими событиями 1892 года. И тогда конфликт строился вокруг предложенного империей подсчета голосов избирателей, но подсчитывали их исходя из местных представлений о том, что должно быть объектом учета и внимания. В советском же случае совокупность обвинений, предъявленных аксакалу, основывалась на целой таблице категорий, подлежащих рассмотрению и классификации, и на участии в обвинении аксакала многочисленных экспертов, способных ориентироваться в советских категориях. Эти и другие новые практики внутри Ошобы были бы невозможны без массированной интервенции со стороны государства с его обличающим языком, вездесущим взором и репрессивными инструментами. Возникал замкнутый круг: люди и сообщества все чаще использовали советские институты и символы для своих локальных целей, в том числе и для сопротивления власти, но власть тоже использовала локальные группы, чтобы превратить их борьбу между собой и сопротивление в источник очередного витка реформ и тем самым еще сильнее укрепить внешнее влияние на это сообщество.
Очерк пятый СКАЧОК В СОЦИАЛИЗМ499
В 1989 году в книге «Традиционализм в современном среднеазиатском обществе» российский этнограф Сергей Поляков предложил отказаться от прежней концепции пережитков, популярной в советское время. Согласно этой концепции, народы Средней Азии в советское время сумели благополучно перейти от феодального (феодально-патриархального) строя к социалистическому, но, поскольку этот скачок через капитализм был стремительный и радикальный, в быту этих народов еще сохранились некоторые остаточные отношения и представления прошлого, которые просто пока не успели окончательно исчезнуть. По мнению же Полякова, полное превращение местного общества в современное не состоялось и то, что называлось пережитками, в действительности было его сутью даже в конце XX века: «Традиционализм всегда выступал как отражение социально-экономического строя, как образ жизни, основанный на специфической хозяйственной структуре»500.
«Фундаментом азиатского общества, — пишет московский исследователь, — является община, основа которой — ирригационная система (принадлежит по существу государству) и частная собственность дехканина на землю <…> В обществах, где земледелие (то есть сельское хозяйство) основано на искусственном орошении, общине безразлично, какое по форме государство и какой аппарат создает условия функционирования ирригации. Главное состоит в сохранении внутренней структуры общины»501. Это принципиальное замечание обосновывает исходный элемент конструкции традиционализма: не имеет значения, какие изменения происходили в политической системе, в идеологии, в структуре народного хозяйства, главное — если на низовом уровне сохранялись частная собственность и частная экономика, то все общинные институты возрождались и продолжали существовать. Советская власть принесла лишь поверхностные изменения, но отношения собственности в кишлаке остались прежними, а потому прежними остались и социальные отношения, которые лишь мимикрировали под колхозные структуры: «На место ханской власти пришла советская, в ведение которой перешли крупные ирригационные системы <…> Структура последних не была нарушена — произошло только уравнительное перераспределение земли внутри общины, но способ ведения хозяйства остался тот же <…> Объединение дехкан в бригады и звенья не нарушило старых форм, поскольку производственные подразделения формировались по родственно-соседскому (махаллинскому) или племенному принципам»502. Традиционализм, как считает Поляков, основывался на личном приусадебном хозяйстве, арендованных землях и пастбищах, все это приобрело товарный характер (цена явно превышала затраты труда и позволяла получать высокую прибыль) и было связано с торговым капиталом (а также со взятками и другими формами влияния на государственных чиновников), то есть имело мелкобуржуазный характер. Механизмы производства и перераспределения в условиях такой экономики имели коллективистский характер и поддерживали соответствующие социальные структуры, нормы и ценности. Поляков пишет, что ситуация имела двойственную природу и характеризовалась разными тенденциями: существовал советский государственный сектор, но поскольку он не обеспечивал всех работой, то частный сектор остался фактически доминирующим.
Текст Полякова относится к популярному в конце 1980-х годов жанру критики «реального» социализма. Многие исследователи выражали в тот момент свои сомнения по поводу того, что построенный в СССР социализм действительно является тем самым социализмом, который провозглашался в официальной советской идеологии. Эти сомнения особенно убедительно выглядели в отношении Средней Азии, где проведенное в середине 1980-х годов масштабное уголовное расследование (под руководством Гдляна и Иванова503) выявило и представило на публичное обозрение многообразные свидетельства коррупции, приписок и другие примеры «несоциалистического» поведения. Жанр критики «реального» социализма породил множество различных объяснений вдруг обнаруженных и открытых фактов: Сергей Поляков увидел проблему в социальных и культурных (религиозных) особенностях самого общества, оказавшегося не готовым к социалистическим трансформациям, кто-то настаивал на том, что правящая верхушка исказила социалистические принципы и направила всю страну по другому пути, кто-то поставил под вопрос саму концепцию социализма как утопическую и лживую. Большинство этих версий подразумевало, что существует либо должно существовать правильное, или нормальное, развитие, которое действительно может обеспечить декларируемые ранее цели преодоления отсталости и феодализма. При этом такого рода критика нередко облекалась в форму ортодоксального марксизма или теории модернизации, которые декларируют неизбежный и закономерный ход истории в соответствии с заранее предопределенной схемой. Все, что не вписывается в такую схему, объявлялось аномалией или отсутствием какого-либо развития вообще.
На мой взгляд, подобная логика вызывает целый ряд вопросов504. Первый из них — каким образом ранжировать те или иные социальные и экономические характеристики по шкале «современность/традиционность», как определить границу между ними? Приведу пример: Поляков пишет, что бюджет сельской семьи складывается из доходов, полученных в современном государственном секторе и традиционном личном; поскольку второй «намного по доходности превосходит» первый, то, значит, можно говорить о мелкобуржуазном характере семейной экономики, которая и является фундаментом традиционализма505. Но как быть, допустим, с тем фактом, что бюджет семьи в сельской местности складывался из тех же источников иногда в равной пропорции, а иногда в соотношении три к двум или два к одному?506 Можно ли назвать такой смешанный тип хозяйственной деятельности современным (социалистическим) или традиционным (мелкобуржуазным), достаточно ли вообще этих двух категорий для его описания, нужно ли вводить какую-то третью — промежуточную — категорию и насколько вообще правомерен такой способ анализа?
Другая тема — внутренние диспропорции и зависимости, которые создавались внутри советского общества. «Специфика хлопкосеющих районов и не хлопкосеющих, — утверждает Поляков, — принципиального значения не имеет»507. Однако именно хлопковая монополия, которая являлась для кремлевского руководства стратегическим интересом, во многом определяла структуру среднеазиатской экономики. Хлопок требовал больших трудовых затрат, поэтому государство, не успевавшее инвестировать средства в новые аграрные технологии, было заинтересовано в том, чтобы удерживать местных жителей в сельской местности, ограничивая их мобильность разного рода запретительными мерами и одновременно привязывая их к плантационному хлопковому производству личными приусадебными участками и разного рода социальными льготами; промышленное же развитие осуществлялось за счет стимулируемой миграции в регион русскоязычного населения из других республик СССР508. Выходит, что традиционализм был одним из последствий советской политики по созданию специализированных региональных экономик, которые вместе образовывали самодостаточный и вполне современный — в смысле рационального устройства — рынок обмена ресурсами?
В книге Полякова, на мой взгляд, поставлены интересные вопросы, но автор не всегда решает их, опираясь на детальное исследование экономики и социальной жизни Средней Азии, и не всегда учитывает большое разнообразие экономических и социальных типов, существующих в регионе. Отталкиваясь от этих вопросов, в настоящем очерке, который будет самым объемным в книге и насыщенным разнообразной статистикой, я собираюсь рассказать об экономической истории Ошобы в советское время. Меня интересуют прежде всего история воплощения модернистских проектов и динамика изменений в Ошобе, которая за несколько десятилетий превратилась из небогатого, расположенного на малодоступной горной окраине селения в крупнейшего производителя хлопка, стремительно осваивающего новые географические и социальные пространства. Особым фокусом моего внимания будут техники и практики власти, способы контроля за ресурсами и людьми, механизмы перераспределения ресурсов между государством и локальным сообществом, а также внутри локального сообщества. Не меньше меня интересуют и те скрытые, иногда легальные, иногда полулегальные, а иногда и полностью нелегальные экономические практики, с помощью которых ошобинцы осваивали и присваивали вновь открывающиеся возможности, их экономические тактики и стратегии, их включенность в процессы трансформации и исключенность из них. Я предлагаю проследить путь, который прошла Ошоба с 1920-х до 1990-х годов, и попытаюсь нарисовать хотя бы контуры сложной ошобинской мозаики, состоящей из множества элементов — используя словарь Полякова — традиционализма и современности509.
От досоветской экономики к колхозу
Преодоление кризиса
Летом и осенью 1917 года, в уже начинавшемся хаосе, была проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Семь лет спустя была опубликована только часть материалов, согласно которым в сельском обществе Ошоба насчитывалось 304 хозяйства и 996 человек, включая 511 мужчин и 485 женщин. В этой переписи не было отдельных экономических категорий, но была новая категория — «отсутствующие более одного месяца», каковых было насчитано 74 человека (69 мужчин и 5 женщин)510. Все эти цифры вызывают удивление. Напомню, что в 1909 году здесь было 457 хозяйств и 2400 человек; следовательно, число хозяйств с 1909 по 1917 год сократилось на треть, а численность населения — на 60 %!
В архивах Ходжента я нашел выписки из неопубликованных материалов сельскохозяйственной переписи, в которых приводились данные по земельным владениям Ошобы: 21,7 дес. — усадьбы, 0,4 — сады, 258,9 — пашня (в том числе 14,1 — посевы), всего 381,0 дес.511 Иначе говоря, пашня в кишлаке в 1917 году сократилась, по сравнению с данными экспликации 1899 года, на 30–40 %.
Объяснить причины такого большого расхождения между более ранними данными и данными за 1917 год, исключая ничем не подтверждающийся вариант массовой гибели ошобинцев в этот промежуток времени, можно только двумя способами. Видимо, начавшиеся экономические проблемы, желание избежать призыва на фронт и просто нестабильность вынудили больше половины населения уехать в более зажиточные и более спокойные регионы или укрыться в горах512. При этом, правда, в том же источнике говорилось об отсутствии лишь 3 % населения. Эти и другие несостыковки в статистике можно объяснить и тем, что в 1917 году власть, которая формально уже не являлась колониальной, была не в состоянии контролировать население и проводить тщательное статистическое исследование, а потому пользовалась непроверенными сведениями, полученными от сельских и волостных руководителей, которые, наученные опытом мобилизации местного населения на военные работы, попросту скрывали действительное число наличных и уехавших жителей.
Бегство ли населения, слабый ли контроль власти за населением — в любом случае эти статистические данные говорят о серьезном кризисе. Хотя экономика Ошобы основывалась на зерноводстве, а не на хлопководстве, кишлак не мог из-за крайнего малоземелья автономно обеспечивать себя необходимым продовольствием и товарами, поэтому местные жители испытывали нужду в заработках и продовольствии наравне с населением хлопководческих районов Ферганской долины. У кризиса была также и политическая сторона: тот факт, что власть не могла собирать достоверные сведения о кишлаке, хотя бы на прежнем уровне, говорит о резком снижении контроля и существенных сбоях в функционировании управленческой машины.
Сельскохозяйственная перепись 1917 года интересна еще и как попытка подробного описания населения региона. В ходе ее была применена детальная классификация хозяйств. К сожалению, как я говорил, только часть из ее материалов была опубликована по отдельным селениям. Однако существует поволостное и порайонное описание того, что увидела перепись (табл. 1, 2).
По причинам, изложенным выше, доверять такого рода статистике надо с очень большой осторожностью. В этом случае любопытен сам факт попытки стандартного, подробного и сплошного описания социальных и экономических категорий местного населения. Были введены дробные субкатегории хозяйств по признакам наличия или отсутствия разных видов скота, земельных наделов, с количественной оценкой размеров последних. При этом власть интересовали другие виды хозяйственной деятельности, а также культурные (образование) и демографические характеристики — все они тоже учитывались в переписном листе (правда, не были опубликованы в виде поселенных или поволостных сводок). В переписи обращает на себя внимание сам факт того, что российская власть попыталась, причем именно во время войны, обозначить переход от прежней политики осторожного описания и регулирования к политике масштабной интервенции научного (и статистического) знания в надежде использовать полученную информацию для столь же масштабного перепланирования политического, социального и культурного пространства всей Средней Азии (как и всей территории бывшей Российской империи). В 1917 году эта попытка терпит поражение из-за набирающих силу конфликтов и ослабления государственных институтов, но в 1920-е годы советская власть реализует ее полностью.
Таблица 1
Демографический и социальный профиль населения Аштской и Бабадарханской волостей в 1917 году
Источник: Материалы Всероссийских сельскохозяйственных переписей 1917 года. Вып. 2. Поволостные итоги Ферганской области. Самарканд: ЦСУ Узбекской ССР, 1925. С. 12–15.
Таблица 2
Размеры земельных наделов в Аштской и Бабадарханской волостях в 1917 году
Источник: Материалы Всероссийских сельскохозяйственных переписей 1917 года. С. 51, 52.
Завершающим актом нормализации ситуации и полного подчинения кишлака новой власти стало проведение Всесоюзной переписи 1926 года. К сожалению, полных ее данных по Ошобе нет (или я не смог их найти)513. Они опубликованы частично: в сельском совете было 551 хозяйство и 2661 человек (1452 мужчины и 1209 женщин)514. В 1917 году, напомню, перепись зафиксировала здесь 304 хозяйства и 996 жителей. В 1925 году, по материалам 10 %-ной переписи и местного учета, здесь насчитывалось 138 хозяйств и 1127 человек515. В 1926 году демографические показатели значительно превзошли не только эти уровни, но и уровень 1909 года, когда в сельском обществе было 2400 человек. Такой стремительный рост численности ошобинцев говорит прежде всего о возвращении большинства беженцев и мигрантов обратно в кишлак516, что, в свою очередь, означало прекращение боевых действий и окончание голодных времен — люди восстановили свои дома и хозяйства. Перепись показала также, что власть вернула себе контроль над местным сообществом — она вновь была способна «видеть» жителей кишлака и подсчитывать их, наблюдать за их поведением и социальными связями.
Накануне Великого перелома
Установление советского военного и политического доминирования в регионе привело к осознанию новой задачи — получения экономической выгоды. Империя решала эту задачу через сбор налогов, основными расчетными показателями которых были размер обрабатываемой площади и средняя урожайность. Большевики стремились вести государственный учет производства реальных объемов продукции517. Эта задача имела вполне прагматическую цель максимизации и присвоения ресурсов, но кроме того, она одновременно отражала идеологические установки большевиков, которые надеялись с помощью активного государственного вмешательства в экономику осуществить социальные и технологические реформы в обществе.
Контроль за продукцией требовал от государства применения новых механизмов управления. В конце 1920-х годов вышестоящая власть ввела порядок заключения договоров (контрактация518), по которым крестьяне были обязаны продавать часть урожая государственным закупочным организациям по фиксированным ценам (хлопок продавался весь). Выглядело это, по воспоминаниям ошобинцев, так: из районного центра (Шайдана) приезжал землемер (танобчи), который при содействии пятидесятников (потерявших прежний официальный статус, но, видимо, по-прежнему избиравшихся населением) обмерял землю и составлял планы для каждого крестьянина на поставку определенного количества зерна, что напоминало доимперскую практику Кокандского ханства. Кроме того, в Ошобе существовал пункт (ширкат), в котором заключали обязательные договора с ошобинцами на поставку абрикосов и других фруктов, а также коконов шелкопряда. В этом пункте можно было приобрести саженцы (и, видимо, яйца шелковичного червя), а также другие товары, которыми государство могло оплачивать закупки местной продукции. Как вспоминают, пункт действовал еще в середине 1930-х годов и в нем работал некто Кадыркул из Гудаса.
Параллельно с попытками установить контроль над продукцией советская власть собирала систематическую информацию о кишлаке. При этом по своей интенсивности усилия, предпринимаемые советскими чиновниками для выяснения всех деталей социально-экономической жизни Ошобы и их тщательной классификации, намного превосходили все прежние попытки имперских чиновников и статистиков собрать сведения о кишлаке. После Всесоюзной переписи 1926 года появляются регулярные республиканские переписи и сбор текущей статистической информации местными органами управления. Здесь можно найти многообразные — и часто противоречащие друг другу — данные о размерах земельных наделов, составе выращиваемых культур, количестве и видах скота, найме рабочей силы и аренде и так далее.
Таблица 3
Численность населения сельсовета Ошоба в 1928, 1929 и 1932 годах
Источники: Список населенных пунктов Узбекской ССР 1928 года. Ч. 7. Округ Фергана. Самарканд: ЦСУ УзССР, 1929. С. 3; Краткие поселенные бланки по учету хозяйств Ходжентского округа, 1928 год // ГАСО РТ, ф. 3, оп. 1, д. 165. Л. 39, 39 об.; Итоги единого сельскохозяйственного учета по Аштскому району (за 1927–1930 годы) // ГАСО РТ, ф. 3, оп. 1, д. 329. Л. 5, 5 об.; Список населенных пунктов Таджикской ССР. Сталинабад: Управление народнохозяйственного учета Таджикской ССР, 1933. С. 7.
1 По другим данным: 626 хозяйств и 3222 человека (ГАСО РТ, ф. 3, оп. 1, д. 266. Л. 83).
2 По другим данным: 732 хозяйства и 3943 человека (ФГАСО РТ, ф. 117, оп. 1, д. 4. Л. 108).
3 В1928 году селение Аксинджат — 30 хозяйств — числилось в составе сельского совета Гудас, в 1932 году — в составе «джамсовета Ашоба».
Собранные в тот период сведения, со всеми оговорками о степени их достоверности, позволяют сделать несколько общих замечаний об Ошобе. Численность населения сельского совета в 1920-е и начале 1930-х годов быстро росла (табл. 3). Это можно объяснить нормализацией жизни в кишлаке, экономическим подъемом и возвращением многих из тех, кто в годы кризиса и военных столкновений уехал из Ошобы (а счет им шел, видимо, на сотни человек). Резкое увеличение количества жителей сельсовета объясняется также тем, что где-то на рубеже 1920—1930-х годов в его состав был включен выселок Аксинджат, который до этого, хотя и был населен ошобинцами, административно всегда относился к сельскому обществу/совету Гудас.
Таблица 4
Социально-экономический портрет населения Ошобы в 1929 и 1932 годах
Источники: ГАСО РТ, ф. 3, оп. 1, д. 329. Л. 5–6; ФГАСО РТ, ф. 117, оп. 1, д. 4. Л. 108.
1 Вдругом документе сказано, что в 1928 году было 2964,09 тан. (или 494,68 дес.) поливной земли, 103,3 тан. (17,17 дес.) — богарной, всего же было 3546,0 тан. (591 дес.) земли.
2 Кунак.
3 Кунжут.
4 Все богарные посевы.
5 Суммированная цифра.
6 Эта категория была выделена в переписи 1932 года — не очень понятно, что имелось в виду.
Согласно данным 1929 года (записанным в танапах), всего за сельским советом числилось округленно 390 га поливной земли, из них около 280 были под посевами, около 50 — под садами и виноградниками, чуть больше 15 га — под усадьбами (остальное, видимо, пар и перелог)519. Перепись 1932 года дает еще меньшие цифры (табл. 4). Указанные площади были примерно такими же, как и в 1917 году, что, как я уже сказал, на 30–40 % меньше, чем по данным экспликации 1899 года. Сложно, однако, сказать, произошло ли реальное уменьшение посевов, которое не удалось восстановить за десятилетие, или же статистики в 1917, 1929 и 1932 годах описали только их часть — например, вокруг селения Ошоба, исключив посевы в горной местности.
Советские статистики, в отличие от колониальных, интересовались всей номенклатурой посевных культур, а не только общей площадью и видами земли. Вместе с пшеницей упомянуты в качестве популярных культур люцерна, просо, джугара (сорго), выращивались в 1929 году в небольшом количестве хлопок и даже рис. При этом пшеница, как и в 1899 году, составляла чуть меньше половины всех посевов. По сравнению с авторами статистического описания 1899 года, советские чиновники обратили внимание и на другие виды хозяйственной деятельности в Ошобе. Из материалов учета 1929 и 1932 годов мы впервые узнаем более подробные детали — о том, какие виды скота и в каком количестве имелись в хозяйствах жителей Ошобы, то есть о том, что животноводство, прежде всего козоводство и овцеводство, было важной отраслью местной экономики520. Наконец, мы видим в этих материалах попытку описать социально-экономические отношения в ошобинском обществе — аренду, наем рабочей силы, несельскохозяйственные промыслы. Из данных, которые трудно проверить, следует, что преобладающей — до коллективизации — формой хозяйства был семейный труд на собственном крошечном земельном наделе.
Несмотря на некоторый скепсис в отношении результатов статистических опросов, я отметил бы то обстоятельство, что сами эти опросы, даже если они не всегда точно отражали реальность, подтверждают усиление интервенции власти в жизнь ошобинского сообщества, стремление увидеть и, следовательно, подчинить его. Это указывает на появление новых практик в отношениях между властью и местными жителями. Классифицировать социальные категории, подсчитать и присвоить их теперь означало не единичное за многие годы действие чиновников, а постоянную заботу и рутину управления, что меняло всю конфигурацию отношений и техник власти. Вместо локальных практик и локального опыта, приспособленных к повседневным взаимодействиям внутри местного сообщества и закрытых от внешнего взгляда, возникали формализованные практики структурирования и иерархизации, открытые для внешнего контроля и доступные для внешнего воздействия.
Доколхозная социальная структура
При всем желании увидеть, вслед за Поляковым, существующую к моменту коллективизации традиционную экономику, следует признать — реальная картина получается очень противоречивой. Расчеты данных 1929 года показывают, что примерно 10 % всех хозяйств в Ошобе не имели посевной земли. Остальные владели в среднем тремя танапами (0,5 дес.) посевов на одно хозяйство521. Еще примерно каждое четвертое хозяйство имело сад средним размером в 1,5 танапа. Даже предположив, что какая-то часть земли укрывалась от учета, мы видим характерное для местного аграрного строя крайнее малоземелье. Чуть меньше чем в половине хозяйств держали коз (в среднем по 30 голов на одно хозяйство), чуть больше чем в 10 % хозяйств — овец (также в среднем по 30 голов). Только в каждом четвертом хозяйстве была своя корова. В большей части хозяйств не имелось рабочего скота, а значит, их члены были вынуждены брать его на время у своих соседей в обмен на часть урожая.
При этом названные мной средние цифры скрывают заметные различия как в размерах земли, так и в статусе владения ею. В другом документе 1929 года — карточке сельсовета — мы находим некоторые сведения о социальной структуре ошобинского сообщества: там говорится о двух кулаках-нанимателях, 19 чайрикерах (арендаторах-издольщиках), девяти поденных рабочих, а также сообщается, что сельское общество нанимало двух сторожей, одного кустаря, пять пастухов и 15 рабочих на сельскохозяйственные работы522. О достоверности этих цифр говорят материалы выборов руководителей сельсовета в ноябре 1927 года, где упоминаются совершенно иные показатели: в сельском обществе было 738 жителей, из них старше 18 лет — 426 человек; 10 человек были лишены избирательных прав (один имел «нетрудовые доходы», два торговца-посредника, шесть представителей духовенства, один в категории «прочие»); из 416 обладающих правом голоса на выборы явилось 289 человек (270 мужчин и 19 женщин); в числе явившихся было 65 батраков, 68 чайрикеров (арендаторов-издольщиков), 53 малоземельных, 50 середняков, 24 кустаря, все 19 женщин были домохозяйками523. Иными словами, вопреки информации 1929 года, согласно которой 90 % хозяйств имели свои посевы, материалы 1927 года показывают, что значительная часть ошобинцев либо работали на чужой земле (как временные рабочие или издольщики), либо прирабатывали промыслами и только каждое четвертое хозяйство могло осуществлять собственное более или менее полноценное сельское производство.
Впрочем, все такого рода данные надо интерпретировать осторожно. Во-первых, вероятнее всего, они были получены путем опроса, а не подробного похозяйственного измерения. В том же 1927 году, как я уже говорил, власть не имела полной картины экономической деятельности в Ошобе и продолжала пользоваться материалами прежних поземельно-податных работ и сельскохозяйственной переписи 1917 года. Во-вторых, политически и идеологически ангажированная, советская статистика использовалась как инструмент для конструирования образа общества, разделенного на антагонистические классы524. При этом происходили манипуляции одними показателями и игнорирование других — отсюда, видимо, и расхождение между цифрами 1927 и 1929 годов.
Нельзя сказать, что классовый подход вовсе не имеет под собой никаких оснований и является исключительно идеологической схемой. Однако возможны и альтернативные объяснения того, как возникало социальное расслоение. Автор работы «Бюджеты 45 хозяйств Ферганской области», написанной в начале 1920-х годов (на материалах 1915 года), предлагал такой взгляд: «В экономике сартовского хозяйства <…> все время происходит два процесса — развития и распадения, или упадка, хозяйства <…>. Из краткого описания истории каждого хозяйства устанавливается следующая общая картина хозяйственного развития: хозяйство с сильным трудовым ядром, но без средств производства, то есть без земли и инвентаря, обычно начинает с малого — отдельные члены семьи — работники мардикерствуют, затем снимают землю в аренду, далее покупают землю, танап за танапом <…>. Когда размеры землевладения перевалят за трудовую норму и когда свои члены семьи не в состоянии обработать своей земли, последняя сдается чайрикерам. Такую эволюцию проходят хозяйства по пути их расширения»525. Дифференциация хозяйств по мощности и типу организации рассматривалась, таким образом, как результат не столько принадлежности к тому или иному классу, сколько различий в размерах и составе семей, то есть как результат достижения конкретной семьей определенной фазы демографического развития526. В последней модели есть своя доля истины. Пожилые ошобинцы говорили мне, например, что в прошлом нередко отец давал своим сыновьям землю в издольную аренду. Из этого следует, что отношения, которые описывались советской статистикой как классовые и антагонистические, в действительности имели характер внутрисемейного распределения власти, прав и обязанностей.
Впрочем, в условиях малоземелья, рискованного, не всегда дающего хорошие урожаи земледелия, когда земля стоила немного и на ней нельзя было выращивать приносящие высокую прибыль хлопок или рис, а также в условиях бурных политических катаклизмов экономические стратегии людей имели гораздо больше вариантов, нежели только увеличение земельного надела. Очень многие, особенно вдовы и разведенные женщины, вынуждены были продавать свою земельную собственность и другое имущество, иногда за небольшие суммы527. Многие, как я уже говорил, занимались скотоводством или выживали благодаря изготовлению ковровых изделий.
Одной из основных стратегий выживания в 1920-е годы, даже после окончания военных действий, была миграция. Значительная масса ошобинцев, как свидетельствовали воспоминания, уезжали из кишлака в Ташкент, в Коканд, в другие города и занимались там разными ремеслами (в частности, хлебопечением), работали поденщиками или становились рабочими, служили в милиции, искали любую работу, которая помогала содержать семью. Отрывочные данные о такой миграции есть в архивах: в отчете о работе сельского совета за 1929 год говорилось, что населению Ошобы было запрещено пользоваться горными (текст здесь, к сожалению, не очень разборчив) участками — общим размером до 500 десятин (?!), в результате чего многие хозяйства переехали в Ташкентский округ528. Тем не менее при первой возможности ошобинцы возвращались обратно, чтобы вновь заняться сельским хозяйством.
Сталинские колхозы
Колхозная экономика
Я пропускаю историю с коллективизацией, так как говорил об этом в предыдущем очерке529. На 1 января 1935 года в Ошобе был один колхоз, в котором было 48 домохозяйств и 218 человек, единоличников — соответственно 618 и 3714; к июню того же года число колхозных домохозяйств и их членов уменьшилось до 40 и 183, число единоличников также уменьшилось — соответственно до 585 и 3632. Около 40 домохозяйств (более 100 человек), видимо, выехали из Ошобы. В единственном колхозе было 19 рабочих жеребцов, 23 овцы, 78 коз, пять ослов530. В 1936 году в Ошобе было три колхоза и в них 125 хозяйств и 676 человек, единоличников оставалось 538 домохозяйств и 3337 человек плюс четыре человека — рабочие и служащие531. По другим данным, уже в 1935 году в сельсовете Ошоба было четыре колхоза, 464 колхозных и 135 других дворов, в 1936 году — четыре колхоза, 528 колхозных и 90 прочих хозяйств532.
Несмотря на противоречивые данные, ясно, что в отличие от многих других регионов, где коллективизация в основном завершилась к середине 1930-х годов, в Ошобе колхозы окончательно утвердились только к концу 1930-х, а в 1933–1935 годах они существовали скорее на бумаге, чем в реальности. Такое запаздывание объясняется, видимо, удаленностью кишлака, его печальной басмаческой славой и, что, пожалуй, самое главное, скудностью ресурсов, которые могли представлять интерес для государства. Все внимание чиновников было сосредоточено на хлопке, и Ошоба, где выращивались лишь зерновые (да и те в весьма скромных объемах), не представляла для них большого интереса.
Колхозы создавались прежде всего как более эффективный, нежели контрактация, инструмент для контроля за урожаем и другими ресурсами. По рассказам ошобинцев, всю собранную в колхозах сельсовета пшеницу складывали в общий амбар, после этого председатель сельсовета, который получал из районного центра план ее сдачи, определял каждому колхозу, сколько пшеницы тот должен сдать государству; положенную норму на арбах отвозили в селение Булак, где находился приемный пункт. Оставшуюся пшеницу делили: часть оставляли на семена, остальное распределяли согласно начисленным трудодням.
Что касается фруктовых садов, то нередко колхоз оставлял колхозникам ту часть их прежней земли, которая должна была быть отрезана в фонд колхоза как излишек. На этот излишек заключали с колхозником договор, по которому владелец должен был поставить с него в колхоз определенный набор продукции. Все, что превышало план сдачи, оставалось колхознику, и при большом урожае такие остатки бывали очень большими. Если же колхозник не выполнял договор сдачи, то в счет этого долга колхоз мог списать с колхозника его трудодни, заработанные уже в колхозе. То же самое было со скотом: за колхозником оставалось определенное количество голов, но при этом он был обязан сдавать оговоренное число приплода. Какой должна быть эта норма-план для каждого конкретного двора, решал бригадир или сам председатель колхоза, то есть при определении этого плана могли учитываться отношения колхозника с бригадиром или председателем — так мне всегда говорили, когда объясняли суть сделки. Часть полученных от колхозников фруктов и скота колхозы сдавали государству, а оставшееся продавали на рынках и раздавали на трудодни в счет оплаты. За всю сданную государству продукцию колхозы получали от него деньги, которые затем частично тратились на закупку каких-то необходимых вещей, частично раздавались колхозникам на трудодни.
Система управления колхозом в этот исторический период была довольно компактной: в нее входили председатель (раис), его заместитель (муавин), ревизор, бухгалтер, главный табельщик, амбарщик-завхоз, а также бригадиры, табельщики и заведующие фермами. Раис решал самые общие вопросы и давал указания нижестоящим работникам. Заместитель подменял его в случае необходимости, а кроме того, отвечал за какое-нибудь одно важное направление работы. Бухгалтер вел все финансовые дела, главный табельщик следил за трудоднями, завхоз — за учетом продукции и колхозного имущества. Обязанностью колхозного ревизора, который формально избирался на общем собрании, было определить, какой примерно урожай будет в текущем году на том или ином участке, и подтвердить те итоги деятельности колхоза, которые объявлялись колхозным начальством.
Важная функция колхозного руководства — предоставление ежегодных отчетов, в которых надо было описать по стандартной классификации все основные результаты работы колхоза. На первый взгляд такое «открытие» себя вышестоящему руководству было одним из наиболее ответственных моментов, поскольку правильная отчетность служила гарантией от тех или иных обвинений и демонстрировала достигнутые успехи. Правда, надо сказать, что многочисленные отчеты, которые я просмотрел в архивах, заполнены очень формально, часто даже небрежно. По-видимому, это логическое следствие избыточной бюрократизации — количество бумаг и цифр, призванных дать исчерпывающую информацию о колхозе, стало таким большим, что их невозможно было контролировать, а значит, и заполнение бумаг превращалось в формальную рутину.
Хочу еще обратить внимание на то, что классификационные рубрики с годами претерпевали изменения и новые часто не соответствовали прежним, наконец, информация колхозных отчетов нередко не совпадает с информацией других служб и ведомств. Это, с одной стороны, затрудняет работу со статистикой, а с другой — доказывает, что статистика не преследовала своей целью отражение реальности, а была предметом определенной политики в данный момент и в данном месте. Тем не менее я не недооценивал бы рутинную процедуру статистической отчетности — последняя приобрела тотальный масштаб и представляла собой новую практику власти, вырабатывавшую единообразный язык объяснения экономических задач, достижений и ошибок.
Источники: Годовой отчет колхоза «Буденный» за 1939 год // ГАСО РТ, ф. 51, оп. 2, д. 17. [Б.л.]; Годовой отчет колхоза «Буденный» за 1950 год // ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 2, д. 45. Л. 2 об., 6 об.; Годовой отчет колхоза «НКВД» за 1939 год // ГАСО РТ, ф. 51, оп. 2, д. 17. [Б.л.]; Годовой отчет колхоза «НКВД» за 1950 год // ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 2, д. 29. Л. 2 об., 6 об.; Годовой отчет колхоза «Социализм» за 1939 год // ГАСО РТ, ф. 51, оп. 129, д. 15. [Б.л.]; Годовой отчет колхоза «Социализм» за 1950 год // ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 2, д. 32. Л. 2 об., 6 об.; Годовой отчет колхоза «22-я годовщина» за 1939 год // ГАСО РТ, ф. 51, оп. 2, д. 15. [Б.л.]; Годовой отчет колхоза «22-я годовщина» за 1950 год // ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 2, д. 67. Л. 2 об., 6 об.
1 Зерновые-бобовые (поливная/богарная).
Таблица 6
Данные о земельных угодьях в колхозах «Буденный», «НКВД», «Социализм», «22-я годовщина» в 1949 году, га
Источник: ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 1, д. 17. Л. 34–37.
Рассматривая колхозные отчеты (табл. 5 и 6), можно сделать несколько наблюдений в отношении экономики ошобинского общества в 1930—1940-е годы (не забывая, конечно, что статистика отражала далеко не все виды хозяйственной деятельности)533.
Во-первых, официально учитываемые площади посевов вокруг самой Ошобы примерно соответствовали данным 1899 года, правда, колеблясь из года в год — очевидно, по причине изменения природных условий, от которых горное земледелие сильно зависело. Обращает на себя внимание заметное увеличение усадебной площади, что было связано с ростом населения кишлака. Как видно из отчетов, колхозы засевали около 200 га богарной земли, хотя урожаи с нее были нерегулярными и небольшими. Что же касается земель около источников и искусственных колодцев, расположенных в более труднодоступных районах, то, возможно, какая-то их часть по-прежнему не указывалась в отчетах и продолжала обрабатываться силами отдельных семей, а какая-то вовсе забрасывалась из-за необходимости работы на колхозных полях или же из-за опасения конфискаций со стороны государства. Такими заброшенными оказались, например, земли вокруг родника Тахтапез, которые фигурировали в отчетах имперского времени.
К сказанному добавлю, что общее количество земли у Ошобы тем не менее выросло — благодаря проведению в 1939–1940 годах Северного Ферганского канала и передаче на баланс одного из ошобинских колхозов, «22-я годовщина», около 200 га в бывшей степной части Аштского района.
Во-вторых, на протяжении 1930—1940-х годов основными посевными культурами оставались пшеница, ячмень и просо. К 1950 году значительно выросла доля хлопка — до 200 га, из которых больше половины приходилось на колхоз «22-я годовщина».
В-третьих, из колхозных отчетов мы видим, что по сравнению с 1929 годом животноводство как отрасль местной экономики оставалось длительное время за рамками колхозного контроля. Лишь к самому концу 1940-х годов произошел рост в разы численности крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей (только верблюдоводство, наоборот, исчезло), причем самым впечатляющим выглядит рост поголовья коз — примерно с 500 до 10–11 тыс. голов. По-видимому, на самом деле имело место не увеличение поголовья, а легализация уже существующего, в чем сыграл свою роль конфликт 1947 года534.
В-четвертых, интересны данные об урожае, поставках и бюджете колхозов за 1939 год (правда, не могу сказать точно, был ли этот год типичным). Судя по ним, основное распределение урожая зерновых было следующим: около 30–40 % оставляли на семена и фураж, примерно 25–30 % сдавали государству, 10–20 % распределяли на трудодни. Около 40 % урожая технических культур продавали на колхозном рынке (видимо, масличные культуры лен и сафлор), чуть меньше 30 % сдавали государству, в том числе по госзаготовкам (видимо, хлопок), остальное оставляли на семена. Колхозы также продавали на колхозном рынке картофель и овощи. Наибольший же доход (более 50 %), согласно смете, приносили колхозам садовые культуры.
Если суммировать сказанное, то выходит, что первоначально основной задачей колхозов было установление государственного контроля над производством и поставками зерна. Именно этот вопрос находился на первом месте в отчетах, и именно с ним были связаны все основные переговоры колхозного руководства с вышестоящими инстанциями — о посевной площади, о планах заготовок, о видах культур, о цене и так далее. Государственный контроль принимал здесь форму политического, пропагандистского, а порой и насильственного давления. Другие отрасли местной экономики — животноводство, садоводство и овощеводство, домашние промыслы — представляли меньший интерес, поэтому контролировались слабее либо даже вовсе не контролировались, что позволяло жителям Ошобы переключить на них свои экономические стратегии.
Однако эта ситуация не оставалась неизменной. Государство с целью изъятия дополнительных ресурсов стремилось к более жесткому учету всего, что производится в колхозной экономике и в личном хозяйстве. Одна из докладных записок — 1944 года — перечисляет те сферы, где власть видела возможность для колхозников спрятать часть прибыли: отпуск продукции и скота различным организациям и частным лицам по заниженным ценам, сдача общественного скота и подсобных предприятий в аренду колхозникам и частным лицам, посев тех или иных культур на колхозных землях различными организациями и частными лицами, превышение норм приусадебных наделов, практика перемещения колхозников на другие работы, неудовлетворительная постановка учета535. Этот набор претензий говорит о том, что вышестоящие власти были обеспокоены не хищениями колхозного начальства, не присвоением им каких-то ресурсов в свою пользу, а передачей колхозной земли, продукции и скота в пользование «организаций», «частных лиц» и колхозников, то есть, по сути, сохранением прежних отношений под вывеской колхоза.
Еще более важным изменением на протяжении 1930—1940-х годов было желание государства переориентировать местное зерновое производство на хлопковое. И хотя у Ошобы не было земель с достаточным количеством воды и климатическим режимом, пригодным для хлопководства, эти попытки продолжались, и местные колхозы вынуждены были искать какие-то варианты, позволявшие в крайне неблагоприятных условиях осваивать и поддерживать хлопковую отрасль.
Экономика колхозников
Колхоз (вместе с сельским советом) служил инструментом контроля не только материальных ресурсов, но и людских. Членство в нем налагало на жителей кишлака целый набор обязательств и ограничений: они должны были отрабатывать на колхозных полях какую-то часть времени и выплачивать государству денежные и натуральные налоги со своего приусадебного участка — само владение участком теперь увязывалось с обязанностью выполнять колхозные работы, колхозники не могли уехать из селения без разрешения местной власти, они получали своеобразную прописку в кишлаке, благодаря которой имели доступ к разного рода институтам (школа, медицинский пункт и так далее).
В 1930—1940-е годы продолжался рост населения Ошобы, который был прерван войной 1941–1945 годов, когда численность ошобинцев за счет погибших на фронте, смертности и миграции сократилась на 20–25 % (табл. 7). Это привело к уменьшению числа трудоспособных работников. Тем не менее колхозные отчеты говорят о почти двойном увеличении количества начисляемых трудодней с 1939 по 1950 год (табл. 8).
Посмотрим теперь на то, что представляли собой эти трудодни536. О многом говорят трудовые книжки, где указано, сколько каждый член колхоза получил трудодней и за какую работу, а также лицевые счета, в которых говорится о том, какая в итоге оплата была получена колхозником за свои трудодни.
Взять, к примеру, данные за 1945 год по колхозу «Буденный»537. Начнем с председателя колхоза Бободжана Юлдашева. Согласно трудовой книжке № 1, он получал 1,75 трудодня в день независимо от сезона, в ноябре ему дополнительно записано 0,1, в декабре — 0,2 трудодня, всего вышло 639,05 трудодня. Однако согласно лицевому счету № 1, Юлдашев получил 621,5 трудодня, в материальном выражении оплата, выданная по итогам года в сентябре и ноябре, включала 442,5 кг пшеницы (буғдой), 647 кг кукурузы (макка), 185 кг сухофруктов (мева) и 227 кг джугары (жўхори). Заместитель председателя Тоштемир Нурматов получал в день 1,5 трудодня, плюс в сентябре ему было начислено 12 трудодней «от Курбанбая», всего, таким образом, получилось 549,5 трудодня. Согласно же лицевому счету (№ 2), Нурматову было насчитано 559 трудодней — 389 кг пшеницы, 567 кг кукурузы, 159 кг сухофруктов, 203 кг джугары и еще 230 кг овощей («огород»)538. Ежедневная оплата за весь год начислялась также заведующему фермой и бухгалтеру — по 1 трудодню в день, старшему табельщику — по 0,75—1 трудодню, уличному охраннику, амбарщику — по 0,75 трудодня, простой охранник и почтальон получали по 0,5 трудодня в день.
Таблица 7
Численность населения сельсовета Ошоба в 1939, 1941, 1949 и 1950 годах
Источники: ГАСО РТ, ф. 377, оп. 5, д. 3. Л. 53; ГАСО РТ, ф. 377, оп. 5, д. 7. Л. 97, 97 об.; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 26. [Б.л.].
1 По другим данным — 671 двор колхозников (11 отсутствуют) и 23 двора рабочих и служащих (ФГАСО РТ, ф. 9, оп. 1, д. 25. [Б.л.]).
2 По другим данным — 4719 (ГАСО РТ, ф. 377, оп. 5, д. 2. Л. 3).
Таблица 8
Колхозы «Буденный», «НКВД», «Социализм», «22-я годовщина» в 1939 и 1950 годах
Источники: Годовой отчет колхоза «Буденный» за 1939 год // ГАСО РТ, ф. 51, оп. 2, д. 17. [Б.л.]; Годовой отчет колхоза «Буденный» за 1950 год // ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 2, д. 45. Л. 1–2; Годовой отчет колхоза «НКВД» за 1939 год // ГАСО РТ, ф. 51, оп. 2, д. 17. [Б.л.]; Годовой отчет колхоза «НКВД» за 1950 год // ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 2, д. 29. Л. 1–2; Годовой отчет колхоза «Социализм» за 1939 год // ГАСО РТ, ф. 51, оп. 2, д. 15. [Б.л.]; Годовой отчет колхоза «Социализм» за 1950 год // ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 2, д. 129. Л. 1–2; Годовой отчет колхоза «22-я годовщина» за 1939 год // ГАСО РТ, ф. 51, оп. 2, д. 15. [Б.л.]; Годовой отчет колхоза «22-я годовщина» за 1950 год // ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 2, д. 67. Л. 1–2.
1 В документе далее говорится, что в 1939 году в колхоз вступило еще 4 двора, но не уточняется, включены они в статистику или нет. Также сказано, что 26 дворов подлежат сселению (или сселены) в поселок.
2 В1939 году вступило еще 2 двора.
3 Данных за 1939 год нет.
4 Встолбце за 1939 год по колхозу «НКВД» указаны данные за 1940 год, когда в нем было 277 дворов, 1638 человек, 480 трудоспособных (Годовой отчет колхоза «Буденный» за 1940 год // ГАСО РТ, ф. 51, оп. 2, д. 35. [Б.л.]).
Бригадир самой большой бригады Джурабай Султанов получал от 0,75 до 1 трудодня в день, что за год составило в материальном выражении 247 кг пшеницы, 358 кг кукурузы, 247 кг сухофруктов, 126 кг джугары и 147 кг овощей, то есть примерно половину того, что заработал Нурматов. Бригадиры и табельщики других бригад получали по 0,75 трудодня, некоторые табельщики — по 0,5 (исключением была табельщица первой бригады Баргинисо Умурзакова, сестра Нурматовых, которая получала за каждый рабочий день по 1 трудодню).
Сравним теперь эти данные с данными рядовых колхозников. Среди передовиков был Пирназар Рахимов, который за год наработал в колхозе 276 календарных дней. Впрочем, эта цифра — 276 — отчетная, так как записи велись декадами, то есть реальных рабочих дней было меньше. За труд в поле, на огороде и на «разных работах» он заработал 163,5 трудодня плюс получил по итогам года надбавку в размере 35,35 трудодня — всего 198,85 трудодня. Согласно лицевому счету, ему начислили 199 трудодней, что составило 172,5 кг пшеницы, 88 кг джугары, 252 кг кукурузы, 95 кг овощей и 172,5 кг сухофруктов. Колхозница Туйгул Бойбобоева трудилась в основном на поле, где сажают пшеницу и ячмень, немного — на поле бобовых, а также выполняла какие-то работы под рубрикой «разные», всего она была на трудовой вахте 193 календарных дня и заработала 61 трудодень. Согласно лицевому счету, Бойбобоева получила 63,25 трудодня, в материальном выражении это означало 42 кг пшеницы, 22 кг джугары, 57 кг кукурузы, 42 кг сухофруктов, 26 кг овощей. Наконец, один из отстающих колхозников, Маматкул Рузикулов, числился на работе 40 календарных дней и получил 8,5 трудодня и 17,25 трудодня надбавки — всего 26,75 трудодня (в лицевом счете — 25,75), или 9 кг пшеницы, 27 кг кукурузы, 9 кг сухофруктов.
Все эти цифры говорят о следующем. Рядовые колхозники работали в колхозе лишь эпизодически: некоторые из них, по сути, только формально числились в нем и, видимо, бóльшую часть времени проводили у себя на участке, в горах со скотом или занимаясь какими-то частными ремеслами, даже передовые колхозники трудились в общественном производстве, как правило, не более полугода — в основном в пики сельскохозяйственных работ. Отдавать все свое время и все силы колхозу было крайне невыгодно — слишком низкий доход приносила эта работа простому члену колхоза. Руководители же, напротив, были привязаны к повседневным нуждам колхоза, хотя оплата их труда была фиксированной и не могла сильно меняться в ту или другую сторону. Существовала, однако, выраженная разница в заработках между колхозной элитой и рядовыми колхозниками. Передовой колхозник, который трудился в поле значительную часть года, все равно получал вдвое меньше бригадира, бригадир же, в свою очередь, получал почти вдвое меньше председателя. Тем не менее, хотя колхозное начальство находилось в лучшем положении, его официальные заработки нельзя было назвать сверхвысокими — по-видимому, оно пользовалось какими-то другими источниками для получения личных доходов. Колхозные же доходы большинства рядовых колхозников не могли покрыть их повседневных потребностей — даже передовик обеспечивал себе и своей семье муки’ не более чем на полгода скромного пропитания.
Туйгул Бойбобоева, с которой я имел возможность поговорить лично, вспоминала, что в колхозе платили мало и она старалась под любым предлогом и используя все свои связи увильнуть от работы. Ее доходы складывались в большей мере из других источников: выращивание тутовника и изготовление из его плодов блюда толқон, разведение коз, а также изготовление ковров и паласов (шолча-гилам) — все это пользовалось спросом на ферганских базарах. В 1930—1940-е годы кто-нибудь из семьи числился в колхозе (домашнее хозяйство считалось в этом случае колхозным), а остальные зарабатывали другими способами539.
Индивидуальные и семейные экономические стратегии в этот период не слишком отличались от тех, что были десятилетием раньше. Работая рядом с кишлаком на знакомых им землях, крестьяне могли даже не вполне ощущать произошедшие после коллективизации перемены — их повседневный и посезонный график труда не изменился, они продолжали обрабатывать те же участки, которыми прежде владели или на которых трудились в качестве арендаторов-издольщиков. Между председателем сельского совета, председателем колхоза, бригадирами, с одной стороны, и прежними сельским старостой, пятидесятниками, с другой, была не очень существенная разница, хотя, конечно, функции и полномочия первых оказались шире. В любом случае многие вопросы решались неформально, местная власть использовала прежние символы и риторику, внутренняя жизнь определялась во многом сетями родственных, соседских, дружеских связей, а на бумаге результаты представлялись такими, каких требовало от колхоза государство.
В отчетах 1950 года мы видим, что колхозники стали больше трудиться в поле и зарабатывать больше трудодней, хотя колхоз по-прежнему был не в состоянии обеспечить их постоянной работой и приличным заработком. Персональные дела фиксируют сложную систему расчетов, которые показывают принудительный характер этого труда540.
Согласно учету трудодней в колхозе «Буденный», бригадир Джурабай Султанов получал трудодни как за должность (причем каждый месяц ставка менялась), так и за те или иные виды работ — в поле и «прочие» (куда входили работы по строительству каналов, освоению новых земель, а также работы в саду). Всего, согласно теперь уже расчетам зарплаты, Султанов получил 477 трудодней, с него сняли 125 трудодней за «плохую» работу, и у него осталось 352 трудодня. Бригадир получил в 1950 году 313,8 кг зерна, 25,48 кг джугары, 11,32 кг сухофруктов, 50 кг чечевицы (ясмиқ) и 862,60 руб.541, бóльшую часть которых ему оплатили опять же маслом, сухофруктами, картошкой. Однако этот материальный доход не был простым наполнением упомянутых трудодней, а отражал сложный расчет прежних и будущих долгов: джугара, сухофрукты и около 20 кг зерна были получены в счет прошлого года, при этом колхоз остался должен Султанову почти 188 кг зерна и 1018 руб. в долг этого и прошлого года.
Звеньевой Ашурали Рузматов заработал 175 трудодней, 28 трудодней с него сняли за «плохую» работу и 5 трудодней добавили за «хорошую», всего получилось 152 трудодня. На руки Рузматов получил 158,1 кг зерна, из них около 40 кг — в счет прошлого года (колхоз остался должен ему еще 61,9 кг), 1,05 кг джугары, 13,34 кг сухофруктов, 40 кг чечевицы, 717,14 руб. натурой и деньгами (около 30 руб. добавили из долга прошлого года, и еще остался долг 329,16 руб.). Колхозница Дона Рузматова, по-видимому жена Ашурали, получила 150 трудодней (почти треть — на хлопке), из них вычли 8 и добавили 11 трудодней, зарплата состояла из 104,6 кг пшеницы (колхоз выплатил не всю долю и остался должен 22,6 кг) и 375,3 руб. — опять же колхоз задолжал еще 371,45 руб.
Из этих данных мы видим, что, несмотря на увеличение количества трудодней, заработки колхозников в материальном выражении сильно не изменились, при этом значительная часть работ производилась в долг, который перекладывался на следующие годы. Колхозники в счет своей будущей годовой зарплаты могли выписывать себе из колхозной кассы в течение всего года деньги или продукты со склада (в 1940-е годы деньги давали редко), а потом по итогам года подводился баланс — что должен колхоз колхознику и что должен колхозник колхозу (иногда образовывался долг в пользу той или иной стороны, который переносился на будущий год). Нередко колхозники возвращали долг из своих подручных средств, например войлочными коврами (кигиз) и другими вещами, которые колхоз, видимо, продавал на базаре или опять выдавал колхозникам в качестве оплаты по трудодням.
По-видимому, увеличение занятости в колхозном производстве было связано с освоением новых сельскохозяйственных площадей. В конце 1940-х годов колхозы «Буденный» и «НКВД» стали активно осваивать земли в степной местности Епугли — раньше там был колодец с водой и рос тростник (тўқай), который можно было использовать как корм скоту, там же постоянно жили некоторые ошобинские семьи, а в 1930-е годы и во время войны — перекочевавшие из Казахстана со своим скотом казахи. Кроме того, в самом конце 1940-х годов «Буденный» и «НКВД» начали осваивать и земли в степной местности Нижний Оппон, где тоже когда-то находился колодец и куда теперь стала доходить вода из СФК. Сажали там в первую очередь хлопок — иногда, поскольку воды в колодцах и из канала было мало, прямо на богарных землях. Ошобинцам приходилось также ездить в колхоз «22-я годовщина» и помогать бывшим соседям убирать их хлопковые поля — такая помощь принимала форму хашара, то есть бесплатных работ.
Переход на хлопковое производство серьезно менял не только экономику, но и социальное устройство Ошобы. Хлопок, как пишет немецкий историк Йорг Баберовски об Азербайджане, «разрушал внутреннюю структуру и традиционные взаимоотношения в крестьянском обществе», «менял условия жизни и трудовой ритм», «подрывал традиционные способы добывания средств к существованию»542. Обработка земли и уход за хлопком требовали привлечения значительного числа рабочих рук и интенсивного труда в короткие промежутки времени. При этом весь хлопок сдавался государству, его нельзя было оставить на складе и раздавать в счет трудодней, как пшеницу, оплата труда на хлопке полностью зависела от расценок и механизмов денежного расчета, которые устанавливало на него государство. Колхозникам было невыгодно работать в колхозе на таких условиях, но хлопок был культурой, освоения которой требовало государство, поэтому трудовая мобилизация приобрела почти исключительно принудительный характер. Колхозное руководство использовало все возможные рычаги власти — насилие, пропаганду, стимулирование. Колхозников из Ошобы привозили на хлопковые поля в сорокаградусную жару, они работали и ночевали в поле безо всяких удобств — еды и воды было мало. Х.Х. вспоминал, что колхозники иногда добавляли в еду наркотик анашу, что позволяло взбодриться и даже петь песни во время работы. Тот же информатор рассказывал мне, как председатель колхоза вместе с заведующим участком в Оппоне ходили по домам и заставляли колхозников ехать на хлопок, требуя объяснительную в случае отказа и угрожая обвинить отлынивающих в выступлении против государственной политики. Как жаловался Х.Х., однажды раис даже порвал ему новые штаны, силой принуждая выйти в поле.
Идеальный колхоз
Колхоз задумывался не только как инструмент аккумуляции и перераспределения материальных и людских ресурсов. Это был еще и идеологический проект, механизм трансформации социальных отношений и личности. Колхоз виделся как новый тип сообщества, новый тип рационального (и научного) устройства, в котором социальная жизнь находится в полной гармонии с экономической. Это сообщество можно чинить и настраивать на выполнение нужных функций, его можно бесконечно совершенствовать и улучшать, результаты его деятельности можно предсказывать и планировать.
Такой «идеальный колхоз» мы находим в датированном 1940 годом проекте орошения Аштского района543:
Орошение части Аштской степи, новая организация территории ее, освоение новых земель, переселенческие мероприятия, организация новых культурных хозжилцентров и колхозов, ведение севооборотов, улучшение агротехники, увеличение объема тракторных работ и организация МТС, улучшение организации труда и увеличение урожайности всех с/х культур <…> должны безусловно изменить облик осваиваемых земель и сделать жизнь колхозников культурной и зажиточной.
По изложенному проекту было предусмотрено создание девяти новых колхозов с предполагаемой площадью от 200 до 400 га. В основе проектирования земельной площади колхоза были: а) выделение прямоугольной компактной земельной площади в одном массиве, б) полная увязка границ с проектной оросительной и дренажной сетью, в) наличие у каждого колхоза своего самостоятельного водоотвода. Таким образом, каждый новый колхоз должен был представлять собой, по замыслу, единую экономическую территорию со своими границами и самодостаточной оросительной системой. Такими же самодостаточными должны были быть бригады:
Каждый бригадный участок располагается компактно в одном месте и представляет из себя единый земельный массив с самостоятельным одним или двумя оросителями. Участки разных бригад <…> должны быть расположены примерно на одинаковом расстоянии от хозжилцентра колхоза.
В шести колхозах хозжилцентры (хозяйственно-жилые центры) строятся заново — в середине земельного массива, в трех колхозах — переустраиваются с использованием старых селений Джар-булак и Кырк-кудук. В проекте было точно запланировано, сколько в каждом колхозе будет дворов (от 57 до 109), человек (от 422 до 607), трудоспособных колхозников (от 109 до 380), предусматривалась земельная нагрузка на каждый колхозный двор (в среднем от 2 до 4 га) и на каждого трудоспособного (от 1 до 1,5 га земли, в том числе по хлопку — около 0,8–0,9 га). Было запланировано выделить землю — 0,15 га на приусадебный участок и 0,001 га под строение. Проектировщики рассчитали, что в июне — июле и сентябре — ноябре на хлопке нагрузка должна составлять 1,16 человека на 1 га (при обычно необходимых 0,73), были также высчитаны количество и виды скота в колхозном и личном секторе, нормы шелководства и прочие параметры.
По плану до 1944 года предполагалось переселить в новые колхозы из Ошобы 122 хозяйства: 27 — из «Буденного», 20 — из «НКВД», 18 — из «Социализма», 57 — из «22-й годовщины». Из членов колхозов «Буденный», «НКВД», «Социализм», а также колхоза «Кзыл-чорва» Кырк-кудукского сельсовета планировалось образовать колхоз № 6, из колхозников «22-й годовщины» — колхоз № 3. Предполагалось переселить в первую очередь те хозяйства, чьи земельные участки страдают от селей.
Вот как, в частности, описывали проектировщики колхоз № 3, который должен был целиком комплектоваться переселением на новые земли колхоза «22-я годовщина» (прежний «Литвинов») Ошобинского сельсовета. Новый колхоз должен был включать 209,32 га валовой площади, 46,29 га негодной земли, 57 хозяйств, 422 человека, 159 трудоспособных. Это должно было составить 3,15 га нагрузки на двор, 1,18 га на одного трудоспособного колхозника (в том числе 0,87 га — хлопок). 185,10 га поливной площади должны были распределиться между личными приусадебными участками, хозжилцентром, хлопковыми посевами (141,88 га), посевами риса (22,82 га). В колхозе № 3 должно было быть три бригады (46, 47 и 48 га земли). Предполагался девятипольный хлопково-люцерновый севооборот, поэтому число бригад должно было быть кратно трем. Из-за большой засоленности земли предлагалась менее напряженная схема севооборота по хлопку (четыре поля хлопка — три поля люцерны — одно поле прочих культур: 50 % — 37,5 % — 12,5 %). В каждой бригаде должно было быть три — шесть звеньев (тоже кратно трем) по 8—10 человек:
…во всех вновь организуемых колхозах с введением севооборота будут существовать постоянные полеводческие бригады с постоянным составом трудоспособных. Это несомненно укрепит трудовую дисциплину <…> создаст нормальную равномерную трудовую нагрузку, повысит ответственность <…> за выполнение норм выработки, а стало быть, создаст стимул к повышению урожайности <…> культур, увеличению доходности колхозов и улучшению зажиточной и культурной жизни.
Рациональное (научное) устройство экономики, технические и агрономические улучшения, высокая производительность труда, выполнение планов, полная подконтрольность всех процессов — вот основные элементы проекта «идеального колхоза». Проектировщики, конечно, не забыли социальную и культурную сферы. В каждом хозжилцентре, по их замыслу, должны были быть ясли, детский сад, школа, клуб, парк, правление колхоза, чайхана, баня и сельсовет. Этот набор, полностью исключающий религиозные институты и заменяющий их светскими, современными (и я бы добавил, «европейскими») формами проведения досуга, отражал представления власти о том, как должна была выглядеть бытовая и повседневная жизнь местного населения. Тщательно разработанный и подготовленный к воплощению план создания новых колхозов вырабатывал новую перспективу взгляда не только на экономику, но и на общество, на людей, подразумевал изменение не только технологии производства, но и всех циклов и ритмов повседневной жизни, пространственного размещения и передвижения.
Однако в реальность эти планы воплотились только частично. Все ли девять колхозов удалось организовать, я точно не знаю. Переселить ошобинцев в колхоз № 6, судя по всему, не удалось. Появился, как и планировалось, колхоз № 3, который получил название «22-я годовщина», уже упоминавшееся выше, туда первоначально переселились главным образом жители выселка Аксинджат. Однако у государства — к тому же в условиях Отечественной войны и послевоенного восстановления — не было достаточно ресурсов, чтобы воплотить все задуманные планы в действительность. В результате новое селение — Янги-кишлак (янги-қишлоқ, буквально «новое поселение») — строилось самими его жителями, нередко в нарушение линейных и симметричных форм, которые предполагались по проекту. Приусадебные участки распределялись в зависимости от множества личных, неформальных договоренностей. Клуб, парк и баня так и остались на бумаге. Севообороты строго не соблюдались, а хлопковая нагрузка на членов нового колхоза оказалась такой высокой, что власть вынуждена была летом и осенью отправлять им на помощь жителей других кишлаков, в том числе и Ошобы. Идеологический проект создания «идеального колхоза» так и остался незавершенным.
Колхоз эпохи развитого социализма
Укрупнение
В конце жизни Сталина и сразу после его смерти государство инициировало серьезную перестройку всей колхозной организации. С тотального контроля за произведенной продукцией и ее перераспределением государственный интерес стал все больше перемещаться в сторону расширения объемов производства наиболее важных с точки зрения Москвы сельскохозяйственных культур — прежде всего, конечно, хлопка, когда речь шла о Средней Азии. С 1950-х годов в регионе происходила, как и во многих странах незападного мира, «зеленая революция», то есть быстрая механизация аграрной сферы, улучшение агрономических технологий, внедрение новых сортов растений и пород животных, массовое использование удобрений и изменение кормовой базы и так далее. Такая политика требовала значительного увеличения государственных инвестиций в местную экономику и контроля за финансовыми ресурсами, вокруг чего теперь стали разворачиваться все отношения власти.
Одной из важных реформ было принятое наверху в 1950 году решение об укрупнении колхозов. 16 января 1951 года на общих собраниях колхозов «Буденный», «НКВД» и «Социализм» произошло их объединение в один колхоз им. Калинина (далее — «Калинин»), колхоз «22-я годовщина» в него не вошел. На территории нового колхоза оказались селение Ошоба и выселки Гарвон, Епугли, Оппон, Шевар, всего в нем было около пяти с половиной сотен дворов, более двух с половиной тысяч человек, а также примерно 550 га орошаемых площадей (табл. 9).
Становление нового колхоза сопровождалось неоднократной сменой его председателей. Первым раисом, как утверждали некоторые мои собеседники, был совсем недолгое время Мамаджан Маллаев, до этого работавший председателем колхоза «Социализм». Однако очень скоро его сменил житель Гудаса, один из немногих местных коммунистов, Ибрагим Аюбов — это назначение, возможно, было продиктовано желанием вышестоящей таджикской власти поставить в узбекском кишлаке таджикского чиновника. Но и он продержался недолго: Аюбова сняли, по воспоминаниям, за то, что он однажды отправил людей на единственной в колхозе машине-полуторке на ремонт канала, а когда работа закончилась, то отвез на ошобинской машине обратно сначала гудасцев, а ошобинцев — во вторую очередь; тогда «старики» из Ошобы, как выразился мой рассказчик, якобы спросили: «Машина чья? Твоя или ошобинская?» — и настояли, чтобы Аюбова сняли. Впрочем, скорее всего, вышестоящие чиновники по-своему объясняли тогда смену раиса.
После Аюбова стать председателем колхоза уговорили учителя Тоштемира Комилова, который имел опыт работы заведующим районо, директором школы и был, как и Аюбов, членом ВКП(б)/КПСС. Примерно в это же время в колхозе появилась другая важная должность — парторг (партийный организатор), который был первым заместителем раиса, на нее был назначен другой учитель — Тусмат Рузматов. Но и в этот раз новые руководители быстро потеряли свои должности, не справившись с управлением большим хозяйством. Председателем колхоза стал Юсуп Юлдашев, бывший председатель «22-й годовщины»544, парторгом — учитель Турдимат Тошматов. Однако недостатком Юлдашева в глазах вышестоящего начальства было отсутствие партийности и образования, что также не позволило ему задержаться на своей должности. Впрочем, местные жители объясняли отношение к нему по-другому — «никому взяток не давал и сам не брал, именно за это его и сняли».
Таблица 9
Колхоз «Калинин» в 1951 году
Источник: ФГАСО РТ, ф. 16, оп. 1, д. 135. [Б.л.].
В конце 1940-х — начале 1950-х годов поменялся не только масштаб деятельности колхозного руководства — изменились задачи колхоза, а значит, характер самой колхозной власти. В это время происходила окончательная переориентация зерновой экономики на почти монопольное производство хлопка, для чего интенсивно орошались новые земли в бывшей степной части присырдарьинской низменности (в Епугли и Оппоне). Вместе с освоением новых площадей и новой культуры в ошобинской экономике началось освоение и новых технических средств: в 1950 году в Ошобе впервые появилась своя (то есть принадлежавшая колхозу) машина-грузовик (полуторка), в 1955 году их было уже девять, в 1952 году в колхозе заработал первый трактор (присланный из МТС), в центре селения была построена дизельная электростанция. В этой новой экономике, с новой технологией и в новой экологической нише, все прежние социальные связи, накопленный опыт управления, привычный земледельческий опыт, прежние отношения с вышестоящими организациями оказались малопригодными и подверглись существенной перестройке. Хлопок требовал больше людей и трудозатрат, особенно в пиковые месяцы — летом и осенью, он требовал, соответственно, и большей мобилизации, стимулирования — как принудительного, так и материального. Хлопковая экономика приобретала все более денежный характер, так как вся — а не часть, как в случае с зерном, — произведенная продукция сдавалась государству, что ставило колхоз в бóльшую зависимость от государственной политики ценообразования и благожелательности вышестоящего руководства, заинтересованного в развитии хлопководства. Все это, в свою очередь, требовало других управленческих стратегий.
Существенно трансформировалась и роль председателя колхоза — теперь он управлял огромным хозяйством и огромными средствами, то есть становился главной фигурой в Ошобе. Он должен был состоять в партии и иметь прямые контакты с районным и областным (и даже республиканским) начальством, ему необходимо было иметь достаточное образование, хорошие организаторские навыки и уметь работать не с сотней близких соседей и родственников, а с сотнями и даже тысячами людей, не проявляя к ним жалости545. По-видимому, частая смена председателей в «Калинине» объясняется как раз новыми правилами и практиками, которые стали возникать в новой экономике. Местные председатели из элиты 1930—1940-х годов не могли справиться с этими задачами и, видимо, не находили общего языка ни с колхозниками, ни с вышестоящими руководителями.
В 1955 году председателем колхоза «Калинин» стал Абдусами Маджидов. Сведений о нем у меня немного: вроде бы он был родом из Шайдана, но работал в Душанбе, где преподавал в Высшей партийной школе и откуда его направили в колхоз по призыву «тридцатитысячников»546, в начале 1950-х годов ему было около 50 лет. У него были и другой кругозор, и другой опыт, и, что немаловажно, другой уровень поддержки в области и республике. Именно при Маджидове, хотя председателем он был всего примерно три года, новые тенденции в местной экономике стали доминирующими: хлопок превратился в главную продукцию колхоза, колхозники начали переходить на денежный расчет своего труда, ускорилось интенсивное строительство поселка в Оппоне, куда ошобинцы переселялись, чтобы работать исключительно на хлопке. В 1995 году вспоминали, что при нем крестьянам раздали коров, увеличили зарплаты, снизили налоги — на самом деле это было новой политикой советского государства, а не лично Маджидова. Интересная деталь: в воспоминаниях прозвучало, что раис «никого не бил, пытался уговорить словами идти на работу».
Вместе с новыми официальными экономическими отношениями возникли и новые неофициальные. Проверкой деятельности колхоза в 1957 году была выявлена «явно нездоровая практика реализации сухофруктов в городах Сибири»: годом ранее некто Хакимов и Камилов (то ли колхозные экспедиторы, то ли работники районной заготовительной конторы) вывезли в Иркутск почти 50,2 тонны колхозного урюка и почти 5,6 тонны урюка колхозников, продав его, согласно официальной справке с рынка, по 14,43 руб. за килограмм (на общую сумму более 800 тыс. руб.547). По заявлению проверявших, эта сделка вызывала сомнения, так как, учитывая издержки, колхозу было бы выгоднее продать всю партию свежих абрикосов местному консервному заводу548. Как рассказал один мой собеседник, выяснилось, что реально сухофрукты были проданы по 27 руб., а вся сокрытая прибыль ушла участникам этой сделки, колхозному председателю, а также первому и второму секретарям райкома. Эта операция была раскрыта, и непосредственных исполнителей отдали под суд.
В принципе такая практика — продажа колхозной продукции на рынках и манипуляции с ценами — существовала и в 1930-е, и в 1940-е годы. Однако в данном конкретном примере обращают на себя внимание колоссальный объем продажи, техническая оснащенность и удаленность конечного пункта операции — чтобы осуществлять такие сделки, руководителям нужны были новые навыки общения, маневра, умение скрывать свое участие в подобных делах, а также неформальная поддержка самых разнообразных акторов и институтов власти, чем Маджидов, по-видимому, обладал. Таким образом, ясно, что вместе с созданием хлопковой монополии — совершенно нового уровня технологии и социальных взаимосвязей — возникает/укрепляется параллельная (теневая) экономика, которая получает то же технологическое и социальное оснащение.
В 1957 году была проведена ревизия финансовой работы колхоза при Маджидове, в результате чего последнего хотя и не осудили, но перевели на работу в другой колхоз. По рекомендации Маджидова новым председателем «Калинина» стал его парторг — Имамназар Ходжаназаров.
Раис
Кто-то из ошобинцев сказал мне: «Умурзаков был вторым после Рахманкула-курбаши настоящим лидером кишлака». На мой вопрос: «А кто третий?» — прозвучал ответ: «Ходжаназаров».
В 1995 году, когда я жил в кишлаке, Ходжаназаров по-прежнему — то есть уже почти сорок лет! — оставался действующим председателем колхоза «Калинин». Этот невысокий, пожилой, с суровым и непроницаемым выражением лица человек одевался в сталинский китель, подчеркивающий соответственно ту идентичность и те ассоциации, которые необходимы были ему в отношениях внутри колхоза (уезжая в Душанбе, он, надо полагать, надевал более светский костюм и галстук). Мне удалось поговорить с ним у него дома в Ошобе. Разговор оказался недолгим и скованным — прославленный раис, как все его почтительно называли, был молчалив и явно не знал, как вести себя с молодым аспирантом из Москвы.
Ходжаназаров коротко рассказал свою биографию. Он родился в 1924 году. В юности работал амбарщиком в «Социализме», потом продавцом в магазине в Гарвоне. Примерно три с половиной года служил в армии (кажется, в Астраханской области), дослужился до заместителя командира взвода, видимо, уже тогда неплохо освоил русский язык, получил командирские навыки и вступил в партию. Вернувшись в Ошобу, он сделал быструю карьеру — работал при Юлдашеве заведующим фермой мелкого рогатого скота, а при Маджидове был назначен парторгом и заместителем председателя колхоза. В 1958 году Ходжаназаров, которому было тогда 34 года, занял должность председателя колхоза.
Во время нашей беседы я спросил его: «Как вам удалось продержаться так долго?» Раис хитро улыбнулся: «Я и сам не знаю». Мне тогда в голову пришла аналогия с республиканским руководством: в 1960-е годы на посты первых секретарей в среднеазиатских республиках пришли новые люди — Шараф Рашидов в Узбекистане (с 1959 до 1983 года) и Джаббар Расулов в Таджикистане (с 1961 до 1982 года), которые оставались бессменными лидерами до конца своей жизни и превратились, по сути, в полноправных и достаточно автономных правителей. Речь не о каком-то случайном везении, а о новой системной политике Москвы, которая состояла отныне не в том, чтобы периодически ставить новых руководителей и затем с разными интервалами репрессировать их, как это было при Сталине, а в том, чтобы заключать негласные альянсы о выполнении некоторого набора взаимных обязательств и строго придерживаться их. Новая колхозная экономика, интегрированная в хлопковую монополию, была частью этих договоренностей, когда в обмен на государственные инвестиции и несменяемость руководители союзных республик обещали — вдобавок к личной и политической лояльности — наращивать производство хлопка.
Ходжаназаров оказался в этой новой структуре и благодаря своим личным качествам смог воспользоваться возможностями, которые она ему предоставила. Восстановить всю картину того, каким образом он вписался в новые правила, теперь сложно. Конечно, он перенял какие-то полезные связи и практики у Маджидова. Конечно, он опирался на поддержку тех ошобинцев, которые работали рядом с ним — а некоторые из них уже имели нужные контакты и были способны ввести нового председателя колхоза во властные сети, где тот мог получать советы, информацию и помощь.
Позднее у Ходжаназарова стали складываться тесные отношения с первым секретарем компартии Таджикистана Джаббаром Расуловым549 и председателем правительства Рахмоном Набиевым550 (Илл. 16). Он многократно избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР и к 1980 году имел собственную разветвленную сеть деловых и личных отношений не только с районными и областными руководителями, но и с республиканскими и даже союзными, с которыми он общался, минуя районных и областных начальников. Кроме вертикальных связей Ходжаназарову нужны были также связи горизонтальные — с другими колхозами и предприятиями — для обмена ресурсами и опытом. В частности, среди его знакомых был Ахмаджан Адылов, председатель колхоза, а затем агропромышленного комплекса в узбекской части Ферганской долины551, который имел, в свою очередь, прямые контакты с руководством Узбекистана. Ташкентские и душанбинские связи не противоречили друг другу, а, наоборот, взаимодополнялись и предоставляли гораздо больше возможностей для маневра. 22 июля 1991 года, почти накануне распада СССР, Ходжаназаров «успел», как выразился один мой собеседник, получить звание Героя Социалистического Труда — высшую советскую награду для представителей его рода деятельности (Илл. 17).
Илл. 16. Имамназар Ходжаназаров и Джаббар Расулов
Большой Ашт
Успешная карьера и влиятельные связи Ходжаназарова имели своим источником хлопок. Как он сам рассказывал, настоящее освоение района началось в 1968 году, когда ему пришло в голову сделать первые скважины выше СФК и с их помощью поднять на поверхность воду для орошения степной территории (табл. 10). За свою инициативу Ходжаназаров получил партийный выговор, так как никто не верил в успех такой траты денег. Однако председатель колхоза бросил на освоенный участок все силы и сумел получить там хороший урожай хлопка. На этот успех обратила внимание комиссия из Москвы, которая приехала в Аштский район для реанимации старого, рассматривавшегося еще с 1930-х годов проекта орошения аштских степей и превращения их в огромную хлопковую плантацию. Сыграл ли пример «Калинина» решающую роль, как думают многие ошобинцы, или был всего лишь одним из аргументов для специалистов из союзных ведомств, сказать сложно, но где-то в начале 1970-х годов московским руководством был принят проект освоения Большого Аштского массива.
Илл. 17. Три ошобинских героя: Ходжаназаров, Холдоров, Ходжамбердыев
Таблица 10
Паспорт оросительных систем колхоза «Калинин» в 1967–1970 годах, га
Источник: ФГАСО РТ, ф. 16, оп. 1, д. 213. [Б.л.].
Проект Большого Ашта предполагал создание сложной ирригационной системы, которая включала в себя помимо вертикального (скважины) горизонтальное орошение — с помощью мощных насосов воду забирали из Сырдарьи и гнали по магистральному каналу вверх, откуда она затем самотеком, по наклонной, распределялась по аштской степи. В эту систему входили также электрические подстанции, дренажные сооружения, дороги и так далее. Все это требовало детальной предварительной разработки в специализированных институтах и больших капиталовложений, в том числе создания строительных подрядных организаций552.
Проект имел общесоюзный характер, поэтому его финансирование шло напрямую из центрального бюджета, а не из бюджета Таджикской ССР. Организацией, которая отвечала за него, было Главное среднеазиатское управление по ирригации и строительству совхозов (с непроизносимой аббревиатурой «Главсредазирсовхозстрой») при Министерстве мелиорации и водного хозяйства СССР. Интересен тот факт, что это управление, имея общесоюзные статус и финансирование, было расположено в Ташкенте — столице соседней Узбекской ССР, и соответственно, штат его специалистов состоял из ташкентских жителей и возглавлялся представителями узбекской элиты553.
Управление по ирригации, как следует из его полного названия, финансировало только совхозы (советские хозяйства) — особую форму сельскохозяйственных предприятий, собственность и доходы которых считались государственными, а не «коллективными». Колхоз «Калинин» формально не относился к этой категории и, следовательно, не мог быть включен в программу освоения Большого Ашта. Однако зная государственные планы, то, какие территории собирались включить в проект, Ходжаназаров решил действовать на опережение и развернул собственное освоение части этих земель с помощью скважин. Главсредазирсовхозстрой уже не мог исключить эти территории из своего проекта и вынужден был компенсировать «Калинину» проделанные к тому времени работы. С учетом последнего колхоз получал прямые доходы, так как нормативные расценки, по которым выплачивалась компенсация, намного превосходили реальные затраты. В свою очередь, первоначальное вложение денег неизбежно влекло за собой новые государственные вложения. Во-первых, после освоения земли председатель колхоза имел право с полным основанием требовать деньги на строительство дорог и социальную сферу. Во-вторых, ирригация в степной зоне приводила к быстрому засолению орошенных земель, а для того чтобы сохранить утвержденные планы производства (хлопка в первую очередь), надо было опять вкладывать деньги в дренажную систему и новое орошение. Вся логика государственных инвестиций была построена на воспроизводстве достигнутого уровня, и Ходжаназаров, наращивая и перевыполняя планы по хлопку (иногда на 155 %!), умело пользовался этим, чтобы добиваться все новых и новых государственных вложений в свое предприятие.
Пиковым периодом инвестиций стали 1978–1980 годы, когда ежегодный объем средств, предоставляемых колхозу, составлял 1–1,5 млн руб. — огромные по тем временам деньги554. В 1980-е годы Ходжаназаров по своей инициативе начал освоение нового массива — Етти-тепа. Возможно, он имел информацию и надеялся, что сработает прежняя схема, когда освоенные земли будут включены в планы Главсредазирсовхозстроя. Однако на этот раз союзные планы инвестиций в ирригацию были приостановлены, поэтому председатель «Калинина» вынужден был обратиться к руководству Таджикской ССР. Ходжаназаров отвез Расулова и Набиева — первого секретаря и предсовмина — в Етти-тепа и показал им уже начатые работы, после чего было принято решение о выделении средств из республиканского бюджета на поддержку начинания. По новому проекту вода из Сырдарьи, как и в случае Большого Ашта, должна была с помощью насоса подниматься наверх и орошать прежде степную территорию, но только на этот раз насос принадлежал колхозу.
Насколько такие схемы были действительно законны и какого рода личные договоренности и лоббистские усилия стояли за ними, теперь судить трудно. Вполне возможно, что при желании — как это было в Узбекской ССР в 1980-е годы, во время так называемого хлопкового дела555, — власть могла квалифицировать их как растрату и даже обнаружить факты коррупции и наживы. Однако очевидно, что такого рода инициативные действия местных руководителей на разных этапах находили поддержку у государства, поощрялись им или по крайней мере не сразу отвергались, что давало основание считать их вполне приемлемыми. Упомянутые и другие схемы перераспределения ресурсов были необходимыми механизмами работы советской экономики, что все вынуждены были признавать, пусть и неофициально. Бесспорным результатом этой работы в Ошобе стало стремительное и масштабное расширение колхозных посевных площадей, парка машин и другой техники, поголовья скота и так далее (табл. 11)556. Колхозные земли, занятые хлопком, выросли с 1955 по 1985 год в одиннадцать раз — с 204,7 до 2334 га. Общий же размер орошаемых территорий при максимуме водных ресурсов достиг 7 тыс. га.
Новое пространство Ошобы
Орошение степей и развитие хлопководства радикальным образом изменили всю географию региона и создали новое пространство ошобинского сообщества.
Напомню, что еще в досоветское время ошобинцы жили не только в Ошобе. Недостаток земли заставлял их искать новые территории для проживания, жители кишлака мигрировали, кто-то возвращался, а кто-то оставался на новой родине. Ошобинцы осваивали новые земли около родников и колодцев в горах, предгорьях и в степной полосе. В одном из документов за 1939 год мы находим подробную роспись населения сельсовета Ошоба по таким горным участкам. Согласно этому источнику, всего населения было 4740 человек, из них в отдельных селениях557: Ошоба — 3409558, Гарвон — 404, Епугли — 192, Аксинджат — 92, Ак-кудук — 30, Ак-булак — 64, Бозори-мерган — 33, Зогхона — 7, Курпой-булак — 22, Кызыл-кудук — 50, Кызыл-олма — 105, Кызыл-тепа — 132, Куктал — 24, Сай-булак — 10, Тикатош — 5, Тервон-курук — 8, Тутак — 9, Тош-булак — 50, Тахтапез — 13, Учхотун — 28, Урал-чарвак — 33, Ходжакелди — 8, Ян-булак — 12. Если верить этим данным, каждый четвертый ошобинец значительную часть времени жил за пределами кишлака Ошоба, но в действительности число таких ошобинцев было еще больше, так как многие жили и за пределами сельсовета — в Пангазе, Шайдане, Аште (самая верхняя часть последнего — Оби-Ашт — была заселена преимущественно выходцами из Ошобы).
Таблица 11
Колхоз «Калинин» в 1955, 1965, 1975 и 1985 годах
Источники: Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1955 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 1, д. 53а. Л. 1–8; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1965 год // ФГАСО РТ, ф. 124. оп. 1, д. 111. Л. 1–8; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1975 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 2, д. 21. Л. 1—34; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1985 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 2, д. 5. Л. 1—29.
В 1930—1950-е годы к такой хаотической миграции добавились организованные властью переселения. В 1935 году небольшая группа ошобинцев должна была переселиться в Вахшскую долину на юге Таджикской ССР559. После постройки СФК в 1939–1940 годах жители выселка Аксинджат и несколько семей из Ошобы были переселены в Янги-кишлак, который относился к колхозу «22-я годовщина». В 1953 году было принято решение о переселении 85 ошобинских хозяйств в район СФК, на место прежней небольшой стоянки, где не было постоянного населения и где стал строиться новый кишлак Оппон (Нижний Оппон) (Илл. 18).
Менялись и административные границы. До 1955 года Аксинджат и Янги-кишлак оставались в составе сельского совета Ошоба, а потом были переведены в подчинение сельсовета Советобад560. Одновременно была формально изменена подчиненность и массы мелких местечек в горах, которые до этого относились к Ошобе (Кызыл-кудук, Учхотун, Куктал, Ян-булак, Урал-чарвак, Ак-кудук, Курпой-булак)561. В начале 1960-х годов в состав сельсовета Ошоба был включен кишлак Гудас, а его жители и территории — приписаны к колхозу «Калинин»562.
Илл. 18. Северо-Ферганский канал и поселок Оппон
Осуществление проекта Большого Ашта привело, как я говорил, к освоению новых территорий в степной части Аштского района, к строительству новых поселков и новым переселениям (табл. 12). В конце 1960-х годов на месте небольшого кишлака Беш-каппа возникло селение Верхний Оппон, куда стали переезжать выходцы из Ошобы и Гудаса, в середине 1980-х годов началось строительство нового поселка Мархамат. На земле, которая раньше была безжизненной, в конце 1980-х годов находилось около 800 хозяйств — более 4 тыс. жителей, в основном ошобинцев, что в общей сложности превышало численность населения самого кишлака Ошоба. Еще один поселок планировалось построить в районе Етти-тепа, ближе к Сырдарье, но из-за экономического кризиса этот проект был остановлен.
Все новое пространство связывалось транспортной сетью — внутриколхозными асфальтовыми дорогами, по которым курсировали колхозная техника, рейсовые автобусы и личные автомобили563. Предприимчивый Ходжаназаров добился, чтобы недалеко от Мархамата построили небольшой аэродром, откуда в 1980-е годы можно было улететь в Ленинабад и даже в Душанбе.
Таблица 12
Население сельсовета Ошоба по отдельным поселкам в 1957, 1967, 1977 и 1983 годах, хозяйств/человек
Источники: ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 1, д. 59. Л. 32–38; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 17. Л. 11; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 3, д. 74. Л. 3; ФГАСО РТ, ф. 117, оп. 1, д. 695. Л. 4.
Население сельсовета Ошоба по отдельным поселкам в 1989, 1992, 1994 и 1995 годах, хозяйств/человек
Источник: По данным сельского совета/джамоата Ошоба. См. также: Ашт маълумотнома аз таърихи таксимоти маъмурию худудии нохия. Конибодом, 1993. С. 20 (на таджикском языке).
1 По другим данным: 2729/14195.
2 По другим данным: 876/4524.
3 По другим данным: 136/723.
4 По другим данным: 267/1337.
Вместе с расширением территории колхоза и сельсовета возникали новые местные центры и периферии. В Нижнем Оппоне были размещены все основные инфраструктурные объекты колхоза «Калинин» — склады, автопарки, а также фермы. Там же со временем расположилось правление колхоза — основное место сосредоточения власти (хотя правление сельского совета осталось в Ошобе) (Илл. XI). Еще более грандиозными были планы в отношении селения Мархамат (в буквальном переводе — «Добро пожаловать»), которое задумали превратить в новый центр сельсовета Ошоба. Здесь успели возвести новое здание колхозного правления, новые больницу, школу, ясли, огромный клуб (мне говорили, что такого клуба нет во всем Аштском районе, разве только в Шайдане), председатель колхоза и некоторые другие руководители взяли себе здесь личные участки и начали строительство новых домов. Чтобы обеспечить мархаматцев питьевой водой, из Ошобы был проложен трубопровод, который доставлял ее из Ошоба-сая. Мархамат замышлялся как «современный» поселок, с прямыми улицами и вытянутыми вдоль них типовыми, окнами к улице, домами — прямая противоположность «традиционной» Ошобе, где улочки застраивались беспорядочно (Илл. XII).
Прежняя практика фактически насильственного перемещения колхозников в новые поселки в 1980-е годы уже не действовала, поэтому Ходжаназаров выделял переселенцам большие — по 0,15—0,20 га — приусадебные участки, привлекая возможностью развивать личное хозяйство. Тогда же было принято решение выделять участки в Мархамате тем ошобинцам, которые когда-то уехали из кишлака в другие места и теперь хотели вернуться на малую родину.
«Калинин»
Хлопководство
Приехав в Ошобу в 1995 году, я застал местную колхозную экономику в момент ее кризиса. Государственные инвестиции, поставки новой техники и оборудования прекратились, закупочные цены на производимую колхозом продукцию, прежде всего на хлопок-сырец, упали, а на солярку, удобрения и другие ресурсы, без которых производство уже не могло существовать, — напротив, выросли. Этот момент начавшегося упадка колхозной экономики и разрушения всей сложившейся системы отношений между колхозом и государством, с одной стороны, и членами колхоза, с другой, важен, на мой взгляд, для понимания того, чтó же было создано на протяжении 1960—1980-х годов и каким образом эта производственная машина функционировала. Я буду говорить далее о том, что´ застал в середине 1990-х годов, и в то же время попытаюсь, с опорой на архивы и воспоминания, реконструировать предшествующий этап позднего социализма.
В 1995 году вся официальная экономика «Калинина» по-прежнему строилась вокруг хлопкового производства (Илл. XIII). У колхоза было около 7 тыс. га пашни, реально использовалось 6 тыс. га, из которых около 2,4 га были под хлопком (табл. 13)564. Колхоз в начале 1990-х годов продолжал увеличивать хлопковые посевы. Но при этом план сдачи хлопка государству не увеличился, а, наоборот, уменьшился: раньше он составлял 6,7 тыс. тонн хлопка-сырца (и колхоз этот план выполнял), теперь — 6,4 тыс. тонн, при этом в 1995 году колхоз собрал всего лишь 3,9 тыс. тонн565. Следовательно, увеличение посевов было необходимо для компенсации падения урожайности из-за проблем с водой: изнашивались насосы, новые купить было трудно, а старые часто останавливались и требовали починки, на бурение новых скважин тоже не было средств. Скважины и насосы принадлежали не колхозу, а государству, колхоз должен был платить за электричество, а так как цены на электричество росли, то это тоже создавало проблемы — в случае неуплаты насосы могли отключить. Появились трудности с техникой: если раньше на каждые 50 га земли приходился один трактор, то в начале 1990-х годов из-за отсутствия солярки на один трактор приходилось 100–150 га. Колхоз не мог маневрировать и выделять на поддержку производства живые деньги, так как оплата хлопка совершалась только условными, записанными на специальном счете, деньгами, которыми можно было расплачиваться с другими государственными предприятиями, приобретая солярку и технику. Между тем в условиях экономического кризиса государственные предприятия были больше заинтересованы сбывать свою продукцию любыми — легальными или нелегальными — способами за реальные деньги или даже скорее по бартеру, что резко усилило дефицит необходимых для крупного производства ресурсов. Государство после распада СССР стало слабым, ничего не могло предложить колхозу взамен его хлопка и, соответственно, не могло контролировать ситуацию, перенаправляя и согласуя материальные и финансовые потоки.
Таблица 13
Колхоз «Калинин» в 1995 году
Источник: Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1995 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 3, д. 165. Л. 1—17.
Все это, впрочем, не означало, что хлопководство приносит убытки. Наоборот, по словам моих собеседников из числа руководства колхоза, хлопок при цене 11 таджикских рублей (примерно 0,20—0,25 доллара США) за килограмм сырца должен был приносить колхозу прибыль, даже если колхоз не выполнял план. Дело в том, что существовали нормы затрат на выращивание единицы хлопка, по которым рассчитывалась его оплата государством, и если колхоз экономил на расходах, то разница оставлялась ему566.
В 1991 году «Калинину» впервые разрешили оставить 30 % хлопка себе — при условии, правда, что он выполнит план на 100 %. В тот год колхоз собрал урожай на 115 % от плана и ему досталось 45 % всего хлопка, который он мог напрямую продавать покупателям по более высоким, чем у государства, расценкам или по выгодному бартеру. В 1992–1994 годах, уже в независимом Таджикистане, «Калинин» сдавал государству все 100 % плана, но в 1995 году было опять решено оставлять в распоряжении колхоза 30 % валового сбора хлопка (даже при невыполнении плана). В 1995 году, согласно отчету, валовая себестоимость хлопка составила 72,2 тыс. руб., выручка колхоза от его продажи — 120,7 тыс. руб., прибыль — 48,5 тыс. руб. (в том числе 39,1 тыс. руб. от хлопка, сданного государству по плану), что составляло примерно 90 % всей полученной годовой прибыли колхоза567.
Садоводство
Расширение хлопковых площадей и превращение колхоза «Калинин» в производителя хлопка превратило все остальные отрасли хозяйства в подсобные. Это затронуло в том числе колхозные садовые площади. Государство мало занималось регулированием этой отрасли местного производства.
В 1995 году на балансе «Калинина» числилось 1119 га садов, из них: 45 — семечковые насаждения (яблони, груша, айва), 993 — косточковые (абрикосы, из которых только 405 га — плодоносящие насаждения), 57 — виноградники, 62 — тутовник568. Согласно отчетам, все полученные на колхозных полях фрукты сдавались на консервный завод в Шайдане. Однако в действительности сады представляли собой источник дополнительных доходов, вокруг которых складывались разнообразные сети отношений. Объясняется это тем, что садовые территории — в основном абрикосовые и яблоневые — находятся в горных ущельях, где нет электричества и хороших дорог, и раскинуты на многие десятки километров. Не только урожаи, но и земли, занятые садовыми насаждениями, в таких условиях точно сосчитать невозможно. Поэтому неучтенная или не полностью учтенная продукция становилась предметом неформальных договоренностей: колхозные руководители либо продавали ее через сеть перекупщиков, либо передавали в пользование колхозникам, частично компенсируя им тяжелую работу на хлопке. Распределение этого урожая могло быть и источником наживы, и инструментом контроля, подкупа и своеобразной круговой поруки.
С конца 1980-х годов колхоз начал сдавать сады в аренду, а потом перестал и перешел к более простой схеме — продаже фруктов напрямую всем желающим за живые деньги. В каждой бригаде, у которой был свой сад, в 1995 году была создана комиссия из двух человек, которые занимались этой продажей и вели учет поступающих средств. В конце июля в садах Шевара, Кызыл-олма и Гарвона начинался сбор абрикосов и все могли официально и сравнительно дешево купить их у колхоза — по 5 таджикских рублей за килограмм плодов (0,05—0,1 доллара по курсу того времени). Эти абрикосы потом сушились и продавались по гораздо более высокой цене перекупщикам, которые, в свою очередь, перепродавали либо сами отвозили эту продукцию в Узбекистан, Казахстан и Россию.
В тот год я слышал в Ошобе много разговоров о том, что «правильнее» было бы отдавать эти абрикосы простым колхозникам в счет оплаты работы в колхозе, поскольку деньги им платить перестали, а платили натурой — маслом, пшеницей. Но руководство колхоза и само было заинтересовано в получении реальных денег, поэтому не хотело идти на такую меру — при этом покупка в больших объемах была доступна не всем, а только тем, кто имел большие наличные суммы и транспорт, а также необходимые связи для заключения выгодной сделки.
Животноводство
Другая важная отрасль колхозного хозяйства — животноводство — функционировала примерно по тем же полулегальным правилам, что и садоводство. С одной стороны, не было почти никакой физической возможности контролировать количество скота, который бóльшую часть года находится далеко на горных пастбищах. С другой стороны, государство, которому от колхоза нужен был главным образом хлопок, не слишком настойчиво регулировало эту сферу. Оба названных фактора позволяли всем жителям Ошобы, независимо от статуса и места работы, держать личный скот вместе с общественным, делая грань между понятиями «личный» и «общественный» очень условной.
По информации чабанов, в 1995 году в колхозе было 10 отар (қўра) овец и 10 отар ангорских коз. За каждой отарой смотрели четыре человека — по два человека, сменяя друг друга каждые 10 дней. Один из них, старший чабан (чўпон), отчитывался перед заведующим фермой. На пастбищах, многие из которых формально относились к территории Узбекистана569, скот держали с мая по сентябрь, осенью отару пригоняли на убранные колхозные поля, где оставалось много корма, и там содержали всю зиму в специальных загонах. В качестве зарплаты в 1995 году каждый чабан получил мешок зерна (раньше платили по 30 руб. в месяц, плюс 400–500 руб. как «отчет» в конце года). Однако основная выгода для чабанов заключалась не в зарплате, а в возможности непосредственно контролировать численность скота в отаре, держать вместе с колхозными овцами и козами личный скот — свой и других людей. Кроме колхозных стад летом в горах находились еще четыре-пять народных отар из Ошобы, в которых содержался только личный скот.
Сколько реально скота паслось в горах, сказать трудно. По данным Аштского районного отдела статистики, в 1994 году в «Калинине» было 1120 голов крупного рогатого скота (в том числе 302 коровы), 7784 козы и овцы и пять лошадей. Один чабан рассказал мне, что в его отаре насчитывалось 800 колхозных и около 200 частных коз, в среднем же в одной отаре было 500 колхозных коз, что давало примерно 10 тыс. голов колхозного скота и, если взять число 200 за основу, 4 тыс. частного. Другой чабан сначала сказал, что в колхозе около 15 тыс. овец и 16 тыс. коз, а в его отаре 1,5 тыс. колхозных и 300 частных коз; в другой раз он же высказал иную версию: в колхозе сейчас 5 тыс. овец и 10 тыс. коз, а в стаде, где он работает, — 700 колхозных и 800 частных коз. Возможно, разница почти в два раза между двумя вариантами — это разница между общим и колхозным стадом. Возможно также, что такие расхождения объясняются большим падежом скота, особенно ангорских коз, который случился зимой 1994/1995 годов. Наконец, путаница в цифрах может быть связана с сокрытием информации и существованием нескольких бухгалтерий, что не позволяло посторонним знать реальное количество скота и размеры доходов, которые получают его владельцы и сами чабаны.
Управление
С увеличением производства и расширением пространства более сложной становилась и организация колхозного управления570. В 1995 году она выглядела следующим образом. Во главе «Калинина» находился председатель — Имамназар Ходжаназаров, он давал только самые общие указания по стратегии развития колхоза и поддерживал связи с вышестоящими инстанциями. У председателя был первый заместитель, который фактически вел всю оперативную работу колхоза и, по сути, являлся «вторым раисом», как кто-то выразился, поскольку его подпись на документах была не менее важна, чем подпись Ходжаназарова. В советское время первым замом был парторг, который отвечал также за кадровые вопросы. В 1980-е годы на должность первого зама был назначен Икромали Турдиматов, который до этого работал в комсомоле. У председателя были также второй и третий заместители — последний занимался коммерцией.
Среди других общеколхозных должностных лиц — главный бухгалтер, председатель ревизионной комиссии (в 1995 году им был Анвар Аюбов, сын Ибрагима Аюбова), председатель профсоюзного комитета, главный инженер, отвечающий за колхозную технику (Вали Исмадиеров, сын Абдубанноба Исмадиерова571), главный электрик, главный гидротехник, главный экономист, занимающийся рабочими нормами (Бегджан Турдиматов, брат Икромали Турдиматова), главный агроном (Икромали Юлдашев, сын Бободжана Юлдашева572), главный зоотехник, главный ветврач (Мурад Юлдашев, брат Икромали Юлдашева), заведующий центральным складом. К числу особых относились должности колхозных экспедиторов.
«Калинин» делился на четыре участка, у каждого из которых был свой заведующий. Первый участок — Ошоба — имел в своем составе пять садоводческих бригад (в одной из них бригадиром был Абдумалик Каюмов, внук аксакала Одинамата Исаматова573). Второй участок — Мархамат (или Епугли) — это около 2000 га пашни и восемь хлопководческих, две кормодобывающие и две садоводческие бригады. Третий участок — Нижний Оппон (заведующий Мамаджан Юлдашев, брат Икромали и Мурада Юлдашевых), здесь было 1000 га пашни, восемь хлопководческих, две кормодобывающие и одна садоводческая бригады. У третьего участка — Верхний Оппон — в 1995 году не было своего заведующего, и им руководил также Мамаджан Юлдашев. Этот участок имел около 1000 га пашни, на нем трудилось пять хлопководческих бригад и одна садоводческая (бригадиром последней был Мирзаабдулло Каххаров, сын Каххара Джаркинова574). Четвертый участок — Етти-тепа (заведующий Мумин Хошимов, сын Хошима Нурматова575), в его подчинении было около 2000 га пашни, две кормодобывающие и семь хлопководческих бригад.
В 1995 году в «Калинине» имелась одна молочная ферма (ею заведовал Муким Мирхолдоров, брат главврача Ашурали Дехканова576), одна телочно-откормочная ферма, одна овцеводческая и одна козоводческая (заведующий последней — Зокир Юсупов, сын Юсупа Юлдашева из рода Исламбая577).
В полевой бригаде постоянно работало примерно 15–20 человек, которые занимались поливом и культивацией полей, остальные члены бригады выходили на работу в сезоны, когда требуется дополнительная рабочая сила. Колхозник не был приписан к определенной бригаде и мог переходить из одной в другую, договорившись с бригадиром. Специализация бригад не имела буквального характера: некоторые хлопководческие бригады занимались также садоводством, а на севообороте сажали и выращивали кукурузу, пшеницу и другие культуры; в свою очередь, садоводческие бригады сажали и выращивали пшеницу, овощи, а если было необходимо, то участвовали в работе на хлопке. Кроме того, между бригадами распределялся план по сдаче коконов шелкопряда. Бригадиры, хотя и подчинялись заведующему участком, на своей территории и своими людьми управляли сами, по своему усмотрению. Впрочем, инструментов воздействия на людей у них оставалось немного: колхозники стали грамотными и были способны сами внимательно отслеживать все бухгалтерские отчеты и записи. Насилие тоже воспринималось по-другому: государство самоустранилось от принуждения колхозников, и за отказ от работы уже не могли предъявить политических и уголовных претензий, поэтому насилие со стороны бригадира превратилось в личное насилие одного ошобинца над другим, которое могло повлечь за собой и расплату — бригадиры стали побаиваться получить сдачи. Система логично пришла к подрядной форме отношений.
Подряд
Начиная примерно с 1970-х или 1980-х годов бригада стала раздавать участки по 1–2 га в подряд колхозникам, которые числились в бригаде, но не были заняты в ней постоянно, а только приезжали на свое поле для определенных работ. Такая форма, с одной стороны, позволяла более гибко использовать труд членов семьи колхозника, которые всегда помогали ему выполнять норму, а с другой — давала возможность колхозникам пользоваться побочными выгодами, которые предоставлял хлопковый участок. Эта система прижилась и сохранилась до середины 1990-х годов578.
Приведу пример. В 1995 году У.Д. (1939 г.р.) брал 2 га земли. Формально колхозницей была записана его жена, которая таким образом зарабатывала себе стаж для пенсии, но фактически работал У.Д. с кем-нибудь из детей, он же сам обсуждал все вопросы с колхозным начальством579. На своем участке они должны были летом выполнить следующие виды работы: прополку, «чеканку» (ломку стеблей хлопчатника), вскапывание. Остальное — полив, вспашку, посев, уборку — делали другие люди, эти работы распределял бригадир.
У.Д. считал, что такой подряд дает целый ряд выгод. Кроме стажа работы и возможности получить больший приусадебный участок это была еще и зарплата. Она начислялась по расценкам на каждый вид работы плюс проценты, если бригада выполнила или перевыполнила план; часть зарплаты выдавалась деньгами, часть — продуктами, часть в виде аванса можно было получить по заявлению в течение года. В 1993–1995 годах зарплата записывалась на особых чеках, на которые можно было что-то приобрести по государственным ценам в магазинах. Колхозник имел также возможность легально пускать траву, которая растет рядом с полем, на корм своему скоту, а также забирать и использовать в домохозяйстве в качестве топлива стебли, остающиеся после сбора хлопка на поле (ғўзапоя). Иногда бригадир разрешал использовать несколько соток неудобной, но орошаемой земли рядом с полем (в лесополосе, по краям участка) для посадки люцерны, которая тоже идет на корм скоту. Всего этого для полного обеспечения семьи было, конечно, совсем не достаточно, но если не было другой работы, то и такое подспорье считалось неплохим. На самом деле У.Д., по его словам, искал другую, более выгодную работу где-нибудь в строительстве, но во время таких поисков работа на подряде оказывалась нелишней.
В условиях кризиса не брезговали всеми перечисленными возможностями, которые давал подряд, и нерядовые ошобинцы. Председатель сельского совета/джамоата признавался мне, что на имя его жены записано 2 га земли с хлопком, на нее же записываются вся выработка и вся зарплата, при этом все работы делает он сам с детьми.
Аренда
В той части колхозной экономики, которая не была связана с хлопком (и пшеницей), получила развитие аренда как способ отношений между колхозом, то есть собственником земли, и работником580. Колхоз на год сдавал в аренду землю для выращивания овощей, бахчевых и лука. Такая сделка была выгодна колхозу, потому что снимала с него все обязанности по поиску и удержанию рабочей силы, а также по отслеживанию технологического процесса. Арендатор сам вкладывал свои деньги в землю, сам привлекал людей и мог, соответственно, получить гарантированный урожай, часть которого обязан был сдать колхозу по установленным расценкам.
Как подсчитывали мои собеседники, в среднем при хорошей обработке поля с 1 га поливной земли можно было получить 50–60 тонн лука. Из них колхоз забирал себе 20 тонн (или денежный эквивалент по оговоренным расценкам), в счет которых предоставлял арендатору семена, трактор, удобрения; если арендатор сам находил семена и прочее, то норма сдаваемого колхозу лука уменьшалась. Остальным урожаем арендатор мог распоряжаться полностью на свое усмотрение. В 1995 году за килограмм лука в Ходженте давали 1 тыс. руб., то есть с 20–30 тыс. тонн можно было заработать 20–30 млн руб. (на тот момент это 4–4,5 тыс. долларов США).
Уход за луком — сложная, трудоемкая работа, поэтому не всем удавалось получить хорошую прибыль. Чтобы организовать этот процесс, необходимо было уже иметь капитал для вложения в покупку семян и удобрений, наем рабочей силы и транспорта. Это могли позволить себе немногие, поэтому аренду брали либо зажиточные люди, не исключая и колхозных начальников, которые имели доступ к ресурсам, либо приезжие — в основном из Узбекистана. Многие арендаторы выращивали сразу несколько культур, чтобы распределить свои усилия и риски: один собеседник сообщил мне, что его семья взяла 5 га в аренду, из которых один засадила луком, три — пшеницей и один — кукурузой. Возможно, такая диверсификация происходила в нарушение договора, но руководители колхоза закрывали на нее глаза, поскольку аренда была предметом не только формальных, но и неформальных договоренностей по разделу доходов.
Приватизация
В 1995 году, когда я проводил свои исследования в Ошобе, экономическая система работала по тем правилам, какие сложились в конце 1980-х годов, то есть уже к окончанию советского периода. Понятия частной собственности и приватизации только-только входили в риторику власти, только-только начинали обсуждаться в обществе и еще не стали ни массовой практикой, ни главной темой повседневных споров. Никаких внятных законов по этому поводу в Таджикистане, где шла настоящая гражданская война, принято не было, какие-то отдельные случаи оформления прав частной собственности уже происходили, но они обрастали слухами и противоречивыми суждениями. Ходили, например, разговоры, что большая территория (около 20–30 га), которая из-за поломки насоса не использовалась колхозом, была будто бы списана с баланса по некоему постановлению и куплена двумя высокопоставленными ошобинцами. Они собирались каким-то образом восстановить водоснабжение участка и сдавать его в аренду.
Более значимым для населения Ошобы стал широко развернувшийся в конце 1980-х — начале 1990-х годов процесс раздачи приусадебных участков, который, по сути, был распределением колхозной земли в личное пользование и владение, но не назывался приватизацией. Каждой новой семейной паре предоставили право получить новый участок — 8—12 соток в Ошобе (в Шеваре или Олма) либо 15 соток в Мархамате или Оппоне, где земли было больше, но зато было меньше воды. Если в распоряжении семьи был старый участок меньшего размера, то эта семья имела право получить недостающие сотки. Таким правом могли воспользоваться как нынешние жители сельсовета, так и те, которые в свое время уехали из Ошобы. Единственным условием было наличие трудоустройства. Решение о том, сколько земли и где выделить под застройку, принимало правление колхоза, а распределяла землю специальная комиссия, при этом, как мне говорили, все участки нумеровались и потом эти номера вслепую разыгрывались, чтобы не было обиды, если кто-то получал участок хуже, чем другие.
Несмотря на то что были предприняты некоторые формальные меры для предупреждения конфликтов, они все равно возникали. Административное распределение ресурсов заставляло людей активизировать все возможные социальные связи — дружеские, родственные, соседские и прочие — с целью обеспечения дополнительных преимуществ при получении участка, столкновение же всех этих интересов порождало споры. Однако, поскольку каждый мог хоть что-то получить, это гасило недовольство и перенаправляло основные усилия людей на обустройство новых участков и получение с них доходов.
Колхозники
Зарплата
Как мы видим, отношения ошобинцев с колхозами носили очень разнообразный характер и не сводились лишь к работе в поле и получению зарплаты. Колхоз был формальным держателем или владельцем — я не претендую на точность политэкономических понятий — всех основных ресурсов в кишлаке: поливной земли, воды, садовых насаждений, пастбищ, хранилищ, техники, денежной массы, рабочих мест, должностей и так далее. Председатель колхоза, все колхозные чиновники и специалисты через запутанную процедуру принятия решений, оформления отчетов и других документов контролировали эти ресурсы и распоряжались ими.
Формальным выражением отношений между колхозником и колхозом являлась зарплата. Порядок ее начисления определялся государственными правилами: в 1959 году был определен гарантированный минимум оплаты труда, в 1966 году — отменены трудодни и все расчеты перешли в денежную форму и так далее. Зарплата представляла собой сложную систему расчетов: она начислялась за количество рабочих дней и вид работы, который оценивался согласно утвержденным расценкам, часть зарплаты выдавалась в течение года, часть (от 30 до 60 %) — в конце года по результатам деятельности колхоза, то есть в зависимости от полученных последним доходов. Колхоз мог также по заявлению колхозника выдавать ему деньги дополнительно авансом. При этом, судя по отчетам, колхоз далеко не всегда имел возможность выплатить всю причитавшуюся сумму и перекладывал долг на следующий год, часть же зарплаты выдавалась продуктами (пшеницей, мукой, мясом) или списывалась в качестве платы за электричество, за газеты или горячую пищу во время обедов.
В «Справке о проверке состояния финансовой дисциплины и расчетов колхоза им. Калинина», которую составил экономист Главного управления по делам колхозов Министерства сельского хозяйства Таджикской ССР, говорилось581:
Задолженность колхоза по <…> оплате труда колхозников на 1/1—68 год составляет по 868 колхозникам в сумме 96 972 рубля. Задолженность колхозников по переполученным авансам по оплате труда на 1/1—68 год составляет за 456 колхозниками в сумме 61 992 рубля, в том числе за выбывшими 47 колхозниками в сумме 7 354 рубля, за умершими 13 колхозниками в сумме 1 626 рублей <…>
В колхозе практикуется выдача неплановых денежных авансов, во многих случаях выдаются превышающие месячные заработки колхозников, особенно руководящему составу и активу колхоза <…> руководящим работникам и специалистам колхоза — 19 лицам — в 1967 году незаконно было произведено начисление премий в сумме 3 745,45 рубля.
Далее в документе перечисляются выданные «незаконно» авансы и премии: председатель колхоза — оклад 190 руб., а выдано 810,56 руб. аванса и 342 руб. премии; заместитель председателя — оклад 160 руб., а выдано 200 руб. и 228,60 руб.; главный зоотехник — оклад 160 руб., а выдано 200 руб.; председатель ревизионной комиссии — оклад 120 руб., а выдано 200 руб. и так далее.
Иными словами, когда в общих отчетах колхоза приводятся данные о зарплате колхозников, то не всегда понятно, идет ли речь о действительно выплаченной зарплате или только о расчетной, оказываются ли именно эти суммы в руках людей, или мы имеем дело с некоторой отчетно-цифровой иллюзией. Даже эти потоки денег между колхозом и колхозниками, которые вроде бы были совершенно официальными и прозрачными, в реальности обладали свойством деформироваться и приспосабливаться к социальным иерархиям, личностным отношениям и каким-то нам теперь не очень понятным обстоятельствам.
Тем не менее средние бухгалтерские цифры дают представление как о величине колхозных заработков, так и о динамике изменения последних (табл. 14). По данным колхозного отчета за 1965 год, средняя зарплата работника в растениеводстве и животноводстве, тракториста и шофера составляла около 45–55 руб., бригадиры получали около 100 руб., председатель и еще несколько руководящих специалистов — от 200 до 300 руб. в месяц. В 1975 году число колхозников и интенсивность их труда значительно возросли, что было связано с освоением Большого Ашта. При этом значительно возросло и число привлеченных работников, не являющихся членами колхоза, — как ошобинцев (нетрудоспособных, школьников, учителей, врачей и других), так и приезжих (студентов, школьников). Разброс размеров зарплаты стал намного больше, но средний доход работника в поле составлял около 105 руб. в месяц. Председателю и другим основным руководителям колхоза официально начислялось примерно 300–400 руб. в месяц582.
Таблица 14
Годовые выплаты колхозникам (по должностям) за 1965, 1975 и 1985 годы
Источники: Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1965 год // ФГАСО, ф. 124, оп. 1, д. 111. Л. 2 об., 3; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1975 год // ФГАСО, ф. 124, оп. 2, д. 21. Л. 10, 10 об., 11 об.; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1985 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 3, д. 57. Л. 12–13.
1 В1975 году — экспедиторы, секретари и др.
2 Суммированные данные.
3 Суммированные данные: из 181 человека 126 — чабаны, которые получили 138 549 руб.
4 Из них заняты в хлопководстве 385 человек — 513 716 руб.
В 1980-е годы продолжались углубление специализации труда и рост зарплаты. Выплаты работнику в растениеводстве в среднем составляли, по данным 1985 года, около 170 руб. в месяц. Обращает на себя внимание то, что этот показатель стал выше, чем официальные выплаты бригадирам или, например, трактористам и шоферам (в 1975 году было наоборот). Я могу объяснить это тем, что последние, во-первых, получали много неформальных бонусов от своей должности, а во-вторых, имели стабильный месячный оклад вне зависимости от интенсивности и тяжести труда, тогда как обычные колхозники, чтобы получить более высокий доход, должны были тратить намного больше усилий и времени.
Домашнее хозяйство
Монополия колхоза на владение всеми основными ресурсами, что было необходимо исключительно для развития и поддержания хлопководства, являлась основным фактором, который определял экономическую жизнь Ошобы и экономические стратегии ошобинцев. Значительное увеличение орошаемых площадей в 1960—1980-е годы сопровождалось ростом количества рабочих мест в колхозе и некоторым ростом заработков колхозников. Однако при существенном увеличении численности населения колхозная экономика не могла обеспечить всех работой, да и заработки, которые зависели от государственных закупочных цен, все равно оставались сравнительно небольшими. Это вынуждало жителей кишлака интенсифицировать производство в домашнем хозяйстве — на приусадебном участке, в подворном животноводстве, в кустарных промыслах и торговле.
Домашнее хозяйство ошобинцев было устроено как многоотраслевая мини-экономика, в которой присутствует, с одной стороны, диверсификация видов деятельности, а с другой — специализация, то есть разделение видов деятельности на первостепенные и второстепенные583. Первое позволяло обеспечить хотя бы некоторую сбалансированность источников дохода, минимизировать риски и таким образом избежать кризиса всего домашнего хозяйства в случае каких-либо неблагоприятных обстоятельств. Второе же давало возможность максимизировать доходы от наиболее выгодных отраслей. При этом хочу подчеркнуть, что домашнее хозяйство нельзя считать чем-то совершенно отдельным, автономным от колхозной экономики, да и вообще, условно говоря, от государственной экономики, — их связывали многочисленные и разнообразные взаимозависимости584.
Приусадебные участки ошобинцев сегодня расположены в трех климатических зонах, которые различаются количеством тепла и воды, а также давностью возделывания, — горные ущелья (Шевар, Кызыл-олма), предгорье (собственно Ошоба) и часть Аштской степи (Оппон, Мархамат), которая сравнительно недавно была орошена и освоена под сельское хозяйство. В зависимости от зоны различаются виды высаживаемых сельскохозяйственных культур и режимы ухода за ними. Приусадебный участок был, как правило, специализирован под садоводство, дополнительно к этому на нем выращивались некоторые виды овощей, зелени, картофель, а также джугара (в начале 1990-х годов из-за резкого подорожания муки стали выращивать пшеницу). В 1920—1940-е годы садоводство специализировалось на тутовнике, абрикосах и яблоках, которые ценились на местном рынке. В 1950—1980-е годы произошла переориентация на абрикосы и черешню, что было связано с предпочтениями нового рынка — российского, который стал основным покупателем ферганской садовой продукции. В самой Ошобе наиболее популярной культурой стали абрикосы, которые жители собирали, высушивали и продавали перекупщикам — местным и приезжим. В середине 1980-х годов килограмм сушеных абрикосов — кураги585 — стоил здесь примерно 6 руб., в Москве — от 8 до 12 руб.586 Сад с десятью плодоносящими деревьями давал около 100 кг кураги, или 600 руб. В начале 1990-х годов спрос на среднеазиатскую курагу в России упал, а издержки на дорогу многократно возросли, что привело к снижению цен и уменьшению доходов: килограмм стал стоить 4–5 тыс. российских руб., или около 1 доллара, что давало доход с тех же десяти деревьев в 100 долларов.
Домашнее животноводство в Ошобе включает в себя разведение крупного рогатого скота, овец и коз, а также птицеводство. Эта отрасль, которая всегда считалась в кишлаке основным показателем богатства, также претерпела в послевоенное время существенные изменения. Рабочий скот, который был очень важен в XIX и первой половине XX века, полностью исчез, сократилось поголовье лошадей и ослов. Овец держали для продажи или ритуальных мероприятий. Козоводство осталось ведущей специализацией, но мясные породы были заменены на ангорскую козу, которая давала пух, опять же востребованный на российском рынке (табл. 15).
Таблица 15
Поголовье скота в сельском совете/джамоате Ошоба в 1992 и 1995 годах
Источник: По данным сельского совета/джамоата Ошоба.
1 Резкое уменьшение поголовья овец и коз в 1995 году было связано с болезнью и мором, которые поразили стада в 1993–1994 годах.
В 1970-е годы, по рассказам, цена за 1 кг белой шерсти доходила до 50 руб. в Ошобе и до 100 руб. в России, а за 1 кг черной шерсти, которая ценится выше, — до 100 руб. в Ошобе и 180 руб. в России. Одна ангорская коза дает в среднем 2 кг шерсти в год, среднего размера стадо было пять голов (не считая молодняка), в стаде обычно находились одна черная коза и четыре белых — умножаем и получаем в год 10 кг шерсти (из них, допустим, 2 кг черной и 8 кг белой). Если продавать шерсть перекупщику в Ошобе, то доход мог составить 600 руб., что сопоставимо с половиной годовой зарплаты колхозника. Были хозяйства, которые имели до ста и даже более коз; это требовало, правда, больших издержек на их содержание, но доход в таких случаях мог быть по советским меркам огромным. В 1995 году килограмм белой шерсти стоил в Ошобе около 10 тыс. российских рублей и в России — 40 тыс. руб., или примерно 2 и 8 долларов, а килограмм черной шерсти — соответственно около 40 тыс. и 100 тыс. руб., или 8 и 20 долларов; пух пяти коз, проданный в Ошобе, мог принести не более 50 долларов США.
Домашние промыслы в кишлаке отличались многообразием — здесь можно было встретить и строителей, и кузнецов, и хлебопеков, и мастеров по ремонту техники, и народных врачевателей и так далее587. Любые навыки использовались для подработки, иногда такие профессии становились, по сути, основным источником доходов, а работа в колхозе носила формальный характер и была нужна постольку, поскольку позволяла избежать уголовных обвинений в «тунеядстве», иметь рабочий стаж, пенсии, государственные льготы и право на дополнительные сотки приусадебного участка.
Пожалуй, самым распространенным промыслом в кишлаке являлось изготовление паласов (шолча) и ковров (гилам), с переориентацией на ангорских коз стали также вязать на продажу платки и шарфы (Илл. 19). Это сугубо женское ремесло, которому обучают практически в каждой семье и владение которым стало в Ошобе важным показателем достоинств девушки на выданье: навыки рукодельницы повышали ее статус и гарантировали, с одной стороны, более выгодную брачную партию, а с другой — более богатые приношения со стороны семьи жениха.
Ковроткачество ориентируется на сугубо местный рынок: кустарным образом изготовленные ковры и паласы всегда пользовались в регионе большим и постоянным спросом. При этом оно требовало постоянной занятости и сырья — хлопка или хлопковых нитей. Во время Отечественной войны, по воспоминаниям, кто-нибудь из богатых и предприимчивых родственников ехал в Коканд и покупал там хлопок, привозил его в Ошобу и раздавал «своему хейшу», то есть родне, с условием, что сотканные ковры и паласы будут возвращены ему же, затем отвозил их обратно в Коканд и продавал там дороже, потом опять покупал хлопок и так далее. За месяц одна женщина могла изготовить четыре паласа и заработать на этом около 20 руб., что было выше колхозных заработков. В 1980-е годы один палас стоил в Ошобе примерно 25 руб., что могло с учетом довольно небольших издержек дать до 70–80 руб. ежемесячных доходов. Я веду подсчет в данном случае по месяцам, потому что ковроткачество в домашних условиях не было круглогодичным производством — им занимались только зимой и в другое свободное от работы в колхозе и на приусадебном участке время588.
Илл. 19. Изготовление шолча, 1995 г.
Наконец, не было в начале 1990-х годов, наверное, ни одного хозяйства в Ошобе, которое не пыталось бы заниматься торговлей, покупкой и перепродажей, получая доходы от разницы цен. Одни специализировались на продуктах и вещах, которые производятся в Ошобе, — садовых культурах, овощах, козьем пухе, коврах, паласах, шарфах и так далее — их скупали на маленьком ошобинском базаре или непосредственно у родственников и соседей и перепродавали либо другим перекупщикам, либо на местных рынках, либо, если имели достаточно денег, везли товар в Узбекистан и даже в Россию, где прибыль могла быть намного больше. Другие, наоборот, занимались закупкой продуктов и вещей, которые пользуются более или менее массовым спросом в самой Ошобе. Для одних это были мелкие и побочные приработки, для других торговля становилась главным источником доходов, поэтому выявить какие-то усредненные, типичные размеры доходов в этом случае мне оказалось затруднительно.
В советское время отношение ко всем этим видам деятельности было весьма противоречивым. Государство относилось к ним в целом подозрительно, пыталось всячески их контролировать, учитывать и ограничивать (вводя, например, лимиты на размеры приусадебных участков или на домашний скот), что придавало домашней экономике характер не вполне легальный. В публичной советской риторике господствовало моральное осуждение частной торговой деятельности как спекуляции. Доходы от торговли и домашнего хозяйства считались не вполне честно заработанными. Вместе с тем невысокие заработки в колхозе и вообще на государственных предприятиях вынуждали людей, в том числе местную элиту (колхозных администраторов и специалистов, учителей, врачей), активно заниматься всеми этими видами хозяйственной деятельности. Более того, в местной культуре (и в мусульманской риторике, которая сохраняла свою легитимность в локальных отношениях) эти экономические практики считались не просто разрешенными, а одобряемыми и поощряемыми. В результате представители государственной власти, публично декларируя осуждение подобных практик, в действительности вступали в разного рода договорные отношения с местным населением, закрывая глаза на нарушения каких-то лимитов и норм, если эти нарушения не бросались в глаза и не становились поводом для сведения счетов. В конце концов, главным, официально декларируемым интересом государства был хлопок, все остальное существовало по умолчанию (или даже при некотором осуждении), но как неизбежность, которая по большому счету всех устраивала, а порой и как необходимость — источник личных доходов и способ оплатить самые разные услуги.
Миграции
Как я уже говорил, колхозная экономика, несмотря на значительные темпы ее расширения, в силу ориентации преимущественно на хлопковое производство не обеспечивала все население Ошобы постоянной и достаточно оплачиваемой работой. Это вынуждало людей искать дополнительных доходов в домашнем хозяйстве. Однако и последнее не могло прокормить всех по причине естественных и искусственных ограничений — размеры приусадебных участков были лимитированы, садоводство и козоводство приносили нестабильный доход, прибыльный российский рынок открывался постепенно, так что и цены достигли своего пика лишь к середине 1980-х годов. Ситуация не изменилась радикально и в начале 1990-х годов, несмотря на массовую раздачу части колхозной орошаемой земли и пастбищ под приусадебные наделы ошобинцев, поскольку в результате кризиса и распада единого государства доходы от сельскохозяйственного производства резко упали.
Одной из причин сложной ситуации на местном рынке труда был быстрый рост населения в 1950—1980-е годы (табл. 16 и 17), который обуславливался несколькими факторами. Во-первых, локальные брачные и семейные практики и ценности, подкрепленные кроме всего прочего авторитетом ислама, предписывали женщине роль матери и способствовали высокой рождаемости. Во-вторых, социальные выплаты от государства и другие льготы, предоставлявшиеся в связи с рождением детей, едва ли не перевешивали заработки в колхозе и являлись сильным материальным стимулом рожать больше. В-третьих, внедрение новых медицинских институтов и способов лечения снизило смертность, в том числе детскую589.
Таблица 16
Численность населения сельсовета Ошоба в 1951, 1963, 1970, 1980, 1989 и 1995 годах
Источники: ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 26. Л. 5; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 91. Л. 1; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 152. Л. 4; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 3, д. 85. Л. 5. Также я использовал данные Аштского районного отдела статистики.
Закономерным результатом сложившегося положения стала массовая миграция ошобинцев за пределы Ошобы.
В начале 1940-х годов в южных отрогах Кураминского предгорья были открыты рудодобывающие шахты, около которых возникли рабочие поселки Адрасман, Кансай, Чайрух, Табошар и другие. Такие же шахты открылись в соседнем Ангренском районе Узбекистана. Первоначально здесь добывали уран и работали в основном немецкие военнопленные и приезжие специалисты из России, но в 1950-е годы добычу урана прекратили и шахты перепрофилировали на добычу цинка, свинца, других металлов. После выезда немцев шахты и предприятия стали заполняться приезжими русскоязычными рабочими. Некоторые поселки по-прежнему сохраняли стратегическое значение и подчинялись, минуя Душанбе, напрямую Москве, что давало их жителям значительные преимущества в зарплате, снабжении продуктами и товарами, а также повышало административную самостоятельность местной власти. Поэтому многие жители аштских кишлаков, в том числе и Ошобы, стремились устроиться туда на работу и остаться там жить.
Таблица 17
Работающие в колхозе «Калинин» в 1955, 1965, 1975 и 1985 годах
Источники: Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1955 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 1, д. 53а. Л. 3 об.; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1965 год // ФГАСО РТ, ф. 124. оп. 1, д. 111. Л. 2; Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1975 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 2, д. 21. Л. 9 об.; Годовой бухгалтерский отчет по основной деятельности колхоза «Калинин» за 1985 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 3, д. 57. Л. 10 об.
В 1940—1950-е годы выехать из Ошобы в другие регионы на постоянное место жительства было сложно — для этого надо было сперва раздобыть в сельсовете справку на получение паспорта, то есть, по сути, специальное разрешение на выезд. Председатель сельского совета имел право отказать и часто в таких случаях отказывал, поскольку в колхозах, которым было дано задание осваивать под хлопок новые земли около СФК, рабочих рук не хватало. Тем не менее заинтересованность руководства шахт в трудовой силе плюс какие-то личные договоренности и связи позволяли некоторым ошобинцам покидать кишлак и колхоз. В 1960—1980-е годы, когда паспорта стали выдаваться автоматически, миграция приобрела больший размах.
Наиболее многочисленная община выходцев из Ошобы сформировалась в Адрасмане. По разным оценкам, в конце 1980-х годов в этом поселке проживало до 6–7 тыс. ошобинцев, многие из них здесь родились и выросли. Выходцы из Ошобы жили также в Табошаре, Кансае, Чайрухе, Ангрене, не считая, конечно, Ходжента, Душанбе, Ташкента и Коканда, куда они тоже нередко уезжали работать и жить. У каждой такой общины возникли новые — более городские — социальные и культурные практики (привычка жить в многоквартирных домах, где соседями могли быть русскоязычные жители, ходить в «европейской» одежде, питаться «европейской» пищей и т. д.), новые родственные и дружеские сети, иерархии авторитетов, но тем не менее эти выходцы из Ошобы продолжали сохранять ошобинскую идентичность и регулярные отношения с ошобинским обществом, в частности считалось обязательным приезжать в кишлак по религиозным праздникам и посещать могилы предков.
В начале 1990-х годов «московское» снабжение в Адрасмане и других шахтерских поселках исчезло, зарплата стала символической — мастер получал в месяц 2–2,5 тыс. таджикских рублов, то есть около 40–50 долларов (Илл. 20). Постоянный график работы не позволял рабочим на шахте заниматься домашним хозяйством, поэтому каких-то существенных дополнительных источников заработка у них не было. Кто-то ушел в отпуск или уволился и уехал искать работу на российских шахтах, кто-то попытался заняться торговлей, используя хорошее знание русского языка и связи с русскоязычным населением. Многие же стали возвращаться в Ошобу, где могли хотя бы получить приусадебный участок и завести скот, кто-то устроился в колхоз или взял землю в аренду. Впрочем, это было тоже трудное возвращение — для людей, привыкших к почти городскому образу жизни, к квартирам в многоэтажных домах и к магазинам. Как признавался мне один ошобинец-адрасманец, в кишлаке «все какие-то некультурные». Некоторые бывшие рабочие оформили на себя участки в Ошобе, но окончательно переезжать в родной кишлак не спешили590.
Илл. 20. Адрасманский обогатительный комбинат, 2010 г.
* * *
Завершая этот длинный экскурс в экономическую и отчасти демографическую историю Ошобы, хочу вернуться к проблеме модернизации и традиционализма, к тому, как оба эти понятия прилагаются или не прилагаются к ошобинской реальности. Сомнения начинаются с понимания, что даже разнообразные отношения и практики, которые существовали здесь в 1920-е годы, невозможно втиснуть в рамки традиционализма — локальное сообщество уже тогда находилось под воздействием множества внешних факторов и событий, ломавших прежние устойчивые стратегии жизни. С тех пор изменения в экономике прошли целый ряд этапов, каждый из которых имел свою историческую динамику, свой масштаб, своих акторов и логику. Сложившиеся в XX веке в результате многочисленных реформ и трансформаций советские хозяйственные практики назвать традиционными еще труднее, если под этим термином понимать тот образ жизни, который вели ошобинцы в XIX веке, но и говорить без каких-либо оговорок о современности, беря за ее образец европейскую или даже российскую экономику, тоже не приходится.
Мы видим, что экономическая жизнь Ошобы имела чрезвычайно многослойную структуру — с различными способами получения доходов, различным технологическим оснащением, различными социальными сетями, различными уровнями контроля со стороны государства и так далее. Мы видим, что отдельные люди и семьи были тесно вовлечены одновременно во все сферы и при этом в случае необходимости легко меняли свои приоритеты, сочетали разные ресурсы, а их экономические стратегии заключались в том, чтобы поддерживать и интенсифицировать любые имеющиеся и вновь открывающиеся возможности. Мы видим также, что и государство, которое массированными инвестициями превратило производство хлопка в основную хозяйственную отрасль Ошобы и радикальным образом обновило всю инфраструктуру кишлака и региона, сознательно сохранило вне хлопковой экономики не менее мощный частный сектор производства целого ряда необходимых местным жителям товаров, реконструировав его и превратив в источник неафишируемых дополнительных доходов, обменов, обязательств. Эти два разных сектора можно назвать «первой» и «второй», официальной и неофициальной (или подпольной), легальной и нелегальной (еще и полулегальной), открытой и теневой (или серой) экономиками591. Однако такое разделение в данном случае будет очень условным — в действительности эти разные производства дополняли друг друга и создавали тот баланс интересов, благодаря которому, по крайней мере в позднесоветское время, поддерживались относительно нормальный уровень жизни и политическая лояльность населения.
Как, каким языком нужно описывать/характеризовать итоги советских трансформаций в экономике Средней Азии? Обратимся к существующим размышлениям на эту тему. В своей статье «Модернизация без рынка?» британская исследовательница Дениз Кандиоти обращает внимание на парадоксальное различие оценок советской эпохи: от восхищения достигнутыми в этот период результатами развития «мусульманских окраин» до полного отрицания того факта, что советской власти действительно удалось что-либо существенно изменить в их жизни592. Вслед за постколониальной критикой, рассматривающей разные варианты концепции модернизации как своего рода продолжающуюся гегемонию Запада над остальными частями света, в том числе и над своими бывшими колониями, Кандиоти объясняет эти две крайности идеологическими пристрастиями тех, кто такие оценки давал, — западных советологов, с одной стороны, и советских этнографов, с другой593. Сама она предлагает рассматривать коллективизацию как более сложный процесс взаимодействия, когда советизация и изменение местных социальных институтов происходили вместе с местной колонизацией (я бы заменил последнее понятие на «локализация») уже самих советских институтов. При этом Кандиоти ссылается как на фактологическую часть работы Полякова, так и на известные исследования своей британской коллеги Кэролайн Хамфри594, которая, изучая колхозы в советской Бурятии, показала, что колхозная экономика включала в себя и даже усиливала традиционалистские отношения обмена, подарков и реципрокности. Автор статьи подытоживает: «То, что в данном контексте называют „традиционализмом“, в действительности было беллетризованным и заранее предопределенным итогом конкретного варианта модернизации, в котором, перефразируя Маркса, „все твердое“, вместо того чтобы „таять в воздухе“, превращается в странную пародию на самое себя»595.
Свои размышления Кандиоти продолжает в статье «Сравнивая постколониализмы: возможности и ограничения на Среднем Востоке и в Центральной Азии», которая появилась в 2002 году596. Но на этот раз ее больше интересует возможность анализировать советский опыт трансформаций в Средней Азии с точки зрения постколониальных концепций и концепций зависимости, в которых подчеркивается в первую очередь подчиненный характер бывших колоний, окраин и периферий, из чего далее объясняются особенности их экономик и социального устройства. Британская исследовательница весьма осторожно относится к перспективе безоговорочного применения этой модели к советскому случаю. Она обращает внимание на то, что последний имеет несколько иную траекторию, и предлагает перенести акцент с подчинения на гибридность597. Термин «гибридность» заимствован ею также из постколониальных исследований, но именно он представляется Кандиоти наиболее приемлемым обозначением для смешанных практик, в том числе экономических, в советской и постсоветской Средней Азии598.
В работах Кандиоти мне важен ясно продекларированный отказ от дихотомических схем. Постколониальная перспектива и концепция гибридности не являются в этом смысле единственно возможными отправными точками для анализа. К созданию более сложных моделей приходят исследователи и с другими теоретическими предпочтениями и словарями599. Но, кажется, они разделяют общий вывод: вместо противопоставления традиционализма и современности плодотворнее было бы вести речь о сложном взаимодействии локальных и транслокальных сетей, о разных способах управления и доминирования, различных механизмах контроля и разной степени прозрачности, о стратегиях выживания и максимизации прибыли.
Этот сплав или гибрид не делился таким образом, как об этом пишет Поляков, — на замкнутые, неизменные и даже противоположные сущности, которые будто бы изолированно сосуществовали в советской экономике. Разные виды или сферы хозяйственной (и всякой другой) деятельности не являлись совершенно автономными — они не просто взаимодействовали, но дополняли друг друга, проникали друг в друга, трансформировались в результате взаимного влияния. При том что одни сферы имели официальный характер и маркировались как современные (социалистические), а другие могли рассматриваться как нелегальные, теневые и порой именовались традиционными (феодальными или мелкобуржуазными пережитками), возникшая из их симбиоза экономическая модель была единой, ее элементы находились в равновесии или, во всяком случае, стремились к нему, и перемены в одной области неизбежно сказывались на всех остальных областях. Могла ли эта модель оставаться устойчивой и дальше — вопрос спорный и требующий самостоятельного изучения, но то, что с ее помощью бедный горный кишлак превратился в центр огромного хлопководческого производства и эпицентр строительного бума, — факт, сомнению не подлежащий.
Очерк шестой РОЖДЕНИЕ ОШОБИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
«Усвоение русской культуры под видом советской затушевывало тот факт, что контроль Советов над нерусскими территориями был формой колониального доминирования» — такое утверждение мы встречаем в книге американского историка Полы Майклс «Целебная власть: Медицина и империя в сталинской Центральной Азии»600. Исследовательница пишет, что Советский Союз был российским вариантом европейского империализма, распространившим на подчиненной территории новые типы дискурсов, институтов и практик исключительно с целью подчинения других, нерусских народов и их эксплуатации. Свой вывод она основывает на анализе политики советской власти в области медицины в Казахстане в 1920—1940-е годы, выделяя такие ее составляющие, как распространение европейской версии медицины, критика и даже преследование местных способов лечения и вообще местных культурных и социальных практик, навязывание русского языка, контролирование русскоязычными политиками и специалистами процесса медицинского образования и врачебной деятельности. Майклс пишет также о различных формах сопротивления казахов советскому/русскому доминированию, включая в понятие повседневного сопротивления в том числе и сохранение казахской этномедицины601.
Претензий к такой трактовке положения дел в азиатских республиках возникает много602. Вовсе не случайно свое исследование Майклс завершает началом 1950-х годов, то есть смертью Сталина, игнорируя вольно или невольно то обстоятельство, что в законченном виде советская медицина в регионе сложилась позже — в 1950—1980-е годы. Знак равенства, поставленный между советскостью и сталинизмом, сведение первой ко второму не позволяют увидеть те метаморфозы в социальном устройстве и сознании людей, которые происходили на протяжении почти сорока лет у поколения, родившегося уже при советском правлении и воспринимавшего существующий строй как свой собственный. Жители позднесоветской Средней Азии относились к своему положению и государству, в котором они жили, намного более лояльно, чем их родители и деды, что, безусловно, требует отдельного анализа.
Исследование Майклс о медицине в Казахстане еще раз поднимает вопрос о характере тех трансформаций, которые начались в имперское и продолжались или произошли в советское время. Нужно ли оценивать их как установление более изощренных способов контроля и господства колониальной власти, которой нужны были здоровые рабочие руки и промытые пропагандой мозги, или же речь идет о модернизации среднеазиатского общества, о политике рационализации и ликвидации социальных диспропорций между разными группами и регионами в рамках советского общества? Медицина — такая область знаний или деятельности, в отношении которой острота столкновения между двумя указанными позициями наиболее показательна.
Вслед за сторонниками разнообразных теорий модернизации можно было бы утверждать, что современная медицина — это лишь одно из закономерных следствий более общего процесса становления капиталистического/индустриального/рационального/космополитического/развитого (в данном случае я не обсуждаю варианты наименования) мира, который не только создал новые (научные) технологии и техники лечения, не только сформулировал новые (научные) представления о болезнях и их причинах, но и вписал все это в свою институциональную — экономическую, политическую, социальную, образовательную — систему. Правда, такого рода прямолинейный и довольно благостный взгляд был подвергнут двойной критике. С одной стороны, под ударами оказалась сама концепция модернизации, то есть идея неизбежного, линейного становления, одинакового для всех современных обществ603. С другой стороны, сомнения вызвал тезис о рациональности, эффективности, политической и даже культурной нейтральности современной медицины604. Такого рода критика хотя и скорректировала отношение к модерности как к универсальной категории, уточнила или проблематизировала вопрос о его источниках, структуре, механизмах воздействия, но тем не менее не поколебала, на мой взгляд, саму возможность говорить об этой самой модерности, имеющей свои особые язык и техники, свои претензии на историческую и пространственную универсальность.
Например, влиятельный французский философ Мишель Фуко предлагал рассматривать новейшую историю медицины как историю рационализации знания и формирования новых форм дисциплинарной власти. В книге «Рождение клиники» он описал современную медицину как «новое состояние осязаемого и излагаемого», то есть особое описание болезней, их классификацию, объяснение причин болезни, ее симптомов и способов лечения605. В книге «Надзирать и наказывать» Фуко исследовал, как с помощью целого ряда дисциплинарных практик способы рационализации человека и его тела превращаются в социальные институты и социальные пространства606. Наконец, в своих лекциях, прочитанных в Париже и Рио-де-Жанейро, он говорил о том, что с появлением капитализма произошло превращение человека в продуктивную рабочую силу и современное государство сформировало особого рода «биополитику», в которой «телом» становится население — оно подчиняется рационализации, категоризации, подсчету и контролю, массовому и единообразному воздействию и регулированию607. Социальная медицина, писал Фуко, — это «биополитическая стратегия», которая подразумевает «медикализацию» всего общества, то есть создание сети больниц и клиник, сбор информации, обучение, специальные исследования, проведение массовых мер по госпитализации, изоляции и прививанию и так далее.
Французский философ строил свой анализ модерности почти исключительно на примере европейской истории (а нередко — только Франции), не принимая во внимание многие другие страны и регионы, в том числе бывшие колонии европейских империй. И это вызывает трудности для многочисленных его поклонников, которые хотят использовать фукольдианские идеи для неевропейского, нефранцузского «поля»608. В частности, американский политолог Тимоти Митчелл, продвигаясь в фарватере этих идей, исследовал, как в египетское общество XIX века через проекты организации новой армии, школьное обучение, перепланировку городских и сельских поселений проникали новые дисциплинирующие практики управления, создававшие общество и человека, которых можно было видеть, контролировать и даже наказывать, не прибегая к прямому принуждению609. При этом, однако, тема внешнего подавления и ответного сопротивления, не очень любимая самим Фуко, оказалась за пределами внимания и Митчелла, хотя он указал, конечно, и на внешние источники, и на более насильственные методы внедрения дисциплинарных практик610.
Любопытно, что в книге Майклс о медицине в Казахстане ссылка на Фуко, разумеется, существует, но она спрятана в сноску и никак не обсуждается611. Важнее для исследовательницы опыт изучения европейского колониализма, в частности работы британских историков Давида Арнольда «Колонизируя тело: государственная медицина и эпидемическая болезнь в Индии XIX столетия» и Меган Вон «Исцеляя их болезни: колониальная власть и африканское заболевание»612. А вот у этих двух авторов мы уже находим развернутый спор с Фуко.
Арнольд хотя и использует фукольдианский словарь, говоря о телах и их дисциплинировании, но при этом прямо отмежевывается от основной идеи Фуко о том, что современная власть не является функцией институтов и людей. Для Арнольда современная медицина в колониях — это прежде всего колониальный проект разделения и подчинения613. В работе Вон есть раздел «Фуко в Африке?»614. Вон пишет, что существует «важное», «реальное» различие между колониальным режимом власти/знания и тем режимом власти/знания, который описан у Фуко. В этом различии она выделяет несколько пунктов. Во-первых, в колониальных странах власть на протяжении длительного времени осуществлялась репрессивными средствами, а не дисциплинарными, система же социального обеспечения (welfare) и контроля, похожая на западную, стала складываться здесь очень недавно — в позднеколониальный период. Во-вторых, колониальный человек уже был «другим» с точки зрения европейского взгляда, поэтому в колониях действовали другие механизмы конструирования разницы между нормой и не-нормой. В-третьих, для колониальных классификаций и категоризаций важны были группы людей, а не индивидуальности — в отличие от Запада, где медицина создавала рефлексирующего индивида; колонизируемый же человек лишался своей индивидуальности. В-четвертых, империя создавала в Африке не универсальный (европейский) капитализм, а местный традиционализм. Иными словами, современная западная медицина производила за пределами Европы несколько другие практики и эффекты, нежели те, о которых писал Фуко, — она была связана с «искажением» и «замещением», «пересмотром» и «переписыванием», позволявшими колониальной власти делить людей на своих и чужих, создавать инструменты контроля и подчинения615.
Все эти споры имеют прямое отношение и к тому, как оценивать и понимать характер советской медицины в Средней Азии. В настоящем очерке я попробую рассмотреть различные аспекты той власти, которой обладала медицина в Ошобе, те механизмы и инструменты, посредством которых она могла влиять на локальное общество, ту роль, которую она играла в распределении властных ресурсов и иерархий. Меня прежде всего интересует, как этот привнесенный извне и искусственно имплантированный в жизнь местной сельской глубинки социальный институт взаимодействовал с локальными социальными сетями, практиками и представлениями, где´ пролегала граница между своим и чужим, каким образом ошобинское сообщество присваивало или отторгало этот институт. Должен, однако, признаться, что во время своего исследования в 1995 году я не рассматривал медицину в качестве предмета специального изучения, но в силу разных обстоятельств, о которых скажу в Заключении, мне пришлось много общаться с медицинскими работниками и наблюдать за жизнью сотрудников и пациентов ошобинской больницы. Лишь в 2010 году я собрал несколько интервью и поработал в архивах именно по медицинской теме, однако отдаю себе отчет, что мои данные все еще являются неполными, а наблюдения — не слишком глубокими.
Больница как социальный институт
Учреждение
Больница — не просто место, где ставят диагноз, лечат или выдают справки. Больница — это социальный институт, возникший в определенного типа обществе, которое можно назвать, капиталистическим, индустриально-городским, рациональным, современным, европейским или космополитическим. Иначе говоря, больница появилась когда-то и где-то не сама по себе, а как часть целого комплекса других социальных институтов, представлений и практик, с ней тесно связанных.
Сказанное означает, что роль больницы в Ошобе нельзя рассматривать изолированно от всех тех изменений, которые произошли в советское время. Это были взаимосвязанные процессы, дававшие кумулятивный эффект. Государство заново формировало социальное пространство — инициировало строительство каналов и дорог, орошение новых земель, обустройство новых поселений, проведение электричества, телефонных линий и так далее. Государство же заботилось об обеспечении всех необходимых производственных процессов рабочей силой, которая должна была иметь определенный уровень образования, профессиональных навыков, а также быть здоровой, то есть обладать физической способностью к воспроизводству616. Больница одновременно была и необходимым условием для трансформации общества, и результатом этой трансформации, поскольку функционировала как институт на определенной технологической/инфраструктурной базе.
Первые медицинские учреждения — назову их «европейского типа» — появились в Ферганской долине еще в конце XIX века, но были немногочисленны, малодоступны из-за языковых и религиозных барьеров и плохо оснащены617. У меня нет свидетельств того, что жители Ошобы обращались туда за помощью, хотя не могу исключать, что единичные случаи такого рода имели место — и тогда заболевшим приходилось ехать в Чуст, Наманган, Коканд или Ходжент, где такие учреждения существовали.
Планомерная и массированная интервенция европейских медицинских институтов и средств лечения началась только в советское время. Где-то в 1928–1929 годах в Ошобе побывало несколько «русских» (точную национальность мы, конечно, не знаем) врачей, которые сделали всем местным жителям прививки от оспы. Будущий учитель Т.К., который жил до этого в Ташкенте, одно время помогал им как переводчик618. В 1935–1944 годах в Ошобе жила «русская» женщина по фамилии Марченко, она была медсестрой (или врачом?) и работала в ошобинском медпункте619. После войны в кишлак приехала еще одна «русская» женщина, по имени Нюся (фамилию я узнать не смог), которая на фронте вышла замуж за ошобинца Эгамберды Ходжамбердыева, первого в кишлаке кавалера множества правительственных наград620. На войне она была санитаркой, умела делать повязки, уколы, поэтому работала в ошобинском ФАПе (фельдшерско-акушерском пункте) — единственном медицинском учреждении кишлака и сельсовета.
С середины 1950-х годов в ошобинском ФАПе работал местный житель Р., зарплату он получал через сельсовет, и вести дела ему помогал охранник сельсовета. В ФАП поступали лекарства, и в случае каких-либо эпидемий Р. назначал их. В его обязанности входило, как он признавался, не столько лечить, сколько выписывать справки по болезни, на основании которых человека можно было освободить от работы (например, беременную женщину, рассказывал он мне, освобождали на один месяц до и на один — после родов), — тогда, правда, он не выдавал бумажки, а просто говорил бригадиру или председателю колхоза, кто болен. Часто, не скрывал Р. в разговоре со мной в 1995 году, его просили дать освобождение от работы люди, которые ничем не болели, но имели какое-то срочное личное дело, — такие разрешения ошобинцам он иногда давал и по просьбе раиса.
Масштабное расширение медицинской сети началось с переходом местной экономики на хлопок и вообще увеличением численности жителей сельсовета Ошоба. В конце 1950-х годов отдельные ФАПы появились в Оппоне, Шеваре и Гудасе. В 1964 году в Ошобе построили больницу, в которой было сначала 15, а потом 25 коек, включая 13 в терапевтическом отделении, 10 — в детском, две — в родильном (Илл. 21). Всего в больнице было 24,5 ставки, из них 3 ставки врачей (два общих врача и один зубной), 11 — среднего медицинского персонала (медсестры, патронажные сестры, акушеры, фельдшеры), 5 — младшего медицинского персонала и 5,5 ставки — остальные621. В 1975 году число ставок увеличилось до 30,75, включая 3,5 ставки для врачей, но они были заняты не полностью622. В каждом ФАПе было еще по 3 ставки — фельдшер, акушер и младший медицинский персонал, позже открыли четвертый ФАП в Олме, а количество ставок во всех ФАПах уменьшили до двух (одна ставка фельдшера и по 0,5 на акушера и младший персонал)623. Главврачом стал Хамид Хамраев (родом из Исфары), он был единственным врачом в Ошобе и работал всего около полугода; потом какое-то время главврачом был Нишонбай Усманов (родом из Пангаза), а после, один за другим, — два выходца из Кырк-кудука. Как говорилось в отчете за 1965 год, не все врачи «соглашаются на работу в этих горных сельских больницах»624.
Илл. 21. Рисунки на здании старой больницы
С 1979 по 1985 год главврачом в Ошобе был Курбонбай Икрамов, родом из Ашта (он жил в Аште и каждый день приезжал на работу в Ошобу). После Икрамова главврачом впервые стал ошобинец — Ашурали Дехканов, который после армии учился в медицинском институте в Душанбе, а в 1982 году приехал в Ошобу и через несколько лет был назначен на эту должность. В начале 1990-х годов в кишлаке началось возведение более просторного здания для больницы — в 1995 году одно крыло уже было построено и функционировало, но другое еще строилось, и средства на его завершение найти было трудно. Как признавался мне главврач, «я опоздал, раньше — кто первый проявлял инициативу, тот получал деньги на развитие, а я пришел поздно». В Мархамате также было начато строительство нового здания больницы, но и оно в начале 1990-х годов было приостановлено625 (Илл. XIV).
Локальная система здравоохранения в начале 1990-х годов была устроена таким образом: ошобинская больница подчинялась Центральной районной больнице в Шайдане, куда в случае необходимости отправляли наиболее тяжелых больных (и где, кстати, главврачом тогда тоже был ошобинец). Районная больница подчинялась областному отделу здравоохранения — там утверждали на должность и увольняли врачей, назначали главврача, принимали отчеты и давали методические указания, но сами начальники из области редко бывали в Ошобе и не вмешивались во внутреннюю жизнь местной больницы. Районный же главврач был в курсе всей текущей работы. Деньги для больницы, в том числе на питание больных и на лекарства, распределял финансовый отдел райисполкома, минуя районную больницу (сами лекарства и продукты в 1995 году приходилось самостоятельно доставать в райпо, где в тот момент тоже работал ошобинец, и в райаптеке). Средствами помогал в случае необходимости глава района. Далее деньги проходили через бухгалтерию сельсовета.
Ошобинская больница имела права участковой больницы в сельсовете Ошоба, у нее было шесть филиалов (ФАПов) в Шеваре, Олме, Мархамате, Гудасе, Нижнем Оппоне и Етти-тепа. До 1993 года ФАП был в Верхнем Оппоне, но потом здесь образовалась СеВА (сельская врачебная амбулатория), которая формально подчинялась главврачу ошобинской больницы (он получал отчеты, принимал и увольнял работников), но финансировалась отдельной строкой через райфинотдел. СеВА, в отличие от ФАПов, самостоятельно выдавала справки и больничные листы, минуя ошобинскую больницу. ФАПы в Нижнем Оппоне, Гудасе и Етти-тепа, хотя и финансировались через больницу в Ошобе, справки и больничные листы выдавали через оппонскую СеВА.
Вся система здравоохранения в сельском совете/джамоате (включая ФАПы и СеВА) имела 106,5 штатной единицы (в том числе 13,25 единицы для врачей), реально же числилось 103 человека (в том числе 10 врачей), но работало еще меньше, так как многие женщины из числа младшего персонала находились в отпуске по уходу за новорожденными детьми. В СеВА было 12,5 штатной единицы, работало восемь человек; в Ошобе — 86 штатных единиц; в Шеваре и Олме — 2,5 единицы, работало же два человека; в Мархамате — 7 единиц; в Гудасе — 3,5 единицы, работало три человека; в Етти-тепа — 1,5 единицы, работал один человек; в Нижнем Оппоне — 3,5 единицы, работало три человека. Врачами в основном были мужчины, женщины работали медсестрами и в качестве обслуживающего персонала.
В 1986 году в ошобинской больнице были образованы три отделения: детское (один пост — 20 коек), терапевтическое (один пост — 25 коек) и родильное (один пост — 10 коек). Ашурали Дехканов закупил хирургическое оборудование и хотел вызвать одного ошобинца, который работал тогда хирургом в Душанбе, для организации хирургического отделения. Кроме стационарных имелись участковые работники, за каждым из них была закреплена определенная часть населения, которую они обходили не реже одного раза в месяц. Участковому врачу начислялась дополнительная надбавка за выслугу лет, а кроме того, каждый врач получал надбавку за ночное дежурство (все врачи и шоферы по очереди дежурили в больнице, чтобы выезжать к больным по срочному вызову) — тарифы оплаты определялись сверху.
Социальная сеть
Больницу невозможно рассматривать только как институт, привнесенный в Ошобу извне и выполняющий роль внешнего регулятора локальной жизни. Как и другие институты, больница изначально была включена в местные социальные сети, местную политику и местные отношения власти626.
Этот факт становится очевидным, если мы присмотримся к родственным связям главного врача больницы — Ашурали Дехканова. О его предках мне известно немного, вместе с отцом, Мирхолдором, который уехал из Ошобы, он довольно долго, около десяти лет, жил в Пангазе. Один из братьев Дехканова был заведующим молочной фермой в колхозе «Калинин», другой родственник по отцовской линии — бригадиром627. Сестра вышла замуж за Ахмаджана Султанова, который раньше работал главным агрономом в «Калинине», а в 1995 году был председателем сельского совета/джамоата.
Самое же примечательное то, что жена Ашурали Дехканова — дочь Имамназара Ходжаназарова.
Ненадолго вернемся к председателю колхоза и его карьере628. В 1970-е годы конфигурация разных отношений и коалиций внутри Ошобы уже не имела принципиального значения, поскольку изменились многие исходные структурные и институциональные условия власти. Учителя как носители особого знания быстро теряли свое значение и статус — теперь образование, партийность и русский язык стали доступными и для других жителей кишлака. Председатель сельсовета после создания в Ошобе единого большого колхоза окончательно утратил свой общественный вес и стал фигурой второстепенной. Должность раиса, в руках которого сосредотачивались огромные материальные ресурсы и которому, по сути, подчинялись все остальные местные начальники, стала намного более весомой — теперь он сам мог снимать и назначать своих подчиненных и ему не нужно было, как Умурзакову, поддерживать баланс между разными местными акторами. Хлопковая монополия усилила связи раиса с районным и областным руководством, а это означало, что судьба председателя колхоза отныне зависела от соотношения сил не внутри ошобинского сообщества, а за его пределами.
Изменение структурных условий изменило и значение родственных связей. В частности, стала возрастать роль детей в местной политике. Это объясняется тем, что руководитель теперь находился у власти на протяжении нескольких десятков лет и повзрослевшие дети становились и объектом особой заботы, и дополнительным ресурсом для политики влияния. Это хорошо видно на примере Ходжаназарова, который очень внимательно отнесся к устройству своих детей на работу и подбору их брачных партнеров.
У Ходжаназарова было трое сыновей и пять дочерей. Старший сын работал мастером на строительном комбинате и трагически погиб. Средний сын — Охун — тоже работал мастером на строительном комбинате, затем служил в КГБ и милиции; его жена — дочь Абдубанноба Исмадиерова, известного в Ошобе человека, многолетнего председателя районо и потомка Исамата, к роду которого принадлежали Одинамат-аксакал и Мирхолдор-аксакал629. Младший сын — Расул — работал в райпо, а в 1995 году занимался бизнесом. Старшая дочь Ходжаназарова в 1995 году работала заместителем председателя сельсовета и числилась парторгом сельсовета, а ее муж, Файзулла Абдуллаев, сделал хорошую карьеру — дослужился на строительном комбинате, начав с должности мастера, до поста директора комбината, а в конце 1994 года был назначен главой Аштского района (один из его братьев был замначальника районной санэпидемстанции, другой — руководителем районной ГАИ). Вторая дочь раиса вышла замуж за Ашурали Дехканова. Мужем третьей дочери стал неошобинец, его отец был родом из Камыш-кургана и работал заместителем начальника районного отделения милиции, а потом перешел на должность начальника одного из управлений внутренних дел в Душанбе. Мужем четвертой дочери Ходжаназарова стал близкий родственник Абдумалика Холдорова — того, который работал в Адрасмане и в 1966 году первым из ошобинцев получил звание Героя Социалистического Труда. Пятая дочь, уже после моего отъезда из Ошобы в 1995 году, вышла замуж за сына бригадира Нишонбоя Эргашева, влиятельного в кишлаке человека.
Что обращает на себя внимание в выборе Ходжаназаровым брачных партнеров для своих детей? Во-первых, существенная роль родственного фактора — одна невестка (Исмадиерова) и один зять (Холдоров) уже были в довольно близком родстве с семьей раиса. Предпочтительное заключение брака с родственником — это устойчивая практика, которая имеет множество значений, не обязательно одинаковых в каждом конкретном случае. Для одних семей это способ снизить расходы на свадебные ритуалы, для других — возможность сохранить землю и дом в рамках круга «своих», для третьих — вариант более комфортного общения с родственниками невестки (қуда) и более надежный способ уберечь молодую семью от конфликтов, для четвертых — своеобразное обязательство близких родственников друг перед другом, своего рода подтверждение взаимной лояльности, близости, что, конечно, имеет значение и для союза этих родственников в местной общинной политике.
Во-вторых, некоторые из зятьев хотя и были ошобинцами — в этом Ходжаназаров придерживался (за одним исключением) правил локальной эндогамии, — но происходили из семей, которые подолгу жили за пределами Ошобы: семья Абдуллаева — в Оби-Аште, Дехканова — в Пангазе. Можно предположить, что Ходжаназаров на каком-то этапе своей жизни стремился дистанцироваться от внутренней, повседневной жизни ошобинского сообщества, от местных конфликтов и союзов и поэтому предпочитал расширять свои контакты за пределами кишлака, действуя тем не менее в логике установившихся неформальных правил.
В-третьих, ни сыновья Ходжаназарова, ни большинство его зятьев никак напрямую с колхозом «Калинин» связаны не были. Ходжаназаров с помощью родственных связей скреплял отношения колхоза, которым он руководил, с другими социальными институтами, где мог — устанавливал через родство контроль над ними, добавляя к официальным инструментам воздействия неформальные альянсы и интересы.
Я описал только те отношения, которые связывали главврача ошобинской больницы и председателя колхоза. Однако это была не единственная, хотя, может быть, самая важная сеть отношений. Все, кто работал в больнице, и особенно врачи, так или иначе пользовались возможностями своего положения и предоставляли их в распоряжение своих родственников и знакомых. Поэтому во многих влиятельных ошобинских семьях имелся кто-нибудь, кто работал в медицинской сфере (например, один из сыновей Юсуп-раиса Юлдашева — врач в Мархамате, тогда как другой сын был заведующим фермой в колхозе). В любой момент каждая из такого рода побочных сетей, занимающая подчиненное положение, могла волею судьбы или в результате определенной борьбы превратиться в основную и стать источником еще больших выгод для ее участников630.
Итак, больница как набор зданий, оборудования, разного рода архивов с данными на всех жителей Ошобы была одной из частей разветвленной локальной сети властных связей, куда входили руководители района, председатель и другое колхозное начальство, председатель сельсовета и его заместитель, представители других социальных институтов, обладающих ресурсами и влиянием. Больница, которая ввела новые практики и классификации в ошобинское общество и являлась инструментом государственного контроля, была, уже в качестве властного ресурса, присвоена местными локальными группами и использовалась ими для укрепления их собственного влияния и их собственной власти в сообществе.
Хозяйство
Несмотря на то что теоретически обязанности медицинских институтов заключались в оказании разного рода медицинских услуг и осуществлении медицинского (и вообще социального) контроля за местным населением, в действительности их функции выходили далеко за рамки сугубо лечебной деятельности. Местная больница несла бремя дополнительных обязанностей, которые были связаны с задачами колхозной экономики.
Больница имела свой особый бюджет, в который помимо оплаты труда врачей и других работников входили финансы на поддержание всей текущей деятельности, закупку оборудования и материалов, содержание больных и так далее. Больница, как и другие важные для государства социальные институты, была включена в сложную игру вокруг «выбивания» дополнительных ресурсов, аргументации необходимости расходов и различного рода способов их «укрытия» в теневых зонах, где контроль государства был слабее и можно было перенаправлять ресурсы в соответствии с локальными интересами различных фигур и групп. То же строительство больничных зданий требовало больших денежных и материальных потоков, а значит, вовлечения в их формирование и распределение колхоза и строительных организаций — все они получали свою долю бюджетного пирога. Я говорил в предыдущем очерке, что, осваивая инвестиции в расширение хлопковых площадей, председатель колхоза «Калинин» использовал все формальные и неформальные рычаги, чтобы привлечь новые капиталовложения в свое хозяйство и на свою территорию, расширить производственную и социальную сферы, которые требовали бы новых и новых денежных вливаний. Больница была одной из таких сфер — не первой, но и не последней в шкале приоритетов, а координация усилий раиса и главврача позволяла удвоить давление на вышестоящие органы управления и получить, соответственно, большее внимание и более выраженный материальный эффект.
У больницы были и другие экономические возможности, которые могли быть источником дополнительных доходов. Например, при каждом ФАПе имелось свое небольшое хозяйство — участок (в Шеваре, например, это было 10–12 соток земли), где можно было выращивать деревья, овощи, зелень, пшеницу, держать пчел и так далее. Основная работа фельдшера в летний сезон заключалась именно в том, что он и его семья трудились на таком участке — больных в этот период было немного, так как все должны были работать в колхозе и на собственных домашних участках.
В советское время за больницей было закреплено 50 га колхозной (хлопковой) земли, а кроме того, многие работники больницы брали по 1–2 га земли на обработку. В обязательном порядке хлопковые участки раздавались всем санитаркам, сторожу, шоферам; врачи от обязанности работать в поле были освобождены. Такая практика закончилась в 1991–1992 годах. В прошлом больница также «добровольно» помогала колхозу обрабатывать хлопок, собирать его (отправляли людей в поле на пять-шесть дней), собирать сено (около двух недель) — за это колхоз ничем не платил медработникам, только устраивал, как положено в случае хашара, угощение.
В конце 1980-х или начале 1990-х годов больница заключила с колхозом договор и взяла в аренду 20 га (потом — 10 га) земли: заранее подсчитывали, какой доход принесет урожай хлопка с участка, из этого дохода высчитывали плату колхозу за тракторы, удобрения и разные услуги, а всю оставшуюся прибыль перечисляли больнице. В самой больнице эти 20 га распределялись на участки между всеми желающими и потом каждому работающему из полученных доходов по колхозным расценкам начисляли зарплату. Это было выгодно, так как обычно больница собирала со своего участка больше хлопка (а за сверхплановый урожай шла дополнительная надбавка к цене). Ясно, что такая схема могла действовать лишь при некоторой поддержке начальства, которое решало, какой план дадут, сколько расходов и доходов начислить. Эти хитрости позволяли получать сверхдоход, но в результате именно из-за споров по поводу последнего главврач был недоволен (ему казалось, что доход больнице колхозные бухгалтеры начисляют заниженный), и поэтому от аренды отказались. Услышав от Дехканова эти объяснения, я спросил его: «А почему вы не обратились к своему тестю (Ходжаназарову), чтобы он проверил бухгалтеров и решил проблемы?» — на что главврач ответил: «Не буду обращаться, а то кругом скажут, что вот, мол, председатель защищает свою родню. Не буду я спорить, драться из-за их махинаций».
Впрочем, возможно, главврач отказался от аренды потому, что договорился с раисом о более выгодной схеме: колхоз выделил больнице участок в местечке Тахтапез631. На участке выращивались зелень и овощи, которые использовались для питания стационарных больных и медперсонала, там же содержалось около 50 барашков и коз — их резали на праздники и устраивали угощение для работников больницы. Этот участок колхоз выделил больнице в полное ее владение (то есть не в аренду или другое временное пользование) на рубеже 1980—1990-х годов на основании республиканского постановления о выделении земли для больниц. В то время орошаемый участок занимал площадь около 2–3 га, работники больницы своими силами расширили его до 15 га, построили там десятикомнатный дом, спортплощадку и чуть ли не каждый день летом выезжали туда на отдых.
В 1995 году, в условиях кризиса, войны и натурализации экономики, колхоз принял решение выделить для больницы 20 га засеянной пшеницей земли, и в больнице нашлось 30 человек, желающих работать на уборке урожая. Сам главврач, чья зарплата катастрофически уменьшилась на фоне инфляции, был тоже не прочь взять землю и убирать пшеницу.
Корпорация
Принадлежа к государственной структуре и будучи вписанной в локальную сеть властных отношений, больница имела свою автономию — иерархию, ритуалы и практики, корпоративную идентичность, жаргон, интересы. Члены медицинского сообщества ощущали себя отдельной группой, по отношению к которой все остальные — это действующие или потенциальные пациенты, обезличенная и подчиненная категория людей. Врачи и в меньшей степени другие медицинские работники получали специфическое образование, которое давало помимо профессиональной информации и навыков умение говорить особым идеологическим языком, включающим осуждение отсталости, вредных и неправильных обычаев, ошибочных взглядов и так далее. Нельзя забывать также, что врачи получали высшее образование в городе и на русском языке, то есть сами во многом русифицировались и привыкали к городским пище, одежде, манерам поведения.
Как и учителя, врачи имели в ошобинском обществе особые привилегии, связанные с их правом нарушать локальные нормы поведения во имя сохранения советской лояльности. Приведу два примера.
В 1995 году своего рода символом современности в ошобинской больнице была работавшая в ней разведенная молодая женщина, которая каждый день приходила на работу с макияжем и модной прической и, что особенно бросалось в глаза, без обязательного атрибута кишлачного женского наряда — шаровар (лозим, что в переводе буквально означает «необходимые»). Со своей семьей она долгое время жила в поселке Кансай, где привыкла к городским модам и образу жизни, а вернувшись в Ошобу, не стала их менять, несмотря на то что это слишком ее выделяло и приковывало к ней внимание. Профессиональное пространство больницы делало вкусы и предпочтения этой женщины легитимными, поэтому никто не мог высказать ей каких-то замечаний или претензий. Правда, современность этого пространства охранялась формальными и неформальными властными институтами: стоит добавить, что дядя (амаки) этой женщины был председателем сельсовета, среди других ее близких родственников были еще один врач и колхозный бригадир.
Второй пример — празднование в ошобинской больнице Дня медицинского работника. Признаюсь, в 1995 году, когда я наблюдал это мероприятие, у меня не было к нему особого интереса. Все происходившее казалось мне рутинным, скучным, однообразным. Теперь, когда прошло много лет и я не погружен в ту, уже далекую повседневность, я вспоминаю это событие как поразительное и совершенно необычное смешение самых разных стилей и практик.
Празднование происходило в недавно построенном корпусе нового здания больницы, в широком холле, где были расставлены столы и скамейки (Илл. 22). Расположение участников повторяло обычную структуру вечеринок (базм) на свадьбах и других увеселительных мероприятиях: мужчины разместились в одной половине холла, женщины — в другой. Внутри каждой группы не было заметно никакой социальной иерархии. Начальники больницы находились тут же и никак не выделялись из общего ряда632. Несмотря на явное гендерное разделение, это все-таки был общий стол, где всем одновременно подавали горячую пищу и где между двумя половинами происходило общение. Как и в случае с вечеринками633, это считалось советским стилем и было своеобразной данью «европейскому» характеру больницы как особого государственного учреждения.
Илл. 22. На Дне медицинского работника, 1995 г.
Таким же советским было угощение — различные закуски, свежие и непременные сушеные фрукты, орешки. Однако диссонансом к нему был суп-шурпа (шўрва), который обычно подают в более традиционной ситуации (правда, не было плова). На мужской половине появилась водка, но, как это обычно бывает в публичной обстановке, все участники делали вид, что пьют спиртное тайком. Разумеется, это видели все, и спиртное было публичной, но символически скрываемой частью происходящего действа.
Несколько неожиданной для меня была игра, в которой всем предложили поучаствовать и которой руководила молодая девушка: это было что-то вроде обмена вопросами и ответами, заранее записанными и случайно, наугад подбираемыми друг к другу. Я, к сожалению, не записал подробно, что происходило во время этой игры и какие вопросы и ответы звучали. Подобными играми развлекались иногда студенческие компании первокурсников или группы новоприбывших в домах отдыха — когда нужно было быстрее познакомиться друг с другом и преодолеть барьеры в общении. Кто придумал устроить такую игру на Дне медицинского работника в ошобинской больнице, я не узнал, но выбор такого необычного для жителей кишлака времяпрепровождения явно был попыткой скопировать опыт советского досуга, который воспринимался как русский/европейский. Возможно, конечно, что у такого рода игр были местные прототипы, но в советское время прежние игры и гулянья были переосмыслены, получили новое идеологическое обоснование, дополнительную степень свободы общения между полами и возрастными группами, стали более распространенными и даже обязательными.
Музыку на вечеринке исполнял местный ансамбль, в целом это был стандартный танцевально-молодежный репертуар современных узбекских песен. Опять же неожиданно прозвучали песни на русском языке, причем в стиле шансона с характерным полублатным жаргоном.
Танцы не служили способом заигрывания и ухаживания. Присутствующие мужчины и женщины были в основном женатыми и замужними, разного возраста, и это требовало от них соблюдения у всех на виду правил приличия. Конечно, в самих танцах присутствовал элемент дискотеки. Обычно ошобинцы танцевали на каких-то семейных праздниках, куда они приходили в качестве родственников, соседей или друзей, и тогда танцы выражали радость по случаю тех или иных торжественных событий в жизни близких людей. В танцах на праздновании Дня медицинского работника легитимный повод был совсем другим, не относящимся к жизни людей в Ошобе, этот повод был где-то вовне — в государственном устройстве, в официальных речах и отчетах. Люди тем не менее перенесли и на это мероприятие более привычные им практики поведения, одомашнили его, «обошобинили».
Праздник по случаю Дня медицинского работника был, возможно, организован по настоянию сверху, возможно — по собственной инициативе (по привычке с советских времен), но как бы то ни было, такая вечеринка, подобно любым другим вечеринкам, являлась механизмом формирования и поддержания социальных связей. В данном случае речь шла о социальных связях внутри больницы, которая оказывалась уже не только инструментом и ресурсом, но и особым социальным пространством со своими символами, границами, внутренней иерархией, ритуалами и идентичностью. Как отдельная социальная единица больница выступала и когда кто-нибудь из ее работников устраивал увеселительные или поминальные угощения — в этом случае представители больницы должны были прийти туда именно в качестве отдельной и самостоятельной группы. Точно так же, если в каком-то доме, который просто находился рядом с больницей, проводились поминки, праздничные пиршества (тўй) и ритуалы чтения Корана (хатми-қуръон), то в больницу направляли отдельное приглашение — как в отдельную семью, и представители больницы приходили на это мероприятие. Больница становилась, таким образом, субпространством внутри общего ошобинского пространства.
Больница как инструмент классификации
Лечение и льготы
Итак, больница была социальным институтом со всеми чертами, присущими социальным институтам, которые создавались по инициативе и при поддержке государства. В таком качестве больница повторяла многие особенности двух других созданных государством институтов, также присутствовавших в Ошобе, — колхоза и школы. Однако спецификой больницы были ее связь с определенной, особо значимой сферой деятельности — лечением населения — и, соответственно, получение дополнительного обоснования собственной легитимности в глазах людей.
К сожалению, я вынужден оставить в стороне вопрос об эффективности больничной системы с сугубо медицинской точки зрения, так как не располагаю полной статистикой заболеваемости и смертности в Ошобе в 1920—1950-е и 1980—1990-е годы, не говоря уже о более раннем периоде. Могу лишь констатировать, что население Ошобы в XX веке росло быстрыми темпами634, а это явно говорит о снижении смертности, прежде всего детской, что происходило, безусловно, в результате советской биополитики, направленной на активное вмешательство в образ жизни и здоровье местных жителей. В данном очерке я могу рассказать лишь о том, какие способы классификации и практики больница внедряла в ошобинское общество, меняя представления и поведение людей.
У больницы было несколько основных задач, под решение которых она создавалась и которые составляли основные пункты ее отчетности. Первой такой задачей была превентивная массовая вакцинация и ревакцинация населения, то есть предотвращение возможных эпидемий. Второй задачей, связанной с первой, являлось отслеживание/диагностирование случаев заболевания с помощью массовых осмотров, оказание первой срочной помощи на месте или оперативное направление выявленного больного в районные, областные, республиканские либо даже союзные медицинские учреждения, где ему могли предоставить квалифицированное лечение. Третьей задачей было контролируемое распространение медикаментозных средств лечения. Решение этих задач требовало регулярного и интенсивного наблюдения за максимально широким кругом людей, основными практиками которого были ежегодные диспансеризации и обходы врачами дворов, в ходе чего проводилась своеобразная медицинская перепись населения. В отчетах больницы, соответственно, обязательно фигурировали данные о количестве осмотренных, посещенных, о числе прочитанных лекций и проведенных бесед, об «обороте коек», «среднем пребывании на койке» и так далее (табл. 1 и 2). Кстати, тот факт, что из трех отделений больницы одно было педиатрическим, а другое — родильным, говорит об особом, первостепенном внимании к роженицам и детям635. Причем последних можно было контролировать и с помощью школы, то есть возникала своеобразная сцепка двух социальных институтов.
Одной из практик контроля была медицинская категоризация населения с разного рода льготами и запретами, вытекающими из нее. На каждого жителя Ошобы было заведено по общим правилам отдельное досье — медицинская карта, в которой указывались личные данные: возраст и пол, профессия и должность, национальность и семейное положение, а также велся подробный учет перенесенных болезней, осмотров, процедур. По итогам всех этих записей и диагнозов врач мог отнести человека к числу здоровых (или, например, годных к военной службе либо к той или иной профессии), а мог определить в больные и назначить лечение или даже присвоить категорию инвалидности, которая, в свою очередь, подразделялась на ряд субкатегорий в зависимости от вида и тяжести болезни. Больным и инвалидам требовались более тщательные внимание и контроль. Временное пребывание в состоянии болезни давало право на легальное освобождение от официальной работы, в том числе на хлопковых полях, или от учебы, на какие-то отсрочки (от того же призыва в армию). Постоянное же состояние инвалидности позволяло выйти раньше срока на пенсию и получать различные денежные надбавки и другие льготы (освобождение от налогов, путевки в дома отдыха и так далее). Все это становилось предметом своеобразных переговоров, соглашений, а нередко и конфликтов между пациентом и врачом, которые в случае Ошобы жили по соседству, часто состояли в родстве и знали друг друга с детства — имели историю общения, положительную, отрицательную или нейтральную, за пределами больницы. Эти переговоры, конечно, включали в себя разные формы обмена и оплаты, которые всегда являлись для врачей вторым (а иногда и первым, основным) источником доходов.
Таблица 1
Поступление больных на стационарное лечение в ошобинскую больницу в 1965 и 1975 годах
Источники: Аштская районная центральная больница. 1965 год // ФГАСО РТ, ф. 151, оп. 1, д. 151. Л. 31; Годовой отчет Аштской ЦРБ за 1975 год // ФГАСО РТ, ф. 131, оп. 1, д. 162. Л. 61. Данные за 1980-е годы, к сожалению, в архиве отсутствовали.
Таблица 2
Деятельность ФАПов в 1965 и 1975 годах
Источники: Годовой отчет Аштской райбольницы, СВУ, ФАП за 1965 год // ФГАСО РТ, ф. 131, оп. 1, д. 150. Л. 153–154; Годовой отчет Аштской ЦРБ за 1975 год // ФГАСО РТ, ф. 131, оп. 1, д. 162. Л. 128–130.
Советская медицина и ее местные адепты, получившие образование в специализированных институтах и техникумах, принесли в Ошобу новые практики диагностирования. Одной из них было касание и осмотр тела другого человека. Мусульманские установления строго требуют скрывать тела взрослых мужчин и женщин. В среднеазиатских городах и кишлаках в конце XIX — начале XX века женщина в публичном пространстве должна была появляться в накинутом на голову длинном халате-парандже (паранжи) с закрытым черной сеткой (чачвон) лицом, что полностью прятало даже общие очертания ее тела; обязательной женской одеждой были длинная туникообразная рубаха, шаровары (лозим, иштон), разного рода халаты и головные платки. Открытие лица и тела рассматривалось как аморальный поступок, хотя в приватном пространстве — в помещении или без посторонних свидетелей — эти нормы постоянно нарушались636. В сельской же глубинке, в стороне от городов, где жители знали друг друга с детства и все были в разной степени родственниками, граница между приватным и публичным пространствами размывалась, поэтому скрывание лица и тела не было тотальным, паранджу и чачван надевали редко — только на публичных мероприятиях или в поездках за пределы кишлака. Тем не менее и здесь существовали сегрегация мужчин и женщин, скрывание или прикрытие тела и лица при массовом скоплении людей, осуждение чрезмерной открытости.
Во времена Российской империи чиновники и общественные деятели критиковали эту сегрегацию и изолированность женщины, но не стремились вмешиваться в местные порядки и диктовать новые правила поведения. Советская же власть не просто разрешила открываться, но потребовала от женщины определенной открытости в публичном пространстве637. Этой политикой декларировалось освобождение женщины и поощрялось включение ее в сферу советской публичности, что рассматривалось как один из способов борьбы с прежними социальными порядками и гендерными иерархиями.
Медицина была одним из направлений этой политики, она должна была приучать к новым практикам поведения. Женщины должны были открываться в присутствии врача-мужчины на осмотрах или в случае болезни. При этом советская медицина не предполагала разделения больниц на мужские и женские, как это было до 1917 года, когда для местного населения существовали женские и мужские амбулатории. В результате возникали непростые коллизии, выход из которых приходилось искать и пациенткам638, и врачам (как правило, мужчинам) — и те и другие были воспитаны на запретах в отношении открытого тела и соприкосновения с ним. Женщины старались исключить лишнее общение с врачами, решая все вопросы устными консультациями или прибегая к помощи медсестер в качестве посредниц. Если осмотра нельзя было избежать, то многие предпочитали пройти его за пределами кишлака, в районной или городской больнице, где можно было сохранить анонимность. В ошобинской больнице общение врача и пациента, если они были разного пола, происходило по возможности в приватной обстановке, при максимальном соблюдении всех предосторожностей морального свойства.
В конце 1980-х — начале 1990-х годов эти коллизии приобрели характер публичных дискуссий. Некоторые общественные и местные деятели в Узбекистане и Таджикистане, ссылаясь одни на национальную мораль, а другие на ислам, призвали более строго соблюдать сегрегацию полов в транспорте, школах и больницах, раздавалось, в частности, требование, чтобы мужчины не были гинекологами. Однако дискуссия не получила развития, учителя и врачи продолжали придерживаться прежних норм, которые были частью их профессиональной социализации и культурного капитала.
Кроме открывания тела появились и другие — конечно, так или иначе связанные между собой — новые медицинские практики: пребывание больного в изоляции в больничной палате, роды в стационаре, инъекции как способ приема лекарств, использование средств контрацепции и так далее639.
Разумеется, не следует забывать, что медицина была лишь частью общего социального и культурного ландшафта, в котором присутствовали и другие институты — государственное образование, армия, формы организованного отдыха. Социализируясь и действуя во всех этих пространствах, люди получали множество разнообразных навыков. Они заключались, например, в умении выстраивать отношения в замкнутом коллективе (в школьном классе, военном подразделении, общежитии), общаться с представителями другого пола, что в повседневной сельской жизни было ограничено, в умении обманывать врача, преподавателя или командира, выслуживаться перед ними и добиваться благосклонности начальства, обходясь без поддержки родственников и односельчан, в умении формировать категории своих и чужих и ориентироваться в них. Это могли быть навыки курения, распития спиртных напитков и употребления новой пищи (например, свинины, которая в родном кишлаке находилась под запретом), навыки ношения другой одежды, использования непривычных предметов обихода. Те, кто жил в городе, получали опыт езды на общественном транспорте, посещения магазинов и заведений общепита, а также учреждений культуры — кинотеатров, музеев, библиотек, где тоже надо было осваивать новую манеру поведения. Можно упомянуть также знание русского языка, который обязательно изучали в средней школе640 и практические навыки употребления которого получали в вузах и во время военной службы.
Нескольким поколениям ошобинцев через сложную систему формальных поощрений и наказаний внушались определенные, санкционированные государством представления о мире и обществе, жителей кишлака учили и приучали не только к тому, что говорить, но и к тому, как говорить — каким образом описывать себя и других людей, как правильно (с точки зрения формальных норм) вести себя по отношению к окружающим. Этот опыт включал не только информацию, которую необходимо было знать, но и многие практические умения — письма и чтения, заучивания и рассказа, ухода за внешностью (ношения формы, например), соблюдения гигиены, использования каких-то стандартных движений (нахождение в строю, поднимание руки на уроке) и стандартных выражений. Полученный опыт был очень многообразным, и перечислить все составляющие его элементы сложно.
Я не ставлю своей целью анализ всех этих практик. Я лишь констатирую, что медицинские категоризации и идентичности были частью более общего знания, они сцепляли самые разнородные навыки и умения, полученные в разных сферах, в особый подвид медицинского современного знания и поведения, который, в свою очередь, должен был помочь пациенту чувствовать себя здоровым, больным или вылеченным. При этом больница создавала особый режим истины с сильным воздействием на сознание людей, поскольку болезнь — это состояние, когда активно задействуются эмоции, ресурсы и отношения, когда включаются социальные сети. Болезнь ставит перед человеком многие вопросы идентичности и поведения, и именно в этот момент врач обладает большой властью над больным641. Медицинское убеждение в необходимости определенного поведения и определенной идентичности подкрепляется и усиливается собственным желанием человека избавиться от реальной или предполагаемой боли/болезни.
Локальная медицина
В 1975 году главный врач Аштской центральной районной больницы писал, что во всех сельских больницах «помещения… являются примитивными, условий для больных нет, также [больницы] недостаточно обеспечены мягким, твердым инвентарем, медицинским оборудованием, инструментарием, лечебно-диагностической аппаратурой, медикаментами и предметами ухода за больными»642. В 1995 году, спустя двадцать лет, один мой собеседник, показывая на новое огромное здание ошобинской больницы и хитро улыбаясь, сказал: «Смотри, сколько в больнице находится больных — десять человек. А сколько персонала их обслуживает? Семьдесят». В этих двух противоположных суждениях мы видим два угла зрения на больницу: один — изнутри больницы, с точки зрения ее интересов и логики ее экспансии, другой — извне, с позиции локального наблюдателя, оценивающего больницу во всей совокупности местных представлений о здоровье и причинах болезней. Для главврача имеющихся надзора и контроля за человеком со стороны государства (и со стороны самого главврача как медицинского чиновника и специалиста) недостаточно, а для местного жителя, на которого эти надзор и контроль нацелены, их уже избыточно много.
Осторожное, недоверчивое отношение к больнице я могу проиллюстрировать еще одной зарисовкой из своих наблюдений. В ошобинской семье, где я жил в 1995 году, однажды заболел маленький мальчик, и хотя здесь же, по соседству располагалась больница с целым детским отделением и десятком врачей с высшим образованием, взрослые решили показать заболевшего соседке, которая была бу-отин, то есть женщиной, получившей мусульманское образование, и принадлежала к роду местных ходжей643. Пожилая женщина поставила свой диагноз и посоветовала диету и травки, что вполне удовлетворило моих знакомых.
Почему же мои информаторы выбрали в этом случае не дипломированного врача, а соседку? Какого-то однозначного объяснения я не получил. Во-первых, соседка имела в локальном восприятии более высокое социальное положение — пожилая (значит, более опытная) женщина из особой, «сакральной» семьи, за членами которой закрепилась устойчивая слава успешных врачевателей. Дипломированные врачи ни по своему возрасту, ни по своей семейной истории на такой же статус претендовать не могли. Во-вторых, в больничном враче видели скорее не практика-лекаря, а человека, который делает прививки, проводит беседы, выдает различные справки со всеми вытекающими из этого выгодами и ограничениями. Связь всей этой деятельности со здоровьем, которая, безусловно, имелась, тем не менее не была очевидной с точки зрения человека, почувствовавшего себя плохо. Соседка же знахарка действительно, по местным представлениям, занималась лечением, сохраняя необходимую приватность и даже иногда важную для людей секретность этого процесса. Поскольку такое обращение к ней было не первым, значит, ей доверяли, в ней видели надежного лекаря, который справляется со своими обязанностями. К слову, приболевший мальчик через несколько дней выздоровел, что, скорее всего, произошло бы и без помощи соседки, но в сознании его родителей именно она оказала решающее воздействие на процесс выздоровления.
Советские больничные практики категоризации болезней и способов их лечения, таким образом, не всегда полностью обеспечивали снятие боли (я бы сказал — ее контроль), а также объяснение причин ее появления. Это порождало неформальные способы самолечения признанными медицинскими препаратами — таблетками, капсулами, порошками, мазями, настойками, которые можно было приобрести вполне легально, используя различные социальные связи, а не официальную процедуру выписки рецепта. Люди пытались использовать те же механизмы воздействия на организм, но минуя публичные и официальные способы категоризации и диагностирования.
Появление в Ошобе советской больницы и новых лечебных практик не привело к исчезновению прежних, локальных способов излечивания или снятия боли. Местные жители продолжали обращаться к разнообразным экспертам и занимались самолечением, исходя из собственных представлений о причинах недомогания. Это было связано отчасти с сохранением доверия к местным методам лечения644, отчасти с желанием избежать больничных практик, которые, с одной стороны, требовали больших затрат — времени, ресурсов и социального капитала, а с другой — более бесцеремонно вторгались в жизнь человека и принуждали его к избыточной открытости и контролируемости. Больничные практики не вытесняли других — небольничных, локальных — практик лечения, а вполне уживались с ними, иногда даже переплетаясь причудливым образом, о чем я скажу ниже.
Прежде чем перейти к описанию локальных медицинских практик в Ошобе, сошлюсь на супругов Наливкиных, которые в 1886 году дали емкое и красочное описание местных знаний о болезнях и их лечении в том виде, как они существовали в Фергане в сельской глубинке в момент присоединения региона к Российской империи645:
Медицина процветает, но только в том смысле, что ежедневно предлагаются тысячи самых несуразных советов и ежедневно же съедается, выпивается, прикладывается и намазывается целая прорва иногда далеко не безвредной дряни.
Большинство медицинских книг бомбейского издания; все почти на персидском языке, похожи одна на другую и привозятся сюда непосредственно из Индии. Местные медицинские книги, написанные на местном же, узбекском языке, очень редки, а по содержанию мало чем отличаются от бомбейских. Одна из таких книг лежит в настоящую минуту перед нами, и мы позволим себе сделать из нее несколько выдержек в русском переводе, дабы познакомить читателя с современным состоянием местной медицины.
Книга носит название: Шифа-и-клюб, что в подстрочном переводе означает — излечение сердец, а так как в переносном смысле сартовское сердце равнозначно русскому нутру, то заглавие это правильнее будет перевести так: излечение внутренних болезней. Как и все вообще мусульманские книги, будь то хотя бы даже сборник анекдотов, Шифа-и-клюб начинается словами: Бисм-илля ар-рахман ар-раим — во имя Бога милостивого, милосердного <…> Далее говорится о несомненно божественном происхождении медицины, после чего уже следуют 35 глав, в которых излагаются способы лечения разных болезней. Вот отрывки из некоторых.
Глава 1 <…> Головная боль. Цветы мальвы и цветы колючки вскипятить в воде и натирать этим настоем ноги ниже колена, пребывая в спокойствии <…>
Глава 8 <…> Растрескивание губ. Если оно происходит от желчи, то признаки болезни: горечь во рту, сухие губы, жесткий язык. Средство — давать слабительное (для уменьшения желчи) и мазать губы мазью из шафрана <…>
Глава 9 <…> Опухоль десен. Признак болезни: если она происходит от крови, то десны постоянно болят и во рту образуются трещины покровов; если от желчи, то горечь во рту; если от мокроты, то опухоль мягкая и цветом белая. Средство: если болезнь происходит от первой причины, то следует пустить кровь, а если от других (причин), то принимать слабительное, соответствующее этим причинам <…>
Глава 11 <…> Если в груди заведутся черви, то полоскать глотку смесью 10 золотников сахара, вскипяченного в чайной чашке воды, и 5 золотников соли, тоже вскипяченной в таком же количестве воды <…>
Глава 12 <…> Язвы на легких. Признаки болезни: постоянный жар; при кашле отделяется гной; если этот гной отделить от слюны и бросить в огонь, он издает дурной запах, а в воде тонет. Средство: пить ослиное молоко и примешивать к пище сок ячменя <…>
Глава 26 <…> От неплодия — есть язык зайца <…>
В предисловии к другой подобной же книге говорится, что как стихи, так и болезни, и равно и лекарства от этих болезней разделяются на горячие и холодные. Так как пища и питье могут различно влиять на состояние человеческого организма, то к ним относятся как к лекарствам, а потому и они подразделяются на горячие (иссык) и холодные (саук).
Медикаменты, которыми пользуют туземные врачи, донельзя разнообразны. Цветы и коренья различнейших, как туземных, так и иноземных растений, квасцы, купоросы, сушеные змеи и ящерицы, вареные, печеные и сушеные овощи и фрукты, известь, серная кислота, ртуть, воск и медь, привозимые сюда из Семиречья и пр. По большей части все это дается в виде различнейших соединений.
Одним из наиболее популярных лекарств считается мумия. Из чего и как мумия приготовляется, нам достоверно неизвестно; мы знаем только, что цвета она обыкновенно желтого или красноватого, вкус неприятный, горький; на базарах продается около 20 копеек за кусочек с горошину и рекомендуется как внутреннее средство при порезах, вывихах, переломах костей и многих других болезнях. Большинство сартов того мнения, что мумия приготовляется в Китае (или Тибете) двумя способами: или из сока какого-то тамошнего растения, или же из человеческого жира. Что касается до второго способа приготовления, то каждый описывает его по-своему. Одни упоминают о китайских покойниках; другие более склонны думать о ловле и откармливании китайцами людей, предрасположенных к ожирению. Как бы то ни было, но общественное мнение стоит за приготовление мумий из человеческого жира и стоит за это настолько твердо и непоколебимо, что несколько лет тому назад в одном из уездов области производилось даже следствие, имевшее несколько оригинальный характер, ибо у туземных сельских властей явилось подозрение, не было ли совершено происшедшее там убийство с целью приготовления мумий.
От коклюша, который по-сартовски называется кук-юталь (синий кашель) и которым в Кокандском уезде болели двое наших сыновей, нам советовали нижеследующие средства: 1) зарыть в землю пять синих кукол; 2) привесить к больному несколько перьев сизоворонки (кукъ-карга); 3) повесить несколько синих тряпок на мазар, могилу какого-нибудь святого; 4) кормить больного яйцами, окрашенными в синюю краску, или, наконец, 5) у первого проезжающего на серой лошади (кук-ат) в синем или сером халате (кук-тун) спросить, какое средство от коклюша — что он скажет, то и делать.
Конечно, в этом ироническом описании много ориенталистского предубеждения против странных и отсталых способов лечения646. Но даже из этой наливкинской цитаты мы видим, что среднеазиатская медицина представляла собой хаотическую смесь самых разных книжных и местных представлений, иногда построенных на каких-то магических аналогиях и действиях, иногда апеллирующих к рациональным знаниям, иногда использующих нерационализированный локальный опыт. В научной литературе мне встречалась попытка разделить медицинские практики у мусульман на два типа — сакральные и секулярные, которые, имея разное происхождение, дают разные же объяснения причин болезни и способов избавления от нее647. Хотя это, на мой взгляд, не очень удачные названия, но я воспользуюсь ими для удобства изложения.
Сакральные практики были связаны с убеждением, что причиной болезней являются зловредные духи, само определение и классифицирование которых входит в процесс лечения, то есть их изгнания. В Средней Азии к таковым относили джиннов (жин), албасты (алвасти), пери (пари), лашкар (лашкар — буквально «войско»), а экспертами по их выявлению и борьбе с ними считались муллы, ишаны (эшон), шаманы-бахши (бахши), заклинатели (парихон), которые использовали набор разнообразных техник для излечения (чтение молитв, изготовление амулетов-тумор, разного рода ритуалы, принесение жертв, поклонение святым могилам). Секулярные практики основывались на представлениях о состояниях и свойствах веществ и организмов, которые подразделялись, в частности, на холодные и горячие. Экспертами в этой сфере считались табибы (табиб), они ставили диагноз и, опираясь на специальную медицинскую литературу, подбирали ту диету и те правила поведения, которые больному следует соблюдать для выздоровления. Два типа практик существовали и продолжают существовать в очень смешанном виде, и люди часто пользуются ими одновременно, незаметно для себя переключаясь с одной объяснительной и поведенческой модели на другую648.
Среди локальных способов лечения в Ошобе, которые мне приходилось наблюдать или о которых мне рассказывали, можно было обнаружить секулярные практики, например употребление трав, растений, других органических и неорганических веществ. Каждый ошобинец знал схему деления пищи и внутренних органов человека на горячие (иссиқ) и холодные (совуқ) и соблюдал, следуя этой схеме, определенные диеты в случае того или иного недомогания и рекомендации, какую пищу принимать при болях в определенных органах649. В кишлаке не было табибов, которые могли бы дать более развернутую консультацию и более широкий набор советов. Однако какие-то травы и средства вместе с описанием правил их употребления можно было купить на окрестных базарах. В самой Ошобе тоже проживали местные знатоки, которые, видимо, коллекционировали способы лечения травами и предлагали желающим свои рецепты. Например, я разговаривал с человеком, который в возрасте за 60 лет не имел своей семьи, жил всегда в одиночестве, часто работая на кладбищах, и собирал в горах разные травы, чтобы готовить из них снадобья. Местные жители называли этого человека каландаром650.
Оказать первую помощь при травмах или сделать, например, лечебный массаж могли либо родные, либо какие-то местные «специалисты», которые приобрели соответствующий опыт. Простейшие хирургические операции — выдергивание зубов, удаление нарывов — в прошлом делали брадобреи (усто, сартарош). Когда-то в Ошобе был усто Розикул, потом было несколько брадобреев, в том числе усто Негматулло, два Маматкула — сын Розикула и сын Негматулло. Эта профессия передавалась по наследству или от мастера к ученику, брадобреи имели своего духовного покровителя (пир) и проводили особые ритуалы в его честь, зачитывая устав (рисола). Каждую семью обслуживал свой усто: он ходил от дома к дому и делал свою работу, подстригая мужчин и выполняя какие-то лечебные действия. В его обязанности входило также обрезание мальчиков. В прошлом усто получал с урожая небольшую долю, а когда появились колхозы, каждая семья отдавала один свой трудодень в пользу брадобрея. В 1995 году в кишлаке было несколько брадобреев, но они уже не занимались ни медицинской практикой, ни обрезанием651.
Особую категорию экспертов составляли повитухи — опытные женщины, которые помогали роженице в родах и следили за ее здоровьем и здоровьем новорожденного. Они тоже обладали целым набором лечебных знаний и приемов на случай возможных осложнений состояния здоровья у их подопечных. В позднесоветское время отношение к повитухам официально было отрицательным, поэтому к их помощи обращались крайне редко. А начиная с 1990-х годов женщины все чаще стали опять рожать дома, приглашая к себе медсестер, акушерок или повитух либо и тех и других вместе.
Сакральные практики тоже сохранялись в Ошобе на протяжении всего советского периода и включали в себя разнообразные ритуальные и магические действия, направленные на изгнание злых духов. Должен сказать, мне не раз приходилось слышать, как ошобинцы самого разного возраста и образования с серьезным видом и в подробностях рассказывали об этих духах. Обычно последние выглядели в рассказах как группа реальных, идущих куда-то и танцующих людей во главе то ли с хромой девушкой, то ли с хромым мужчиной, прикосновение которой/которого к человеку приводило к болезни и даже смерти. Не очень уверенно этих духов называли пари, появление же их единодушно связывали с местечком Халпез, небольшим горным ущельем между Ошобой и Шеваром.
Другое, пожалуй самое популярное, объяснение болезней и недомоганий, которое приходилось слышать, — сглаз. Сглазить могут обычные люди, имеющие недобрые намерения и какую-то нехорошую силу (я не выяснял специально, откуда, по мнению моих собеседников, эта сила берется).
Злых духов и сглаза очень боялись, и всегда существовала целая система разнообразных приемов защиты от них — использование амулетов, всяческих предметов и засушенных растений, которые вывешивают во дворе, в комнатах, на дверях, в машинах и так далее, окуривание помещений и людей дымом от тлеющей травы исириқ (гармала обыкновенная, Peganum harmala). Если же человек заболел, то обращались к местным специалистам по изгнанию духов или избавлению от сглаза (кинна). В Ошобе было несколько категорий таких специалистов. Целительством занимались женщины-бахши, которые после перенесенной болезни обращались к духовному наставнику (пир) и получали благословение (патаха652) на то, чтобы производить те или иные ритуалы и читать молитвы для лечения от сглаза. Некоторых таких женщин называли еще фолчи (полчи), если они специализировались на гаданиях, и кинначи — если на сглазе. Лечение состояло в основном из магических действий: заклинательница от сглаза набирала золу в чашку-пиалу, накрывала последнюю марлей и водила ею в районе солнечного сплетения — считалось, что при этом сглаз выходит в пепел653.
Кроме бахши лечением заболевших от сглаза или от злых духов занимались религиозные деятели. Муллы и бу-отин могли совершать, как и бахши, простейшие виды магических действий — читать молитвы, изготовлять талисманы с цитатами из Корана; возможно, некоторые муллы знали и какие-то другие приемы лечения. Один мулла — Турди-кори, потомок Нурмата Исаматова654, — был известен тем, что лечил (пытался лечить?) душевнобольных, привязывая и избивая их. Ишаны и ходжи, особая группа жителей Ошобы655, имевших, как считалось, сакральное происхождение и особые способности, также практиковали разные виды лечения. Оно состояло опять же в чтении молитв и сдувании (куф-суф) сглаза и каких-то злых сил, которые незримо присутствуют в человеке или рядом с ним, в расплескивании крови барана и так далее656.
Следует заметить, что эксперты, специализировавшиеся на разных методах лечения, находились между собой в некоторой конкуренции за признание со стороны пациентов и те материальные подношения, которыми процесс лечения обязательно вознаграждался. Особой критике бахши и кинначи подвергались мусульманскими деятелями, высказывавшими время от времени сомнения по поводу легитимности их практик с точки зрения ислама. Однако такая критика, хотя и была постоянной, не сопровождалась серьезными конфликтами, так как бахши и кинначи научились обставлять свои действия мусульманскими символами, да и к тому же все эти эксперты были связаны между собой сложной сетью родственных и соседских отношений, которые гасили взаимное недовольство.
С сакральными практиками лечения было связано посещение (зиерат) святых мест — мазаров (мозор), включая как местные (могилы «потомков святых» в Ошобе, Чинар-бува, Бойоб-бува657), так и другие известные места658. Паломничество к мазарам включало в себя целый ряд переплетающихся мотиваций и целей. Это и совершение бескорыстного благого (душеспасительного) дела — савоб, и решение с помощью святости места каких-то жизненных проблем, а именно излечение болезни, рождение долгожданного ребенка, окончание цепи неудач и так далее. Наконец, часть паломников в разговоре со мной мотивировала необходимость посещения того же мазара Бойоб-бува потребностью в своеобразном отдыхе или оздоровляющем усилии. Место, где расположен мазар, имеет, по мнению этих людей, некую положительную ауру, а подъем к нему, сопряженный с преодолением физических и духовных трудностей, несет укрепление и исцеление человеческому организму. Подобного рода мотивацию можно было бы отнести к варианту рационализации веры и локальной практики, что получило широкое распространение в советское время659. Те, кто придерживался таких взглядов, имели смутное представление о легендах, связанных со святым, и выражали по поводу этих рассказов скептицизм. Замечу, однако, что эти паломники, даже если они не осознавали или отрицали сугубо религиозные причины своих действий, старались придерживаться, хотя бы в сокращенном виде, принятых у верующих правил поведения при посещении мазара — они читали какую-нибудь молитву у могилы660, клали около нее камень, омывались святой водой и часто устраивали ритуальное угощение.
Вылечивающим эффектом обладают, согласно местным представлениям, многие религиозные ритуалы — бусешанба, мушкул-кушод, ашура-оши, мавлуд-оши661 или просто худойи, то есть пожертвование Богу в виде коллективного угощения. Помимо названных ритуалов, часто встречающихся в Ферганской долине, в Ошобе был свой, местный вариант худойи, который исполняли члены Лашкарак-топи (буквально «группа из Лашкарака»), то есть те ошобинцы, которые считали себя выходцами из небольшого селения Лашкарак (оно располагается на северо-западном склоне Кураминского хребта, в Узбекистане662). Ритуал имитировал своеобразное дистанционное паломничество к святому месту, которое находится в Лашкараке, и в том числе к своим предкам, похороненным около него. Он проводился так: когда у кого-то из членов группы кто-нибудь заболевал или, например, рождался слабый ребенок, такой человек созывал всю группу и в их присутствии выводил предназначенного к жертве барана на веревке за ворота своего дома, как бы направляясь в Лашкарак; после этого выбранный в Лашкарак-топи смотритель мазара (шайх)663 говорил: «Достаточно, вы уже отправились в Лашкарак», — и человек возвращался обратно во двор, барана резали и готовили блюдо атала664, а всех членов Лашкарак-топи звали на трапезу; все угощались, и шайх читал молитву, призывающую Бога, святых и предков помочь разрешить существующие проблемы.
Хотя такого рода ритуалы нередко имели своей явной целью решение проблем выздоровления, но тем не менее они не воспринимались и не описывались в понятиях болезни и лечения. Подразумевалось, что сакральные действия влияют на человека в целом — на его состояние, самочувствие, удачу, душевное и духовное равновесие. Проблематика болезни и лечения не выделялась из общих представлений о судьбе, на которую можно каким-то образом религиозно/магически воздействовать, и о грехах, которые можно тем или иным способом искупить.
На первый взгляд все эти способы лечения были примитивными и неэффективными, а стойкая приверженность к ним несмотря на появление современной медицины — пример иррационального поведения665. Однако разрабатываясь и применяясь на протяжении длительного времени, перечисленные способы борьбы с недугами и болью, возможно, имели какие-то реальные лечебные результаты. К тому же упомянутые выше эксперты благодаря долгой практике общения с разными больными и, возможно, передававшимся в их семьях знаниям простых приемов и лекарственных средств могли действительно оказывать первичную помощь или хотя бы рекомендовать тактику обращения с больным. При оценке эффективности и популярности такого рода лечения надо учитывать также близость между пациентами и традиционными лекарями, которые принадлежали к одному и тому же локальному сообществу. Такая близость могла оказывать влияние на самочувствие и оценку своего состояния у тех, кто обращался к экспертам за советами. Представления о причинах болезней и методах лечения были вписаны в местные социальные отношения и иерархии и даже в местные климатические и природные условия, что вызывало и вызывает у ошобинцев доверие к небольничной медицине и ее результативности.
«Я верю»
В 2010 году я встретился опять с теперь уже бывшим главврачом ошобинской больницы Ашурали Дехкановым, и он рассказал мне несколько историй о своих собственных болезнях:
Это было четыре года назад. Я такой стал, сижу, дыхания не хватает, напряжение большое, двадцать дней лежал дома. Врачи приходили и ничего не находили. Обратился к хирургу в селение. Там есть хирургическое отделение, врач хороший. Я спросил его: «Может быть, это непроходимость кишечника, потому что там сильно болит, напряжение большое». Он сказал: «У тебя никакой хирургической болезни нет, только воспаление есть». Ничего не давал, лекарства не давал. Он удивился: анализы ничего не показывают, рукой ничего не определил, я рассказываю, а он слушает и удивляется. Потом меня обратно домой привезли. На другой день свадьба, раис-бобо [Ходжаназаров] сидит, гостей полный дом. Я сестре сказал: «По-моему, это не медицинская болезнь, найдите мне кинначи». Ночью в 11 часов привезли молодую девушку, она начала снимать сглаз. Я с нетерпением жду, сижу с трудом, не могу сидеть, боли у меня, дыхания не хватает. Ритуал продолжался где-то час. А утром встаю — здоровый, никакой боли нет, напряжения нет, вздутия нет.
Пятнадцать лет назад у меня была похожая история. Я стал плохо себя чувствовать. Сильно болела голова. Я не знал, что делать. Обращался к знакомым врачам в районе, но никто не мог помочь. Тогда моя мама решила позвать соседку — Джаннат-кампыр [кампир — старушка], она кинначи. Я не верил в эти вещи, но решил не обижать маму. Джаннат-кампыр положила в тарелку пепел, перец, соль и еще что-то и стала делать над моей головой какие-то пассы. В пепле образовались ямки, как будто его трогали рукой. Это, видимо, выходила болезнь. После этого я заснул и проспал больше суток. Встал, и голова перестала болеть.
Природа, оказывается, нерешенный вопрос очень. Если бы другие сказали, что так получилось, то я бы не поверил как врач: пепел, добавляют в него кое-что, проводят около человека, и от этого все проходит. Удивительно, но действительно так.
Когда кинначи делают пассы, то появляется в их руках какое-то напряжение, они действительно могут сказать, есть ли у кого-то сглаз, много или мало. У любого человека может быть сглаз. Некоторые люди могут подействовать на другого человека, у них из глаза луч или нехороший взгляд. Плохие люди есть, вредные — они плохим образом обращают внимание на кого-нибудь, и человек заболевает. Таких людей никто не знает. Не знаешь, кто посмотрел, не почувствуешь, но постепенно действует. Вредный человек направляет эту энергию сзади или спереди — как это действует, я точно не знаю. А кинначи снимает это.
Я на себе испытал. Я действительно вынужден верить, я же вылечился. Я думаю, вот больной в таком состоянии — лежачий, не ходит, не кушает, долго кашляет, болезнь неясная. Его отправляют на туберкулезное обследование, делают анализы, исключают определенные болезни. Меня отправили бы, лежал бы шесть-семь месяцев или год, ничего не обнаружили бы, делали бы уколы, вводили бы химикаты — я бы хуже заболел, может быть. А здесь за один раз, буквально за пять минут вылечился.
Я врач, могу определить сам, например, воспаление легких, это ясно — кашель, температура, можно услышать изменения. Это я знаю, лабораторно знаю. У каждой болезни свои признаки имеются — куда боль отдает в лежачем положении или когда человек встает, ходит, ногу поднимает. Если объективно не можешь определить, если признаки неясные, лаборатория ничего не дает, то тогда ясно, что это сглаз — у них своя болезнь.
Если камень в почках, то кинначи ничего не сделает. Но иногда в самом деле почки воспалены — хотя обращаться к кинначи нельзя, люди обращаются, но это бесполезно, время проходит, это надо обращаться к врачу. Ногу сломал — кинначи не помогут, а вот зуб болит — могут помочь.
Не все могут быть кинначи, обычно эта способность передается по наследству. Они читают молитвы, но я не знаю, помогают ли эти молитвы, но пепел на самом деле действует. Я удивляюсь: нехороший луч от больного человека ударяется о пепел, и в нем появляются специально сделанные разные ямки — то, что вышло из человека, в них остается. Кинначи десять — пятнадцать минут пассы делает, и ямки исчезают, пепел уже гладкий — она снимает вредные лучи. Я верю.
Раньше, когда не было медицины, к кинначи многие ходили, а в последнее время к ним обращаются, когда от медицинского лечения пользы нет — лечатся у врачей сначала, но пользы нет.
От обсуждения сглаза мой собеседник перешел к другим болезням:
Медицина не учит, что у каждого человека есть сухость, влажность, горячесть и холодность. Их надо определить и давать лекарство в зависимости от этого — чтобы оно действовало. Органы тоже холодные и горячие: печень, почки, сердце — горячие, лимфа, кости, сухожилия, язык — холодные. Нельзя принимать долго холодную пищу, так как это повлияет на горячие органы.
Есть знатоки, наблюдательные люди, которые могут определить болезнь и подсказать диету. Я работал в сельсовете председателем. Смотрю — устаю, вид другой, припухлость, отеки, я сто метров не мог пройти тогда. Я принимал разные лекарства, мочегонные, чтобы отеки снять. Обращался к врачам в Ходжент, они тоже назначили мочегонные, но на самом деле откуда и какая это болезнь, не знали. Однажды я сижу дома, одна женщина — ей шестьдесят лет, из Мархамата, тоже кинначи, — пришла, мы сидим, чай пьем. Она посмотрела на меня, сказала: «Что с вами?» Я ничего не ответил. Она сказала: «У вас какая-то болезнь, вы не обращаете внимания. Вы должны держать сорок дней диету, не пить спиртное, кипяченую воду и чай не пить, жареное, сладкое, сахар, соленое, жирное, молоко нельзя, лепешки с дрожжами нельзя». Она назвала болезнь — бадук. Я думаю, это было воспаление всего организма наподобие аллергии, снаружи ничего не видно, ничего не высыпает, но отеки есть. Я послушал ее, держал сорок дней, трудно было — и все прошло. В медицине такого назначения я нигде не встречал и не читал. Я думаю, что острая, соленая и жареная пища усиливала аллергический воспалительный процесс, а когда я стал держать диету, эта пища не поступала в организм — болезнь потихоньку проходила. Долго надо держать диету.
В детстве у меня была другая история. Где-то в седьмом классе школы я стал совсем слабым, у меня был слабый кашель, и я ничего не мог делать. Мама позвала одну старуху. Она посмотрела мне под язык и сказала, что у меня болезнь левший. Она взяла кусочек дикорастущего дерева илгой666 и положила мне под язык, потом я полчаса стоял наклонившись и у меня изо рта постоянно текла вода. Я потом десять дней лежал в больнице, и моя болезнь прошла.
Я думаю, механизм такой: когда под языком появляются своего рода венозные сосуды зеленого цвета, то язык укорачивается, его нельзя высунуть изо рта, язык уходит назад, корень языка трогает заднюю стенку гортани и раздражает ее — человек кашляет, потому что язык должен быть впереди. Это механический кашель — процесс простой, но медицина его не знает. Когда старуха поставила свое лекарство, зеленый цвет прошел, язык высунулся, раздражение исчезло и кашель перестал. Интересно. Интересно же, бадук или левший — об этом медицина не пишет нигде, не знает667. А я сам болел. Оказывается, простой метод: болезнь можно определить легко, никакого анамнеза, и вылечить легко.
Прежде чем я попытаюсь проанализировать этот рассказ, несколько слов добавлю о самом Ашурали Дехканове. После моего отъезда из Ошобы в 1995 году он несколько лет оставался главврачом, а потом был назначен председателем сельсовета/джамоата. На этой должности он, конечно, оказался при поддержке своих влиятельных родственников и заменил другого своего родственника (который внезапно умер). Почти десять лет Дехканов оставался аксакалом и развернул активную деятельность, много работая — при поддержке международных фондов — над реконструкцией дорог, прокладкой труб для питьевой воды и так далее. Он продолжал также медицинскую практику в качестве врача на полставки. В эти же годы Дехканов стал много болеть. Когда я встретил его в 2010 году, уже после отставки с должности аксакала, он выглядел очень уставшим и нездоровым человеком.
Таким образом, перед нами рассказ не просто врача, а врача, несколько — не полностью, конечно, — отошедшего от повседневной медицинской практики в больнице и самого испытывающего недомогания, снять которые современная медицина не могла. Добавлю, что в 1990—2000-е годы больничная медицина в Таджикистане, особенно в сельской глубинке, оказалась в весьма плачевном положении с точки зрения финансирования и подготовки кадров: с трудом поддерживался ее в общем-то и без того невысокий уровень, который был достигнут в советское время. Постсоветский кризис не мог, конечно, не повлиять на настроения людей, на их восприятие себя, своей профессии, своих знаний, своей роли в обществе — это нужно учитывать, читая рассказ бывшего главврача, записанный мной в 2010 году.
Тем не менее я думаю, что вправе экстраполировать услышанное на советское время, чтобы увидеть, как тогда современная медицина взаимодействовала с местными взглядами на болезни и лечение. Стремясь осмыслить собственную историю боли, Дехканов, несмотря на свое современное (или русское/европейское образование), не отвергал локальные медицинские практики, а, наоборот, включал их в опыт своих переживаний и раздумий. Он пришел к этому, как видно из его объяснений, через осознание ограниченных возможностей той модели медицины, которой сам был призван служить и которую должен был укреплять и пропагандировать. Другим важным аргументом в рассказе бывшего главврача является ссылка на людей, которые его окружали (мама, сестра, соседка Джаннат-кампыр, анонимные женщины-кинначи) и убеждали опробовать новые способы излечения. В формирование мотиваций и восприятия боли и недомоганий включались, следовательно, различные акторы локальных социальных сетей, они воздействовали на чувства, которые испытывал Дехканов. Далее закономерно включался механизм сакрального обоснования — отсылка к наследственной передаче способностей излечивать, разного рода истории о духах, святых, чудесных исцелениях и так далее, которые я в большом количестве слышал от других ошобинцев. Все это в итоге создавало у заболевшего ощущение того, что лечение ему помогает, хотя, как я уже говорил, мой собеседник, к сожалению, вовсе не производил впечатления излеченного, здорового человека.
Правда, замечу, что бывший главврач завершающего шага — сакрализации своего опыта — не сделал и обходился без него. Он явно пытался цензурировать такого рода аргументацию и рационализировать локальные практики в терминах и в логике своего советского образования668. Дехканов использовал три способа такой рационализации669. Во-первых, он обозначил список того, чтó современная медицина может лечить своими силами, а остальные недомогания, которые она не в состоянии точно диагностировать, отнес к компетенции местных экспертов, которые опираются на традиционный, накопленный веками опыт. Сначала — и здесь Дехканов был строг в своих убеждениях — надо все-таки обратиться в больницу, и только если она не поможет — искать помощи у народных целителей, то есть приоритет сохранялся за советским медицинским знанием.
Во-вторых, чтобы объяснить необъяснимые с точки зрения науки действия местных экспертов, бывший главврач ввел знакомое нам понятие доверия, которое существует и в современной медицине, призывающей больного доверять врачу для достижения комфорта и наиболее полного эффекта от лечения. Соответственно, и локальные эксперты, несмотря на сомнительность применяемых ими средств, смогут помочь больному, но лишь в том случае, если он верит в эти средства, — тогда в его организме задействуются и активизируются психологические механизмы защиты, которые приводят к снятию боли или даже излечению. Такого рода рационализация была очень популярна среди населения, особенно у образованной его части, которая вынуждена была мирить свои современные убеждения с местными привычками.
В-третьих, защищая свой прежний высокий статус в больничной иерархии, Дехканов пошел еще дальше и попытался сформулировать языком современной медицины некие гипотезы о механизме действия того лечения, которое ему предложили кинначи и эксперты. При этом он, в частности, использовал термины «пассы», «энергия» и «луч», взятые им, по его же утверждению, из словаря российской целительницы Джуны Давиташвили, которая дальше многих других небольничных экспертов продвинулась в получении официального признания670. Вот что он сам говорил по этому поводу:
В 1991 году я около месяца учился в Москве у Джуны Давиташвили. Теперь я могу лечить по методу Джуны. Я держу ладонь над человеком, чувствую тепло от тела и делаю пассы — это одновременно установление диагноза и лечение. Иногда надо держать десять — пятнадцать минут, иногда — до тридцати минут. Для детей достаточно трех — пяти минут. Особенно это помогает детям. Я не верю лекарствам и считаю, что надо пользоваться более естественными средствами. Наука еще многого не знает. У каждого человека есть энергия, которая может лечить или быть источником болезней. В чем метод Джуны? У каждого человека есть биоток. У некоторых способности больше. Это биологический ток, так как у человека есть энергия внутри, благодаря которой он ходит, двигается. Когда в организме возникает воспаление или травма, то происходит изменение механизма и направления биотока, энергии. Пассами можно регулировать биоток — снять его или добавить.
Из этого признания следует, что Ашурали Дехканов давно, видимо еще до своей болезни, интересовался тем, как совместить небольничные локальные практики излечения с деятельностью в рамках больничной медицины. Ссылка на Джуну Давиташвили позволяла ему добиться того, чтобы его советское медицинское образование и статус не только не вступали в противоречие с местными привычками и представлениями, но, наоборот, подкрепляли последние отсылкой к авторитетному и легитимному институту больницы, которую он представлял и возглавлял, и к связанной с ней формальной и неформальной власти. Этот интерес к локальным практикам не был случайным и исключительно теоретическим — меня поразил обнаружившийся во время разговора с Дехкановым факт применения и самим главврачом методов небольничной медицины: будучи в его доме, я видел, как во двор зашли две женщины, которые принесли на лечение своих маленьких детей; бывший главврач районной больницы позвал каждую по очереди в гостиную и там несколько минут «делал пассы» над маленькими пациентами. Современная больница и современный рациональный язык вполне, таким образом, вросли в местную почву, были приспособлены к локальному контексту, к ошобинским социальным связям и иерархиям.
* * *
Подытоживая сказанное, вернусь к вопросу о колониальности советской медицины. Такая характеристика уже изначально выглядит слишком прямолинейной, так как речь идет о сфере деятельности, где, несмотря на наличие инструментов подчинения, всегда присутствовала забота о человеке, о его здоровье и жизни.
Эта противоречивость обвинения в колониальности видна в статье «Медицина и колониализм», которую в конце 1950-х годов написал один из самых ярких интеллектуалов и идеологов антиколониальной борьбы в Северной Африке — Франц Фанон671. Очень емко сформулировав критику в адрес так называемой современной медицины, автор заявил, что, несмотря на все достижения последней, она выполняла роль оправдания и поддержки колониальной власти, закрепляла иерархию между колонизаторами и колонизируемыми, сохраняла черты неравенства и превосходства Запада над покоренными народами: «Вынужденный, во имя правды и благоразумия, сказать „да“ некоторым нововведениям захватчиков, колонизируемый понимал, что тем самым он оказывается заложником системы в целом и что французская система медицинской помощи в Алжире неотделима от французского колониализма в Алжире»672. Также Фанон писал, что коренные алжирцы не доверяли западной медицине и старались ее избегать, что было формой сопротивления западному колониализму, а доктора из числа местных жителей, усвоивших европейское образование, находились в сложном, двойственном положении, и их нередко воспринимали как представителей колониальной власти (напомню, что сам Фанон был врачом-психиатром). Однако, продолжал он в своей работе, одновременно с национальной борьбой против колониализма местные доктора реинтегрировались в свое сообщество и западная медицинская технология превращалась в средство укрепления и поддержания «тела нации».
В такой позиции Фанона присутствует внутренний парадокс: в зависимости от точки зрения современная медицина виделась/становилась то инструментом власти индустриального/капиталистического/рационального социального порядка, то орудием в первую очередь колониального господства и местом, где разворачивается сражение империи и антиколониальных сил, то, наконец, чуть ли не средством освобождения от колониализма. Мы понимаем, таким образом, что по отдельности оба определения — европейская (и советская) медицина как колониализм и как черта модерности — имеют каждое свои ограничения и внутреннюю двусмысленность. Я бы не решился принять какое-то одно из них в качестве окончательного и бесспорного. Мне представляется, что вместо отстаивания однозначных определений и навешивания ярлыков более правильно видеть в медицине пересечение разных интересов и процессов, разнообразные — не только колониальные — возможности доминирования и одновременно сопротивления, культурной иерархии и проявления гибридности. Вслед за поздним Фуко я полагаю, что отношения власти — это стратегическая игра, в которой люди, с одной стороны, всегда обладают некоторой степенью свободы и самости, а с другой — могут получать выгоды и удовольствия, реализовывать свои интересы. В этой игре вещи могут переворачиваться, поскольку отношения власти «подвижны, обратимы и неустойчивы»673. Медицина — это инструмент государства, с помощью которого власть отслеживает, контролирует и формирует идентичности и поведение населения, это институт, обладающий социальными и экономическими ресурсами, которые используются в локальных стратегиях и локальных социальных сетях, это корпорация, выступающая в качестве отдельной статусной социальной группы и формирующая свой язык самости и престижа.
Возвращаясь к Ошобе, можно сказать, что появление института больницы и других советских институтов, а также всех соответствующих представлений и практик привело к тому, что сообщество оказалось в новом пространстве, которое предоставило ошобинцам дополнительные возможности и одновременно ввело новые инструменты разделения и принуждения. Люди включились в игру, где у них был выбор — какие и по каким правилам делать ставки. Последствия или эффекты оказались такими же неоднозначными и двойственными: выгоды от этой игры довольно неравномерно распределялись по всему социальному полю, создавая свои диспропорции и иерархии — кто-то был скорее лоялен к новым правилам и старался их придерживаться, кто-то чувствовал себя аутсайдером и искал возможности приспособиться к такому положению. Советская модерность приходила в Ошобу извне и скрывала в себе различные виды социальной и культурной гегемонии, но вовсе не сводилась только к стратегиям подчинения и сопротивления.
Очерк седьмой МАХАЛЛЯ
В статье «Жизнь в махалле: значения городских узбекских кварталов в Оше», опубликованной в 1998 году, американский антрополог Морган Лью и киргизский исследователь Эртабылды Сулайманов сформулировали свой взгляд на узбекскую махаллю (маҳалла) как на «пространство, в котором происходят „циркуляции“ <…> людей, информации и денег — плотно, быстро и интенсивно»674. Такой взгляд, по их мнению, позволяет видеть в махалле не выражение изолированной и неизменной «сущности народа», а «уникальное место», пронизанное «транслокальными течениями». Они дают еще одно — более описательное — определение махалли: «плотно и компактно организованная группа, состоящая из отдельных людей, как правило, живущих в одноэтажных домах»675. Каждый дом (или двор) — это семейная, экономическая и социальная ячейка махалли. Циркуляция людей — это «взаимные посещения друзей, где мужчины, женщины, дети, взрослые и пожилые члены каждого хозяйства обращаются в разных социальных кругах», при этом многие семьи знают друг друга на протяжении жизни нескольких поколений. Вместе с циркуляцией людей происходит обмен информацией — слухами, новостями. Местные жители знают все о происходящем в махалле, и это закрепляет данную территорию за ними, закрывая ее для чужих. Циркуляция ресурсов — взаимные обмены на туях, которые создают сеть взаимных обязательств, перераспределяют капитал и помогают «держать общину цельной». Все это вместе, а не «узбекский характер», дает местным жителям «чувство дома», «чувство общины». Конечно, они участвуют в социальных практиках и за пределами махалли, но самые важные и значительные события их личной биографии происходят внутри этого сообщества.
Статья Лью и Сулайманова, опубликованная в малодоступном сборнике, — одна из немногих попыток изменить утвердившийся в научной и популярной литературе язык описания махалли. Идиомами последнего являются отсылки к «общинности», «коллективистскому духу», «традиционности», «менталитету», «образу жизни», «культуре» и так далее. В поддержание и воспроизводство подобной объяснительной модели много усилий и инвестиций вкладывают самые разные стороны. И это не только исследователи, ученые, приезжающие в Среднюю Азию изучать местное общество, разного рода журналисты, международные эксперты676, но и политические, а также культурные элиты среднеазиатских государств, для которых понятие традиции играет важную идеологическую и символическую роль в постсоветской символической легитимации (узбекская власть создала целую «индустрию махалли» с одноименными фондами, праздниками, соревнованиями и тому подобным). Даже критика в адрес махалли со стороны правозащитников677 и интеллектуальной оппозиции678 воспроизводит все указанные стереотипы о махаллинских традиционности и общинности, подчеркивая лишь, что современная власть манипулирует махаллей и превращает ее в инструмент своей государственной политики и идеологии. Совпадение языка всех этих влиятельных инстанций, часто имеющих разные интересы и устремления, наделяет и сам этот язык, используемые им понятия, выражения и утверждения, непререкаемым авторитетом, очевидностью, неоспоримостью.
Конечно, в потоке высказываний и исследований о махалле появляются работы, из которых мы узнаем, что махалля — это не только и не столько некая форма локальных отношений, сколько результат длительных интервенций внешних сил в эти локальные отношения, совершаемых под лозунгами советской демократизации или национального возрождения. Некоторые исследования показывают, что и в Российской империи, и в советское время, и особенно в нынешнюю постсоветскую эпоху махалля неоднократно конструировалась и реконструировалась, местные социальные сети, практики и идентичности (способы самоописания) подвергались интенсивному воздействию извне — прежде всего со стороны государства679. Это заставляет увидеть в существующем языке описания махалли как феномена, вписанного в традицию и существующего в форме общины, элемент такого рода интервенции, идеологическую конструкцию, оказывавшую, в свою очередь, влияние на те формы, в которых махалли, а точнее разнообразные локальные сети и практики, существовали и существуют ныне.
Возвращаясь к статье Лью и Сулайманова, хочу обратить внимание на то, что их критика языка описания махалли ограничивается лишь методологией. Они отказываются от схематизма и автоматизма, подразумеваемых при отсылке к унифицированной традиции, и предлагают рассматривать махаллю как совокупность всех отношений, имеющихся в локальной среде, отношений динамичных, реагирующих на различные изменения, но при этом устойчивых. Однако вопрос о том, что отсылка к традиции используется государством для встраивания махаллинских связей в административные и идеологические рамки, ими никак не затрагивается. В их картине движения людей, информации и денег — которые сами по себе образуют некие плотные пространства, где, согласно Фуко, действует власть взаимной «видимости, слышимости и знания», — отсутствует власть насилия, власть внешнего взгляда, который стремится все узнать и упорядочить, власть государственной классификации и категоризации, власть как некая точка, откуда исходят импульсы реформирования.
Такое игнорирование роли государства — колониального, модернистского или национального — приводит к тому, что Лью и Сулайманов воспринимают некоторые особенности махаллинской жизни в качестве некой общей данности, не учитывая конкретных исторических обстоятельств их формирования и конкретных современных рамок существования, различных, допустим, в Узбекистане, где государственные институции проявляют настойчивое внимание к махалле, и в Таджикистане или Кыргызстане (в том же Оше, который изучали Лью и Сулайманов), где, несмотря на наличие аналогичных бытовых практик среди издревле оседлого населения, власть мало интересуется махаллей и во многом предоставляет ее самой себе. В этом, кстати, тоже проявляется эссенциалистский взгляд на общество, которого авторы вроде бы стремятся избежать.
Одной из таких заранее заданных особенностей у Лью и Сулайманова является территориальность махалли, ее некоторая изолированность и замкнутость в рамках определенного физического пространства680. Хотя метафора движения не должна была бы заострять внимание на границах, авторы тем не менее создают их, вводя понятие пространственной «плотности» циркуляций и привязывая ее к определенной территории.
Я не отрицаю, конечно, того, что между социальным пространством и пространством физическим существует определенная гомология и что той или иной конфигурации социальных сетей часто соответствует определенным образом организованная территория681. Однако было бы ошибкой рассматривать локальные практики и локальные идентичности исключительно сквозь призму физического пространства. На мой взгляд, различные практики и идентичности представляют собой кластеры отношений, которые имеют свою собственную — и территориальную тоже — конфигурацию, накладываясь друг на друга, иногда почти совмещаясь и производя впечатление нераздельных и взаимозависимых, или же существуя параллельно, не пересекаясь и не взаимодействуя. Все вместе эти кластеры создают сложный (и для чужака довольно запутанный) лабиринт путей, движений, потоков, возможностей и ограничений. Территория или территориальность возникает здесь не как условие, а скорее как результат взаимного наложения подобного рода отношений. В такой перспективе легче увидеть и те внешние воздействия, которые испытывает на себе локальное сообщество, и те изменения, которые вызваны этими воздействиями, и те варианты социальных стратегий и интерпретаций, которые в итоге формируются. Именно об этом пойдет речь в настоящем очерке, который посвящен ошобинской махалле.
Махалля в Ошобе
Махалля-туй
О прошлом махаллей в Ошобе известно немного. Таджикский этнограф Н. О. Турсунов в книге «Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX — начала XX вв.» писал следующее682:
Ошоба состояла из восьми жилых кварталов: Бутка махалля, Кичкина Бутка, Урта, Кичкина Урта, Катта кутан, Кичкина Кутан, Катта курган и Кичик курган (перечислены по течению сая, сверху вниз). В последнем, на высоком месте, находилось укрепление, в котором раньше жило население683 <…> Население названных кварталов по этническому составу объединялось в три прихода. Вначале четыре семейно-родовые подразделения узбеков-«каракитайцев» создали четыре жилые квартала: Ниязмухамед — Бутку, Элкунди — Урта-махалля, Малай-мерган — Кутан, Мирфайзи — Курган. По мере роста населения каждый квартал разделился на две части.
Если проигнорировать непонятную фразу о трех «приходах», формировавшихся «по этническому составу», то эта версия вполне соответствует тому, что я услышал в Ошобе спустя примерно тридцать лет684. Мои информанты также говорили, что первоначально кишлак состоял из четырех махаллей, каждая из которых представляла собой группу близких родственников. Правда, между моей версией и турсуновской есть различия: мои информанты подчеркивали, что отправной точкой для отделения махаллей друг от друга было разное родство по материнской/женской линии — первые ошобинцы брали жен из разных кишлаков, и потомки таких брачных союзов выделялись в самостоятельные сообщества.
В процитированном тексте обращает на себя внимание, что Турсунов локализовал махалли в определенных частях Ошобы и даже назвал их жилыми кварталами. Названия махаллей, которые автор перечислил, также явно указывают на некий географический ориентир: ўрта означает «средний» (или центральный), қўтон — огороженное место, где держат скот, қўрғон — большой двор с высокими стенами. В последнем случае речь идет о вполне конкретном кургане — небольшой крепости со сложенными из камня стенами, которая располагалась чуть ниже нынешнего центра кишлака (на этом месте сейчас находится комбинат по изготовлению ковров и паласов, хотя сохранились еще следы старой каменной кладки). Все местные предания связывают с этим курганом основание Ошобы, и даже основной канал-арык (ариқ), выведенный из Ошоба-сая и орошающий бóльшую часть участков, называется «курган-арык». Значение четвертого названия, бўтқа, — «каша», но слово имеет также дополнительный смысл: «беспорядочный» (еще одно значение этого слова — «топь, болото»), что, возможно, указывало на беспорядочное, неорганизованное расположение домов и участков.
Позже каждая из первых четырех махаллей разделилась на две новых, которые сохранили в своем названии имя прежней махалли и добавили к ней прилагательное «большая» (катта) или «маленькая» (кичкина, кичик), указывающее, видимо, на численность ее членов685.
Вот тот примерный набор исходных данных о махаллях Ошобы, который был известен мне к началу исследования. Несмотря на скудность информации, в целом она вписывалась в те схемы и те описания махалли как жилого квартала, небольшой территориальной части города или большого селения, соседской общины, которые господствовали и, собственно, продолжают господствовать в научном и околонаучном воображении. В мою поездку в Ошобу в 1995 году вопрос о махалле был одним из первых, которые я начал изучать. При этом я не сразу понял, что имею дело с ситуацией, противоречащей всему, что я когда-либо читал о махалле, и в том числе тому, что писал Турсунов.
Прежде всего я столкнулся в кишлаке с тем, что прежние названия махаллей, упомянутые у Турсунова и встреченные мной также в старых архивных документах, практически перестали употребляться в повседневной жизни, особенно среди людей среднего и молодого возраста, — махалли в кишлаке именовались совсем по-другому (табл. 1). С некоторыми усилиями, опрашивая стариков, которые еще помнили старые названия, хотя и путали их, мне удалось идентифицировать сегодняшние названия со старыми. Причем оказалось, что указания на территориальное расположение махаллей, которые содержались в их прежних названиях, были забыты; новые названия образовывались от имен или прозвищ людей — тех, кто в недавнем прошлом на протяжении многих лет обслуживал особые ритуальные пиршества — катта-тўй, или маҳалла-тўй. Эти новые названия не оставались фиксированными, а имели иногда варианты, которые употреблялись в зависимости от того, чье имя в памяти говорящего запечатлелось более отчетливо.
Таблица 1
Старые и новые названия махаллей в Ошобе
1 Юсуп-раис Юлдашев (см. Очерки 4 и 5).
2 Махсумова — это имя включает в себя титул «махсум» (см. Очерк 8) и уважительное обращение «ова» (местное произношение слова «бува», то есть дедушка).
3 Джинни (жинни) означает «сумасшедший». Существует множество версий, почему Абдуваххобу было дано такое прозвище. По одной из них, оно перешло к нему от отца — Эшмата, который занимал административные должности, решал споры соседей между собой и собирал налоги в разных кишлаках (возможно, речь идет об Эшмате-мингбаши, о котором я писал в Очерке 3).
4 Рахим славился своими победами над разбойниками, а свое прозвище (буквально «кривой») он получил за свою кривую шею.
5 Думабай Олимов, сын Мирзаолим-аксакала (см. Очерк 3).
6 Хальпа — богобоязненный человек, близкий сподвижник ишана (см. Очерк 8).
7 Егчи (еғчи) — раздатчик сливочного масла.
8 Дуппириш, дуппифуруш — продавец тюбетеек.
9 Ошвоки (ошбақир) — громко говорящий, прозвище Назара Турсунова, который многие годы работал мирабом и исполнял обязанности туйбаши, именно в беседе с ним я услышал все старые названия махаллей в правильном виде.
10 Кози-раис Гоибов (см. Очерки 2 и 4).
11 Одина-аксакал (см. Очерки 2, 3 и 4).
12 Джурабай Султанов (см. Очерк 2).
Смена названий махаллей была связана, как я постепенно выяснил, с изменениями в понимании самого термина «махалля». Этот термин стал употребляться в Ошобе не для обозначения какой-то определенной территории, а для описания сети отношений между людьми, участвовавшими в упомянутом ритуале катта-туй, который устраивал каждый из мужчин в махалле. Теперь члены одной и той же махалли могли проживать на разных улицах кишлака, в разных его частях, а близкие соседи, наоборот, могли принадлежать к разным махаллям. Более того, членами махалли оставались все, кто уехал из Ошобы и постоянно жил за ее пределами — как в ближайших выселках, так и в отдаленных селениях и даже городах. Право/обязанность участия в ритуале (и, соответственно, членство в махалле) наследовалось по мужской линии, о случаях перехода из одной махалли в другую я ни разу не слышал. Принадлежность к махалле была связана с понятием долга или обязанности (қарз), которую ее члены имели друг перед другом. Чтобы объяснить это понятие, расскажу, что представлял собой ритуал катта-туй и чему он был посвящен.
Каждый взрослый и женатый мужчина должен был, как гласили местные обычаи, организовать один раз в своей жизни пиршество для своей махалли, пригласить всех мужчин махалли к себе, угостить их пловом и раздать угощение им домой. Таково главное условие долга. В принципе бывали редкие случаи, когда житель Ошобы по своему желанию и, видимо, для создания более широкой сети личных отношений устраивал катта-туй не только для своей, но и для других махаллей. Так поступил, например, Султанназар-нонвой, который устроил пир для двух махаллей (точных мотивов его поступка я не знаю) — Ваххоб-джинни-махалли, к которой он принадлежал, и Дума-махалли686. Правда, ритуал по отношению к неродной махалле имел сокращенный вариант — ограничивался только угощением пловом и не включал раздачу угощения домой; соответственно, проведение туя для чужой махалли не означало возникновения долга и того, что сам Султанназар и его дети становились отныне членами этой другой махалли.
Катта-туй не связан напрямую с каким-то конкретным событием в жизни человека. Правда, в прошлом было иначе. Пожилые люди иногда называли этот ритуал ўғил-тўй (пиршество в честь сына), что указывает на его происхождение от празднества по случаю обрезания мальчика687. Видимо, еще в первой половине XX века эта связь была для жителей Ошобы довольно ясной, но в 1920—1940-е годы, когда население испытывало большие экономические трудности, обязательное обрезание (чупрон) начали проводить с гораздо более скромными торжествами, при участии только ближайших родственников, а дорогостоящее коллективное пиршество для махалли откладывали — из-за недостатка средств. В результате эти два ритуала совершенно отделились друг от друга и стали существовать порознь — так, в частности, в организации катта-туя уже не принимали участия родители и родственники матери ребенка, а ведь это один из обязательных элементов пиршества по случаю обрезания.
В 1990-е годы, когда я жил в Ошобе, люди среднего и молодого возраста уже не осознавали, что катта-туй должен быть как-то связан именно с обрезанием. Однако большинство моих собеседников говорили, что ритуал можно провести только после рождения первого сына, причем отмечался не сам факт его рождения, а вступление отца мальчика в статус настоящего мужчины, и поэтому не нужно было устраивать нового угощения по случаю рождения других сыновей — долгом считался лишь один катта-туй688. Не было и строгой привязки времени проведения туя к моменту рождения или к какому-то году после него (пиршество по случаю обрезания обычно проводится на третий, пятый или седьмой год жизни ребенка), хотя считалось желательным, чтобы ритуал прошел до свадьбы первого сына. Если в семье рождались только девочки, их отец вставал перед выбором: он мог организовать обычный катта-туй, сославшись на то, что важно выполнение долга в статусе отца, а не пол ребенка; он мог добавить этому мероприятию легитимности, совместив проведение катта-туя со свадебными обрядами, когда выдавал дочь замуж. Аргументация, объясняющая повод для проведения катта-туя, не являлась строго нормированной и варьировалась в зависимости от обстоятельств. Но в любом случае этот долг был обязательным, и нарушение его, например задержка с проведением катта-туя, вызывало осуждение окружающих, а характеристика «он не делал туя» считалась негативной и обидной.
Еще одна интересная особенность этого долга, или морального обязательства, заключалась в том, что его можно было наследовать689. Мой информант К. (из Катта-Кутон-махалли) рассказывал, что первый свой катта-туй он организовал в 1951 году и сделал его в счет своего отца, который умер, не успев при жизни провести этот ритуал, а спустя всего лишь два года К. вновь собрал махаллю на угощение — уже по поводу рождения своего первого сына, то есть второй ритуал был исполнением его собственного долга.
Организация туя
Чтобы понять, каким образом возникал долг, надо обратиться к тому, как катта-туй проводился.
Сезон проведения катта-туя начинался в феврале и продолжался в марте и частично апреле, в этот период сельскохозяйственные работы еще не набирали полную силу и у ошобинцев оставалось много свободного времени для общения и развлечений. В один сезон в одной махалле могли организовывать, в зависимости от количества ее членов, один-два десятка туев, то есть один или два туя в неделю.
Перед самым первым в сезоне пиршеством собирался совет (маслаҳат-оши, буквально «совещательное угощение»), на котором махаллинские активисты при участии стариков, придававших своим присутствием собранию необходимый авторитет, назначали очередность проведения заявленных катта-туев, определяли число членов махалли и количество необходимых продуктов, которое каждый заявитель должен был предоставить, и выбирали тех людей (хизматчи), которые будут обслуживать пиршество. Совет — это важный этап, когда махаллинское сообщество после многомесячного периода затишья возобновляло свою деятельность и свои связи и даже в некотором смысле формировалось заново, когда внутри махалли определялись изменившиеся или оставшиеся прежними иерархии и авторитеты, утверждались те или иные нововведения в ритуальную процедуру. На такие собрания нередко специально приходили представители административной власти, которые рассказывали собравшимся о своих инициативах и решениях по самым разным вопросам жизни кишлака. В прошлом такие собрания, видимо, использовались для подсчета населения и проведения выборов пятидесятников.
Все основные решения совета касались организации общемахаллинской трапезы, которая, собственно говоря, и составляет суть самого ритуала.
Центральным блюдом трапезы являлся плов (палов, также часто употребляют слово ош, то есть еда) (Илл. 23). Надо сказать, что на катта-туях в Ошобе готовили плов, не совсем характерный для Ферганской долины: сначала в большой котел-казан (қозон) клали 20 кг топленого масла (еғ), разогревали его, потом туда же добавляли немного мяса, 1,5–2 мешка моркови, 3–4 кг лука, обжаривали всю эту смесь, после чего наливали воду и клали до 70 кг риса; когда вода выкипала, казан накрывали куском ткани и держали так, пока плов доходил на маленьком огне, после чего посередине рисовой массы делали углубление, через которое из котла вычерпывали масло, сливая его в отдельный котел. Полученное кушанье затем раскладывалось по большим керамическим блюдам (тоғора): сначала наливали масло, потом выкладывали сам плов и сверху — кусок мяса, сваренного в отдельном котле. Вместе с пловом подавали также лепешки и чай690. Топленое масло в данном случае — это ошобинская изюминка, поскольку обычно в соседних кишлаках большой плов делают на растительном (как правило, хлопковом) масле и никакой специальной процедуры разливания его по тарелкам не производят691.
В зависимости от числа членов махалли, которое определялось на совете, хозяину предлагалось закупить все необходимые продукты для приготовления угощения. А.С. из Кичкина-Бутка-махалли делал катта-туй в 1989 году и истратил 300 кг риса, 12 мешков муки, 400 кг моркови, 50–60 литров сливочного масла, зарезал одного бычка (новвос), не считая издержек на отдельное угощение для знакомых и родственников. М. из Катта-Кутон-махалли в 1977 году потратил на угощение до 300 кг риса и приготовил около 3 тыс. лепешек692, из них примерно 2,5 тыс. он раздал членам своей махалли — на 400 семей (при этом, по его словам, в махалле было 250 глав семей, не считая женатых мужчин, которые жили с родителями). Н. из Катта-Курган-махалли делал туй в начале 1980-х годов, и ему пришлось потратить более 300 кг риса, около 80 литров топленого масла, 16 мешков муки (3,6 тыс. лепешек), 4 мешка моркови (280 кг) и зарезать быка — судя по числу лепешек, в этой махалле было около 500 семей. Махалли Катта-Кутон и Катта-Курган считались в Ошобе самыми большими.
Илл. 23. Приготовление плова на туе в Янги-кишлаке, 1995 г.
На совете определялся также набор предметов, которые необходимы для организации угощения. В перечень входили большие котлы (катта-қозон, маҳалла-қозон) для приготовления плова, маленькие — для топления масла, несколько десятков — от 60 до 200 — больших блюд, куда раскладывают угощение, самовар для заварки чая, пиалы, чайники, скатерти-дастарханы (дастурхон), столы, скамейки и прочее. Обычно у каждой махалли все это имелось — предметы хранились в доме, где в последний раз проводился туй. Участники совета проверяли, все ли в пригодном состоянии и не нужно ли что-то добавить или заменить.
Любопытно происхождение вышеназванных ритуальных вещей. Какие-то из них приобретались на колхозные средства в 1930– 1950-е годы и находились на балансе колхоза. Некоторые предметы тот или иной член махалли приобретал на свои деньги и затем передавал в общее пользование: по рассказу упомянутого К., в 1951 году, готовясь к своему первому катта-тую, он купил два новых алюминиевых котла и передал их в распоряжение своей махалли693. В 1970—1980-е годы многие предметы, необходимые для организации ритуала, покупались уже вскладчину — с каждой семьи собирали для этого деньги. Такие разные биографии вещей указывают на то, как поддерживались махаллинские отношения в разные периоды: какое-то время их субсидировал колхоз, потом — зажиточные и влиятельные ошобинцы, и наконец возобладал принцип эгалитарного принуждения.
Как я уже упоминал, на совете выбирались люди, которые отвечали за организацию катта-туев, — хизматчи, или служители. Их могло быть, самое большее, шесть человек: один готовил основное угощение — плов, другой его раздавал, третий разливал масло, четвертый раздавал хлеб, пятый резал животных и раздавал мясо, шестой созывал гостей (Илл. 24). Часто несколько функций выполнял один служитель: например, глашатай резал бычка и раздавал мясо694 или один и тот же человек раздавал плов и хлеб. Одного из этих хизматчи — нередко того, кто раздавал плов, — назначали главным (тўйбаши). Кроме них, остальных помощников — тех, кто выполнял различную подсобную работу, — хозяин мероприятия выбирал сам из числа своих друзей и родственников. При этом он не имел права вмешиваться в порядок работы хизматчи, назначенных на махаллинском совете, не мог указывать, кому из них что делать, даже не мог брать и самостоятельно распределять продукты.
В советское время за выполнение своих обязанностей служители получали от устроителя катта-туя символические подарки — халат (тўн), летний легкий халат (яктак) и поясной платок (белбоғ). За сезон каждый из них собирал по нескольку таких халатов, рубах и платков, но все эти подарки не имели потребительской стоимости, то есть их не надевали и не носили (даже не подбирали размеров), их нельзя было рассматривать как доход, чаще всего эти предметы одежды использовали в том же качестве — перекладывали в новый узелок и дарили кому-нибудь еще по какому-нибудь другому ритуальному поводу, которых в кишлаке всегда было очень много. В середине 1990-х годов в Ошобе обсуждался вопрос о замене подарков на денежный эквивалент — называли сумму 15 тыс. рублей (около 3 долларов США), но и это вряд ли можно было назвать большим доходом. Работа на катта-туе считалась скорее общественной обязанностью, чем способом заработать. Раньше ее рассматривали как почетную, поэтому, в частности, среди туйбаши многие прежде занимали должности председателя сельсовета, председателя колхоза, бригадира, мираба или пятидесятника.
Илл. 24. Приготовление мяса для угощения в Янги-кишлаке, 1995 г.
Совсем не случайно махалли Ошобы стали называть по именам тех или иных хизматчи. Ритуальный служитель должен был иметь репутацию человека, который ставит интересы сообщества выше личных интересов. В момент раздачи плова, мяса, масла и хлеба на этих людей возлагалась большая ответственность, так как, исполняя данные функции, они обязаны были строго придерживаться принципа равенства всех членов махалли (некоторое неравенство в угощении — чуть больше плова, чуть больше мяса — допускалось только в отношении гостей преклонного возраста либо имеющих религиозный или другой общепризнанно высокий социальный статус). Служителям запрещалось выделять, например, собственных друзей или родственников, так как это грозило бы вызвать недовольства и конфликты. Кроме того, участие в обслуживании ритуала являлось своего рода демонстрацией тех знаний о местном сообществе, которыми обладали хизматчи. Туйбаши должен был быть настоящим хранителем генеалогической и биографической информации — он знал всех жителей селения (в частности, своей махалли), их возраст, социальные и родственные связи, ведь от этого зависели процедура раздачи угощения, порядок рассаживания и прочее, и ему нельзя было перепутать статусы, кого-то обидеть. Туйбаши должен был также выступать в роли эксперта по самой ритуальной процедуре, быть ее хранителем, а если надо — и реформатором. Кстати, не у всех это получалось и некоторых туйбаши заменяли на более подходящую кандидатуру. Считалось, однако, что если человеку прежде довелось занимать какую-то важную должность и социальную позицию, то он уже имел необходимые знания и навыки для выполнения ритуальных обязанностей, поэтому многие бывшие чиновники в пожилом возрасте охотно конвертировали приобретенный социальный капитал в символическую роль обладателя ритуальной власти на катта-туе.
Угощение и дары
Катта-туй проводился в течение трех дней: один день — подготовительный и два — собственно пир, на который собиралась махалля.
В подготовительный день утром в доме устроителя пиршества организовывался завтрак для ближайших соседей и родственников. Днем устраивалось чтение Корана (хатми-қуръон), на которое приходили старики и мулла, не обязательно принадлежавшие к той же махалле, что и хозяин дома. Это единственный религиозный элемент в ритуале, когда читались молитвы и акцентировалась мусульманская идентичность. Для присутствующих готовили отдельный плов и резали овцу или козла — этим занимались люди, приглашенные устроителем туя. В этот же день во дворе дома устанавливали два-три больших котла и несколько маленьких, а также резали бычка — в прошлом (до середины прошлого века), как утверждают местные жители, чаще для этой цели использовали лошадь, богатые же люди могли позволить себе и верблюда. Вечером в дом собирались юноши и мужчины среднего возраста, чтобы нарезать морковь для общего плова. Это хозяйственное в общем-то мероприятие сопровождалось отдельным угощением (супом на мясном бульоне), и, как говорили информанты, всю ночь присутствовавшие пили водку и веселились.
На второй день утром глашатай созывал членов махалли — только мужчин — на катта-туй. Так делали лишь во время проведения первого пиршества в сезоне — о дате и месте проведения следующего объявлялось заранее, на проходящем туе. В полдень члены махалли собирались и рассаживались по своим местам, которые определял им туйбаши. Если на улице было прохладно, то сотни гостей размещались в доме хозяина и в домах его соседей. Они сидели, беседовали, пили чай, пришедшим разносили лепешки и сливочное масло — это называлось нонушта, то есть завтрак. Примерно через час раздавали плов — одно блюдо-тоғора подавали на четырех человек695. В большинстве махаллей перед пловом угощали еще и супом (шўрва), но в некоторых махаллях (например, в Ошвоки-махалле) подавали только плов. Пиршество длилось еще около часа, во время которого гости продолжали вести разговоры, обсуждать новости и дела в кишлаке, после чего, прочитав краткую молитву и пожелав устроителю ритуала всяческих благ в будущем, махалля расходилась (Илл. 25).
Третий день катта-туя повторял второй — днем мужчины снова собирались на плов. Но в этот день происходило еще одно важное событие — раздача угощения членам махалли на дом, за ним посылали женщин или детей (Илл. 26). В прошлом на катта-туе каждой семейной паре, принадлежащей к махалле, давали набор из пяти лепешек, полукилограммового куска отварного мяса и тарелки с совутқа696. В начале 1980-х годов (по другой версии — на два десятилетия раньше) раздачу мяса отменили и гостям стали выдавать по шесть лепешек (до этого шестым считался кусок мяса — на праздниках обязательно должно было фигурировать четное число подношений). Такую замену объясняли тем, что число членов в махаллях значительно выросло (в результате общего демографического роста) и приходилось резать слишком много скота, чтобы обеспечить всех мясом697.
Кроме семейных пар лепешки получали также связанные с махаллей одинокие люди — вдовые или разведенные (как мужчины, так и женщины), что являлось своеобразной формой социальной помощи. Лепешки относили и тем из членов махалли, кто держал траур или был болен, поэтому не мог присутствовать на пиршестве. Любопытно, что те члены махалли, которые постоянно жили за пределами Ошобы и фактически не принимали участия в катта-туях, тоже имели право на эти лепешки — обычно они доставались их близким родственникам, которые приходили на ритуал. Это право вытекало из того, что уехавшие либо когда-то проводили свой катта-туй в Ошобе, либо собирались здесь его провести.
Илл. 25. Махалля-туй в Янги-кишлаке, 1995 г.
Илл. 26. Женщины на туе в Янги-кишлаке, 1995 г.
Угощение, которое забирали домой, — шесть лепешек — считалось важным символом взаимных связей и обязательств внутри махалли. Именно об этом в первую очередь говорили мои собеседники, объясняя, в чем заключается долг перед махаллей. Принять эти лепешки означало признать себя должным вернуть шесть таких же лепешек и тем самым вступить в круговорот непрекращающихся дарообменов. Ответный дар в этом случае заключался в обязательстве организовать аналогичный махалля-туй и раздать всем членам махалли тот же набор продуктов.
В прошлом лепешки (раньше и мясо), полученные на катта-туе, и еженедельные угощения пловом в течение двух месяцев на исходе зимы и ранней весной могли составить существенную часть рациона питания для ошобинцев, то есть получается, что устроители ритуала — а это 10–15 семей за сезон в одной махалле — кормили остальные 100–200 семей. Ритуал, таким образом, выполнял функцию перераспределения материальных ресурсов между членами сообщества, чаще всего от состоятельных к более бедным. Однако во второй половине прошлого столетия, и особенно в 1970—1980-е годы, перераспределительная функция катта-туя заметно ослабла. В это время местное население получало довольно приличные доходы (считая домашнее хозяйство и официальную работу698), дефицита основных продуктов не было и питание семей, за редкими исключениями, не слишком зависело от махаллинских угощений. Долг перед махаллей перестал восприниматься как взаимопомощь и превратился в большей степени в способ легитимации социальных статусов и социальных связей.
За кулисами махалли
Затраты на угощение стали скорее социальным обменом, нежели материальным, и иногда даже напоминали излюбленный этнографический пример — индейский потлач, то есть щедрую раздачу (или уничтожение) ресурсов в обмен на уважение и признание своего социального статуса. Подобный смысл любых ритуальных даров отметил еще французский социолог Марсель Мосс699. Применительно к Средней Азии первой об этом написала советский этнограф Ольга Сухарева700.
Во второй половине XX века социальные связи внутри махалли постепенно теряли свою практическую значимость. Члены одной махалли, живущие в разных частях селения, а порой и в разных селениях, за рамками ритуала могли очень мало взаимодействовать, даже редко встречаться и не иметь никаких общих интересов. Кроме долга в шесть лепешек с катта-туя их могло ничего больше и не связывать. Ценность таких отношений для повседневной жизни девальвировалась, но ритуал, скрепляющий в момент его проведения людей в единое сообщество, тем не менее сохранялся и был важен для жителей кишлака.
Как говорили мне многие ошобинцы, старые махалли стали исчезать уже в 1960-е годы: до того все члены махалли обязательно приходили на совместные пиршества и чужих на них не пускали, теперь же на катта-туях присутствовали в основном родственники, друзья, сослуживцы и соседи устроителя ритуала, а многие члены махалли, наоборот, перестали на них бывать, и лишь дети или женщины приходили, чтобы забрать положенные лепешки — пресловутый долг701. Обязательный ритуал превратился в публичную арену, и за ее кулисами формировались и поддерживались совсем другие связи, реальные социальные и материальные интересы сместились на окраины этого социального пространства, в сопутствующие катта-тую мероприятия, в которых принимали участие в основном родственники и близкие знакомые устроителя ритуала и в которых махалля как таковая потеряла свое значение, оставшись лишь легитимным поводом для пиршества и его символом.
В прошлом, надо сказать, роль родственников и близких знакомых в махаллинской сети отношений особо не выделялась — это был один и тот же круг людей, с которыми приходилось каждый день и по самым разным поводам общаться. Все их действия были регламентированы обычаем: в частности, родственники и близкие знакомые помогали устраивать катта-туй, участвовали в его подготовке, на ритуал они приходили с гостинцами (конфеты, чай) и какими-нибудь небольшими подарками, взамен получали по окончании праздника яктак и белбоғ, иногда — за дорогой подарок — тўн. Раньше женщины на все катта-туи приносили завернутые в дастархан 4–6—8 своих лепешек (число должно было быть четным), отрез какой-нибудь ткани и маленький подарок вроде зеркала или чайника с пиалой, взамен им потом вручали ответные дастарханы с двумя лепешками, сладостями и отрезом ткани того же сорта, но другой расцветки. На рубеже 1980—1990-х годов этот обмен подарками был сокращен: мужчинам перестали вручать рубахи и поясные платки, а женщины перестали дарить друг другу ткани.
Главное изменение последних десятилетий заключалось в том, что в силу демографического роста и дифференциации деятельности ошобинского населения родственные и приятельские связи вышли за рамки махалли, а значит, более или менее строгая их регламентация, в том числе и в ритуальной сфере, во многом перестала действовать. Тогда-то и возникла сложная игра разнообразных социальных статусов и ролей, которые нужно было подтверждать размерами и щедростью подарков и отдарков — в том виде, как их описывал Мосс. В пик относительного благополучия в качестве подарка могли дать деньги, какую-нибудь мебель или барана — все это запоминалось, нередко даже записывалось в специальную тетрадку, и при ближайшей возможности следовал ответный подарок примерно той же стоимости или чуть больше. Причем необязательно было ждать следующего катта-туя, чтобы совершить новый виток обмена, — пространство закулисных отношений включало и другие ритуалы, например свадебные, организация которых никак не была связана с махаллей.
Все подобные обмены и отношения, как я уже сказал, существовали на окраинах махаллинского круга. Я имею в виду, что они не были связаны с ритуалом приглашения, угощения и одаривания членов махалли. Принимать и угощать 300–500 человек два дня подряд в течение двух часов — такие сети отношений в определенной степени обезличились и унифицировались. Для всех важнее стало то, какие связи возникали в процессе подготовки ритуала, чтó происходило параллельно с основным угощением — в отдельных комнатах, где собирались родственники, друзья и коллеги. Можно сказать, что катта-туй в последние десятилетия превратился в повод для устройства неформальных встреч и угощений, в которых сама махалля как таковая уже не участвовала. Эти встречи не лимитировались строго по времени, на них кроме плова выставлялся более разнообразный набор блюд, в том числе спиртное, что делало такие собрания еще менее регламентированными. Кого приглашали или не приглашали, кто пришел или не пришел, кто что делал и с какой готовностью или не делал вовсе, кто что подарил или не подарил, кто в какой компании с кем сидел и о чем говорил и так далее — вот что действительно больше всего интересовало людей при проведении катта-туя с точки зрения местной политики социальных связей. И именно эти обстоятельства потом, после проведения ритуала, всеми его участниками бурно и долго обсуждались, именно они становились причиной размолвок или укрепления родственных и дружеских связей.
Кроме важных обменов устроители катта-туев организовывали параллельно с пиршеством разного рода развлекательные мероприятия — скачки на лошадях и/или концерты. На них приходили все желающие, включая женщин и детей, независимо от принадлежности к махалле. В этом случае затраты не были жестко стандартизированы, поэтому в зависимости от своего благосостояния каждый из жителей Ошобы мог демонстрировать односельчанам свои богатство и щедрость, приглашая популярных певцов и предлагая богатые подарки участникам состязаний. Между известными людьми начиналось иногда настоящее соревнование в расходах на такие мероприятия — наиболее дорогостоящие акции активно обсуждались и надолго запоминались жителям кишлака, становились предметом гордости и уважения, а значит, служили для подкрепления социального положения устроителя туя. Вслед за наиболее богатыми людьми тянулись и средние слои, за ними — и малообеспеченные, которые тоже стремились повысить свой статус с помощью сверхрасходов на организацию развлечений.
Махалля и государство
Трансформации махалли
В рутинной сельской жизни, допустим, начала XX века ритуал был едва ли не единственной ареной для общения людей, предоставляя им возможность публично демонстрировать и определять социальные статусы и иерархии, выстраивать и «отрабатывать» социальные сети. Это была едва ли не единственная арена для обсуждения насущных тем, вопросов и новостей, а также для аккумулирования значительных материальных ресурсов и их перераспределения, обмена на символический и социальный капиталы. Это была едва ли не единственная арена, где формировались моды, привычки, вкусы, где люди могли показать свои таланты, где возникали симпатии и антипатии. Повторяющиеся год за годом ритуалы не выделялись из повседневных отношений, а были их частью, даже в какой-то степени тем пространством, в котором эти отношения институционализировались, приобретали нормированный характер, выражались в виде представлений о долге.
Можно было бы сказать, что такая роль ритуала была связана с сельским, однообразным образом жизни, с изолированностью горного сообщества, со сравнительно небольшой численностью населения, где все друг друга знали, с отсутствием в этих условиях других социальных механизмов и институтов, других пространств для самореализации. Однако я предпочел бы не приписывать порядку организации катта-туев некий неизменный вид, будто бы укорененный в древних, чуть ли не первобытных традициях. Так, замкнутость и однообразие жизни в Ошобе усилились в конце XIX века, то есть, как это ни странно, после присоединения к России. До этого ошобинцы в поисках работы охотно поступали на военную службу к кокандскому хану, занимались торговлей и уходили учиться в города, что должно было способствовать формированию социальных сетей, выходящих за пределы кишлака702. Завоевание ханства и установление колониального управления привели к тому, что прежние социальные сети и статусы были во многом насильственно разрушены, возможности продвижения по чиновничьей или военной (популярной среди ошобинцев) карьерной лестнице сузились почти до нуля, найти дополнительный заработок за пределами кишлака стало труднее, многие местные жители вынуждены были расширять свои земельные наделы и стада, приспосабливая к такой экономической жизни все повседневные связи. Помощь родственников, соседей по кишлаку и членов махалли превратилась чуть ли не в единственный социальный ресурс.
Росту практической и символической значимости махаллинских отношений способствовала колониальная система военно-народного управления, которую Российская империя установила в регионе после присоединения Кокандского ханства703. Напомню, что народная часть данной системы включала, в частности, волостной съезд, который избирал волостного управителя, волостного судью и решал многие другие вопросы местной жизни. Состав депутатов волостного съезда формировался путем выборов в каждом сельском обществе, и количество депутатов зависело от численности населения — избирали по одному человеку от каждых пятидесяти домохозяйств. Соответственно депутатов стали называть пятидесятниками, или элликбаши. При этом, разумеется, российские чиновники лишь определяли общее число пятидесятников, но за самой процедурой выборов не следили, предоставляя населению право приспосабливать ее к своим обычаям. В 1881 году в Ошобе было 300 домохозяйств, значит, должно было избираться шесть депутатов. В 1890-е годы число домохозяйств в кишлаке перевалило за 400 и количество пятидесятников должно было увеличиться до восьми, но в документе 1899 года перечислялись имена только шести пятидесятников704, при этом там же говорилось о восьми кварталах кишлака. К 1917 году, судя по числу домохозяйств — более 500, должно было быть уже десять пятидесятников. Хотя количество депутатов не всегда соответствовало числу ошобинских махаллей, однако, по воспоминаниям самих ошобинцев, каждая махалля избирала своего элликбаши — возможно, некоторые из них не имели формального статуса.
Помимо избрания волостных управителей и решения других вопросов на уровне волости в обязанности элликбаши входила помощь сельскому старосте в организации сельских сходов, ведении учета населения и несении представительской функции — пятидесятники присутствовали при любом появлении в кишлаке вышестоящих чиновников. Кроме того, одной из самых главных их обязанностей было помогать старосте своевременно и в полном объеме собирать налоги, установленные колониальной властью. Особенность сбора налогов заключалась в том, что они основывались на принципе круговой поруки705. Сумма налога рассчитывалась в денежном виде на все сельское общество, за населением же (формально за сельским сходом) оставлялась возможность распределять ее выплату между домохозяйствами706. По рассказам пожилых ошобинцев, в «николаевские времена» пятидесятники могли прекратить подачу воды для всех жителей махалли в случае задолженности кого-то из ее членов по налогам. Насколько это соответствует действительности, сказать сложно, но правдой, видимо, является тот факт, что круговая порука действовала и на уровне всего сельского общества (кишлака), и на уровне отдельных махаллей, где родственники выступали гарантами выплаты полной суммы.
Другое воспоминание, которое трудно проверить, относится к процессу сбора налогов. Один старик в Ошобе говорил мне, что какие-то деньги собирались с населения во время проведения туев, затем на часть их устраивали общее угощение (весеннее жертвоприношение-худойи у святого места Мозор-бува707), а оставшиеся средства отдавали государству. Очевидно, местные жители к процедуре сбора государственного налога добавляли какие-то местные практики, связанные, в частности, с разного рода ритуалами. Поэтому совсем не случайное совпадение то, что элликбаши, судя по другим воспоминаниям, одновременно выполняли роль руководителей и организаторов коллективных пиршеств — тех самых, которые к концу XX столетия сохранились в виде катта-туя, подробно описанного выше.
Вся эта система управления и сбора налогов в урезанном и полуофициальном виде еще сохранялась, по-видимому, в 1920—1930-е годы. Хотя формально никакой должности пятидесятника уже не существовало, председатель сельского совета (преемник старосты сельского общества) назначал — у него было такое право — своих уполномоченных, которые помогали ему собирать налоги, присутствовали при обмере земли и урожая, вели учет населения и так далее. Жители Ошобы даже не заметили разницы и называли их по-прежнему пятидесятниками. В районном архиве я работал, в частности, с похозяйственной книгой сельского совета Ошоба за 1935 год, в которой махаллинский принцип учета и организации ошобинского общества был представлен вполне наглядно: книга разделялась на восемь частей, каждая из которых относилась к определенной махалле, и сведения о домохозяйствах были занесены в книгу в зависимости от махаллинской принадлежности последних708. Таким образом, в 1930-е годы прежние махалли оставались в кишлаке своеобразной сеткой для учета населения и, видимо, сохраняли за собой некоторые хозяйственно-административные функции. Подобная практика, судя по всему, не регулировалась никаким официальным законодательством на уровне правительства, а использовалась местной властью по привычке и для удобства (Илл. 27).
После создания колхозов в середине 1930-х годов большинство хозяйственно-административных функций — помощь в сборе налогов, учет населения, представительство перед вышестоящими институтами — перешли к колхозным председателям и бригадирам709.
Илл. 27. Собрание жителей Ошобы (предположительно 1940-е гг.)
В литературе существует точка зрения, согласно которой колхозы и бригады в среднеазиатском обществе организовывались с учетом деления селений на махалли710. Действительно, такого рода факты отражены в многочисленных свидетельствах того времени по всей Средней Азии. Более того, местные чиновники, отвечавшие за коллективизацию, сами нередко предлагали использовать локальные сообщества как фундамент для социалистического переустройства деревни711. Однако такое мнение вовсе не было господствующим. Советский этнограф Николай Кисляков, который в начале 1930-х годов сам участвовал в колхозном строительстве в южном Таджикистане, оценивал подобного рода попытки отрицательно: «разделение труда и специализация отдельных членов семейной общины, в связи с вопросом учета трудодней и расстановкой сил в колхозе, <…> заставляют подойти индивидуально к каждому члену общины при приеме его в колхоз, а не рассматривать общину как некое целое <…> большая семейная община пережила самое себя настолько, что она не может уже служить фундаментом, на котором можно было бы построить общинное хозяйство нового типа — советский колхоз»712.
Возвращаясь к Ошобе, должен сказать, что созданные здесь колхозы и бригады не имели никакой формальной или неформальной привязки к прежним махаллям. Хотя за бригадирами на какое-то время закрепилось прозвище «элликбаши», это отражало лишь факт передачи большинства функций прежних депутатов колхозным чиновникам.
Разумеется, бригады и звенья в 1930-е и 1940-е годы стихийно формировались с учетом самых разнообразных отношений между людьми, в первую очередь семейных и родственных. Это было связано в том числе и с тем, что нередко несколько частных наделов, которыми владели потомки одного и того же человека, включались в поливные земли одного колхоза или даже одной бригады. Например, в колхоз «22-я годовщина» вошли наделы вокруг выселка Аксинджат, значительная часть которых принадлежала потомкам Исламбая — как по мужской, так и по женской линии713. Колхозники предпочитали возделывать свои прежние участки земли, которые они лучше знали и к которым испытывали хозяйскую привязанность.
Однако родственный принцип все же не был основным при создании колхозов и бригад. Периодические реорганизации структуры колхозов, освоение новых земель, стихийные и спланированные переселения людей из одного места в другое — все подобные изменения физического и социального пространства делали состав колхозов и бригад непостоянным, меняющимся.
Сами махалли тоже не оставались в замороженном состоянии. Они переживали одновременно два взаимосвязанных процесса. Первый, о котором я подробно говорил, — это дальнейшее превращение махалли из соседско-родственного сообщества в своеобразный сгусток персональных ритуальных взаимных обязательств, не имеющих четких территориальных очертаний и даже выходящих за рамки кишлака, а также утративших — из-за возросшего количества членов махалли — символику единого генеалогического прошлого. Вместе с этим махалля в Ошобе теряла какие бы то ни было хозяйственные и административные функции.
Второй процесс, в некотором смысле обратный первому, — переселение ошобинцев в новые поселки и выселки и образование новых махаллей, имеющих строгую приписку к новому месту жительства и создающихся именно как территориальные сообщества. Причем последние, в какой-то мере замкнутые в отдельном физическом пространстве, должны были помимо обеспечения ритуальных мероприятий решать и другие задачи, например поддерживать общую инфраструктуру — дороги, каналы и так далее.
В одном из предыдущих очерков я писал, что еще в начале XX века часть ошобинцев обосновалась в кишлаке Оби-Ашт, где они со временем образовали самостоятельное сообщество и прекратили ритуальные связи с махаллями Ошобы. В 1940—1950-е годы в самостоятельное сообщество выделилось селение Янги-кишлак (оно относилось к переселенному в орошенную часть аштской степи колхозу «22-я годовщина»714), его члены какое-то время придерживались тех же правил организации махалля-туев, которые были в Ошобе, но постепенно реформировали их, и в частности отказались от раздачи лепешек. В 1960-е годы отдельное сообщество организовали жители Оппона. Люди объясняли свой отказ от прежних махаллинских связей тем, что дальние расстояния не позволяли поддерживать постоянные контакты — это создавало слишком большие трудности и требовало дополнительных расходов. Плюс, конечно, постоянное проживание по соседству вызывало у этих переселенцев, прежде принадлежавших к разным махаллям, потребность в каких-то формах символического единства и ритуального взаимообмена, которые должны были помогать регулировать и регламентировать социальные связи и иерархии.
Политика и махалля в Узбекистане
Говоря о трансформации махалли и о роли советского и постсоветского государства в этом процессе, я хотел бы подчеркнуть те различия, которые существуют между двумя среднеазиатскими странами — Узбекистаном и Таджикистаном. В современной литературе внимание исследователей сосредоточено на том, чтó представляет собой махалля в крупнейшей по населению стране региона, на территории которой находятся большие и наиболее древние города и в распоряжении которой — мощные экономические и пропагандистские ресурсы. Таджикистан же оказывается в тени, хотя сравнение двух государств и двух социальных политик могло бы показать разные траектории изменений в обществе, которое когда-то, относительно недавно, не было разделено по национальному признаку.
История государственной политики в отношении махаллей в Узбекистане началась вовсе не с 1991 года, когда была провозглашена независимость бывшей советской республики и объявлено о возвращении к национальным традициям715. Еще в 1923 году циркуляром Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Туркестанской автономной ССР были узаконены и наделены официальным статусом махаллинские комиссии и махаллинские уполномоченные в так называемых старых кварталах городов716. В их обязанности входили сбор налогов и недоимок, ведение учета жителей, решение текущих хозяйственных вопросов, наблюдение за порядком. Подчинялись комиссии напрямую милиции и городскому совету, а власть смотрела на них как на «вспомогательные аппараты административного порядка Гормилиции»717.
На более высоком политическом уровне этот институт получил официальное признание в положении «О махаллинских (квартальных) комитетах в городах Узбекской ССР», принятом в 1932 году правительством Узбекской ССР. В нем комитеты объявлялись «подсобными общественными органами при горсоветах <…>, райсоветах в деле осуществления директив правительства и предпринимаемых ими <…> мероприятий, направленных как по линии выполнения общих решений правительства, так и по линии государственных и местных налогов и сборов, а равно по линии коммунального и культурного, социального и хозяйственного строительства города, а также мероприятий, направленных к развитию общественной самодеятельности, по охране общественного порядка и бытовому обслуживанию населения»718. Было предписано, что махаллинский комитет должен состоять из трех человек (председатель, заместитель и секретарь), которые избираются населением на общих собраниях; комитет не обладал правами юридического лица, но мог собирать «страховые взносы» на содержание помещения и секретаря, организовывать кустарные артели, прачечные, столовые. В целом эти права и обязанности были прописаны довольно широко и неопределенно — от «содействия в ремонте дорог» и «участия в сборе налогов» до «поднятия культурного уровня» населения и «борьбы с калымом». В 1941 году Совет народных комиссаров Узбекской ССР и в 1953 году Совет министров Узбекской ССР приняли новые редакции положения о махаллинских комитетах в городах, причем в последнем случае говорилось, что исполкомы местных советов недостаточно контролируют деятельность этих комитетов и поэтому последние еще «не стали организациями общественной самодеятельности населения».
Выполнявший роль постсоветского критика советской политики в Средней Азии публицист Л. Левитин, упоминая положение 1932 года, писал в своей книге об Узбекистане, что «советская власть, выступавшая против многих традиционных узбекских социальных структур, в борьбе с махалля вынуждена была отступить. Махалля оказалось этой власти не по зубам»719. В данном случае понятие махалли вольно или даже скорее невольно использовалось им как местный аналог понятий общины (community)720 или морального сообщества721, которые находятся в открытом или подспудном конфликте с колониальным государством. Однако я вижу другую картину: советская власть не боролась с махаллей, а, наоборот, оказывала ей всяческое внимание, давала легитимную основу, встраивала в общую структуру государственных институтов и наделяла государственными (называя их общественными) функциями, создавала махалли там, где их не было. Как пишут Виктория Коротеева и Екатерина Макарова, в результате такой политики возник «гибрид советских и традиционных локальных форм и практик», махалля была инкорпорирована в советскую систему и легализована в ней, хотя власть не пыталась вмешиваться во внутреннюю жизнь махалли, ограничиваясь идеологическим контролем722.
В 1961 году было принято очередное положение «О махаллинских (квартальных) комитетах в городах, поселках, селах и аулах Узбекской ССР». Как и в прежних положениях, махаллинские комитеты объявлялись организациями общественной самодеятельности, цель которых заключалась в «оказании широкой помощи местным Советам и их исполкомам в успешном проведении мероприятий по хозяйственному и культурному строительству, всемерном развитии инициативы и самодеятельности населения»723; комитеты во главе с председателем и в количестве от 9 до 21 человека должны были избираться на общих собраниях сроком на год и могли иметь свою печать (издавна важный символ власти, который колониальная, а потом и советская бюрократия возвела на почетное место в своей системе), были вправе выдавать справки, но при этом, как специально оговаривалось в положении, не были полномочны наказывать, заниматься хозяйственно-финансовой деятельностью (содержать столовые, чайханы и парикмахерские — что специально уточнялось) и собирать налоги; в их задачи входило «содействовать», «организовывать», «заботиться», «наблюдать», «оказывать помощь». Положение было весьма осторожным и с массой идеологических предостережений и призывов — никакой конкретики в отношении того, чем должны и чем имеют право заниматься махаллинские комитеты, в нем не было.
Тем не менее в положении 1961 года было два важных новшества. Во-первых, оно утверждалось не правительством, а Верховным Советом Узбекской ССР, то есть не исполнительным, а законодательным органом, что формально придавало ему намного более высокий правовой статус. Во-вторых, и это я хотел бы подчеркнуть особо, действие нового положения распространялось не только на города, но и на сельскую местность.
В 1983 году Верховный Совет Узбекской ССР принял новое положение «О махаллинских (квартальных) комитетах в городах, поселках и кишлаках Узбекской ССР», в котором махаллинские комитеты в очередной раз объявлялись «органами» общественной самодеятельности населения, обязанными «широко привлекать граждан к решению вопросов государственного и социально-культурного строительства, отнесенных к ведению местных Советов народных депутатов»724. Среди нововведений значились увеличение срока работы комитета до двух с половиной лет, уточнение процедуры выборов и расширение списка дел, которыми комитеты должны были заниматься, за исключением опять же финансово-хозяйственной деятельности, сделок купли-продажи, аренды, сдачи в наем квартир и сбора денег с населения. В начале 1980-х годов именно с принятием этого очередного варианта положения о махалле советская бюрократическая машина заработала в Узбекистане более интенсивно — в частности, во всех сельских советах в обязательном порядке были заново определены границы ответственности махаллинских комитетов, проведены выборы и назначены председатели, созданы комиссии, в том числе женская, появились отчеты об их работе.
После объявления в 1991 году государственной независимости Республики Узбекистан интерес власти к махалле, которая могла бы совмещать некоторые административные и идеологические функции, еще более усилился725. В принятой в 1992 году конституции махалля была впервые упомянута в разделе о самоуправлении726. В том же году был создан республиканский благотворительный фонд «Махалля», который должен был координировать работу махаллинских органов, собирать отчеты и разрабатывать нормативную базу для их деятельности. В 1993 году был принят закон о местном самоуправлении, который подробно регламентировал формирование таких институтов, как «сход граждан», «кенгаш (совет) схода», выборы/назначение председателя (аксакала), его советников и комиссий, наделял эти институты статусом юридического лица, правом иметь счета и вести хозяйственную, коммерческую и нотариальную деятельность, обязанностью распределять бюджетные деньги среди малоимущих и многодетных семей. Хотя в законе речь шла о том, что «органы самоуправления граждан не входят в систему органов государственной власти», в действительности вся их активность, задачи, отчетность были подчинены интересам государства и контролировались им. Об этом процессе «махалляизации» много написано727.
Процесс «махалляизации» был включен в идеологию национальной независимости, которая основывается на идее возвращения к историческим и национальным корням. Как пишет узбекский президент Ислам Каримов728,
Стройную систему органов местной власти невозможно представить без органов местного самоуправления граждан, основу которых составляют сходы граждан — махалля. Эти органы созданы на основе учета исторических традиций и менталитета народа, где значение махалли как важного общественного органа самоуправления всегда было очень велико. Махалля играет важную роль в воспитании добрососедства, уважения и гуманизма в отношениях между людьми. Она стоит на защите социальных интересов граждан, оказании конкретной помощи нуждающимся слоям населения. В то же время функции махалли в современных условиях должны быть наполнены новым содержанием. Речь идет о том, что махалля должна стать действенной поддержкой в осуществлении экономических и демократических преобразований.
В результате такого конструирования махалли на протяжении советского и особенно постсоветского периода сформировался, по сути, новый государственный институт со своей бюрократической иерархией чиновников, унифицированными административными функциями, строгой привязкой к определенной территории — и все это в мифологическо-идеологической упаковке национальной традиции.
Махалля в Таджикистане
То, что я писал в предыдущем разделе о политике по отношению к махалле в Узбекской ССР и независимом Узбекистане, непосредственно Ошобы, которая находится на территории Таджикистана, не касается. Однако сказать, что узбекские реформы вообще никак не затрагивали жизнь ошобинцев, нельзя, так как местные жители всегда были хорошо осведомлены о происходящем в соседней республике/государстве. Официальная пропаганда узбекских традиций, которая велась (и ведется) по его телевидению, доходила до ошобинцев напрямую — телевизионные антенны в Аштском районе принимали почти исключительно узбекские каналы. Кроме того, разнообразные личные контакты с родственниками и знакомыми из Узбекистана давали возможность получать дополнительную информацию обо всех изменениях в политической и административной практике в этой стране. Тем не менее Ошоба принадлежит к таджикскому государству, и именно это обстоятельство в первую очередь предопределяет ту роль, которую махалля играет в представлениях ошобинцев.
В Таджикской ССР, в отличие от Узбекистана, на протяжении всего советского времени интерес к махалле был артикулирован слабо. Какого-то единого объяснения этому факту нет. Возможно, сыграло свою роль малое число старинных городов, особенно на юге республики, и преобладание селений и поселков с аморфной внутренней структурой; проживая в построенной почти с нуля столице — Душанбе, таджикская власть могла сильно не задумываться о символическом и социальном значении старых кварталов и не волноваться по поводу того, как установить над ними милицейско-идеологический контроль. Возможно также, что в Душанбе увидели — махаллинская тема монополизирована в Узбекистане, и решили подчеркнуто закрыть на нее глаза, чтобы не вступать в споры с соседом. А возможно, у небольшой и небогатой республики просто не было подготовленных чиновников и избытка пропагандистской мощи, чтобы заниматься такими, в общем-то не самыми первостепенными, вопросами.
Лишь в начале 1980-х годов, вслед за очередным законом о местном самоуправлении, появилось правительственное постановление, в котором говорилось о создании органов общественного самоуправления — махаллинских советов в городах и кишлачных советов в сельской местности. При этом задачи таких органов и процедура их формирования не были прописаны достаточно отчетливо (как это было в узбекских положениях о махаллинских комитетах) — данные вопросы должны были решаться с помощью областных и районных инструкций, а нередко просто по согласованию и устной договоренности между чиновниками разного уровня. Тогда в сельсовете Ошоба было образовано семь кишлачных советов: Гудас, Мархамат, Олма, Оппон, Шевар и два совета в самой Ошобе; условную границу между последними проложили по центральной дороге, которая проходит через селение и делит его на две части. Я поставил бы слова «образовано» и «проложили» в кавычки, потому что в действительности это решение было сугубо формальным. Гудас и Оппон уже существовали как отдельные сообщества и жили по своим правилам — название «кишлачные советы» лишь зафиксировало это состояние. Новое селение Мархамат еще только начинало формироваться в самостоятельное сообщество, и его жители осваивали участки, проживая бóльшую часть времени в Ошобе и сохраняя прежние махаллинские обязательства. Остальные же кишлачные советы возникли лишь на бумаге.
В 1991 году был принят закон «О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Таджикской ССР», согласно которому «органам территориального общественного самоуправления», включая «советы и комитеты микрорайонов, махаллинские, домовые и кишлачные комитеты, общественные формирования и объединения населения, собрания граждан» и «иные формы непосредственной демократии», разрешалось получить статус юридического лица и заниматься хозяйственной деятельностью под контролем местных советов729.
Принятие закона привело к попытке реформы самоуправления в Ошобе, несмотря на распад СССР и начинающуюся в Таджикистане гражданскую войну. В 1992 году было принято решение в очередной раз поделить сельсовет на мелкие территориальные единицы и вместо кишлачных советов назвать их махаллинскими комитетами. Таких комитетов было сформировано одиннадцать: Гудас, Олма, Шевар, два в Мархамате, два в Оппоне и четыре в Ошобе. Нарисованные сельсоветом махалли мало соотносились с действительностью. Реально ошобинцы, живущие в самой Ошобе, Олме и Шеваре, продолжали собираться на катта-туи по прежним правилам и ничего о новых махаллинских комитетах не знали. Жители Оппона и Мархамата, уже отделившись в собственные сообщества и проводя собственные ритуалы, оказались более восприимчивы к новшествам — здесь появились председатели махаллинских комитетов, которые взяли на себя, в частности, обязанности туйбаши. В Оппоне же и Мархамате руководству сельсовета удалось провести и еще одну реформу — отменить раздачу лепешек на туях, которая практиковалась в ошобинских махаллях. Эта перемена оказалась безболезненной, потому что сам факт выхода из старой махаллинской сети, которая держалась на понятии долга, уже означал отказ от лепешек как от его символа.
В 1994 году была принята конституция Республики Таджикистан, где не было ни слова о махалле, и в том же году появился закон «Об органах самоуправления в поселке и селе», где махалля упоминалась как составная часть основного органа самоуправления — джамоата (по сути, бывшего городского или сельского совета)730. Новый закон опять вызвал активность местной власти. Руководство сельсовета, точнее теперь уже «кишлак джамоати», совместно с руководством колхоза еще раз подтвердило свое решение о преобразовании старых махаллей в новые и о запрете на раздачу лепешек во время катта-туя. Три махалли — Мархамат, Нижний Оппон и Верхний Оппон — остались на своем месте. В 1995 году в самостоятельное сообщество выделился Шевар (вместе с выселком Гарвон), там был назначен председатель, а постоянные местные жители решили собираться на свои отдельные катта-туи и отказаться от обычая раздавать лепешки. При этом, конечно, те временные жители Шевара, которые переселялись на зиму в Ошобу, в новую махаллю не вошли, а остались в старых. На оставшейся территории было образовано шесть махаллей: одна в Олме и пять в Ошобе — Сой-кумчикари, Ошоба-пастки-кыбласи, От-чапор, Тош-тула, Джумбок, каждая из которых занимала часть кишлака (названия же отражали старые локальные наименования разных местечек Ошобы).
Во вновь созданных махаллях были определены свои председатели. В их числе были один врач, четыре колхозных бригадира, один заведующий колхозным участком, четыре учителя — то есть сплошь представители местной власти, исключение составил только один шофер, который заслужил эту почетную обязанность, потому что являлся сыном известного в прошлом в Ошобе муллы. Впрочем, по словам руководителя сельсовета, эти махаллинские комитеты никакой деятельности развернуть не успели. Как признался мне один из назначенных тогда махаллинских председателей, он сам узнал о своей новой должности только спустя несколько месяцев. В принципе он был бы не против ее занимать, но по его представлениям, махаллинскому комитету следовало наблюдать за порядком, контролировать распределение воды, состояние дорог и решать другие хозяйственные вопросы, а не заниматься исключительно туями. Председатель махалли видел себя чиновником и мечтал получить властные рычаги воздействия на людей, а также доступ к финансовым ресурсам — катта-туи в этот список приоритетов не попадали.
Одновременно с решением о реформировании махаллей сельсовет вновь принял указание прекратить практику раздачи хлеба после окончания туя, мотивируя это требование резко возросшей ценой на муку.
Мнения самих ошобинцев, с которыми я обсуждал данную тему, разделились. Учитель А. оценил нововведения как «уничтожение истории» Ошобы. Некоторые жители, похоже, впервые услышали от меня, что кишлак поделили на несколько новых махаллей. Один из них отреагировал словами: «Это хорошо, так как не надо будет далеко ходить на катта-туи и покупать дорогую муку», но при этом выразил сомнение, что такие изменения действительно произойдут, — «на них не согласятся старики». Чаще же все-таки была другая реакция: старые махалли не надо ликвидировать и не стоит запрещать раздачу лепешек, поскольку если человек собрался делать туй, то, значит, у него есть деньги, а кроме того, это экономия для других жителей Ошобы, которые за счет туев могут полтора-два месяца не печь свой хлеб и питаться только махаллинскими лепешками. В условиях экономического кризиса, который разразился в начале 1990-х годов, это был очень важный контраргумент, зеркально отражавший довод о необходимости сокращения расходов на муку. Часто встречалось мне и такое объяснение нежелания отказываться от раздачи хлеба: люди говорили, что если не исполнять этот обычай, то «дадут какое-нибудь обидное прозвище, скажут, что мы тебе давали лепешки, а ты нам не возвращаешь», то есть мои собеседники ссылались на тот самый долг, который они на себя приняли, участвуя в катта-туях, и который обязаны были вернуть — в противном случае под вопрос ставились репутация и социальный статус человека.
На момент моего исследования в 1995 году вопрос о создании территориальных махаллей и реформе катта-туя в селениях Ошоба и Олма не был решен, а жители этих селений все еще придерживались прежнего деления на восемь экстерриториальных махаллей, к ним же причисляли себя и те ошобинцы, которые жили в Адрасмане, Табошаре и других горнорудных поселках. Правда, в тот год туи в Ошобе впервые за многие годы вообще не проводились. Причины назывались разные. Основная — серьезный экономический кризис, который резко подорвал семейные бюджеты и поставил под сомнение прежние социальные иерархии. Местным жителям не только стало трудно найти и приобрести все необходимое для проведения туя, но и оказалось сложно на должном уровне поддерживать оставшимися у них материальными ресурсами свои социальные статусы, которые сохраняли прежнюю ценность и не были девальвированы вместе с денежными знаками. У людей возникли также опасения, что государство будет активно вмешиваться в порядок проведения туев и это приведет к конфликтам. Все в совокупности создавало ситуацию неопределенности. Все ждали первого прецедента, который показал бы настоящую решимость реформаторов довести свои планы до воплощения, их способность принудить жителей к нарушению устоявшихся обычаев и применить силу против возможного сопротивления таким попыткам. Люди выжидали, что будет дальше, и не спешили выстраивать новую политику социальных связей, не желая подвергать себя рискам обвинений в невыполнении долга731.
* * *
Закончу очерк об ошобинской махалле четырьмя небольшими общими выводами.
Во-первых, говоря о махалле как о совокупности социальных институтов и сетей, необходимо различать те из них, которые создаются государством и при его активном участии становятся важным символом, механизмом управления, маркером социального (и географического) пространства, и те, которые существуют в виде местных неформальных обычаев и привычек. Последние сохраняются и под официальной вывеской, и вне ее даже в Узбекистане, несмотря на активную и длительную унификаторскую политику внедрения стандартной формы махалли в этой республике/стране732. Еще более различие между формальными и неформальными отношениями заметно в Таджикистане (и в Кыргызстане, о котором писали свою посвященную махалле статью Сулайманов и Лью), где старания государства контролировать локальные практики и подчинить их однообразной административной системе были не столь последовательными.
Во-вторых, административные инструменты управления и символы, которые официально называются махаллей, и местные сети и институты, которые тоже называются махаллей, хотя и не совпадают между собой, выполняя разные функции, не находятся, однако, в параллельных реальностях — они постоянно пересекаются, взаимодействуют, отсылают друг к другу. Жители Ошобы, чтобы попасть из административной махалли в махаллю неформальную, не переходят каких-то видимых или невидимых границ — та и другая встроены в одну и ту же конструкцию социальной повседневности, являясь разными каналами коммуникации между одними и теми же людьми.
В-третьих, говоря о том, что государство пытается присвоить и унифицировать местные социальные сети и институты, мы не должны взамен искать какую-то аутентичную махаллю, существующую вне государственных (в том числе колониальных, советских и национальных) форм и идеологий733. В действительности локальные практики и идентичности поражают своей вариативностью и гибкостью, зависят от множества факторов и конкретных условий, в которых они формировались и существуют734. Рассмотренный мной случай Ошобы хотя и является по-своему уникальным, но хорошо иллюстрирует возможные местные варианты тех сетей и институтов, которые обычно с махаллей отождествляются. Даже такие признаки, как территориальность, соседство и интенсивность повседневного общения, могут в конкретном сообществе принимать весьма своеобразные конфигурации. Это говорит о том, что любая обобщенная модель будто бы настоящей махалли оставляет за своими рамками множество непохожих примеров, которые наполняют жизнь среднеазиатского мира.
В-четвертых, сохранение неформальных социальных отношений не указывает на какую-то изначальную их данность и неизменность — они постоянно находились и продолжают находиться под давлением разнообразных факторов и обстоятельств, реагируют на них столь же многообразными эффектами и изменениями. Среди этих факторов могут быть экология местности и доминирующие способы хозяйствования, количество и состав населения и так далее. Государство с его политикой и идеологией, безусловно, также воздействует на местные практики и идентичности, приспосабливает их к себе и само приспосабливается к ним, ломает и пересоздает их в новых формах. В результате всех этих влияний махалля, какой она была в начале XX века и какой она стала в конце столетия, — это разные явления и с точки зрения численности и состава членов, и с точки зрения ритуальных традиций, и с точки зрения значения в жизни ошобинцев, и даже с точки зрения названий, ритуалов и символов. Разумеется, такого рода трансформации не означают прерывания преемственности, понимаемой как обязательный к возвращению долг, о котором каждый человек помнит и которым дорожит — как элементом своего личного статуса, символического и социального капитала.
Очерк восьмой ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА ИСЛАМА735
В справочнике «Мусульмане Советской империи», изданном в 1986 году, советологи Александр Беннигсен и С. Эндерс Уимбуш называли мусульман колонизированной группой советского общества. Авторы предлагали рассматривать отдельно официальный ислам, который включал духовные управления, зарегистрированные и подчиненные им учебные заведения, мечети и «священников», и неофициальный (или параллельный) ислам, который, по их мнению, основывался на суфийских братствах736. Первый был маловлиятельным и полностью зависел от властей, второй — намного более сильным и представляющим опасность для советского режима: «Массированные советские усилия по уничтожению исламского сознания и традиционных исламских практик», писали Беннигсен и Уимбуш, приводили «на самом деле к экспансии „параллельного“ ислама и активности суфийских братств»737.
В 2000 году, уже спустя десятилетие после распада СССР, вышла книга другого советолога, Якова Рои — «Ислам в Советском Союзе: от Второй мировой войны до Горбачева»738. Данное исследование выгодно отличалось от работ Беннигсена и Уимбуша. Во-первых, базой источников: в отличие от своих предшественников, которым приходилось пользоваться лишь отрывочными сведениями из открытой литературы советского времени, автор обратился к архивам правительственного Совета по делам религиозных культов, содержащим в том числе и закрытую прежде информацию. Во-вторых, Рои отказался от резко обличительного антиимперского пафоса, которым явно грешили Беннигсен с коллегой, и постарался увидеть помимо стратегии мусульманского сопротивления советской власти и другие варианты поведения, в частности стратегию «мирного сосуществования с марксизмом-ленинизмом и его представителями, без принятия, однако, его постулатов», которая, как он заметил, стала выбором значительного большинства мусульман739. Это само по себе было неожиданно, так как крушение советского режима можно было скорее объяснить непримиримым конфликтом идеологии и людей.
Однако даже заметно отклонившись от советологических стереотипов740, Рои остается в рамках некоторых клише, сформированных эпохой холодной войны. Он продолжает делить советский ислам на официальный и неофициальный — правда, предпочитая более корректные термины «зарегистрированный» и «незарегистрированный» и замечая, что существует не только противостояние, но и своеобразное сотрудничество между представителями этих исламов741. Рои также видит, что в параллельном исламе есть не только «суфии», но и более широкий спектр мусульманских деятелей. Кроме того, израильский ученый не отказывается от идеи рассматривать ислам и советский режим в качестве антиподов, пусть и не только воюющих между собой742.
В 2006 году американский исламовед Девин ДиУис в своей рецензии на книгу Якова Рои выступил с обширной критикой советологического исламоведения. ДиУис обратил внимание на то, что, используя неадекватные данные и проблематичные источники, советологи повторяли тот язык описания ислама, который создавался советскими экспертами для управления мусульманскими окраинами. Одним из клише советской/советологической экспертизы было, в частности, противопоставление официального ислама неофициальному (народному, бытовому), первый из которых будто бы являлся «настоящим», а последний содержал большое количество неисламских черт и особенностей. В этой оппозиции рецензент увидел «по сути, абстрактный идеал ислама, определяемый в достаточно узких терминах, которые исключают многое из повседневной религиозной жизни в большинстве традиционных мусульманских обществ»743. ДиУис показал, как категории официального и неофициального вступают в противоречие с действительной картиной множественных трансформаций религиозных институтов и иерархий, ритуалов и связей, интерпретаций и идентичностей, происходивших в советском исламе. Вместо простых дихотомических схем наблюдались гораздо более сложные и запутанные отношения между разными лицами и группами, которые так или иначе апеллировали к исламским ценностям744.
Идеи, высказанные ДиУисом, вдохновили меня на попытку сделать антропологическое описание ислама в отдельно взятом кишлаке.
В настоящем очерке речь пойдет о религиозном конфликте, который вспыхнул в Ошобе в конце 1980-х — самом начале 1990-х годов. Меня интересует не исламоведческая, а сугубо социологическая или антропологическая перспектива в изучении этих событий, поэтому я опираюсь на идеи и словарь, которые предложил для описания религиозного поля французский социолог Пьер Бурдье. В частности, я исхожу из его мысли, что «анализ внутренней структуры религиозных учений должен обязательно учитывать социологически сконструированные функции, которые они несут, во-первых, для групп, которые их производят, и, во-вторых, для групп, которые их потребляют»745. Я покажу, что описание религиозной борьбы с помощью простых дихотомических схем значительно упрощает реальную картину того противостояния и тех коалиций, которые складывались между жителями кишлака. Я покажу, что религиозное противостояние в Ошобе было связано с локальной политикой, с конкуренцией за различные символические и материальные ресурсы, с перераспределением диспозиций и капиталов в период кризиса и перестройки государства. Также я покажу, что все участники этой борьбы использовали самые разные инструменты, включая родословные, титулы, ритуалы, святые места, дома для молитв, для легитимации своих претензий и делегитимации претензий своих соперников. При этом собственно религиозные аргументы в этой дискуссии дополнялись морализаторством, обвинениями противников в корысти и лицемерии, личными обидами и неприязнью. Наконец, я покажу, что каждый из героев моего очерка отстаивал свое понимание правильного или неправильного ислама, свою версию ортодоксии и подлинности, стремился показаться настоящим мусульманином.
Ходжа, ишан, тура
Религиозное поле в Ошобе было поделено между тремя группами мусульманских деятелей — «потомками святых» (к ним можно добавить группу шайхов), махсумами и хаджиями. Начну свой анализ с группы «потомков святых», занимавших специфическую нишу746. Они не являлись исконными ошобинцами по происхождению и делились на три семейные подгруппы — ходжей (хўжá — не путать с хаджиями!)747, ишанов (эшóн)748 и тура (тўрá)749.
Первыми, как рассказывали местные жители, пришли в Ошобу ходжи. В памяти населения осталось имя Рахматуллахана, который жил примерно в середине XIX века, пришел, кажется, из Пскента (городок в Ташкентской области) и женился на местной девушке. Кто-то из информаторов сказал, что кокандский хан поставил его имамом в ошобинскую мечеть. У Рахматуллахана был сын Ишанхан750, у которого, в свою очередь, было четверо сыновей: двое старших — Джангир-ходжа и Турсун-ходжа — были убиты во время Гражданской войны, в 1918–1919 годах751; двое младших (видимо, от другой жены) — Бурхан-ходжа и Сайидгозы-ходжа (по данным похозяйственной книги за 1935 год, они родились соответственно в 1900 и 1910 годах752) — остались в Ошобе и в 1930-е годы числились бедняками.
У Джангир-ходжи и Турсун-ходжи сыновей не было, дочери же их вышли замуж за «потомков святых» в других селениях. Вспоминали жену Турсун-ходжи — Баргинисо (старшим братом которой был Тоштемир Нурматов753), их дочь, Офтобхон, вышла замуж за Мусохан-ишана из Ашта. У Бурхан-ходжи тоже были только дочери — все они стали бу-отин, то есть умели читать молитвы и руководили религиозными мероприятиями, которые проводились женщинами754. В 1995 году Сайидгозы-ходжа был старшим из потомков Ишанхана, он жил в доме своего отца в центре кишлака с сыном и невесткой и ходил в новую мечеть на молитвы.
В отличие от ходжей, которые, видимо, не сохранили точных свидетельств своего знатного происхождения и могли давать лишь общие ссылки на предков чор-ер755, семейство ошобинских ишанов возводило свою родословную непосредственно к пророку Мухаммаду (точнее, к его дочери Фатиме и ее мужу Али)756, то есть они считали себя более знатными, чем ходжи. Для подтверждения этого факта ишаны могли предъявить широкую сеть влиятельных родственников, известных во всем Аштском районе и в Ангрене.
Предком ишанов называли Абдусаттархан-ишана, который жил и умер в Аште и являлся, видимо, дальним родственником Ишанхана. У него был сын Косымхан (Сайид-Кози-ишан), который жил в селении Джар-булак и там похоронен. Последний, по-видимому, возглавлял одну из сетей некоего суфийского братства и имел много почитателей и мюридов757 не только в Ошобе и в Аштском районе, но и — по словам его потомка — «в Казахстане, Киргизстане и Узбекистане», куда ездил собирать приношения. У Косымхана, в свою очередь, было пять сыновей и множество внуков, которые расселились по многим кишлакам. Самым известным из них был, пожалуй, Бузургхан, прославившийся как большой знаток ислама, врач-целитель и даже святой человек, он не раз бывал в Ошобе, и местные жители часто вспоминали о нем в своих рассказах758. Один из сыновей Бузургхана — Мамадхан — в начале 1990-х годов был самым старшим из рода Косымхана и будто бы хранил у себя генеалогию (шажара), доказывающую знатное происхождение этой группы «потомков святых».
Двое из пяти сыновей Косымхана — Акбархан-ишан и Джакпархан-ишан — взяли в жены жительниц Ошобы.
Акбархан был богатым и известным (Илл. 28). Один из его внуков убеждал меня, что дед помогал советской власти и даже якобы первым в Аштском районе получил орден Ленина за сдачу хлопка, но кто-то написал на деда анонимный донос, и его посадили. Правда все это или нет, но в 1930-е годы Акбархана арестовали, и он умер в тюрьме и похоронен где-то в Ходженте. Он имел несколько жен в разных местах, в том числе в Коканде и Аште, и жил в основном в Джар-булаке. Его ошобинская жена была сестрой Р.Б., который в те же 1930-е годы недолгое время был председателем колхоза «НКВД». В этом браке родились сыновья Иноятуллахан и Омониллахан — оба прожили всю жизнь в Ошобе. У второго из них в кишлаке было много детей, в частности сыновья Нодирхан и Анвархан.
Интересен случай с Джакпарханом (согласно данным 1935 года, он родился в 1885 году) — родственные отношения тесно связали его самого и его потомков с группой ошобинских ходжей (Илл. 29). Он женился на дочери Ишанхана, а в обмен сын последнего, упомянутый выше Бурхан-ходжа, женился на дочери Косымхана, то есть обе семьи вступили в двойное родство между собой. Старший сын Джакпархана уехал из Ошобы, а младший, Мухтархан, женился на дочери Бурхан-ходжи, то есть на своей двоюродной сестре по отцу. Две дочери Джакпархана из трех также вышли замуж за родственников: одна — за сына Мусохан-ишана и Офтобхон, которая, напомню, была внучкой Ишанхана; вторая — за Омониллахана, сына Акбархана, то есть за своего двоюродного брата по отцу759. Нодирхан Омониллаханов женился, в свою очередь, на дочери Мухтархана.
Илл. 28. Акбархан-ишан (предположительно 1930-е гг.)
Практика заключения близкородственных и фактически сословно-эндогамных браков между «потомками святых» являлась одним из важных элементов стратегии наращивания их символического капитала — передачи «святости» и обмена ею, поддержания групповых элитных границ и недопущения конкурентов к своим социальным и материальным ресурсам. Ограничения, связанные со вступлением в брак, делали такой брак престижным и, значит, приносящим разнообразные выгоды. По обычаю мужчине из числа «потомков святых» предпочтительнее было жениться на девушке из своего круга, но он имел полное право взять в жены и простую женщину — это немного ухудшало родословную, но не ставило под сомнение наследование «святости». Женщине же из «святой» семьи вступать в брак с простым человеком было строго запрещено, поскольку возможность наследования «святости» по одной только материнской линии могла вызвать несогласие и споры. Этот запрет обосновывался рассказами о грозивших простому мужчине, прикоснувшемуся к «святой» женщине, болезнях и неприятностях. Однако локальные обстоятельства, в частности небольшой выбор подходящих брачных партнеров и тесные повседневные контакты «потомков святых» с другими жителями кишлака, вынуждали вносить поправку в эти правила, и такого рода неравноправные браки в Ошобе все-таки заключались; дети же от них, судя по постфиксу «хан» (хон) к мужскому имени, признавались принадлежащими к особому религиозному сословию.
Илл. 29. Брачные связи «потомков святых»
Позже всех остальных «потомков святых» в Ошобе появилась семья турá, причем в отличие от ходжей и ишанов она не имела достаточно прочных местных корней. С этим было связано первое серьезное несовпадение в способах обоснования своего привилегированного статуса. Ходжи и ишаны, чтобы поддержать свой статус, апеллировали главным образом к своим ближайшим предкам, имена которых были на слуху у населения соседних кишлаков. Тура же использовали другую стратегию: они возводили свою родословную (непонятно какую — кровную или духовную) к Бахауддину Накшбанду, известному среднеазиатскому суфию и основателю суфийского братства Накшбандия760, ныне популярному полумифическому святому. Поскольку Накшбанд жил в Бухаре, то и своих предков тура считали выходцами из этого города.
О своих далеких предках члены ошобинской семьи тура имели весьма смутное представление. Ближайшими же их предками были Мирзахасан-тура и его сын Мирзахамдам-тура — они жили в Коканде, где до сих пор находится их семейное родовое кладбище. У Мирзахамдама был сын Искандархан-тура, он тоже одно время жил в Коканде, а в 1930-е годы, возможно, скрываясь от репрессий761, уехал из города и поселился вдали от него — в Ошобе. Искандархан был женат на женщине из Ашта, у них была дочь, которую назвали Мукаррам (родилась примерно в 1912 году). Мукаррам вышла замуж за некоего Тура-ходжу из Дангары (крупное селение недалеко от Коканда) и уехала туда, но после того, как муж ее погиб на Великой Отечественной войне, вернулась с сыном Азамханом в отцовский дом в Ошобу, где приобрела славу очень сильной и влиятельной бу-отин762. Любопытно, что Азамхан взял фамилию Искандаров, тем самым связав себя — в глазах местных жителей — с именем деда по матери, уже признанным здесь в качестве святого763. Азамхан взял себе жену из семьи ишанов из какого-то другого района, и от этого брака родился сын Аббас — последний, когда пришло время, женился на внучатой племяннице своего деда Тура-ходжи и жил в 1995 году вместе с бабушкой в Ошобе. Таким образом, у ошобинских тура в отличие от ходжей и ишанов родственные связи и брачные обмены выходили далеко за пределы Аштского района — в основном в сторону Коканда.
Отдельный вопрос: каким образом «потомки святых» вписались в махаллинскую сеть взаимоотношений?764 Их статус, с одной стороны, чужаков, не имеющих исконных ошобинских корней, а с другой — привилегированной группы определил несколько иную модель отношений с махаллями, чем та, которая сложилась в кишлаке. Все эти приезжие семьи были включены в ту или иную махаллю; как это произошло, мне до конца не известно, но судя по всему, ходжи и ишаны принимали долг той махалли, из которой происходила первая женщина-ошобинка, взятая в жены представителем данной семьи. Ишанхан присоединился к Катта-Урта-махалле — по крайней мере, в ней числился его младший сын Сайидгозы-ходжа. Джакпархан, который женился на дочери Ишанхана, тоже присоединился к Катта-Урта-махалле — в ней числился его сын Мухтархан. А вот Иноятуллахан и Омониллахан, сыновья Акбархана, оказались в Катта-Кутон-махалле, из которой, видимо, была родом их мать.
Иначе повели себя тура. Азамхан-тура вроде бы, как кто-то сказал мне, присоединился к Катта-Бутка-махалле (и с туев именно этого сообщества стал получать долг в виде лепешек), хотя никаких родственных связей с коренными ошобинцами у него не было, и почему он выбрал именно эту махаллю, мне не известно. Однако по воспоминаниям, когда подошло время организовать катта-туй, Азамхан вызвал всех восьмерых поваров из разных махаллей и организовал с их помощью пиршество для всех мужчин Ошобы, при этом он не раздавал лепешек домой. Таким образом Азамхан хотел подчеркнуть свой привилегированный общеошобинский статус765.
Родословные и титулы были главным символическим капиталом «потомков святых»766. Наличие в генеалогическом древе имен известных деятелей раннемусульманской истории, популярных фигур регионального ислама и членов знатных локальных династий поднимало «потомков святых» над всеми остальными людьми, наделяло их особенными качествами и особой судьбой, притягивало к ним внимание, вызывало почтение и боязнь. Этот капитал, доставшийся им по факту рождения, позволял, не прикладывая специальных усилий, воздействовать на окружающих, чем «потомки святых» — кто более умело, кто менее — старались пользоваться. Этот капитал включал в себя прежде всего особый этикет общения: к «потомкам святых» всегда обращались вежливо, было строго запрещено ругать их или причинять им какой-либо вред, считалось благим делом оказывать им помощь, одаривать при всяком подходящем случае и так далее. Нарушение этих требований могло, по местным представлениям, принести несчастья и болезни.
Для мужчин — «потомков святых» одной из привилегий было обладание особыми титулами, причем за каждой подгруппой в Ошобе закрепился, как я уже сказал, свой особый титул: когда местные жители говорили «ишан», «ходжа» или «тура», то все сразу понимали, о каком семействе идет речь767. Более того, в среднеазиатской культуре существовал в качестве нормы этикета по отношению к «потомкам святых» запрет произносить вслух их настоящие имена — последние заменялись титулами768. В Ошобе Сайидгозы-ходжу звали не иначе как Ходжам-бува (почтительное «мой дедушка ходжа»), Мухтархана — Ишан-бува, Азамхана — Турам-бува, к младшим же представителям группы могли обратиться Турам (мой тура) или Ходжам (мой ходжа). К именам местных «потомков святых» обязательно, как уже можно было заметить, добавляли постфикс «хан» (хон).
Любопытно, что градация по трем подгруппам имела сугубо местный характер. Из разных источников мы знаем, что вообще-то глава рода ходжей Ишанхан носил титулы «ишан» и «тура», представители же рода ишанов — «сайид» (сайид). Однако в локальном контексте только один титул стал для каждой подгруппы отличительным знаком и оберегался как полная ее собственность. Более того, между подгруппами существовала не совсем публичная, но вполне явная конкуренция. Ходжи и ишаны считали семью тура ниже себя и указывали, в частности, на их происхождение из простых людей, но сами тура, наоборот, ставили себя выше ходжей и ишанов, подчеркивая, что последние оказывают им знаки внимания как старшим. Впрочем, эта конкуренция не перерастала в открытый конфликт и имела лишь риторический характер.
Важным ресурсом «потомков святых» в Ошобе являлись родовые мазары — места, где захоронены их предки. Несмотря на гонения, прерывание письменной традиции, распространение светского образования и прочие факторы, потребность в «святых» местах сохранялась, оставалось значительное число людей, которые стойко держались этой связи с ними и включали ее в свою повседневную практику. Мазары любого типа (а кроме родовых существуют еще и природные, речь о которых чуть ниже) выполняли, в частности, функцию традиционного врачевания769, а также освящения обетов и пожеланий, использовались как способы сакрального воздействия на события. Многие связи с мазарами были ритуализированы локальной традицией, их посещение (зиерат) по определенным поводам стало частью семейных и календарных ритуальных циклов. Паломники, посещавшие места захоронения «святых», не только приносили их потомкам и хранителям приношения — назр (деньги, предметы одежды, продукты питания), которые становились своеобразным доходом, но и обеспечивали ту славу, тот символический капитал, которым ишаны, ходжи и тура очень дорожили. «Потомки святых» пытались рекрутировать новых паломников рассказами и байками о захороненных в мазарах предках и связанных с ними чудесах, о случаях удивительного излечения, исполнения желаний, удачных предсказаний, общения (во сне) со «святыми», устрашения тех, кто не почитал мазары, и так далее770.
Один такой родовой мазар принадлежал ходжам. Там были похоронены Рахматуллахан, его сын Ишанхан и другие члены рода (Илл. XV). Это маленькое кладбище (не более пяти соток) расположено во дворе дома, где жил в 1995 году Сайидгозы-ходжа, в самом центре Ошобы, отдельно от основного кишлачного кладбища, что подчеркивало его исключительный статус. Как вспоминали ошобинцы, дом, где жил Ишанхан, мазар и все вытекающие из контроля над ними бонусы стали причиной конфликта между братьями — Бурхан-ходжой и Сайидгозы-ходжой. Сути спора я не знаю, но могу предположить, что столкнулись два права: с одной стороны, преимущественное, с точки зрения «потомков святых», право старшего сына наследовать сакральный статус и основные привилегии отца771, с другой стороны, обычное право младшего наследника на отцовский дом. Победило, судя по всему, право последнего — именно Сайидгозы-ходжа стал смотрителем маленького кладбища в центре Ошобы.
У ишанов собственного места захоронения в кишлаке не было. Главный мазар их предка Косымхана, куда стекались паломники и почитатели этого «святого», находился в соседнем селении Джар-булак, смотрителем могилы являлся в 1995 году Темирхан — сын Акбархан-ишана и сводный брат Омониллахана и Иноятуллахана. Темирхан считался в районе большим ишаном и числился таджиком, в отличие от своих братьев-узбеков. Представители же ишанской ветви, обосновавшейся в Ошобе, не стремились создавать свой отдельный родовой мазар, видимо из-за отсутствия харизматических лидеров в их рядах, предпочитая использовать славу уже существовавших захоронений своих родственников как по мужской, так и по женской линии. Джакпархан-ишан, который в свое время породнился с ходжами, был похоронен вместе с предками ходжей в их мазаре.
Конкуренцию погребению ходжей составлял родовой мазар, в котором был захоронен Искандархан-тура. Этот мазар также был расположен во дворе жилого дома — там, где жила Мукаррам. Хотя могила тура была более новой и в ней был похоронен только один человек, паломничество к ней имело достаточно массовый характер. Сюда приходили со своими пожеланиями и приношениями жители не только Ошобы, но и других селений района — как узбекских, так и таджикских. Мукаррам принимала паломников и читала для них молитвы, ей помогал внук Аббасхан. Причиной большой популярности мазара являлась связь умершего с Бахауддином Накшбандом, на чье имя, собственно, все приношения и делались.
В прошлом, как показывает пример Ишанхана, «потомки святых» играли в Ошобе гораздо более важную роль, не только будучи популярными религиозными лидерами и одними из немногих, кто вообще знал грамоту, но и занимая важные социальные позиции в сообществе и влияя на местную политику. К концу XX века их функции свелись к небольшому набору обязанностей — чтение молитв у мазаров, сакральные лечебные практики, раздача благословений по праву наследников «святости». Это была очень ограниченная и в материальном отношении скромная сфера деятельности, на которую тем не менее «потомки святых» имели почти полную монополию, и она позволяла им сохранять хотя бы символический капитал в надежде, что когда-нибудь его удастся тем или иным образом конвертировать в социальные и экономические ресурсы.
Шайх772
К группе «потомков святых» примыкала подгруппа шайхов773, специализировавшаяся на уходе за «святыми» местами, но несколько иного типа, который условно, не претендуя на точность и вообще на какую-либо строгую классификацию, можно назвать природным. Дело в том, что Ошоба располагается на одном из основных путей паломничества к очень известному мазару, который находится на вершине самой высокой горы Кураминского хребта — Бойоб-бува (в регионе он больше известен как Бобои-об). Согласно преданию, которое рассказывали местные жители, когда-то давным-давно некий «святой человек» ушел в горы, нашел там пещеру (ғор) или невидимое озеро, спустился туда, а обратно не вернулся. Некоторые более сведущие паломники называли «настоящее», мусульманское имя этого «святого» — Абдурахмон-об774.
В самой Ошобе находится другой природный мазар — Чинар-бува775 (Илл. XVI). О том, кто захоронен здесь, мнения были еще более противоречивы: одни говорили о каком-то очередном анонимном «святом», то ли умершем, то ли пролившем кровь в этом месте; другие называли не «святого», а «святую» — сестру Бойоб-бува. Существовала такая популярная история: когда-то здесь росло огромное дерево чинара (чинор, платан), но по указанию кокандского правителя Худоярхана его срубили для изготовления ворот в новом ханском дворце776 (некоторые рассказчики добавляли, что именно поэтому судьба самого хана сложилась так печально777), но из корня старого дерева выросло 18 (по другой версии — 21) новых деревьев, одно из них засохло, и его срубили — теперь здесь 17 живых чинар. Почему же эта роща или место, где она выросла, считается святым, никто объяснить не мог.
Для ошобинцев являлась очевидной какая-то связь между мазарами Чинар-бува и Бойоб-бува. Имя или прозвище святого — Бойоб-бува (на таджикском «Бобои-об») — означает «Дед воды». Обращает на себя внимание, что ключевым элементом является слово «вода» (об). Это вполне объяснимо. Вершина горы, где расположен мазар, — единственная на Кураминском хребте точка, которая сохраняет снежный покров на протяжении практически всего года и питает водой все реки и родники, которые стекают по горным склонам. Чем больше или меньше снежный покров, тем больше или меньше воды в источниках. Мазар, следовательно, зрительно символизирует исток всех этих рек. Мазар же Чинар-бува располагается на одной из наиболее крупных горных рек — Ошоба-сай, в месте, где эта река выходит из горной лощины на равнину — в степную часть Аштского района. Здесь же, у мазара, находилась искусственная распределительная система, с помощью которой регулировалось поступление воды из реки в большие каналы, которые, в свою очередь, через сеть мелких каналов несли воду в кишлак и на близлежащие поля, возделываемые ошобинцами. Проводя весной, перед началом сельскохозяйственного сезона, у мазара Чинар-бува общеошобинское ритуальное пиршество худойи778, смысл которого — просьба о воде, дающей урожай, жители кишлака обращались и к младшему «святому» — Чинар-бува, и к главному «святому» — Бойоб-бува, от которых, как считалось, зависела их жизнь779.
Ежегодно в августе происходило массовое паломничество к мазару Бойоб-бува жителей из всех кишлаков Аштского района, а также из Бешарыкского района Узбекистана, где этот мазар считался почитаемой святыней (Илл. XVII). Многие паломники поднимались на самую вершину, что требовало большой физической выносливости, многие добирались лишь до середины горы, и на этом их путешествие заканчивалось. Немалая часть паломников ограничивалась ритуальной трапезой и молитвой у мазара Чинар-бува, что тоже считалось паломничеством к подножию мазара Бойоб-бува. Посещение любых мазаров воспринимается населением как савоб, то есть богоугодное дело, которым мусульманин может заслужить прощение совершенных грехов и обеспечить себе райскую жизнь в загробном мире780. Если такое паломничество сопряжено с затратами и трудностями, которые необходимо преодолеть, благость богоугодного дела и заслуги паломника увеличиваются.
Одно из непременных условий функционирования практики паломничества к мазарам — наличие смотрителей, которые ухаживают за «святым» местом. В Средней Азии их называют шайхами. Для популярных мазаров типична ситуация, когда их шайхи сами считаются «потомками святых», с чьими именами святыни связаны, либо принадлежат к числу потомков других известных мусульманских деятелей прошлого — иногда реальных, иногда вымышленных. Помимо титула «шайх» такие лица имеют статус особого «святого» сословия и носят соответствующие титулы — «ходжа», «ишан», «тура», «сайид» и другие. Ничего подобного в случае с Бойоб-бува нет.
В начале прошлого столетия смотрителем Бойоб-бува был некий Рахим-шайх (из Кичкина-Кутон-махалли), который оформил свои права письменно у ошобинского аксакала781. Сын Рахим-шайха, Эрали-шайх, в 1930-е годы был арестован и сослан (то ли как кулак, то ли как религиозный деятель), смотреть за мазаром он завещал брату своей жены — Умар-шайху. Вместе с последним стал шайхом и его младший брат — Каюм. В августе, когда бывал пик паломничества, братья поднимались к самой вершине, жили там, готовили пищу для гостей, читали молитвы, имея довольно приличный доход в виде подарков. После них смотрителями мазара стали Етмишбай (сын Каюм-шайха) и Тулгон-кампыр (дочь Эрали-шайха). Между Тулгон и Етмишбаем существовало разделение труда: Тулгон поднималась к вершине горы, к самому мазару, тогда как Етмишбай постоянно находился у пещеры на полпути к вершине — здесь многие паломники ночевали, перед тем как продолжить восхождение, а кто-то, как я уже говорил, завершал свое паломничество. Етмишбай, постарев, перестал подниматься на гору, но к нему иногда обращались с просьбой прочитать молитву те паломники, которые не доходили до могилы святого, а завершали свое паломничество в самой Ошобе, у мазара Чинар-бува (у этого «святого» места, к слову, отдельной наследственной династии шайхов так и не появилось). Вместо Етмишбая на гору поднимался Холмат, внук Умар-шайха по женской линии782.
Шайхи Бойоб-бува не исполняли никаких других функций, кроме обслуживания паломников, и не конкурировали с другими исламскими деятелями Ошобы за лидерство на религиозном поле (Илл. 30). У них не было для этого ни знатной родословной, ни аристократических родственных связей, ни наследственной «святости», то есть всех тех инструментов, которыми пользовались местные «потомки святых» для утверждения своего авторитета. Они не могли предъявить окружающим факт получения какого-либо мусульманского образования, чем, напротив, гордились и что использовали в качестве символического ресурса муллы. Смотрители Бойоб-бува, соответственно, не претендовали на особую роль в интерпретации ислама и даже не стремились, изобретая и кодифицируя легенды о «святых», поддерживать или усиливать исламскую легитимность мазара. Известный далеко за пределами Ошобы, природный мазар интересовал шайхов в своей сугубо утилитарной функции — как источник материальных приношений в обмен на помощь паломникам.
Махсум
Кроме мазаров и разного рода магических практик, которые монополизировали «потомки святых» или куда они были вытеснены конкурентами, в Ошобе существовало довольно большое религиозное поле с многочисленными обрядами по случаю разного рода семейных событий — рождение ребенка и положение его в колыбель (бешик-тўй), обрезание (суннат-тўй, хатна-тўй)783, заключение брака (никоҳ-тўй)784, похороны и неоднократные поминки, сюда же можно добавить мусульманские календарные праздники (рўза-ҳайит и қурбан-ҳайит), а также древний весенний обряд худойи и некоторые другие обряды. Все эти мероприятия считались легитимными в глазах людей, так как в них присутствовала обязательная мусульманская составляющая — чтение специальных молитв, если обряд этого требовал, или проведение параллельно отдельного ритуала хатми-қуръон (чтение Корана785).
Илл. 30. Шайх Бойоб-бува, 2010 г.
Ключевыми фигурами в этой части религиозного поля являлись муллы786, то есть своего рода священнослужители, которые обслуживали и контролировали семейную и общинную ритуальную практику. Из числа мулл выбирались или выдвигались имамы787, то есть главные муллы, которые руководили ежедневными (в том числе пятничными — жума) коллективными молитвами-намазами в мечетях (раньше, когда мечети не функционировали из-за преследований религии со стороны государства, эти молитвы проводились в частных домах). Звание главного муллы, или имама, на протяжении почти всего советского периода было неформальным и его носитель определялся путем достижения какого-то, не всегда единогласного, консенсуса активных верующих по поводу уровня знаний и авторитета конкретного претендента на эту должность. Иногда в кишлаке было одновременно несколько главных мулл, которые либо конкурировали между собой за право называться самым главным, либо мирно делили религиозное поле.
Здесь нужно сделать одну важную оговорку, прежде чем идти дальше. Собственно, как таковых священнослужителей в исламе, строго говоря, не существует. Нигде формально не прописаны необходимость существования такого сословия и условия его формирования. Каждый мусульманин, который имеет достаточное религиозное образование и пользуется авторитетом у окружающих, может выполнять функции руководителя коллективными молитвами, то есть имеет право называться муллой. Однако в реальности всегда имела и имеет место явная тенденция к социально-религиозной дифференциации мусульманского сообщества на управляющих и управляемых, к превращению группы образованных и авторитетных мусульман в нечто похожее на сословие присвоивших исламское знание священнослужителей, с наделением их определенными дополнительными привилегиями, знаками отличия, титулами, которые передаются иногда по наследству, независимо от заслуг и достоинств конкретных людей. К этому надо добавить, что в советское время, когда власть пыталась жестко контролировать ислам, наряду с неофициальными муллами существовала крайне немногочисленная когорта официальных (зарегистрированных государством) имамов, принадлежавших к Духовному управлению мусульман Средней Азии и Казахстана, которое по своей иерархической структуре и правовому статусу напоминало христианскую церковь и выполняло функции проводника государственного влияния на верующих.
В Ошобе в советское время обязанности мулл монополизировала группа местных жителей, одно из наиболее характерных прозвищ которых — махсум (в литературной форме — махдум), титул, указывающий на принадлежность к роду человека, получившего мусульманское образование и общее признание в качестве главного муллы. Группа махсумов подразделялась, в свою очередь, на множество больших и более мелких подгрупп, семейств. Скажу несколько слов об основных из них.
Одно из самых известных семейств возводило свой род к Сапармат-домулле788. Возможно, Сапармат — это претендовавший в 1881 году на должность волостного казия ошобинский житель Мулла Сафар Али Мулла Ширалиев, о котором в колониальном досье, сохранившемся в архиве, сказано: «45 лет, женат, грамотный, под судом не был, имеет в Ашабе недвижимого имущества на 300 тиллей. Обучался в Коканде»; за него тогда проголосовало 12 человек из 27, однако власти отметили тот факт, что он «не может быть допущен как лицо, участвовавшее в ограблении каравана в 1875 г. и разыскивавшееся для привлечения к следствию, ныне прекращенному»789. Впрочем, возможно, это был другой человек — Мулла Сафар Мулла Абдужаппар, который упоминался как писарь (мирза) при сельском старшине Ошобы в 1892 году790. Точных связей между архивными данными и воспоминаниями мне установить не удалось.
У Сапармата было несколько сыновей, все они считались муллами, но не все из них выполняли обязанности священнослужителя (муллочилик). Самый известный мулла из сыновей Сапармат-домуллы — Абдуджаббар-махсум, который учился в высших учебных заведениях (мадраса) Коканда, а по некоторым сведениям — и Бухары и будто бы работал имамом в одной из мечетей в Катта-кургане (крупное селение между Бухарой и Самаркандом). Долгое время Абдуджаббар-махсум был неофициальным имамом в Ошобе и руководил коллективными намазами, которые негласно совершались небольшой группой стариков в молельном доме при местной конторе ковроткаческой артели (местная власть знала об этом молельном доме, но делала вид, что его не существует). У Абдуджаббар-махсума было несколько сыновей от разных жен, в том числе Абдулходи-махсум и Насрулло-махсум, которые продолжили семейную традицию религиозного служения. Умер Абдуджаббар, по воспоминаниям, в 1960 году.
Старший брат Абдуджаббара, Абдугаффар-махсум, тоже, видимо, был муллой, но умер еще в начале 1940-х годов. Некоторые его дети попытались вписаться в новый строй. Его дочь Тоджинисо одной из первых, как мне говорили, начала с открытым лицом работать продавщицей в магазине. Старший сын, Абдулпатто, был коммунистом, короткое время работал заместителем председателя колхоза, потом сделался заведующим магазином. Однако двое других сыновей все-таки стали муллами, выйдя на пенсию. Один из них, Абдумутал-махсум, родился в 1919 году, работал плотником при школе, с середины 1980-х годов выполнял обязанности муллы в одном из выселков Ошобы. Второй, Абдукаххар-махсум (по прозвищу Кейшик, то есть скрюченный), стал неофициальным имамом после дяди, Абдуджаббар-махсума, и умер в 1985 году. У Кейшик-махсума было семь сыновей, двое из них стали муллами.
После смерти Абдукаххара на роль главного муллы выдвинулся Абдумумин-махсум, представитель другого семейства махсумов791. Его отец Шорахмат учился в кокандском медресе и когда-то, то ли до Абдуджаббар-махсума, то ли одновременно с ним, тоже будто бы считался главным муллой. Сам Абдумумин родился в 1937 году, в конце 1950-х годов, после смерти отца, уехал из кишлака, долгое время жил в Узбекистане и Киргизии, работал шофером, слесарем, часовым мастером. На муллу он учился где-то в Коканде. Вернулся в Ошобу через двадцать лет, а в конце 1980-х годов, когда государственная политика в отношении религии изменилась и в кишлаке открылась мечеть, при прямой поддержке местных властей его избрали официальным имамом.
В 1995 году, в момент моего исследования, Ошоба и ее выселки были поделены между муллами таким образом: основной территорией — где читать молитвы на обрядах звали официального имама, Абдумумин-махсума, — была нижняя часть селения; верхнюю часть обслуживал Абдулходи-махсум; на кладбище и к жителям соседних с ним домов приглашали Абдулло-махсума (младший брат Абдуджаббара и Абдугаффара, старший среди живущих на тот момент потомков Сапармата); в двух ближайших к Ошобе выселках — Олма и Шевар — муллами были Абдумутал-махсум и довольно молодой по сравнению с другими Кушназар-махсум, сын Кейшик-махсума, представитель следующего поколения потомков Сапармата. Такое территориальное разделение труда позволяло избежать острого соперничества за социальные связи и материальные выгоды. Каждый мулла читал молитвы на всех семейных ритуалах, которые проводились на «его» территории. Обслуживание ритуального мероприятия давало махсуму весьма скромный доход в виде небольшой суммы денег, а также свертка-дастархана с отрезом ткани и угощением. Но поскольку в течение всего года различных ритуалов, когда необходимы мусульманские молитвы, проводилось очень много, то эти скромные вознаграждения превращались в стабильный доход, вполне сопоставимый, например, с зарплатой в колхозе. Кроме того, такие мероприятия, проходившие с участием большого числа людей, позволяли махсумам публично поддерживать и укреплять свой символический и социальный капитал, налаживать полезные связи, влиять на общественную жизнь, навязывать свое право вмешиваться в частную жизнь людей и регулировать ее. Реализация личных амбиций и высокий авторитет тоже входили в число ресурсов, ради которых мулла занимался своей деятельностью.
Женщины, происходившие из семьи махсумов, хотя и не носили этого титула, тем не менее часто выполняли роль своеобразных священнослужительниц — бу-отин — для ошобинских жительниц (женская религиозная практика была отделена от мужской). Одной из самых популярных в кишлаке бу-отин являлась дочь Кейшик-махсума. Во время семейных и календарных мероприятий бу-отин частично дублировали на женской половине молитвы и действия муллы, которые тот произносил и совершал в собрании мужчин, но какой-то строго очерченной территории, как у мужчин-махсумов, для деятельности священнослужительниц не существовало. Бу-отин руководили также специальными женскими ритуалами, в том числе теми, на которые мужчины, и даже муллы, не допускались (бусешанба, мушкул-кушод, ашура-оши, мавлуд-оши и другие792), хотя Абдумутал-махсум, как говорили мои информаторы, предпринял попытку распространить свое влияние на эти традиционно женские ритуалы. Женская религиозная практика — единственное пространство, где пересекались интересы махсумов и «потомков святых», из которых тоже рекрутировались бу-отин, и где между ними возникала конкуренция, впрочем, не носившая ожесточенного и открытого характера793.
Символический капитал махсумов отчасти напоминал символический капитал «потомков святых». Главный ресурс махсумов — наследственная слава предков, хотя, и это отличало их от «потомков святых», она не оформлялась в виде аристократических родословий, представлений о передаче сакральных способностей или особого этикета поведения по отношению к членам этих семей. Слава махсумов заключалась в том, что их функция носителей исламского знания (умение читать арабскую графику и по возможности переводить религиозные тексты, знание основных молитв и так далее) вытекала из самого факта принадлежности к такой семье, где это знание передавалось из поколения в поколение — как, собственно, передавались по наследству и любые другие профессиональные навыки, поэтому сын мастера (усто-зода) почти автоматически считался мастером (усто).
Разумеется, в отличие от «потомков святых» муллы не являлись подобием сословия, и любой человек имел возможность получить специальные религиозные знания у известного священнослужителя или в религиозной школе. Ошобинцы вспоминали имена десятков мулл, которые учились в Коканде, Ташкенте и Бухаре, один — Бадриддин-кози794 — будто бы даже учился в Калькутте. Однако в советское время, когда официальные мусульманские образовательные учреждения (только одно медресе в Бухаре и одно в Ташкенте) были почти недоступны, а неофициальные преследовались, семейное образование стало в кишлаке едва ли не основным источником передачи соответствующих знаний. Этим и объяснялась своеобразная семейная монополия махсумов на религиозном поле, которая даже стала принимать сословные черты — конечно, исключительно в локальном масштабе.
Как и «потомки святых», махсумы пытались сохранять и преумножать свою наследственную славу с помощью брачных союзов. Например, мать имама Абдумумин-махсума — сестра известного когда-то в Ошобе муллы Турди-кори, носителя еще одного престижного титула — кори795. Впрочем, какого-то обязательного правила заключать браки только внутри своей группы у махсумов никогда не было.
Авторитет того или иного махсума не гарантировал, что его полномочия не могут быть оспорены как другими претендентами на роль муллы, так и теми, кто пользовался его услугами. Территории, доходы и символические ресурсы, закрепленные за махсумами, являлись объектом конкуренции, и священнослужитель должен был постоянно предпринимать усилия, чтобы сохранить или отвоевать их. В этой борьбе махсумы не только вынуждены были обращаться к своей наследственной славе, но и, в отличие от «потомков святых», обязаны были предъявлять мусульманскому сообществу благочестивый образ жизни, примеры достойного поведения, а также порой должны были выступать в роли проповедников очищения ислама от посторонних влияний. Махсумы, демонстрируя свою праведность, подвергали сомнению праведность своих реальных и потенциальных соперников. Это являлось почвой для возобновлявшихся время от времени трений и столкновений между разными подгруппами махсумов, а иногда даже между членами одного семейства.
Один такой конфликт между разными махсумами в довольно острой форме произошел на рубеже 1980—1990-х годов и сделался предметом постоянных разговоров и даже насмешек в Ошобе. Поводом для конфликта стала должность официального имама, введенная примерно в 1988–1989 годах, когда в кишлаке при участии местной власти открылась первая официальная мечеть796. Имам, а им стал, как я уже говорил, Абдумумин-махсум, был включен в сложную систему бюрократических отношений, формально он оказался подчиненным районного имама, который, в свою очередь, находился под началом областного имама, а тот — республиканского казий-калона, главы таджикского отделения Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана (в начале 1990-х годов это отделение превратилось в самостоятельную структуру, которую контролировали таджикские власти). По сути, официальный имам был причислен к своеобразной государственной номенклатуре, ответственность за которую несла местная административная власть. При этом главными выборщиками имама стали местные чиновники, мнение же активных верующих перестало быть решающим. Абдумумин-махсум получил в свои руки административно-властный ресурс для переконфигурации ритуальных связей и финансовых потоков в свою пользу. Он попытался, в частности, распространить свою «юрисдикцию» на территории других махсумов, а когда эта попытка оказалась безуспешной, потребовал передавать ему часть доходов от муллочилик, ссылаясь на законы о религиозной деятельности и распоряжения вышестоящего мусульманского начальства.
Покушение на сложившиеся в религиозном поле статусы и стремление перераспределить потоки ресурсов в свою пользу встретило отпор со стороны остальных мулл. Махсумы из семьи Сапармат-домуллы категорически отказались признавать такие полномочия официального имама и передавать ему часть своих доходов. В результате муллы перестали нормально общаться между собой и начали распространять среди населения слухи и упреки в адрес друг друга.
Хаджи
В конце 1980-х годов в Ошобе появилась новая группа конкурентов в борьбе за религиозное поле, которых условно можно назвать хаджиями (ҳажи — как я уже говорил, не путать с ходжами, или хўжа!). Они не могли похвастать родословной и не имели права на титул махсума; как сказал мне в беседе один из махсумов, «они не настоящие муллы, так как их отцы не практиковали муллочилик», хотя тот же информатор утверждал, что любой, кто умеет читать наизусть несколько основных молитв (в частности, набор похоронно-поминальных молитв жаноза797), может считаться муллой. Отсутствие в роду образованных мусульманских лидеров формировало совершенно иные стратегии притязаний на статус муллы и другую модель религиозного поведения.
Неформальным лидером группы хаджиев стал Э. Он родился в 1938 году. Его отец, А., с братьями были зажиточными скотовладельцами, поэтому во второй половине 1930-х годов, когда волна раскулачивания докатилась до Ошобы, семья переехала жить в соседний Пангаз, где их знали меньше и они были менее заметны и где им, соответственно, проще было укрыться от преследований. Обратно они вернулись лишь в 1970-е годы. В 1980-е годы Э. увлекся религией, сумел получить где-то — то ли в Ходженте, то ли в Намангане — мусульманское образование. Другим активным членом этой группы называли двоюродного брата Э. по отцу — Д., он тоже сумел получить религиозное образование где-то за пределами Ошобы.
Как и в случае с махсумами, характер родства между хаджиями никто не знал точно, но сам факт родства все отмечали и подчеркивали. Ссылка на родство в данном случае имела риторический характер. Я уже говорил, что в Ошобе, хотя это и большое селение, все жители находятся между собой в том или ином родстве. Поэтому проблема родственных отношений — это вопрос не столько составления точной генеалогии, сколько выборочной актуализации тех или иных родственных связей для создания разного рода групп и коалиций либо для интерпретации мотивов того или иного действия798. Использовали ли сами хаджии родство как средство для расширения и поддержания сети своих сторонников, сказать трудно. С этими людьми мне не удалось в 1995 году установить доверительного контакта. Но что могу утверждать точно — публика, наблюдавшая за соперничеством мулл, при объяснении причин конфликта обязательно упоминала о родстве: борьба хаджиев и махсумов за религиозное первенство нередко описывалась в более понятных и привычных людям терминах, как столкновение двух групп, разделенных не столько религиозными представлениями, сколько родственными лояльностями. В то же время, слушая рассказы об этом соперничестве, я с удивлением узнал, что сам Э. в первом браке был женат на дочери одного местного муллы, а их дочь вышла замуж за одного из потомков Сапармат-домуллы; это, однако, никак не акцентировалось в контексте конфликта между хаджиями и махсумами799.
Одной из стратегий новых действующих лиц стало совершение основными представителями данной группы паломничества-хаджа (ҳаж) в Мекку, что дало им право носить мусульманский титул хаджия800. Такое паломничество в праздник қурбан-ҳайит является одной из основных обязанностей любого мусульманина (при наличии, конечно, экономической возможности и при условии ненанесения серьезного урона семейному бюджету), однако далеко не все могут его исполнить из-за экономических или политических препятствий, поэтому всякий, кто совершил хадж, уже выглядит в глазах окружающих выдающимся человеком, исполнившим свое религиозное предназначение. Кроме того, по местным представлениям, хадж освобождает от предыдущих грехов и делает паломника идеальным верующим; сами паломники стремятся, как правило, соответствовать такому взгляду: они читают молитвы, держат пост, не нарушают религиозных табу, а также подчеркивают свой статус одеждой и поведением. Этот исключительно приобретаемый, а не наследуемый титул не только имеет престижный характер, но и делает вполне легитимными, с точки зрения мусульманского сообщества и самого носителя титула, притязания на религиозное лидерство. Первым из группы хаджиев паломничество в Мекку совершил Д. в 1993 году, после него — в 1994 году — Э.
В соперничестве за лидерство Э.-хаджи и его сторонники смогли предъявить еще один существенный аргумент — свои личные финансовые инвестиции в достройку и ремонт ошобинской мечети (Илл. XVIII). Для местных жителей такая частная благотворительность была необычным явлением, и люди стали объяснять ее богатством Э., источником которого были приносившие немалую прибыль частные торговые поездки в Россию еще с советского времени. Торговлей (сухофруктами, овощами и прочими продуктами) занимался также и Д.
Тот факт, что новые исламские лидеры принадлежали к неформальной торговой среде, был отмечен многими исследователями801. Видимо, апелляции к исламу были в этой среде одним из важных источников создания сетей взаимодействия и в эпоху кризиса государства превратились в удобный способ легитимации личного экономического статуса и его конвертации в социальный и даже, в случае Таджикистана, политический капитал.
Стратегия хаджиев в этом случае оказывалась противоположной стратегии махсумов — первые вкладывали деньги в создание собственного символического капитала, тогда как вторые, напротив, чаще зарабатывали на своем символическом капитале802. Конечно, это не означает, что у хаджиев не было никакой корысти, но для них важнее были не быстрый экономический эффект, а скорее те социальные выгоды, которые такая стратегия в конкурентной борьбе им давала, — внимание и уважение окружающих людей, моральная зависимость тех, кто пользовался личными деньгами новых мулл, увеличение числа клиентов, сторонников и последователей. Кроме того, демонстрация бескорыстия была сильным аргументом в споре с махсумами, которых теперь легко можно было обвинить в наживе на религиозных чувствах односельчан803. Бескорыстие исполняло, таким образом, корыстную функцию — вытеснения конкурентов и получения общественной поддержки804.
Выигрыш хаджиев состоял, в частности, и в том, что их финансовые инвестиции превратили к середине 1990-х годов главную ошобинскую мечеть в тот институт, где они безраздельно диктовали свои правила и с помощью которого могли распространять свое влияние. Дошло до того, что официальный имам Абдумумин-махсум, который какое-то время появлялся в мечети на пятничных молитвах, однажды вовсе перестал ходить в дом для молитв, где его статус игнорировался и где он ощущал себя обязанным хаджиям. В качестве неофициальных имамов молитвы в мечети стали читать молодые муллы, в том числе сын Д. Перестали ходить в мечеть, где собирались сторонники хаджиев, и другие махсумы. Со своими соратниками они начали собираться по пятницам в небольшом молитвенном доме (дахма) при кладбище (Илл. XIX). Таким образом, хаджиям удалось полностью монополизировать в Ошобе один из главных ее исламских символов и инструментов формирования и поддержания мусульманской (и одновременно общинной) идентичности.
Впрочем, хаджиям не удалось распространить свое влияние на мечети в выселках Ошобы. Этому воспротивились местные власти. Так, в Оппоне, где с 1988 года действовала вторая официальная мечеть, после смерти оппонского муллы встал вопрос о том, кто будет его преемником. Хаджии предложили выбрать имамом совсем молодого человека (ему было не больше 25 лет) из числа подготовленных ими сторонников. Этот вопрос обсуждали председатель колхоза и другие местные чиновники, в том числе начальник районной милиции, который сказал, что молодой мулла состоит на учете в таджикских спецслужбах. В результате было решено назначить главным муллой Абдулбори-махсума, который долгое время жил где-то в другом месте. Его отец, известный мулла Абдуджалил-кози, выходец из Ошобы, получил мусульманское образование еще в досоветское время и, по некоторым сведениям, в 1920-е годы был районным судьей-казием (в 1920-е годы, напомню, шариатские суды признавались советской властью805), а в 1930-е годы — репрессирован. Представитель одного из семейств махсумов, к тому же не связанный с внутриошобинскими конфликтами, показался местным чиновникам компромиссной и наиболее удачной фигурой.
Стратегией — но, как я попытался показать, не единственной — группы хаджиев в споре с махсумами за лидерство была критика конкурентов за отход от «правильного» ислама, с противопоставлением их взглядам и их практике своих собственных, «правильному» исламу соответствующих. Для победы на религиозном поле новые муллы должны были «содействовать ниспровержению устоявшегося символического <…> порядка и символическому закреплению его ниспровержения»806, то есть не играть по прежним правилам, а изменить эти правила в свою пользу.
Хаджии затронули сердцевину легитимности старых мулл — они поставили под сомнение достаточность семейного образования и компетенции махсумов, выдвинув в их адрес целый набор претензий — неумение правильно читать молитвы, незнание многих догматов, неспособность уберечь ислам от искажений. Такая критика в адрес махсумов сама собой подразумевала, что хаджии, напротив, являются носителями «настоящего» ислама и, соответственно, должны возглавить процесс очищения местных нравов и обычаев от чуждых наслоений. Чтобы продемонстрировать свою приверженность «настоящему» исламу, хаджии подчеркнуто нарочито отказались от европейской одежды, один из их сторонников, некто Бурибой, сменил свое немусульманское имя (которое означает «волк») на мусульманское — Абдурахмон. Они начали строго следовать всем книжным предписаниям — ежедневно читать намазы, соблюдать обязательные посты, отказались от употребления спиртного, всячески выставляя напоказ исключительное благочестие, от какого жители Ошобы за годы советской власти уже отвыкли и какого даже махсумы (и «потомки святых») не придерживались807. Э.-хаджи демонстративно взял вторую жену, правда не из Ошобы, подчеркивая свое право жить по мусульманским законам808.
Все эти действия и настроения хаджиев не могли не вызвать скандалов, основной темой которых стали ритуалы, составлявшие источник доходов и символического капитала махсумов809. Особенно острая и чувствительная для населения дискуссия развернулась вокруг поминальных ритуалов, которые в советское время — возможно, из-за осторожности, которую соблюдали официальные критики ислама в этой деликатной сфере, — превратились в один из ключевых маркеров исламскости.
В Средней Азии не существует общепринятого порядка проведения похоронно-поминальных ритуалов. В каждом регионе и даже селении это обрядовое действие может иметь свои местные особенности, исторически возникшие как результат разнообразных культурных влияний810. В Ошобе похороны происходили по следующим правилам: человек умирал, и в тот же или на следующий день его обмывали, муллы читали поминальную молитву жаноза (ее читали либо в доме умершего, либо в дахме на кладбище) и совершали ритуал даврá — коллективную молитву об отпущении грехов умершего, после чего покойного хоронили, а участники этого ритуала, включая муллу, получали подарки. В течение четырех (если умерший погребен на следующий день после смерти) или пяти дней (если умерший погребен в день своей смерти) в доме близких родственников покойного резали овец или коз, варили мясо и готовили угощение для потока гостей, которые в эти дни приходили на поминовение811. В течение следующих 39 дней небольшие поминки — жумалик — устраивались вечером каждого четверга, в канун пятницы. На 39-й день (в канун сорокового дня) организовывался ритуал поминального чтения Корана (хатми-қуръон), резали овцу или козу, приглашали знакомых, соседей и родственников; на следующий день в дом умершего приходили на угощение женщины, у которых кто-нибудь умер в семье, в этот же день близкие родственники (мужчины и женщины) умершего надевали траурную одежду. На пятый, или седьмой, или девятый, или одиннадцатый месяц (должно быть нечетное число) устраивались поминки, которые считались годовыми. В этот день родственники, надевшие на сороковой день траур, снимали его; накануне проводился хатми-қуръон (поминки проводились также в первый после смерти ҳайит). Все поминальные мероприятия сопровождались молитвами и, соответственно, небольшими подарками муллам.
Хаджии выступили категорически против двух основных элементов похоронно-поминального цикла, объявив их искажением «настоящего» ислама, которое некомпетентные, по их мнению, махсумы будто бы допустили исключительно из-за материальной выгоды. Сторонники Э. настаивали на том, что, во-первых, нужно отказаться от ритуала давра, который не упоминается в мусульманских священных текстах и позволяет личную ответственность мусульманина за свои поступки перед Богом снять путем коллективного заступничества. Во-вторых, они выступили против обильного угощения в первые пять дней после похорон — призвали сократить количество этих поминальных дней с пяти до трех и отказаться от затрат на угощение, называя их неразумными и обременительными, а значит, и немусульманскими. Некоторые жители кишлака последовали их рекомендациям, иногда по-своему их толкуя — например, в некоторых случаях родственники умершего начали резать мелкий скот не у себя дома, а в доме соседа, таким образом как бы обходя запрет.
Махсумы в своей собственной игре на религиозном поле, в том числе против «потомков святых» с их магическими практиками, и сами часто использовали призыв к очищению местного ислама от немусульманских нововведений как способ увеличить свой религиозный капитал. Некоторые из них время от времени также выступали с призывом к сокращению лишних расходов на поминки812. Это объясняет, почему некоторые махсумы перешли в лагерь хаджиев, пытаясь вслед за ними усилить свои позиции реформаторской риторикой. Однако большинство махсумов, подвергшихся нападкам и обвинениям, вынуждены были занять оборонительную позицию, уступая своим оппонентам в агрессивности и харизматичности, но пытаясь компенсировать это ссылками на консерватизм и умеренность. Некоторые из них с возмущением встретили заявленные хаджиями новшества и обрушились на них, упоминая обычаи предков и указывая на необходимость придерживаться правил гостеприимства и встречать угощением приезжающих на поминки гостей. В ответ же на обвинения в очевидной материальной корысти махсумы и другие критики хаджиев активно развивали тему сомнительного происхождения собственного материального достатка последних. При этом они использовали аргументы из арсенала недавней советской риторики, с обвинениями частных торговцев в спекуляции и несправедливом заработке, а также аргументы того рода, что проживание их соперников в России не могло не сопровождаться нарушением мусульманских норм поведения. Подобное социальное морализаторство имело успех, поскольку апеллировало к весьма напряженным классовым антагонизмам, обострившимся в начале 1990-х годов, когда экономический кризис ударил по карману значительной части местного населения.
Отдельную и очень гибкую позицию в конфликте по поводу ритуалов занял Абдумумин-махсум. Он подчеркнуто старался держаться в стороне от споров, не выступал открыто против Э., но и не высказывался в его поддержку. Приводят будто бы сказанные им слова: «Мне все равно — как люди хотят делать, так пусть и делают». Эта позиция была доведена до своей крайней формы и вызывала у многих людей недоумение, а со стороны оппонентов — критику. Удивляли и иногда даже шокировали манера официального имама разговаривать на посторонние темы, шутить во время торжественных мероприятий, не очень строго следовать предписаниям и главное — нарочитое отсутствие желания навязывать свою точку зрения окружающим, допекать их разговорами о правильном и неправильном исламе. Я несколько раз слышал восклицание «Какой мулла!» — в нем выражались и одобрение, и завуалированное осуждение. Однако именно такую двусмысленную позицию поддержала местная власть, для которой был неприемлем активный, а порой даже агрессивный прозелитизм — пусть с разной окраской — и хаджиев, и некоторых махсумов.
Добавлю, что «потомки святых» и шайхи, их магические практики тоже оказались под ударом критики со стороны новых мулл. Вера в чудеса «святых» и паломничество к мазарам выглядели, с их точки зрения, нарушением основного, монотеистического принципа ислама, согласно которому только Аллах решает все вопросы мироздания и только к нему должен обращать свои молитвы мусульманин. Эту критику со своей стороны поддерживали и махсумы, которым также было выгодно доказать свое благочестие за счет «потомков святых». Последние, зажатые в тиски двойных нападок, постарались приспособиться к новой моде, изящно соединяя агиографический жанр рассказов о чудесах предков с пуританской риторикой. Один из ишанов рассказал мне такую историю: когда-то арба с грузом одного из учеников-хальпа его предка Косымхана застряла в речке, и ученик крикнул: «Е, пирим!» («О, мой наставник!»), призывая на помощь учителя, после чего арба сдвинулась и хальпа успешно добрался до дома, однако с тех пор на его теле остался отпечаток лошадиного копыта в наказание за то, что он обратился к «святому», а не к Аллаху813. Такого рода рассказы, которые «потомки святых» распространяли среди ошобинцев, должны были продемонстрировать одновременно и «святость» этой группы, и ее ортодоксальность — в смысле строгого следования монотеизму, о чем постоянно твердили критики «потомков святых».
Ваххоби?
Итак, в конкуренции за влияние на религиозном поле хаджии использовали разные ресурсы — родственные связи, новые титулы, инвестиции в мечеть, разного рода демонстрации бескорыстия и благочестия, строгое следование книжным предписаниям, смену одежды и имени, новации в местную ритуальную практику и так далее. Манипулируя в разных ситуациях то одним, то другим инструментом, они отвоевывали социальное пространство у махсумов и меняли локальную мусульманскую идентичность.
Еще одним фактором, который влиял на дискуссию о правильном и неправильном исламе, был вопрос о поддержке той или иной группы различными государственными и политическими институтами. В противоположность махсумам, претензии которых на лидерство основывались на авторитете их предков, локальной сети отношений и связях с местной властью, хаджии настойчиво искали поддержки за пределами Ошобы. Они использовали, например, факт совершения ими хаджа в Мекку как неоспоримое доказательство того, что они видели, как «на самом деле» живут остальные мусульмане, и поэтому имеют право требовать совершения реформ в соответствии с увиденным. Дополнительным источником легитимации взглядов хаджиев были чужаки — муллы-проповедники814, которых государственные или негосударственные институты (граница между ними на рубеже 1980—1990-х годов была размытой) командировали в Ошобу и другие селения для навязывания различных политических и религиозных проектов перемен. Чужаки стремились рекрутировать себе сторонников для тех или иных акций за пределами кишлака, а группы сочувствующих им ошобинцев, в свою очередь, пытались опереться на авторитет мулл-проповедников для перераспределения сил на местном уровне.
Чужаки появились в Ошобе еще в самом конце 1980-х годов. Это были главным образом проповедники из Узбекистана, которые стали регулярно наведываться в кишлак. В крайне скупых воспоминаниях информаторы называли их ваххабитами (ваххоби) из города Намангана815. Во время мусульманских праздников рўза-ҳайит и қурбан-ҳайит приезжие жили по несколько дней в кишлаке, в домах знакомых и единомышленников, выступали на праздничных молитвах с проповедями, пропагандируя свои взгляды. Кроме того, на праздниках они собирали деньги для организации религиозных школ и поддержки «возрождения ислама». Эти молодые люди в «белой одежде» с хорошими ораторскими способностями привлекали к себе внимание местных жителей своими непривычными словами и всем своим видом. Начиная с 1992 года наманганские муллы, многие из которых были арестованы и посажены в тюрьмы властями Узбекистана, прекратили посещения Ошобы.
Однако именно в 1992 году религиозный конфликт в ошобинском сообществе принял особо драматический характер. Чтобы понять весь ход событий, надо вспомнить, чтó происходило в Таджикистане в те годы816. Осенью 1991 и весной 1992 года резко обострился конфликт между прежней, коммунистической властью и оппозицией, в которую входили движение «Растохез» (к слову, ее лидер был родом из Ашта), Демократическая партия и формирующаяся Исламская партия возрождения Таджикистана (ИПВТ). Противники в Душанбе разделились на два митинга: сторонники правительства собрались на площади Свободы (Озоди), их оппоненты — на площади Мучеников (Шахидон). В конце апреля — начале мая оппозиции удалось одержать ряд политических побед, в том числе ввести своих людей в руководящие органы парламента, добиться отставки некоторых своих противников из правительства. В начале мая начались вооруженные стычки, захват военных баз, административных зданий в Душанбе. Областные руководители из Куляба и Ленинабада не признали произошедших изменений и фактически взяли управление в регионах в свои руки. В декабре 1992 года Народный фронт, который представлял собой союз разнородных политических и региональных сил, захватил Душанбе и изгнал оппозицию из столицы. Началась гражданская война, которая завершилась только в 1997 году.
В самый разгар победоносного шествия оппозиции в Душанбе, в конце 1991 или начале 1992 года, в Ошобе появился пришлый мулла — таджик А. Обстоятельства его появления были совсем иными, нежели у наманганских ваххабитов. А. был назначен официальным имамом в местную мечеть по распоряжению районного и областного имамов. У него было формальное разрешение вести религиозную деятельность, он получал зарплату от вышестоящих религиозных инстанций, которым он формально подчинялся. Ошобинец Абдумумин-махсум был отстранен. Такая замена была санкционирована государственной властью, а при вступлении нового главного официального муллы в должность присутствовали представители областных и районных органов управления. Иными словами, пришлый мулла появился в кишлаке в рамках политики легализации ислама, которая проводилась в последние годы существования СССР и в первые годы независимости Таджикистана. Более того, сам факт назначения таджика имамом в узбекский кишлак, хотя здесь были свои претенденты на эту должность, говорил о том, что власть рассматривала А. в качестве проводника именно государственного влияния, в частности как своеобразного «агента» в среде национальных меньшинств. Такая практика имела место и прежде, когда речь шла о различных должностях в сельсовете или колхозе; правда, ни одному таджику не удавалось надолго задержаться в кишлаке и каждого из них в конце концов сменял местный ошобинец. То же произошло и с новым имамом.
По воспоминаниям, А. родился в 1957 году в Ново-Матчинском районе817, у него была семья, вместе с которой он приехал в Ошобу, где сельсовет/джамоат предоставил ему жилье. О его жизни и происхождении никто из ошобинцев ничего толком не знал. Был ли он из рода потомственных мулл, подобно махсумам, или принадлежал к числу новых мулл, подобно хаджиям, а может быть, даже был из рода «потомков святых»818 — незнание этого факта означало, что большого значения он для местных жителей не имел. Не все даже запомнили имя имама, а чаще называли его просто на таджикский манер Матчаи-муллой, то есть мулла-матчинец. Жил он в Ошобе год-полтора, не больше.
А., судя по всему, был сторонником тех же взглядов, из которых кристаллизовалась в то время идеологическая платформа ИПВТ819. Возможно, он не был членом самой партии, но явно был к ней идейно близок820. В своих проповедях Матчаи-мулла призывал к упрощению обрядности, к отказу от спиртных напитков и азартных игр, к строгой личной ответственности каждого человека за свои действия перед Богом. Мягкие манеры быстро сделали А. известным в кишлаке, привлекли к нему интерес жителей. Спустя два-три года после того, как он покинул Ошобу, многие называли его хорошим человеком, с одобрением вспоминали его проповеди. Кто-то отмечал, что он красиво читал молитвы (иначе, чем это делали местные муллы, которые с искажениями заучивали молитвы со слов своих родителей), умел переводить с арабского языка и, будучи таджиком, вполне прилично говорил по-узбекски.
Росту популярности А. способствовало первоначально и то обстоятельство, что он не принадлежал к каким-либо местным группам и коалициям, старался держаться нейтрально, апеллируя напрямую ко всем мусульманам. В этом смысле его реформаторские предложения выглядели более искренними, нежели идеологические призывы хаджиев, предыдущую, немусульманскую биографию которых в Ошобе прекрасно знали. Впрочем, действия Матчаи-муллы также не были совершенно бескорыстными, поскольку реструктурирование мусульманского сообщества, которое он осуществлял, делало именно имама главным центром исламской легитимности в кишлаке и давало в его руки огромную власть на религиозном поле.
Хаджии поддержали новую кандидатуру имама, увидев в нем не просто идеологически близкого соратника, но и человека, который сумеет изменить соотношение сил между разными группами мулл. До 1991 года Э. и его сторонники находились в негласной оппозиции к власти, поскольку их экономическая деятельность и интерес к религии осуждались советским государством, благодаря же своей успешной коммерции они всегда были независимы от местных колхозных руководителей. Теперь на стороне хаджиев — наверное, неожиданно для них самих — оказалась официальная религиозная организация, действия которой были санкционированы государственными институтами. Политические успехи ИПВТ в начале и середине 1992 года на фоне недовольства прежней коммунистической властью подкрепляли выбранную хаджиями стратегию завоевания религиозного поля.
В те годы Матчаи-мулла и хаджии предложили и стали осуществлять целую программу реформ религиозной жизни в Ошобе. Одним из главных их требований к тем, кто называет себя мусульманами, было обязательное чтение ежедневных пятикратных намазов, причем, как настаивали реформаторы, непременно в главной мечети, которую они контролировали и где могли без оглядки на кого-либо навязывать свои представления об исламе. Э. и его сторонники ходили по всем дворам и настойчиво призывали жителей идти в мечеть на молитву, осуществляя своеобразное морально-религиозное давление. Многие, по словам моих собеседников, тогда подчинились (как кто-то из информаторов сказал мне, «бóльшая часть Ошобы пошла за ними»). Были внесены коррективы и в саму практику чтения молитв, в частности было разрешено совершать намаз без головного убора. Заметным новшеством стало участие в ежедневных молитвах женщин, прежде всего, конечно, пожилых, для которых в мечети выделили особое место, чего никогда прежде в местной практике не было. Реформаторы, таким образом, попытались взять под свой контроль женскую половину мусульманского сообщества и стали активно воздействовать на нее. Тот факт, что за имамом стояло государство, облегчал реализацию всех этих планов.
Под напором политических перемен местная ошобинская власть была в какой-то момент явно деморализована и даже шла на поводу у новых мулл. Так, ярким эпизодом стал сбор ошобинцами денег для оппозиционеров, митингующих в Душанбе, на площади Мучеников, причем председатель сельского совета, по словам моих собеседников, был не только в курсе этого мероприятия, но и активно его поддержал. В сентябре 1992 года председатель колхоза, главное и самое влиятельное лицо в местной системе управления, будучи депутатом республиканского парламента, оказался в группе депутатов, которые вместе с таджикским президентом Р. Набиевым были фактически арестованы оппозицией — Набиев тогда вынужден был подписаться под своей отставкой. Еще недавно полновластный, абсолютно никому в кишлаке не подконтрольный, раис стал, как мне говорили, посещать молитвы на мусульманских праздниках, чего раньше не делал. Впрочем, это никак не сблизило его с хаджиями, и отношения между ними остались весьма напряженными.
Постепенно на протяжении 1992 года — по мере того, как ситуация в Таджикистане менялась, — происходили изменения и в настроении местного населения. Важная деталь: 24 августа оппозиционными боевиками был убит сторонник коммунистического правительства, генеральный прокурор республики Хувайдуллоев — таджик родом из Пангаза, соседнего с Ошобой кишлака. Хотя между выходцами из Ошобы и Пангаза, крупнейших селений района, существовало своеобразное соперничество, за пределами района они нередко выступали солидарно — как близкие земляки. Вспыхнувшее вслед за этим убийством возмущение перекинулось на мулл-реформаторов, которые выражали поддержку оппозиции. По всему Аштскому району прокатилась волна преследований и погромов сторонников последней, многие из них вынуждены были уехать.
В Ошобе пополз слух, будто имам А. сидел в тюрьме и был уголовником. Насколько этот слух, который поставил под сомнение легитимность имама как представителя государства, соответствовал действительности, сказать трудно, но многие ему поверили, даже из числа сторонников хаджиев. В сельсовете собрался местный актив — аксакал, участковый милиционер, депутаты из числа видных жителей кишлака; они вызвали имама к себе и провели с ним беседу; участковый настаивал, что тот сидел в тюрьме, а матчинец вроде бы, по словам очевидцев, не стал отрицать этого факта. Власть предложила имаму добровольно покинуть кишлак, сообщив ему, что в противном случае местная молодежь готова силой принудить его к отъезду. Объясняя свое решение вышестоящим начальникам, местные чиновники ссылались также на опасность перерастания этой конфликтной ситуации в межнациональное столкновение узбеков и таджиков. Матчаи-мулла уехал. Официальным имамом вновь стал Абдумумин-махсум.
А. оказался, таким образом, единственной жертвой этого религиозного конфликта, несмотря на то что в Ошобе у него было много последователей и сторонников. Однако формально из кишлака его изгнали не за религиозные убеждения, в справедливости которых никто публично не усомнился, а за недоказанную причастность в прошлом к уголовному миру. Причиной уязвимости именно Матчаи-муллы были не его взгляды как таковые, а его инородность по отношению к разнообразным социальным связям, которые пронизывают местное сообщество. В отличие от ходжей, ишанов и тура, которые когда-то внедрялись в это сообщество с помощью браков и вхождения в социальные сети кишлака, после чего становились своими, А. не использовал эти механизмы и остался вне ткани иных, нежели исламско-ритуальные, отношений. Ходжи и ишаны когда-то смогли легко перейти из числа таджиков в узбеки, когда эти идентичности были более гибкими и прозрачными. А. же, несмотря на знание узбекского языка, так и остался таджиком в узбекском кишлаке, что усиливало его имидж чужака.
Как чужак, А. не имел в местном обществе никаких включенных интересов, связей, обязательств, не был отягощен местными историей и мифологией, чувством коренной идентичности. Это помогло ему вначале завоевать популярность, но потом стало причиной отторжения. Причем роль главных победителей сыграли вовсе не религиозные оппоненты из числа махсумов, а местная власть, которая была обеспокоена концентрацией в руках Матчаи-муллы значительного символического капитала. Растущее влияние имама нарушало сложившуюся в Ошобе монополию на власть нескольких семей, представители этих семей на протяжении многих лет удерживали основные административные и экономические позиции, но при этом не обладали религиозным капиталом. Всемогущий председатель колхоза контролировал все механизмы влияния на население, расставлял на ключевых и доходных должностях своих людей и чувствовал свою полную неуязвимость. Однако в лице А. появился пока несовершенный, но уже независимый институт, за которым незримо стояли большие финансовые возможности, политические структуры и связи и, наконец, легитимная в глазах людей мусульманская доктрина. Местным функционерам казалось — Матчаи-мулла уже настолько силен, что способен конвертировать свой религиозный ресурс в политический и разрушить установившуюся в кишлаке конфигурацию власти.
* * *
Конечно, настоящим мусульманином К. никогда не был: родители умерли рано, работал и учился в других местах, много пил, хорошо зарабатывал. Но однажды (где-то в 1987 году) вдруг понял — и это в 64 года, — что пора отдавать долг богу. Подошел К. к местному мулле и спросил его: «Я не читал молитвы, не держал пост. Если я начну теперь, добьюсь ли я прощения?» Мулла ответил: «Начиная с 12-летнего возраста сколько молитв не читал и сколько раз пост не держал, сейчас все надо отквитать». К. выругался и ушел — разве сможет он все это отквитать? В это время в Ошобе поставили имамом одного матчинского муллу (его поставил главный мулла Аштского района, родом из Пангаза). Он приехал сюда с семьей, и ему дали дом. Очень хороший был мулла, красиво читал, мог переводить с арабского (сам таджик, но говорил по-узбекски). К. однажды приснился сон, что спросил он матчинского муллу о том же, о чем спрашивал местного муллу, а матчинец ответил: «Если даже один раз прочитаешь молитву, один раз держишь пост, то уже ты мусульманин и можешь надеяться на прощение Бога». Утром К. вышел на улицу и встретил как раз матчинского муллу, и весь разговор, который ему только что приснился, состоялся наяву. С тех пор К. стал читать молитвы и держать пост (тому, что и как делать, он научился сам, по специальной книге). Что касается матчинского муллы, то в 1991 или 1992 году, когда начались конфликты в Таджикистане, он высказывался в пользу оппозиции. Ошобинцы решили, что он — «хвост Тураджана-зода» и даже думали его побить. Матчинец тогда уехал из кишлака к себе домой, в Матчу.
События 1991 и первой половины 1992 года окончательно запутали жителей Ошобы, которые перестали понимать, чтó считать правильным в исламе, а чтó — неправильным, чтó надо приветствовать, а чтó — осуждать. Рассказ бывшего учителя К. парадоксальным и весьма характерным образом соединил рациональные мотивы, вернувшие героя в ислам, и мистическую форму их транслирования. В 1995 году К., бывший советский активист, был убежденным поклонником А. и сторонником Э., ежедневно ходил в главную мечеть на молитвы и критиковал махсумов. Те, кто принадлежал к противоположному лагерю, называли его за глаза ваххабитом. Сам же он был уверен, что не отступает ни от традиций предков, ни от традиций ислама. Ко всему прочему добавлю такую деталь — сын К. занимал высокую должность в колхозе и был одним из тех, кто принимал решение об изгнании Матчаи-муллы.
История К. довольно типична. От одних и тех же людей, ангажированных той или иной группировкой и неангажированных, можно было услышать самые противоречивые и даже противоположные суждения по поводу традиций и ислама. Столь же неоднозначными были оценки, которые адресовались хаджиям и махсумам, к тем и к другим большинство моих собеседников относились с настороженностью и порой открыто осуждали претензии обеих сторон конфликта. Ошобинцы довольно смутно представляли себе характер их догматических расхождений, они транслировали где-то услышанные или самостоятельно изобретенные ими аргументы в зависимости от множества различных привходящих обстоятельств — местных представлений о своих и чужих, конфигурации социальных сетей, отношений экономического и политического доминирования. В зависимости от своих интересов, связей, своего статуса каждый ошобинец выстраивал, осознанно или неосознанно, свои особые стратегии включения в местные дебаты об исламе, апеллировал к различным его интерпретациям, использовал разные возможности называть те или иные образы, явления исламскими и неисламскими — и нередко менял свою стратегию, если ситуация складывалась как-то иначе.
Наблюдая проявления религиозности в Ошобе, я могу сделать вывод, что мусульманская идентичность пронизывала все сферы жизни здешнего населения, сцеплялась с разнообразными обстоятельствами и переживаниями и не находилась в непримиримой оппозиции к светской или нерелигиозной идентичностям и опыту, а, напротив, соединялась с ними, находилась в диалоге, принимающем форму социальных обязательств и индивидуальных нарративов821. С этой перспективы были видны многообразные индивидуальные траектории мусульманскости, которые складывались под влиянием и давлением различных сил и менялись в зависимости от новых факторов. Одни из этих траекторий основывались на исполнении ритуалов и интерпретации практик и представлений авторитетными людьми из числа местных жителей, другие — на личном знакомстве с письменными текстами, содержащими те или иные сведения об исламе. Имея такие разные свидетельства, большинство жителей Ошобы не спешили вставать на сторону той или иной партии и следовать какой-то одной линии осуждения или восхваления. Скорее доминировала точка зрения, которую четко сформулировал в 2010 году один из моих собеседников: «Люди устали от этих бестолковых разговоров. Мы читаем молитву. Кто ее примет? Аллах примет. Бог сам знает, кто правильно читает, кто как».
Сказанное совсем не означает, что в сообществе под влиянием тех или иных сил и обстоятельств не происходила поляризация настроений, не было тенденции к ней. В Ошобу периодически врывались внешние воздействия — в виде ли наманганцев-ваххоби, матчинского муллы либо спецслужб, которые, как можно предположить, наверняка пытались противостоять «исламистам». Для названных и других, неназванных, акторов внутриошобинские социальные связи были непонятны, неинтересны и малозначимы. Они ставили перед собой собственные цели и всей мощью имевшегося у них социального, символического или политического капитала пытались навязать ошобинскому сообществу свою повестку для дискуссий и свое представление о значимых разделениях. В каких-то других кишлаках в Ферганской долине или за ее пределами это внешнее воздействие оказалось более успешным, в Ошобе же поляризация не дошла до критической точки, когда все прежние местные отношения и иерархии были бы разрушены и переструктурированы заново. В данном случае локальное сообщество выстояло и сохранило свою целостность, в том числе мобилизовав собственную локальную идентичность и противопоставив ее чужакам. Однако надо признать, что события начала 1990-х годов не прошли бесследно — отношения, привязанности, представления, ценности были сильно дестабилизированы, сознание людей было во многом дезориентировано, возникли новые разрывы в социальной сети, которые не срослись окончательно, а остались болезненными шрамами, готовыми вновь раскрыться с наступлением очередного кризиса.
Очерк девятый БРАК ПО-КОМСОМОЛЬСКИ
Американский историк Грегори Масселл в книге «Суррогатный пролетариат: Мусульманская женщина и революционные стратегии в советской Центральной Азии» обратился к теме эмансипаторской политики большевиков в этом регионе822. Идея его работы заключалась в следующем: большевики, задумав масштабный проект социалистических преобразований, рассчитывали, что социальным фундаментом их реформ будет российский пролетариат; в России, где бóльшую часть населения составляли крестьяне, с пролетариатом были некоторые сложности, поэтому большевики опирались на сельскую бедноту и середняков; еще больше сложностей с пролетариатом было в Средней Азии с ее совершенно неразвитой на тот момент промышленностью, поэтому здесь большевики решили сделать своим социальным союзником женщин, которые, как они считали, являлись наиболее угнетаемой частью местного общества — отсюда и выражение «суррогатный пролетариат», которое использовал Масселл. Таким образом, попытки повлиять на положение женщин в конце 1920-х и в 1930-е годы, известные как кампания худжум (наступление), были не просто одним из побочных направлений советской политики, а центральным элементом развертывания революционных преобразований в регионе.
Не буду сейчас рассматривать вопрос, насколько верна такая постановка проблемы, отмечу лишь факт, что в работе Масселла женская тема оказалась в центре изучения политики советской власти в Средней Азии. Интересно, однако, как дальше развивалось обсуждение этого вопроса. В 2004 и 2006 годах одна за другой появились две новые книги, посвященные данной теме, — Дугласа Нортропа «Империя под паранджой: гендер и власть в сталинской Центральной Азии» и Марианны Кэмп «Новая женщина в Узбекистане: Ислам, современность и снятие паранджи при коммунизме». Эти два историка дали совершенно разную трактовку событиям 1920—1930-х годов.
В книге Нортропа оценка политики большевиков увязана с вопросом о том, был ли Советской Союз империей. Исследователь полагает, что СССР все-таки был колониальной империей823, в которой большевики, управлявшие окраинами из Москвы, старались трансформировать местную культуру и гендерные отношения методом ежедневного внедрения новых европейских и русифицированных практик поведения — вопреки желанию местного населения. В российской имперской традиции угнетенное положение среднеазиатской женщины, ее зависимость от мужчины, бесправие, закрепленное мусульманскими законами, всегда рассматривались как признак отсталости колоний и, соответственно, как оправдание колониальной экспансии и активного реформаторского вмешательства в семейно-бытовую сферу жизни колонизуемых. По мнению Нортропа, советская имперская власть с помощью своей политики освобождения женщин также осуществляла давление на местное общество и стремилась подчинить последнее своим интересам. Определение СССР как империи делает для Нортропа ключевой тему сопротивления: сохранение паранджи (и вообще разного рода местных традиций) перестало быть для многих людей просто религиозным или моральным требованием, но превратилось в акт повседневного противодействия колониальной власти.
Однако, продолжает Нортроп, СССР был не только колониальной империей, но и одновременно модернизирующим государством824. Такой симбиоз создавал «гибридный постколониальный мир современной Центральной Азии», в котором противоположные идентичности подкрепляли и определяли друг друга825. Советская власть, навязав местной элите и местному населению национальный язык описания культуры и политики, вольно или невольно, как считает Нортроп, придала локальным представлениям и практикам характер национальных символов: «Паранджа была атакована и защищаема во имя древних традиций, а сегодня стала узбекским национальным символом только благодаря этой борьбе, благодаря усилиям коммунистической партии, направленным на то, чтобы она исчезла. Традиции и их защитники-традиционалисты, таким образом, являются недавним и исторически специфическим продуктом. В этом ирония, парадокс и сложность того, что произошло в советской Центральной Азии вскоре после революции 1917 года»826.
В своей работе Нортроп приходит к выводу, что именно открытое сопротивление вынудило советскую власть, после попыток заставить местную женщину снять паранджу, отказаться от решения этой задачи насильственным путем. Правда, в работе нет ответа на вопрос, почему после Великой Отечественной войны произошел массовый отказ от паранджи — в условиях, когда власть вроде бы уже не прибегала к откровенным репрессиям. Исследователь лишь делает предположение, что начиная с 1940-х годов в Среднюю Азию хлынул поток русскоязычного населения, влияние которого и вызвало изменения в локальных культурных практиках827.
У Марианны Кэмп ответ на последний вопрос иной. Она предлагает два уточнения. Первое — реформы, которые проводились большевиками, хотя и имели колониальные черты, то есть были привнесены извне, тем не менее отражали общие настроения той эпохи — стремление ускоренно модернизировать архаичные общества и быстрыми, иногда насильственными методами преодолеть их разрыв с обществами, экономически более развитыми. В этой связи Кэмп напоминает, что в само´м среднеазиатском обществе были собственные политические движения, например тех же джадидов, которые в рамках своих планов реформирования попытались сформулировать свой, мусульманский проект эмансипации женщины. Исследовательница напоминает также, что аналогичные советским реформы проводились в кемалистской Турции, а значит, политика большевиков была лишь одной из версий более широких процессов трансформации исламских обществ в начале XX столетия828. Отсюда Кэмп приходит к выводу, что попытка изменить статус женщины в среднеазиатском обществе стала результатом усилий не только большевиков и советского государства, но и местных интеллектуалов, различных местных социальных групп, искавших путей инкорпорирования региона в современный мир.
Второе важное уточнение, которое делает Кэмп, заключается в том, что помимо колониальных противоречий в среднеазиатском обществе существовали реальные социально-гендерные противоречия. Она полагает, что женщина была в двойной зависимости — от мужчины и от государства, при этом сопротивление одному из них могло принимать форму своеобразного союза с другим: «В контексте конкурирующих гегемоний за женщинами сохранялась по крайней мере возможность сознательного выбора между укладом, в котором они воспитывались и росли, и новой жизнью в советском государстве»829. Эти конфликты рождали собственное женское движение за переустройство отношений в семье и локальной общине, собственные аргументы в пользу таких изменений и поддержку этим движением модернизаторских усилий советского государства. Женщина, настаивает Кэмп, выступала как субъект изменений, а не пассивный проводник политики большевиков или лишь субъект сопротивления последним830.
Хотя оба исследователя — и Нортроп, и Кэмп — видят сложную, мозаичную картину, признают существование множества противоречивых тенденций в советском среднеазиатском обществе, они расставляют разные акценты. Первый предпочитает говорить о навязывании извне советских практик, о культурных особенностях, которые не растворялись в советскости, а сохранялись и даже заново реконструировались. Вторая признает, что сами местные жители порой охотно принимали советские практики и идентичности, участвовали в их создании, наделяли их собственными смыслами. Вместе эти работы позволяют, как мне кажется, держать в поле зрения две линии или два полюса того, что происходило в регионе, — доминирование, жесткий прессинг, управляемую мобилизацию, с одной стороны, и разнообразные интересы, желания, мотивации конкретных людей и сообществ — с другой.
В данном очерке речь пойдет о практиках заключения брака в Ошобе, изучение которых позволит посмотреть, в частности, и на положение женщины в местном сообществе. Меня интересует вопрос, какие функции выполняли эти практики, какими были стратегии и интересы разных людей и групп при заключении брака, каким образом происходили и осмыслялись трансформации в данной сфере социальных отношений. Я покажу, что власть не была внешним созерцателем этих процессов, а старалась активно влиять на них, предлагая свою программу реформ, при том что и сами ошобинцы отнюдь не были пассивными исполнителями внешней воли и вместе с тем не ограничивали свою роль лишь сопротивлением нововведениям.
Дело было в Ошобе
В 1995 году, после одного из разговоров, я сделал в своем дневнике следующую запись:
В 1966 году К. провел первым в Ошобе комсомольскую свадьбу. История была такая: он инвалид (с трудом передвигается), и когда познакомился с девушкой (дочь Э.), ее отец хотел выдать дочь замуж за другого и дал на это клятву, девушка же воспротивилась, желая выйти замуж только за К.; дядя-тога [брат матери или бабушки по отцу] пообещал убить К., а девушка убежала в дом дяди-амаки [брат отца или деда по отцу], который был не против ее желания; сам К. не сидел сложа руки — обратился в район, в газеты, на радио; в районе решили устроить из его свадьбы первую комсомольскую свадьбу в районе (приехали писатель из Узбекистана, журналист из Душанбе); в этом помогали Ходжаназаров, тогдашний аксакал Одинаев, завуч школы имени Горького Рузматов. Что собой представляла комсомольская свадьба? К. не давал калыма, и его жена не принесла никакого приданого. Хатми-куръон и никох [см. далее] были, но главное — впервые открыто были расставлены столы на улице (тогда у школы), за которыми рассадили гостей, на столы открыто поставили пиво и чуть ли не 30 ящиков водки, артистов бесплатно привезли из района. Родственников невесты не было (зять так больше с тестем и не разговаривал, а тот называл своего внука «племянником»), но из районного центра привезли 30 девушек и посадили за стол как бы со стороны невесты. Кстати, потом в райкоме не принимали К. в партию, говорили ему, чтобы он сначала помирился с тестем. В 1985 году К. женил сына, и районное начальство ему сказало: «Ты первый делал свадьбу с водкой, теперь ты первый делай свадьбу без водки!» [в 1985 году в СССР началась кампания борьбы с пьянством]. И это была первая свадьба без спиртного.
В 2006 году главный герой этого рассказа сам опубликовал свою историю, с новыми подробностями, — в качестве приложения к сборнику своих стихов «Песня верности»831. Вот как звучит его история в почти буквальном — и поэтому иногда неловком, но зато максимально близком к источнику — переводе с узбекского на русский:
Мне было 27 лет. Родители хотели женить меня, но я все отнекивался и говорил: «Кому я нужен, такой инвалид? Я буду учиться». Меня мучили сомнения: если я женюсь на какой-нибудь девушке, потяну ли я семью, смогу ли обеспечить жену достойным питанием и одеждой? «Какая же девушка пойдет за такого инвалида, как я?» — говорил я сам себе. Я стеснялся людей, сторонился их, желал одиночества. Иногда меня посещали даже мысли о суициде.
Однажды мое внимание привлекла одна девушка [К-хон]. Тогда она еще только училась в восьмом классе. Она иногда проходила в школу мимо меня. Тогда мои ноги были обуты в грубые ортопедические ботинки, и, думая, что девушка будет над ними насмехаться, я сторонился ее, но все равно хотел видеть. Однажды в канибадамской районной газете напечатали мои стихи под названием «Ты все заметила». Та девушка сказала, что я посвятил эти стихи ей, когда разговаривала с дочкой моего соседа У. Вернувшись домой, соседская дочь сказала матери: «К. написал стихи и посвятил их той девушке». Однажды, когда я завтракал в кругу семьи, вместе с моими родителями и братьями, соседка с той девушкой зашли к нам в гости. За чаем соседка сказала отцу: «К. посвятил свои стихи одной девушке». У отца загорелись радостные искры в глазах, он спросил: «Это так, сынок?» Что я должен был ответить? Если бы сказал «да», то не знаю, что на сердце у той девушки. А если бы сказал «нет», то выставил бы ее обманщицей. Поэтому я ответил: «Может, и написал».
После этого я написал той девушке три письма, чтобы узнать про ее намерения. Не смог их отдать, наконец написал четвертое письмо. Заполнил две страницы из тетради. Написал, что любовь — дело серьезное, это не штука, которую можно сегодня купить, а завтра продать на базаре. Про свое состояние, что я, возможно, не смогу удовлетворить все ее потребности в питании и одежде, о возможных трудностях, о которых надо еще раз серьезно подумать. Письмо передал через «почтальона» [имеется в виду какой-то ребенок, которого наш герой попросил отдать послание в руки девушки]. Та девушка взяла письмо, прижала к груди и ушла.
На следующий день я получил ответ. Долго не решался распечатать конверт, а когда наконец открыл его, то увидел, что ответ на мое письмо, изложенное на двух листах, едва занимает одну строчку. Там было написано: «Я все продумала, решение однозначное». Эти слова вернули меня к жизни. В те времена в нашем кишлаке не было принято на людях встречаться молодым парням и девушкам, иначе сразу пошли бы кривотолки. То, что в 27 лет меня, инвалида, полюбила 15—16-летняя девушка, — это было даром Божьим. От этого я парил как птица в небесах. Даже в том возрасте у нее было много здоровых поклонников, но она выбрала именно меня, и это наполнило меня огромным вдохновением. Я был счастливейшим из счастливых. Теперь мы переписывались и тайно, в сердце совершали прогулки по цветнику любви.
Мой отец, узнав о наших отношениях, послал в дом девушки сватов. Вначале ее отец ответил: «Пусть пока окончит школу, а там видно будет». Это был хороший ответ. Но среди моих друзей оказались и недоброжелатели. Когда сваты вернулись домой с хорошей новостью, один из моих знакомых пошел в дом той девушки и сказал ее отцу: «Кому ты собираешься отдавать свою дочь? Лучше зарежь ее, чем отдавать в объятия этого инвалида. У него ниже спины все в гипсе. Лучше отдай ее за моего племянника, он учитель. Будет жить как королева». Таким образом он добился того, что отец девушки изменил свое мнение. После этого начались давление и угрозы девушке. К ее горлу приставляли нож, угрожали убить ее, целились в нее из ружья. Ее окутали пытками, физическими и моральными. Но она не отступилась от своего слова, сказала, что пойдет только за меня. И учебу она не оставила.
В 1964 году я поступил на факультет журналистики Ташкентского государственного университета. Своими силами. Мне не помогали родители и знакомые. В те времена для знаний все дороги были открыты. На территории бывшего СССР можно было поступить в любой вуз. Тогда письмо, однажды написанное мной для К-хон, попало в руки учителей школы, и это принесло еще бóльшие беды на ее голову. Учителя публично прочитали мое письмо старшеклассницам. Эта новость распространилась в кишлаке и вызвала сплетни. После этого собрание педагогов по своему усмотрению вынесло мне приговор — три года тюрьмы. Об этом мне рассказал мой друг А. (ныне покойный), он работал учителем. Я написал директору школы, Д.К., который был родом из Шайдана, и задал ему вопрос: «Наказание — мне или по Конституции СССР тому, кто раскрыл тайну переписки двух людей друг с другом?» Директор вызвал меня и сказал: «Братишка [ука — младший брат, обращение старшего к младшему], я твоего письма не читал. Для любви все равны — и царь, и нищий. Ты счастливый, раз такая красавица выбрала тебя, ты самый счастливый человек на свете. Я рад за тебя и буду на твоей стороне» — такими словами он долго успокаивал меня, наставлял, вернул мне мое письмо и фотографию, и я ушел от него. Однако потом преследования только усилились.
Я начал всерьез думать о суициде. И в то же время я восхищался девушкой, ведь ей было намного тяжелее, чем мне. В те дни я получил письмо от заведующего узбекским отделом газеты «Машъали Коммунизм» [Маяк коммунизма] Канибадамского района Музаффара Зульфикарова. Там было написано: «Братишка, я не знаком с тобой. Однако из писем, присланных в редакцию, стало известно, что ты подумываешь о самоубийстве. Говоришь якобы, что тебе стыдно появляться среди людей. Нет, братишка, человек должен быть волевым. Физические недостатки не могут обесценить человеческие ценности. На самом деле так должны думать те люди, которые обманывают других, воруют. А ты мужественный парень, который никому не хочет зла». Это письмо подбодрило меня.
На следующей неделе молодежная программа Ташкентского радио задала три вопроса. Смысл вопросов был примерно таков: «Кого вы обожаете?», «Кто для вас делал что-нибудь хорошее?», «Кого вы цените как настоящего человека?». Письмо Музаффара Зульфикарова отвечало на все три вопроса. Я, пользуясь советами из письма Музаффара-ака [ака — старший брат, а также обращение младшего к старшему], написал свой ответ. В скором времени мое письмо процитировали по радио под подобающую музыку мужским и женским голосами с таким выражением, что я, моя столетняя бабушка Ойша-момо и остальные слушали со слезами на глазах. Позже руководитель радиостанции «Ешлар» [Юность] Рустам Рахманов полностью привел мое письмо в своей книге под названием «Дискуссии о счастье».
После этого муки двух влюбленных сердец еще более усилились. В один из таких дней я получил письмо от ташкентского писателя Пиримкула Кадырова832: «На днях я буду в Вашем кишлаке и навещу Вас. Будьте стойким». Действительно, в скором времени, в августе 1964 года, Пиримкул-ака Кадыров в половине одиннадцатого ночи вошел в наш дом. Его сопровождали преподаватели Ленинабадского пединститута имени Кирова Эргашали Шодиев, Маматов, еще двое преподавателей, четыре сотрудника районной милиции — всего десять человек. На другой день, узнав о прибытии столь высоких гостей, все чиновники, учителя, председатель колхоза Имамназар-ака Ходжаназаров, председатель сельсовета Мирзабобо Тилляев собрались в саду Чинарабад [Чинар-бува]. Здесь были также противники меня и моей К-хон — двое учителей.
Все гости во главе с Пиримкулом-ака и все чиновники заняли места в шийпане [открытая со всех сторон веранда] сада Чинарабад. Учителя оставались внизу и прислуживали им. Я тоже был внизу. Через некоторое время по приглашению Пиримкула-ака меня позвали наверх, в шийпан и посадили между теми учителями, которые выступали категорически против нас с К-хон (один из них был ее классным руководителем, а другой — завучем). Я уселся между моими злостными противниками, а пирушка продолжалась.
Тут Пиримкул-ака Кадыров предложил тост: «Я не знал, что существует такой кишлак — Ошоба и какие здесь живут люди. Однако благодаря одному молодому человеку я полнее почувствовал гостеприимство здешнего народа. Мы уважали этого молодого человека и решили, что лучше один раз увидеть своими глазами, чем тысячу раз слышать ушами, и вот мы здесь, в вашем кишлаке, и убедились, что на самом деле все в тысячу раз лучше, чем он описывал». Тогда председатель колхоза спросил: «А я знаю этого молодого человека? Кто он такой?» На что Пиримкул-ака ответил: «Вы все его знаете, но его, оказывается, обижают. Случилось так, что его судьбу решают учителя. Вот он, этот молодой человек, это К.». Тут и отношение ко мне изменилось. Наш злостный противник, завуч Т.Р., внезапно сказал: «Эй, Пиримкул! До этого часа я был слепым. Не знал человека, какой он. Я даю слово тебе, что до последней капли крови моей буду бороться, чтобы К. и К-хон были вместе». После этого Т.Р. твердо стоял на своем слове.
Проходили дни, месяцы. Когда до выпуска десятого [последний год обучения] класса К-хон осталось десять дней, ее мать попала в больницу. К-хон пришла навестить ее, а мать попросила, чтобы та принесла кое-что из дома ее дяди-тога, который жил неподалеку от больницы. Когда К-хон пришла в дом дяди, то поняла, что он замыслил что-то нехорошее. Тот сразу запер племянницу в комнате, дал ей в руки листок бумаги с текстом и велел его переписать. Иначе он угрожал убить не только ее, но и, как сказал дядя, «твоего возлюбленного К., вашего защитника Т.Р. и председателя сельсовета». <…> К-хон быстро прочитала письмо. Там было написано: «Я не люблю К., а слово ему дала потому, что боялась». Это письмо было написано одним учителем, и дядя предложил, чтобы К-хон переписала его. «Если она перепишет, то победа за нами», — сказал он. К-хон ответила: «Если даже останусь без головы, и тогда не напишу такие слова», — и заплакала. В это время, на наше счастье, кто-то позвал дядю и передал, что его где-то срочно ждут. Тот повесил на дверь замок, пригрозив: «До моего прихода чтобы переписала, иначе тебе не жить», — и поспешно ушел. На наше счастье, окно осталось открытым, и К-хон сбежала оттуда. Придя к матери, она все ей рассказала. Тогда мать велела ей срочно предупредить Т. Р. Учитель Т.Р., узнав обо всем, приказал девушке спрятаться, а сам пошел к секретарю райкома Бобо Мансурову, начальнику РОВД, а потом, найдя меня, приказал мне, чтобы я нашел К-хон и был осторожен. «На вас планируется покушение», — сказал он.
В поисках К-хон я направился в дом ее дяди-амаки. Она была там. Здесь мы впервые встретились лицом к лицу. К-хон, положив голову мне на грудь, плакала горькими слезами. «Это, наверное, наше первое и последнее свидание», — говорила она. Моя тетка-амма [сестра отца] Х. была соседкой дяди-амаки К-хон. Она укрыла нас в безопасном месте. Около одиннадцати часов ночи из района прибыли четыре сотрудника милиции, всех поставили на ноги и начали искать нас. Одноклассники К-хон тоже принялись искать нас. В это время моя тетка Х. встретила одну из этих одноклассниц — У. — и спросила: «Что за суета такая, в чем дело?» У. ответила, что все ищут нас. Тетка рассказала ей, что спрятала нас. Когда нам сообщили, что милиция ищет нас, мы с К-хон пришли на базарную площадь — Бозорбаши. Председатель сельсовета и Т.Р. подвели К-хон к милиционерам. Она рассказала о своем разговоре с дядей-тога, как тот ей угрожал. Милиционеры схватили его, когда он возвращался на мотоцикле из дома К-хон. Им устроили очную ставку. После этого ее дядя-тога во всем сознался. Его забрали в райцентр Шайдан.
С этого дня к К-хон приставили охранника и она была вынуждена жить в чужих домах — сначала в доме отца моего друга, а потом у председателя женсовета кишлака Ошоба Ойтиллы Бойматовой [Илл. 31]. В это время комиссия по проведению свадеб в составе первого секретаря райкома Бобо Мансурова, председателя райисполкома Турсунпулата Мирзаалиева, секретаря райкома комсомола Садриддина Дадаматова объявила, что будет первая в районе комсомольская свадьба. За девять дней до начала нашей свадьбы к нам домой прибыли второй секретарь райкома Валентина Новикова, из райисполкома Хонбиби Одиева, председатель райсовета Сорабиби Ибрагимова и еще девять человек. Таким образом, девять дней прошли в неустанных приготовлениях к свадьбе. Родственники со стороны невесты не участвовали в этой свадьбе. Ответственность за проведение свадьбы взял на себя первый секретарь райкома Бобо Мансуров. Район гудел от слухов.
Наконец наступил долгожданный день нашей свадьбы. 27 июня 1966 года К-хон сдала свой последний экзамен. 28 июня восемь сотрудников милиции привезли из райцентра 30–40 комсомолок — на случай, если местные девушки объявят бойкот и некому будет сидеть возле невесты. Свадьбу проводили на большом пустыре возле школы [школа имени М. Горького], на Бозорбаши. На свадьбе выступали артисты районного Дома культуры. Собрались все жители кишлака, за исключением родственников К-хон. Свадьба продолжалась до двенадцати часов ночи, никаких эксцессов не было. Гости из разных районных организаций решили в своих селениях проводить такие же свадьбы.
С 1965 по 1970 год я работал главным бухгалтером сельсовета Ошоба, в 1970–1974 годах — заведующим узбекского отдела районной газеты «Шухрати Ашт» [Слава Ашта], а после этого стал работать учителем. Сейчас я учитель высшей категории. Вот уже 40 лет, как живу в любви и согласии с моей К-хон. Ее родственники тоже примирились с нами, и наши отношения отличные. У нас четверо сыновей и три дочери, четырнадцать внуков и внучек.
Эта история замечательна во многих отношениях и позволяет обсудить целый ряд тем, связанных с изменением повседневных практик и представлений. Здесь есть тема любви и личной автономности, проблема спиртного и права на новые формы публичности, здесь, наконец, присутствует и тема власти. Отталкиваясь от данного случая, попробую связать все эти сюжеты в одну общую историю трансформации ошобинского сообщества.
Илл. 31. Женский совет (предположительно 1950-е гг.)
Исключение из правил?
Свадебная история К. отличалась от обычных свадеб, которые проводились в Ошобе. Главное ее отличие состояло не в отсутствии каких-то ритуалов и подарков, а в том, что был нарушен основной принцип брачного договора — переговоры и заключение своеобразного союза между семьями молодых людей. Отец девушки — Э., работавший колхозным бухгалтером, — имел высокий статус и, хотя К. тоже принадлежал к заметной в Ошобе, не рядовой семье, рассчитывал на более выгодную партию для заключения родственного союза: зять-инвалид не выглядел привлекательно на фоне этих планов. Кроме того, Э. не мог допустить, чтобы вопреки существующим обычаям дочь сама решала, за кого выйти замуж. Это было бы не просто потерей «ресурса», но демонстрацией слабости и игнорирования представлений о правильной роли мужчины и отца. Причем если в некоторых случаях такую слабость удавалось скрыть, сделав вид, что решение принял отец, а не дочь, то в данной ситуации мезальянс был слишком очевиден, а значит, ущерб репутации становился публичным и неприемлемым.
В кратком устном рассказе упоминается также тот факт, что отец девушки дал клятву выдать ее замуж в какую-то другую семью. Для ошобинцев клятва — это серьезное заявление, налагающее моральные, социальные и, главное, религиозные обязательства, которые трудно нарушить, не потеряв уважения окружающих. Но именно поэтому к клятвам без важной причины здесь прибегали очень редко — чаще речь шла об обещании, которое не имело публичного характера и от которого можно было при определенных обстоятельствах отказаться. Такие обещания (скрепить отношения браком детей) практиковались между родственниками, близкими друзьями, ошно833 либо близкими партнерами по работе или другим совместным делам. Давал ли такую клятву или обещание отец девушки, сказать трудно, но ссылка на клятву стала, видимо, частью переговоров, которые интенсивно велись между ним и теми, кто пытался выступить в роли посредника для урегулирования ситуации.
Молодые выбрали путь открытого сопротивления воле родителей девушки, что само по себе противоречило принятым правилам поведения и выглядело как необычный/нетрадиционный поступок. Однако чтобы настоять на своем, молодым было недостаточно желания быть вместе и ссылок на взаимные чувства — необходима была социальная поддержка, которую К. сумел мобилизовать своими активными действиями.
К. являлся, безусловно, главной фигурой в этих событиях — именно он создавал те связи и интерпретации, которые в итоге позволили влюбленным выиграть противостояние с родителями девушки. Логику его поведения надо, наверное, искать как в семейных корнях, так и в индивидуальных особенностях характера. К. родился в 1938 году, учился в Ленинабаде/Ходженте и Ташкенте, сначала на бухгалтера, потом на журналиста. Какое-то время работал в районной газете «Шухрати Ашт» руководителем узбекского отдела, потом библиотекарем в ошобинской школе, учителем и одновременно продолжал работать внештатным журналистом. За ним в кишлаке закрепилось прозвище «журналист». Отец К. был пекарем и жил в Ташкенте, знал, видимо, русский язык, был восприимчив к новым представлениям и практикам; в 1930-е годы вернулся в Ошобу, чтобы помогать устанавливать в ней советскую власть и организовывать колхозы, потом поругался с Ортыком Умурзаковым и уехал, вернулся обратно лишь после ареста аксакала. Сам К., вопреки семейной традиции, не стал нонвоем — приобретенная в детстве болезнь не позволяла ему выполнять тяжелую физическую работу. Но, не унаследовав традиционную социальную роль, он тем не менее унаследовал от отца те функции, которые пекари приобрели в 1920—1930-е годы, — функции местных реформаторов и сторонников разного рода новшеств834. Физическое увечье, поставившее К. в маргинальное положение в условиях сельской жизни и представлений о настоящем мужчине (или, например, удачном женихе), помогло ему активизировать другие, не менее востребованные в то время качества — склонность к интеллектуальной деятельности и поэтическому творчеству, интерес к политике, чтению книг и газет.
Находясь в заведомо слабой, проигрышной позиции, К. развил в себе более эгоцентрическое мировосприятие, его главным ресурсом стал идеологический и интеллектуальный капитал, а главной стратегией — ссылка на советскую идентичность и советские нормы. В разговоре со мной К. в 1995 году представлял себя верным сторонником советской власти, советского прошлого и коммунистов, хвалил Сталина и жалел о распаде СССР. Для него советская идеология явно была не только способом приспособления к жизненным обстоятельствам, но и частью его идентичности и мировосприятия — возможно, именно это объясняет то упорство, с которым К. отстаивал свое право жениться по собственному выбору. Все это диктовало определенную стратегию в конфликтной ситуации: он отказался от ведения тайных переговоров, которые, скорее всего, окончились бы неудачей, и не захотел убегать с возлюбленной из Ошобы (как нередко поступали в аналогичных ситуациях другие пары) — вместо этого К. последовательно опирался на советские законы и правила, на новую мораль и пропагандистские советские лозунги, которые должны были дать публичную легитимацию его требованиям и интересам.
При этом К. использовал все доступные ресурсы для достижения своей цели. Молодой человек сознательно действовал через институты власти — ссылка на советские нормы позволяла ему привлечь на свою сторону таких влиятельных союзников, как раис, аксакал, учителя (многие из которых имели дружеские отношения с его отцом), а затем и районную власть, журналистов и, наконец, даже известного писателя из Узбекистана, чья роль в рассказе К. становится ключевой. Привлекая этих людей к решению своей проблемы, он одновременно задействовал и те социальные связи, которые за ними стояли. Учителя, аксакал, раис, в свою очередь, пытались разрешить возникший конфликт с помощью вполне традиционных аргументов — апеллируя к местной славе селения и замечательным качествам жителей Ошобы, в частности к гостеприимству и уважению просьбы со стороны почетного гостя. Даже сам факт обсуждения вопроса не где-нибудь, а рядом с мазаром Чинар-бува и во время мужской пирушки, когда учителя обслуживали начальство и гостей, демонстрируя уважение к строгим социальным иерархиям, подчеркивал именно традиционалистский антураж и стремление найти компромисс советского с локальным. Все действующие лица, подчиняясь идущим со стороны государства требованиям менять бытовые привычки, продолжали имитировать соблюдение местных приличий и обычаев — привезенные на свадьбу шайданские девушки вполне могли заменить ошобинских подружек и сыграть ту традиционную пьесу, без которой заключение брака выглядело неполным и, следовательно, не вполне легитимным.
Желание опереться на советские институты и идеологию с тем, чтобы нарушить обычаи, причудливо сочеталось с сохранением локальных норм и представлений. Последние вплетались в советскую идентичность, перерабатывались в ней и получали новую трактовку, новое подтверждение. Все эти различные приемы и образы использовались одинаково искренне и инструментально — только для того, чтобы получить желаемый результат.
Брачный рынок
О другом участнике конфликта — девушке — мне сложно сказать что-либо определенное, потому что у меня не было возможности поговорить с женой К. и услышать ее версию, узнать ее восприятие произошедшего. Поэтому попробую реконструировать некие обстоятельства, контекст ее поведения, для чего рассмотрю общие условия заключения браков в Средней Азии.
В прошлом местные девушки, или даже девочки, выходили замуж в очень юном возрасте — в 11–13 лет, когда какие-то романтические чувства и привязанности еще не сформированы835. К этому можно добавить, что сельская среда была замкнутой, регулировалась строгими иерархическими отношениями и локальными обычаями, молодые люди разного пола общались сравнительно редко, а их совместное уединение и вовсе считалось невозможным по действовавшим правилам приличия. Община была немногочисленной, а круг потенциальных брачных партнеров — небольшим, он включал только близких соседей и родственников; если же жених (куев) и невеста (келинчак) были из разных кишлаков, то, как правило, молодые впервые видели друг друга только на свадьбе. Хотя в мусульманской культуре существовали образцы литературы и поэзии, воспевающие чувство любви и даже борьбу молодых людей с обществом за свое право быть вместе, в Ошобе для таких романтических переживаний возможностей было немного — женщины редко знали грамоту и много работали.
Вот что писали об этом супруги Наливкины836:
Браки по любви или, по крайней мере, такие браки, которые заключались бы вследствие хотя бы некоторого взаимного влечения, далеко не часты. Обусловливается это, конечно, прежде всего тем, что согласие на брак дается у большинства не девушкой, а ее родителями, причем в виду имеются главным образом вопросы чисто материального характера, а во-вторых, слишком мало таких условий, при которых возможно было бы вполне свободное нравственное сближение между мужчиной и девушкой. Оттого такие браки по любви встречаются по преимуществу не для девушек, а для молодых вдов и разведенных, которые, по своему общественному положению более или менее самостоятельных женщин, имеют в сравнении с девушками гораздо больше возможности столкновений с мужчинами при самых разнородных обстоятельствах <…>
Как ни редки сравнительно браки по любви для девушек, однако же случаются и они. Мы знали одну богатую купеческую семью, в которой дочь, лет 14–15, сошлась с молодым соседом. Однажды их накрыли; дело не обошлось, конечно, без трепки и некоторого скандальчика. Тем не менее месяца через два после этого происшествия оказалось несомненным, что дщерь находится уже во второй половине беременности, и родителям волей-неволей пришлось поскорее выдать беременную девицу за ее любовника.
В советское время, особенно начиная с 1950-х годов, ситуация на брачном рынке приобрела совсем другие исходные условия. По-прежнему в кишлаке у молодых при заключении брака не было права решающего голоса. Окончательное решение принималось только старшими членами семьи, они находили невесту, давали согласие или отказывали родителям жениха, обговаривали все свадебные процедуры, необходимые затраты с двух сторон. Такой порядок подкреплялся всей системой социализации, в которой с детства внушалась мысль о подчинении взрослым и о праве старших решать вопрос о супруге. Детям внушались «такие схемы восприятия и оценки, одним словом, такие вкусы, которые распространяются… на потенциальных партнеров и — без какого-либо чисто экономического и символического расчета — склоняют к исключению мезальянса»837, иначе говоря, молодые люди сами привыкали видеть своими потенциальными партнерами тех, кто мог бы устроить и их родителей в том числе. Тем не менее в саму процедуру выбора жениха или невесты стал постепенно включаться голос парня или девушки, чье мнение — нравится или не нравится — также начали принимать во внимание, при этом чем более эмоционально близкими были отношения между отцом и матерью, с одной стороны, и детьми, с другой, тем более внимательно первые прислушивались к пожеланиям вторых. Сыну или дочери стали предлагать дать свою оценку возможному будущему супругу, для чего иногда организовывали их встречу на нейтральной территории.
В этом изменении отразилась целая совокупность перемен на брачном рынке838. Во-первых, государством были введены строгие ограничения в отношении минимального возраста брачующихся (и установлен строгий контроль за ведением метрик), а внедрение обязательного среднего образования подкрепило этот закон обязанностью окончить школу. Для юноши новым брачным порогом стала служба в армии. В результате средний возраст невесты поднялся до 19–21 года, жениха — на два-три года старше. Это означает, что молодые люди стали вступать в брак достаточно сформировавшимися людьми со своими интересами, которые уже нельзя было полностью контролировать или игнорировать.
Во-вторых, ошобинское сообщество значительно выросло в размерах и социальные сети, куда входила та или иная семья, стали более разнообразными. Соответственно, количество потенциальных женихов и невест, брак с которыми был бы возможен и желателен, тоже увеличилось. Родители получили возможность дифференцировать свои стратегии: в одних случаях они могли выбирать своим детям партнеров для укрепления внутриродственного союза, в других случаях — искать выгодных с экономической точки зрения партнеров, в третьих — родниться с престижными семьями, имеющими хорошую родословную. Все это сделало сам брачный выбор более широким и сложным, а итоги переговоров между сторонами — менее предсказуемыми. Родители жениха и невесты не были теперь ограничены рамками узкого круга соседей и родственников и могли тщательнее выбирать будущего супруга для своего ребенка, а значит, в том числе и прислушиваться к мнению самого юноши или самой девушки. Если семья обладала по меньшей мере средним достатком и хотя бы средними достоинствами, то риск не найти пару даже в случае нескольких отказов был не слишком велик.
В-третьих, общество стало более открытым, подвижным, появились новые возможности для знакомства и общения молодых людей. В школьных классах, в которых на протяжении десяти лет мальчики и девочки учились вместе, возникли свои практики общения между ними, свои формы ухаживания, тайные подглядывания и переглядывания, переписка через добровольных почтальонов. Часто таким поведением мальчики и девочки пытались копировать романтические образцы, в обилии предоставляемые кино, радио, телевидением, художественной литературой, а также жизненные истории, рассказанные журналистами в газетах и журналах. Темы любви, страдания по любимому или любимой, борьбы за то, чтобы быть с ним или с ней, не просто стали публичными и легальными, но получили моральную, а иногда и идеологическую поддержку со стороны государства. Иначе говоря, к моменту вступления в брак у многих юношей и девушек возникали свои собственные предпочтения и симпатии, которые они переживали и осмысляли как любовь.
Все эти перемены, сделавшие голос молодых людей в процессе выбора будущего брачного партнера слышимым, не могли не привести к некоторому напряжению и даже конфликту между интересами и романтическими представлениями молодых людей и строгими социальными ограничениями, которые диктовались интересами и представлениями родителей.
Особенно острыми были конфликты у девушек, поскольку они больше зависели от мнения родителей и по существующим обычаям не могли быть инициаторами заключения брака. Такого рода конфликты принимали разные формы и по-разному разрешались. Иногда, как я уже говорил, родители прислушивались к мнению дочери, особенно если она была настойчива, иногда девушке удавалось по крайней мере отказать тому, кто ей категорически не нравился. Во многих случаях после более или менее настойчивых попыток неравной борьбы за свое право влиять на выбор супруга девушки все же соглашались с решением родителей, уступая их давлению и уговорам. Этот путь облегчался тем, что жениха или невесту подбирали примерно того же социального статуса и кругозора, нередко из числа родственников или хороших знакомых, что уже создавало атмосферу для более комфортной семейной жизни. Иногда девушка вынужденно выходила замуж за человека, которого до этого совсем не знала, в таком случае если не возникало взаимной симпатии и привычки друг к другу после свадьбы, то формировались разные варианты поведения: кто-то проводил всю свою жизнь в постоянной и невидимой войне с супругом или его родственниками, кто-то — таких было большинство — смирялся и посвящал себя детям или домашним делам, а кто-то — в кишлаках это было редкостью — находил себе любовника, перенося на него свои романтические желания и с ним чувствуя себя свободным и самостоятельным, наконец, кто-то разводился либо даже кончал жизнь самоубийством839.
Поведение К-хон — это один из редких примеров, когда девушка выбрала самый радикальный путь и поступила вопреки воле родителей и установившимся нормам. Сам этот случай в силу его публичности стал одной из возможных моделей поведения, о которой в Ошобе все узнали и которой могли дать собственную оценку, сравнив с другими моделями. Кажется, этот пример мог бы выглядеть для некоторых молодых людей вполне привлекательным, так как влюбленные добились того, чего хотели. Однако в действительности, хотя история К. и К-хон и стала важным, знаковым эпизодом в жизни ошобинского сообщества, который показал новые перспективы для формирования брачных стратегий и сделал последние еще более вариативными и неопределенными, желающих идти по столь радикальному пути оказалось мало. Во-первых, многие родители, имея перед глазами такой пример, уже и сами старались не доводить ситуацию до крайности. Во-вторых, не все молодые люди обладали качествами К. и К-хон, чтобы рассчитывать на столь же мощную помощь со стороны власти. К тому же рациональный расчет подсказывал, что в браке, заключенном без поддержки близких, человек лишается важных ресурсов для будущей жизни — бывали случаи, когда брак, основанный на взаимной симпатии молодых людей, заканчивался конфликтами и разводом именно потому, что не были до конца учтены и согласованы интересы семей.
Судебный иск 1914 года
Случай К. и К-хон имел еще одно важное последствие для брачных практик в Ошобе. Я хочу обратить внимание на то, что в рассказе К. вся его драматическая история соединения с любимой завершилась организацией комсомольской свадьбы.
Начиная с 1950-х годов почти каждый молодой человек, достигший 14 лет, вступал в Коммунистический союз молодежи (комсомол)840, организацию, которая копировала структуру КПСС — имела общесоюзные органы, республиканские, областные, районные, а также отделения на предприятиях, в учебных заведениях и так далее. Для немногих избранных, поступавших в вузы и получавших затем руководящие должности, это был трамплин для будущей карьеры — из комсомольских активистов формировались партийные, административные и нередко хозяйственные кадры. Для большинства же своих членов комсомол не служил автоматически источником каких-то льгот, а был скорее дополнительным механизмом формирования политической лояльности, инструментом советской пропаганды и надзора. При этом комсомольская свадьба считалась в 1960-е годы одним из главных символов, указывающих на готовность молодых людей (и негласно — их родителей) обозначить свою советскую идентичность.
Прежде чем говорить о само´й комсомольской свадьбе, логично было бы выяснить, какие именно локальные брачные ритуалы она должна была заменить. Правда, здесь возникает сложность — реконструировать эти ритуалы затруднительно, ведь уже в 1970—1990-е годы они в чистом виде не практиковались, воспоминания о них были отрывочны, противоречивы и искажены, а других источников недостаточно. Есть опасность, что такая реконструкция представит некую неизменную и безвариантную традицию, которой на самом деле никогда не существовало. Поэтому начну описание брачных практик в Ошобе с одного любопытного документа, который попался мне в ташкентском архиве841:
Журнал
Общего присутствия Ферганского областного правления
14 октября 1914 г.
№ 511
Слушали: Жительница сел. Ашаба Аштской волости Наманганского уезда, Ашурджан-биби Хальмухамедова, в прошении, поданном начальнику названного уезда 4 мая 1913 г., заявила и затем на дознании разъяснила, что муж ее, Курбан-Али Абдурахманов, умер назад тому 8 лет, после него осталась двухлетняя дочь, Сара-биби, которая до семилетнего возраста жила при ней, просительнице, а потом ее насильно отобрал от нее родственник по мужу, Ашуркул Назаркулиев, и выдал ее замуж за своего сына Исанбая, который через год умер. Месяцев через 4–5 после его смерти, когда Сара-биби было всего 9 1/2 лет от роду, народный судья Аштской вол. Иса-ходжа Камалетдин-ходжаев совершил от имени Сары-биби документ, по которому она передала своему тестю, названному Ашуркулу Назаркулиеву, участок земли, доставшийся ей по наследству от отца, Курбан-Алия, и после этого отправил Сару-биби к ней, просительнице, а ее назначил опекуншей и прислал об этом документ за № 487. Участок земли теперь находится в ее, Ашурджан-биби, распоряжении.
По словам Сары-биби, она в доме Ашуркула Назаркулиева жила три года, сына его, Исанбая, считает своим мужем, но когда, при каких обстоятельствах и кто ее венчал — не помнит. После смерти мужа Ашуркул привел ее в дом Адина-Мухамеда Иса-Мухамедова842, где находились хозяин дома, Джумабай, Шады-ходжа и народный судья; последний спросил ее — отдает ли она свою землю Ашуркулу, то по наущению Ашуркула сказала «да».
К дознанию приложены две выписки из актовой книги Аштского народного судьи от 4 апреля 1913 г. за № 507 и от 3 июля того же года за № 487. По первому из этих документов, Сара-биби Курбаналиева 1 1/2 танапа собственно принадлежащей ей земли передала Ашуркулу Назарбаеву за 295 руб. на возмещение расхода на похороны ее умершего мужа, Исанбая Ашуркулова. Свидетелями были Джуманбай Джиянбаев и Адина-Мухамед Иса-Мухамедбаев, а за них и за Сару-биби расписался мулла Асфандияр Рахманкулов. По второму документу, Ашурджан-биби Хальмухамедова назначена опекуншей над имуществом малолетней, 10 лет, Сары-биби, дочери умершего Курбан-Алия. Свидетелями были Юлдашбай Мухамед-Умарбаев и мулла Сираджитдин Хальмухамедов. Последний расписался сам, а за первого расписался мулла Асфандияр Рахманкулбаев [напротив этого абзаца на полях написано: «В актовой книге запись эта зачеркнута красным карандашом и в конце ее народный судья сделал надпись о том, что считает ее недействительною, т. к. она не согласна с шариатом»].
По поводу этих документов и по существу жалобы Ашурджан-биби житель сел. Ашаба — Ашуркул Назарбаев (Назаркулиев) показал, что Ашурджан-биби со своего согласия отдала ему свою дочь, девочку Сару-биби, и тогда же он выдал ее за своего сына Исанбая, обряд бракосочетания совершал старик Ашур-Мухамед Захирбаев. Вскоре сын его умер. Тогда он обратился к аштскому народному судье, мулле Иса-ходже Камалетдин-ходжаеву с просьбою о разделе имущества, оставшегося после смерти его двоюродного брата Курбан-Алия, между наследниками его и указал на дочь последнего, свою сноху Сару-биби. Тогда народный судья опросил Сару-биби — желает ли она из своего наследства отдать участок земли ему, Ашуркулу, и, получив ее согласие, тут же совершил документ и выдал ему копию с него, но на другой день копию эту от него отобрал Адина-Мухамед Иса-Мухамедов, сказав, что документ этот написан неправильно и нужно представить ривоят [составленное знатоками мусульманского права разъяснение о правильности или неправильности решения судьи]. Переданный ему по этому документу участок земли он возвратил в распоряжение матери Сары-биби.
По показанию Адина-Мухамеда Иса-Мухамедова, документ за № 507 был совершен в его, Адины, доме по просьбе Ашуркула и с согласия Сары-биби, причем Ашуркул заявляет, что участок земли Сара-биби передает ему на возмещение 295 руб. расхода, произведенного на похороны ее мужа Исанбая. Но на другой день народный судья отобрал от Ашуркула этот документ и уничтожил его, говоря, что он незаконный, т. к. Сара-биби несовершеннолетняя.
Свидетель Джуманбай Джиянбаев заявил, что он при совершении документа не был, причем народный судья девочку Сару-биби не спрашивал и кто за него расписался в документе — не знает.
Мулла Асфандияр Рахманкулов показал, что документ за № 507 совершен по просьбе Ашуркула и с согласия Сары-биби и что он, мулла Асфандияр, расписался за Джуманбая не заочно, а по его просьбе. Точно так же расписался за неграмотного Юлдашбая Умарбаева в документе о назначении Ашурджан-биби опекуншей; документ этот писал он, свидетель, по признанию народного судьи, и Ашурджан-биби в то время там не была.
По показанию свидетелей Юлдашбая Умарбаева и Сираджитдина муллы Хальмухамедова, документ о назначении Ашурджан-биби опекуншей был написан в ее присутствии.
Свидетель Шады-ходжа Азис-ходжаев показал, что народный судья, мулла Иса-ходжа при нем опрашивал какую-то маленькую девочку о том, отдает ли она свою землю Ашуркулу, и девочка эта сказала «да, отдаю». Документ писался не при нем <…>
Общее присутствие областного правления находит, что по обстоятельствам настоящего дела народный судья Аштской волости Наманганского уезда, мулла Иса-ходжа Камалетдин-ходжаев навлекает на себя обвинение в том, что при участии туземца Ашуркула Назарбаева и для представления ему выгод совершил заведомо от имени малолетней Сары-биби Курбаналиевой документ 4 апреля 1913 г. за № 507 о передаче означенному Ашуркулу Назарбаеву участка земли и затем в оправдание своих противозаконных действий зачеркнул запись этого документа в актовой книге и над малолетней Сарой-биби учредил опеку в лице матери Ашурджан-биби Хальмухамедовой, а посему определяет: заслушанное дознание препроводить мировому судье 2-го участка Наманганского уезда для производства предварительного следствия, уведомив об этом прокурора <…>
Обстоятельства этого дела следующие:
4 мая 1914 г. жительница сел. Ашаба, Аштской волости Наманганского уезда, Ашурджан-биби Хальмухамедова, подала начальнику Наманганского уезда прошение, в котором заявила, а затем подтвердила на дознании и предварительном следствии, что аштский народный судья совершил васиху [купчая] от имени малолетней дочери ее, Сары-биби Курбаналиевой, о передаче участка земли, доставшегося ей после смерти отца, тестю своему [свекру?] Ашуркулу Назарбаеву, а затем уничтожил этот документ, а Ашурджан-биби назначил опекуншей. Показаниями допрошенных на предварительном следствии свидетелей <…> установлено, что как только народный судья узнал, что Сара-биби несовершеннолетняя, то через три дня после совершения акта вновь приехал в сел. Ашаба, вызвал к себе Ашуркула Назарбаева, отобрал у него васиху и тут же изорвал ее на глазах свидетелей.
Из протокола осмотра актовой книги аштского народного судьи за 1913 год видно, что акт от 4 апреля 1913 года за № 507 в книге перечеркнут красным карандашом и на нем имеется надпись: «Передачу имущества, принадлежащего Саре-биби, Ашуркулу на покрытие расходов по похоронам мужа считать недействительной, как несогласную с шариатом. Аштский народный судья расписался», акт же от 3 апреля 1913 года за № 637 содержит запись о назначении Ашурджан-биби Хальмухамедовой опекуншей над имуществом несовершеннолетней Сары-биби <…>
Привлеченный к следствию в качестве обвиняемого <…> мулла Иса-ходжа Камалетдин-ходжаев не признал себя виновным и объяснил: 1) что, совершая васиху от 4 апреля 1913 года, он не знал, что Сара-биби малолетняя, так как в этот момент она была покрыта халатом [паранджой?]; когда же через несколько дней он убедился в том, что Сара-биби несовершеннолетняя, он отобрал васиху от Ашура и уничтожил ее, а над Сарой-биби учредил опеку <…>
Обсудив изложенное и принимая во внимание, что обвинение против Камалетдин-ходжаева <…> ничем не установлено, наоборот, свидетелями положительно удостоверено, что как только народный судья узнал о малолетствии Сары-биби, так сам поехал и отобрал васиху от Ашуркула, что объяснения его в этой части вполне заслуживают доверия <…> уголовное преследование бывшего аштского народного судьи, киргиза [скорее всего, это ошибка, так как жители Ашта обычно именовались таджиками] сел. Ашт той же волости, Наманганского уезда, Иса-ходжи Камалетдин-ходжаева, 48 лет, по обвинению его <…> в совершении васихи от имени малолетней Сары-биби Курбаналиевой от 4 апреля 1913 года, за совершенной недостаточностью улик <…> прекратить и принятую против него меру пресечения — подписку о неотлучке — отменить…
В процитированном деле обращают на себя внимание два обстоятельства: первое — практика заключения брака в Ошобе в начале XX века, которая имела почти не прикрытый характер совершения имущественной сделки; второе — сам факт возникшего обсуждения этой практики между российскими и местными чиновниками.
Относительно практики заключения брака видно, что женщину рассматривали как своеобразный капитал, причем она ценилась не только и не столько в качестве рабочей силы или будущей матери, которая родит детей, сколько в качестве обладательницы, согласно шариату, прав собственности на имущество, оставленное после смерти близких родственников843. В данном примере маленькой девочке, которая была, видимо, единственной наследницей, принадлежал небольшой участок земли в 1,5 танапа (около четверти гектара)844. Обладательница скромного капитала тем не менее стала объектом манипуляции со стороны ее родственника — двоюродного (скорее всего, по отцу, хотя это не уточняется) брата покойного отца девочки. Сначала ее дядя воспользовался обычаем родственных браков и выдал девочку замуж за своего сына845. При этом свадебная процедура свелась к самому минимуму: какой-то старик — видимо, мулла, хотя в документе его муллой не назвали, — прочитал положенную молитву, а сама невеста даже не запомнила, что происходило. Никаких сопровождающих свадьбу праздничных ритуалов, судя по всему, не было. Участок, таким образом, практически перешел в распоряжение родственника — теперь свекра, но, поскольку юный муж вскоре умер и малолетняя вдова, не имевшая детей, должна была вернуться к матери, дядя-свекор решил оставить этот участок себе, юридически оформив его передачу в счет расходов на похороны своего сына. Для этого он обратился к бывшему ошобинскому аксакалу, нескольким местным муллам, официальному чиновнику — народному судье из Ашта и свидетелям, о которых мы толком ничего не знаем. Те, доверяя односельчанину или прикрывая его замысел, удостоверили сделку.
Другой интересный сюжет — факт вмешательства российского суда в данную ситуацию. В кишлаке никто не вел метрик и родители выдавали своих дочерей замуж, не особенно оглядываясь на формальные требования к возрасту. Об этом в принципе все родственники и соседи знали, но закрывали на такие факты глаза — как на массовую и неосуждаемую практику. Ссылка на несоответствие шариату и указание на малолетний возраст девочки появились в рассматриваемом случае лишь через несколько дней, видимо уже после того, как мать девочки подала прошение в российскую администрацию. Вот этот последний момент является самым интересным и в то же время самым непонятным. Как мать девочки решилась обвинить такое большое количество уважаемых в Ошобе и в волости людей? Как она смогла написать, сформулировать свое прошение и передать его в канцелярию уездного начальника? Делала ли она все это сама или кто-то ей помогал, на какие социальные связи или институты она опиралась? К сожалению, эти вопросы остаются без ответа. Единственное, что мы можем констатировать, — это то, что уже в Российской империи власть пыталась контролировать локальные брачные практики и оказывать на них воздействие.
Трудно сказать, насколько описанный в вышеприведенном документе случай был обычным для Ошобы или, наоборот, уникальным. По свидетельству современников (как правило, из числа колониальных чиновников), брачный обряд той эпохи в Ферганской долине выглядел несколько иначе: замуж девушек выдавали в 11–13 лет, эта церемония сопровождалась приходом сватов, неоднократным обменом подарками, выплатой калыма и многочисленными ритуалами, кульминацией которых был переезд невесты с приданым в дом жениха846. Весь этот порядок сохранялся в Ошобе по крайней мере во второй половине XX века, поэтому нет сомнений, что он существовал и раньше. Однако и случай, о котором идет речь в расследовании 1914 года, описан как проявление вполне обыденной практики, которое лишь случайно было обнаружено и пресечено. Как быть?
Была такая закономерность: чем ближе друг к другу в социальном пространстве находились заключающие брачный союз стороны, тем более сокращались программа ритуалов и, соответственно, затраты на нее — близкородственные браки позволяли серьезно экономить на свадебных расходах. И наоборот, чем дальше отстояли друг от друга стороны (особенно если невесту брали из другого селения), тем больше приходилось расходовать средств, доказывая свою состоятельность и свой статус, и тем более изощренными, пышными и многочисленными становились сами свадебные ритуалы847. Количественное соотношение тех и других браков зависит, очевидно, от объема брачного рынка внутри сообщества: когда он минимален — невест ищут за пределами кишлака и следуют всем необходимым правилам устройства свадьбы; в какой-то момент демографический рост приводит к тому, что выбор среди местных девушек становится вполне достаточным, при этом потенциальные невесты приходятся близкими родственницами женихам, что позволяет проводить ритуалы по сокращенному варианту; наконец сообщество и брачный рынок внутри него настолько увеличиваются, что в кишлаке становится легко найти партнера/партнершу не из числа ближайших кузенов, и свадебные церемонии опять превращаются в демонстрацию статуса и уважения.
Эту несложную на первый взгляд схему трудно приложить к конкретному материалу, так как отсутствуют необходимые данные о демографическом составе местного населения и роспись всех родственных связей. Однако для меня важно само объяснение, которое показывает, что брачные и свадебные практики в реальности имеют очень динамичный характер и большое разнообразие. То, что этнографами обычно описывается как традиционная свадьба в Средней Азии, может быть не единственной и даже не преобладающей — в те или иные периоды — версией среди других вариантов устройства брака. Скорее это некая идеальная, но и наиболее затратная (и запоминающаяся) норма, которой следуют при определенных обстоятельствах и от которой, когда позволяют условия, отходят848.
Свадьба по обычаю
1920–1940-е годы — возможно, самые интересные — я из анализа вычеркиваю по причине отсутствия у меня достаточного количества свидетельств в отношении предмета данного очерка. Можно только догадываться, какими были брачные и свадебные практики в то время, когда ошобинское сообщество переживало самые разнообразные экстремальные ситуации — миграции, повышенную смертность, и в частности уменьшение числа мужчин, массовый выход женщин на работу в колхозе. По воспоминаниям, в это время было много вдов, повторных браков, детей нередко оставляли на воспитание престарелым родственникам — все стабильные семейные связи в кишлаке были разрушены или, во всяком случае, сильно видоизменены. К этому надо добавить политику государства, которое постепенно, но жестко устанавливало свои правила, касающиеся норм открытости и закрытости женщин, минимальной границы брачного возраста, многоженства, регистрации браков, наследования имущества и так далее. То, что я называю традиционной свадьбой, — это некий набор ритуалов и представлений, которые в значительной мере сохранили свою местную логику, хотя и совершили определенный путь трансформаций и переделок под новые обстоятельства.
Как я уже сказал, брак в ошобинском сообществе был, по сути, заключением соглашения между двумя семьями и даже иногда между двумя широкими семейно-родственными коалициями849. В значительном числе случаев брак заключался внутри одной группы родственников и, таким образом, подтверждал, укреплял уже существующий альянс, наполнял его новыми взаимными обязательствами850. При создании такого союза очень внимательно и придирчиво учитывались все плюсы и минусы партнеров (репутация, семейная история, должности, генеалогия и родственные связи, материальный достаток и прочее), а также качества самих вступающих в брак — здоровье, внешность, образование, какие-то личные психологические черты. При сложных расчетах, в которых участвовали в том числе влиятельные посредники, исходили из того, что заключаемый союз должен быть равным, надежным и приносить взаимные выгоды. Собственно говоря, процедура заключения брачного соглашения включала в себя многосторонние и тщательные переговоры и согласования, публичную демонстрацию своих возможностей и социального статуса851. «С помощью квазитеатрального представления о себе, которое развертывает каждая группа при заключении брака, — писал Бурдье, — обе они проводят своего рода систематическое исследование, определяющее весь набор переменных, характеризующих не только супругов <…>, но также и весь род каждого»; эти переговоры «являются поводом предъявить и измерить капитал чести женщины и доблести мужчины, которыми располагают оба рода, качества сети союзов, на которые они могут рассчитывать <…>, структуру соотношения сил и авторитета внутри семейной структуры»852. За всеми этими процессами, подробно обсуждая их, с любопытством наблюдали окружающие.
Начальная инициатива была в руках матери молодого человека, которая подыскивала подходящую для него партию. При этом она либо сама перебирала известные ей семьи, либо наводила справки через соседок и родственниц, либо обращалась к свахам — своего рода брачной «разведслужбе» — женщинам, которые постоянно занимались такого рода «мониторингом» и хорошо знали местный брачный рынок. О результатах своего поиска она сообщала мужу и сыну, и те высказывали свое мнение; иногда, впрочем, сын сам обращался к ней со своими предложениями, после чего она начинала свое расследование. Родители потенциальной невесты формально были пассивной стороной, но в действительности через общих знакомых и через ту же сваху могли информировать семьи достойных, по их мнению, женихов о своих собственных предпочтениях. Разумеется, и сама девушка могла включаться в эту игру, намекая парню, который ей нравился, чтобы он уговаривал своих родителей присылать сватов. Если брак был «политическим», то есть очень важным для установления каких-то деловых и просто близких отношений между сторонами, то решение о нем, минуя женщин, принимали сами мужчины — главы двух семей853.
После предварительных намеков и разговоров в кругу женщин в дом невесты шли сваты (совчи) со стороны жениха, что считалось официальным предложением о браке. Сват имел большое символическое значение — он олицетворял тот социальный капитал и те социальные связи, которыми обладала сторона жениха. Сваты выбирались из числа уважаемых людей — стариков или тех, кто имел заметный социальный статус, также было желательно, чтобы они состояли в близком родстве и с той и с другой стороной. Однако дать согласие сразу считалось неприличным, даже если положительное мнение уже сложилось, поэтому сваты приходили трижды, если им не отказали прямо — что тоже бывало. Несколько попыток сватовства были последней возможностью для семьи невесты обсудить жениха и его семью, а также последней возможностью для девушки повлиять на мнение родителей. В третий приход сватов родители невесты должны были принять окончательное решение, в знак согласия на брак сватам вручали «белое» (оқлик): каждому свату-мужчине — легкий халат (яктак) и поясной платок (белбоғ).
Собственно свадебные мероприятия начинались с ритуала ишонтириш (или ишонч — буквально «подтверждение, доверие»)854, когда в дом невесты приезжали родители и родственники жениха и вместе с родителями невесты ломали лепешку в знак окончательного согласия на брак. Стороны показывали друг другу взаимное расположение, что выражалось в особом гостеприимстве и обмене подарками. В тот же день в дом невесты привозили юк — набор продуктов и подарков, а также козу или барана — все это родители жениха передавали родителям невесты. В ответ сторона невесты тоже отвозила подарки, правда более скромные, в дом жениха. О составе этих обменов я скажу дальше.
После ишонтириш проходили одна-две недели до самой свадьбы855. За день или два до нее начинались различные предсвадебные мероприятия. Одним из них было чтение Корана в доме жениха и отдельно в доме невесты, в обоих случаях приглашали муллу, стариков, соседей и родственников. Этот ритуал, подчеркивающий мусульманский характер происходящего, символизировал пожелание молодым благополучия и к тому же приобщал к торжественному действу старшее мужское поколение, которое в собственно праздничных свадебных делах участвовало редко. Накануне свадьбы в доме невесты устраивался также девичник, на котором подружки, как считалось, провожали невесту в новую семью.
Сама свадьба (никоҳ-тўй) включала в себя ритуал мусульманского бракосочетания и переезд молодой жены в дом мужа.
Примерно после обеда в дом невесты заходили родственницы жениха, четыре-пять женщин. Невеста выходила к ним из своей комнаты, гостьи расстилали перед ней одеяло, и она вставала на него, после чего одна из этих женщин должна была три раза приподнять ее856 и надеть ей на палец кольцо (невеста выходила в парандже, крепко сжимая пальцы в кулак, а родственницы жениха старались разжать ей пальцы), после чего гостьи возвращались в дом жениха, где для них готовилось специальное угощение (блюдо чучвара — пельмени с начинкой из чечевицы).
Вскоре после ухода родственниц жениха к дому невесты приходил сам жених со своими друзьями. Родителей девушки в доме не было, так как считалось, что они не должны участвовать в этих ритуалах и видеться с женихом. Взрослая женщина — янга (либо жена старшего брата невесты, либо жена ее дяди-тоға или дяди-амаки), которая во время свадебных и послесвадебных мероприятий постоянно находилась рядом с невестой, набрасывала на жениха купленную для него одежду (полный набор: халат857, рубашка, костюм и прочее)858. Жених с друзьями рассаживались в отдельном помещении или даже во дворе, им подавали угощение, после чего к ним подсаживались мулла и представитель-вакиль (вакил, ўкил-ота) невесты — кто-то из ее старших родственников, обычно дядя-амаки. Мулла давал несколько пояснений о важности быть мусульманином, разъяснял обязанности будущих супругов друг перед другом, просил жениха прочитать символ веры859, после чего обговаривал с представителем невесты вопрос о махре860 и спрашивал у него согласие невесты на брак (она же все это время сидела у себя в комнате, и вопрос муллы ей передавал вакиль). После получения такого согласия мулла в присутствии жениха и его друзей читал молитву и подавал жениху чашку с водой, из которой тот должен был отпить, затем чашку относили невесте (она тоже отпивала из нее) — и ритуал бракосочетания заканчивался861.
Мусульманское бракосочетание являлось обязательным элементом легитимации брака и в то же время было крайне формализовано (Илл. 32). Оно вроде бы указывало на сохранявшуюся мусульманскую идентичность общества, но при этом ритуал был настолько простым, что от людей не требовалось каких-то затрат, специальных знаний и действий, чтение молитвы можно было провести тихо, вдали от посторонних глаз, в любой обстановке.
Перед отъездом невесты в дом мужа происходил еще один игровой ритуал: жених с одним из друзей заходил в комнату невесты, которая сидела в парандже спиной к вошедшим, осыпал ее голову конфетами (в более давнее время сыпали мелкие монеты), которые подбирали ее подружки, и быстро выходил, после чего вместе со своими друзьями возвращался домой862. Только после этого невесту в парандже выводили из ее комнаты и она садилась на лошадь или на арбу и отправлялась в новый дом, где ей отныне предстояло жить. В этот момент, на публике, девушка, одетая в паранджу, громко и старательно рыдала, иногда действительно находясь в волнении, а иногда только изображая печаль. Перед входом в дом жениха ее встречали родственники и соседи последнего, невесту обводили вокруг костра и затем заводили в комнату, где для нее был отведен специальный угол, закрытый занавеской, в эту же комнату заносились все вещи, которые она с собой привозила.
Илл. 32. Мусульманский ритуал бракосочетания, 2010 г.
Любопытная деталь в этом ритуале — паранджа, то есть длинный халат с ложными рукавами, накинутый на голову, с прикрепленной к нему сеткой из конского волоса. Этот наряд полностью скрывал и фигуру, и лицо девушки, его ношение в этом случае имело исключительно ритуальный характер и символизировало скрывание не столько от мужских глаз, сколько от злых духов, которые могли бы повредить невесте в такой ответственный момент ее жизни.
На следующий день или через день после никох-туя и после того, как молодожены провели вместе ночь863, в доме мужа проводился ритуал чақирув (буквально «приглашение»), когда маленький ребенок (мальчик или девочка) поднимал с помощью скалки, которой раскатывают тесто, платок, закрывавший лицо молодой невестке (келин), а невестка в ответ кланялась (делала салом) всем родственницам жениха. В этот же день молодые ехали в дом родителей невестки, где также проводился чақирув, во время которого родители молодой впервые встречались с мужем дочери в его новом статусе, во время угощения тесть сидел за одним дастарханом с зятем, хотя они не общались, а только привыкали друг к другу. Еще через один-два дня в доме молодого мужа проводился ритуал открывания лица (юз-очар), когда мать молодого человека три раза клала в ладони невестке сливочное масло, после чего та на этом масле замешивала тесто и готовила из него блюдо ячман (заправленные топленым маслом чават — кусочки жареного теста). С этого дня невестка должна была выполнять хозяйственные обязанности в новом доме. В тот же день ритуал юз-очар проводился и в доме ее родителей и зять уже имел право общаться с ее родственниками864. На сороковой день в комнате, где жила невестка после переезда, снимали занавеску, на угощение в связи с этим событием собирались родственники, после чего свадебные ритуалы считались законченными.
Описанный здесь обрядовый цикл (описанный, безусловно, неполно и, возможно, без учета его разных версий) — это в некотором смысле реконструкция прежней локальной свадьбы в Ошобе из сохранившихся элементов, которые существуют до сих пор. Еще раз повторю, что вся логика этого цикла заключалась в установлении союза двух семейных групп путем переговоров между ними и оценки социального статуса и экономических возможностей друг друга. Смысл обрядов, следовательно, состоял в перемещении действующих лиц (самих молодых, их родственников и представителей) между домами жениха и невесты. Оно сопровождалось ритуалами провожания и встречи/знакомства с новыми родственниками, обставлялось многочисленными символическими/магическими действиями, в том числе и с мусульманским содержанием. Сценарий обрядов включал в себя элементы трагедии, связанной с расставанием, и предохранение от разного рода опасностей, что предполагало полную изоляцию невесты от внешних взглядов и вообще сегрегацию мужского и женского пространств.
Ритуалы и вещи
Локальный свадебный ритуал — это не только двустороннее движение людей, но и двустороннее движение вещей. Постоянные обмены начинались со сватовства и заканчивались на чақирув, состав подарков и отдарков, их примерная стоимость, момент вручения — все это регламентировалось и зависело от социального статуса человека, от близости его отношений прежде всего с родителями (а также с дедушками и бабушками) молодоженов и, соответственно, от его роли в самих ритуалах.
Важным элементом именно свадебного дарообмена являлись вещи (қалин865), которые сторона жениха передавала в дом невесты в день ишонтириш (или чуть позже), и вещи (сеп), которые молодая жена привозила с собой в дом своего мужа уже в день никох-туя. Набор этих вещей, с одной стороны, был определен устоявшимися локальными практиками и представлениями о том, что нужно дарить в таких случаях, а с другой стороны, служил предметом переговоров между семьями жениха и невесты, а также способом демонстрации своего материального достатка и социального положения866.
Ошобинка Т. родилась в 1913 году, а возрасте 12 лет вышла замуж за Т. Б. Ее сеп включал в себя шесть платьев-кўйнак, одно платье-минсак, пару калош-кавуш, халат-чапан, жилет, одеяло-кўрпача, одеяло-кўрпа, половик-кигиз. Выкуп-қалин состоял из 600 блинов-чалпак, одной пиалы топленого масла-еғ, 50 кг риса, мешка муки, одной овцы-қўй, одного козла-сарқа, двух коз-эчки, а также трех-четырех комплектов одежды для родителей невесты. За восемьдесят лет состав вещей, циркулирующих во время свадебных мероприятий, изменился, а их общее количество возросло.
В начале 1990-х годов в Ошобе в момент заключения соглашения о браке или сразу после него из дома жениха в дом невесты привозили два тюка хлопка, дрова или уголь, одного козла-сарқа, а также продукты — два мешка муки, мешок риса, 10 кг хлопкового масла оқ-еғ (раньше — в 1980-е годы — 35 кг сливочного масла сариқ-еғ), одну-две коробки конфет и печенья (раньше пять коробок), 100 блинов-чалпак (раньше 200 штук). Продукты (и козел) предназначались для устройства хатми-қуръон и вечеринки-девичника в доме невесты, а хлопком набивали одеяла, которые невеста готовила для своего сеп. На этом же этапе сторона жениха передавала в дом невесты полный комплект одежды для новобрачной: один джемпер, две пары туфель, шесть платьев-кўйнак (раньше 10–12), шесть обычных платков-рўмол (раньше 10–12) — все эти вещи также включались в сеп. Кроме того, каждый из членов семьи невесты получал сарпо (или устибаши — буквально «с ног до головы») — полный комплект одежды (рубаха или платье, поясной или головной платок, халат и прочее), но эти подарки тут же компенсировались аналогичными сарпо, которые из дома невесты отвозили в дом жениха для его родственников.
Помимо всех этих вещей сторона жениха передавала семье невесты 1–2 тыс. рублей, которые назывались сут-ҳақи — буквально «компенсация за материнское молоко»867. Это символизировало тот факт, что девушка выкупáется у матери и отныне принадлежит другой семье, хотя, разумеется, никто буквально так не воспринимал эти подарки, а все смотрели на них как на подтверждение взаимного уважения и взаимных обязанностей.
Накануне или в день никох-туя из дома жениха в дом невесты привозили еще 100 блинов-чалпак (раньше 200 штук) и оставшуюся часть подарков для невесты, которые входили в ее сеп: шесть платьев (раньше 10–12), шесть платков (раньше 10–12), пальто, плащ, джемпер, две пары обуви (одна из пар — туфли, другая — калоши), духи и украшения (Илл. XX, XXI). Набор одежды включал в себя, таким образом, обычные для молодой женщины предметы, в том числе и «европейские», которые стали обязательной частью повседневного гардероба. В качестве подарка в дом родителей невесты пригоняли также овцу и трех коз — их называли никоҳка, то есть «на никох»; этих животных резали тут же для угощения гостей либо оставляли у себя как своеобразный приз или небольшую компенсацию за организацию утомительных свадебных ритуалов.
Наконец, после мусульманского бракосочетания, когда новоиспеченная невестка переезжала в дом мужа, вместе с ней в путь отправляли сеп, о котором я уже упоминал. Сеп — это не подарок, а личное имущество жены и вещи, которые она вкладывала в обустройство вновь созданной семьи. Но, конечно, размеры этого имущества и его стоимость учитывались при расчетах дарообмена.
Сеп включал в себя одежду и подарки, которые жених привозил и дарил невесте в предсвадебный период. Кроме этих подарков в него входили вещи, которые дали невесте ее родители: какое-то количество868 платьев, головных платков и другой одежды, восемь больших одеял-кўрпа (раньше десять), шесть — восемь маленьких одеял-кўрпача, восемь пар подушек (раньше десять пар — каждая пара своей расцветки), один бахмал (бархатное украшение стен комнаты вдоль потолка), занавески на все окна, занавески для ниш (куда складываются одеяла), свадебная занавеска (гўшанга, в местном произношении кўшагул), диван, шкаф (жавон), два ковра и два паласа, сервант, сундук, чашки, тарелки, пиалы и прочее. Те, кто был побогаче, могли к этому набору что-нибудь добавить, а те, кто победнее, — наоборот, исключить какие-то вещи. В это имущество молодой пары родители мужа также кое-что добавляли — половик, ковер, шесть больших и четыре маленьких одеяла, шесть пар подушек. К слову, большое количество одеял и подушек, которые раскладывались в стенных нишах и в комнате, не столько было необходимо для семейного быта, сколько служило символом благополучия и своеобразным украшением внутреннего убранства.
Говоря о значении всего этого дарообмена, советский этнограф Ф. Д. Люшкевич писала, что калым и приданое создавали отношения взаимной поддержки и доверия между вступающими в родство семьями. «Характер расходов брачующихся сторон, — добавляла она, — может быть учтен только в совокупности предсвадебных, свадебных и послесвадебных расходов и учета всех участников торжества»869. Подсчитать общие расходы сторон непросто870, в том числе и потому, что часть вещей в буквальном смысле слова сначала передавалась из одних рук в другие в виде калыма, а потом возвращалась обратно уже в виде приданого871, то есть проделывала круговые движения. Можно лишь заключить, что логика дарообмена состояла в том, чтобы найти баланс в отношениях между двумя семейными группами, которые вступали в родство, а стремление показать свою материальную состоятельность было неотъемлемой частью брачного переговорного процесса.
Итак, начиная с 1950—1960-х годов свадебные обряды исполнялись по указанному, довольно строгому сценарию, которого все старались пунктуально придерживаться. Он был общим для всех жителей Ошобы, хотя, конечно, могли быть различные вариации872 или даже какие-то чрезвычайные исключения. Бракосочетание по упрощенной версии, как это произошло с Сарой-биби в 1913 году, в данный период уже не практиковалось.
Формирование единообразного сценария объяснялось тем, что, как я уже говорил выше, местный брачный рынок вырос и браки внутри самой Ошобы начали заключаться на более дальней родственной и социальной дистанции, а последнее требовало демонстрации обеими сторонами своего статуса. Скрупулезное следование всем ритуальным правилам стало важным элементом социальных отношений. Эти отношения регулировались понятием равенства: в одной и той же семье ни один из сыновей и ни одна из дочерей не должны были получить какого-либо преимущества — для всех детей старались устроить примерно одинаковые по затратам свадьбы, что, разумеется, было бы труднее сделать, если бы при исполнении ритуалов широко допускалась импровизация. Это был долг (қарз) родителей перед детьми. Принцип равенства подразумевал также, что свадьба не может быть хуже, чем у соседей и родственников, — это тоже нанесло бы ущерб престижу семьи, социальному статусу ее членов и самих вступающих в брак молодых людей. Поэтому все старательно следили за принятым порядком, удивительно точно запоминали основные, необходимые эпизоды ритуала, и в первую очередь состав и стоимость подарков — со стороны жениха и со стороны невесты, от знакомых и от родственников. Вещи, которые циркулировали в процессе дарообмена, учитывались, калькулировалась их стоимость, все это записывалось и хранилось в памяти организаторов ритуала — иногда всю жизнь — как предмет гордости и воспоминание о социальном триумфе.
Надо учитывать также, что социальная политика государства привела к уменьшению экономического разрыва между разными группами населения, поэтому большинство ошобинского общества оказалось примерно одинакового достатка и социального положения, что тоже способствовало утверждению принципа равенства в ритуально-брачной практике. Конечно, социальные различия имели место, и те, кто был беднее, как я уже говорил, могли сокращать расходы и ритуалы, что воспринималось окружающими с пониманием, хотя, как правило, даже люди с небольшими доходами старались приложить максимум усилий и потратить больше времени на подготовку празднеств, которые бы более или менее соответствовали среднему по меркам кишлака стандарту. Люди побогаче, напротив, могли позволить себе более щедрые подарки и дополнительные траты — например, на известных музыкантов и певцов, на большее количество машин и более обильное угощение. Они первыми устанавливали более высокие, и соответственно более престижные, стандарты, которые становились желанной верхней планкой для всех остальных членов ошобинского сообщества. По мере того как благосостояние населения росло, к этой верхней планке постепенно приближалось все больше семей; правда, одновременно с этим зажиточные ошобинцы поднимали планку расходов на новую высоту.
Установлению единообразия ритуалов способствовало и то, что все члены сообщества многократно присутствовали на такого рода мероприятиях — и в качестве обычных зрителей, и в качестве участников (родственников, соседей, коллег, приятелей), и, наконец, в качестве новобрачных. Вступление в брак было, пожалуй, самым частым, более частым, чем махалля-туй873, поводом для торжества, поскольку каждой семье приходилось по полной программе женить или выдавать замуж всех своих детей. Свадьбы шли в Ошобе на протяжении всего года — особенно в те сезоны, когда было относительно немного работы; нередко в субботу и воскресенье в кишлаке справляли сразу несколько таких праздников и кто-то из зрителей или участников (если и здесь и там были его близкие знакомые) успевал посетить несколько ритуалов.
Все детали проведения ритуалов, конечно, запоминались и затем воспроизводились как норма. В начале 1990-х годов стало входить в общую моду фиксирование основных свадебных эпизодов на видеокамеру. Камера тогда была дорогой редкостью, поэтому снимать торжества приглашали специальных людей, иногда не ошобинцев. Следовательно, к запоминанию порядка проведения ритуала в процессе пассивного или активного участия в нем добавилось и запоминание в результате просмотра фильмов, то есть своеобразного самообучения, что еще больше сужало возможность импровизации. К тому же одним из эффектов этого новшества стала постановочность некоторых ритуальных действий — их стали производить специально на камеру.
Государство и брак874
На протяжении всего XX века свадебные (и не только) обряды, расходы на них и обмены подарками вызывали критику и осуждение. Причем, что важно отметить, критиковали и осуждали обрядовые практики представители самых разных социальных и политических сил.
Российская имперская власть оставила «обычаи» под контролем местной, как тогда говорили — «туземной», администрации и судов, которые избирались самим населением. Однако положение женщин, и в частности ранние браки, беспокоило колониальную власть, которая заявляла о своей цивилизаторской миссии в Азиатском регионе. При этом возможностей для контроля за процессом заключения браков у российских чиновников не было, поэтому дело ограничивалось единичными случаями, которые попадались им на глаза и становились предметом разбирательства, подобно описанной выше истории маленькой Сары-биби. Что интересно, гораздо более критическую позицию по отношению к свадебным практикам занимали некоторые представители среднеазиатской элиты. Одни из них ссылались на то, что эти ритуалы прямо или косвенно нарушают нормы шариата — не соблюдают оговоренный в них возраст брачующихся, нарушают право женщины на махр, не соответствуют тем или иным мусульманским моральным принципам. Другие апеллировали скорее к рациональному осмыслению пользы общества, говоря о том, что большие расходы на свадьбу разоряют людей и ставят их в зависимость от кредиторов875. В 1917 году, уже после крушения империи, популярная мусульманская организация «Шурои Исламия» (Совет ислама) создала специальную комиссию, которая предложила населению региона в условиях экономического кризиса целый ряд шагов по сокращению расходов на свадьбы, включая отмену помолвки, ритуала открывания лица и других мероприятий, а также уменьшение размеров приданого и отказ от калыма876.
Советская политика оказалась гораздо более решительной: была введена норма обязательной регистрации брака в государственном органе, под страхом уголовного наказания запрещены калым и многоженство, установлен нижний возраст для вступления в брачные отношения и так далее. Через разнообразные институты — школы, вузы, партийные, комсомольские и женские организации, через средства массовой информации, кинофильмы и художественную литературу — власть доводила до населения свою идеологическую установку — необходимость борьбы с пережитками прошлого, в разряд которых включалось большинство местных брачных обычаев и практик. Время от времени — в 1930-е, 1960-е и в начале 1980-х годов — активность действий в этом направлении возрастала.
Напомню, что советскую власть представляли далеко не только «европейцы», но и множество участвующих в реформах и сочувствующих им местных жителей, которые также были сторонниками изменений. Это объясняет парадокс, который заключался в том, что те же самые ритуалы и обычаи, которые должны были, если следовать идеологической доктрине, каким-то образом искореняться или исчезать как пережитки прошлого, одновременно канонизировались в качестве национальной культуры и национальной традиции, требующей собирания, фиксации и сохранения. Эта двусмысленность, хотя и вносила некоторую путаницу и сумятицу в головы людей, тем не менее была удобным средством для их общения с властью — она позволяла легко переключаться с одного языка на другой, то вставая на сторону реформ и борьбы, то оппонируя им и сопротивляясь. Приемы подобного переключения были хорошо освоены местными жителями, поэтому из описания свадебного ритуала исчезли такие слова, как қалин и патаха-тўй, которые вызывали идеологическое отторжение, — они были заменены на более нейтральные выражения. Манипуляция словами позволяла оставаться лояльными власти и одновременно избегать полного контроля с ее стороны.
В советское время хорошо была освоена практика имитации деятельности на разного рода митингах и собраниях, в отчетах и резолюциях. Несмотря на множество самых решительных заявлений и создание комиссий «по борьбе с», в реальности все ограничивалось несколькими показательными примерами вроде свадьбы К. и К-хон, которых было достаточно для отчета о результатах этой самой борьбы. Из воспоминаний следует, что именно в 1970-е годы, вслед за ростом относительного благополучия, туи становятся еще более масштабными, подарки — еще более дорогостоящими. Люди, не имея возможности капитализировать свои растущие доходы в экономической сфере, вкладывали их в престижное потребление и конвертировали в социальный капитал, то есть в создание и сохранение социальных сетей и укрепление своей позиции внутри них, что, конечно, приносило затем и материальную отдачу. Других инструментов, кроме туев, для этого было не много, поэтому увеличение расходов на ритуалы и, соответственно, умножение самих ритуалов было довольно прагматичной стратегией, даже если эта прагматика была не результатом рационального расчета, а лишь поведением, ориентирующимся на поведение других.
Вместе с тем сама риторика борьбы с пережитками прошлого сохранялась и занимала умы чиновников. В 1986 году на заседании ошобинской комиссии, созданной для «популяризации новых обрядов», обсуждались вопросы не только об уменьшении затрат на проведение туя, но и о том, чтобы запретить употребление спиртного877. В прошлом тема спиртного в официальных документах не звучала, на практике же открытое появление спиртного на свадебных столах рассматривалось даже как реформа локальных представлений, которые прежде исключали публичное употребление алкогольных напитков. Из рассказа К. следует, что в 1966 году именно спиртное было одним из главных знаков новизны (комсомольскости) его необычной свадьбы. В 1970—1980-е годы спиртные напитки превратились в обязательный и массовый атрибут ошобинских свадебных вечеринок в доме невесты и в доме жениха. При этом, правда, продолжало существовать множество способов сделать вид, что прежние запреты не нарушаются: спиртное часто не ставили на стол, а разливали с рук, иногда приносили в чайниках и называли оқ-чой (белый чай) и так далее. Такими нехитрыми приемами достигался определенный баланс между новыми практиками и сохраняющимся языком мусульманской самоидентификации. Антиалкогольная кампания, которую начала в 1985 году Москва, когда во главе СССР встал Михаил Горбачев, с одной стороны, превратила спиртные напитки в полулегальный товар, а с другой — резко повысила их дефицитность, а значит, реальную и символическую цену. Теперь уже запрет таких напитков был нарушением массовых практик, и опять — с подачи власти — именно К., устраивая свадьбу для своего сына, выступил в роли передового, как он считал, борца за нововведения в местные привычки.
В начале 1990-х годов, с наступлением политического и экономического кризиса, социальное положение и материальные возможности различных социальных групп были подорваны. Эта ситуация изменила многие тенденции. Во-первых, все группы, включая прежнюю элиту, вынуждены были сокращать расходы на ритуалы и подарки, для чего одним пришлось вернуться к советской риторике борьбы с пережитками, а другим — искать аргументы в религиозной риторике борьбы за мусульманский образ жизни. Во-вторых, новые политические и экономические реалии привели к перераспределению материальных ресурсов и возникновению новых групп элиты, не связанных напрямую с государством и имеющих экономические и социальные интересы в странах мусульманского мира. В результате появились новые образцы престижного поведения, которые делали акцент на мусульманском бракосочетании, «мусульманских» пище и одежде, «мусульманской» сегрегации полов и «мусульманском» осуждении музыки и танцев878. Такие мусульманские свадьбы (исломий-тўй) в 1995 году в Ошобе не проводились — ходили только разговоры о том, что они уже кем-то где-то справляются. Но в конце 1990-х и начале 2000-х годов такие свадьбы стали довольно популярным, хотя и не преобладающим явлением в регионе. Значительная же часть населения, как только его доходы опять стали расти, вернулась к престижному потреблению как способу быстрого повышения и демонстрации своего социального статуса.
Несмотря на то что коммунистическая риторика ушла в прошлое и прямое влияние России на местные общества исчезло, риторическое и административное стремление власти к реформированию обрядовых практик не только сохранилось, но даже усилилось. Правда, к 1995 году, когда я проводил свое исследование в Ошобе, эти идеологии еще не сформировались. Но, к примеру, уже в 1998 году в Узбекистане был издан президентский указ, который предлагал ограничивать расходы на проведение обрядов. Вот как звучала его мотивировочная часть879:
В последнее время во многих местах нашей страны в проведении свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов, мероприятий, посвященных памяти усопших, допускаются такие пережитки прошлого, как тщеславие, помпезность, чрезмерная расточительность, пренебрежение народными обычаями и традициями, щегольство, пренебрежение к нуждам живущих вокруг людей <…> Помпезное проведение мероприятий, посвященных памяти покойных, также наносит ущерб нашим национальным обычаям, оставшимся нам от наших предков, дискредитирует наши священные традиции <…> Люди выражают свои требования для устранения таких негативных явлений. Они предлагают и советуют излишние средства, остающиеся от удовлетворения своих потребностей, использовать — согласно древним обычаям народа — на благотворительность, помощь нуждающимся, одиноким, благоустройство окружающей территории, на строительство мостов, дорог, на производство и такими действиями завоевать истинное уважение соотечественников.
В этом документе легко нашлось место и отпору негативным явлениям, «чуждым природе народа», и истинному значению, сути «священной» религии, ценностей, обычаев и традиций, и новым, образцовым традициям, соответствующим требованиям времени, взглядам народа.
Таджикская власть предприняла еще более радикальный шаг, приняв в 2007 году закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», в котором подробно регламентировался порядок проведения ритуалов880:
Настоящий Закон упорядочивает традиции, торжества и обряды с учетом потребностей развития общества и направлен на защиту истинных ценностей национальной культуры и уважение к народным обычаям для повышения социального и экономического уровня жизни граждан Республики Таджикистан. Целью настоящего Закона является защита социальных интересов народа Таджикистана, содействие снижению уровня бедности и предотвращение излишних расходов, наносящих серьезный ущерб экономическим интересам и моральным устоям жизни граждан. Закон также направлен на обеспечение прав и свобод граждан и общественного порядка <…>
Статья 10. Свадьба по случаю бракосочетания.
Свадьба по случаю бракосочетания проводится добровольно в течение одного дня с банкетом до 150 человек и свадебным угощением до 200 человек за счет обеих сторон.
Организация мероприятий «фотиха» (обряд обручения), «маслихат-оши» (совет по подготовке торжества), «идонабари» (праздничное одаривание), «сандукбарон», «сарупобинон» (демонстрация одежды невесты и жениха), «чойгаштак» (торжество для подруг невесты), «раисталбон», «кудоталбон» (своячество), дарение одежды для гостей обеих сторон и родственников жениха и невесты запрещаются, за исключением вручения подарков жениху, невесте и их родителям.
Мероприятия «домодталбон» (обряд первого посещения зятем дома родителей жены) и «арусбинон» (обряд знакомства новобрачной с семьей мужа — смотрины) проводятся добровольно в семейном кругу с участием до 15 человек <…>
Церемония государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния и джамоатах проводится с использованием не более четырех легковых автомашин <…>
Свадьбы и обряды проводятся в выходные дни с 10 до 23 часов, а в рабочие дни — с 18 до 23 часов. Продолжительность проведения свадеб и обрядов устанавливается до трех часов.
Такое настойчивое желание исправить обряды нельзя объяснить только советским наследием. Как я уже отмечал выше, последнее всегда включало в себя различные элементы (общесоветские и советско-национальные) и по-разному формулировалось в те или иные периоды истории. Скорее можно говорить о продолжающихся попытках контролировать общество и манипулировать им, об игре понятиями «современность» и «традиция», позволяющей любой власти легитимировать свое вмешательство в жизнь локальных сообществ.
Новая свадьба
Вернемся в Ошобу 1960—1970-х годов и посмотрим, как К. в своем рассказе описывал собственную комсомольскую свадьбу. Он обратил внимание на то, что главным событием свадебного торжества было публичное угощение, которое проводилось не в жилом доме, а на площади-пустыре рядом со школой им. М. Горького. Во время этого угощения выступали профессиональные артисты, а в самом угощении участвовали все желающие, в том числе приезжие из других кишлаков, которых привезли для поддержки молодых. При этом, хотя было много посторонних людей, не возникло никаких конфликтов. На совместном мероприятии собрались мужчины и женщины, все сидели «по-русски/по-европейски» — за столами, свадьба продолжалась до поздней ночи. В неформальном интервью К. добавил, что на угощении открыто предлагались спиртные напитки.
В этом случае весь смысл свадебных обрядов оказался буквально перевернут по сравнению с традиционным сценарием. Вместо ритуалов перемещения между домами был проведен один публичный ритуал угощения с участием массы людей, не имеющих прямого отношения к семьям жениха и невесты. Вместо изоляции молодых и половой сегрегации участников мероприятия мы видим появление женщин, и даже невесты, в публичном пространстве вместе с женихом и другими мужчинами. Все выражения скорби, связанной с уходом невесты из родного дома, были заменены на демонстрацию радости по поводу соединения влюбленных, ритуалы же предохранительной магии — на ритуалы поздравлений и пожеланий. К. и К-хон не могли пойти так далеко, чтобы отказаться и от мусульманского бракосочетания, но проведено оно было без санкции родителей. Остальные мусульманские символы на этой свадьбе присутствовали на втором плане — в приватной сфере, а на первый план были вынесены советские знаки — в напитках, а также, видимо, в еде, одежде, оформлении застолья и помещений. Разумеется, такой радикальный слом всей логики свадебного цикла обуславливался тем, что сторона невесты отказалась принимать участие в церемониале, то есть свадьба потеряла свой основной смысл — заключение союза между двумя семейными группами. Не было ни многочисленных взаимных посещений сторон, ни обмена подарками, ни калыма, ни приданого.
Другими словами, вместо локальных практик во время свадьбы К-хон и К. были воспроизведены совсем другие практики, которые рассматривались как комсомольские и советские и, разумеется, тоже обладали легитимностью в глазах людей. При этом сами новые практики не были взяты откуда-то в готовом виде, поскольку никакого обязательного советского свадебного ритуала не существовало, а были изобретены опять же в локальном контексте, с местным пониманием того, чтó такое советскость и комсомольскость. Участники нового ритуала, возможно, исходили отчасти из предположения, что советское — это когда в публичном пространстве разрешено все то, что раньше было запрещено. Или же они копировали телевизионный образ советских праздников (например, модель «голубых огоньков», показ которых начался с 1962 года), где мужчины и женщины сидели рядом за столиками, уставленными спиртным, и смотрели выступления артистов.
Сказанное, разумеется, не означает, что первая комсомольская свадьба в Ошобе никак не была привязана к локальным привычкам. Приглашение девушек, которые должны были выступить в роли подружек невесты, говорит о том, что этот обычай — и наверняка многие другие — продолжал соблюдаться, пусть и в виде имитации. Также не случайно местом празднования была выбрана площадь Бозорбаши, где традиционно проводились различные общеошобинские мероприятия, начиная с выборов аксакала во времена Российской империи или даже с более раннего времени. Локальность — география кишлака, социальные связи, представления — была неизбежно вписана в ритуал, который воспринимался как нелокальный.
Так или иначе, прецедент с К. и К-хон сделал вопрос об изменениях в свадебных практиках в кишлаке вполне назревшим и допустимым в сознании местного населения. Целый ряд социальных групп выступал за то, чтобы некоторые элементы свадьбы К. и К-хон сделать общими для ошобинцев.
Наибольшую активность проявляла в данном вопросе местная власть. Для нее это был способ, с одной стороны, продемонстрировать свою лояльность советской власти, а с другой — получить еще один инструмент воздействия на местное сообщество. Хотя К. в своих воспоминаниях описывал историю проведения первой комсомольской свадьбы в кишлаке как свою заслугу и заслугу своей будущей супруги, в реальности, конечно, удача им сопутствовала во многом благодаря тому, что в 1958 году комсомол при поддержке государственной власти объявил на всей территории СССР массовую кампанию по исправлению прежних «неправильных» обрядов на правильные — советские. В 1960-е годы она как раз стала набирать обороты. И как все такого рода кампании, реформирование свадеб требовало вмешательства чиновников, показательных акций и отчетов о достигнутых результатах. В том же 1966 году, когда состоялась свадьба К. и К-хон, с докладом на эту тему на собрании сессии депутатов сельского совета выступил председатель колхоза Ходжаназаров — и была создана целая комиссия, которая должна была отвечать за данное направление работы881. Вопрос о калыме обсуждался вновь в 1970 году, после решения Верховного Совета Таджикской ССР по этому поводу, и в очередной раз была создана комиссия в Ошобе для контроля за свадьбами882. Обсуждение вопросов о «борьбе с религией» и «уничтожении недостатков при проведении туев» регулярно продолжалось и в 1970—1980-е годы883.
Другой группой поддержки изменений стали ошобинские интеллектуалы — в первую очередь учителя, а также врачи, колхозные специалисты, вообще люди с высшим образованием884. Не входя напрямую в административную власть, они тем не менее получали приличное вознаграждение (материальное и социальное) от государства и ассоциировали себя с ним и его идеологией, имели доступ к значимым социальным сетям за пределами Ошобы, подолгу жили в городе, имели там знакомых и сами, в свою очередь, ориентировались на городские, в значительной мере уже «европеизированные» стандарты и практики проведения ритуалов как на более престижные. Наличие такой группы людей само по себе создавало эффект домино: остальные ошобинцы стремились подражать им, рассчитывая получить схожие символические дивиденды или просто не желая отставать от модных веяний времени.
Наконец, изменения в свадебных ритуалах поддерживали сами молодые люди, большинство из которых в 1970—1980-е годы имели по меньшей мере среднее образование и прошли интенсивную советскую социализацию в школах, вузах, армии. Любовная романтика приобрела для них важное значение, поэтому им нужны были знаки ее присутствия в ритуалах, даже если в действительности брак заключался под давлением семьи885. Нельзя также забывать, что все эти изменения происходили не только в Ошобе, но и в обществе в целом, поэтому население кишлака следовало общим тенденциям и общим вкусам886.
Стремление к переменам привело к тому, что в традиционную свадьбу, не отменяя ее, были внесены новые элементы, смысл которых противоречил традиционной логике. Их было два — поездка на официальную регистрацию брака в загс (в сельсовет) и коллективное угощение.
Накануне или утром в день переезда в дом жениха молодые торжественно отправлялись в загс, который находился в здании сельсовета, для официальной регистрации брака (Илл. 33). Негласные правила требовали ехать в сельсовет обязательно на торжественно украшенной машине, желательно престижной модели, даже если пешком это расстояние можно было пройти за 10 минут. В загсе молодых сопровождали друзья жениха и подруги невесты — все они дарили подарки новобрачным и сами в ответ получали символические подарки. Судя по фотографиям 1970-х годов, жених при этом одевался в белую рубашку, темный костюм, галстук, его одежда была подчеркнуто «европейской», свадебное же платье невесты представляло собой удивительное сочетание элементов местного костюма (шаровары, туникообразное платье, накинутый на голову платок и тюбетейка) и как бы неместной их трактовки — я имею в виду белый цвет платья и платка, что явно было отсылкой к белым свадебным платьям «европейского» фасона. В 1980-е годы невесты стали надевать современное свадебное платье, без шаровар и иногда с прозрачной вуалью887. Во время торжественной церемонии у молодых людей спрашивали согласие на брак, после чего они расписывались в документах и обменивались кольцами. В официальный ритуал было введено спиртное — «Советское шампанское», которое разливали молодым и свидетелям (хотя невеста и ее подруга лишь чокались, но не пили его). После оформления бракосочетания работников сельсовета одаривали небольшими подарками и угощением, после чего вся компания фотографировалась у небольшого памятника погибшим в Великой Отечественной войне, который находился около сельсовета, и отправлялась на машинах на небольшой пикник где-нибудь на природе (например, в Чинар-бува). Таким образом, ритуал регистрации брака в загсе целиком копировал образцы общесоветского ритуала бракосочетания, которые приобрели популярность в городах по всему СССР начиная с 1960-х годов и транслировались через телевидение, кино, литературу или посредством прямых инструкций работникам загсов.
Илл. 33. Молодожены в загсе (1970-е гг.)
К слову, любопытно отношение к официальной регистрации в загсе. Очень долгое время она не была обязательным элементом свадьбы, более того — нередко происходила только после рождения первого ребенка888. Усилиями власти в 1960—1970-е годы государственная регистрация брака в момент переезда невесты к мужу стала правилом, нарушение которого грозило разного рода санкциями и неприятностями. При этом, став обязательной, официальная регистрация все равно не воспринималась в качестве момента окончательного заключения брака: поездка в загс могла состояться до мусульманского бракосочетания и до никох-туя — и все это время, пока остальные ритуалы не совершились, официальные муж и жена продолжали оставаться женихом и невестой.
Второе новшество в свадебном обряде — стол (иногда его называли қизил-тўй, то есть красная пирушка). Название подчеркивало, что вопреки местной привычке сидеть на полу, на разостланных одеялах, гости на этом ритуале сидели за столами. Выглядело это обычно так. После переезда в дом жениха невеста снимала паранджу и местную праздничную одежду, опять переодевалась в белое платье, в котором была в загсе, и появлялась с женихом-мужем на большой вечеринке в доме последнего. Молодые занимали место во главе столов, расставленных обычно во дворе прямоугольником. Мужчины и женщины рассаживались в общем пространстве, но за отдельными столами. Обычно на таком мероприятии был ведущий — кто-нибудь из местной власти, позднее стали звать профессионального тамаду. На вечеринке пели и играли приглашенные профессиональные музыканты, в репертуар включали советские русскоязычные песни, гости в определенном порядке (сначала родственники по степени близости, потом друзья) один за другим говорили поздравительные слова и танцевали — сначала танцевал выступающий, потом все вместе. Как и во время махалля-туя889, на свадебной вечеринке существовали своя собственная иерархия и распределение ролей: кто-то угощался за общим столом, кто-то — небольшие компании мужчин — уединялся в отдельных комнатах, и туда также подавали кушанья. Гостям предлагали «русское» (советское) угощение, в которое помимо спиртных напитков входили сыр, колбаса, салаты (нарезка овощей и мяса в майонезе), корейские маринованные и соленые овощи, конфеты и так далее. Все это символизировало особую роскошь, радость и веселье, но, конечно, перемежалось местной выпечкой, лепешками, чаем и сухофруктами. Соотношение блюд в праздничном меню зависело от смелости и «продвинутости» устроителей свадьбы, но общесоветские кушанья присутствовали у всех обязательно.
Некоторые семьи могли себе позволить провести дополнительную большую вечеринку, похожую на стол, в доме невесты накануне ее переезда к жениху — под видом девичника, особенно если девушка уезжала жить в другой кишлак. На эту вечеринку приглашали родственников, соседей, знакомых, коллег по работе и устраивали им угощение со спиртным и танцы под живую музыку.
Возникший в результате принятия нововведений ритуальный бриколаж890 соединял в себе вроде бы совершенно несоединимое: логика приватной изоляции и половой сегрегации, предохранительной магии и драматизма пересекалась с противоположной логикой — открытой публичности и полового смешения в одних обрядовых эпизодах, любовной романтики и магии пожеланий — в других. На протяжении всех свадебных торжеств жених с невестой (и прочие участники мероприятий) в буквальном смысле слова постоянно перемещались не только между домами своих родителей, но и из одного символического пространства в другое. Все эти перемещения сопровождались переодеванием — то в «европейскую» одежду, то в традиционную, включая паранджу, которая, кстати, уже не использовалась в повседневной жизни. Эти перемещения были связаны со сменой обстановки, со сменой типа праздничной пищи, а также стиля поведения участников ритуальных действий — то они смешивались независимо от пола и возраста, то опять разделялись на изолированные группы, то читали мусульманские молитвы, то распивали спиртные напитки. Рядом с одеялами и коврами, которые можно было бы отнести к старинной культуре местного населения (хотя исходные материалы и способы изготовления, рисунки и расцветки тоже претерпели модификацию), появились «европейские» мебель и одежда. Первые и вторые вперемежку наполняли после свадьбы домашнее пространство новой семьи, превращая приватную обстановку в напоминание о своей двойной — одновременно и традиционной, и современной — идентичности.
Советские символы встраивались не просто в речь, в одежду, в пищу, в этикет — они встраивались в местные логики, не нарушая их общей соразмерности, но добавляя им новую официальность/легитимность. Это создавало более сложное пространство, более широкий репертуар смыслов и знаков и увеличивало число каналов социального взаимодействия, что давало возможность гибко расширять и направлять социальные сети, не ограничивая их признаком родственной близости. А это, в свою очередь, позволяло вовлечь в социальные взаимодействия во время ритуалов больше фигур, больше ролей и позиций, больше ресурсов. Новые знаки и смыслы не вытесняли местные логики, а над-, при— или подстраивались к ним, они не сливались до конца, не растворялись в принятых традициях, а различались, располагались и осмысливались по отдельности. Но в том калейдоскопе или бриколаже, который образовывался, каждый фрагмент и узнавался (подлежал отдельной интерпретации), и рассматривался как часть целого — общей картинки, имевшей свои собственные цель и смысл. Так возникал эффект двойственности, двусмысленности.
Хочу добавить, что новые элементы получали не единственную, а множество интерпретаций. Упомяну в этой связи о модном веянии, которое появилось в Ошобе. На одной из свадебных вечеринок в 1995 году я наблюдал неожиданное и странное зрелище: кроме музыкантов и певцов родители жениха пригласили танцовщицу из Ходжента, которая развлекала присутствующих своим представлением. Обычно на такие вечеринки собирались молодые неженатые ребята и незамужние девушки, чтобы потанцевать и понаблюдать в том числе за своими вероятными сужеными, здесь присутствовало также много детей и молодых замужних женщин, для которых свадьба служила поводом отдохнуть и встретиться с подругами. Женатые мужчины чаще всего уединялись в своих компаниях, вели разговоры и выпивали. И вот в этой преимущественно женско-юношеско-детской аудитории выступала с танцевальной программой взрослая, около двадцати пяти — тридцати лет, женщина, полуоткрытая одежда и все движения которой имели подчеркнуто эротический характер. Мне сложно сказать, какие эмоции вызывало у зрителей происходящее, как они воспринимали это развлечение, но противоречие между составом аудитории и выступлением этой танцовщицы было налицо.
Один мой собеседник так объяснял появление танцовщиц на свадьбах:
Они приглашались на свадьбы для операции, называемой на их языке «пылесосом». Одна танцовщица могла собрать с подвыпивших парней больше денег за вечер, чем платил хозяин за приглашение музыкантов. Считалось шиком засунуть денежку под одежду танцовщицы, а потом на посиделках рассказывать, как ты это сделал. Обычно танцовщицы просто договаривались с певцами и ансамблями второстепенного разряда. Уважающие себя и обеспеченные артисты имели в наличии хорошую танцовщицу, профессиональную, которая не просто собирала деньги, а именно танцевала, как это ни странно звучит! Танцовщицами обычно становились девушки легкого поведения, которые в «несезон» занимались самым древним в мире ремеслом. Вот откуда эротические танцы. Иногда прямо на свадьбе можно было договориться за большую сумму с такой «танцовщицей», большая часть из которых никогда в жизни не танцевала и не умела танцевать.
Приглашение профессиональных танцовщиц было очень популярным в Ходженте и в некоторых других городах Ферганской долины и являлось там признаком состоятельности и высокого престижа устроителя туя. При этом, хотя сами танцовщицы пользовались большой славой, имели хорошие доходы и богатых покровителей, отношение к ним было, мягко говоря, неоднозначным — очень многие воспринимали их как женщин легкого поведения. В городах танцовщицы присутствовали на свадьбах и других праздничных мероприятиях, но последние организовывались иначе, чем я описал: там уже в 1980-е годы вечеринка превратилась в центральное мероприятие, на которое приглашали по специальному списку и куда мужчины приходили вместе с женами — семейными парами. В этой среде танцовщица, исполняющая эротические танцы, выглядела тоже двусмысленно, но по крайней мере не так неуместно, как на вечеринке в Ошобе.
Собственно, в этом эпизоде мы видим, что процесс заимствования и изменений не обязательно был связан только с теми практиками, которые могли рассматриваться как советские или «русские/европейские». Заимствовались вообще любые городские — более престижные — практики, причем нередко они просто переносились из одного контекста в другой, даже если выглядели в новом контексте чужеродными и нелепыми. Городская мода включала в себя новые виды пищи и одежды, современную технику вроде машин, на которых молодожены ехали в загс, или видеокамеры, на которую фиксировали происходящее, иногда — современную эстрадную музыку. Некоторые практики могли возникнуть под влиянием, например, индийского кино (которое тоже, в свою очередь, искало новые престижные формы и образы). Иначе говоря, заимствование новых, современных элементов происходило не напрямую у русских или тем более у Европы, а опосредованно — из городов, где такие нормы уже были усвоены, переработаны на местный манер и где им был придан высокий социальный статус. Советская власть осознанно не навязывала все эти изменения — некоторые из них появлялись даже вопреки официально заявленным нормам, но, конечно, новые элементы все равно ассоциировались с проводимой властью политикой модернизации.
Все это создавало сложную игру вокруг значений, которыми наделялись те или иные символы в глазах людей. Они могли считаться и называться советскими, современными и продвинутыми, русскими или даже европейскими, городскими и престижными. Переключение между этими смысловыми регистрами позволяло объединять разные новшества вместе или производить селекцию, менять их оценку с отрицательной на положительную и обратно, присваивать и в то же время сохранять дистанцию. Подобный инструментализм становился необходимой частью повседневной жизни.
* * *
Российский социолог Анна Темкина в статье «Гендерный порядок: постсоветские трансформации» предлагает свое объяснение того, как распределяются традиционные и современные практики поведения среднеазиатских женщин891. Если в России в советское время произошла, по ее мнению, смена традиционного, патриархального (или патриархатного) гендерного порядка на современный, индивидуалистический, то, например, в Таджикистане «патриархальное устройство семейно-гендерной сферы» продолжало существовать, несмотря на проделанный Средней Азией путь модернизации. Традиционные нормы не были распространены в таджикском обществе повсеместно, а занимали отдельные его сегменты. Пытаясь пояснить распределение разных практик, Темкина в этой статье прибегает к образу концентрических кругов (или пластов)892. Первый круг — это ядро традиционного гендерного порядка, в основе которого лежат «гендерный код», включающий в себя уважение к старшим и мужчинам, и центральная практика — брак по договоренности. «Семья и общество контролировали нормы и правила поведения», при этом такой порядок вписывался в советские этакратические рамки, которые предписывали женщине материнскую функцию и частичное участие в общественном производстве. Второй круг — своеобразная периферия, где люди благодаря влиянию модернизации и русификации усвоили советскую идентичность и следовали более современной модели брачных и семейных отношений, хотя «разрушение традиций в приватной сфере не было успешным». Традиционный брак по договоренности (и сопутствующие ему практики и ценности, включая ограничения добрачного поведения и ценность добрачной девственности) оставался «важнейшим механизмом поддержания солидарности в сообществе», но при этом появились альтернативные сценарии, возникали экономические и романтические мотивы поведения, половозрастные иерархии становились менее жесткими, молодые люди демонстрировали больше самостоятельности и недовольства прежним порядком, в сообществе циркулировали знания и информация о других практиках, брачное поведение стало более разнообразным и непредсказуемым.
Я хочу обратить внимание на геометрическую метафору концентрических кругов, которая во многом характеризует и структурирует рассуждения Темкиной. Эта метафора позволяет автору разделить социальное пространство, которое она исследует, на две части («два реальных мира»), одна из которых является традиционной (или таджикской), а другая — современной (европеизированной, русифицированной, советизированной). Эти части соответствуют делению пространства на приватную и публичную сферы893 либо на сельскую жизнь и городскую894. Кроме того, метафора кругов позволяет расположить эти пространства по отношению друг к другу как центр и окраину, то есть соединить идею пространства с идеей иерархии и даже времени (то есть некоторого стадиального движения).
Совсем иначе, с использованием других метафор, пишет о соотношении традиционности и современности в семейных и брачных практиках у таджиков британский социолог Колетт Харрис в книге «Контроль и ниспровержение: Гендерные отношения в Таджикистане»895. Она описывает двойное подчинение и сопротивление людей в таджикском обществе: с одной стороны — советской власти, с другой — власти общины и семьи. В первом случае это была власть колониального, внешнего принуждения, которому местные сообщества противопоставили сплочение и сохранение своих традиционных институтов. Во втором случае — власть общины, распределявшейся внутри сообщества через возрастные и гендерные социальные статусы и опиравшейся на механизмы самоконтроля и самонаблюдения896. Для объяснения отношений человека с советской властью и властью общины Харрис прибегает к метафоре масок (она говорит о гендерных масках)897. Исследовательница пишет, что для сохранения своей индивидуальности и достижения своих интересов человеку приходилось, находясь в публичном пространстве, делать вид, что он соблюдает правила и нормы, принятые обществом и навязываемые властью. Мужчины и женщины, пишет Харрис, надевали маски, которые соответствовали определенной ситуации и аудитории, и играли те роли, которые были им предписаны, оставаясь при этом самими собой в своем частном пространстве898. В отличие от метафоры кругов, которая прочерчивает границы между различными пространствами, метафора масок позволяет видеть, как женщина перемещается в разных пространствах, в том числе из села в город (или из старого города в новый899) и обратно, меняет свое поведение (свою маску) в зависимости от того, где она в данный момент находится.
На мой взгляд, обе метафоры, хотя и дают инструмент, чтобы видеть общество с разных точек зрения и описывать те или иные его черты, тем не менее сохраняют и даже делают непреодолимыми различия между традиционностью и современностью, приписывают им противоположные, непересекающиеся особенности. Круговое разделение фиксирует социальные и культурные (даже этнические) барьеры, коррелирующие с пространственными, делая вопрос о переходе через них, их преодолении трудно решаемой проблемой. Метафора же масок даже усиливает это различие, помещая его в сознание самого человека: сфера современности является внешней, открытой коллективному контролю, а потому фальшивой, поверхностной и коллаборационистской, сфера же традиционности оказывается внутренней, скрытой, глубинной и подлинной.
Дихотомия, созданная обеими метафорами, представляется мне проблематичной. На мой взгляд, социальное (и вслед за ним географическое) пространство было в советское время более мозаичным и одновременно более взаимосвязанным, в нем сосуществовали разные субпространства, уголки, пути и переходы, которые то располагались отдельно друг от друга или параллельно друг другу, то внезапно пересекались и смешивались. Пространство имело не две противоположные точки, а множество — тот же Ходжент выглядел своего рода периферией к Ташкенту, а какое-нибудь пригородное селение — более продвинутым по отношению к горному кишлаку. Все это позволяет видеть советское среднеазиатское общество как гетерогенное — со своими складками, лабиринтами, обходными путями, различными векторами изменений.
Точно так же поведение и идентичности человека представляли собой постоянно меняющийся калейдоскоп, в котором не было зафиксированных позиций и ролей. Провести четкую грань между открытостью и закрытостью, фальшивостью и подлинностью, между коллаборационизмом и сопротивлением невозможно — эти состояния существовали одновременно как разные модусы социального взаимодействия. Сама дихотомия имела скорее дискурсивную природу и была связана с узнаванием и называнием того или иного явления в качестве традиционного или современного, с обсуждением этого вопроса в обществе, столкновением разных интересов и стратегий.
Тем не менее я не стал бы полностью отказываться от обеих метафор, однако отказался бы от деления на центр и периферию и не стал бы искать некую промежуточную полупериферию. Я бы предпочел представить пространство как мозаику, состоящую из множества субпространств, хаотически перемешанных между собой. Используя эту метафору, можно сказать, что процесс присвоения новых представлений и практик шел через создание дополнительных кругов или субпространств, в которых они копировались или изобретались. Такие пространства имели свою физическую проекцию — они возникали не только в городах, но и во вновь построенных или старых поселках, где в специальных местах — школах, больницах, административных учреждениях, клубах, магазинах и так далее — создавались территории, которым присваивался знак советскости или «русскости/европейскости». Эти субпространства возникали в жилых домах, где многие гостиные оформлялись в современном стиле (со стульями и столами, кроватями и диванами, фотографиями, какими-то другими советскими и «русскими/европейскими» вещами и знаками). Они возникали, как я показал, в свадебных обрядах, в которых появлялись советские ритуалы (загс, стол). При этом соседние субпространства обозначались и сохранялись в качестве мусульманских или национальных (узбекских, таджикских и так далее). Между всеми субпространствами постоянно происходило перемещение, порой даже незаметное, со сменой одежды, ритмов, вкусов и поведения, идентичности. Одни из них постепенно расширялись, другие — уменьшались: для людей, которые, например, больше времени проводили на работе, рабочее пространство становилось доминирующим, а остальные — маргинальными. Субпространства могли дробиться и дальше, что приводило к возникновению новых конфигураций практик.
Метафора масок тоже может быть полезной, если только не рассматривать их как что-то чужое и внешнее по отношению к «истинному лицу». В данном случае я бы предпочел говорить о масках или гримасах, которые стали естественной частью личности. Постоянно перемещаясь между разными субпространствами, а значит, постоянно меняя маски (даже в буквальном смысле слова — переодеваясь в другие наряды), ошобинец или ошобинка оставались самими собой: все эти маски были одинаково необходимы и важны для получения желаемого результата — возможности идентификации, обеспечения мобильности, карьеры, поддержания социальных сетей и иерархий, легитимации статуса и так далее. Смена масок, переключение смысловых регистров, игра всех этих обозначений и противопоставлений позволяли осознавать вновь усвоенные практики в качестве своих собственных и в то же время сохранять те локальные привычки, которые по-прежнему имели значение в повседневной жизни. Ошобинцы не столько имитировали кого-либо, сколько вживались в новые роли, существовали в них, узнавали/идентифицировали себя и окружающих через эти маски.
Очерк десятый ОШОБИНСКИЕ АЛЬБОМЫ900
Авторы сборника «Визуальная антропология», изданного в Саратове в 2007 году, поставили под вопрос тот, казалось бы, очевидный факт, что изображение (я буду говорить о фотографии) является своего рода слепком с реальности. Скорее уж это иллюзия реальности, которая обладает магической способностью заменять саму реальность в сознании человека. Фотография заведомо представляет реальность в искаженном виде, причем искажение происходит и в процессе съемки (монтажа и обработки снимков), когда снимающий и снимающийся создают изображение согласно своим представлениям о том, каким оно должно быть, и в процессе последующего рассматривания, вспоминания, прочтения и интерпретации изображения. «Анализируя предысторию и вскрывая подтексты репрезентаций, — пишут редакторы сборника во введении, — изучая образы как источники информации об обществе, исследователи ставят вопрос о роли тех или иных социальных акторов в производстве и первичном отборе фотографических и иных визуальных текстов. Важно отрефлексировать этот многоэтапный процесс селекции материала, чтобы приблизиться к пониманию логики его участников»901.
Один из вопросов, которые в этой связи встают, — кто или что и каким образом влияет на конструирование фотографического изображения? Эту проблему можно рассматривать с точки зрения проблематики власти, создающей условия для видения или господствующий язык для описания (прочтения) окружающего мира. Анализируя фотоальбомы детских домов 1930—1950-х годов, Павел Романов и Елена Ярская-Смирнова приходят к выводу, что «Визуальные репрезентации <…> не только были созданы, но и потреблялись в социальном контексте, где доминантные средства массовой информации диктуют модель для подражания <…> Снимки, представляющие различные виды деятельности воспитанников детдома, прочитываются как сообщения в более широком идеологическом и культурном контексте 1930—40-х гг., становясь отголосками профессионального медийного дискурса, создаваемого вокруг принципов и ценностей советского воспитания и представленного в искусстве соцреализма <…> Некоторые фотоизображения, отбираемые в альбомы для публичной презентации, словно бы цитируют плакатные образы <…> своего времени. Понятные всем смысловые коды связаны с идеологией, общей для исторического периода»902. Немного вскользь авторы замечают, что такие фотографические модели осуществляли круговорот — «из фотографий и СМИ они перемещались в реальную жизнь, где их вновь „ловил“ объектив камеры»903.
В разных статьях сборника «Визуальная антропология» красной нитью проходит тема воздействия советской идеологии на создание особой советской иконографии и на политизацию зрения. Меня здесь интересуют два вопроса, которые вытекают из проблемы взаимосвязи между властью и фотографией.
Во-первых, это вопрос о том, чем является фотография — инструмент ли она воздействия власти на сознание людей, средство ли манипуляции и навязывания определенных идеологических образов/образцов? Или же, напротив, это сфера, в которой человек сохранял свою автономию от власти, может быть, даже сопротивлялся ей, создавая собственный (локальный или групповой) нарратив и конструируя собственную идентичность?
Во-вторых, нетрудно заметить, что большинство исследований указанного сборника посвящены Центральной России и не касаются того, как политизация зрения осуществлялась на советских окраинах — в национальных республиках и автономиях (в той же Средней Азии), каким образом там осуществлялось конструирование визуальных репрезентаций904. Применима ли, в частности, к такому анализу саидовская концепция, в которой изобретение и изображение/описание Востока были напрямую связаны с политическим доминированием европейских стран в разных регионах мира?905 Существовала ли специфика видения или угла зрения в тех регионах, где на социальные различия накладывались культурные?
В последнем очерке своей книги я представляю вниманию читателей фотографические образы Ошобы и ошобинцев и рассматриваю условия возникновения и восприятия этих изображений. Меня интересует, как формировались каноны и шаблоны визуальной репрезентации Средней Азии в целом в XIX и XX веках, какую роль в этом процессе играли власть и официальная идеология. На примере собственного опыта фотографирования в кишлаке в 1995 и 2010 годах я также попытаюсь определить некоторые черты этнографического взгляда на изучаемое общество. Кроме того, я расскажу об основных жанрах визуальной репрезентации в семейных альбомах самих жителей Ошобы. Цель этого очерка — не только полнее представить собранный мной фотоматериал, но и продолжить разговор о проблеме гибридности и мозаичности самосознания людей, о проблеме того, как люди строили свое «я» при Российской империи и в советское время.
Власть и фотография
Завоевание Средней Азии совпало с эпохой распространения фотографической технологии. Хотя первоначально художественные изображения (например, среднеазиатские сюжеты того же Василия Верещагина) успешно соперничали с фотографиями и отчасти влияли на фотографический способ видения, к концу имперского времени фотография безраздельно господствовала в создании образа отдаленной окраины Российской империи.
Фотография воспроизводила колониальный взгляд, так как снимали Среднюю Азию главным образом русские (или европейские путешественники), которые имели собственные цели в этом регионе. Одним из первых проектов создания максимально полного колониального фотографического образа завоеванного региона был «Туркестанский альбом», известный также как альбом Кауфмана или альбом Куна906. Съемки были сделаны в 1871–1872 годах, 1235 отобранных снимков (не считая рисунков и карт) были сгруппированы в шесть томов и разбиты на четыре темы: этнография, история завоевания, промыслы, археологические древности. В 1873 году экземпляры альбома были переданы императору и цесаревичу, министрам и членам семьи Романовых, а также сокращенные варианты — в некоторые музеи и библиотеки. Осуществлялись и другие фотографические экспедиции, например известные путешествия С. М. Прокудина-Горского, который одним из первых в 1900—1910-е годы пытался создать цветной фотообраз Средней Азии907.
Изображения, представленные, в частности, в «Туркестанском альбоме» и других фотоколлекциях, имели все черты ориентализма, о котором писал Эдвард Саид.
Во-первых, они подчеркивали чуждость и непохожесть среднеазиатского общества, проводя четкую разграничительную линию между «нами» и «ними». Этот эффект достигался с помощью этнографической и археологической экзотизации — фотографической демонстрации памятников древней архитектуры, видов кишлаков и городов, ритуалов и развлечений местных жителей, их одежды, инвентаря, музыкальных инструментов и так далее, то есть всего, что могло поражать, удивлять, шокировать непривычного к другим культурам зрителя (Илл. 34, 35). Отдельное внимание было уделено исламу — в частности, в «Туркестанском альбоме» были засняты все этапы чтения молитвы-намаза, для чего какой-то местный житель терпеливо выполнял роль натурщика. Целый ряд снимков носил общее название базарных (или уличных) типов, фиксируя ремесленников, продавцов, людей, представлявших интерес своим внешним видом, одеждой, антуражем. Отдельной группой лиц, которые привлекали внимание колонизаторов, были местные наркоманы и бачи (бачча) — мальчики, которые, переодевшись в женскую одежду, танцевали на публике908. Такого рода изображения подразумевали осуждение среднеазиатских нравов и, конечно, моральное превосходство тех, кто эти снимки должен был рассматривать.
Илл. 34. Среднеазиатская школа (Туркестанский альбом, 1871–1872 гг.)
Илл. 35. Среднеазиатская свадьба (Туркестанский альбом, 1871–1872 гг.)
Женщины вызывали особый интерес у фотографов (Илл. 36, 37). Их запечатлевали в местных нарядах, иногда развлекающимися и танцующими с открытыми лицами, иногда в паранджах и чачванах — подчеркнуто подчиненными власти мужчины. В одном случае зрителя должно было привлечь не лишенное элементов эротики подглядывание за закрытой от посторонних глаз жизнью909, в другом — сочувствие положению женщины в мусульманском обществе.
Во-вторых, имперская фотография служила средством своеобразного научного изыскания. С ее помощью, в частности, классифицировали местных жителей, выделяя и располагая в определенном порядке расовые, национальные, религиозные, социальные и профессиональные отличия. Образы людей вырывались из локального контекста и превращались в типажи — народностей или каких-то других групп. Такая классификация позволяла узнавать и осваивать окраину, что служило, конечно, и задаче ее подчинения.
Илл. 36. Местная женщина в парандже (Туркестанский альбом, 1871–1872 гг.)
Илл. 37. Местная женщина без паранджи (Туркестанский альбом, 1871–1872 гг.)
Наконец, в-третьих, имперская фотография, как и писал Эдвард Саид, подчеркивала превосходство и доминирование России над Средней Азией. Она делала это двояко. С одной стороны, снимки прославляли своих героев — генералов, которые занимали ключевые позиции в колониальной администрации, и тех офицеров и солдат, которые участвовали в завоевании региона. Отдельным жанром была также демонстрация поверженных противников. С другой стороны, на снимках отображались те, как считалось, положительные изменения, которые произвела Россия в регионе, — построенные и благоустроенные города, предприятия, железные дороги и так далее.
Я бы отметил еще тот факт, что создание визуальных репрезентаций происходило при заведомо неравноправных отношениях. Многие мусульмане крайне настороженно и даже негативно относились к изготовлению своих фотографических изображений, воспринимая их как запретные с точки зрения своей религии и культуры и даже приносящие вред. На снимках можно увидеть много хмурых и озабоченных лиц — вряд ли от этих людей ждали добровольного согласия на съемку. Видно, что они стояли или сидели в неестественных позах, ожидая, когда их снимут (это было связано еще и с технологией, которая требовала неподвижности в течение определенного времени), — вполне можно предположить, что подобные съемки были сопряжены с некоторыми формами принуждения.
Если изображения экзотического «другого» времен Российской империи вполне соответствуют концепции ориентализма, то визуальные каноны советской эпохи в нее явно не вмещаются. Последние подстраивались под идеологию, в основе которой лежал тезис о построении «нового мира», и, соответственно, взгляд зрителя следовало фокусировать в первую очередь на достижениях нового, передового, как многие полагали, строя или его символах. Ориентализация/экзотизация, разделение на «нас» и «них» остались и в визуальном языке советского времени, но были вписаны в сложную и порой противоречивую идеологическую конструкцию, в которой осуждение пережитков прошлого соседствовало с восхвалением (и даже конструированием) национальных культур и все это вместе вписывалось в образ современного советского общества.
Как на пример такой советской фотографии могу сослаться на творчество Макса Пенсона, корреспондента газеты «Правда Востока» в 1920—1940-х годах. Герои его снимков были показаны читающими газеты, учащимися, трудящимися, отдыхающими после работы. Вместо прежних бачей, ремесленников и базарных типов мы видим совершенно иную иконографию: трактористов, юных балерин, юношей с винтовками, учеников в школе, участников митингов и собраний — образы, общие для всего советского пространства (Илл. 38, 39). В изображениях, конечно, сохраняются и нередко нарочито выставляются экзотизмы — «другие» лица, местные одежда и предметы быта и прочее, но вся эта инаковость теперь включена в советский современный контекст, знаки которого видны не только в сюжете, но и во вроде бы второстепенных вещах, строениях, надписях, позах, счастливых выражениях лиц. Женщины на фотографиях Пенсона, как правило, открыты, но их изображения не являются эротичными, они не противопоставляются мужчинам и не подчиняются им (Илл. 40).
Сравнивая имперские и советские снимки, я обратил бы внимание и еще на одну деталь. В имперской фотографии снимающий сам был той точкой, на которую смотрел снимающийся, и той инстанцией, которой последний подчинялся в процессе съемки. Власть фотографа в тот момент совпадала с политической властью и была нераздельна с ней, как бы ни была велика дистанция между фотографом и императором — главным зрителем «Туркестанского альбома». Пенсон же в своих изображениях смотрел сбоку или из-за спин, он был как бы невидим для снимающихся — «как бы», потому что в действительности они знали, что их фотографируют, они позировали для снимающего, не глядя в объектив, хотя, разумеется, иногда такого рода «спонтанные» сцены — результат умелой постановки. Это изменение связано, конечно, с появлением новой технологии, позволившей быстро фиксировать реальность. Но технология открыла возможности и для новых видов доминирования, когда прямое насилие замещалось самоконтролем и самодисциплиной, постоянным исполнением неких ролей — с осознанием, что за тобой всегда кто-то наблюдает и фиксирует твои вид, позы и слова.
Илл. 38. Советская школа (Макс Пенсон, 1930-е гг.)
Илл. 39. Советская семья (Макс Пенсон, 1930-е гг.)
Илл. 40. Советские женщины (Макс Пенсон, 1930-е гг.)
Этнография и фотография
Сегодня этнографическая фотография уже не ассоциируется напрямую с властью (как это было в «Туркестанском альбоме») — она превратилась в автономную сферу, в которой помимо идеологического заказа и цензуры существуют собственное понимание исследователем задач фотографирования и особый — исследовательский — угол зрения на реальность. Отделение науки от власти, увеличение дистанции между ними произошло в том числе и благодаря развитию технологии, сделавшей вообще любую фотографию видом индивидуального творчества, не подконтрольного академическим и политическим институтам. Став частным способом смотреть на мир, на людей и на вещи, этнографическая фотография обрела и новые смыслы, связанные с личностью самого фотографа-этнографа. С помощью визуальных изображений последний пытается продемонстрировать, к примеру, и сам факт своего пребывания в поле, и свою научную полевую инициацию, и свои социальные связи, сложившиеся в поле.
Тем не менее связь этнографических изображений с властью, то есть с интересами и привилегированным статусом тех, кем и для кого эти фотографии снимаются, остается пусть и менее отчетливой, но все же вполне просматриваемой. Разглядывая много лет спустя свои фотографии, сделанные в 1995 году в Ошобе, я неожиданно для себя заметил, насколько они напоминают клише имперской фотографии. Большинство моих фотоснимков фиксировали непохожесть (с точки зрения человека, приехавшего издалека и имеющего иные культурные привычки), они изображали местное общество как «другое». Я снимал места поклонения, кладбище, старые узкие улочки, строительство дома или местного жителя верхом на ишаке (Илл. XXII, XXIII), много кадров ушло на съемку махалля-туя910. Все это выглядело для меня, москвича, непривычно и поэтому привлекало внимание, даже заклание бычка для пиршества мне, городскому жителю, казалось тогда весьма экзотическим действием.
И наоборот, я практически не фотографировал то, что было мне знакомо и понятно, — больницу, школы, клуб, вообще какие-либо советские знаки и артефакты. Многие кадры были постановочными, максимально очищенными от современных элементов, выбирались такие места и ракурсы, в которых советскость была незаметна. Например, я фиксировал последовательность действий при выпечке хлеба в печи-тандыре, что являлось для меня признаком традиционности или инаковости, хотя в 1995 году в семье, где я жил, лепешки очень редко пекли в тандыре — топливо стало дорогим, поэтому чаще использовали небольшую электрическую печку (Илл. XXIV).
Из имперского такой способ видеть трансформировался отчасти в туристический взгляд, который тоже натренирован рассматривать экзотику и инаковость. Однако в отличие от туристических этнографические фотографии фиксировали не столько мое присутствие в этом месте, сколько отсутствие, что должно было служить признаком настоящей объективности. Я старался по возможности избегать своего появления на изображении, хотя нередко обращенные в объектив глаза снимающихся выдавали эту «тайну».
В 2010 году, вооружившись современным цифровым фотоаппаратом, я получил свободу почти неограниченно снимать все, что вижу (в 1995 году у меня было пять пленок по 36 кадров и мне приходилось выбирать, что заслуживает съемки, а что — нет). На этот раз, уже прочитав разные умные тексты с критикой полевой этнографии, я решил исправить свою прежнюю ошибку и восполнить пробел в собственном архиве — запечатлеть «современную» Ошобу. Я специально попросил знакомых провезти меня по территории колхоза и сделал снимки школ, магазинов, здания сельсовета, памятника погибшим в Великой Отечественной войне, клуба, хлопковых полей и насосов, колхозной конторы с памятником Калинину (Илл. XXV–XXXII). Дома, изучая новые фотографии, я поймал себя на мысли, что на этот раз поиск и фиксация следов современности воспроизводили официальный советский взгляд на Среднюю Азию, который отводил этнографизмам роль несущественных пережитков и подчеркивал (или конструировал) произошедшие либо происходившие изменения. Парадокс, однако, заключается в том, что следы советскости в 2010 году сами уже превратились в экзотику и своеобразный этнографизм, смешавшись с привычной экзотикой традиционности (Илл. XXXIII–XXXV). Ранее, в позднесоветское время советскость была незаметной фоновой данностью; видимой же она сделалась, только когда образовалась дистанция между нынешним днем и советской эпохой, когда было артикулировано и определено постсоветское как нечто отличное, иное по отношению к советскому. В 1995 году, судя по моим воспоминаниям и дневникам, ни в моем собственном сознании, ни в сознании ошобинцев такой дистанции еще не было.
Другим опробованным мной способом получить новый визуальный материал стала попытка застать жителей кишлака врасплох — фотографировать их в естественном, если так можно выразиться, положении, когда они не смотрят на меня и не позируют, то есть снизить эффект постановочности (Илл. XXXVI–XXXIX). Эта попытка не особенно удалась, так как я не обладал такой властью, какой, помимо безусловного таланта фотохудожника, обладал Пенсон в качестве репортера главной партийной газеты Узбекистана. С моей стороны процесс фотосъемки сводился к слишком очевидному насилию, которого либо сам я не мог себе позволить в силу чувства неловкости, либо не могли допустить фотографируемые, для которых фотосъемка становилась вмешательством в их личную жизнь, — они выражали недовольство, уходили из кадра или же принимали необходимый, с их точки зрения, вид фотографируемого (с соответствующим переодеванием, позированием и так далее), нарушая весь изначальный план.
Ошобинцы смотрят на себя
Изображения ошобинцев не могли попасть в «Туркестанский альбом», потому что фотоматериал для него собирали до присоединения Ферганской долины к России. Они не могли попасть также в объектив Пенсона, который снимал главным образом жителей Узбекистана, тогда как Ошоба оказалась в составе Таджикистана. Даже если бы не эти обстоятельства, шансы, что фотографов, работавших для генерал-губернаторского альбома или партийной газеты, привлечет именно Ошоба — один из наиболее отдаленных и бедных кишлаков из множества других населенных пунктов региона, — были бы весьма невысоки.
Я не уверен, что вообще существуют фотографии Ошобы и ее жителей до 1917 или даже 1923 года; возможно, одним из первых является снимок арестованного Рахманкула, сделанный как демонстрация побежденного противника911. Но в последующие десятилетия, и особенно в 1950-х годах, фотографы из различных печатных и телевизионных СМИ регулярно приезжали в кишлак, чтобы зафиксировать успехи колхозного строительства. Одновременно нарастало количество личных, семейных фотографий: сначала ошобинцы делали свои снимки за пределами Ошобы и привозили их домой для демонстрации своего статуса и связей, позднее, когда фототехника перестала быть узкопрофессиональной, начали фиксировать местные события, себя и соседей. В каждой семье появился свой фотоархив.
В 2010 году, во время короткой поездки в Ошобу, мне удалось посмотреть несколько семейных альбомов (или собраний) фотографий, принадлежащих жителям кишлака. Не назвал бы это небольшое исследование репрезентативным, но некоторые выводы оно, на мой взгляд, позволяет сделать.
Прежде всего обращает на себя внимание то, что фотографические образы представляют ошобинское общество очень неравномерно. Чем выше официальный статус человека и его семьи, тем больше у них фотографий, которые так или иначе отражают их жизнь. В доме Х., который принадлежал к самому простому слою, я нашел только пару его снимков, тогда как в доме его ровесника, председателя колхоза Имамназара Ходжаназарова, или у бывшего директора школы Тоштемира Комилова фотографий было несколько десятков. Наличие и количество фотографий указывают, таким образом, на социальное положение человека в обществе.
Общественную функцию фотографий отражает и тот факт, что, несмотря на название семейных, изображения в фотоальбомах организованы в целом вокруг главы семьи — мужчины, показывая его в разных публичных ситуациях и разных компаниях (Илл. 41, 42). Остальные члены семьи — жена и чаще дети — присутствуют на некоторых снимках, но не являются их главными героями. При этом, хотя преобладает такой индивидуализирующий взгляд, изобразительный ряд вовсе не организован в виде фотобиографии данного человека — в альбомах нет детства, сменяющей его юности, зрелости и старости. Детские фото иногда присутствуют, но ребенок на них не играет центральной роли, а лишь сопровождает, в свою очередь, отца или деда — такие снимки напоминают не столько о детстве, сколько о предках и родственных связях альбомного героя (Илл. 43). Большинство же фотографий расположены не во временнóм/биографическом ряду, а скорее как перечисление социальных ролей, важных связей и наград.
Французский социолог Пьер Бурдье еще в 1960-е годы сформулировал идею о том, что фотографирование имеет семейную функцию, то есть призвано укреплять единство родственного коллектива912. Такой вывод, обычно рассматриваемый как некая универсальная характеристика913, не вполне приложим к Ошобе — собственно семейных фотографий я увидел в кишлаке не слишком много. Возможно, это связано с тем, что здесь семья — мужчины и женщины — собирается вместе только в приватной обстановке, когда нет чужих глаз. Как только в доме появляются гости, мужчины и женщины отделяются друг от друга — мужчина с гостем переходит в гостиную, а женщина с гостьей остается в одной из жилых комнат. Присутствие фотографа (который является гостем) и запечатление семьи на снимке противоречат этой логике и делают саму ситуацию съемки искусственной. Съемка всей семьи в сборе имеет, следовательно, какой-то дополнительный смысл, помимо укрепления ее единства. Например, в случае с семьей Имамназара Ходжаназарова это еще и указание на высокий социальный статус раиса, который позволял ему и его ближайшему родственному кругу нарушать неписаные правила гендерной сегрегации и вести себя как образованные советские люди. Функции фотографии, следовательно, не сводятся только к одной из них — семейной.
Илл. 41. Завхоз Кашамшамов в кругу родственников (предположительно 1960-е гг.)
Илл. 42. Раис Ходжаназаров в кругу родственников (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 43. Неизвестные отец и сын (?)
(предположительно 1950-е гг.)
Есть ряд типичных, повторяющихся в разных альбомах жанров фотографий: школьные, армейские, свадебные, отпускные, в кругу родственников, в кругу сослуживцев, рядом с начальниками или с подчиненными, на торжественных мероприятиях. Расскажу чуть подробнее о некоторых из этих жанров.
Семейная тема/функция была полнее представлена в свадебных фотографиях. Свадьба — один из немногих моментов, когда родственные и все прочие связи открыто выставлялись напоказ. Из других массовых семейных мероприятий существовал еще махалля-туй, но это всегда был мужской праздник, на котором задействовались не столько родственные, сколько махаллинские мужские отношения914. Похороны и поминки полностью исключались из фотографического ряда. Свадьба же, особенно свадебная вечеринка, — мероприятие, когда родственники и другие близкие, мужчины и женщины, собирались вместе, чтобы показать весь свой социальный капитал. Бурдье назвал свадебные фотографии социограммой, указывающей на сами связи, на социальное влияние и престиж915. Любопытно, что функцию фиксации этой социальной сети стали выполнять не столько фотографии, сколько видеозаписи, ставшие популярными и, что касается свадьбы, даже обязательными в Ошобе с начала 1990-х годов. Эти пленки или диски оставались в обеих семьях, жениха и невесты, и демонстрировались время от времени родственникам и знакомым.
Фотосъемка свадьбы имела и другие смыслы. Свадебная фотография фокусировалась, как правило, на молодоженах, которые, заключая брак, совершали своеобразный переход в новый — взрослый — социальный статус916 (Илл. 44, 45, 46). Некоторые такие снимки использовались в качестве приглашений на свадьбу, а потом хранились как свидетельство социальных связей (Илл. 47).
При этом, фотографируясь на свадьбе, люди вели себя не так, как в повседневной, регулируемой различными нормами этикета и сегрегации жизни. Обычно мужчина и женщина — даже муж и жена — не выставляли напоказ свою связь: если они и находились рядом, то все равно были отделены друг от друга, стояли или шли отдельно (мужчина всегда чуть впереди). На фотографиях же мы видим их вместе и наравне. Бросается в глаза и необычная одежда новобрачных, которую они никогда не носили в кишлаке. Эта одежда принципиально отличается от той, что была принята, и фасоном, и расцветкой, и степенью обнажения частей тела. Лицо невесты на фотографиях открыто или символически прикрыто, ее наряд белый, жених же — в темном костюме и галстуке. Следуя за американским антропологом Виктором Тэрнером, такое преображение можно было бы связать с лиминальным моментом перехода в другой социальный статус, когда участники обряда как будто оказываются в другом обществе917.
Хочу еще обратить внимание на то, что прежние свадебные ритуалы имели совсем другой сценарий: мужчины и женщины располагались раздельно; общение юноши и девушки происходило в отдельной комнате, где могли находиться только ближайшие родственники; перед тем как вывести невесту на улицу, ее закутывали в паранджу, скрывающую лицо и фигуру; в доме жениха невесту опять сажали за занавеску — скрывая от чужих глаз918. В таком полускрытом состоянии молодые, особенно невеста, должны были провести сорок дней — чилла (с постепенным снятием запретов на третий, пятый, седьмой и двадцатый дни)919. Хотя элементы данного сценария продолжали исполняться в 1960—1980-е годы, их не фотографировали. Из этого можно сделать вывод, что смысл фотографирования новобрачных заключался в желании не просто показать молодых и социальную сеть, в которую они были включены, но показать их определенным образом, как людей, исполнявших некий неместный ритуал и вписанных в какую-то иную культурную систему координат. Такая «неместность» была сама собой разумеющейся и не определялась как чужая, но ошобинские интеллектуалы легко узнавали в ней советскость или русскость, а теперь иногда называют ее европейской (вслед за Тэрнером ее можно было бы, наверное, назвать «идеологический коммунитас»920). Причем, замечу, такие фотографии делались для себя, а не по какому-либо указанию со стороны власти, но люди сами хотели видеть себя в данной ситуации такими, какими представали на снимках.
Илл. 44. Свадебная фотография (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 45. Свадебная фотография (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 46. Свадебная фотография (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 47. Приглашение на свадьбу (предположительно 1980-е гг.)
Другой часто встречающийся в семейных альбомах жанр — школьные снимки. В ошобинских альбомах они имели примерно ту же внутреннюю логику, что и свадебные фотографии. Прежде всего, это был точный отпечаток социальных связей, только не родственных, а дружеских. Среди мужчин в местном обществе было несколько разных, хотя и нередко пересекающихся между собой категорий друзей921. Это могли быть жўралар — соседи по улице, хорошие знакомые, которые время от времени устраивали посиделки в чайхане вскладчину (или зимой по очереди в своих домах)922. Это могли быть ўртоқлар — просто близкие друзья, люди с общими интересами и приятные друг другу, из числа которых выбирали, например, свидетеля на свадьбе. Это мог быть шерик — друг, с которым вели общие дела, партнер, доверенный человек. Это могли быть ошнолар — знакомые в других селениях, которые помогали в случае необходимости (эти отношения часто передавались по наследству от отца к сыну)923. У женщин дружеские связи не были так социально институционализированы, как у мужчин, но и у них существовали схожие категории подруг924 (Илл. 48, 49).
Одна из наиболее важных категорий друзей и подруг в позднесоветскую эпоху — одноклассники (синфдош). Отношения между ними не прерывались после окончания школы, а сохранялись на протяжении десятков лет и имели довольно формализованный характер. Раз в год или по юбилейным датам проводились (в Чинар-бува или других местах отдыха) сборы всех — и мужчин, и женщин; правда, сидели и праздновали они по отдельности. У мужчин было также принято регулярно собираться по очереди друг у друга: после окончания школы — каждую субботу, со временем — в одну из суббот каждого месяца. В таких собраниях участвовали все, независимо от личной (не)приязни, хотя это не носило принудительного характера и кто-то постепенно отдалялся от остальной компании. Долгом синфдош являлась помощь деньгами и услугами при проведении свадьбы, махалля-туя, похорон или по какой-то другой необходимости, на ритуалах они сопровождали своего одноклассника (девушки — одноклассницу), обязательно участвовали, например, в бракосочетании в загсе или на вечеринке. Этой социальной сетью дорожили, и фотографии одноклассников были одним из способов ее сохранения и запоминания, кодификации и демонстрации.
Однако смысл школьных фотографий не сводился лишь к запечатлению социальных связей. Хранились обычно снимки, сделанные в последний год учебы, — как своего рода знаки завершения определенного социально-возрастного периода и, соответственно, перехода в новое состояние. Официальные фотографии 1950—1990-х годов явно копировали заданный образец: в верхней их части расположены изображения директора школы (или даже заведующего районным отделом образования), классного руководителя и учителей, ниже — изображения юношей и девушек вперемежку, на самих снимках присутствуют приметы советского общества — портреты советских руководителей, символы образования (на одном из снимков ученики держат в руках учебник «Русская и советская литература») либо каких-то достижений, связанных, например, с космосом, спортом и так далее.
Илл. 48. Подруги (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 49. Одноклассники на колхозном поле (предположительно 1980-е гг.)
Любопытно присмотреться к тому, как были одеты старшеклассники925 (Илл. 50, 51, 52). На официальных фотографиях 1950-х годов все ученики-мальчики — в светлых рубашках и темных костюмах с галстуками. У многих видны комсомольские значки и ручки, вставленные в карманы пиджаков. Их одежда так похожа, что создается впечатление, будто мальчики всего класса пользовались парой-тройкой пиджаков специально для съемки. Единственный местный элемент одежды — тюбетейки, хотя у многих из-под пиджака, кажется, выглядывают и легкие халаты. Девочек-учениц на снимках мало: одни наряжены в какие-то белые платья, другие — в разноцветные местные, но у тех и других платьев нетрадиционный фасон с отложным воротником, на всех девочках — пиджаки (точнее — пиджак, поскольку, похоже, он один и тот же), на головах — тюбетейки, волосы заплетены в множество косичек. На официальных фотографиях 1970-х годов мальчики опять одеты в «европейские» костюмы и галстуки, теперь в основном без тюбетеек, девочки — в платья характерной для Средней Азии пестрой расцветки, но с отложными воротниками, в тюбетейках и с заплетенными косичками. На фотографиях начала 1980-х годов у мальчиков нет галстуков и одежда более неформальная, девочки сохраняют прежний стиль (Илл. 53).
Школьные фотографии показывали, таким образом, приобщение и принадлежность к другому, «русскому/европейскому» миру, в котором действовали иные, чем в локальном сообществе, правила классификации и организации социальных связей. На снимках присутствовали и определенные элементы, которые можно прочитывать как местные или национальные, но и они на поверку оказывались сконструированными — к такого рода образам можно отнести девичьи тюбетейки, которые в повседневной жизни девушки не носили926.
Илл. 50. Ошобинские ученики с учителями
Илл. 51. Ошобинские ученицы с учительницами
Илл. 52. Школьная выпускная фотография (1954 г.)
Илл. 53. Школьная выпускная фотография (1980 г.)
К особому жанру относились изображения местных начальников, которые мне удалось увидеть в семейных альбомах бывших председателя колхоза Имамназара Ходжаназарова, заведующего районо Тоштемира Комилова и колхозного завхоза Мамаджана Кашамшамова (Илл. 54, 55, 56). Для этого жанра были важны знаки власти, которые могли быть очень разными, но обязательно узнаваемыми именно как принадлежащие власти. Такими знаками являлись близость к вышестоящим чиновникам и участие в официальных мероприятиях. В фотоальбомах Ходжаназарова можно было увидеть их героя рядом с первыми лицами Таджикистана — Джаббаром Расуловым и Эмомали Рахмоновым, но центральное место в них занимал снимок, на котором раис был запечатлен рядом с первым лицом СССР — Михаилом Горбачевым, вручавшим ему в 1991 году медаль Героя Социалистического Труда. В фотоальбоме же Тоштемира Комилова, чиновника несколькими рангами пониже раиса, сохранилась фотография Дадабая Турсунова — человека, чья власть была значимой для ошобинцев в 1920—1940-е годы927.
На многих фотографиях представители ошобинской элиты были изображены с властными регалиями: Ходжаназаров с орденами, Комилов в форме офицера, Кашамшамов с машиной «Волга». Принадлежность к власти обозначалась также с помощью постановочной композиционной структуры: руководитель находился в окружении «народа» (стариков, женщин, детей), разговаривал по телефону (с подчиненными или начальством), вручал почетный вымпел колхозникам — такого рода снимки отражали неравное положение снимающихся, разные позиции, которые они занимали в общественной иерархии (Илл. 57, 58, 59). На фотографиях представители местной власти, как правило, были изображены в «европейской» одежде, иногда в сталинском кителе, но при этом в ней сохранялись местные элементы, вроде тюбетейки или наброшенного поверх халата. Все эти композиции и образы брались из официального изобразительного языка — именно так фотографировались высшие советские чиновники. В этом же языке присутствовали и санкционированные идеологией национальные особенности (Илл. 60). Копируя официальные шаблоны, такого рода фотографии явно отсылали зрителей к знакомым им примерам, проводили параллель между локальной элитой и советской верхушкой, передавая первым легитимность вторых.
Илл. 54. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1970-е гг.)
В язык самоописания власти входил фотографический ряд за пределами кишлака, который также подчеркивал ее привилегии — возможность побывать в других регионах СССР, или на престижных курортах, или даже за границей. Причем места, зафиксированные на таких снимках, — это, как правило, европейская часть России либо европейские страны, но не среднеазиатские места отдыха. При этом фотографируемые почти полностью теряли признаки локальности и внешне совершенно преображались в советских или просто современных людей (Илл. 61).
Илл. 55. Тоштемир Комилов (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 56. Мамаджан Кашамшамов (предположительно 1960-е гг.)
Бурдье писал, что в деревенском обществе фотографирование себя в виде горожанина — своеобразная игра в горожанина — означает самоисключение себя из группы, поэтому деревенское мнение осуждало и осмеивало подобное представление себя «другим»928. Однако в Ошобе мы наблюдаем совсем другое восприятие. Игра в горожанина или в современного человека превратилась в важный символический ресурс, который позволял демонстрировать лояльность к господствующей идеологии и политическому строю и получать доступ к благам, которые эти идеология и строй обещали. Причем с какого-то момента такая игра велась уже не только по отношению к власти, а стала также формой конкуренции внутри сообщества за право выглядеть более современным, превратилась в элемент самосознания людей, которые отождествляли себя с современностью, пусть и в советском ее варианте.
Илл. 57. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1970-е гг.)
Илл. 58. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1970-е гг.)
Илл. 59. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1980-е гг.)
* * *
Историк Йохан Хелльбек в книге «Революция в моем сознании: написание дневников при Сталине» обратился к такому источнику советского времени, как личные дневники929. Само их наличие на первый взгляд парадоксально, поскольку тоталитарный сталинский режим должен был бы, как мы привыкли думать, безжалостно преследовать все виды деятельности и мысли, ему не подконтрольные. Тем не менее, пишет Хелльбек, дневники были, и в большом количестве, — они являлись популярным жанром самоосмысления советских людей. Тогда напрашивается предположение, что в такого рода дневниках можно найти подлинное отношение человека к самому себе и к сталинскому режиму, свободное от официоза и отражающее скрытое противостояние идеологии. Но на это Хелльбек замечает, что персональные нарративы в личных дневниках «были настолько насыщены ценностями и категориями советской революции, что, казалось, полностью упраздняли границу между публичным и частным»930. Ученый предлагает заново оценить процесс воздействия идеологии на сознание людей, рассматривая последних не столько как ее жертв, сколько в качестве индивидуальных субъектов, «являющихся по своей природе не автономной, но порождаемой идеологией и динамично взаимодействующей с нею [инстанцией]»931. Идеология не просто репрессировала, наказывала и принуждала — она персонализировалась, становилась языком индивидуального самоописания и самосознания, в частности в личных дневниках, в которых человек разговаривал сам с собой, используя лексику и символы окружающего его мира.
Илл. 60. Мамаджан Кашамшамов (предположительно 1960-е гг.)
Илл. 61. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1970-е гг.)
Выводы Хелльбека можно отнести и к фотографии — к тем же семейным альбомам, которые выполняли роль визуальных дневников932. Мы явственно видим/прочитываем в них идеологические конструкции советской эпохи, а не какие-то антисоветские или несоветские желания. Навязывание подобных конструкций происходило синхронно с процессом усвоения и переработки идеологических канонов и шаблонов во взгляды, которые человек начинал считать своими личными и которыми он дорожил — независимо от критичности своего отношения к советскому режиму и идеологии.
При этом у взаимодействия идеологии и самосознания в культурно-специфической среде, которую представляли собой среднеазиатские общества, были свои особенности. Главная из них, на мой взгляд, состояла в том, что местные жители отчетливо различали/характеризовали советские образы как русские или европейские, то есть привнесенные извне. Копируя эти образы и принимая их в качестве своих, они тем не менее сохраняли по отношению к ним некоторую дистанцию и могли воспроизводить их лишь частично, всегда вперемешку с категориями и символами, которые считались своими — локальными, национальными. Последние же в действительности тоже создавались в рамках советской идеологии — строительства наций в Средней Азии и канонизации национальной/традиционной культуры933, генеалогия которой восходила в том числе к ориенталистскому воображению. Иначе говоря, советская идеология имела внутри себя сложную иерархию и предлагала местному населению разные способы освоения современности, разделяя ее на разные уровни. Такой раскол советских представлений и практик на «свое» и «чужое» совсем не обязательно имел конфликтную природу934, но сам этот факт указывает на весьма противоречивый, гибридный, бриколажный способ формирования/конструирования в данном обществе своего «я», на существование последнего между разными зафиксированными идентичностями935.
Заключение ИЗВНЕ И ИЗНУТРИ936
Завершение текста статьи и тем более книги — всегда мучительный момент. Вроде бы все, что хотелось сказать, уже сказано — материал введен в оборот, более или менее подробный анализ его сделан, необходимые ссылки расставлены. Так зачем еще толочь воду в ступе? Между тем подвести черту, поставить точку, а может быть, многоточие — надо бы, иначе законы жанра остаются не до конца воплощенными, сюжет — незакругленным. Перебрав разные варианты подведения итогов, последнюю часть своей книги я решил посвятить рассказу о том, как происходило мое исследование, каков был мой личный опыт жизни в Ошобе. Именно последнюю часть, а не первую или вторую — с тем, чтобы эти мои размышления не могли повлиять на восприятие основного текста. По сути, конечно, получился самостоятельный очерк, названный заключением лишь потому, что речь в нем — не только и не столько об Ошобе.
В 1994 году была опубликована книга американского исследователя Юрия Слезкина «Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера»937. Она посвящена рассмотрению попыток чиновников и ученых Российской империи и СССР реформировать образ жизни малочисленных разноязычных групп Северной Евразии. Наряду с изучением этой специфической темы Слезкин ставил перед собой амбициозную задачу — показать историю российских и советских дискуссий о человеческой природе, обществе, эволюции, культуре, то есть историю того, как представления и взгляды влияли на политику и, наоборот, политические интересы определяли научное, художественное и обыденное восприятие. В центр своего анализа автор поместил историю российской/советской этнографии, рассматривая ее как своеобразную квинтэссенцию размышлений о «другом» или «чужом», и немало страниц посвятил тем особенностям и порой драматическим изменениям, которые характеризовали эту научную дисциплину938.
В своей работе Слезкин сделал несколько общих наблюдений, полезных в том числе и для настоящего раздела, завершающего мое этнографическое и историческое изучение Ошобы. Один из выводов ученого заключается в том, что этнографический взгляд из Москвы или Санкт-Петербурга на северную окраину всегда был связан, в разных своих вариантах, с проведением культурной границы между «нами» и «ними». Причем всегда такое отличие подразумевало иерархию, то есть «народы Севера всегда были „лучше“ или „хуже“, „над“ или „под“, „более“ или „менее“», «„чужеродность“ всегда предполагала моральное суждение»939. Презрение сменялось восхищением, поиски недостатков — поисками достоинств, но сама граница была в центре той оптики, которая направляла этнографический взгляд.
Культурная граница и культурная иерархия, которая выстраивалась с ее помощью, — это колониальные представления, Слезкин не стесняется такого термина. Колониальные в том смысле, что российская и советская власти, безусловно, использовали их для установления собственного господства и извлечения собственной выгоды. Однако, как подчеркивает автор, «колониальные представления не могут быть целиком сведены к „грубому политическому факту“ колониализма». «Даже вечно популярный образ неполноценности северных народов (включая их превосходство в силу мудрой простоты) не был неизбежным следствием имперской гегемонии»940. Это второй вывод.
Третий вывод — о том, что вера в линейный прогресс, общий путь человечества и универсальность социальных законов вызывала постоянные ожидания (и политические проекты) стирания культурной границы и наступления полного тождества «нас» и «их». Поиск признаков такого процесса и разочарование в результатах этого поиска порождали новые версии универсальности и новые иерархии. Проблема согласования «не совместимых друг с другом романтических и рационалистических аргументов», примирения различий с равенством, изменения оптики взгляда и снятия непреодолимых противоречий остается нерешенной, и ее, вероятно, в принципе невозможно решить941.
Слезкин изначально не обещал какой-то новой, все объясняющей теории, но развернул оптику исследователя с объекта на самого себя, превратив ученого из невидимой фигуры в активного созидателя этого самого объекта, созидателя, подверженного различным субъективным, политическим и идеологическим пристрастиям, а вовсе не являющегося объективной и нейтральной инстанцией, в качестве которой каждый исследователь вольно или невольно стремится себя предъявить. Конечно, для самого американского историка такой разворот не был особенно сложным — в том смысле, что он смотрел на историю России и СССР с определенной дистанции, не будучи связанным ни цеховой лояльностью к российской/советской этнографии, ни личным опытом пребывания внутри нее. Чтобы сами этнографы смогли увидеть себя глазами Слезкина, им необходимо было ощущение кризиса своей науки, дающее возможность сойти с наезженной колеи.
В первом номере первого постсоветского — 1992 года — выпуска журнала с новым названием «Этнографическое обозрение», прежде бывшего «Советской этнографией», директор российского Института этнологии и антропологии В. А. Тишков выступил со статьей «Советская этнография: преодоление кризиса»942. В ней было недвусмысленно заявлено о глубинном кризисе, в котором оказалась советская, точнее уже постсоветская, наука — главной ее проблемой называлась иерархическая система, не позволявшая критиковать господствующие концепции и предлагать новые подходы943. Также Тишков тесно увязал кризис советской этнографии с недостатками при проведении полевых исследований — сужением географии экспедиций и сокращением времени пребывания в них, незнанием местных языков, переориентацией с непосредственного наблюдения на анкетные опросы, свертыванием изучения отдельных общин в пользу народа в целом, безответственностью перед теми, кого изучают, и навязыванием роли старшего брата со стороны столичных специалистов. «Утонченная книжная компиляция никогда не заменит, — писал ученый, — добытого с помощью этнографии первичного знания, никакие метатеоретические или критико-историографические рассуждения не заменят мягко и скромно сформулированных теоретических заметок на полях собственных полевых дневников»944.
Из серии сочувственных или неодобрительных откликов на статью Тишкова, которая задала тон в кризисном восприятии состояния российской этнографии на все постсоветское время945, хочу выделить текст Сергея Соколовского «Этнографические исследования: идеал и действительность»946. Последний, продолжая критику советской этнографии, сделал новый поворот в анализе ситуации в науке947. Соколовский подверг тотальной деконструкции веру в то, что поле является тем местом, где рождаются этнографические факты и проходят истинную проверку теоретические схемы. Размышляя о понятии реконструкции применительно к работе этнографа, Соколовский писал: «Казалось бы, сама интенция дисциплины, именующей себя этнографией, есть чистая дескриптивность, фиксация того, что есть „там“, „вне меня“, а ее кредо — онтологическая феноменология, описание вещей „как они существуют в мире“. Отображение, „фотографирование“, констатация — вот тот модус, в котором должны были бы исполняться все техники и технологии этнографического исследования, и вдруг реконструкция, слитность „вещи“ и „феномена“ оказывается мнимой: язык вскрывает под тонким ледком неразличения непреодолимую пропасть, навеки отсекающую путь нашему исследователю к „обретению“ желанной „вещи“, оставляя его лишь с безнадежно субъективной „интерпретацией“, своего рода „реконструкцией“ чужого и чуждого „конструкта“, перцептивным „следом“ несбывшегося обладания»948. Иначе говоря, провозглашаемая и лелеемая в науке объективность, которую будто бы находят в поле, является, по его мнению, всего лишь стилистическим эффектом, ссылка же на то, что «я там был», служит средством легитимации и утверждения личного или дисциплинарного статуса. Не существует неискаженного восприятия и понимания, разные способы улучшения методики (например, более длительное проживание в поле) решают одни проблемы и создают новые.
Так что же лежит в основании этнографического знания? Профессионализм, который измеряется языковыми навыками, длительным проживанием в изучаемом сообществе, умелым применением разнообразных методик, использованием правильных ссылок на труды предшественников? Или еще умение ученого изложить свою историю в виде академического текста, убедить коллег и аудиторию читателей/слушателей в том, что его личный опыт несет в себе важные наблюдения и выводы?949 Может быть, особенности характера исследователя как личности, его пол, возраст, индивидуальные способности? Связь со структурами власти и с колониальным, европоцентристским и универсалистским взглядом на мир, унаследованным из тех времен, когда этнография была едва ли не прямым проводником имперских интересов?950 Характеристики (общие и национальные) академического пространства, к которому исследователь принадлежит, и то место, которое он в этом пространстве занимает?951
В завершающей части своей книги, разворачивая, вслед за Слезкиным, Тишковым и Соколовским, взгляд с Ошобы на себя в Ошобе, я намереваюсь, во-первых, обрисовать ряд дополнительных черт ошобинского сообщества, которые можно увидеть исключительно благодаря личному этнографическому опыту. Во-вторых, попытаюсь обратить внимание читателей на те обстоятельства и ограничения, которые сопровождали мое полевое исследование и могли существенно повлиять на мои представления об ошобинцах. В-третьих, я собираюсь очертить определенные сферы и вопросы, оставшиеся за рамками настоящего исследования, что позволит, как я надеюсь, уйти от завершенного и застывшего образа Ошобы, возможно, проступающего сквозь текст предыдущих очерков.
Начало
Прежде чем обратиться к собственным воспоминаниям о пребывании в Ошобе в 1995 году, хочу привести один документ 1890 года, который содержит историю краткого путешествия российского колониального служащего в интересующий меня кишлак. Этот документ уникален только потому, что он — единственный сохранившийся (или единственный обнаруженный мной) текст, в котором неошобинец описывает свой опыт общения с местными жителями. Таких «пришельцев», попадавших в кишлак, за последние полтора столетия были тысячи — кто-то приезжал по делу, а кто-то просто случайно, кто-то оставался на день-два, а кто-то жил здесь годами. Но, к сожалению, мне не повстречались письменные воспоминания об этом, кроме свидетельства одного человека — Герасима Павлова, который в рапорте (жалобе!) на имя колониального начальства рассказал (пожаловался!) на прием, оказанный ему в Ошобе во время выполнения им служебных обязанностей.
Случай с Павловым покажет более наглядно (и не без оттенка анекдотичности), что история Ошобы — это не только история вмешательства в ее жизнь государства и ответной реакции местного населения, но также история сложных изменений, происходивших в результате таких воздействий, а еще это история наблюдения за кишлаком, история разнообразных опытов взаимодействия неошобинцев с Ошобой. Мое исследование — лишь один из подобных опытов, в чем-то, наверное, отличающийся от остальных, а в чем-то похожий, повторяющий и воспроизводящий уже однажды открытые/созданные дискурсивные тропы путешествия в неизведанный мир952.
Вот отрывки из архивного дела (многие особенности орфографии я оставляю в оригинальном виде, чтобы читатель мог оценить колорит текста)953:
Рапорт объездчика Павлова господину чустскому участковому приставу.
При сем имею честь донести Вашему Высокоблагородию, во время объезда мною по участку в местности Ашават-сая Ашинской [Аштской] волости 1889 г. сентября 8-го дня встречены мною сарты с дровами и лесом; дрова 6-го сентября — 4 лошака, 8 пучков, пятый лошак с лесом арчевых [арча — древовидный можжевельник] пород, о которых я составил [протокол?] в присутствии понятых и старшины. 8-го же сентября по саю Кызыл-Булак [горная местность в сторону Гудаса] Ашава-сая в верховье встречено мною сарт, который срубил четырнадцать деревьев сырых арчевых пород, и сложенные в аули сего сарта. Я вернулся в кишлак для вызова понятых и старшину для составления протокола. Я приехал в кишлак 7-го числа вечером, сказал старшине, чтобы приготовил понятых завтра утром рано. Я утром спрашиваю, понятые готовы, старшина говорит, что сейчас пойду и найду понятых, и он ушел. Сколько я ждал, все напрастно. Когда я сам пошел и нашел его, он сидел в компании и что-то пили. Я стал говорить, что скоро найдешь понятых, он отвечает скоро. Вызвал уже перед вечером на сай Кызыл-Булак, доехали до верховья сая, где нарублен лес сырых деревьев арчевых пород, которые поверили с понятыми и составили протокол. Получилось ночь темная, дороги нет, ехать было нельзя, остались ночевать. Вечером старшина и понятые збивали [подбивали] меня, чтоб не доносить о лесе ничего. Я ниспал во всю ночь, так как оружие у меня нет, заготовил камней для без опасности и лежал всю ночь, не спал нисколько, да и страшно было спать, когда я слышал заговор, что если он напишет рапорт, мы его кончим и закладем в камни. Старшина и понятые, которые при составлении протокола, утром я встал, стал седлать лошать, они все подходят, берут у меня из рук лошать. Все они озлились, морды ихние зделались дикыми, они хотели меня схватить, ну [здесь и далее — но] не удачно, я убежал пешком до самого близи Камуш кургана [селение Камыш-курган], называется местность Булак [сегодня селение Булак], где имеется на дороге краул, краульщик Сайдали Туйчибаев. Дорога Коканда на Шайдан гнались за мной. Старшина бежал сам в кишлак Ашава, крычал держать меня, ну я с камнями в руках пробежал от места составления протокола, бежал пешком до самого Булака. Лошать злодеи удержали, куржун [кожаный мешок] мой тоже, в куржуне журнал, приказы на дрова, который выданный для записи объезда, и составленные 2 протоколы по саю Ашава. Покорнейше прошу распоряжение Ваше Высокоблагородия. Я пришел к местности Булак, теперь на ноги встать не могу и лошади нет. Когда я убежал от злодеев по саю, попадались люди, которые видели, что я шел пешком от злодеев, видели Досмат Одинаматов и сын его Усмат Досматов, Хусан Сарымсаков, Ирмат Ходжибай, Размат Мирзабай, Тохта Назар Бадаров, Адильмат Уста-Ит, Алимат Уста-Саитов, Мулла Худай-Бирды Мирза-Яров.
Объездчик Павлов 10-го сентября 1889 года послал сей рапорт Абдумумином [из] кишлака Ашава и рапорт волостному управителю Ашинской волости о высылке моей лошади, он же [Абдумумин] доехал до кишлака Ашава и воротился обратно и привозят обое рапорты. Ко мне приезжают и привозят лошадь старшина кишлака Ашава Мухамед-Гази Тагиров954, пятидесятник, который был при составлении протокола, Хал-Мирза Бабаназаров, Имам955 и Абдумуминов, еще какой-то старик, все кишлака Ашава, подают мне горсть серебра и говорят помириться и не писать весь лес, написать только четыре дерева и дают серебра, говорят тринадцать рублей, ну я не взял деньги, потому что не желаю продавать казенный лес. При том был караульщик Сайдали Туйчибаев.
Объездчик Бабадарханской и Ашинской волостей Павлов.
Протокол.
1889 года сентября 17-го дня ко мне, чустскому участковому приставу, капитану [неразборчиво] явился местный объездчик Бабадарханской и Аштской волостей Герасим Павлов, который заявил, что 6-го сего сентября во время объезда по Ашабе-саю им задержаны ашабинские жители [неразборчиво], Мухаммед-Карим Надиров и Игам-Берды Мир-Шарипов, которые везли на четырех ешаках восемь снопов хвороста и на одном — две арчевых лесины, каковой лес был ими самовольно срублен. Захваченных порубщиков вместе с дровами объездчик препроводил в селение Ашабу к местному старшине, где о поимке им был составлен протокол и в удостоверении коего он просил старшину приложить печать, но старшина Мухамед Газы Таирбаев печати к протоколу не приложил и вместо того стал уговаривать объездчика, чтобы о порубке протокол не составил и не доносил, за что предлагал дать ему взятку 2 рубля. Заявитель на таковое предложение старшине не согласился и поехал продолжать объезд, при чем 8-го сентября около аула ашабинского жителя Азиза Аширматова заметил срубленных сырых четырнадцать арчевых бревен, почему возвратился в кишлак к названному выше старшине и стал требовать, чтобы он с понятыми поехал на место для составления акта. Старшина все оттягивал [с] выездом и только выехал с понятыми и заявителем, так что на место прибыли к вечеру. Проверив лес и составив протокол, Павлов заставил понятых приложить тамги [особый знак, которым каждый житель кишлака маркировал свой скот и имущество] на протокол, а старшине предлагал приложить печать, но старшина опять приложить печать не соглашался, а стал уговаривать Павлова не представлять протокола и предлагал ему во взятку десять рублей. Когда же Павлов на предложение старшины не согласился, то он и бывшие с ним понятые: Нур-Мухаммед Ир-Назаров, Усанбай Сарымсаков, Исматкул Пир-Ниязов и пятидесятник Халмирза Бабаназаров сильно разозлились и стали говорить между собою «если он не согласится оставить это дело, то можно его убить и заложить камнями». Кто именно это сказал, заявитель не знает, так как он в это время был в [неразборчиво] и старшина с понятыми разговаривал около [неразборчиво] на дворе. После этих слов заявитель всю ночь не спал и был настороже. Утром опять ему стали предлагать деньги не докладывать, когда же он опять не согласился и хотел поехать, то все они [неразборчиво] подошли к нему и один из названных понятых, по имени коего не знает, но в лицо указать может, отнял у него лошадь. Тогда Павлов, схватив несколько камней для самозащиты, бросился бежать по направлению к кишлаку. Не доходя кишлака, он сел отдохнуть, и вслед за ним подъехал старшина с понятыми и отдали лошадь, но, проехав немного, опять остановились, предложив сойти с лошади и съесть персиков. Когда же заявитель взял персик, то они все опять начали его ругать и подходить к нему, тогда он вторично бросился бежать, при чем пятидесятник Хал-Мирза бросился его догонять, но догнать не мог. Когда бежал заявитель по дороге встретил ашабинских жителей: Достмагомеда Адинаматова, сына его Усмата, Хусана Сарымсакова, Ирмата Хаджибаева, Рузмата Мирзабаева, Тахта Назара Бадарова, которым и говорил о причине побега. Пройдя через Ашабу, заявитель достиг пешком до местности Булака, Бабадарханской волости, где живет дорожный караульщик Сеид-Али Тайчибаев, у которого и [неразборчиво]. На другой день было послано им с ашабинским жителем Абдумумином донесение чустскому участковому приставу и Аштскому волостному Управителю, но старшина Мухамед Газы перехватил эти донесения и вместе с ними приехал в Булак, куда привез и лошадь заявителя. Со старшиной приехали еще: пятидесятник Халмирза Бабаназаров, Абдумумин, возивший донесения, Имам и еще какой-то старик. Старшина приехав отдал лошадь и посланные донесения и стал просить, чтобы оставить дело, при чем предлагал заявителю горсть серебряных монет, говоря, что там 13 рублей, но заявитель на это не согласился и денег не принял. При этом, как предлагал старшина денег, был названный караульщик Сеид-Али Тайчибаев, который слышал весь разговор <…>
1889 года сентября 21-го дня спрошенный ашабинский сельский старшина, Магомед Газы Таирбаев показал: дней 10 тому назад ко мне в кишлак приехал лесной объездчик Павлов и сказал, что на местности Кызыл-Булак произведена порубка, почему потребовал, чтобы я с понятыми поехал с ним для осмотра порубки. На другой день я позвал своего кандидата Нур-Мухаммеда Ир-Назарова и пятидесятника Халназара [Халмирзу?] Бабаназарова и вместе с Павловым поехали на место порубки, которое отстает от кишлака в трех ташах [тош — буквально «камень»; мера длины, около 8,5 км] горной дороги. Туда приехали поздно вечером, потому расположились ночевать и только на другой день осмотрели место. Порубленного леса оказалось четырнадцать арчевых бревен. Когда приехали вечером, мы все были вместе и вместе ужинали, а когда легли спать, то объездчик со мною спал в одной [неразборчиво], а кандидат и пятидесятник спали недалеко. Никакой ссоры или ругани у нас тогда не было и все мы разговаривали и шутили между собою совершенно мирно. Когда же объездчик написал акт о порубке, то стал требовать, чтобы я ему доставил [неразборчиво] Азиса Ашур-Мухамедова, но так как такового дома не было и он куда-то скрылся, то я доставить его не мог, что рассердило объездчика. Потом он потребовал, чтобы я приложил на акт печать, на что я ответил, что печать осталась дома и я приложу, приехав в кишлак, на что он рассердился вторично, но все-таки между нами ссоры или ругани не было. Потом мы все отправились в кишлак и объездчик снова поехал с нами. Доехав до местности [неразборчиво]-булак, мы остановились, и живущий там родственник мой, Адина Мухаммед Каршибаев, пригласил нас закусить, куда я позвал и объездчика, он почему-то отказался есть и пошел пешком по направлению в Ашабу. Мы его нагнали, подвели лошадь и предложили сесть и опять поехали вместе. Доехав до местности Даксар, мы остановились, чтобы съесть несколько персиков, которые нам предложил Бай Турсункулов, и объездчик тогда остановился и съел несколько персиков, но потом чего-то рассердился, оставил лошадь и убежал пешком в Ашабу, причем в кишлаке не остановился, а прошел в Булак Бабадарханской волости. Мы останавливали его, уговаривали взять лошадь, но он взять ее не соглашался и лошадь осталась у нас. На другой день приехал ашабинский житель Мумин Имамбаев, который вез какие-то бумаги, написанные по-русски, и записку на туземном наречии к аштскому волостному управителю, в которой объездчик просил прислать ему лошадь. Прочитав эту записку, я решил лошадь отвести самому, так как на лошади были куржумы, в которых находились какие-то бумаги. Поэтому я взял с собою еще свидетелей: бывшего с нами пятидесятника Халмирзу и ашабинских жителей: Мухамед Мурада Ша-Мурадова956, Имама Муллабаева и его сына Мумина, привезшего записку, и поехали в Булак к объездчику. Павлов находился там у караульщика Сеид-Алия, который был свидетелем, как я передал Павлову лошадь, куржумы и бумаги. Когда же я спросил его, зачем он бросил лошадь и ушел, то он сказал, что это сделал, рассердившись за то, что ему не доставили Азиса Ашур-Мухамедова, нарубившего лес. Я же со своей стороны поступок Павлова ничем объяснить не могу и не знаю, что послужило поводом к тому, что он от нас убежал и на нас пожаловался. Денег во взятку Павлову ни я, ни кто из понятых, бывших со мною, не предлагал и не давал, а также не хотели мы вовсе скрыть порубку леса. Если это заявляет Павлов, то это все неверно и им выдуманное. Кроме меня на месте порубки были названные понятые, а также ашабинские жители Усанбай Сарымсаков и Исматкул Мулла Пир-Ниязов, которые тоже могут подтвердить мои показания. В показании записано неверно относительно осмотра леса, мы осматривали порубку и лес не на другой день, а в тот же вечером, как и приехали в Кызыл-Булак. Что же касается, что я не приложил печати к акту объездчика о задержании им хвороста и леса на пяти ишаках, то опять же в то время печати при мне не было, а таковая находилась у состоящего временно при мне мирзою ашабинского жителя Муллы Сафара Муллы Абдужаппара. Хворост же и лес находится у меня на хранении <…>
1889 года сентября 21-го дня спрошенный кандидат старшины Мирза-Мухамед [Нур-Мухамед?] Ир-Назаров показал <…> Я ехал с объездчиком и старшиною почти до самого кишлака Ашабы и остался при въезде в кишлак на мельнице Ниязбатыра, а объездчик со старшиною отправились дальше в кишлак. Пятидесятник Халмирза остался в Даксаре, а Усанбай и Исматкул, которые были на Кызыл-Булаке, там же и остались. Если вышла какая ссора у старшины с объездчиком, то разве в то время, когда они остались вдвоем, при мне же никакой ссоры у них не было <…>
1889 года сентября 22-го спрошенный Ашабинский пятидесятник Халназар [сверху подписано — Мирза] Бабаназаров показал <…> и по осмотре леса в тот же вечер я вернулся на местность Даксар, где и ночевал. При мне на Кызыл-Булаке с объездчиком никакой ссоры не было <…> Старшина, кандидат и объездчик на другой день застали меня в Даксаре. Там они остановились и ели персики, при этом никакой ссоры у них не было. Потом все они собрались и пошли пешком, ведя лошадей за собою, лошадь же объездчика повел кандидат старшины. Я же остался в Даксаре и отправился после них <…>
1889 года сентября 27-го спрошенный Имам Муллабаев показал: я живу на местности Япуклы [Епугли] недалеко от местности Булак Бабадарханской волости. Дней 16 тому назад старшина Магомед-Газы прислал ко мне Мухамед-Мурада, который сказал, что объездчик Павлов поссорился со старшиною и ушел из Ашабы пешком, оставив там свою лошадь, почему старшина послал узнать, где именно находится Павлов, чтобы отдать ему лошадь. Зная, что объездчик часто останавливается у дорожного караульщика Сеида-Али в Булаке, я послал туда своего сына, Мумина, чтобы узнать там ли объездчик? Спустя несколько времени приехал Мумин и привез какие-то бумаги, при чем сказал, что Павлов в Булаке, и дал бумаги для передачи старшине. Я приказал сыну бумаги тотчас же отвезти к старшине, и он поехал, а Мухамед-Мурад остался отдохнуть у меня <…>
1889 года сентября 27-го спрошенные ашабинские жители: Усан Сарымсаков, Усман Дост-Мухамедов, Ир-Мухамед Ходжибаев, Рузы-Мухамед Мирзабаев, Тахта Назар Бабаев, Мулла Худай-Берды Мирзаяров, Дил-Мухамед Хаитов и Али-Мухамед Уста-Сеидов, всенародно показали совершенно одинаково, что видели действительно идущего пешком лесного объездчика Павлова, который подходил к ним, спрашивал их имена и записывал, но больше ничего им не рассказывал, и почему он шел пешком, им неизвестно <…>
1889 года сентября 28-го дня Камыш-Курган. житель Сеид-Али Тайчиев показал <…> Когда я приехал, то заметил, что Павлов что-то прихрамывает, и когда спросил его причины, отчего он хромает, то он сказал, что ездил в Ашабу, где нашел порубку, и когда пригласил старшину, то последний, прибыв со своим кандидатом и еще с кем-то, наносил ему много оскорблений и до того напугали его, что он вынужден был бросить лошадь и уйти домой пешком, вследствие чего натер себе ноги и хромает <…> Потом Павлов обратился к Имаму и другим рядом сидевшим и спросил, зачем они приехали, на что Имам ответил, что они приехали помирить его со старшиною и привезли денег. Тогда старшина вынул из-за опояски платок, из которого высыпал горсть серебра в сартовских коканах [чеканенная в Кокандском ханстве мелкая монета стоимостью 20 копеек и разрешенная к обращению в Туркестане до 1895 года], и сказал, что там 13 рублей, положил их перед Павловым. Павлов сейчас же встал, отошел в сторону и подозвал меня. Когда я подошел, то он просил сказать, чтобы они деньги спрятали, что он денег не возьмет <…>
9-го октября 1890 года <…> Приказали: Из обстоятельств настоящего дела видно, что заявление объездчика Герасима Павлова <…> ничем на дознании не подтвердилось и что к обвинению старшины может служить единственное показание свидетеля караульщика Сеид-Алиевого <…> Принимая во внимание, что лиходательство <…> наказуемо лишь тогда, когда лиходатель склонил должностное лицо к совершению этого действия <…> и что одно предложение взятки не наказуемо <…>, Общее присутствие Ферганского областного правления определило <…> освободить старшину Таирбаева от всякой ответственности.
Это дело — казалось бы, рядовой конфликт между колониальной властью и местным населением, точнее, между двумя традициями собственности — государственной в том виде, как ее формулировали российские чиновники, и локальной как она сложилась в обычаях местного населения957. На этот конфликт правовых традиций наложилось еще и противостояние своих и чужих. Лесник Павлов наивно и потому весьма красочно описывает поведение местных жителей как странное, скрытное и изначально враждебное. Выражение «дикые морды», которое он употребляет, ясно указывает на популярное среди российских чиновников представление, что сарты — отсталый народ, не умеющий жить по цивилизованным законам958. Чуждость, следовательно, была связана с культурной иерархией, чувством превосходства и доминирующим социальным положением. Правда, позицию Павлова в изложенном документе нельзя назвать абсолютно доминирующей — в его словах слышится не столько уверенность в своей силе, сколько страх перед местными жителями. «Дикые морды», которые, как ему казалось, его окружали, были ниже по формальному статусу и одновременно представляли опасность — запуганный лесник пытался использовать свою власть и, столкнувшись с неподчинением, вынужден был бежать и апеллировать к силе наказания. Любопытно при этом, что и решение вышестоящих чиновников оказалось не в его пользу, а значит, существовал сложный баланс отношений власти, в которых голос колонизируемых (пусть даже, возможно, благодаря взяткам) был слышим и учитывался при вынесении разного рода вердиктов.
Самое занимательное в процитированном документе — несовпадение двух взглядов на одну и ту же историю. Если Павлов сообщал о попытке убить его, о том, как его преследовали, как пытались подкупить, то со слов ошобинцев, Павлову оказывалось все необходимое внимание, указания его в целом выполнялись, правда, тот в ответ вел себя странно, капризничал и требовал невыполнимого. Конечно, лесник — например, поссорившись с местным аксакалом и не встретив с его стороны должного почтения — мог сознательно преувеличить угрозу своей жизни, чтобы вызвать у чиновников в отношении ошобинцев те же смешанные чувства собственного превосходства и страха и добиться таким образом своей цели — наказания обидчиков. Конечно, и ошобинцы могли сговориться и солидарно сделать вид, что ничего не было, а проблема только в фантазиях Павлова. Иными словами, наличие двух разных версий в расследовании могло быть (и, скорее всего, было) результатом вполне сознательной обоюдной тактики замалчивания и реинтерпретации.
Впрочем, я не исключаю и какого-то элемента взаимного культурного недопонимания, то есть столкновения двух разных способов осуществления власти. Приведу, может быть, посторонний, но знакомый многим пример: человек, привыкший к ценникам в магазинах, оказывается в стрессовой ситуации, попадая на так называемый восточный базар, где продавец заранее не выставляет окончательную стоимость товара, поскольку она выяснится путем соревнования продавца и покупателя в умении торговаться, — такой способ покупки у многих вызывает подозрение в жульничестве продавца и даже его враждебности по отношению к простодушному покупателю. «Эй, — однажды кричал мне вслед самаркандский торговец, — ты куда убегаешь? Давай поторгуемся, и я снижу цену!»
Нечто подобное могло иметь место в 1889 году в Ошобе. Неспешность в выполнении требований, на которую жаловался Павлов, могла быть обычным ритуалом приема гостя, которого обязательно надо было угостить и обеспечить возможностью отдохнуть. То, что лесник считал подкупом, местными жителями, еще недавно находившимися под властью кокандской администрации, воспринималось как положенная чиновнику доля для обеспечения мирного решения вопроса. Некие тайные переговоры, которые вызвали у Павлова подозрение, возможно, были обсуждением того, каков ранг объездчика и какая доля ему должна полагаться. Попытки догнать убегающего лесника предпринимались вовсе не из желания причинить ему вред, а только с целью достойно проводить гостя и понять, чего он хочет на самом деле. Не исключено, что те следователи, которые разбирали эту конфликтную ситуацию, увидели — речь идет всего лишь о непонимании сторонами действий друг друга, поэтому вынесли решение в пользу обвиняемых.
Если это мое предположение верно, то выходит, что характеристики ошобинцев, данные Павловым, основывались на искаженной оценке ситуации, в которой произошел конфликт. Лесник плохо разобрался в мотивациях и поведенческой тактике местных жителей и нарисовал, следуя своим предубеждениям, неверную картину происходящего. Парадокс в том, что его привилегированная, при всех оговорках, позиция колониального служащего делала представленные им характеристики намного более доступными для внимания вышестоящих чиновников (а потенциально и любых русскоязычных читателей), а значит, и более значимыми для формирования образа Ошобы. Даже тот факт, что спустя 120 лет я публикую сохранившийся рапорт Павлова и не имею возможности воспроизвести в полном и аутентичном виде интерпретацию тех событий жителями кишлака, говорит о такой диспропорции, которая становится, следовательно, отличительной чертой нашего знания об этом селении.
Случившееся с Павловым очень похоже на то, что происходило со мной в 1995 году. Как и лесник сто лет тому назад, я прибыл в Ошобу — уже в качестве ученого-этнографа — и пытался чего-то добиться от местных жителей, понять их, осмыслить, где я оказался и о чем, собственно, хочу узнать. Как и Павлов, я испытывал беспокойство и страх оттого, что за мной наблюдают, за моей спиной обо мне что-то говорят и при этом я сам не могу оценить, до какой степени понимаю окружающих людей и их жизнь. Когда я вернулся из кишлака и пытался уже на определенной дистанции осмыслить и изложить в виде научного текста то, что увидел и услышал, к усилившимся сомнениям и недовольству собой добавилось ощущение, будто я вторгаюсь в чужие судьбы, переделываю сложную реальность под какие-то свои личные задачи и предпочтения, а моя субъективная и по-своему ограниченная точка зрения может превратиться в окончательный приговор людям и сообществу в целом.
Вхождение в поле
Как выбрать кишлак?
Мой выбор Ошобы был случайным. Я не искал для своего исследования локальное сообщество с какими-то определенными социальными и демографическими характеристиками, и у меня не было готовых представлений о «среднем» или «типичном» кишлаке. Я уже проводил исследования в 1988–1991 годах в Ферганской долине, жил по нескольку месяцев в других селениях, поэтому не имел иллюзий по поводу типичности. Каждое такое место, каждая община, каждый человек уникальны, и интересно понять и изучить эту уникальность, а не умозрительную усредненность.
Первоначально у меня было только три самых общих, практического свойства критерия. Первый — это должна была быть Ферганская долина, и кишлак должен был быть узбекским, так как к тому времени я немного изучил узбекский язык и совсем не знал таджикского и киргизского. Второй критерий — кишлак должен был быть по возможности не очень большим, чтобы я мог познакомиться со всеми его жителями и проследить максимально полно все цепочки связей между ними. Третий — мне нужна была поддержка каких-то местных жителей, которые помогли бы мне устроиться в кишлаке, договориться с местной властью и найти жилье. В результате же выбор все равно лишь отчасти совпал с моими пожеланиями.
Хотя до того я работал главным образом в Узбекистане, мне показалось, что подходящий кишлак можно найти в таджикистанской части Ферганской долины, и я обратился за помощью к своему старшему коллеге (к сожалению, теперь уже покойному) — Валентину Ивановичу Бушкову, который многие годы работал в Ленинабадской области Таджикистана. Мы вместе полетели в Ходжент (бывший Ленинабад) и встретились там с таджикским этнографом Мухиддином Файзуллаевым, которого Бушков давно знал и с которым я тоже был знаком. По совету Файзуллаева было решено обратиться за помощью к Фарруху Шарипову, старому приятелю моих коллег. Он был родом из Шайдана, центра Аштского района, и работал начальником одного из отделений ходжентской милиции, что было для нас совсем не лишним. Так выбор сузился до одного района.
Дальше все зависело от личных связей Шарипова, а такие связи были у него с Ошобой. Дело в том, что, несмотря на свою таджикскость, о которой, поругивая узбеков, он говорил при каждом удобном случае, Фаррух Шарипов имел тесные родственные связи с узбеками. Его бабушка (мама матери) и жена были ошобинками: бабушка являлась сестрой Бободжан-раиса Юлдашева959, чье имя, правда, в тот момент мне ничего не говорило. Бушков, Файзуллаев и я отправились вместе с Шариповым в Ошобу, заехали к его родственникам, познакомились с Бободжан-раисом — к тому времени уже дряхлым стариком, бодрость которого поддерживалась, кажется, только легкими наркотиками. Затем мы поехали в Оппон, где я кратко рассказал председателю колхоза о своих планах, после чего он кому-то позвонил и дал указание разместить нас при ошобинской больнице, в небольшой комнатке для приезжих.
Скоро мои коллеги и я переехали в Ошобу. Кишлак оказался огромным — около 700 семей, не считая жителей остальных селений джамоата/сельсовета. Это меня очень расстроило: если на каждую семью тратить хотя бы день (чтобы пообщаться, записать услышанное и увиденное), то для знакомства со всеми понадобится два полных года! Я понимал, что за несколько месяцев каких-то прочных отношений с местными жителями в такой ситуации у меня не сложится — не будет возможности вести длительные и доверительные разговоры с одними и теми же людьми, наблюдать за их жизнью, уточнять и перепроверять данные, и я буду вынужден, пытаясь охватить более широкий круг информаторов, проводить непродолжительные опросы, хотя подбор моих собеседников все равно останется ограниченным. Следовательно, одно из моих предварительных условий оказалось невыполненным.
Однако менять что-либо было сложно — время шло, и я не мог продолжать тратить дни и недели на поиски новых вариантов, скорее всего, столь же непредсказуемых. К тому же оказались задействованными многие личные договоренности, которые неудобно было нарушать. Таким образом, стремление найти поддержку среди местных жителей — третий критерий отбора кишлака для изучения — обернулось тем, что я сразу попал в зависимость от этой поддержки и уже не я сам, а за меня делали выбор.
Как закрепиться в кишлаке?
Остаться в Ошобе было полбеды. Но я никак не мог себе позволить жить несколько месяцев в комнатке при больнице (Илл. 62)! Там мне пришлось бы все время находиться у всех на виду, без какой бы то ни было возможности уединения. В комнатке не было кухни, что ставило передо мной проблему питания: обе существовавшие в кишлаке чайханы в 1995 году не функционировали, в больничной же столовой кормили очень однообразно и более чем скудно. Ну и, наконец, в мои исследовательские планы изначально входило наблюдение за повседневной жизнью какой-нибудь местной семьи — лишить себя такого поля я не мог, зная, что только проживание в чьем-либо доме даст шанс проникнуть в кишлачные секреты.
Илл. 62. Дом при больнице, в котором я жил в 1995 г.
Со своими спутниками, помогавшими мне в самом начале, я отправился к руководству сельского совета и попросил найти семью, которая согласилась бы принять меня в качестве жильца — конечно, за какую-то плату. Над моей просьбой задумались и обещали помочь. Вскоре меня представили К., бывшему учителю, а к тому времени пенсионеру. Мы отправились к нему домой. Дом находился в удобном месте, в самом центре Ошобы. К. жил с женой, их младший, но, конечно, уже взрослый — успевший жениться — сын умер (потом я узнал, что он повесился), невестка уехала, поэтому в доме была свободная комната, которую мне и предложили. Поселиться в семье К. было удачей, что почти примирило меня с Ошобой.
После того как бытовые вопросы были решены, мы вернулись в Шайдан, потом поехали в Канибадам, где я неделю работал в архиве, снова заглянули в Шайдан и Ошобу, а затем уехали в Ходжент. Оттуда Бушков улетел в Москву, я же, уже в одиночку, прямиком отправился в долгожданное поле, в дом К. Неделю я знакомился с кишлаком, постепенно расширяя свои знакомства, много общался с приютившим меня хозяином, который поделился массой интересной информации, положившей начало моим дальнейшим разысканиям. И вдруг по прошествии этой недели (дальше цитирую свой дневник):
Встал утром. Все, вроде, как обычно. Пил чай. Кушал лепешки. К. отправился что-то делать. Прохожу как-то мимо него, а он вдруг говорит: «Сергей, ищите себе другое место сегодня». Как гром среди ясного неба. «Почему? У вас есть какие-то проблемы с продуктами?» — «Нет, — отвечает, — продукты как-нибудь найдем. Туда-сюда ездить надо». Куда ездить — ничего не понял. Побежал на улицу, встретил секретаря сельсовета, а он говорит, что К. собрался по делам уехать из Ошобы и что он (секретарь) уже говорил, чтобы мне место определили опять в больнице. Оказывается, К. уже заранее решил от меня избавиться и заранее предупредил об этом сельсовет! А ведь только неделю назад обещал: сходим туда, сходим сюда, поедем с председателем колхоза по полям. Прошла лишь неделя, и все опять надо начинать заново.
Это был настоящий шок. Почему К. вдруг решил нарушить договоренность, точно сказать не могу. Его объяснение, что он хочет куда-то уехать по делам, в принципе выглядело правдоподобным. В Ошобе люди жили, не выстраивая долгосрочных планов: если условия и возможности изменялись, многие были готовы тут же на это отреагировать — собраться и уехать, бросить одну работу и перейти на другую, пока же ничего не происходило, неспешно копались у себя на участке или бездельничали в чайхане. Если у К. появились какие-то срочные дела, то, конечно, он не мог уехать, оставив меня в своем доме. Однако я больше склонялся к версии «заговора» и чувствовал, как и Герасим Павлов за сто лет до меня, что попал в какую-то ловушку. Точнее, версий было две.
Первая — ошобинские начальники наблюдали за мной (со многими из них я успел пообщаться) и, видимо, не очень понимали, что я делаю в кишлаке. Если встать на их позицию и учесть их жизненный опыт, то мои действия — интерес к делам колхоза и родственным связям, переписывание книг в сельсовете, собирание всевозможных слухов и так далее — должны были выглядеть в их глазах крайне подозрительно. В очередной раз напомню, что в 1995 году в Таджикистане шла настоящая гражданская война с исламской оппозицией и одновременно сложная внутренняя борьба внутри элиты — борьба на всех уровнях. Ошобинская верхушка, имея определенные успехи в этой борьбе, тем не менее чувствовала себя неуверенно — у этих людей было много внешних и внутренних оппонентов, или врагов, как они считали. Тем более у них была стигма узбекского меньшинства в национальном таджикском государстве. Возможно, их подозрения и страхи по поводу того, кто я и чем занимаюсь, дошли и до К., который имел родственные связи с председателем колхоза, и, предложив мне уйти из его дома, он решил таким образом обезопасить себя — не брать на себя ответственность за мои поступки. Вторая версия, менее реальная, но тоже правдоподобная, — К. регулярно посещал мечеть, где в то время тон задавали радикально настроенные лица960, и влияния на него каких-то разговоров о том, что с русским тесно общаться не стоит, я также не исключаю.
Итак, мне пришлось опять поселиться в комнате при больнице. Исследование потихоньку продвигалось, я старался больше общаться с жителями кишлака и не оставлял надежды найти тех, кто согласился бы принять под свой кров чужестранца. Однако любые мои намеки на то, что я хочу переселиться в жилой дом, оканчивались неудачей. Первая половина 1990-х годов была тяжелым временем для ошобинцев: зарплаты практически перестали выплачивать, доходы от приусадебных участков резко снизились. Жители кишлака испытывали огромные экономические трудности и постоянный стресс. Все были дезориентированы в оценке того, что будет дальше, как лучше поступать, с кем можно иметь отношения, а от кого надо бы держаться в стороне. Никто не спешил давать каких-то обещаний и что-либо предпринимать, не зная, чем это может закончиться. Не помогала в том числе и моя готовность оплачивать проживание. Люди не только опасались, что их расходы на содержание гостя превзойдут компенсацию с его стороны, но и не хотели привлекать к себе внимания пересудами в кишлаке.
Как показал неудачный опыт с К., из числа тех, кто мог бы принять меня в своей семье, выпала целая категория — местная интеллектуальная элита в лице учителей, врачей, работников сельсовета. Знание русского языка и навыки общения с представителями других культур, полученные во время учебы в городе, а также неплохое финансовое положение в советское время делали именно их наиболее подходящими для роли проводников в мир локального сообщества. И действительно, во время своей полевой работы в Ошобе я постоянно пользовался такого рода помощью. Тем не менее никто из знакомых учителей или врачей, с которыми я почти сдружился и проводил много времени, не решился пригласить меня пожить у него. Более того, — и это было еще удивительнее — мало кто приглашал меня к себе домой с обязательным для такого события угощением (от которого, признаюсь, я бы не отказался, постоянно пребывая в полуголодном состоянии).
Сейчас я объясняю этот факт не только подозрениями в мой адрес и экономическим расчетом — нежеланием тратить деньги на прием гостя, но и определенным кризисом социальных статусов. Интеллектуальная элита, которая прежде занимала высокое положение в местной иерархии, больше всех пострадала от перемен, последовавших за падением советского строя. По ней экономические трудности и распад СССР, крушение идеологии и политического режима ударили в первую очередь и сильнее всего. Все материальные и символические ресурсы, на которые эти люди опирались, в одно мгновенье девальвировались. Учителя и врачи были просто не в состоянии сохранять те высокие стандарты престижности, в том числе гостеприимства, которых требовал их прежний статус. В этой ситуации пригласить меня к себе домой и продемонстрировать свое нынешнее плачевное положение казалось им гораздо большей проблемой, чем не приглашать вовсе. Ровно по этой же причине прекратилось проведение махалля-туев961.
Сказанное объясняет, чтó случилось дальше. Спустя примерно полтора месяца моего пребывания в кишлаке и поисков подходящего жилья поселиться у него в доме мне предложил Х. — один из самых бедных на тот момент жителей Ошобы, который жил около больницы и с которым поэтому я часто сталкивался. На первый взгляд удивительно, что во время кризиса семья Х., видимо, испытала наименьший шок, однако этому есть объяснение. Конечно, как и другие ошобинцы, эта семья многое потеряла и едва сводила концы с концами, но в то же время их социальный статус нисколько не изменился: они были внизу социальной иерархии — внизу нее и остались. Х. не трогали слухи и местные политические интриги, не особенно заботила проблема сохранения социального престижа, а вознаграждение, которое я предлагал, было вполне ощутимой добавкой к скудному бюджету его хозяйства.
Я недолго думал над предложением Х. — моя поездка приближалась к своей середине, а мне необходимо было погрузиться в быт местной семьи и посмотреть на ошобинское сообщество изнутри, пусть и глазами самых бедных его представителей. И в дальнейшем в своем переселении к Х. я не разочаровался. Благодаря его соседским и родственным связям я ближе познакомился с кругом людей, которые при иных обстоятельствах, скорее всего, выпали бы из моего поля зрения, увидел Ошобу из той точки, какую мне было бы трудно занять, общаясь исключительно с местной интеллигенцией.
В поле
Наблюдение или участие?
Попав внутрь местного сообщества, я сразу, поначалу даже не осознавая этого, оказался на сложных пересечениях различных интересов и влияний. С первой минуты появления в Ошобе я уже находился под воздействием всех этих течений — меня самого изучали, разглядывали, во мне видели того, кем я не мог себя и вообразить. Я вступил в сложные отношения с ошобинским обществом, и эти отношения не были мне подвластны.
Еще одно происшествие стало для меня и предостережением, и испытанием.
В тот июньский день я был в гостях у С., моего ровесника. Встретились мы накануне на одной из свадебных вечеринок962, разговорились. На самой свадьбе он вел себя развязно — шумел, матерился. Позвал меня к себе домой в гости, я отказывался, но потом поддался на уговоры — в гости, как я уже говорил, меня звали нечасто, и надо было пользоваться любым приглашением, чтобы посмотреть, как живут ошобинские семьи, и иметь шанс пообщаться подольше и в более непринужденной обстановке. Придя к себе домой, С. вдруг присмирел, перестал демонстрировать крутость и развязность. Жена подала ужин, мы с хозяином разговорились. С. занимался частной торговлей — вместе с друзьями-таджиками закупал и отвозил козий пух в Улан-Удэ; пока работы не было, он без дела сидел в Ошобе, выпивал каждый день, искал, чем заняться и с кем поболтать. Разговор продолжался до поздней ночи, и я остался у С. ночевать.
Рано утром мы вместе вышли на улицу, и С. опять повел себя активно и шумно, привлекая к себе внимание окружающих. Он затащил меня в чайхану, здесь же оказались его знакомые (в Ошобе все знакомые) и спиртное. Я посидел в этой компании полчаса, выпил свою долю — две пиалки дрянной водки — и отправился домой спать. А к вечеру узнал новость, о которой записал в своем дневнике:
Значит, история с убийством такая. Утром еще один мужик (Т.), ему около 50 лет, решил купить мясо. Мясник, ему было около 60 лет, отказался продавать за таджикские рубли и потребовал российских. Первый мужик, видимо очень скандального характера (он поссорился как-то с отцом, украл у него деньги и сидел за это в тюрьме, от него ушла жена), пошел в сельсовет и сказал председателю, что вот, мол, так и так, если не продаст мясо, убью. Аксакал пообещал разобраться. А этот Т. где-то потом успел выпить (якобы его споил один из мужичков, с которыми я утром сидел в чайхане — и это мне теперь многие напоминают, что, конечно, не очень хорошо), вызвал мясника на улицу и ударил его ножом в шею и живот. Характерная деталь: когда медики приехали к убитому, рядом на улице совершенно никого не было (а это довольно людное место — Бозор-баши), и только когда стали его забирать, появились люди, а к вечеру там была уже целая толпа мужчин. Теперь здесь все только и говорят об этом убийстве да о таджикских деньгах. Кстати, у мясника, хотя и была жена, детей не было: жили убийца и убитый недалеко друг от друга.
Причина конфликта была связана с введением в начале мая 1995 года в Таджикистане собственной местной денежной единицы — рубл (в местном правописании без мягкого знака)963. Новые деньги по номиналу, цвету и рисунку были похожи на старые советские купюры, но меньше размером. По объявленному официальному курсу один рубл приравнивался к ста российским рублям. В середине мая этими новыми деньгами стали выдавать пенсии и часть (не более 50 %) зарплаты, приблизительно 250–500 таджикских рублей на человека. Разумеется, такой суммой — примерно от 5 до 10 долларов США964 — обеспечить домохозяйству весь наличный оборот было невозможно, а значит, все продолжали пользоваться российскими деньгами, что формально считалось незаконным. К этому надо добавить, что российский рубль сохранял свое значение в качестве основного средства платежа и потому, что пользовался спросом при торговле в Узбекистане и в других соседних странах (доллар был недоступен местному населению), тогда как таджикский рубл там мало кому был нужен.
На черном рынке рубл, не успев войти в обращение, тут же рухнул в два раза — за один рубл давали только пятьдесят российских рублей. Это стало причиной множества конфликтных ситуаций. Частные продавцы товаров и услуг не хотели терять половину своей выручки и поэтому, естественно, требовали платы российскими, а не таджикскими рублями. Покупатели товаров и получатели услуг вполне, как они полагали, справедливо, по закону требовали принимать таджикские рубли по курсу, установленному государством. Такое противоречие между официальным курсом, утвержденным по советской привычке, и теневым, сложившимся стихийно, столкнуло интересы различных людей. В результате деньги, будучи, согласно политэкономическим законам, средством безличных рыночных отношений, оказались в плену локальных личных связей и представлений о справедливости.
Т., судя по рассказам, был человеком неуравновешенным, но тем не менее он действовал по логичной для советского времени схеме: обратился к представителю власти, который в этой ситуации ничего не мог и не хотел делать, потом, поняв, что чиновники самоустранились, выпил спиртного и уже после того, получив все возможные моральные и физические допинги, набросился с ножом на обидчика. Я также предполагаю, что между соседями бывали и другие ссоры, если они не смогли решить вопрос о цене мяса полюбовно, а данный конфликт был лишь кульминацией прежних отношений.
Так или иначе, среди действующих лиц в цепи событий, которые привели к преступлению, оказался и я. Убийца выпивал в компании, которая образовалась и при моем участии, что не осталось незамеченным — при обсуждении этой истории все упоминали данный факт. Через неделю-другую о происшествии уже не вспоминали, и, очевидно, оно никак не отразилось на моем общении с ошобинцами, но все-таки несколько часов и даже дней я находился в некотором смятении и напряжении, не зная, каких последствий мне теперь ждать.
Таким образом, вопреки собственному желанию я оказывался замешанным во внутриошобинских процессах, о которых имел смутное представление и результатов которых не мог ни прогнозировать, ни предупреждать. Попав в поле, я влиял на своих информаторов и сам же попадал под их влияние. Меня использовали — иногда втемную, выставляя как щит или таран, мной манипулировали, вокруг меня разворачивались скрытые сражения и интриги. Не подозревая этого, я становился заложником изучаемых мной людей и обстоятельств.
Наблюдение за наблюдающим
Расскажу об одном маленьком приключении, чтобы завершить разговор о своем вхождении в поле и тех препятствиях или условиях, которые возникали на этом пути.
Это тоже было в июне; вот что я записал в дневнике:
Приехали на машине два мужика. Один ко мне подсел: «Вы откуда? Чем занимаетесь? Как живете?» Вроде бы обычный интерес. И вдруг: «Покажите-ка свой паспорт». А сам кто такой — не говорит. Нетрудно, впрочем, было догадаться — из местного КГБ. Я, конечно, паспорт дал, но сначала объяснил, что знаком с Фаррухом Шариповым [напомню, он занимал большую должность в милиции]. Это несколько охладило пыл. Потом было самое интересное. Мужик представился: «Я Мамадов, начальник районного КГБ. Если у Вас будут какие-то проблемы националистического характера, обращайтесь вот к нему», — и показывает на одного из врачей больницы (мы уже сидели у него в кабинете — я сначала не понял, зачем окончание разговора ведется при этом враче — он, кстати, молчаливый и я о нем мало знаю). Может быть, меня приняли за агента Ташкента? Во всяком случае, волей-неволей местный начальник КГБ признался, что его беспокоят таджикско-узбекские взаимоотношения в районе. Любопытно, что он мне открыто показал своего внештатного сотрудника в Ошобе. Интересно только, этот начальник случайно заехал в ошобинскую больницу (вроде бы искал доктора) или сделал вид, что случайно, а на самом деле проверял меня?
Сейчас уже надо, наверное, объяснять молодому поколению, что Россия и Средняя Азия были когда-то одним государством. Начав в 1988 году этнографические исследования в этом регионе, я ездил не в другую страну, а в свою — с одной и той же властью, с одной и той же идеологией, с теми же деньгами и с тем же социальным порядком. При этом существовали свои формальные и неформальные правила, согласно которым, например, приезжего из Москвы, из Академии наук, даже если это был всего лишь 25-летний начинающий ученый, принимали как важного гостя: на разных мероприятиях сажали на одно из самых почетных мест — вместе со стариками, местное начальство считало своим долгом пообщаться и оказать внимание. Среди населения ходили разговоры, что приезжие, которые выдают себя за этнографов и интересуются подробностями местной жизни, на самом деле кагэбэшники. Помню анекдотический случай, когда один мой узбекский знакомый (это было в 1990 году) спустя весьма продолжительное время, которое я жил в его семье, убежденно заявлял, что я на самом деле «из КГБ» и никакие мои опровержения не убедят его в обратном. Так или иначе, хотя аспирант или младший научный сотрудник из Москвы занимал, как и Герасим Павлов, низкую ступень в формальной социально-административной иерархии — даже более низкую, чем многие местные жители, неформально он оказывался, подобно леснику Павлову, в роли «старшего брата», носителя символических властных полномочий и получал целый ряд привилегий. Этот факт свидетельствовал о неинституционализированных диспропорциях в статусах, которые сохранялись в советское время. Впрочем, пожалуй, я был бы в похожем положении, если бы проводил исследования и в российской глубинке.
В 1995 году я попал в совершенно новую, непривычную для себя ситуацию965. Таджикистан стал независимым государством, появились границы, на которых проверяли паспорта и вещи, начали выпускать свои деньги. Здешние государственные институты больше не подчинялись Москве (хотя советский центр все еще имел огромное влияние на республику, поскольку на ее территории по-прежнему находились российские войска и значительная часть гуманитарной помощи шла из России). Старые привычки еще действовали и отношения выстраивались по той же — похожей на колониальную — схеме, но все чаще мне приходилось оглядываться по сторонам и ловить себя на мысли, что я нахожусь в другой стране. Теперь я был не представителем того места, где сосредоточена верховная власть и принимаются решения и которое можно было бы назвать метрополией или центром. Теперь я был чужаком, иностранцем, представителем государства, которое, как могли предположить местные чиновники, преследует собственные интересы, не совпадающие отныне с интересами независимого Таджикистана. При этом для локальной власти был еще важен вопрос, какое именно государство я представляю и какие задачи здесь выполняю.
Оптика
Войдя или входя (этот процесс вряд ли можно считать в какой-то момент законченным) в поле, я уже оказался в определенных отношениях с разными людьми и группами, какие-то из них были мне ближе, какие-то — дальше, с одними я мог найти контакт, с другими — нет. Вся эта конфигурация связей уже определенным образом направляла, помимо моей воли, исследовательские интересы, создавала определенную оптику видимого и невидимого, существенного и второстепенного.
Заметной частью моего круга общения в Ошобе, как я уже говорил, были учителя и врачи. Это объясняется, в частности, тем, что жил я при больнице и рядом с больницей, там меня знали, ко мне привыкли, там люди считали себя хозяевами, которые должны заботиться обо мне как о госте. Около больницы было своеобразное место сбора, где врачи и учителя, свободные от работы, могли посидеть, перекусить, сыграть в шахматы или в карты. И я часто проводил свой досуг с ними, с азартом играл в шахматы и много общался, используя такую возможность для установления контактов. Шахматные баталии были удачным поводом для начала общения, так как никто не воспринимал наблюдение за игрой или участие в ней как вторжение чужака в их личное пространство — по умолчанию в игре могли участвовать все желающие (Илл. 63).
Конечно, учителя и врачи, а в кишлаке их было, напомню, несколько десятков человек, — это люди, с которыми я мог почти свободно разговаривать по-русски. К тому времени я немного знал узбекский язык, мог вести какую-то простую беседу, задавать вопросы и понимать сказанное в ответ, мог следить за разговорами окружающих и читать не слишком сложные тексты; к концу моего пребывания в Ошобе эти умения окрепли. Некоторое знание узбекского языка позволяло мне также демонстрировать свое желание сблизиться с людьми, преодолеть барьер недоверия. Передавая меня по цепочке знакомым и родственникам, мой очередной визави обязательно добавлял: «Он понимает, знает по-узбекски», — что сразу настраивало разговор на дружелюбный лад. И все-таки для более откровенного и более спонтанного общения, необходимого для вживания в местное общество, мне, разумеется, комфортнее было говорить по-русски. И это было вполне реально. Русский язык в советское время был обязательным предметом в школах, телевизионные программы шли на русском языке, русские или русскоязычные люди время от времени приезжали в кишлак, поэтому даже те жители Ошобы, которые (к их числу относились в основном женщины) редко выезжали за пределы кишлака, в принципе кое-что понимали по-русски и могли сказать пару слов. Большинство же мужчин отслужили два, а кто и три года в армии — как правило, где-нибудь в России, где они смогли свой школьный русский превратить во вполне сносный язык общения. Ну и, наконец, значительное число местных мужчин время от времени бывали в тех или иных городах, ездили торговать в Россию и имели множество других возможностей практиковаться в русском языке. Поэтому я почти не испытывал языковых трудностей в своем исследовании — в конце концов, я использовал оба языка, подстраивая свои возможности к возможностям того человека, с которым доводилось говорить.
Илл. 63. Шахматные баталии, 2010 г.
Преимущественное общение с учителями и врачами объяснялось еще и тем, что нас сближали близкий образовательный ценз, набор «европейских» манер поведения, привычка к интеллектуальным разговорам, рациональное видение окружающего мира и привычка представлять информацию в более систематизированном виде — все эти навыки приобретались в городской среде, через которую мы прошли. Мне легче и удобнее было задавать вопросы людям, которые уже научились смотреть на ошобинское сообщество со стороны. Многие из этого образованного класса, как я уже рассказывал в книге966, входили в число родственников председателя колхоза и остальных чиновников, поэтому можно сказать, что я общался с теми, кто олицетворяет или обслуживает власть. Правда, с самим председателем поговорить хотя и удалось, однако довольно формально и недолго, с некоторыми другими ключевыми фигурами и вовсе не было встреч — их собственный взгляд на себя и ошобинское сообщество остался для меня если не полной загадкой, то более или менее вероятным предположением.
Мне, конечно, было гораздо труднее услышать иной язык описания Ошобы, альтернативный языку образованного класса. Из круга моего общения совершенно выпала и другая часть местной элиты, которая создавала свой экономический капитал в советское время в теневых сферах — торговле и скотоводстве. Эти люди держались по привычке замкнуто, стараясь не афишировать свою деятельность и не вступая в контакты с теми, кого они могли рассматривать как потенциальную угрозу. В таких случаях я довольствовался лишь информацией, полученной со стороны.
Отчасти закрытой для меня оказалась и группа действующих исламских лидеров Ошобы. Многие из них никак не шли со мной на контакт, и, хотя мы время от времени пересекались на каких-то мероприятиях, общения не получалось. Когда же я решился постучаться в дом к одному из мулл и на правах гостя буквально вынудил его поговорить со мной, из этого ничего путного не вышло. Мулла в нарушение правил гостеприимства, которых в кишлаке обычно строго придерживаются, не пустил меня в дом. Это был неприятный момент, но поучительный. Я объясняю такое поведение этого человека даже не столько нарочитой отстраненностью от русского и немусульманина, сколько советской привычкой скрывать свою религиозность, а также тем, что в то время в Таджикистане шла гражданская война и подозрения в исламизме могли стать источником больших неприятностей. Мулла не очень представлял, кто я, зачем приехал в кишлак и чего от него хочу, поэтому предпочел нарушить нормы приличия, но не рисковать своей безопасностью. Я все же сумел провести несколько бесед с отдельными религиозными деятелями, с членами их семей, что позволило составить представление о жизни и деятельности этой группы ошобинцев. Некоторый недостаток прямого общения с ними я постарался восполнить подробным расспросом обычных жителей Ошобы об их собственных религиозных практиках и представлениях, об их отношении к разным исламским лидерам и к событиям, которые происходили в этой среде на рубеже 1980—1990-х годов.
Очень трудно было проникнуть в женский мир Ошобы. Женщин можно было, конечно, встретить на улице, в школе и больнице или на празднике, но в этом пространстве существовали строгие правила, которые исключали возможность спокойного продолжительного разговора. Бывая в гостях в той или иной семье, я всегда попадал в рамки строгого этикета, согласно которому ее разнополые члены располагались в отдельных помещениях (любой двор имел внешнюю и внутреннюю части — ташқари и ичқари), что исключало участие женщин в общем разговоре. Только в семье Х., живя там постоянно, я мог более свободно наблюдать за поведением ошобинских женщин и даже общаться с ними в непринужденной домашней обстановке. У меня были беседы и с другими, образованными женщинами, но в целом их мир остался для меня более закрытым, хотя мой предыдущий этнографический опыт — в других кишлаках, где мне доводилось подолгу жить в семьях, — позволяет составить впечатление о роли женщин в местном обществе.
В советской этнографии, которая была ориентирована на реконструкцию прошлого, главными информаторами считались пожилые люди. Помню, во время этнографической практики мы, студенты, первым делом отправлялись в сельсовет, чтобы составить список жителей наиболее преклонного возраста, и затем отправлялись по их адресам — чаще всего такие встречи заканчивались разочарованием, так как подобные информаторы на деле мало что могли сказать вразумительного и не были готовы к долгой, изнурительной беседе. В Ошобе, история которой была одним из приоритетов моего исследования, пожилые люди, способные что-то вспомнить и рассказать, были для меня ценным подарком. Но, разумеется, я не ограничивал свое внимание стариками и людьми среднего возраста. Среди моих знакомых были и мои сверстники — молодые ошобинцы двадцати — сорока лет, которые сами проявляли ко мне интерес и были инициаторами знакомства. Со многими из них у меня сложились почти приятельские отношения. Я мог, таким образом, узнать мнение молодежи о тех или иных событиях, понять степень их компетенции, привязанности к кишлаку, готовности принимать или нарушать какие-то общепринятые нормы. В семье Х. я мог наблюдать и за детьми, их отношениями между собой и с родителями.
Кроме социальных, возрастных и гендерных барьеров, которые оставались важными факторами, затрудняющими исследование, существовали и другие сложности в общении. Значительное число местных жителей постоянно находились на работе, причем выезжали вниз — на хлопковые поля, и оставались там целыми днями; часть местных жителей на все лето выезжала за пределы кишлака — куда-нибудь на выселки по ущелью, в небольшие горные местечки около родников; были еще и чабаны, уходившие далеко в горы пасти скот. Общественный транспорт в 1995 году работал плохо, бензин был дорогим, и жители практически не пользовались своими легковыми машинами. Выехать за пределы Ошобы было для меня сложным предприятием, поэтому не получилось в достаточной мере, как хотелось бы, поговорить с жителями Мархамата, Оппона, а также, например, Адрасмана, где жило много ошобинцев. Разумеется, я сталкивался с этими людьми в Ошобе и несколько раз пешком путешествовал по ущелью до Кызыл-олма, где также успевал немного пообщаться с местным населением, переброситься несколькими словами, но завязать длительные, постоянные и доверительные отношения при таком режиме встреч не удавалось.
Все вышесказанное означает, что я не смог в полной мере услышать голос определенной части ошобинского общества, голос людей, которые думают немного иначе, иначе дают оценки истории и нынешней ситуации, иначе выстраивают свои жизненные стратегии и выбирают тактику поведения. Впрочем, нельзя сказать, что диапазон голосов, мной услышанных, был узок и ограничивался исключительно образованными интеллектуалами. Парадокс в том, что история с К., который по какой-то причине неожиданно выставил меня из своего дома, привела меня в итоге в дом Х., который, как я уже говорил, относился как раз к очень невысокой социальной группе, далекой от начальства, учителей или религиозных деятелей. Я постарался сдружиться с этой семьей, расспрашивал ее членов о жизни в кишлаке, о людях, которые живут вокруг, я каждый день наблюдал за их взаимоотношениями друг с другом, с родственниками и соседями, работал вместе с ними на приусадебном участке, ходил на туи, вникал, где они позволяли, в их проблемы. Я заглянул в уголки, откуда жизнь кишлака выглядела по-особому — здесь многие нормы и правила соблюдались не так строго, но не по причине какой-то особой лояльности к былой советской идеологии, а скорее из-за простоты и непосредственности, характеризовавших быт этой семьи. Эти люди, в отличие от тех, кто вроде бы был мне ближе по статусу и привычкам, вели себя намного более открыто, что давало возможность наблюдать такие стороны повседневной жизни, которые представителями более образованного слоя прятались и цензурировались в присутствии чужака. Я часто слышал от Х. и его близких критические и даже иронические комментарии к событиям и фактам, которые другими воспринимались всерьез, что позволяло мне оценивать увиденное и услышанное с разных социальных позиций. Такой контраст был очень полезен и продуктивен для исследования.
Карта
Лесник Павлов, убегая от реальных или мнимых злоумышленников, останавливал всех, кто попадался ему по дороге, и записывал их имена, ожидая, что в дальнейшем они подтвердят его слова. Это было похоже на то, как складывалось мое путешествие по кишлаку и знакомство с его жителями.
В 1995 году, бродя в одиночку или кого-нибудь сопровождая, я чаще всего наугад передвигался по селению и по незримому лабиринту социальных сетей, сталкивался с разными людьми и наблюдал за разными ситуациями, что позволяло видеть ошобинскую жизнь с разных углов зрения. Я рисовал свою собственную карту, с помощью которой ориентировался в существующих в этом сообществе социальных связях, обходя закрытые для меня места и задерживаясь там, куда меня впускали. Эта карта вовсе не совпадала с теми картами, которые использовали сами члены сообщества, передвигаясь по социальному пространству кишлака. Я не обладал и не мог обладать всеми теми знанием и опытом, какими обладает любой местный житель, и тем более мне была недоступна вся совокупность этих знаний и опытов — то идеальное состояние, которого желает достигнуть этнограф и которого он, разумеется, никогда не достигает. Сколько бы я ни прилагал усилий, встречаясь с людьми и собирая новые интервью, моя собственная карта или картина — реконструкция на основе увиденного и услышанного — состояла из небольших фрагментов тех карт или картин, что находились в повседневном пользовании ошобинцев.
Однако наивно было бы думать, будто стоило лишь найти какую-то одну «истинную» карту, известную местным жителям, и перерисовать ее, как сразу бы пришло понимание устройства данного сообщества. Взгляд любого из ошобинцев не являлся нейтральным, а тоже отражал определенную структурную позицию, которую занимал этот человек, его собственную конфигурацию связей, интересы, жизненный опыт, линию поведения по отношению к другим жителям кишлака. Все эти индивидуальные картины сложно назвать искажениями некой реальности, потому что одной такой реальности и не было — существовало лишь множество ее разных интерпретаций.
Для создания своей карты мне нужен был компас, то есть вопросник, который вводил бы меня в пространство интерпретаций. Мой стандартный вопросник был настроен прежде всего на тему родственных связей собеседника — кто его братья, кто отец и братья отца, кто дед и братья деда, чем они занимались и занимаются (в какой-то момент я понял, что сам — а не мои информаторы — игнорирую женскую линию родословной, после чего стал расспрашивать также о матерях, бабушках, сестрах и дочерях). Такой опрос позволял формализовать и структурировать разговор, придавать ему логику и последовательность, ведь очень сложно было самому сохранять внимание и удерживать внимание собеседника, если не имеешь нити для беседы и не знаешь, что спросить в следующий момент967. Кроме того, при выяснении родственных связей я знакомился заочно и с теми людьми, с которыми не общался, создавал своеобразную картотеку на ошобинцев968, получал хотя бы самое приблизительное представление об их позиции в сообществе и мог потом использовать эту информацию в новых опросах.
В ходе выяснения родословной неизбежно возникали сюжеты, зацепившись за которые можно было уже по ходу беседы перенаправлять разговор на новые темы. Чей-то дед оказывался аксакалом, чей-то отец — муллой, чьим-то родственником был бригадир или раис, у одного было необычное имя, у другого — прозвище, у третьего не было детей, и он взял на воспитание сына брата, кто-то имел несколько жен, кто-то уехал в Адрасман, кто-то стал учителем. Такого рода упоминания служили, при тактичном дирижировании беседой, вполне естественным поводом для более основательного проникновения в воспоминания и образ мыслей человека.
По мере того как число больших и маленьких (иногда на бегу) интервью и просто задушевных разговоров, предваряющих или завершающих интервью, увеличивалось, стало обнаруживаться, что большинство из них так или иначе между собой пересекаются — ссылками на определенные имена и события, которые, очевидно, были сквозными и в какой-то степени объединяли ошобинцев. Повторялись, к примеру, имена Рахманкула, Ортык-аксакала Умурзакова и история свержения последнего, рассказ о конфликте мулл в начале 1990-х годов и так далее. Я решил именно эти имена и события сделать главными объектами своего исследования, после чего начал сознательно разворачивать разговоры с информаторами в интересующую меня сторону, добиваясь от них любых воспоминаний и просто суждений в связи с этими темами и одновременно сохраняя родословно-биографическую канву беседы.
Мне как исследователю хотелось услышать от местных жителей развернутые рассказы и объяснения, которые можно было бы пересказать и даже процитировать (хотя отсутствие звукозаписывающей техники не позволяло делать полноценной записи интервью). Я искал насыщенности, последовательности и ясности в такого рода нарративах, поэтому своими вопросами всячески провоцировал и подталкивал собеседников к тому, чтобы они создавали собственные интерпретации. Но для самих людей перечисленные критерии не были теми принципами, которыми они дорожили и которых придерживались. Для них скорее были важны половинчатость, двусмысленность и противоречивость, позволявшие более гибко реагировать на контекст коммуникации, на состав участников разговора, их социальный статус, манипулировать ожидаемыми и неожиданными эффектами. Даже умолчание являлось способом что-то сказать или дать нечто понять, хотя, разумеется, для меня оно означало, что я пропускаю какой-то знак, не прочитываю его и не кладу в свою копилку фактов.
Кроме редких случаев, когда нарративы уже заранее были продуманы и сообщались мне в готовом и не раз проговоренном виде, я, как правило, общался с информантами, которые путались в своих «показаниях», не могли, начав рассказ, подвести его к завершению и на полпути отклонялись в сторону. Немало было примеров, когда один и тот же человек, с которым я беседовал несколько раз, при каждой нашей встрече добавлял новые детали, а иногда полностью менял всю логику и аргументацию изложения. Нередко в отношении дат или каких-то других фактологических подробностей (кто? сколько? где?) информация от разных людей различалась, поэтому при написании текста я пользовался версией, которая выглядела — наверное, в зависимости от степени сложившегося у меня доверия к тому или иному собеседнику — наиболее правдоподобной.
Чтобы не оказаться в плену тех или иных интерпретаций, я старался не только разнообразить свое общение, но и наблюдать за тем, что происходит вокруг меня, — непосредственное и не слишком заметное для окружающих участие в тех или иных событиях, «подглядывание», «подслушивание» и фиксация всего увиденного и услышанного были одним из способов понять, чтó информаторы не договаривают и не включают в свои нарративы. Я старательно ходил (и добивался приглашения) на свадьбы и поминки, много раз участвовал в ритуале чтения Корана. Вместе с членами семьи Х. я часами собирал урожай абрикосов и очищал их от косточек, помогал, чем мог, в других делах по дому, следил, что и как готовят, как ухаживают за детьми и стариками, какую одежду надевают и так далее. Мне, к сожалению, не удалось увидеть ни одного махалля-туя в самой Ошобе (пришлось их реконструировать во многом по ретроспективным описаниям), но я напросился в поездку со знакомыми в соседний Янги-кишлак, где местные выходцы из Ошобы решили организовать свой собственный махалля-туй — пиршество было внеплановым и устраивалось в июле, а не зимой потому, что его организаторы хотели успеть провести праздник, пока был жив глава семьи — буквально доживавший последние дни старик. Тогда я почувствовал все «прелести» жизни в Аштской степи, где жара достигала 50 градусов и приходилось дышать буквально раскаленным воздухом. Неудачной оказалась моя попытка в августе совершить с компанией медиков восхождение к вершине горы Бойоб-бува969: не выдержав интенсивной нагрузки во время ночного подъема в гору, я с огорчением вынужден был повернуть обратно и на спуске, в абсолютно кромешной тьме, опасно подвернул ногу — эта история для местных жителей не прошла незамеченной, и они напомнили мне о ней в 2010 году, полагая, видимо, что «святой», охраняющий гору, «не пустил» меня к себе.
В любой компании я пытался понять, о чем присутствующие говорят, какие темы обсуждают, каких людей упоминают, что их волнует и радует. Я стремился получить представление о жизни Ошобы не только из рассказов, но и в процессе соучастия в этой жизни. Впрочем, при всем расхождении интерпретаций и практик, в чем всегда полезно убеждаться на собственном опыте, те и другие тем не менее существовали в неразрывном единстве. Увиденное и услышанное требовало получения каких-то объяснений и комментариев у местных жителей, иначе многое из того, что происходило в кишлаке, осталось бы мной как минимум не понятым, а может, и вовсе не увиденным (поскольку делалось непублично или даже в тайне).
Как не навредить?
Сбор материалов по мере погружения в жизнь Ошобы поставил передо мной проблему их дальнейшего использования. Многие данные касались личной жизни, судеб отдельных людей и целых семей. Довольно большой объем информации я почерпнул в неформальных разговорах, когда мои собеседники, привыкнув ко мне, рассказывали какие-то истории и давали свои оценки, уже не задумываясь над тем, что я буду с этим делать. Некоторые истории были посвящены местным дрязгам и склокам, и одни персонажи в них приукрашивались, а другие, напротив, демонизировались.
Я, конечно, не предупреждал каждого своего собеседника перед каждым разговором с ним, что все им сказанное может быть использовано мной для своих (научных) целей. Мне важно было вызвать людей на откровенность и добиться от них доверия, сократить социальную и культурную, даже личную дистанцию между нами в надежде на то, что это откроет мне доступ к большему объему разнообразной информации. Да и было бы просто глупо, проживая в селении не один месяц и имея хорошие отношения со многими членами местного сообщества, любые контакты и любые попытки доверительной коммуникации формализовать, словно речь шла о допросе у следователя, — такое поле теряло всякий этнографический смысл.
Вместе с тем я, конечно, ни от кого не скрывал, что занимаюсь в кишлаке изучением его истории, местных обычаев, того, как ошобинское население живет. Я специально не вводил окружающих в заблуждение, старался объяснить свои цели при первой же встрече и не отмалчивался, когда меня спрашивали об этом. Другое дело — как разные ошобинцы воспринимали меня и мои слова, могли ли они, не имея достаточного представления о научной деятельности, четко осознать те потенциальные риски, которые неизбежны, когда отвечаешь на вопросы постороннего человека. Предполагаю, что часто мои информаторы, включив меня в свой повседневный мир, переставали отдавать себе отчет в том, что я здесь делаю и какие цели преследую. Этика приема гостя, интерес к новому человеку и возникавшие личные симпатии заставляли их порой наивно говорить о том, о чем, с моей точки зрения, они вряд ли были бы готовы сказать публично. Подобную ситуацию можно сравнить с обманом, но тогда этнографическая работа в поле по определению — из-за неизбежной разницы в мировосприятии исследователя и исследуемых — несет на себе печать невольного обмана. Надо признаться, что полевое исследование само по себе — ненормальное явление. Человек, который постоянно что-то выпытывает, ходит из дома в дом, без разбора набивается в гости и в приятели, ведет себя неправильно — и с точки зрения своего привычного образа жизни, и с точки зрения изучаемого сообщества. Но для того, чтобы нормализовать эту ситуацию, этнограф вынужден — произвольно или непроизвольно — закрывать глаза на болезненные моральные вопросы и сомнения.
По возвращении из поля я размышлял над вопросом, стоит ли шифровать название селения и имена людей, в нем проживающих, чтобы смягчить тот непредумышленный урон, который моя книга могла бы им нанести. Сложность в том, что, оперируя большим количеством архивных документов, ссылками на публикации и постоянно обращаясь к деталям местной географии и местной истории, скрыть название кишлака было невозможно. А это, в свою очередь, делало в значительной мере бессмысленным шифрование имен. Для читателя, который никогда не был и не будет в Ошобе, нет никакой разницы между реальными и выдуманными именами. Для читателя же, который бывает в кишлаке или живет там, вряд ли останется секретом, о ком на той или иной странице идет речь. Тем не менее в некоторых случаях я решил спрятать фигуры конкретных людей за инициалами — следуя правилу, что не все, даже известные факты, можно называть своими именами970.
Выход из поля
Пора домой?
На протяжении всех пяти месяцев, которые я жил в Ошобе, меня охватывало то лихорадочное стремление собирать все новые и новые факты и расширять список опрошенных, то полное отчаяние, когда становилось очевидным, что всего не узнаешь и всех не опросишь, из-за чего возникало только одно желание — хотя бы немного осмыслить, привести хоть в какой-то порядок то, что уже собрано. Должен сказать, что такое постоянное напряжение, невозможность до конца расслабиться сильно утомляли и психологически истощали меня. К этому можно добавить фактически полную оторванность от семьи, друзей и коллег (стационарная телефонная связь с внешним миром в кишлаке не действовала, а мобильных телефонов тогда еще не было). Значительные бытовые неудобства и непростые отношения с местными жителями, накапливавшаяся физическая и моральная усталость заставляли меня с радостью думать о приближающемся отъезде из кишлака. Романтический настрой и чувство долга перед этнографической наукой, с которыми я приехал в поле, через неполных полгода — срок, надо признаться, не такой уж и большой — почти полностью иссякли.
Сейчас я думаю, что среди факторов, выталкивавших меня из поля, был еще один, который можно назвать этнографическим парадоксом. Чем дольше я жил в кишлаке, чем подробнее становилась моя карта, с помощью которой я ориентировался в местном сообществе, чем больше я узнавал о его жителях, чем больше накапливал успехов и неудач в отношениях с ними, тем короче становилась дистанция между мной как исследователем, с одной стороны, и объектом моего исследования, с другой. Цель максимально раствориться в иной культурной и социальной среде — составляющая кредо этнографа! — на деле оборачивалась тем, что я переставал быть исследователем, глаза «замыливались», пропадало чувство новизны того, что я вижу, которое обеспечивало некоторую отстраненность и одновременно делало четкими очертания исследуемых явлений. Наверное, я все лучше узнавал и чувствовал окружающий меня мир, но такое знание становилось скорее практическим, чем аналитическим. Единственным способом избежать превращения из ученого в местного жителя, который проживает, а не анализирует свою жизнь, являлись выход из поля и восстановление необходимой дистанции.
Если вход в ошобинское сообщество был трудным и сопровождался разного рода терзаниями, то выход произошел совершенно безболезненно. Я просто сел со своей сумкой в машину и, сделав ряд пересадок, через несколько часов был в Ходженте. После этого все мои связи с жителями Ошобы прервались. Перед отъездом я попрощался с теми, кого успел увидеть. Х. и пара его знакомых, которых я хорошо знал, организовали для меня прощальный обед в Чинар-бува. Все было трогательно, но и достаточно обыденно — ошобинцы были озабочены своими повседневными проблемами, и мое исчезновение, как и пребывание в кишлаке, прошло если и замеченным, то без какого-либо пристального внимания к моей персоне.
В 2010 году, спустя пятнадцать лет, я вернулся в Ошобу. Это была неожиданная для меня самого поездка, связанная с новыми исследованиями. Я не планировал ее заранее и даже боялся возвращения — меня пугало, что оно разрушит уже сложившееся и окрепшее за полтора десятилетия мое представление о кишлаке. Вдруг я увижу что-то по-другому, вдруг увлекусь выяснением подробностей, которые не смог узнать в 1995 году, вдруг окажется, что собранная мной информация была неверной? Я боялся, что новая поездка в Ошобу заставит меня переписывать и дописывать книгу, то есть вынудит опять отложить на неопределенное время ее публикацию.
Все эти страхи, видимо, имеют в своей основе недоверие к собственной полевой информации, понимание, «из какого сора» складывается будущее исследование. Читая записи в дневнике (плюс архивные материалы и публикации), разглядывая фотографии, пытаясь восстановить в памяти эмоции, которые я испытывал в 1995 году, я отчетливо видел все разрывы и пробелы в собранных материалах. Однако за полтора десятилетия выжидания вся эта полевая информация превратилась в самодостаточный текст, разложенный по полочкам, классифицированный, очищенный от излишеств, противоречий и субъективизма, расцвеченный бытовыми зарисовками и украшенный ссылками на научные авторитеты. Пятнадцати лет было достаточно, чтобы заставить себя забыть или оттеснить на задний план все сомнения, неувязки, недоделки, несостыковки. Теперь эту информацию можно было использовать, приписывая ей нужные смыслы и входя с ними в академическое пространство с его специфическими правилами и конкурентной борьбой. Теперь можно было сконструировать свой образ Ошобы и представить его в качестве научного, а значит, правильного и окончательного. Возвращение же в Ошобу, казалось мне, может нарушить уже состоявшееся примирение с тем, что происходило со мной в 1995 году, сделает явными недостатки полевой работы, обнаружит новые пробелы и неточности, вновь породит сомнения971.
На самом деле все прошло довольно благополучно. Ошобинцы встретили меня очень приветливо. На этот раз быстро удалось найти комнату в частном дворе, легко восстановились многие знакомства — люди обо мне не забыли и сразу шли на контакт. Местные жители уже не были придавлены страхом и тяжелыми заботами — они с удовольствием звали к себе в гости, тратили много времени на то, чтобы сопровождать меня, и всячески мне помогали. Я буквально с утра до вечера проводил время в разговорах, и, пожалуй, интенсивность моего общения была намного выше, чем в предыдущее пребывание в кишлаке.
Совсем другой, намного более открытый и гостеприимный прием я объясняю целым рядом изменений, которые произошли за эти пятнадцать лет. Во-первых, в целом стабилизировалась ситуация и в Таджикистане, и в Ошобе. Это не означает, что жить стало легче или что новое государство успешно развивается. Наоборот, практически все прежние локальные институции (колхоз, больница, школа) деградируют, зарплаты остаются на крайне низком уровне, созданные в советское время базовые инфраструктуры изнашиваются и приходят в негодность. Тем не менее люди адаптировались к такой ситуации, приняли ее как данность и научились планировать свое будущее и зарабатывать на жизнь в условиях экономического упадка. Благодаря в первую очередь трудовой миграции в Россию (в каждой семье один-два человека работают за границей) у жителей Ошобы появились личные средства для того, чтобы как-то наладить и даже улучшить качество своей жизни, сделать ее повседневный ритм более предсказуемым972. Соответственно, восстановились, пусть и в новой конфигурации, социальные иерархии и заработали различные ритуалы, связанные с демонстрацией благополучия, опять возник интерес к приезжим.
Во-вторых, изменился мой собственный — возрастной и социальный — статус. Если в отношении к молодому человеку, пусть даже из Москвы, оставалась некоторая неопределенность — в каком качестве его воспринимать, какую роль ему приписывать и как себя с ним вести, то по отношению к доктору наук такая неопределенность уже практически исчезала. Значительное число моих прежних пожилых собеседников (Ф., К., Х., М., Ортык Умурзаков, Тоштемир Комилов, Мухтархан-ишан973 и другие) умерли, а возрастная разница с большинством новых собеседников была уже не слишком критической. К этому можно добавить, что я вернулся в Ошобу не как новичок, который ничего не знает о местной жизни, а как человек, который мог ориентироваться в локальных отношениях, знал ключевые события и имена, был способен сразу переходить к важным деталям, минуя предварительные этапы знакомства, которые в 1995 году порой сильно затягивались и были мучительной, но неизбежной частью притирки к полю.
Трансформации в конфигурации власти и памяти, в моем статусе и в практиках коммуникации по-новому определили мое место и мою роль внутри поля и открыли в нем участки, ранее от меня закрытые.
Одним из последствий всех этих изменений стало, в частности, более близкое знакомство с семьей Имамназара Ходжаназарова. Я заранее познакомился с его зятем — Файзуллой Абдуллаевым, бывшим руководителем района, — и очень рассчитывал взять у раиса новое интервью. Но получилось так, что Ходжаназаров умер незадолго до моего приезда в Ошобу. Я смог только довольно тесно пообщаться с его близкими родственниками и присутствовать на поминальных мероприятиях. Настороженность и дистанция, которые я явственно чувствовал в 1995 году, на этот раз не ощущались, и я смог взглянуть на многое в ошобинской жизни глазами людей, которые в 1970—1980-е годы составляли высшую элитную группу в кишлаке. Мне удалось также встретиться с некоторыми ошобинскими муллами, «потомками святых», с шайхом Бойоб-бува, у которого я скопировал интересные документы, посмотреть и сфотографировать мазар ходжей. Такие встречи значительно умножили мои прежние сведения об этой категории ошобинцев. В этот приезд я за десять дней успел побывать в Мархамате, Верхнем и Нижнем Оппоне974, где взял несколько интервью, попутешествовал по окрестностям Ошобы. Новые технические возможности — а теперь у меня были цифровой фотоаппарат и диктофон — заметно пополнили имеющийся в моем распоряжении видеоряд Ошобы (обеспечив меня в том числе материалом для нового — десятого — очерка) и дали возможность записать прямую речь информантов975.
Открытие новых оптик — даже в течение очень короткого срока — конечно, привело к уточнению и существенному дополнению моих прежних материалов, но все равно не вызвало радикального пересмотра прежней социальной и ментальной карты Ошобы, которую я нарисовал в 1995 году. Таким образом, можно сделать вывод, что даже самый субъективный, самый односторонний и самый неполный взгляд, которым обладает этнограф, в состоянии схватить наиболее существенные черты изучаемого сообщества и позволяет более или менее плодотворно ориентироваться в сложном и противоречивом переплетении его взаимосвязей.
Что еще осталось неизученным?
Во введении к книге «Культура, власть, место: Изыскания в критической антропологии», изданной в 1997 году, американские антропологи Акил Гупта и Джеймс Фергюсон подвергли критическому анализу ряд понятий, составляющих фундамент этнографической методологии976. Главной жертвой их деконструкции стало понятие культуры как автономной семиотической системы или отдельной единицы (ассоциируемой с народом, племенем, нацией и так далее), на которые делится человечество и которые являются объектами изучения и сравнения между собой. Гупта и Фергюсон предложили увидеть мир более подвижным, менее устойчивым и менее фиксированным, одновременно они предложили анализировать культуру как процесс воображения и совокупность отношений господства-подчинения977. В рамках этой критики авторы поставили под сомнение понятие места, к которому привязана культура, или пространственной территориальности в качестве обязательного атрибута культуры.
Логичным продолжением такой деконструкции стала критика Гуптой и Фергюсоном понятий «локальность/месторасположение» (locality) и «община» (community) — традиционных мест и объектов этнографических полевых исследований. Эти места или объекты никогда не были даны изначально, а создавались дискурсивно и исторически978, то есть возникали в результате усилий как местных жителей, так и государства и других акторов, включая историков, краеведов и этнографов. Понятия локальности и общины, пишут авторы, создавались благодаря их восприятию в качестве природных и аутентичных в сравнении с искусственным и внешним глобальным миром979. Локальное обычно связывается с традицией, а глобальное — с модернизацией, поэтому их взаимодействие рассматривается как влияние одного на другое и ответное сопротивление. Гупта и Фергюсон призывают отказаться от этой дихотомии и обратиться, например, к изучению миграций и средств коммуникации, которые, как и путешествия этнографов, переопределяют заново восприятие общины.
Другая совместная статья тех же авторов — «Дисциплина и практика: „поле“ в антропологии как место, метод и местоположение» — посвящена развитию критики этнографического поля как места980. Вся этнографическая риторика о входе в поле и трудностях, с этим связанных, и о выходе из него, о страданиях и героизме полевика, об изучении местных языков и длительном проживании в поле, об обряде перехода, который исследователь переживает, о дистанции между полем и домом, где он вспоминает, чтó ему довелось испытать «там», — все это уже содержит в себе образ поля как отдельного и изолированного другого/чужого мира, экзотичного и даже отсталого, а потому требующего изучения981. «Идея иного, несхожего, — пишут Гупта и Фергюсон, — играет ключевую роль в ритуале полевых исследований»982.
Вместе с критикой американские антропологи предлагают переосмыслить заново и оживить разные формы полевой работы: «Отказываясь от образа проторенной дороги, ведущей к всестороннему и целостному постижению „другого общества“, этнография все более явно начинает предпочитать гибкую и открытую стратегию, усложняющую наше понимание различных стран, народов и их судеб. Эта стратегия обеспечивается более пристальным вниманием к различным формам знания, получаемого из разнообразных социальных и политических источников»983. Авторы призывают перестать видеть поле только как небольшую деревню, населенную иноязычными жителями с диковинными обычаями, а полевика — как белого мужчину американского или европейского происхождения, принадлежащего к среднему классу. Они напоминают, что современные антропологи играют разные гендерные, социальные и культурные роли и, соответственно, имеют разные представления о том, что и как следует изучать. Они ищут новые вопросы и темы, обращая внимание на разные виды движения (миграция, беженцы, внутригородские передвижения), отсутствия укорененности (бездомные, пригороды), обезличенных (медиа, виртуальные пространства) и непостоянных (магазины, офисы, аэропорты) отношений.
Все эти рассуждения американских антропологов созвучны моему опыту и моим выводам, которые я получил во время исследования в Ошобе и в процессе работы с полученными там материалами. Они точно формулируют те ограничения, которые возникли в поле, и те новые вопросы, которые ждут если не разрешения, то изучения и анализа. Должен признать, что в своем исследовании в 1995 году я обратил, видимо, не слишком большое внимание на те же миграции. Я не игнорировал эту тему вовсе и, конечно, наблюдал, как ошобинцы постоянно перемещаются между разными селениями, входящими в сельский совет/джамоат Ошоба, как они мигрировали и мигрируют за пределы джамоата, создавая иногда целые анклавы выходцев из кишлака (в Адрасмане, Оби-Аште или Янги-кишлаке). Я видел, что с миграцией существенно изменяются многие социальные связи, культурные привычки, идентичности. Однако сам я жил довольно изолированно в одном кишлаке и был ограничен в передвижении — в том числе из-за экономического кризиса начала 1990-х годов, о чем уже упоминал. Мое внимание было приковано к месту, если пользоваться словами Гупты и Фергюсона, как к центру социального пространства, что, возможно, создавало иллюзию жесткости локальных границ. Видимо, кризис и идущая в начале 1990-х годов в Таджикистане гражданская война сами усиливали эту жесткость локальности, временно снижали влияние внешних воздействий и отношений, вынуждая и меня ограничивать мой обзор.
Такой перекос для меня стал особенно очевиден в 2010 году, когда я узнал, что сотни ошобинцев, главным образом молодых мужчин (хотя и не только их), мигрировали в Россию и в другие страны для заработка (Илл. 64). Многие из них оказались в Москве, сократив или даже уничтожив дистанцию между полем и моим собственным домом. Хотя в 1995 году столь массовой миграции еще не было, это не означает, что она была совершенно новым явлением. Чем-то похожим на нынешнюю миграцию была, например, военная служба в советское время, когда те же молодые люди на протяжении нескольких десятков лет регулярно перемещались в европейскую часть России или в Сибирь, где жили два-три года, осваивали новые практики и идентичности; некоторые оставались и на более длительные сроки. Если добавить к этому учебу, торговую миграцию, отпуска и так далее, то картина передвижений ошобинцев в недавнем прошлом будет не менее впечатляющей, чем сегодня. К сожалению, я могу лишь обозначить это явление, но не анализировать его более детально.
Илл. 64. Продажа билетов в Россию, 2010 г.
Другая тема, к которой, наверное, я присмотрелся бы пристальнее, если бы начинал свое исследование сейчас, — материальное, символическое и виртуальное пространства Ошобы. Какие вещи, архитектурные формы, материалы и образы (фотографические или художественные) наполняют мир людей, живущих в кишлаке? Какова история этих предметов и образов, как они циркулируют в местном сообществе? В центре внимания мог бы оказаться вопрос о музеях, посредством которых разные группы Ошобы пытаются осмыслить и представить локальную идентичность (в 2010 году в Ошобе было два музея — в здании сельсовета/джамоата и в одной из школ) (Илл. 65). Или, например, вопрос о топонимике и переименованиях (улиц, школ, новых выселков). Сейчас бы меня увлекла и такая тема: как ошобинцы представляют себя в своих жилых пространствах, в частности в гостиных, какими вещами и изображениями они их населяют, как наделяют вещи смыслами и функциями (характерный пример — в гостиной ставят стулья, которые используют чаще всего не по прямому назначению, а для демонстрации «европейскости/продвинутости»). Исследование Ошобы могло бы затронуть вопросы сосуществования узбекского, таджикского и русского языков — как с их помощью маркируются жилища, публичные места, официальные помещения. Или, может быть, я понаблюдал бы за тем, что представляет собой местная кухня и как в рационе питания отражаются социальные и символические изменения. Читатель, я уверен, может и сам найти множество других объектов, которые было бы интересно изучить.
Еще одна тема, почти полностью выпавшая — не из моего поля зрения, но из моего исследования и текста, — это воздействие печатного слова или скорее даже телевизора и кино на людей984. В каждом ошобинском доме в 1995 году был телевизор, и все члены семьи собирались около него по вечерам, чтобы посмотреть новости узбекского телевидения, индийский фильм или бразильский сериал по российскому каналу, принять виртуальное участие в политических дебатах или нескончаемых мелодраматических перипетиях южноамериканских телесюжетов. В том же году повсеместно распространилась мода на видеомагнитофоны, которые открывали неограниченные возможности для просмотра любых видеожанров — от боевиков и фильмов о мафии до спортивных программ и порнографии. В советскую эпоху документальные хроники и художественные фильмы, которые демонстрировались в клубе и в телевизионных приемниках, давали более бедный видеоряд с сильным пропагандистским содержанием, но в свое время сам факт их появления открыл для ошобинцев другой мир и новые перспективы, новые образцы поведения и выбора одежды, что, конечно, было переворотом в сознании и самовосприятии жителей отдаленного горного селения.
Илл. 65. Школьный музей, 2010 г.
Я писал об учителях и школах, но, разумеется, эта тема должна была быть представлена намного полнее. Школьная дисциплина, разного рода школьные практики и ритуалы, отношения между школьниками разного пола и возраста, а также учителей между собой — все это влияло на ошобинское сообщество не меньше, а даже больше, чем та же больница, которой я посвятил целый очерк.
Если бы я проводил исследование в 2010-м, а не в 1995 году, то мог бы, наверное, написать о волейболе, который стал в Ошобе чрезвычайно популярным, публичным и социально значимым видом спорта. Или о мобильных телефонах, которые к 2010 году сформировали в кишлаке новые практики обмена информацией, установления, поддержания или разрыва связей. Или о приватизации созданной в советское время экономики, о том, какую роль играют неправительственные организации и международные инвестиции в переустройстве социальных иерархий985. Вероятно, я обратил бы внимание на выходцев из Ошобы, которые уже сумели устроить свою жизнь не только в Ходженте, Душанбе или Ташкенте, но и в России, Европе, США. Не исключено, что я действительно напишу об этом когда-нибудь — или кто-то другой возьмется за такое исследование, может быть, даже из числа самих ошобинцев.
В 1995 году я изучал то, что видел тогда. Мое видение было ограничено моими навыками как полевика, а также состоянием самого поля — его напряжением в момент кризиса и сопротивлением внешнему взгляду/контролю. Возможно, я шел на поводу у своих интересов и заблуждений, а возможно, мой путь направляли интересы и заблуждения моих собеседников. Парадокс в том, что в силу своей роли этнограф обречен идти в поле, чтобы искать там материал для своих реконструкций, обречен ссылаться на поле как на точку отсчета в своей деятельности — именно полем по-прежнему испытываются и утверждаются в этнографическом сообществе компетенция и авторитет исследователя. Точно так же этнограф обречен на то, чтобы его реконструкции были поставлены под сомнение (им же самим или кем-то другим), чтобы поле оказалось в итоге всего лишь недостижимым идеалом, на практике же — мучительной и неблагодарной работой, а нередко — средством вольных или невольных манипуляций и подтасовок. Вырваться из этого замкнутого круга, оставаясь в антропологическом дисциплинарном пространстве, нельзя, можно лишь осознать задачи и ограничения и попытаться действовать в имеющихся обстоятельствах, чем, собственно, я и занимался, работая над этой книгой. Я предлагаю в ней свои наблюдения, свой взгляд, свою оценку, понимая, конечно, что историю и этнографию Ошобы можно писать до бесконечности и любое описание будет неполным. Жизнь ошобинцев — да и Средней Азии в целом — всегда была и останется многообразнее и сложнее любых текстов и схем, которые в силах предложить любой, даже самый искушенный и внимательный ученый.
Иллюстрации
Илл. I. Вид на верхнюю часть Ошобы, 2010
Илл. II. Вид на нижнюю часть Ошобы, 2010
Илл. III. Курганча, место первого поселения
Илл. IV. Место, где находился дом Рахманкула
Илл. V. Место, где казнили противников Рахманкула
Илл. VI. Место, где проходили сельские сходы
Илл. VII. Дом, где жил Ишанхан
Илл. VIII. Ортык Умурзаков и его соседи, 1995
Илл. IX. Посередине — здание бывшего сельсовета, 2010
Илл. X. Бывшая школа имени Дзержинского, 2010
Илл. XI. Правление колхоза «Калинин» в Оппоне, 2010
Илл. XII. Поселок Мархамат, 2010
Илл. XIII. Хлопковые поля в Оппоне, 2010
Илл. XIV. Новая больница в Ошобе, 2010
Илл. XV. Могила Ишанхана, 2010
Илл. XVI. Мазар Чинар-бува, 2010
Илл. XVII. Гора Бойоб-бува, 2010
Илл. XVIII. Сирли-мачит, 2010
Илл. XIX. Новая дахма около кладбища, 2010
Илл. XX. Отправка угощений в дом жениха, 2010
Илл. XXI. Отправка приданого в дом жениха, 2010
Илл. XXII. Строительство стены из глиняных кирпичей, 1995
Илл. XXIII. Ошобинский житель на популярном горном транспорте, 1995
Илл. XXIV. Тандыр, 1995
Илл. XXV. Школьный класс, 2010
Илл. XXVI. Клуб в Мархамате, 2010
Илл. XXVII. Свадебный кортеж, 2010
Илл. XXVIII. Ошобинский магазинчик, 2010
Илл. XXIX. В ошобинском доме, 2010
Илл. XXX. В доме бывшего колхозного экспедитора, 2010
Илл. XXXI. Новая школа имени Исмадиерова, 2010
Илл. XXXII. У ошобинских знакомых, 2010
Илл. XXXIII. Угощение для почетных гостей, 2010
Илл. XXXIV. Дома в Ошобе, 2010
Илл. XXXV. Новый дом в Ошобе, 2010
Илл. XXXVI. Арбузы для гостей, 2010
Илл. XXXVII. Играющие дети, 2010
Илл. XXXVIII. Рынок в Оппоне, 2010
Илл. XXXIX. На отдыхе в горах, 2010
Список иллюстраций
Иллюстрации в тексте
Илл. 1. Карта Таджикистана
Илл. 2. Карта Аштского района Согдийской области Таджикистана
Илл. 3. Спорная иллюстрация в школьной хрестоматии
Илл. 4. Памятник погибшим в войне 1941–1945 гг.
Илл. 5. Рахманкул-курбаши, 1922 г., после ареста
Илл. 6. Дадамат Турсунов с родственниками
Илл. 7. Вдова Рахманкула с семьей младшего сына
Илл. 8. Печать аксакала
Илл. 9. Центральная улица Ошобы, 2010 г.
Илл. 10. Ортык Умурзаков, 1995 г.
Илл. 11. Ортык Умурзаков в середине 1930-х гг.
Илл. 12. Отчет сельсовета, подписанный Умурзаковым
Илл. 13. Советские активисты в кишлаке
Илл. 14. Учителя из Ошобы
Илл. 15. Ошобинская власть в середине 1950-х гг. (на фото: Султанназар-нонвой, Мамаджан Кашамшамов, Имамназар Ходжаназаров, Рузматов, Тоштемир Комилов, Абдубанноб Исмадиеров, Азим Юлдашев)
Илл. 16. Имамназар Ходжаназаров и Джаббар Расулов
Илл. 17. Три ошобинских героя: Ходжаназаров, Холдоров, Ходжамбердыев
Илл. 18. Северо-Ферганский канал и поселок Оппон
Илл. 19. Изготовление шолча, 1995 г.
Илл. 20. Адрасманский обогатительный комбинат, 2010 г.
Илл. 21. Рисунки на здании старой больницы
Илл. 22. На Дне медицинского работника, 1995 г.
Илл. 23. Приготовление плова на туе в Янги-кишлаке, 1995 г.
Илл. 24. Приготовление мяса для угощения в Янги-кишлаке, 1995 г.
Илл. 25. Махалля-туй в Янги-кишлаке, 1995 г.
Илл. 26. Женщины на туе в Янги-кишлаке, 1995 г.
Илл. 27. Собрание жителей Ошобы (предположительно 1940-е гг.)
Илл. 28. Акбархан-ишан (предположительно 1930-е гг.)
Илл. 29. Брачные связи «потомков святых»
Илл. 30. Шайх Бойоб-бува, 2010 г.
Илл. 31. Женский совет (предположительно 1950-е гг.)
Илл. 32. Мусульманский ритуал бракосочетания, 2010 г.
Илл. 33. Молодожены в загсе (1970-е гг.)
Илл. 34. Среднеазиатская школа (Туркестанский альбом, 1871–1872 гг.)
Илл. 35. Среднеазиатская свадьба (Туркестанский альбом, 1871–1872 гг.)
Илл. 36. Местная женщина в парандже (Туркестанский альбом, 1871–1872 гг.)
Илл. 37. Местная женщина без паранджи (Туркестанский альбом, 1871–1872 гг.)
Илл. 38. Советская школа (Макс Пенсон, 1930-е гг.)
Илл. 39. Советская семья (Макс Пенсон, 1930-е гг.)
Илл. 40. Советские женщины (Макс Пенсон, 1930-е гг.)
Илл. 41. Завхоз Кашамшамов в кругу родственников (предположительно 1960-е гг.)
Илл. 42. Раис Ходжаназаров в кругу родственников (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 43. Неизвестные отец и сын (?) (предположительно 1950-е гг.)
Илл. 44. Свадебная фотография (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 45. Свадебная фотография (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 46. Свадебная фотография (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 47. Приглашение на свадьбу (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 48. Подруги (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 49. Одноклассники на колхозном поле (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 50. Ошобинские ученики с учителями
Илл. 51. Ошобинские ученицы с учительницами
Илл. 52. Школьная выпускная фотография (1954 г.)
Илл. 53. Школьная выпускная фотография (1980 г.)
Илл. 54. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1970-е гг.)
Илл. 55. Тоштемир Комилов (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 56. Мамаджан Кашамшамов (предположительно 1960-е гг.)
Илл. 57. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1970-е гг.)
Илл. 58. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1970-е гг.)
Илл. 59. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1980-е гг.)
Илл. 60. Мамаджан Кашамшамов (предположительно 1960-е гг.)
Илл. 61. Имамназар Ходжаназаров (предположительно 1970-е гг.)
Илл. 62. Дом при больнице, в котором я жил в 1995 г.
Илл. 63. Шахматные баталии, 2010 г.
Илл. 64. Продажа билетов в Россию, 2010 г.
Илл. 65. Школьный музей, 2010 г.
1
В книге использованы материалы следующих архивов: Центральный государственный архив Республики Таджикистан — ЦГА РТ, Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан — ГАСО РТ, Филиал Государственного архива Согдийской области Республики Таджикистан в городе Канибадаме — ФГАСО РТ, Архив Аштского района Республики Таджикистан — ААР РТ, Центральный государственный архив Республики Узбекистан — ЦГА РУз, Государственный архив Наманганской области Республики Узбекистан — ГАНО РУз, Государственный архив Ферганской области Республики Узбекистан — ГАФО РУз.
(обратно)2
Эванс-Причард Э. Нуэры: Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов одного из нилотских народов. М.: Наука, 1985 (оригинал: Evans-Pritchard E. E. The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Clarendon Press, 1940).
(обратно)3
Результатом стала моя книга: Абашин С. Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности. СПб.: Алетейя, 2007.
(обратно)4
Я решил не использовать в книге другое название региона — Центральная Азия, которое традиционно включало в себя Афганистан, Монголию и китайский Синьцзян, что выходит далеко за рамки моих интересов.
(обратно)5
Кисляков Н. А. Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахио-боло. Л.: АН СССР, 1936; Кондауров А. Н. Патриархальная домашняя община и общинные дома у ягнобцев. М.; Л.: АН СССР, 1940.
(обратно)6
Кондауров А. Н. Патриархальная домашняя община. С. 7. В книге есть интересное примечание о том, что работа написана до выхода в свет труда «Краткий курс истории ВКП(б)», а потому в ней употребляются «ныне устаревшие термины» — такие, как первобытный коммунизм, первобытно-коммунистическое общество (Там же. С. 9).
(обратно)7
Там же. С. 27.
(обратно)8
См. подробнее: Алымов С. Неслучайное село: советские этнографы и колхозники на пути «от старого к новому» и обратно // Новое литературное обозрение. 2010. № 1. С. 109–129.
(обратно)9
Ершов Н. Н., Кисляков Н. А., Пещерева Е. М., Русяйкина С. П. Культура и быт таджикского колхозного крестьянства (По материалам колхоза имени Г. М. Маленкова Ленинабадского района Ленинабадской области Таджикской ССР). М.; Л.: АН СССР, 1954; Сухарева О.А., Бикжанова М. А. Прошлое и настоящее селения Айкыран (Опыт этнографического изучения колхоза имени Сталина Чартакского района Наманганской области). Ташкент: АН Узбекской ССР, 1955; Этнографические очерки узбекского сельского населения / Г. Васильева, Б. Кармышева (отв. ред.). М.: Наука, 1969.
(обратно)10
Сухарева О. А., Бикжанова М. А. Прошлое и настоящее селения Айкыран. С. 3.
(обратно)11
Кушнер П. И. Об этнографическом изучении колхозного крестьянства // Советская этнография [далее — СЭ]. 1952. № 1. С. 135–141.
(обратно)12
Кушнер П. И. Об этнографическом изучении колхозного крестьянства. С. 140. К слову, позже он отказался от этих слов и назвал их ошибочными.
(обратно)13
Кисляков Н. А. К вопросу об этнографическом изучении колхозов // СЭ. 1952. № 1. С. 146–149; Сухарева О. А. Ферганская этнографическая экспедиция // СЭ. 1954. № 3. С. 114.
(обратно)14
Жданко Т. А. Этнографическое исследование культуры и быта колхозного крестьянства СССР // Acta ethnographica Academiae scientiarum Hungaricae. T. V, fasciculi 3–4. Budapest, 1956. С. 218, 219. См. также: Абрамзон С. М. Об этнографическом изучении колхозного крестьянства // СЭ. 1952. № 3. С. 145–150.
(обратно)15
Сухарева О. А. Этнографическое изучение колхозного крестьянства Средней Азии // СЭ. 1955. № 3. С. 30–42; Кисляков Н. А. Опыт работы коллектива по изучению быта таджикского колхозного крестьянства // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. Вып. 26. М., 1957. С. 61–62.
(обратно)16
Жданко Т. А. Этнографическое исследование культуры. С. 218. См. также: Алымов С. П. И. Кушнер и развитие советской этнографии в 1920—1950-е годы. М., 2006. С. 203, 204.
(обратно)17
См. также работы философа-религиеведа: Саидбаев Т. Ислам и общество: Опыт историко-социологического исследования. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1978.
(обратно)18
Снесарев Г. П. О некоторых причинах сохранения религиозно-бытовых пережитков у узбеков Хорезма // СЭ. 1957. № 2. С. 60.
(обратно)19
Там же. С. 61.
(обратно)20
Снесарев Г. П. О некоторых причинах сохранения религиозно-бытовых пережитков у узбеков Хорезма // СЭ. 1957. № 2. С. 66.
(обратно)21
Там же. С. 67, 70–72.
(обратно)22
Жданко Т. А. Быт каракалпакского колхозного аула (Опыт этнографического изучения колхоза им. Ахунбабаева Чимбайского района Каракалпакской АССР) // СЭ. 1949. № 2. С. 42, 43.
(обратно)23
Этнографические очерки узбекского сельского населения. С. 90–97.
(обратно)24
Поляков С. П. Традиционализм в современном среднеазиатском обществе. М.: Центральный дом научного атеизма, 1989. С. 8 (переиздано в сборнике: Мусульманская Средняя Азия: Традиционализм и XX век / Д. Арапов (отв. ред.). М.: Центр цивилизационных и региональных исследований, 2004. С. 123–233; английский перевод: Polyakov S. Everyday Islam: Religion and Tradition in Rural Central Asia. Armonk, NY: M. E. Sharp, 1992). Попутно хочу обратить внимание на то, что часто эту книгу Полякова рассматривают в качестве типичного образца советского анализа, не замечая, что она, как и ряд статей этого ученого, появилась в самом конце советской эпохи, была недоступна для массового читателя и вызывала сомнения у многих более ортодоксальных советских исследователей и идеологов.
(обратно)25
Там же. С. 3.
(обратно)26
Там же. С. 8.
(обратно)27
См.: Бушков В. И. Таджикский «авлод» тысячелетия спустя… // Восток. 1991. № 5. С. 72–81; Лобачева Н. П. Древние социальные институты в жизни современной семьи народов Средней Азии // Семья. Традиции и современность / О. Ганцкая, И. Гришаев (отв. ред.). М.: ИЭА АН СССР, 1990. С. 27–50; Олимов М.А. Эталон некапиталистического развития? // Народы Азии и Африки. 1989. № 4. С. 18–26.
(обратно)28
Чешко С. В. Средняя Азия и Казахстан: современное состояние и перспективы национального развития // Расы и народы. Вып. 20. М.: Наука, 1989. С. 112, 113.
(обратно)29
Там же. С. 113.
(обратно)30
Александров Ю. Г. Средняя Азия: специфический случай экономической слаборазвитости // Восток. 1991. № 2. С. 142–154; Уляхин В. Н. Многоукладность в советской и зарубежной Азии // Там же. С. 129–141.
(обратно)31
Александров Ю. Г. Средняя Азия. С. 147.
(обратно)32
См., например: Ленин В. И. О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности // В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. М.: Издательство политической литературы, 1969. Т. 36. С. 285–314.
(обратно)33
Уляхин В. Н. Многоукладность в советской и зарубежной Азии. С. 135, 136.
(обратно)34
См., например: Малашенко А. В. Мусульманский мир СНГ. М.: Ариэль, 1996; Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М.: Восточная литература, 1995; Карлов В. В. Народы Средней Азии и Казахстана // В. В. Карлов. Этнокультурные процессы новейшего времени. М.: ИЭА РАН, 1995. С. 89—137.
(обратно)35
Поляков С. П. Современная среднеазиатская деревня: традиционные формы собственности в квазииндустриальной системе // Крестьянство и индустриальная цивилизация / Ю. Александров, С. Панарин (отв. ред.). М.: Наука, Восточная литература, 1993. С. 174.
(обратно)36
Там же. С. 176, 177.
(обратно)37
Вишневский А. Средняя Азия: незавершенная модернизация // Вестник Евразии [далее — ВЕ]. 1996. № 2. С. 137, 138. Схожие понятия незавершенной или ограниченной модернизации использовали, например, британский политолог Ширин Акинер и американский политолог Уильям Фиерман, см.: Akiner Sh. Social and Political Reorganisation in Central Asia: Transition from Pre-Colonial to Post-Colonial Society // Post-Soviet Central Asia / T. Atabaki, J. O’Kane (eds.). London and New York: Tauris Academic Studies, 1998. P. 1—34; Fierman W. The Soviet «Transformation» in Central Asia // Soviet Central Asia: The Failed Transformation / W. Fierman (ed.). Westview Press, 1991. P. 11–35. При этом если Акинер подчеркивает успехи трансформации во многих сферах, то Фиерман рассматривает среднеазиатское общество как зависимую колонию и пишет скорее о модернизационной неудаче.
(обратно)38
Вишневский А. Средняя Азия: незавершенная модернизация. С. 152.
(обратно)39
Tipps D. Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A Critical Perspective // Comparative Studies of Society and History. 1973. Vol. 15. № 2. P. 199–226.
(обратно)40
Ibid. P. 216.
(обратно)41
Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition / E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 1—14 (русский перевод: Хобсбаум Э. Изобретение традиций // ВЕ. 2000. № 1. С. 47–62).
(обратно)42
Tipps D. Modernization Theory. P. 213.
(обратно)43
См., например: Wallerstein I. The Capitalist World-Economy. Cambridge and Paris: Cambridge University Press, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1979; World-Systems Analysis: An Introduction. Durham, North Carolina: Duke University Press, 2004 (русский перевод: Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М.: Территория будущего, 2006). Интересную попытку использовать его теорию для анализа советского общества см.: Дерлугьян Г. Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе. М.: Территория будущего, 2010 (оригинал: Derluguian G. Bourdieu’s Secret Admirer in the Caucasus: A World-System Biography. University of Chicago Press, 2005).
(обратно)44
Giddens A. The Consequences of Modernity. Polity Press, 1990 (русский перевод: Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011). Об истории России с точки зрения более гибкого прочтения понятия модерна см.: Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices / D. Hoffmann, Y. Kotsonis (eds.). McMillan Press Ltd.; St. Martin’s Press, Inc., 2000.
(обратно)45
Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 175.
(обратно)46
Eisenstadt S. Multiple Modernities // Multiple Modernities / S. Eisenstadt (ed.). New Brunswick; London: Transaction Publishers, 2002. P. 1.
(обратно)47
Eisenstadt S. Multiple Modernities. P. 21. См. также: McBrien J. Mukadas’s Struggle: Veils and Modernity in Kyrgyzstan // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2009. Vol. 15. № 1. P. 127–144.
(обратно)48
Mitchell T. Introduction // Questions of Modernity / T. Mitchell (ed.). Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2000. P. XII.
(обратно)49
Mitchell T. The Stage of Modernity // Ibid. P. 15–16.
(обратно)50
Ibid. P. 24.
(обратно)51
С похожей точки зрения на модерность как на метаязык смотрит, например, американский историк искусств африканского происхождения Оквуй Энвезор, см.: Enwezor O. Modernity and Postcolonial Ambivalence // South Atlantic Quarterly. 2010. Vol. 109. № 3. P. 595–620.
(обратно)52
В данном случае я не обсуждаю вопрос, насколько действительно такое разделение имело место. См.: Fitzpatrick Sh. Revisionism in Soviet History // History and Theory. 2007. № 46. P. 77–91; Fitzpatrick Sh. Revisionism in Retrospect: A Personal View // Slavic Review. 2008. Vol. 67. № 3. P. 682–704 (см. также обмен мнениями о ревизионизме: Ibid. P. 705–723).
(обратно)53
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история советской России в 30-е годы: деревня. М.: РОССПЭН, 2001 (оригинал: Fitzpatrick Sh. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New York; Oxford: Oxford University Press, 1994). См. также работу другого историка-ревизиониста, где основной темой является особая крестьянская культура: Lewin M. The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia. New York: Pantheon Books, 1985.
(обратно)54
Здесь Фицпатрик ссылается на работу Джеймса Скотта «Оружие слабых» (Scott J. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven and London: Yale University Press, 1985).
(обратно)55
Здесь Фицпатрик ссылается на другую работу того же Скотта: Scott J. The Moral Economy of Peasants: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven and London: Yale University Press, 1976.
(обратно)56
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 14, 18–19.
(обратно)57
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм: Социальная история советской России в 30-е годы: город. М.: РОССПЭН, 2001 (оригинал: Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. New York: Oxford University Press, 1999).
(обратно)58
Там же. С. 10.
(обратно)59
Fitzpatrick Sh. Tear Off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005 (русский перевод: Фицпатрик Ш. Срывайте маски: Идентичность и самозванство в России XX века. М.: РОССПЭН, 2011).
(обратно)60
Ibid. P. 3.
(обратно)61
См., например: Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999.
(обратно)62
Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1995. P. 14, 21–23 (русский перевод см.: Коткин С. Говорить по-большевистски (из кн. «Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация») // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период / М. Дэвид-Фокс (сост.). Самара: Самарский университет, 2001. С. 250–328). Критика в адрес ревизионистов раздавалась не только со стороны поклонников французского мыслителя Мишеля Фуко, но и со стороны сторонников теории рационального действия, для которых анализ сопротивления с точки зрения теории моральной экономики выглядит слишком схематичным: Hughes J. Stalinism in Russian Province: A Study of Collectivization and Dekulakization in Siberia. Macmillan Press Ltd; St. Martin’s Press, 1996. P. 1–6, 209, 210, 213–215.
(обратно)63
См. также: Kotkin S. Modern Time: The Soviet Union and the Interwar Conjuncture // Kritika. 2001. Vol. 2. № 1. P. 111–164 (русский перевод: Коткин С. Новые времена: Советский Союз в межвоенном цивилизационном контексте // Мишель Фуко и Россия / О. Хархордин (ред.). М.; СПб.: Летний сад, 2001. С. 239–314).
(обратно)64
См. его главную работу: Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Harvard University Press, 2006.
(обратно)65
Ibid. P. 12–13.
(обратно)66
Интервью с Игалом Халфиным и Йоханом Хелльбеком // Ab Imperio [далее — AI]. 2002. № 3. С. 222. Хелльбек добавляет, что «советский режим <…> был наиболее значительным, но не единственным фактором культурной среды сталинской эпохи. Другими дополнительными факторами, влиявшими на репрезентацию и интерпретацию „Я“, являлись религия и воспоминания о досоветских политических и моральных ценностях» (Там же. С. 223).
(обратно)67
О теоретических позициях сторонников школы советской субъективности и их критике см.: Форум: Анализ практик субъективизации в раннесталинском обществе // AI. 2002. № 3. С. 209–417. Свои версии анализа советской субъективности предложили другие авторы: Halfin I. From Darkness to Light: Class, Consciousness and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2000; Siegelbaum L. Introduction // Stalinism as Way of Life: A Narrative in Documents / L. Siegelbaum, A. Sokolov (eds.). New Haven; London: Yale University Press, 2000. P. 1—27; Хархордин О. Обличать и лицемерить: Генеалогия российской личности. М.; СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, Летний сад, 2002 (английский перевод: Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. University of California Press, 1999).
(обратно)68
Хелльбек Й. «Советская субъективность» — клише? // AI. 2002. № 3. С. 402.
(обратно)69
Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was no More: The Last Soviet Generation. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006.
(обратно)70
Тем не менее Шейла Фицпатрик написала весьма критическую рецензию на книгу Юрчака, см.: Fitzpatrick Sh. Normal People // London Review of Books. 2006. Vol. 28. № 10. P. 18–20. Ответ Юрчака: London Review of Books. 2006. Vol. 28. № 12. P. 7.
(обратно)71
Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was no More. P. 28 (см. также: Юрчак А. Поздний социализм и последнее советское поколение // Неприкосновенный запас. 2007. № 2. С. 81–97).
(обратно)72
Пожалуй, лишь историк Линн Виола различает крестьянскую культуру и большевистскую, описывая экспансию последней как колониализм (см.: Viola L. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. New York; Oxford: Oxford University Press, 1996). О внутренней колонизации применительно к Российской империи см.: Эткинд А. Фуко и имперская Россия: Дисциплинарные практики в условиях внутренней колонизации // Мишель Фуко и Россия. С. 166–238; Он же. Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России // AI. 2002. № 1. С. 265–298; Он же. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2014; см. также: Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / А. Эткинд, Д. Уффельманн, И. Кукулин (ред.). М.: Новое литературное обозрение, 2012.
(обратно)73
Мартин Т. Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М.: РОССПЭН, 2011 (оригинал: Martin T. The Affirmative Action Empire: Nation and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001); Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca; London: Cornell University Press, 2005.
(обратно)74
Мартин Т. Империя «положительной деятельности». С. 33–34. Применительно к советской Средней Азии см. также: Khalid A. The Soviet Union as an Imperial Formation: A View from Central Asia // Imperial Formation / A. L. Stoler, C. McGranaham, P. Perdue (eds.). Santa Fe; Oxford: School for Advanced Research Press, James Currey, 2007. P. 113–139; Luong P. Introduction: Politics in the Periphery: Competing Views of Central Asian States and Societies // The Transformation of Central Asia: States and Societies from Soviet Rule to Independence / P. Luong (ed.). Ithaca and London: Cornell University Press, 2004. P. 1—26.
(обратно)75
Имеются в виду работы: Cohn B. Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India. Princeton: Princeton University Press, 1996; Dirks N. Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India. Princeton: Princeton University Press, 2001; Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso Press, 1983 (русский перевод: Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001).
(обратно)76
Hirsch F. Empire of Nations. P. 4–5, 12–15. Целый ряд других исследователей прямо используют колониальную рамку для изучения советской Средней Азии, см.: Michaels P. Curative Power: Medicine and Empire in Stalin’s Central Asia. Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2003; Northrop D. Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004.
(обратно)77
Баберовски Й. Враг есть везде: Сталинизм на Кавказе. М.: РОССПЭН, 2010 (оригинал: Baberowski J. Der Feind ist überall: Stalinismus im Kaukasus. Munich: Deutsche Verlags-Anstalt, 2003).
(обратно)78
Там же. С. 517.
(обратно)79
Dave B. Kazakhstan: Ethnicity, Language and Power. London and New York: Routledge, 2007. P. 15. См. также: Beissinger M. Soviet Empire as «Family Resemblance» // Slavic Review. 2006. Vol. 65. № 2. P. 294–303; Блитстайн П. Нация и империя в советской истории, 1917–1953 гг. // AI. 2006. № 1. С. 197–219; Суни Р. Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история постсоветского пространства / И. Герасимов, С. Глебов, А. Каплуновский, М. Могильнер, А. Семенов (ред.). Казань: Центр исследований национализма и империй, 2004. С. 163–196.
(обратно)80
См.: Адамс Л. Применима ли колониальная теория к Центральной Евразии? // Неприкосновенный запас. 2009. № 4. С. 25–36 (оригинал: Adams L. Can We Apply a Postcolonial Theory to Central Asia? // Central Eurasia Studies Review. 2008. Vol. 7. № 1. P. 2–8). См. реплику на эту статью тюрколога Эдварда Лаззерини: Lazzerini E. «Theory, Like Mist on Glasses…»: A Response to Laura Adams // Central Eurasia Studies Review. 2008. Vol. 7. № 2. P. 3–6. См. также: Moore D. Is the Post— in Postcolonial the Post— in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique // Publication of the Modern Languages Association. 2001. Vol. 116. № 1. P. 11—128; Chari Sh., Verdery K. Thinking between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography after the Cold War // Comparative Studies in Society and History. 2009. Vol. 51. № 1. P. 6—34; Kandiyoti D. Post-Colonialism Compared: Potentials and Limitations in the Middle East and Central Asia // International Journal of Middle East Studies. 2002. Vol. 34. № 2. P. 279–297; Ремнев А. Колониальность, постколониальность и «историческая политика» в современном Казахстане // AI. 2011. № 1. С. 169–205.
(обратно)81
См.: Knight N. Grigor’ev in Orenburg, 1851–1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? // Slavic Review. 2000. Vol. 59. № 1. P. 74—100; Khalid A. Russian History and the Debate over Orientalism // Kritika. 2000. Vol. 1. № 4. P. 691–699; Knight N. On Russian Orientalism: A Response to Adeeb Khalid // Ibid. P. 701–715 (последние две статьи в русском переводе: Халид А. Российская история и спор об ориентализме // Российская империя в зарубежной историографии: Работы последних лет / П. Верт, П. Кабытов, А. Миллер (сост.). М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 311–323; Найт Н. О русском ориентализме (ответ Адибу Халиду) // Там же. С. 324–344). См. также: Горшенина С. Извечна ли маргинальность русского колониального Туркестана, или Войдет ли постсоветская Средняя Азия в область post-исследований // AI. 2007. № 2. С. 209–258 (французский перевод: Gorshenina S. La marginalité du Turkestan colonial russe est-elle une fatalité ou l’Asie centrale postsoviétique entrera-t-elle dans le champs des Post-Studies? // Le Turkestan russe: Une colonie comme les autres? / S. Gorshenina, S. Abashin (dir.). Cahiers d’Asie Centrale. 2009. № 17/18. P. 17–76).
(обратно)82
Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока. СПб.: Русский мир, 2006 (оригинал: Said E. W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. New York: Pantheon Books, 1978; в 1995 году Саид добавил к книге послесловие, а в 2003 году — предисловие). См. также: Said E. Culture and Imperialism. New York: Knopf, 1993.
(обратно)83
Саид Э. Ориентализм. С. 10.
(обратно)84
Guha R. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Delhi: Oxford University Press, 1983.
(обратно)85
См. также: Chakrabarty D. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press, 2000.
(обратно)86
Chatterjee P. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.
(обратно)87
См., например: Prakash G. Subaltern Studies as Postcolonial Criticism // American Historical Review. 1994. Vol. 99. № 5. P. 1475–1490; Prakash G. After Colonialism // After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements / G. Prakash (ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995. P. 3—17; Prakash G. Can the Subaltern Ride? A Reply to O’Hanlon and Washbrook // Comparative Studies in Society and History. 1992. Vol. 34. № 1. P. 168–184. Последняя статья была ответом на критику: O’Hanlon R., Washbrook D. After Orientalism: Culture, Criticism and Politics in the Third World // Comparative Studies in Society and History. 1992. Vol. 34. № 1. P. 141–167.
(обратно)88
Bhabha H. The Location of Culture. London and New York: Routledge, 1994.
(обратно)89
Ibid. P. 120.
(обратно)90
См. критический отзыв одного из основателей школы изучения подчиненных: Sarkar S. The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies // Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial / V. Chaturvedi (ed.). London; New York: Verso, 2000. P. 300–323.
(обратно)91
Bayly C. Rallying Around the Subaltern // Journal of Peasant Studies. 1988. Vol. 16. № 1. P. 110–120.
(обратно)92
При этом работы самого Бейли были целью для критических атак со стороны его оппонентов — см., например: Chatterjee P. The Nation and Its Fragments. P. 27–32; Dirks N. Coda: The Burden of the Past: On Colonialism and the Writing of History // N. Dirks. Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India. Princeton: Princeton University Press, 2001. P. 303–316.
(обратно)93
См., например: Bayly C. Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion, 1770–1870. Cambridge University Press, 1983.
(обратно)94
Bayly C. Origins of Nationality in South Asia: Patriotism and Ethical Government in the Making Modern India. Delhi: Oxford University Press, 1998.
(обратно)95
Bayly C. Empire and Information: Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780–1870. Cambridge University Press, 1996.
(обратно)96
Bayly C. The Birth of Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons. Blackwell Publishing, 2004.
(обратно)97
Cooper F. Colonialism in Question: Theory, Knowledge History. Berkeley: University of California Press, 2005. См. также: Герасимов И., Глебов С., Каплуновский А., Могильнер М., Семенов А. В поисках новой имперской истории // Новая имперская история. С. 7—29; Герасимов И., Глебов С., Кусбер Я., Могильнер М., Семенов А. Новая имперская история и вызовы империи // AI. 2010. № 1. С. 19–52; Хоу С. Запад и все остальные // AI. 2011. № 1. С. 21–52; Howe S. From Manchester to Moscow // Там же. С. 53–94.
(обратно)98
Marcus G., Fischer M. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1986. P. X.
(обратно)99
См., например, работы американского антрополога Роберта Редфилда: Redfield R. The Little Community: Viewpoints for the Study of a Human Whole. The University of Chicago Press, 1955; Redfield R. Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1969.
(обратно)100
См. один из примеров такой критики: Cohen A. The Symbolic Construction of Community. London and New York: Routledge, 1985. P. 11–38. См. также: Community // N. Rapport, J. Overing. Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts. London and New York: Routledge, 2000. P. 60–65.
(обратно)101
Помимо упомянутой работы Эдварда Саида см. также: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003; Mudimbe V. The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge. London: James Currey; Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1988; Валлерстайн И. Существует ли в действительности Индия? // Логос. 2006. № 5. С. 3–7.
(обратно)102
К такой же критике понятия Средней Азии можно, видимо, отнести попытки переименовать регион и заново переопределить его границы. И примерно в том же русле находится изучение того, как исторически возникал образ Средней Азии (см.: Gorshenina S. De la Tartarie à l’Asie centrale: le cœur d’un continent dans l’histoire des idées entre la cartographie et la géopolitique. L’Université Paris I — Sorbonne, 2007).
(обратно)103
Гирц К. «Насыщенное описание»: В поисках интерпретативной теории культуры // К. Гирц. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 9—42 (оригинал: Geertz C. Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture // C. Geertz. Interpretation of Cultures: Selected Essays. NY: Basic Book, 1973. P. 3—30).
(обратно)104
Sartori P. Towards a History of the Muslim’s Soviet Union: A View from Central Asia // Die Welt des Islams. 2010. № 50. P. 323–324.
(обратно)105
О монологизме и полифонии см.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. М.: Искусство, 1986. Интересный опыт — когда исследуемые сами становятся соавторами этнографического текста — см.: Crapanzano V. Tuhami: Portrait of a Morrocan. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980.
(обратно)106
Appadurai A. The Production of Locality // A. Appadurai. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1996. P. 178–199.
(обратно)107
Ibid. P. 178.
(обратно)108
Я мог бы отослать, например, к статье американского антрополога и историка Бернарда Кона, который писал об антропологической истории: Cohn B. History and Anthropology: The State of Play // Society for Comparative Study of Society and History. 1980. Vol. 22. № 2. P. 198–221. Здесь же можно вспомнить такие направления, как социальная история, микроистория, историческая антропология, история памяти и другие.
(обратно)109
Некоторые идеи очерка изложены в моей статье: Abashin S. The «fierce fight» at Oshoba: a microhistory of the conquest of the Khoqand Khanate // Central Asian Survey [далее — CAS]. 2014. Vol. 33. № 2. P. 215–231.
(обратно)110
Prakash G. Writing Post-Orientalist Histories of the Third World: Perspectives from Indian Historiography // Comparative Studies in Society and History. 1990. Vol. 32. № 2. P. 383–408.
(обратно)111
Ibid. P. 384–388. Автор здесь следует за работой Э. Саида (см.: Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский мир, 2006).
(обратно)112
Ту же идею отстаивал Иммануил Валлерстайн в статье с провокационным названием «Существует ли в действительности Индия?» (Логос. 2006. № 5. С. 3–8). Было бы весьма плодотворно задать похожий вопрос — существует ли Средняя Азия? (см.: Абашин С. Размышления о «Центральной Азии в составе Российской империи» // AI. 2008. № 4. С. 456–471).
(обратно)113
Prakash G. Writing Post-Orientalist. P. 388–391.
(обратно)114
Prakash G. Writing Post-Orientalist. P. 391–394.
(обратно)115
Ibid. P. 394–398.
(обратно)116
Ibid. P. 399–402.
(обратно)117
См.: Morrison A. Russian Rule in Samarkand, 1868–1910. A Comparison with British India. Oxford, NY: Oxford University Press, 2008.
(обратно)118
Я буду излагать эти события с точки зрения завоевателей, опираясь на материалы, собранные А. Серебренниковым и частью опубликованные (Серебренников А. К истории коканского похода // Военный сборник. 1897. № 9. С. 5—28; 1899. № 4. С. 211–226; Он же. К истории коканского похода (статья первая) // Там же. 1901. № 4. С. 29–55; Он же. К истории коканского похода (статья вторая) // Там же. 1901. № 7. С. 42–70; Он же. К истории коканского похода (статья третья) // Там же. 1901. № 8. С. 36–59; Он же. К истории коканского похода (статья четвертая) // Там же. 1901. № 9. С. 28–55; Он же. К истории коканского похода (статья пятая) // Там же. 1901. № 10. С. 69–96; Он же. К истории коканского похода (окончание) // Там же. 1901. № 11. С. 37–74), частью хранящиеся в фонде 715 ЦГА РУз.
(обратно)119
Государство Йеттишар было создано в конце 1860-х годов в результате антикитайского восстания мусульманского населения на территории нынешнего Синьцзяна.
(обратно)120
Долину реки Ахангаран отделяет от Ферганской долины горная гряда — Кураминский хребет. На ферганском, юго-восточном предгорье как раз и находится кишлак Ошоба, который, следовательно, уже летом 1875 года был в самой гуще событий.
(обратно)121
Город Ходжент (в советское время — Ленинабад, ныне — Худжанд), замыкающий западный угол Ферганской долины, уже с 1866 года был в составе образованного русскими Туркестана.
(обратно)122
Донесение капитана И. Д. Певцова военному губернатору Сыр-Дарьинской области от 18 октября 1875 г. // ЦГА РУз, ф. 715, оп. 1, д. 64. Л. 204–205.
(обратно)123
Курганча (қўрғонча) — двор наподобие небольшой крепости, защищенный со всех сторон стеной.
(обратно)124
Ураза — пост в месяц рамазан/рамадан по мусульманскому календарю.
(обратно)125
Напротив этого места Кауфман сделал пометку: «Ну, а если бы не было исполнено, то разве это было бы лучше? Мне кажется, что жители большой горной деревни, если бы желали, могли бы напасть на 30 чел. В том-то и дело, что напасть на 30 вооруженных русских не захочет ни один кишлак, ибо знает, что это даром не обходится».
(обратно)126
Петр Аристархович Пичугин был участником многих военных операций в Средней Азии в 1860—1870-е годы. Любопытная деталь — двоюродная сестра Пичугина была замужем за известным антропологом А. П. Богдановым, для которого полковник «поставлял» черепа на изучение (см.: С.М.С. «Отрывать же головы… решительно не имели времени» // Природа. 2004. № 5. С. 66).
(обратно)127
ЦГА РУз, ф. 715, оп. 1, д. 64. Л. 213–214.
(обратно)128
Дастархан (дастурхан, буквально «скатерть») — подарки, включающие хлеб и угощения, которыми одаривают гостей или с которыми идут в гости.
(обратно)129
Кипчаки — одно из крупных племенных объединений кочевников и полукочевников в Ферганской долине. Представители этой группы в 1840—1870-е годы играли важную роль в политической жизни Кокандского ханства, опираясь на поддержку своих воинственных соплеменников.
(обратно)130
ЦГА РУз, ф. 715, оп. 1, д. 64. Л. 214–215.
(обратно)131
В кокандской администрации наибы — это административное звание, что-то вроде уполномоченного. Но вполне возможно, что этот термин Кауфман взял из своего предыдущего опыта участия в войне на Северном Кавказе.
(обратно)132
ЦГА РУз, ф. 715, оп. 1, д. 64. Л. 218–221.
(обратно)133
ЦГА РУз, ф. 715, оп. 1, д. 64. Л. 271–272.
(обратно)134
См.: Записка о политических и иных делах на Кокандской границе, 15 ноября 1875 г. // ЦГА РТ, ф. 1, оп. 1, д. 2551. Л. 118, 118 об.
(обратно)135
ЦГА РУз, ф. 1, оп. 19, д. 529. Л. 1.
(обратно)136
Зульфикарбек — высокопоставленный кокандский чиновник каракалпакского происхождения, который выступил против Худоярхана и Насреддинхана.
(обратно)137
Серебренников А. К истории коканского похода (статья четвертая). С. 37.
(обратно)138
Там же. С. 38.
(обратно)139
Там же. С. 39.
(обратно)140
Там же. С. 42.
(обратно)141
Я не ставлю своей целью изучение всей истории завоевания Кокандского ханства, но для читателя добавлю, что 26 декабря 1875 года войска под командованием Скобелева развернули новые масштабные боевые действия против кокандцев, захватили Андижан, разбив основные силы противника, а в начале февраля в Санкт-Петербурге было принято решение о полной ликвидации Кокандского ханства и присоединении его территории к Туркестанскому краю.
(обратно)142
Донесение начальника Акджарского отряда начальнику Наманганского отдела от 19 ноября 1875 г. // ЦГА РУз, ф. 715, оп. 1, д. 65. Л. 200–201.
(обратно)143
Донесение начальника Акджарского отряда командующему войсками Туркестанского округа от 20 ноября 1875 г. // ЦГА РУз, ф. 715, оп. 1, д. 65. Л. 202–207.
(обратно)144
Иллюстрации с латинской нумерацией даны на вклейке.
(обратно)145
ЦГА РУз, ф. 715, оп. 1, д. 65. Л. 202–207.
(обратно)146
Между тем значительное число погибших в Ошобе подтверждается косвенными данными — подсчетом числа домов в кишлаке, который вели чиновники в 1877–1883 годах (см. Очерк 3).
(обратно)147
ЦГА РУз, ф. 1, оп. 20, д. 9808. Л. 1.
(обратно)148
Скобелев, как он уже планировал ранее, после отъезда Кауфмана соединил Акджарский отряд с Чустским и назначил командиром полковника барона Меллер-Закомельского, который в начале декабря провел карательную операцию вдоль левого берега Сырдарьи от Ак-джара до Чиль-махрама, после чего сопротивление в Кураминских предгорьях затихло.
(обратно)149
ЦГА РУз, ф. 715, оп. 1, д. 65. Л. 230–231.
(обратно)150
На копии этого письма есть приписки еще одного участника событий — генерал-майора Троцкого, в которых он отмечает странно фамильярный тон письма полковника генералу.
(обратно)151
См.: Горшенина С. Крупнейшие проекты колониальных архивов России: утопичность тотальной Туркестаники генерал-губернатора Константина Петровича фон Кауфмана // AI. 2007. № 3. С. 344–349.
(обратно)152
Серебренников А. К истории коканского похода (1897). С. 5.
(обратно)153
Серебренников А. К истории коканского похода (статья четвертая). С. 39–42.
(обратно)154
Там же. С. 42.
(обратно)155
Серебренников А. К истории коканского похода (1899). С. 220.
(обратно)156
Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. СПб., 1906. Т. 3. С. 388.
(обратно)157
Примечательно, что в начале XX века на сборник документов о завоевании Средней Азии, собранных Серебренниковым, накладывается гриф секретности, который, правда, потом сняли.
(обратно)158
Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. СПб.: [б.и.], 1906. Т. 1. С. XVII.
(обратно)159
Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. СПб.: [б.и.], 1906. Т. 2. С. 384.
(обратно)160
Основная часть работы Терентьева была подготовлена еще в 1869–1872 годах, но не получила одобрения из-за критических высказываний, к ее завершению автор вернулся только в 1895–1899 годах.
(обратно)161
Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. 1. С. 6, 7.
(обратно)162
См., например: Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России (60—90-е годы XIX в.). М.: Наука, 1965; Киняпина Н. С., Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России. Вторая половина XVIII — 80-е годы XIX в. М.: МГУ, 1984. С. 209–315.
(обратно)163
См., например: Глущенко Е. А. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования. М.: Центрполиграф, 2010 (о завоевании Кокандского ханства: С. 214–231).
(обратно)164
ЦГА РУз, ф. 715, оп. 1, д. 64. Л. 377. Оригинал документа отсутствует.
(обратно)165
Упоминание двух лиц родом из Гудаса, ближайшего к Ошобе селения (входящего сегодня в сельский совет/джамоат Ошоба), говорит о том, что жители этого небольшого таджикского кишлака играли значительную роль в сопротивлении, хотя население не стало вступать в военные действия, когда отряд Пичугина после разгрома Ошобы прибыл туда.
(обратно)166
См.: Веселовский Н. Киргизский рассказ о русских завоеваниях в Туркестанском крае. СПб.: [б.и.], 1894.
(обратно)167
См.: Гулямов Я. Новый источник по истории завоевания Туркестана русским царизмом // Известия Узбекистанского филиала АН СССР. Ташкент. 1941. № 4. С. 81–83; Султонов У. А. Мухаммад Солиҳхўжа ва унинг «Тарихи жадидайи Тошканд» асари. Тошкент: Ўзбекистон, 2009. С. 13–41 (на узбекском языке).
(обратно)168
Мухаммад-Салих-ходжа. Тарих-и-джадида-йи Ташканд / Рукопись Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан, № 7791 (1040 л.). Л. 804б, 805а. Я выражаю большую признательность Бахтияру Бабаджанову за перевод этого отрывка и комментарии к нему. Я хочу также указать на работу Т. Бейсембиева, благодаря которой удалось найти это упоминание Ошобы: Beisembiev T. Annotated Indices to the Kokand Chronicles. Tokyo: ILCAA—91, 2008.
(обратно)169
Характеристику взглядов Мухаммад-Салих-ходжи см.: Бабаджанов Б. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио; Ташкент: TIAS, 2010. С. 30–31, 265–266, 535–536, 538, 549–552.
(обратно)170
См.: Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1998.
(обратно)171
Например, в «Истории Узбекской ССР», изданной в 1968 году, события 1875–1876 годов интерпретируются как народное восстание против Худоярхана и царских колонизаторов. Хотя эти события названы не завоеванием, а присоединением, автор не жалеет эпитетов, именуя российские войска «карательными отрядами», целью которых были «жестокая расправа» и «подавление восстания» народных масс (Иноятов Х. Ш. Восстание 1873–1876 гг. и завоевание Кокандского ханства // История Узбекской ССР: В 4 т. Т. 2. От присоединения узбекских ханств к России до Великой Октябрьской социалистической революции / Х. З. Зияев (отв. ред.). Ташкент: Фан, 1968. С. 29–37).
(обратно)172
Абдуллаев О. Ошоба фожиаси // Ўзбекистон адабиети ва санъати. 1992. 10 апреля.
(обратно)173
К слову, журналы со статьями Серебренникова и многие подобные материалы не были под запретом, и любой читатель имел к ним доступ.
(обратно)174
Зиеев Х. Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш (XVIII–XX аср бошлари). Тошкент: Шарқ, 1998. С. 351 (на узбекском языке).
(обратно)175
К слову, у Зияева часто приводятся цитаты из произведений Мухаммад-Салих-ходжи и других местных хронистов, что делает его книгу полифоничной по содержанию.
(обратно)176
Раҳимов Ж. Ўзбекистон тарихини ўрганишда архив манбаларидан фойдаланиш. Тошкент: Ўкитувчи, 1995 (на узбекском языке).
(обратно)177
Я попытался выяснить, откуда автор взял эту фотографию, но ссылки то на «Туркестанский альбом», то на художника В. В. Верещагина, то на анонимные фонды кино— и фотоархива под Москвой не помогли установить первоисточник.
(обратно)178
Замечу, кстати, что российская армия, вторгнувшаяся в 1875 году в Фергану, включала в свой офицерский и рядовой состав людей разных культур, как мы сегодня сказали бы — разных национальностей.
(обратно)179
Таджикские историки считают своими национальными городами Бухару и Самарканд, но военные действия России против Бухарского эмирата и жестокие бои в Самарканде в 1868 году также не являются предметом их интереса.
(обратно)180
См. известную трилогию таджикского историка Рахима Масова: Масов Р. История топорного разделения. Душанбе: Ирфон, 1991; Он же. Таджики: история с грифом «совершенно секретно». Душанбе: Центр издания культурного наследия, 1995; Он же. Таджики: вытеснение и ассимиляция. Душанбе: Национальный музей древностей Таджикистана, 2004. О символическом конфликте узбеков и таджиков см.: Абашин С.Н. Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности. СПб.: Алетейя, 2007.
(обратно)181
Так же в большинстве случаев поступают и таджики (или ираноязычные группы населения), живущие в Узбекистане.
(обратно)182
Наливкин В. Мои воспоминания о Скобелеве // Русский Туркестан. 1906. № 119, 120. Свои воспоминания Наливкин писал тридцать лет спустя, превратившись к тому моменту из колониального чиновника в критика империи, что, конечно, заставляет нас с оговорками относиться к этому тексту как точно передающему атмосферу 1870-х годов.
(обратно)183
На поразительную живучесть локальной идентичности и локальных нарративов указывает широко распространившаяся в 1990—2000-е годы в Узбекистане и Таджикистане мода на написание историй отдельных кишлаков и городов (см.: Dudoignon S. Local Lore, the Transmission of Learning, and Communal Identity in Late 20th-Century Tajikistan: The Khijand-Nama of ’Arifijan Yahyazad Khidjandi // Devout Societies vs. Impious States? Trasmitting Islamic Learning in Russia, Central Asia and China, through the Twentieth Century / S. Dudoignon (ed.). Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2004. P. 213–241). Об устной истории у кыргызов см.: Prior D. The Šabdan Baatir Codex: Epic and the Writing of Northern Kirghiz History, Edition, Translation and Interpretations, with a Facsimile of the Unique Manuscript. Leiden; Boston: Brill, 2013.
(обратно)184
По мнению информаторов Н. О. Турсунова, селение Ошоба основали сорок семей тюрков групп каракитай и карлук около двухсот лет тому назад (то есть во второй половине XVIII века), их предки сначала жили в Маджаристане, потом поселились в Самарканде, оттуда пришли в Ташкент, а оттуда уже — после междоусобиц — в Ошобу (Турсунов Н. О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX — начала XX вв. (историко-этнографические очерки). Душанбе: Ирфон, 1976. С. 228).
(обратно)185
«Святое место» (мозор), которое находится у самого начала кишлака Ошоба, там, где речка Ошоба-сай выходит из узкого горного ущелья. См. Очерк 8 нашей книги.
(обратно)186
Занги-ата — селение недалеко от Ташкента, здесь расположено известное во всей Средней Азии «святое место».
(обратно)187
Рамадан — месяц, в который верующий должен держать пост в дневное время суток. День окончания поста в разных широтах определяется по-разному, что часто вызывает споры среди мусульман.
(обратно)188
В литературном варианте узбекского языка настоящее время данного момента образуется с помощью аффикса «яп», который характерен для ферганских диалектов. В ташкентском диалекте используется форма «вот».
(обратно)189
Об исторических мифах жителей Аштского района см.: Кузнецов П. Е. О таджиках Наманганского уезда // Известия Туркестанского отдела Императорского Русского географического общества. Т. IX, вып. 2, ч. 1. Ташкент, 1915. С. 1—25; Чвырь Л. А. Об исторических преданиях аштских таджиков // Кавказ и Средняя Азия в древности и раннем средневековье (история и культура) / Б. Литвинский (отв. ред.). М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1981. С. 163–176.
(обратно)190
См.: Басилов В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, 1992. С. 246–265; Абашин С. Чилтан // Ислам на территории бывшей Российской империи / С. Прозоров (ред.). М.: Восточная литература, 2006. Т. 1. С. 449–451; Абашин С. Н. «Семь святых братьев» // Подвижники ислама: Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе / С. Абашин, В. Бобровников (отв. ред.). М.: Восточная литература, 2003. С. 18–40.
(обратно)191
Т. Файзиев писал о жителях Кара-хитая, что они «сознавали свою принадлежность к узбекам, но обособляли себя от курама» (Файзиев Т. Узбеки-курама (в прошлом и настоящем). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ташкент, 1963. С. 10); по словам М. Е. Массона, диалект жителей Кара-хитая имеет ряд особенностей по сравнению с диалектами окружающего населения, в быту их немало обычаев, совершенно чуждых последним (Массон М. Е. Ахангеран: археолого-топографический очерк. Ташкент: АН УзССР, 1953. С. 61).
(обратно)192
Об особенностях таджикского (иранского) языка этих районов см.: Расторгуева В.С. Очерки по таджикской диалектологии. Вып. 2. Северные таджикские говоры полосы Шайдан — Ашт — Чуст — Кассансай. М.: АН СССР, 1952.
(обратно)193
См. Очерк 3.
(обратно)194
Ошобинцы отличали себя и от кураминцев — особой группы, которая населяла северо-западные предгорья Кураминского хребта и, в свою очередь, представляла собой, как считают этнографы, смесь из различных групп кочевых и оседлых жителей (см: Файзиев Т. Узбеки-курама).
(обратно)195
В сельсовете я видел паспорт ошобинского кладбища, согласно которому оно возникло в 1601 году. Не углубляясь в детали, добавлю, что местность, которую освоили первые ошобинцы, в древности была населена какими-то другими группами, оставившими после себя погребальные сооружения — курумы (см.: Литвинский Б. Курганы и курумы Западной Ферганы (Раскопки. Погребальный обряд в свете этнографии). М.: Наука, 1972. С. 151).
(обратно)196
Известен, например, такой факт: «В XVI в. при двоюродном брате Шейбани-хана, Барак-хане, правителе Ташкента, в Ташкенте был отряд турок в 300 человек, вооруженных огнестрельным оружием, и эти турки оказывали существенную помощь Барак-хану в его завоевательных стремлениях в направлении Самарканда и Шахрисябза» (Семенов А. А. Шейбани-хан и завоевание им империи Тимуридов // Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. Вып. 1. Сталинабад: АН Таджикской ССР, 1954. С. 73).
(обратно)197
Чехович О. Д. Сказание о Ташкенте // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1970. С. 175.
(обратно)198
Перевал через Кураминский хребет, связывающий Ферганскую долину с долиной реки Ахангаран, проходивший через селения Шайдан и Бабадархан. В прошлом был основным военным и торговым путем.
(обратно)199
Наливкин В. П. Краткая история Кокандского ханства. Казань: [б.и.], 1886. С. 99—101. Б. Бабаджанов датирует эти события 1809 годом (Бабаджанов Б. Кокандское ханство. С. 133, прим. 2).
(обратно)200
См.: Набиев Р. Н. Из истории Кокандского ханства (феодальное хозяйство Худояр-хана). Ташкент: Фан, 1973. С. 99, 100; Бейсембиев Т. К. «Та’рихи-и Шахрухи» как исторический источник. Алма-Ата: Наука, 1987. С. 68, 69.
(обратно)201
Бейсембиев Т. К. «Та’рихи-и Шахрухи». С. 69. Р. Я. Рассудова указывала, что мерганы — это подразделение, которое охраняет ворота царского дворца (Рассудова Р. Я. Очерки организации войска в Бухарском и Кокандском ханствах (XIX в.) // Этнографические аспекты традиционной военной организации народов Кавказа и Средней Азии / В. Курылев (отв. ред.). Вып. 2. М.: Институт этнографии АН СССР, 1990. С. 41).
(обратно)202
Кун А. Очерки Коканского ханства // Известия Императорского Русского географического общества / В. Срезневский (ред.). Т. 12, вып. 1. СПб., 1876. С. 65.
(обратно)203
В данном случае это либо прозвище (лақаб) женщины, либо военное звание ее мужа.
(обратно)204
В городе Туркестан захоронен средневековый святой Ахмед Ясави, которого также называли Хазрати-Султан. В 1864 году Туркестан был завоеван российскими войсками.
(обратно)205
См. Очерк 8.
(обратно)206
В Аштском районе существует два кишлака с таким названием: один в сторону Пангаза, другой — Ашта.
(обратно)207
ЦГА РУз, ф. 715, оп. 1, д. 64. Л. 324–325.
(обратно)208
ЦГА РУз, ф. 715, оп. 1, д. 66. Л. 124.
(обратно)209
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 10458. Л. 1. На письме стоит резолюция: «К докладу. Означенных четырех жителей из-под ареста освободить, вменив им арест в наказание. 17.2.76».
(обратно)210
См. Очерк 3.
(обратно)211
Впрочем, возможно, рассказ имел и письменную версию. Любопытно, что Н. Веселовский, который в конце XIX века искал местные рассказы о русском завоевании, упоминает некоего старика из Ашта, который будто бы «вел такие записки» (Веселовский Н. Киргизский рассказ о русских завоеваниях. С. VI, прим. 1).
(обратно)212
Об образе женщины в различных нарративах см.: Зубковская О. Постколониальная теория в анализе постсоветского феминизма: дилеммы применения // AI. 2007. № 1. С. 395–420; Тлостанова М. Деколониальные гендерные эпистемологии. М.: Маска, 2009.
(обратно)213
Калмыков С. В. Комбриг Синицин // За Советский Туркестан (сборник воспоминаний) / А. Зевелев (ред.). Ташкент: Государственное издательство УзССР, 1963. С. 171–176.
(обратно)214
Prusin A., Zeman S. Taming Russia’s Wild East: the Central Asian historical-revolutionary film as Soviet Orientalism // Historical Journal of Film, Radio and Television. 2003. Vol. 23. № 3. P. 259–270.
(обратно)215
Если верить тому же Калмыкову, Синицын родился в 1886 году в семье богатого московского купца, учился в коммерческом училище, в духовной семинарии, потом в офицерской школе, откуда вышел в чине поручика на службу в гвардейский полк, но «за провинность» был разжалован в прапорщики и назначен в пехотный полк в Читу, воевал на фронтах Первой мировой с 1914 по 1917 год и дослужился до чина штабс-капитана, в феврале солдаты выбрали его в полковой комитет, потом служил в Красной армии, воевал на колчаковском фронте и дослужился до должности начальника штаба бригады. В партии он, судя по всему, не состоял (Калмыков С. В. Комбриг Синицин. С. 162, 163).
(обратно)216
Мадаминов Р. Кокандские события // В боях за Советскую власть в Ферганской долине. Воспоминания участников Октябрьской революции и Гражданской войны 1917–1923 гг. / Х. Турсунов (отв. ред.). Ташкент: АН УзССР, 1957. С. 13, 14. Почти дословно, но без ссылки на Мадаминова, этот рассказ был воспроизведен в книгах: Шамагдиев Ш. А. Очерки истории Гражданской войны в Ферганской долине. Ташкент: АН УзССР, 1961. С. 239, 240; Иркаев М. История Гражданской войны в Таджикистане. Душанбе: Ирфон, 1971. С. 116. Последний, правда, увеличил численность отряда Рахманкула с 1,5 до 2 тыс. человек.
(обратно)217
См. Очерк 1.
(обратно)218
Арутюнов А. За горные кишлаки // В боях за Советскую власть. С. 69, 70.
(обратно)219
Бойоб-бува — самая верхняя точка Кураминского хребта (см. Очерк 8). В тексте имеется в виду, что повстанцы ушли далеко в горы.
(обратно)220
Впрочем, в книге Ш. Шамагдиева два эпизода, рассказанные Арутюновым и Мадаминовым, упомянуты как разные события (Шамагдиев Ш. А. Очерки истории Гражданской войны. С. 239, 240).
(обратно)221
См. Очерк 1.
(обратно)222
Как утверждает Иркаев, этот штурм состоялся тоже в ноябре — 21–23 числа (Иркаев М. История Гражданской войны в Таджикистане. С. 117).
(обратно)223
В 1875 году, когда российские войска вторглись в Кокандское ханство, в такой же роли мученика выступил простой солдат Фома Данилов, жестоко казненный кокандцами. См.: Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. СПб.: [б.и.], 1906. Т. 2. С. 389; Серебренников А. К истории коканского похода (статья четвертая) // Военный сборник. 1901. № 9. С. 54–55; Достоевский Ф. Фома Данилов, замученный русский герой // Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений: В 15 т. М.: Наука, 1995. Т. 14. С. 14–19.
(обратно)224
Цит. по: Туркестан в начале XX века: к истории истоков национальной независимости. Ташкент: Шарк, 2000. С. 180, 181.
(обратно)225
За Советский Туркестан. С. 566.
(обратно)226
Конно-спортивное состязание, во время которого всадники, разбившись на команды, пытаются доскакать до финиша, удержав тушу козла (см.: Юлдашев С. Узбекские обычаи: улак (купкари) // Этнический атлас Узбекистана / А. Ильхамов (отв. ред.). Стамбул; Ташкент: ИООФС-Узбекистан; ЛИА «Р. Элинина», 2002. С. 339–351). Козлодрание обычно проводилось вместе с пиршествами, его организовывали на площади в верхней части кишлака — там же, где происходили все общие мероприятия ошобинцев и где потом была построена школа им. М. Горького.
(обратно)227
См. Очерк 8.
(обратно)228
См. Очерк 1.
(обратно)229
Аширмат-курбаши (или Ашурмат), видимо, оставался независимым от Рахманкула лидером (см.: Ахунов И. Отряд партийной дружины // В боях за Советскую власть. С. 104–106).
(обратно)230
Отчет ревизующего, по Высочайшему повелению, Туркестанский край, тайного советника Гирса. СПб.: [б.и.], 1884. С. 79. В Кокандском ханстве курбаши — полицейский чиновник, который следил за порядком в ночное время суток.
(обратно)231
См. Очерк 3.
(обратно)232
ЦГА РУз, ф. 276, оп. 1, д. 902. Л. 41, 42. См. также: Доклад Ферганского военного губернатора Иванова. Декабрь. 1916 г. // Восстание 1916 года в Средней Азии. Сборник документов. Ташкент: Госиздат УзССР, 1932. С. 62.
(обратно)233
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 21380. Л. 1–2.
(обратно)234
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 10070. Л. 141 об., 142.
(обратно)235
См. Очерки 3 и 8.
(обратно)236
От потомков ходжей я услышал версию, что Турсун-ходжа заболел и сам передал лидерство Рахманкулу, который якобы был его доверенным человеком. Возможно, такая интерпретация появилась позднее — как средство избежать нарративного конфликта между ходжами и популярным ошобинским героем.
(обратно)237
См. Очерк 3.
(обратно)238
Отряд был немногочисленный, но хорошо вооруженный. Он базировался в селении Пап, и осенью 1922 года в нем состояло 140 бойцов (ГАФО РУз, ф. 435, оп. 4, д. 12. Л. 164 об.).
(обратно)239
См. Очерк 3.
(обратно)240
Позднее Турсунов занимал милицейские должности и был руководителем предприятий в Таджикской ССР. Несколько его сыновей, родившихся в Ошобе, также занимали высокие посты. См. Очерк 4.
(обратно)241
См. Очерк 3. Джаркина тоже называли «мингбаши» (начальник тысячи, тысяцкий), он наследовал титул своего отца в виде семейного прозвища.
(обратно)242
См. Очерк 3.
(обратно)243
Туркестан в начале XX века. С. 215, 216, 226.
(обратно)244
Восточную часть того же уезда контролировал другой известный курбаши — Аман-палван, который был пойман и расстрелян большевиками в 1923 году.
(обратно)245
ГАФО РУз, ф. 435, оп. 1, д. 145. Л. 76.
(обратно)246
О термине «пансад» см. Очерк 1.
(обратно)247
В одном из документов 1923 года Аман-аксакал Мадкаримходжаев упоминается как член аштского революционного комитета, правда, арестованный за должностные злоупотребления (ГАФО РУз, ф. 435, оп. 1, д. 115. Л. 10).
(обратно)248
Юзбаши (юзбоши) — начальник сотни, сотник.
(обратно)249
По сообщению информаторов Б. Бабаджанова, Кичкина Эргаш (Иргаш), то есть Маленький Эргаш, жил в Чусте, в окрестностях которого располагался его отряд, был в подчинении у Рахманкула, но потом «продал» его — очевидно, сдался советской власти.
(обратно)250
В рассказе Калмыкова он фигурировал как Баба-ходжа-пансад (Калмыков С. В. Комбриг Синицин. С. 170, 171). Н. Ахмедов называл его по фамилии (точнее, по имени или прозвищу отца) — Саидходжаев (Ахмедов Н. Коротко из воспоминаний // За власть Советов в Таджикистане. Воспоминания участников революции и борьбы с басмачеством. Сталинабад: Таджикский Госиздат, 1958. С. 66).
(обратно)251
Бойматов Ю. Эпизоды из героических боев советских войск // В боях за Советскую власть. С. 49.
(обратно)252
Калмыков С. В. Комбриг Синицин. С. 167.
(обратно)253
Ахмедов Н. Коротко из воспоминаний. С. 66.
(обратно)254
Там же. С. 66.
(обратно)255
Ога, ага — титул, которым в Персии и Афганистане называли людей аристократического происхождения.
(обратно)256
Sartori P. When a Mufti Turned Islamism into Political Pragmatism: Sadreddin-Khan and the Struggle for an Independent Turkestan // Cahiers d’Asie centrale. 2007. № 15–16. P. 118–139.
(обратно)257
Садриддинхан принадлежал к семейству ходжей и ишанов (см. Очерк 8).
(обратно)258
См.: Туркестан в начале XX века. С. 185.
(обратно)259
Заки Валиди Тоган. Воспоминания. Борьба мусульман Туркестана и других восточных тюрок за национальное существование и культуру. М.: [б.и.], 1997. С. 288.
(обратно)260
Шамагдиев Ш. А. Очерки истории Гражданской войны. С. 239. См. также: История Гражданской войны в Узбекистане. Т. 2 / Х. Ш. Иноятов (отв. ред.). Ташкент: Фан, 1970. С. 286.
(обратно)261
Тайны национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного IV совещания ЦК РКП, 1923 г. М., 1992. С. 125.
(обратно)262
Протокол объединенного заседания Наманганского угорревкома, 20 сентября 1922 г. // ГАФО РУз, ф. 435, оп. 4, д. 139. Л. 39, 39 об.
(обратно)263
Имеется в виду толқон — размолотый с орехами высушенный белый тутовник, который жители Ошобы выращивали в большом количестве в своих садах и который считается весьма калорийным продуктом.
(обратно)264
Речь идет о Льве Троцком, который возглавлял вооруженные силы Советской России.
(обратно)265
См. Очерк 3.
(обратно)266
По другим сведениям, Рахманкул обложил селения налогом в одну пятую часть урожая (ГАНО РУз, ф. 13, оп. 2, д. 97. Л. 106).
(обратно)267
ГАФО РУз, ф. 435, оп. 1, д. 145. Л. 76. Оригинал документа отсутствует.
(обратно)268
Имеется в виду, что некоторая часть мусульманской элиты выступила с заявлениями в поддержку советской власти.
(обратно)269
Цитата взята из русскоязычного издания: Калмыков С. Сдайте маузеры, курбаши! Ташкент: Узбекистан, 1989. С. 427–429.
(обратно)270
См.: Буттино М. Революция наоборот. Средняя Азия между падением царской империи и образованием СССР. М.: Звенья, 2007.
(обратно)271
Туркестан в начале XX века. С. 226.
(обратно)272
Воспоминания М. Бобоходжаева // За власть Советов в Таджикистане. С. 61. См. также: Иркаев М. Из истории Гражданской войны в Таджикистане. С. 108, 109.
(обратно)273
ГАНО РУз, ф. 13, оп. 2, д. 97. Л. 106.
(обратно)274
ГАФО РУз, ф. 435, оп. 4, д. 139. Л. 65.
(обратно)275
ГАФО РУ, ф. 435, оп. 4, д. 207. Л. 2.
(обратно)276
В литературе существует большая путаница в датах, относящихся к борьбе с Рахманкулом. Согласно одним авторам, окончательный разгром его войска случился в 1921 году, другие пишут, что оно было разбито в 1922 году, но сам Рахманкул пойман только в 1923-м. Я использую датировку на основании архивных источников, которые цитирую в данном очерке.
(обратно)277
ГАФО РУз, ф. 435, оп. 4, д. 139. Л. 76 об., 77.
(обратно)278
ГАФО РУз, ф. 435, оп. 1, д. 103. Л. 431–437.
(обратно)279
Баястан-курбаши — местный лидер (киргиз или кипчак), отряд которого действовал в Чаткальских горах, в селениях Гава, Алмас, Варзак. Был взят в плен большевиками и в 1924 году расстрелян.
(обратно)280
Облревком Феробласти, доклад «О положении недавно освободившегося от Рахманкуловых шаек Аштского района Наманганского уезда» // ГАФО РУз, ф. 435, оп. 1, д. 209. Л. 2–4, 5–6 об.
(обратно)281
Мы встречаем его в качестве одного из активных сторонников Одинамата Исаматова во время выборного конфликта в 1892 году (см. Очерк 3).
(обратно)282
В Аштской степи были крупнейшие в Ферганской долине солеразработки.
(обратно)283
Автор записки критикует прежнюю политику местных большевистских руководителей, которые репрессиями, направленными против населения, способствовали увеличению числа недовольных советской властью.
(обратно)284
Fitzpatrick Sh. Tear Off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005. P. 5 (см.: Фицпатрик Ш. Срывайте маски: Идентичность и самозванство в России XX века. М.: РОССПЭН, 2011. С. 14).
(обратно)285
К слову, эти обвинения не вошли в официальную биографию Ахмедова, судьба которого при советской власти сложилась достаточно благополучно: в 1923–1926 годах он возглавлял Союз Кошчи в Наманганском уезде, в 1931–1936 годах служил в НКВД Аштского района, в 1936–1947 годах был сотрудником милиции в разных районах Северного Таджикистана, потом — председателем сельсовета Пангаз, горсовета Адрасман, работал в органах районной власти, в 1952–1953 годах был председателем сельсовета Ошоба, а потом опять работал в сельсовете в Пангазе, был председателем и парторгом в колхозе «Энгельс» (Азимов Н. Симои Ашт. Душанбе: [б.и.], 2001. С. 570, 571 (на таджикском языке)). Сегодня в Историко-краеведческом музее Аштского района имеется целый стенд, посвященный ему как герою революции.
(обратно)286
См.: Fitzpatrick Sh. Tear Off the Masks. P. 205–239 (Фицпатрик Ш. Срывайте маски. С. 237–274).
(обратно)287
Ibid. P. 236.
(обратно)288
ФГАСО РТ, ф. 152, оп. 1, д. 2. Л. 64.
(обратно)289
См. Очерки 4 и 5.
(обратно)290
ФГАСО РТ, ф. 152, оп. 1, д. 2. Л. 80.
(обратно)291
В предваряющем тексте было сказано, что листок должен висеть на видном месте — на двери кабинета или над столом чиновника, а снят может быть только после устранения указанных в нем недостатков: «Срыв листка будет рассматриваться как зажим самокритики».
(обратно)292
См. Очерки 4 и 5.
(обратно)293
Fitzpatrick Sh. Tear Off the Masks. P. 213–226.
(обратно)294
См. Очерк 4.
(обратно)295
Калмиков С. Қуръон ва маузер. Тошкент: Ўзбекистан, 1973 (на узбекском языке).
(обратно)296
Grant B. An Average Azeri Village (1930): Remembering Rebellion in Caucasus Mountains // Slavic Review. 2004. Vol. 63. № 4. P. 709.
(обратно)297
Grant B. An Average Azeri Village. P. 709, 731.
(обратно)298
Зевелев А. И., Поляков Ю. А., Чугунов А. И. Басмачество: возникновение, сущность, крах. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1981. С. 182, 183.
(обратно)299
В этой логике написаны разделы книги «Туркестан в начале XX века». См. также: Раджапов К. К. Вооруженное движение в Туркестанском крае против советского режима (1918–1924 гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Ташкент, 2005.
(обратно)300
См., например: Алимова Д. А. История как история, история как наука. Ташкент: Узбекистан, 2008. Т. 1. С. 60, 61.
(обратно)301
Абдуллаев К. От Синьцзяня до Хорасана: Из истории среднеазиатской миграции XX века. Душанбе: Ирфон, 2009. С. 114, 115.
(обратно)302
Когда речь идет, допустим, о «потомках святых», живущих в Ошобе, сакральный план возникает (см. Очерк 8).
(обратно)303
Robinson R. Non-European foundations of European imperialism: Sketch for a theory of collaboration // Studies in the Theory of Imperialism / R. Owen, B. Sutcliffe (eds.). London: Longman, 1972. P. 117–140.
(обратно)304
Ibid. P. 118.
(обратно)305
Robinson R. Non-European foundations of European imperialism. P. 120.
(обратно)306
Этот перевал на высоте чуть более 2000 м был очень древней дорогой из Ферганы в Ташкент (Бабур-наме. Записки Бабура. Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1993. С. 56, 78, 119; Мирза-Мухаммад-Хайдар. Тарих-и Рашиди. Ташкент: Фан, 1996. С. 351).
(обратно)307
Потанин Г. Показания сибирского казака Максимова о Коканском владении // Вестник Императорского Русского географического общества. Ч. 28. № 3. СПб., 1860: «Из Ташкента в Кокан дорога идет через места: Бишарык, Шайдан, Акджар, Кокан, всего 3 дня, на телегах 6…» (С. 66). См. также: Карта Коканского ханства, составлена при Штабе Отдельного Сибирского корпуса из разных материалов вновь поверенных и исправленных. Омск 1841-го года (Записки Императорского Русского географического общества. Кн. 3. СПб., 1849).
(обратно)308
Сборник статей, касающихся до Туркестанского края, А. П. Хорошхина. СПб.: [б.и.], 1876. С. 30–32.
(обратно)309
Как пояснял Кун, один батман был равен 4 пудам, или примерно 65 кг, и стоил 1,5–2 рубля (Кун А. Очерки Коканского ханства // Известия Императорского Русского географического общества. Т. 12, вып. 1. 1876. С. 66).
(обратно)310
1 тилля был равен 3,6 рубля (Там же. С. 66).
(обратно)311
Там же. С. 66.
(обратно)312
Серебренников А. К истории Коканского похода (статья четвертая) // В.Е. 1901. № 9. С. 44.
(обратно)313
В 1909 году селение Аштлык было уже в составе сельского общества Верхний Ашт.
(обратно)314
По левую сторону от Ошобы (в направлении Ашта) самыми крупными были родники Чукуркам-булак, Ак-кудук-булак, Кызыл-кудук-булак, Уч-хатун-булак, Аксинджат. По правую сторону от Ошобы (в направлении Шайдана и Пангаза) — Тахтапез-булак, Новолик-булак. По словам Маматкулова, родники орошали в прошлом около 130–140 га земли.
(обратно)315
Эта система называется кяризами. Самая глубокая шахта-колодец достигала 17 қулоч (қулоч — расстояние в размах обеих рук, около 1,5–1,8 м), и иногда, чтобы вывести воду в одном месте, затрачивали от 1–2 до 7—10 лет работы.
(обратно)316
Такого рода несовпадение колониальных и повседневных практик было особенно заметно в районах с кочевым населением (см.: Martin V. Law and Custom in the Steppe: The Kazakhs of the Middle Horde and Russian Colonialism in the Nineteenth Century. Curzon Press, 2001. P. 119–127).
(обратно)317
Материалы для статистического описания Ферганской области. Результаты поземельно-податных работ (1897—99 гг.) / Г. С. Назаров (сост.). Вып. 3. Скобелев: Ферганский областной статистический комитет, 1910. С. 110, 111. В «даче», куда были включены Аксинджат, Тудак и какие-то другие мелкие поселения, насчитывалось 59 землевладельцев.
(обратно)318
См. подробнее: Правилова Е. Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных окраинах. 1801–1917. М.: Новое издательство, 2006. С. 271–301.
(обратно)319
Подробнее см.: Penati B. Notes on the Birth of Russian Turkestan’s Fiscal System: A View from the Fergana Oblast’ // Journal of the Economic and Social History of the Orient. 2010. № 53. P. 739–769.
(обратно)320
Проект всеподданнейшего отчета генерал-адъютанта К.П. фон Кауфмана по гражданскому управлению и устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства. 7 ноября 1867 — 25 марта 1881 г. СПб.: Издание Военно-ученого комитета Главного штаба, 1885. С. 265.
(обратно)321
Сравнительная таблица о количестве земли и налогов с сельских обществ Наманганского уезда, 1898 г. // ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 33441. Л. 8 об.
(обратно)322
Экспликация на дачу Ферганской области Наманганского уезда Ашабинского сельского общества, селения Ашаба Аштской волости // ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 34081. Л. 1—29. Далее я привожу расчеты и цитаты из этого дела без ссылок на архив.
(обратно)323
Стандартный танап (таноб) соответствовал примерно четвертой части десятины, правда, как обращали внимание колониальные чиновники, местные способы измерения отличались от принятых в России и поэтому в каждом конкретном случае соотношение танапов и десятин могло варьироваться.
(обратно)324
В «даче» Тахтапез подать составила 133,08 руб. (О рассмотрении податных расчетов по Аштской волости Наманганского уезда, 1900–1901 гг. // ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 33491. Л. 45 об., 46).
(обратно)325
См. Очерк 8.
(обратно)326
См. Очерк 7.
(обратно)327
Согласно Положению об управлении Туркестанским краем 1886 года, владельцем (и фактически собственником) считался каждый отдельный землевладелец, но его права были опосредованы и в какой-то мере ограничены сельским обществом.
(обратно)328
О проблеме учета и налогообложения богарных земель см.: Penati B. Swamps, sorghum and saxauls: marginal lands and the fate of Russian Turkestan (c. 1880–1915) // CAS. 2010. Vol. 29. № 1. P. 61–78.
(обратно)329
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 3369. Л. 26 об., 27; Земли коренного оседлого населения Ферганской области: по данным поземельно-податных комиссий к 1916 году, собранным и обработанным организацией по экономическим исследованиям в бассейне р. Сыр-Дарьи Отдела Зем. Улучш. М.: Т.Э.С., 1924. С. 340, 341.
(обратно)330
Кузнецов П. Е. О таджиках Наманганского уезда // Известия Туркестанского отдела Императорского Русского географического общества. Т. IX, вып. 2, ч. 1. Ташкент, 1915. С. 17, 21.
(обратно)331
В начале 1880-х годов, как говорят местные предания, некто Тошмат первым стал сажать картошку, помидоры и капусту, возможно — для продажи русским.
(обратно)332
Валовой доход от садов мог составлять 240 руб. на десятину, от виноградников — 120 руб. (Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. Казань: [б.и.], 1886. С. 23).
(обратно)333
Кибиточную подать, то есть фиксированный налог на скот, платили только жители кочевых волостей и аульных обществ, Ошоба же считалась земледельческим сообществом.
(обратно)334
Подробнее см. мои статьи: Абашин С. Быть или не быть общине в Туркестане: споры в русской администрации в 1860–1880 годах // ВЕ. 2001. № 4. С. 35–62; Он же. Община в Туркестане в оценках и спорах русских администраторов начала 80-х гг. XIX в. (По материалам Центрального государственного архива Республики Узбекистан) // Сборник Русского исторического общества. Т. 5. Россия и Средняя Азия. М.: Русская панорама, 2002. С. 71–88; Он же. Ислам в бюрократической практике царской администрации Туркестана (Вакуфное дело дахбитского медресе. 1892–1900) // Сборник Русского исторического общества. Т. 7. Россия и мусульманский мир. М.: Русская панорама, 2003. С. 163–191.
(обратно)335
Проект всеподданнейшего отчета. С. 228.
(обратно)336
Отчет ревизующего, по Высочайшему повелению, Туркестанский край, тайного советника Гирса. СПб.: [б.и.], 1884. С. 346.
(обратно)337
Положение об управлении Туркестанского края // Национальная политика в императорской России. Цивилизованные окраины / Ю. Семенов (сост.). М.: Старый сад, 1997. С. 407. См. подробнее: Савицкий А. П. Поземельный вопрос в Туркестане (в проектах и законах 1867–1886 гг.). Ташкент: СамГУ, 1963; Юлдашев А. Аграрные отношения в Туркестане (конец XIX — начало XX вв.). Ташкент: Узбекистан, 1969.
(обратно)338
Кривошеин А. В. Записка главноуправляющего земледелием и землеустройством о поездке в Туркестанский край в 1912 г. СПб.: [б.и.], 1913. С. 57, 58.
(обратно)339
См.: Юлдашев А. Аграрные отношения в Туркестане; Демидов А. П. Экономические очерки хлопководства и хлопковой торговли и промышленности Туркестана. М.: Центральное управление печати ВСНХ СССР, 1926.
(обратно)340
Я выражаю большую признательность Бахтияру Бабаджанову за перевод этих документов и комментарии к ним.
(обратно)341
Гяз (газ) — около 0,9 метра. Речь идет об участке размером примерно в 2 танапа.
(обратно)342
Об усто Негматулло см. Очерк 6.
(обратно)343
Имеется в виду, возможно, российский золотой рубль.
(обратно)344
Этот же судья фигурирует в одном из архивных дел, которое я цитирую в Заключении. Судя по частоте упоминаний в архиве, семья Камалиддина-ходжи, жившая в Аште, имела большое влияние: сам Камалиддин-ходжа был активным участником разного рода общественных событий, а его сын Баба-ходжа баллотировался в 1907 году на должность волостного управителя (см.: ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 1996. [Б.л.]; ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 8669. Л. 50 об., 51). Соблазнительно было бы предположить, что этот Баба-ходжа и есть будущий сподвижник Рахманкула-курбаши — Бува-ходжа (см. Очерк 2).
(обратно)345
В конце стоит печать с оттиском и неразборчивой надписью на кириллице, справа наклеены две марки комиссионного сбора по 5 коп. с указанием даты составления документа.
(обратно)346
См. Очерк 8.
(обратно)347
Любопытно, что в 2000-е годы потомок покупателя предъявил эти документы как основание для своих претензий на земельные участки, о которых в них говорилось.
(обратно)348
См.: Hacking I. How should we do the history of statistics? // The Foucault Effect. Studies in Governmentality / G. Burchell, C. Gordon, P. Miller (eds.). Harvester Wheatsheaf, 1991. P. 181–195.
(обратно)349
См.: Киселев В. Демографическая статистика в колониальном Туркестане во второй половине XIX века // O‘zbekiston tarixi. 2002. № 1. С. 11–19.
(обратно)350
Кузнецов П. Е. О таджиках Ташкентского уезда (краткий отчет) // Известия Туркестанского отдела Императорского Русского географического общества. Т. II, вып. II. Ташкент, 1900. С. 33, 34.
(обратно)351
Список кишлакам области, а также родам и отдельным аулам кочевого населения с распределением на уезды и волости // ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 28098. Л. 25. Этот список не датирован, но его примерную дату можно определить, судя по тому, что в нем числится Чимионский уезд, который был создан в 1876 году и ликвидирован в 1879-м.
(обратно)352
Хотя многие исследователи уже тогда ставили это утверждение под сомнение: Буняковский А. В. О пространстве и населении Туркестанского края // Материалы для статистики Туркестанского края / Н. Маев (ред.). Вып. 1. СПб.: Издание Туркестанского статистического комитета, 1872. С. 121.
(обратно)353
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 451. Л. 132.
(обратно)354
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 635. Л. 17. Эту цифру упоминает таджикский этнограф Н. Турсунов, говоря о 1880 годе (Турсунов Н. О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX — начала XX вв. (историко-этнографические очерки). Душанбе: Ирфон, 1976. С. 228).
(обратно)355
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 833. Л. 33.
(обратно)356
О представлении подробных списков всех оседлых поселений Ферганской области. 5 июня 1884 — 30 июля 1885 г. // ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 1178. Л. 34.
(обратно)357
Терентьев М.А. Статистические очерки Среднеазиатской России // Записки Императорского Русского географического общества по отделению статистики. Т. 4. СПб., 1874. С. 64.
(обратно)358
См. мою статью: Абашин С. Статистика как инструмент этнографического исследования (узбекская семья в XX в.) // Этнографическое обозрение [далее — ЭО]. 1999. № 1. С. 5, 6.
(обратно)359
Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. 89. Ферганская область / Н. Тройницкий (ред.). СПб.: Издание ЦСК МВД, 1904. Анализ значения переписей см.: Darrow D. Census as a Technology of Empire // AI. 2002. № 4. С. 145–176.
(обратно)360
Материалы для статистического описания Ферганской области. С. 11, 111.
(обратно)361
Список населенных мест Ферганской области. Новый Маргелан: Ферганский областной статистический комитет, 1909. С. 121.
(обратно)362
Российские ученые и политики разрабатывали более сложное категориальное деление населения на разные группы и субгруппы, прежде всего национальные и социально-экономические, в том числе на примере детального статистического описания отдельных селений Средней Азии, но это не носило массового характера, а скорее было знанием, распространенным в узком кругу специалистов, которые к тому же продолжали спорить друг с другом о принципах категоризации (см.: Юферев В. Хозяйство сартов Ферганской области. Ташкент: Главное управление землеустройства и земледелия, Переселенческое управление, 1911; Бюджеты 45 хозяйств Ферганской области по обследованию 1915 г. с приложением очерка «Хозяйства сартов Туркестанского уезда, Сыр-Дарьинской области». М.: Издание Экономического совещания ТССР, [1924]).
(обратно)363
Первая всеобщая перепись населения. С. 31.
(обратно)364
См.: Костенко Л. Туркестанский край. Опыт военно-статистического обозрения Туркестанского военного округа. СПб.: [б.и.], 1880. Т. 1. С. 335; Кушелевский В. И. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской области. Новый Маргелан: Ферганский областной статистический комитет, 1891. Т. 2. С. 121, 122.
(обратно)365
Лыкошин Н. С. Чапуллукская волость Ходжентского уезда Самаркандской области. Опыт исследования экономических и бытовых условий жизни ее населения // Справочная книжка Самаркандской области. Самарканд: Издание Самаркандского областного статистического комитета, 1906. Т. 8. С. 23, 24.
(обратно)366
См. мою книгу: Абашин С. Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности. СПб.: Алетейя, 2007.
(обратно)367
См.: Национальная политика в императорской России. С. 389–395; Васильев Д., Нарбаев Н. Центральная Азия во внутренней политике царского правительства // Центральная Азия в составе Российской империи / С. Абашин, Д. Арапов, Н. Бекмаханова (отв. ред.). М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 86—131; Brower D. Turkestan and the Fate of the Russian Empire. London and New York: Routledge Curzon, 2003. P. 57–87; Abdurakhimova N. The Colonial System of Power in Turkistan // International Journal of Middle East Studies. 2002. Vol. 34. № 2. P. 239–262; Pierce R. Russian Central Asia, 1867–1917: A Study in Colonial Rule. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1960. P. 64–78.
(обратно)368
См. Очерк 1.
(обратно)369
См.: Morrison A. Russian Rule in Samarkand. P. 172–200.
(обратно)370
Дело Ферганского областного суда Уголовного стола. По обвинению бывшаго Ашабинского сельского старшины Мирза Алима Таирбаева в преступлении, предусмотренном 395-й статьей Уложения о наказаниях // ЦГА РУз, ф. 504, оп. 1, д. 1288. Л. 1—65 об. Далее я цитирую и пересказываю материалы дела без ссылок на архив.
(обратно)371
Такой способ «лечения» применялся для того, чтобы отогнать злых духов.
(обратно)372
Колониальные чиновники для подтверждения того, что они действительно проводили допрос, сопровождали протокол изображением персональной тамги допрашиваемого. Тамга — особый знак, которым каждый житель кишлака маркировал свой скот.
(обратно)373
Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. Казань: [б.и.], 1886. С. 140.
(обратно)374
Sahadeo J. Russian Colonial Society in Tashkent, 1865–1923. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2007. P. 79—107.
(обратно)375
Салихан и его отец Ишанхан считались ошобинцами, но происходили из семьи, которая недавно поселилась в кишлаке. О семье Ишанхана см. Очерк 8.
(обратно)376
Начальник Чустского уезда писал в 1879 году в рапорте по поводу одного происшествия в селении Ашт: «Но зато при этом выяснился порядок выбора должностных лиц: накануне выборов аштский житель Мир-Халдарбай, по состоянию довольно богатый, желая выставить кандидатом своего 22-летнего сына, с целью заправлять потом всем самому, устроил в аштской соборной мечети „Намаз-джума“ угощение, на которое было приглашено до ста человек стариков, которые и выбрали сына его, Мулла-Хады, кандидатом» (ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 393. Л. 135). См. также о процедуре выборов: Абдураимов М. Пережитки сельской общины в узбекском селении Хумсан (XIX — начало XX в.) // СЭ. 1959. № 4. С. 44, 45.
(обратно)377
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 1779. Л. 185.
(обратно)378
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 4062. Л. 7 об., 57.
(обратно)379
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 33420. Л. 170.
(обратно)380
В 1897 году новым волостным управителем стал другой аштский житель — Мухаммад-Шариф Мирза-Халилов (из Нижнего Ашта), грамотный, немного знающий по-русски и имеющий имущество на сумму до 3 тыс. рублей (ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 33420. Л. 454).
(обратно)381
Волостным управителем стал тогда житель Гудаса Магомед-Халил Усар-Магомедов.
(обратно)382
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 1460. Л. 278–279 об., 503.
(обратно)383
В устных рассказах мне попадалось имя Эшмат-элликбаши, который был якобы сыном Онор-пансад. Он занимал административные должности и даже собирал налоги в разных кишлаках, что скорее указывает на должность мингбаши, нежели пятидесятника. Впрочем, идет ли речь о том же самом Эшмате или о ком-то другом, установить не удалось (см. Очерк 7).
(обратно)384
В документах, напомню, названы Мирзаолим, Долимбай, Гозыбай, Мухаммад-Розык, Абдушои, Миролим (он еще назван Мирамином и Миравлией). В воспоминаниях фигурировали Мирзаолим, Долимбай, Гозыбай, Мамарозык, Миролим, Абдушоир (информатор назвал его Авлией) и Махмудшоир. Кто больше путался — нынешние потомки или современные братьям следователи, сказать трудно.
(обратно)385
Так назывался в XIX веке китайский Синьцзян, населенный мусульманами.
(обратно)386
К слову, имя «Гозы» (ғозий, то есть участник войны с неверными), возможно, было его прозвищем, полученным как раз в связи с этими событими. В местном обществе многие прозвища становятся вторым, а то и первым именем.
(обратно)387
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 2663.
(обратно)388
В воспоминаниях говорилось, что у Гозыбая было трое сыновей от жены из Кашгара и семеро — от жены-ошобинки.
(обратно)389
К слову, в разговорах со мной ошобинцы, говоря о Мирзаолиме, непременно называли его аксакалом, имя же Гозыбая упоминали без этого дополнения.
(обратно)390
См. Очерк 7.
(обратно)391
См. Очерк 8.
(обратно)392
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 451. Л. 132. В документе его имя звучит так — Ишан-ходжа-Ходжи-Батыр.
(обратно)393
По ходатайству Начальника Чустского уезда об отводе жителям кишлака Ашаба Ишан Хан Батурханову и Имамбай Батурбаеву в надел земли того количества, какое будет орошаться от вырытия ими колодца. 28 декабря 1882 — 2 мая 1884 гг. // ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 23281. Л. 2, 8 об.
(обратно)394
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 451. Л. 132. Правда, в источнике он, явно по ошибке, назван Исламом.
(обратно)395
В прошении колониальным чиновникам о разрешении пользоваться землей вокруг одного родника вместе с именем Ишанхана Батурханова упоминается имя Имамбая Батурбаева — возможно, речь идет о том же самом Имамбае Муллабаеве, так как часто в Средней Азии в качестве имен и фамилий употребляются разные прозвища и титулы. Выходит, что они могли быть еще и деловыми партнерами.
(обратно)396
См. Заключение.
(обратно)397
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 7411. Л. 127.
(обратно)398
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 7501. Л. 121.
(обратно)399
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 8026. Л. 16.
(обратно)400
См. Очерк 2.
(обратно)401
Morrison A. Russian Rule in Samarkand. P. 199, 200.
(обратно)402
Ibid. P. 5.
(обратно)403
См. мою рецензию на эту работу: [Рец. на] Alexander Morrison. Russian Rule in Samarkand, 1868–1910: A Comparison with British India (Oxford and New York: Oxford University Press, 2008). 400 pp., maps. ISBN-13: 978-019-954-737-1 // AI. 2009. № 2. С. 380–387.
(обратно)404
Здесь я встаю на сторону антрополога Николаса Диркса, который упрекал сторонников кембриджской школы за то, что они недооценивают конфликтное напряжение между колонизаторами и колонизированными: Dirks N. Castes of Mind: Colonialism and Making of Modern India. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2001. P. 303–315.
(обратно)405
Большой Ферганский канал (БФК) был построен в августе — сентябре 1939 года силами колхозов Узбекистана и Таджикистана, его протяженность была 270 км, и он оросил 70 тыс. га новой земли на левом берегу Сырдарьи. Северный Ферганский канал (СФК) строился в феврале — марте 1940 года при таком же всеобщем участии колхозников и имел протяженность 165 км (см.: Аминова Р. Х. Победа колхозного строя в Узбекистане (1933–1941 гг.). Ташкент: Фан, 1981. С. 193–200).
(обратно)406
Выражение из книги: Gregory P. The Political Economy of Stalinism: Evidence from the Soviet Secret Archives. Cambridge University Press, 2004. P. 21, 269.
(обратно)407
Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина. Коллективизация и культура крестьянского сопротивления. М.: РОССПЭН, Фонд первого президента России Б. Н. Ельцина, 2010. С. 11, 42, 53, 59 (оригинал: Viola L. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. NY; Oxford: Oxford University Press, 1996).
(обратно)408
Там же. С. 13.
(обратно)409
Там же. С. 13, 14.
(обратно)410
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. М.: РОССПЭН, 2001. С. 209 (оригинал: Fitzpatrick Sh. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. Oxford University Press, 1994).
(обратно)411
См. Очерк 2.
(обратно)412
См. Очерки 2 и 3.
(обратно)413
ГАФО РУз, ф. 435, оп. 4, д. 26. Л. 52 об.
(обратно)414
См. Очерк 3.
(обратно)415
См. Очерк 3.
(обратно)416
Первоначально планировалось центром района сделать селение Гудас и сам район назвать Гудасским, но в итоге район был назван Аштским, хотя его центром стало селение Шайдан, которое раньше находилось на границе Аштской и Бабадарханской волостей.
(обратно)417
Возможно, речь идет о I съезде Коммунистической партии Узбекистана, который состоялся в 1925 году в Бухаре.
(обратно)418
Акты обследования сельских советов Ходжентского округа, 1929 г. // ГАСО РТ, ф. 572, оп. 1, д. 519. Л. 96–97 об.
(обратно)419
Акты обследования сельских советов Ходжентского округа, 1929 г. // ГАСО РТ, ф. 572, оп. 1, д. 519. Л. 96–97 об.
(обратно)420
Интересные зарисовки советского управления в Средней Азии в середине 1920-х годов см.: Современный кишлак (аул) Средней Азии (социально-экономический очерк) / Б. Карп, И. Суслов (ред.). Вып. 1. Ниазбекская волость (Ташкентская область, Узбекская ССР). Ташкент: Издание Средне-Азиатского бюро ЦК ВКП(б), 1926, С. 152–168; Вып. 2. Ханкинская волость (Хорезмская область, Узбекская ССР). 1927. С. 125–150; Вып. 3. Китабская волость (Кашка-Дарьинская область, Узбекская ССР). 1927. С. 225–263. Показательно, что в остальных выпусках (их было одиннадцать) разделы о советском и партийном строительстве отсутствовали.
(обратно)421
До 1929 года официальной столицей Узбекистана был Самарканд.
(обратно)422
См., например: Hughes J. Stalinism in Russian Province: A Study of Collectivization and Dekulakization in Siberia. Macmillan Press Ltd; St. Martin’s Press, 1996. P. 144–159. См. также: Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка. 1929–1955 гг. Материалы и документы. Т. 1–3 / Р. Шамсутдинов, Б. Расулов (сост.), Д. Алимова (ред.). Ташкент: Шарк, 2006.
(обратно)423
О проблемах классовой категоризации см.: Lewin M. Russian Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivization. Evanston: Northwestern University Press, 1968. P. 49–78.
(обратно)424
См. Очерк 5.
(обратно)425
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 197. Автор не уточняет, в какие именно годы зарплата имела такие размеры.
(обратно)426
См.: Holzman F. D. Soviet Taxation: The Fiscal and Monetary Problems of a Planned Economy. Cambridge: Harvard University Press, 1962. P. 159–214 (главы 7 и 8 — «Taxation in Kind», «Direct Taxation of the Population and Miscellaneous Sources of Budget Income»); Попов В. П. Крестьянские налоги в 40-е годы // Социологические исследования. 1997. № 2. С. 95—114.
(обратно)427
ФГАСО РТ, ф. 117, оп. 3, д. 5. Л. 202.
(обратно)428
Возможно, один из таких «месячников» отражен в ведомости вещей, продуктов и скота, которые внесли руководящие лица колхозов «НКВД» и «Буденный» в мае 1945 года в виде помощи бедным семьям (ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 92. Л. 8—10). В список вошли халаты беқасам (из шелковой ткани), фрукты, козел и так далее.
(обратно)429
См., например: Абдулхамидов А. Из истории народной ирригационной практики в зоне предгорий Узбекистана в XIX — начале XX в. (историко-этнографическое исследование). Ташкент: Фан, 1981. С. 55–76, 132–155; Рассудова Р. Я. Формы организации труда в общинах некоторых районов поливного земледелия Средней Азии (конец XIX — начало XX в.) // Занятия и быт народов Средней Азии / Н. Кисляков (отв. ред.). Л.: Наука, 1971. С. 277, 278.
(обратно)430
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 197.
(обратно)431
Фицпатрик пишет о способности советской власти приписывать к классам и таким образом воображать и изобретать классы (см.: Fitzpatrick Sh. Tear Off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005, особенно главы 2–4: P. 29–87). Но в кишлаке эту функцию выполнял именно председатель сельсовета.
(обратно)432
В конце 1932 года был принят закон о внутренних паспортах. В функции председателя сельсовета входило принятие решения о выдаче паспорта, который давал право на передвижение и работу вне кишлака (см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 108–112).
(обратно)433
В 1948 году появился, в частности, указ о высылке «нерадивых» колхозников: Channon J. Stalin and the Peasantry: Reassessing the Postwar Years, 1945—53 // Politics, Society and Stalinism in the USSR / J. Channon (ed.). McMillan Press; St. Martin Press, 1998. P. 189–192.
(обратно)434
См. Очерк 3. Печать как символ власти была важным атрибутом и в эпоху Кокандского ханства.
(обратно)435
Осодмил — общество содействия милиции.
(обратно)436
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 138.
(обратно)437
В конце 1920-х годов была предпринята попытка сформировать отдельные мелиоративные товарищества, которые должны были отвечать за общее водопользование и содержание ирригационных сетей. На практике между сельским советом и таким товариществом не было никакого различия.
(обратно)438
Протокол собрания водопользователей в селении Ашаба, 9—17 марта 1927 г. // ГАСО РТ, ф. 383, оп. 1, д. 25. Л. 53–54. Согласно протоколу, общее число водопользователей составляло 484 (из них присутствовало на собрании — 317), число мирабов — 3 (размер вознаграждения — 150 руб. троим на сезон), посевная площадь — 223,5 дес. В пояснительной записке к сведениям о собраниях по Ашт-Бабадарханскому водному району Кольцов писал: «эти собрания проводили люди, к ним не подготовленные и с ирригацией мало знакомые в смысле отчетности <…> благодаря чему произошел недоучет посевно-поливной [площади]» (Там же. Л. 55).
(обратно)439
См. Очерк 2.
(обратно)440
См. Очерк 2.
(обратно)441
Fitzpatrick Sh. Tear Off the Masks. P. 63, 64 (Фицпатрик Ш. Срывайте маски. С. 78, 79).
(обратно)442
См.: Рисоля сартовских ремесленников: Исследование преданий мусульманских цехов / М. Гаврилов (сост.). Ташкент: [б.и.], 1912; Абашин С., Бушков В. Среднеазиатский хлеб // Хлеб в народной культуре. Этнографические очерки / С. Арутюнов, Т. Воронина (отв. ред.). М.: Наука, 2004. С. 278–311.
(обратно)443
Это касалось не только ошобинцев. В 1923 году председателем Аштского райревкома был некто Гафарбай Саидбаев — 47 лет, узбек, середняк, неграмотный, коммунист; в документах сказано также, что он был пекарем (ГАФО РУз, ф. 435, оп. 4, д. 26. Л. 52 об.).
(обратно)444
Отцом Джаркина был Эшмат-мингбаши (см. Очерк 3). Сын Джаркина и Асаль в 1940-е годы занимал разные должности в колхозе «НКВД» и даже был его председателем после ареста Искандарова.
(обратно)445
ГАСО РТ, ф. 383, оп. 1, д. 121. Л. 56.
(обратно)446
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 254–257.
(обратно)447
Общий анализ положения советского учителя в 1930-е годы и его социального портрета см.: Ewing E. The Teachers of Stalinism: Policy, Practice, and Power in Soviet Schools of the 1930s. Peter Lang, 2002 (русский перевод: Юинг Е. Учителя эпохи сталинизма: Власть, политика и жизнь школы 1930-х гг. М.: РОССПЭН, 2011). См. также: Мартин Т. Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М.: РОССПЭН, 2011. С. 224–241.
(обратно)448
См. о «печатном капитализме»: Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001 (оригинал: Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso Press, 1983).
(обратно)449
О советской национальной политике «позитивной дискриминации» в 1920—1930-е годы см.: Мартин Т. Империя «положительной деятельности».
(обратно)450
См. Очерк 3. См. также о роли сельских корреспонендов в формировании фигуры «советского гражданина»: Калинин И. Угнетенные должны говорить: массовый призыв в литературу и формирование советского субъекта, 1920-е — начало 1930-х годов // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / А. Эткинд, Д. Уффельманн, И. Кукулин (ред.). М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 587–663.
(обратно)451
По решению центральных властей с 1936 года учителя начальных школ получали от 250 до 330 руб., семилетних — от 270 до 425 руб. ежемесячно, не считая различных надбавок и льгот, что для сельской местности среднеазиатского региона было очень большой суммой (см.: Ewing E. The Teachers of Stalinism. P. 88).
(обратно)452
Эфенди (афанди) — турецкое слово для обозначения образованного человека.
(обратно)453
Школа в широком смысле слова — это система всеобщего начального, среднего и высшего образования. Начиная с 1940—1950-х годов начальное и среднее (включая среднее специальное, то есть техникумы) образование распространялось на всех, кому было от 7 до 17 лет. Образование получали в самом селении. В 1995 году в сельском совете/джамоате Ошоба (не считая Гудаса) было шесть школ-десятилеток — по две в Ошобе и Оппоне, по одной в Шеваре и Мархамате, одна школа-восьмилетка в Олма и одна начальная школа в Гарвоне. Для получения среднего специального и высшего образования молодые люди должны были каждый день совершать поездки в аштские поселки МТС или Гульшан, в каждом из которых было сельскохозяйственное ПТУ. Всеобщее начальное образование (четыре класса) было введено в 1930 году, семилетнее — в 1939 году, восьмилетнее — в 1958 году, в 1977 году в законах и декларациях советской власти закрепился пункт об обязательном десятилетнем образовании.
(обратно)454
ГАСО РТ, ф. 70, оп. 3, д. 4. Списки учителей школ области. 1942–1948 гг. Л. 65.
(обратно)455
Там же. Л. 109, 109 об.
(обратно)456
См. Очерк 2.
(обратно)457
См. Очерк 5.
(обратно)458
См. Очерк 7.
(обратно)459
См. Очерк 5.
(обратно)460
О двойственном характере этой должности см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 208–221; Ohr N. Collective Farms and Russian Peasant Society, 1933–1937: The Stabilization of the Kolkhoz Order. PhD dissertation. Stanford University, 1990. P. 182–272.
(обратно)461
Ohr N. Collective Farms and Russian Peasant Society. P. 51—272, 407, 409, 410.
(обратно)462
См.: ГАСО РТ, ф. 51, оп. 1, д. 183. [Б.л.].
(обратно)463
О коммунистах и комсомольцах в годы коллективизации см.: Ohr N. Collective Farms and Russian Peasant Society. P. 278–281.
(обратно)464
См.: ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 1, д. 462. [Б.л.].
(обратно)465
Кстати, он был муллой, то есть имел религиозное образование, но религиозной практикой (муллочилик) не занимался.
(обратно)466
См. Очерк 2.
(обратно)467
См. Очерк 3.
(обратно)468
См. Очерк 5.
(обратно)469
См. Очерк 3.
(обратно)470
См. Очерк 5.
(обратно)471
См. также: Ohr N. Collective Farms and Russian Peasant Society. P. 203, 204.
(обратно)472
Бурдье П. Практический смысл. СПб.; М.: Алетейя; Институт экспериментальной социологии, 2001. С. 334.
(обратно)473
Humphrey C. Marx Went Away — But Karl Stayed Behind. Updated Edition of Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998. P. 298, 336–352.
(обратно)474
По мусульманским законам женщина имеет право на долю отцовского наследства, но это правило чаще всего обходится под каким-нибудь предлогом и дочери достается только приданое.
(обратно)475
См. Очерки 7 и 8.
(обратно)476
См. Очерк 9.
(обратно)477
См. Очерк 3.
(обратно)478
Круг ближайших родственников называется уруғ, реже авлод и еще реже хейш.
(обратно)479
См. Очерк 2.
(обратно)480
ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 139. Л. 41.
(обратно)481
См. Очерк 3.
(обратно)482
См.: ГАСО РТ, ф. 383, оп. 1, д. 117. Л. 6, 6 об.
(обратно)483
По словам самого Умурзакова, он жил до совершеннолетия в доме Тоштемира, у которого своих детей не было. В Ошобе существует практика, когда бездетные супруги берут на воспитание ребенка у своих родственников — в этом случае первые обязаны выполнить все родительские обязательства, в том числе передать свое имущество по наследству.
(обратно)484
См. Очерк 3.
(обратно)485
См. Очерк 3.
(обратно)486
Это имя означает «сын», то есть родители, давая ей такое имя при рождении, выражали пожелание, чтобы следующим у них родился сын.
(обратно)487
Мамаджанов Б. Начали подготовку к новому учебному году // Стахановец. 1947. 2 июля.
(обратно)488
Азизов Д. Возрожденное село // Стахановец. 1947. 18 июля.
(обратно)489
Имеется в виду, видимо, Чинар-бува.
(обратно)490
См., например: ФГАСО РТ, ф. 117, оп. 1, д. 26. Протоколы кишлачных советов Аштского района за 1938 и 39 гг. Л. 197–217.
(обратно)491
17 августа в областной газете появилась небольшая заметка, в которой говорилось, что колхозы «Буденный» и «НКВД» первыми в районе завершили план хлебозаготовок и стали сдавать зерно в счет поставок следующего года (Стахановец. 1947. 17 августа). Сложно сказать, было ли это продолжением попыток помочь Умурзакову. Примечательно, что сельсовет был по ошибке назван Нишанбинским, что является примером неосведомленности журналистов об отдаленных кишлаках.
(обратно)492
Стахановец. 1947. 12 сентября.
(обратно)493
Свято соблюдать сталинский Устав колхозной жизни // Стахановец. 1947. 19 сентября.
(обратно)494
См. Очерк 5.
(обратно)495
Аналогичные проверки проводились и позже. Так, в 1950 году были выборочно исследованы 75 дворов в сельском совете и выявлены неучтенные 11 голов крупного рогатого скота, 693 овцы и козы, 3 лошади (ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 1, д. 38. Л. 4).
(обратно)496
Мне не очень ясно, на каком основании узбекские чиновники могли вмешаться в юрисдикцию соседней союзной республики, но это было, судя по всему, в принципе возможно, поскольку Ташкент на протяжении всего советского времени оставался неформальной столицей всего региона, здесь находились представительства союзных органов власти и сюда обращались за квалифицированными консультациями и помощью.
(обратно)497
Scott J. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven and London: Yale University Press, 1985. Идеи этой книги были позже обобщены в другой работе Скотта: Scott J. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven and London: Yale University Press, 1990.
(обратно)498
Scott J. Weapons of the Weak. P. XVI (а также P. 29).
(обратно)499
Некоторые идеи очерка изложены в моей статье: Абашин С. «Идеальный колхоз» в советской Средней Азии: история неудачи или успеха? // Acta Slavica Iaponica. 2011. Vol. XXIX. С. 1—26.
(обратно)500
Поляков С. П. Традиционализм в современном среднеазиатском обществе. М.: Центральный дом научного атеизма, 1989. С. 8.
(обратно)501
Там же. С. 10.
(обратно)502
Там же. С. 13, 14.
(обратно)503
См., например: Гдлян Т., Иванов Н. Кремлевское дело. Ростов-на-Дону: Книга, 1994.
(обратно)504
Кстати, такую логику можно найти и в зарубежных, а не только в советских работах. Очень похожую на концепцию Полякова модель предложил влиятельный французский политолог Оливье Руа (см.: Roy O. The New Central Asia: The Creation of Nations. London: I. B. Tauris, 2000. P. 85—100; Roy O. Groupes de solidarite au Moyen-Orient et en Asie centrale: Etats, territoires et reseaux // Le Cahiers du CERI. 1996. № 16).
(обратно)505
Поляков С. П. Традиционализм. С. 18.
(обратно)506
См. мою статью: Абашин С. Семейный бюджет сельских узбеков // Восток. 2000. № 2. С. 61–77. См. также: Ташбаева Т. Х., Савуров М. Д. Новое и традиционное в быту сельской семьи узбеков. Ташкент: Фан, 1989. С. 69–97.
(обратно)507
Поляков С. П. Традиционализм. С. 20.
(обратно)508
См., например, достаточно цельный и убедительный анализ экономики советского Узбекистана: Растянников В.Г. Узбекистан. Экономический рост в агросфере: аномалии XX века. М.: Институт востоковедения РАН, 1996. См. также: Thurman J. The «Command-Administrative System» in Cotton Farming in Uzbekistan 1920s to Present // Papers on Inner Asia. 1999. № 32; Rumer B. Central Asia’s Cotton Economy and Its Costs // Soviet Central Asia: The Failed Transformation / W. Fierman (ed.). Westview Press, 1991. P. 62–89.
(обратно)509
Попытку анализа микроистории среднеазиатского колхоза в советское время см.: Trevisani T. Land and Power in Khorezm: Farmers, Communities, and the State in Uzbekistan’s Decollectivisation. Berlin: Lit Verlag, 2010. P. 57–95.
(обратно)510
Материалы Всероссийских переписей. Перепись населения в Туркестанской Республике. Вып. 4. Сельское население Ферганской области по материалам переписи 1917 года. Ташкент: ЦСУ Туркреспублики, 1924. С. 43.
(обратно)511
Выборочные карточки землепользования Ходжентского и Наманганского уездов // ГАСО РТ, ф. 5, оп. 1, д. 112. Л. 41. В эти цифры явно вкралась ошибка: 21,7 + 0,4 + 258,9 в сумме дают 281,0, а не 381,0. Прибавлены или, наоборот, потеряны 100 дес. — непонятно; слишком заниженной, пусть и для революционного года, кажется и цифра посевов — 14,1 дес.
(обратно)512
Согласно другим материалам той же переписи 1917 года, 60 % всех хозяйств Аштской волости числилось отсутствующими (табл. 1).
(обратно)513
Во время переписи 1926 года выясняли следующие характеристики: пол и возраст, народность и родной язык, место рождения и продолжительность проживания в месте переписи, грамотность, физические недостатки и психическое здоровье, занятие (главное и побочное), отрасль труда, состав семьи, брачное состояние, продолжительность брака и жилищные условия.
(обратно)514
Материалы Всесоюзной переписи населения 1926 года в Узбекской ССР. Вып. 1. Поселенные итоги. Самарканд: ЦСУ УзССР, 1927. С. 181.
(обратно)515
Список населенных мест Узбекской ССР и Таджикской АССР. Вып. 3. Ферганская область. Самарканд: ЦСУ УзССР, 1925. С. 81. В других источниках говорится о 180 хозяйствах (Материалы по районированию Узбекистана. Вып. 2. Список населенных пунктов. Кн. 7. Округ Коканд. Самарканд: ЦКР Узбекистана, 1926. С. 5).
(обратно)516
Кстати, если взять за основу данные 1909 года и средний ежегодный прирост населения в 1,4 %, то в 1926 году население Ошобы должно было бы составить около 3040 человек, из чего вытекает, что в годы Гражданской войны от ранней смертности и невозвратного выезда Ошоба потеряла около четырех сотен человек.
(обратно)517
Идея государственного контроля за поставками зерна зародилась до прихода большевиков к власти (см.: Holquist P. Making War, Forging Revolution: Russia’s Continuum of Crisis, 1914–1921. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002).
(обратно)518
Holzman F. D. Soviet Taxation: The Fiscal and Monetary Problems of a Planned Economy. Cambridge: Harvard University Press, 1962. P. 161, 162; Lewin M. Russian Peasants and Soviet Power. A Study of Collectivization. Evanston: Northwestern University Press, 1968. P. 268, 269.
(обратно)519
У Ошобы было 4 тан. вакуфной земли, которые находились в Ходженте (ГАСО РТ, ф. 3, оп. 1, д. 165. Л. 39 об.). Вакуф — собственность, навечно приписанная к тому или иному религиозному учреждению, которое содержится на доходы от нее. К какому ошобинскому учреждению (мечети или святому месту) был приписан вакуф, мне не известно.
(обратно)520
Ошобинское хозяйство можно отнести к типу, который составители сборника «Типы хозяйства Туркестана» назвали «киргизское полукочевое» (см.: Типы хозяйства Туркестана (Очерки морфологии сельского хозяйства Средней Азии). Ташкент: САГУ, 1924. С. 51–57).
(обратно)521
Это было примерно в три-четыре раза меньше средних показателей по Ферганской долине (см.: Ярошевич Н. К. Организация крестьянского хозяйства Средней Азии (популярный очерк). Самарканд; Ташкент: Узбекский госиздат, 1926. С. 61).
(обратно)522
ГАСО РТ, ф. 3, оп. 1, д. 266. Л. 83.
(обратно)523
Отчеты о выборах сельских советов по Аштскому району. 1926–1927 год // ГАСО РТ, ф. 372, оп. 1, д. 8. Л. 75, 75 об. Там же сказано, что из 289 человек 261 — узбеки по национальности, 28 — таджики и что 54 человека — члены Союза Кошчи.
(обратно)524
В 1920-е годы сбор хозяйственной и бюджетной статистики приобрел регулярный и весьма изощренный характер. Кроме упомянутых выше работ см.: Современный кишлак Средней Азии (социально-экономический очерк). Вып. 1—11 / Б. Карп, И. Суслов (ред.). Ташкент: Среднеазиатское бюро ЦК ВКП(б), 1926–1927; Бюджеты крестьянских хозяйств хлопковых районов Средней Азии. По материалам текущих наблюдений за 1926/1927 годы. Вып. 1–6. Ташкент: Главный хлопковый комитет, Управление уполномоченного в Средней Азии, 1929–1930.
(обратно)525
Бюджеты 45 хозяйств Ферганской области по обследованию 1915 года с приложением очерка «Хозяйства сартов Туркестанского уезда, Сыр-Дарьинской области». М.: Издание Экономического совещания ТССР, [1924]. С. XXV.
(обратно)526
Авторы исследования находились под явным влиянием работ А. В. Чаянова (см.: Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. М.: Экономика, 1989).
(обратно)527
Об этом, в частности, говорят документы из архива Я.А. (см. Очерк 3). Они показывают также, что нередко такого рода сделки становились предметом тяжб, поскольку, видимо, могли совершаться под давлением и на несправедливых условиях.
(обратно)528
Акты обследования сельских советов Ходжентского округа // ГАСО РТ, ф. 572, оп. 1, д. 519. Л. 96 об. К сожалению, не вполне понятно, о какого рода запрете идет речь.
(обратно)529
См. Очерк 4.
(обратно)530
ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 128. Л. 205 об. — 206 об.
(обратно)531
Там же. Л. 205 об.
(обратно)532
Статистический отчет о массовой работе сельсовета в 1935 году // ФГАСО РТ, ф. 117, оп. 1, д. 15. Л. 16; Статистический отчет о работе сельсовета в 1936 году // Там же. Л. 59.
(обратно)533
См. также: Trevisani T. Land and Power in Khorezm. P. 58–62.
(обратно)534
См. Очерк 4.
(обратно)535
Докладная о фактах нарушения устава с/х артели. Январь 1944 года // ГАСО РТ, ф. 51, оп. 7, д. 54. [Б.л.].
(обратно)536
О трудоднях см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне: Социальная история советской России в 30-е годы: деревня. М.: РОССПЭН, 2001. С. 165–169.
(обратно)537
Книга учета трудодней колхозников за 1945 год (колхоз «Буденный») // ААР РТ, ф. 15, оп. 1, д. 2. [Б.л.]; Книга расчетов с членами колхоза «Буденный» за 1945 год // ААР РТ, ф. 15, оп. 1, д. 5. [Б.л.].
(обратно)538
В записях говорится, что с Юлдашева сняли 6 трудодней, с Нурматова — 4, со всех прочих колхозников — 3 в счет йулга, то есть «на дорогу», кроме того, с каждого колхозника, включая председателя, сняли 10 % от общего количества трудодней «на почту». Однако в лицевых счетах эти списания трудодней не учтены.
(обратно)539
Ohr N. Collective Farms and Russian Peasant Society, 1933–1937: The Stabilization of the Kolkhoz Order. PhD dissertation. Stanford University, 1990. P. 401, 402.
(обратно)540
Книга учета трудодней в колхозе «Буденный» за 1950 год // ААР РТ, ф. 15, оп. 1, д. 30. [Б.л.]; Книга расчетов колхоза «Буденный» за 1950 год // ААР РТ, ф. 15, оп. 1, д. 31. [Б.л.].
(обратно)541
В 1947 году была проведена денежная реформа и все денежные знаки были обменены в соотношении 10 к 1.
(обратно)542
Баберовски Й. Враг есть везде: Сталинизм на Кавказе. М.: РОССПЭН, 2010. С. 660, 661. Правда, чуть выше он писал, что «…колхозы были завоеваны традиционным обществом, они были социалистическими только по форме, а по содержанию — традиционными» (Там же. С. 658). О том, как хлопковая экономика повлияла на повседневную жизнь в узбекском кишлаке, много пишет американский антрополог Расселл Занка: Zanca R. Life in a Muslim Uzbek Village: Cotton Farming after Communism. Wadsworth: Cengage Learning, 2011.
(обратно)543
НКЗ СССР — Главводстрой: Технический проект орошения Аштского района Таджикской ССР. 1940 год, Ташкент. Пояснительная записка проекта организации территории и ирригационной сети Аштского района (на площади 2700 га нетто самотечного орошения из СФК). Руководитель проекта Манохин, составители — агроном-экономист Бородай и инженер Гречушкин // ФГАСО РТ, ф. 16, оп. 1, д. 10. Л. 1—79. Далее я буду цитировать этот документ без ссылок на архив.
(обратно)544
Впрочем, в памяти людей эти смены и назначения перепутались — кто-то говорил мне, что Комилова назначили после Юлдашева. Но, во всяком случае, в официальном отчете за 1954 год в качестве председателя фигурировал именно Юлдашев (Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1954 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 1, д. 49а. Л. 1—10).
(обратно)545
Trevisani T. Land and Power in Khorezm. P. 83–89; Zanca R. Life in a Muslim Uzbek Village. P. 148–150; Hough J. The Changing Nature of the Kolkhoz Chairman // The Soviet Rural Community / J. Millar (ed.). Urbana; Chicago; London: University of Illinois Press, 1971. P. 103–120. Как пишет Фицпатрик, новые председатели были больше похожи на российских помещиков XIX века (Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 353).
(обратно)546
Hough J. The Changing Nature of the Kolkhoz Chairman. P. 110, 111.
(обратно)547
По данным отчета 1955 года, все доходы колхоза от растениеводства составили около 948,2 тыс. руб., из них сдача хлопка государству принесла около 401,3 тыс. руб., продажа (на колхозном рынке) продукции садоводства и виноградарства — 450,8 тыс. руб. (Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1955 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 1, д. 53а. Л. 10 об.).
(обратно)548
Материалы по учету председателей и бухгалтеров колхозов и первичные материалы по соблюдению устава сельскохозяйственной артели за 1957 год // ГАСО РТ, ф. 347, оп. 1, д. 164. Л. 138.
(обратно)549
Расулов с 1941 по 1947 год отвечал за сельское хозяйство в Таджикской ССР, потом, до 1955 года, был председателем республиканского Совета министров, а с 1961 года и до своей смерти — первым секретарем ЦК КП Таджикистана.
(обратно)550
Почти ровесник Ходжаназарова, Набиев был с 1971 года таджикистанским министром сельского хозяйства, с 1973 по 1982 год — председателем правительства, а после смерти Расулова и до 1986 года — первым секретарем в республике.
(обратно)551
Его центр находился в селении Пап, которое расположено не более чем в часе езды от Ошобы. Имя Адылова (Одилова) прогремело в 1988 году как пример «средневековья» и возвращения «из социализма аж в феодализм» (Соколов В. Зона молчания // Литературная газета. 1988. 20 января; Он же. Молчать не будем! Почта статьи «Зона молчания» // Литературная газета. 1988. 3 августа; см. также: Белых В., Мостовщиков С. История Ахмаджона Адылова, рассказанная им самим // Известия. 1992. 20 апреля).
(обратно)552
В Аштском районе в начале 1990-х годов было четыре строительных фирмы: ПМК-6, -8, -9 и МПМК. Первые три относились к одному тресту (раньше он был союзного подчинения, после распада СССР стал областным), МПМК — к другому (областного подчинения). ПМК-8 строил ирригационную сеть, ПМК-6, -9 и МПМК — здания и т. п.
(обратно)553
Кстати, последним руководителем Главсредазирсовхозстроя был Исмаил Джурабеков, один из самых влиятельных людей в Узбекистане в 1990-е годы.
(обратно)554
ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 3, д. 55. Основные экономические показатели колхоза за 1976–1985 годы и сравнительный анализ X и XI пятилеток. Л. 2.
(обратно)555
Trevisani T. Land and Power in Khorezm. P. 89–93. См. также: Critchlow J. Preludeto «Independence»: How the Uzbek Party Apparatus Broke Moscow’s Grip on Elite Recruitment // Soviet Central Asia: The Failed Transformation / W. Fierman(ed.). Westview Press, 1991. P. 131–156.
(обратно)556
См. также: Trevisani T. Land and Power in Khorezm. P. 65, 80, 82.
(обратно)557
ГАСО РТ, ф. 377, оп. 5, д. 4. Л. 1.
(обратно)558
ГАСО РТ, ф. 377, оп. 5, д. 3. Л. 53.
(обратно)559
В специальном постановлении Аштского РКП(б) Таджикистана говорилось: «Утвердить разверстку для переселения колхозников из следующих джамсоветов: 1. Шайдан — 10 хозяйств <…>, 4. Ашаба — 20 хозяйств <…>, 8. Гудас — 15 хозяйств. Итого 125 хозяйств <…> Определить ориентировочно срок сбора переселенцев в райцентр для отправки 23.09.35 <…> Предупредить всех уполномоченных РКП(б) и председателей джамсоветов, что подбор на переселение колхозников должен производиться за счет проверенной части [жителей], изъявивших добровольное согласие ехать на переселение в районы Вахшской долины со всем составом своей семьи, ни в коем случае не допускать в ряды переселенцев кулаков, подкулачников и других социально-опасных элементов» (ФГАСО РТ, ф. 117, оп. 1, д. 5. Л. 367).
(обратно)560
В современный сельсовет Кырк-кудук (бывший Советобад) входят кишлаки: Янги-кишлак (здесь живут в основном выходцы из Ошобы), Кырк-кудук (здесь живут в основном узбеки-элат), Аксинджат и Култал (выходцы из Ошобы), Джигда (и узбеки-элат, и выходцы из Ошобы).
(обратно)561
ФГАСО РТ, ф. 152, оп. 2, д. 616. Л. 24, 24 об. В 1978 году во всех этих местечках вместе взятых было всего не более 20 хозяйств (ФГАСО РТ, ф. 132, оп. 2, д. 841. Л. 181–182).
(обратно)562
В 1940-е годы здесь находился колхоз «КИМ», который в 1953 году вошел в состав колхоза «Ленин», в начале 1957 года — в состав колхоза «Молотов» (переименованного позже в «Правду»), а в конце 1957 года опять выделился как колхоз «Жданов» (с 1958 года — «Комсомол»).
(обратно)563
Первая такая машина — «Победа» — была у Миргулшама Мирхолдорова: сын Мирхолдор-аксакала (см. Очерк 3) долго жил в Ташкенте, в середине 1950-х годов вернулся в Ошобу и стал экспедитором в колхозе, а потом заведующим магазином.
(обратно)564
Это составляет примерно 1/3 всех хлопковых площадей в Аштском районе (Региональный статистический сборник Республики Таджикистан за 1991–1995 годы. Душанбе, 1996. С. 6. См. также с. 74).
(обратно)565
Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1995 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 3, д. 165. Л. 8 об.
(обратно)566
Раньше колхоз заставляли выполнять план, даже если расходы превышали доходы: например, приходилось собирать четвертый, худший сорт хлопка, за который государство очень мало платило и который при этом требовал очень больших трудозатрат.
(обратно)567
Годовой отчет колхоза «Калинин» за 1995 год // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 3, д. 165. Л. 8 об. — 9 об. Куда вывозился хлопок в начале 1990-х годов — этот вопрос остался вне моего внимания. Возможно, как и прежде, в Россию.
(обратно)568
Там же. Л. 12 об.
(обратно)569
Примерно в 1999 году узбекское руководство решило взять под контроль свои границы, и горные проходы на территорию Узбекистана начали минировать.
(обратно)570
Подробное описание структуры колхоза см.: Humphrey C. Marx Went Away — But Karl Stayed Behind. Updated Edition of Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998. См. также: Trevisani T. Land and Power in Khorezm. P. 68, 69.
(обратно)571
См. Очерк 6.
(обратно)572
См. Очерк 4.
(обратно)573
См. Очерк 3.
(обратно)574
См. Очерки 2, 3 и 4.
(обратно)575
См. Очерк 4.
(обратно)576
См. Очерк 6. Разница в фамилиях возникла потому, что фамилия Мукима образована от имени отца — Мирхолдора, а фамилия Ашурали — от имени деда, которого звали Дехкан. Такая разница возникала между многими старшими и младшими братьями в Ошобе, которые рождались в 1940—1950-е годы. Вплоть до начала 1950-х годов ошобинцы по обычаю записывали свою фамилию по имени отца, причем в следующем поколении фамилия менялась. В начале 1950-х годов, когда были установлены постоянные фамилии и всеобщий паспортный режим, фамилию стали записывать по имени деда.
(обратно)577
См. Очерк 3.
(обратно)578
См. также: Trevisani T. Land and Power in Khorezm. P. 107, 108.
(обратно)579
Выгода в том, чтобы записать жену колхозницей, заключалась еще и вот в чем: согласно официальным нормам, женщина, у которой пять детей, должна была отработать 80 обязательных рабочих дней на участке в 2 га; женщина, у которой четыре ребенка, — 120 обязательных рабочих дней и так далее. У мужчины же нормы были намного больше. Это нормирование позволяло семье быть в меньшей зависимости от колхоза.
(обратно)580
См.: Trevisani T. Land and Power in Khorezm. P. 110, 111; Kandiyoti D. How far do analyses of postsocialism travel? The case of Central Asia // Postsocialism. Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia / C. Hann (ed.). London; NY: Routledge. 2002. P. 243–245.
(обратно)581
Справка о проверке состояния финансовой дисциплины и расчетов колхоза им. Калинина // ФГАСО РТ, ф. 124, оп. 1, д. 127. Л. 20–26.
(обратно)582
Книга учетов и расчетов за 1975 год // ААР РТ, ф. 15, оп. 2, д. 32. [Б.л.].
(обратно)583
См. статьи Дениз Кандиоти о семейной экономике в постсоветском Узбекистане: Kandiyoti D. Rural livelihoods and social networks in Uzbekistan: perspectives from Andijan // CAS. 1998. Vol. 17. № 4. P. 561–578; Eadem. Poverty in Transition: An Ethnographic Critique of Household Surveys in Post-Soviet Central Asia // Development and change. 1999. Vol. 30. P. 499–524; Eadem. The Cry for Land: Agrarian Reform, Gender and Land Rights in Uzbekistan // Journal of Agrarian Change. 2003. Vol. 3. № 1–2. P. 225–256. См. также: McAuley A. Living Standards in Uzbekistan, 1960—84 // Political and Economic Trends in Central Asia / Sh. Akiner (ed.). London; NY: British Academic Press, 1994. P. 114–142.
(обратно)584
Критику понятия дуальной экономики применительно к Средней Азии см.: Rasanayagam J. Spheres of Communal Participation: Placing the State within Local Modes of Interaction in Rural Uzbekistan // CAS. 2002. Vol. 21. № 1. P. 55–70.
(обратно)585
Курага (баргак) — сушеные абрикосы без косточки, обработанные серой. Они считаются самыми дорогими на рынке.
(обратно)586
См.: Поляков С. П. Традиционализм. С. 25, 26.
(обратно)587
Упомяну еще такой промысел, как сбор и изготовление наркотических веществ (анаша и другие), но оставлю его за рамками своего повествования. Скажу лишь, что в Ошобе этот промысел не приобрел значимых масштабов.
(обратно)588
Здесь замечу, что еще в 1940-е годы в Ошобе образовалась артель по изготовлению шолча, которая называлась «Кахрамон» («Герой»). Контора (и склад) артели находилась в помещении прежней мечети — там женщины собирались и вместе ткали паласы. В 1967 году артель была преобразована в промкомбинат («паласный цех Ошобы Аштского объединения мастериц-надомниц»), в нем числилось тридцать женщин, каждая из которых работала у себя дома, зарплата была сдельной — от 100 до 250 руб. в месяц. Материалы для изготовления шолча поступали из отходов Кайраккумского коверного комбината и Канибадамской прядильной фабрики.
(обратно)589
См. Очерк 6.
(обратно)590
В 1997–1998 годах начнется массовая миграция жителей Таджикистана в поисках работы в Россию, но этот процесс уже выходит за хронологические рамки моего исследования.
(обратно)591
См., например: Grossman G. The «Second Economy» of the USSR // Problems of Communism. 1977. Vol. 26. № 5. P. 25–40; Ledeneva A. Russia’s Economy of Favors: Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge University Press, 1998; Тимофеев Л. Институциональная коррупция. М.: РГГУ, 2000; Кордонский С. Рынки власти: Административные рынки СССР и России. 2-е изд. М.: ОГИ, 2006.
(обратно)592
Kandiyoti D. Modernization without the market? The case of the «Soviet East» // Economy and Society. 1996. Vol. 25. № 4. P. 529–542. Ссылки я буду делать на более позднее переиздание: Kandiyoti D. Modernization without the market? The case of the «Soviet East» // Anthropology, Development and Modernities: Exploring Discourses, Counter-Tendencies and Violence / A. Arce, N. Long (eds.). London and New York: Routledge, 2000. P. 52–63.
(обратно)593
Ibid. P. 53.
(обратно)594
См.: Humphrey C. Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
(обратно)595
Kandiyoti D. Modernization without the market? P. 62.
(обратно)596
Kandiyoti D. Post-Colonialism Compared: Potentials and Limitations in the Middle East and Central Asia // International Journal of Middle East Studies. 2002. Vol. 34. № 2. P. 279–297.
(обратно)597
Ibid. P. 291.
(обратно)598
Все эти темы развиваются и в других статьях Кандиоти: Kandiyoti D. How far do analyses of postsocialism travel? The case of Central Asia // Postsocialism. Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia / C. Hann (ed.). London; NY: Routledge. 2002. P. 238–257; Eadem. The Politics of Genders and the Soviet Paradox: Neither Colonized, Nor Modern? // CAS. 2007. Vol. 26. № 4. P. 601–623.
(обратно)599
См.: Zanca R. Life in a Muslim Uzbek Village; Trevisani T. Land and Power in Khorezm; Rasanayagam J. Spheres of Communal Participation.
(обратно)600
Michaels P. Curative Power: Medicine and Empire in Stalin’s Central Asia. Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2003. P. 178.
(обратно)601
Ibid. P. 175. К похожим выводам о колониальной природе советской медицины приходят американский антрополог Салман Кешавджи и американский историк Кассандра Кавано (Keshavjee S. Medicines and Transitions: The Political Economy of Health and Social Change in Post-Soviet Badakhshan, Tajikistan. Harvard University, 1998. PhD dissertation; Cavanaugh C. Backwardness and biology: medicine and power in Russian and Soviet Central Asia. 1868–1934. Columbia University, 2001. PhD dissertation). Замечу, что работы Майклс и Кавано посвящены Российской империи и сталинскому этапу советской истории.
(обратно)602
См. критику такого подхода: Афанасьева А. «Освободить… от шайтанов и шарлатанов»: дискурсы и практики российской медицины в казахской степи в XIX веке // AI. 2008. № 4. С. 116, прим. 8. См. также мою рецензию на книгу Майклс: Антропологический форум. 2008. № 8. С. 445–451.
(обратно)603
Одни критиковали концепцию модернизации за то, что она не видит неравноправных и подчиненных социальных отношений в мире, — см.: Escobar A. Encountering Development: The Making and Unmaking the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995; Wallerstein I. The Capitalist World-Economy. Cambridge and Paris: Cambridge University Press and Edition de la Maison de Sciences de l’Homme, 1979. Другие видели проблему в том, что модернизация имеет свои особенности и неповторимые последствия в разных культурах, — см.: Multiple Modernities / S. Eisenstadt (ed.). New Brunswick and London: Transaction Publisher, 2002.
(обратно)604
См. подробный историографический обзор: Афанасьева А. Э. История медицины как междисциплинарное исследовательское поле // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы / Л. Репина (ред.). М., 2011. С. 419–437.
(обратно)605
Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998.
(обратно)606
Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999.
(обратно)607
Фуко М. «Нужно защищать общество». Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году. СПб.: Наука, 2005; Он же. Рождение социальной медицины // М. Фуко. Интеллектуалы и власть. Ч. 3. М.: Праксис, 2006. С. 79—107.
(обратно)608
См., например: Stoler A. Race and the Education of Desire: Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things. Durham and London: Duke University Press, 1995; Mitchell T. The Stage of Modernity // Questions of Modernity / T. Mitchell (ed.). Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2000. P. 1—34.
(обратно)609
Mitchell T. Colonising Egypt. University of California Press, 1991. См. также работу другого поклонника Фуко — американского антрополога Пола Рабиноу: Rabinow P. Colonialism, Modernity: The French in Morocco // Forms of Dominance: On the Architecture and Urbanism of the Colonial Enterprise / N. Al-Sayyad (ed.). Aldershot and New York: Avebury Publishing, 1992. P. 167–182; Rabinow P. Techno-Cosmopolitanism: Governing Marocco // P. Rabinow. French Modern: Norms and Forms of the Social Environment. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1989. P. 277–319.
(обратно)610
Mitchell T. Colonising Egypt. P. X–XII.
(обратно)611
Michaels P. Curative Power. P. 186.
(обратно)612
Ibid. P. 9. Речь идет о книгах: Vaughan M. Curing their Ills: Colonial Power and African Illness. Polity Press, 1991; Arnold A. Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India. University of California Press, 1993.
(обратно)613
Arnold A. Colonizing the Body. P. 7—10.
(обратно)614
Vaughan M. Curing their Ills. P. 8—12, 202–203.
(обратно)615
Prakash G. Body Politics in Colonial India // Questions of Modernity. P. 215. См. также: Disease, Medicine, and Empire: Perspectives on Western Medicine and the Experience of European Expansion / R. MacLeod, M. Lewis (eds.). London and New York: Routledge, 1988; Arnold D. Colonizing the Body.
(обратно)616
См., например: Lasker J. The Role of Health Services in Colonial Rule: The Case of Ivory Coast // Culture, Medicine, and Psychiatry. 1977. № 1. P. 277–297.
(обратно)617
См.: Cavanaugh C. Backwardness and biology. Об имперской медицине см. также: Афанасьева А. «Освободить… от шайтанов и шарлатанов». С. 113–150; Hohmann S. La medicine moderne au Turkestan russe: un outill au service de la politique coloniale // Le Turkestan russe: Une colonie comme les autres? / S. Gorshenina, S. Abashin (dir.). Cahiers d’Asie Centrale. 2009. № 17/18. P. 319–351; Afanasyeva A. Russian imperial medicine: the case of the Kazakh steppe // Crossing Colonial Historiographies: Histories of Colonial and Indigenous Medicines in Transnational Perspective / A. Digby, W. Ernst, P. B. Mukharji (eds.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010. P. 57–75; Зияева Д. Х. Медицина и здравоохранение в Средней Азии: традиции, модернизация и трансформация (конец XIX — начало XX в.) // Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти XX века: традиции и инновации. Материалы международной конференции (Ташкент, 12–13 сентября 2008 года) / Д. Алимова (отв. ред.). Ташкент: [б.и.], 2009. С. 154–158.
(обратно)618
Возможно, речь идет о приезде одного из обследовательских лечебных отрядов, которые в 1920—1930-е годы объезжали селения Ферганской долины, проводили осмотры и делали прививки. См.: Cavanaugh C. Backwardness and biology. P. 217–219 и др.
(обратно)619
Т. Г. Марченко упоминается в числе районных депутатов от Ошобы (ФГАСО РТ, ф. 117, оп. 3, д. 5. Л. 202), то есть она не только была медицинским работником, но и олицетворяла власть в кишлаке.
(обратно)620
См. Очерк 4.
(обратно)621
Аштская районная центральная больница. 1965 год // ФГАСО РТ, ф. 131, оп. 1, д. 151. Л. 27 об.
(обратно)622
Годовой отчет Аштской ЦРБ за 1975 год // ФГАСО РТ, ф. 131, оп. 1, д. 162. Л. 282, 282 об.
(обратно)623
Годовой отчет Аштской райбольницы, СВУ, ФАП за 1965 год // ФГАСО РТ, ф. 131, оп. 1, д. 150. Л. 153–154; Годовой отчет Аштской ЦРБ за 1975 год // ФГАСО РТ, ф. 131, оп. 1, д. 162. Л. 128–130.
(обратно)624
Годовой отчет Аштской райбольницы, СВУ, ФАП за 1965 год // ФГАСО РТ, ф. 131, оп. 1, д. 150. Л. 163.
(обратно)625
В 2010 году, в мой второй приезд, новая ошобинская больница была достроена и оснащена, здание же в Мархамате так и осталось бездействующим.
(обратно)626
О социальных сетях в структурах власти регионального уровня см., например: Wegerich K. «A Little Help from My Friend?»: Analysis of Network Links on the Meso Level in Uzbekistan // CAS. 2006. Vol. 25. № 1–2. P. 115–128.
(обратно)627
См. Очерк 5.
(обратно)628
См. Очерк 5.
(обратно)629
См. Очерк 3.
(обратно)630
В 2010 году должности главврача, председателя колхоза и председателя сельсовета занимали уже другие люди — родственников Ходжаназарова потеснили с этих выгодных позиций.
(обратно)631
Тахтапез — самый большой родник между Ошобой и Шайданом, в 5–6 км от Ошобы. По местной этимологии, Тухта-Пес — «место, где останавливался больной проказой».
(обратно)632
Впрочем, насколько я знаю, после мероприятия посиделки продолжались в более узком кругу старших врачей и некоторых присоединившихся к ним важных гостей.
(обратно)633
См. подробнее Очерк 9.
(обратно)634
См. Очерк 5.
(обратно)635
Третьим было стоматологическое отделение. Его популярность объясняется тем, что этот вид медицинской деятельности был связан с местными представлениями о красоте и престиже, а соответственно, с разного рода неформальными оплатами услуг врача.
(обратно)636
Российские врачи писали, что довольно много местных женщин приходили на осмотр в мужские амбулатории, невзирая на запреты (Cavanaugh C. Backwardness and biology. P. 61, 62).
(обратно)637
См. Очерк 9.
(обратно)638
Часто против осмотра женщины был ее муж, но нередко и сама женщина. Кавано описывает случай из медицинской практики конца 1920-х годов, когда врачи с удивлением писали, что женщина не хотела проходить медицинский осмотр, а муж заставлял ее и даже бил (Cavanaugh C. Backwardness and biology. P. 247).
(обратно)639
В Средней Азии появилась такая медицинская услуга, как восстановление девственной плевы, что связано с сохраняющейся практикой проверки девственности невесты. Разумеется, мне трудно сказать, пользовался ли кто-нибудь в Ошобе такой услугой; в любом случае это происходило бы не в ошобинской больнице.
(обратно)640
К слову, местные жители обучались также «правильному» узбекскому языку, который отличался от языка повседневного общения в Ошобе. Им прививалось и чувство национального самосознания, хотя оно неизбежно вступало в противоречие с тем фактом, что ошобинцы жили «за пределами» своей нации.
(обратно)641
Taussing M. Reification and the Consciousness of the Patient // Social Science and Medicine. Part B: Medical Anthropology. 1980. Vol. 14. № 1. P. 3—13.
(обратно)642
Годовой отчет Аштской ЦРБ за 1975 год // ФГАСО РТ, ф. 131, оп. 1, д. 162. Л. 48.
(обратно)643
См. Очерк 8.
(обратно)644
О локальных контекстах доверия см.: Giddens A. The Consequences of Modernity. Polity Press, 1990. P. 100–111.
(обратно)645
Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. Казань: [б.и.], 1886. С. 70–73.
(обратно)646
См. также: Симонова (Хохрякова) Л. Чародейство. Гадание и лечение сартянок в Самарканде // Справочная книжка Самаркандской области / М. Вирский (ред.). Т. II, отд. 4. Самарканд: Самаркандский областной статистический комитет, 1894. С. 90—122; Кушелевский В. И. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской области. Т. 3. Новый Маргелан: Ферганский областной статистический комитет, 1891; Шишов А. Сарты. Ч. 1. Этнография // Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области. Т. XI. Ташкент: Сыр-Дарьинский областной статистический комитет, 1904. С. 378–399, 461–496.
(обратно)647
См., например: Greenwood B. Cold or Spirits? Choice and Ambiguity in Morocco’s Pluralistic Medical System // Social Sciences and Medicine. 15B: Medical Anthropology. 1981. Vol. 15. № 3. P. 219–235; Keshavjee S. Bleeding Babies in Badakhshan: Symbolism, Materialism, and the Political Economy of Traditional Medicine in Post-Soviet Tajikistan // Medical Anthropology Quarterly. 2006. Vol. 20. № 1. P. 79.
(обратно)648
См. о разных практиках лечения: Сухарева О. А. Пережитки демонологии и шаманства у равнинных таджиков // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии / Г. Снесарев, В. Басилов (отв. ред.). М.: Наука, 1975. С. 56–76. О шаманском лечении и среднеазиатских шаманах см.: Басилов В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, 1992; Огудин В. Л. Атторы — аптекари народной медицины мусульманского Востока // ЭО. 2001. № 2. С. 112–130; Ершов Н. Н. Народная медицина таджиков Каратегина и Дарваза // История, археология и этнография Средней Азии. М.: Наука, 1968. С. 349–357; Kehl-Bodrogi K. «Religion in not so strong here»: Muslim Religious Life in Khorezm after Socialism. Berlin: Lit Verlag, 2008. P. 194–223; Latypov A. Healers and Psychiatrists: The Transformation of Mental Health Care in Tajikistan // Transcultural Psychiatry. 2010. Vol. 47. № 3. P. 419–451; DeWeese D. Muslim Medical Culture in Modern Central Asia: a Brief Note on Manuscript Sources from the Sixteenth to Twentieth Centuries // CAS. 2013. Vol. 32. № 1. P. 3—18.
(обратно)649
Во время своего пребывания в Ошобе я обнаружил, что многие местные жители, включая женщин и стариков, употребляли различные наркотические вещества (анашу, настойки на зернах мака, слабый наркотик насвой, сделанный на основе табака), которые, видимо, производили обезболивающий и психотропный эффект. Наркотики в небольших количествах давали даже грудным детям, чтобы они успокаивались.
(обратно)650
Каландар (қаландар) — отшельник; в прошлом в Средней Азии существовало сообщество каландаров, которое имело статус суфийской группы.
(обратно)651
Обрезание делал один брадобрей, который приезжал из селения Джар-булак, многие же ошобинцы обращались в районную больницу, к хирургу. См. также мою статью: Абашин С. Миндонский цирюльник // Среднеазиатский этнографический сборник / В. Бушков. (отв. ред.). Вып. 4. М.: Наука, 2001. С. 198–218.
(обратно)652
Имеется в виду ал-Фатиха — первая сура Корана, которую читают в качестве молитвы для начала какой-либо деятельности, для разрешения на нее (см.: Резван Е. Фатиха // Ислам. Энциклопедический словарь / С. Прозоров (ред.). М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 254).
(обратно)653
Бахши были вовлечены и в другие ритуалы. На поминках, например, они делали зикр (жаҳр) — становились в круг, передвигались по кругу и произносили ҳу-ҳақ (буквально «он (Бог) сам истина»), после чего за участие в ритуале получали берцовые кости овцы и козы, зарезанных для поминания. При этом считалось, что бахши не должны видеть умерших, а если увидят, то обязаны заново взять патаха.
(обратно)654
См. Очерк 3.
(обратно)655
См. Очерк 8.
(обратно)656
См. Очерк 3.
(обратно)657
См. Очерк 8.
(обратно)658
См., например: Огудин В. Л. Места поклонения Ферганы как объект научного исследования // ЭО. 2001. № 1. С. 63–79; Горшунова О. В. Женское паломничество к святым местам (по материалам Ферганской долины) // Итоги полевых исследований / З. П. Соколова (отв. ред.). М.: ИЭА РАН, 2000. С. 115–124; Kehl-Bodrogi K. «Religion in not so strong here». P. 180, 186.
(обратно)659
В начале 1990-х годов я часто слышал аргументы людей, которые обращались к исламу, что религия важна для них как способ бросить пить и поправить свое здоровье.
(обратно)660
Обычно в качестве молитв используются Йа-син — 36-я сура Корана — либо упомянутая ал-Фатиха.
(обратно)661
Мавлуд — день рождения пророка Мухаммада (Резван Е. Маулид // Ислам. С. 163), ашура — траурный день по случаю гибели имама Хусайна, внука Пророка (Кушев В. Ашура // Там же. С. 33), бусешанба и мушкул-кушод — ритуалы, посвященные местным женским святым (см.: Крамер А. Биби Сешанба // Ислам на территории бывшей Российской империи / С. Прозоров (ред.). Вып. 4. М.: Восточная литература, 2003. С. 17; Крамер А. Мушкуль Кушод // Там же. С. 56).
(обратно)662
К слову, рядом с этим селением археологи открыли древний серебряный рудник VII–X веков (см.: Буряков Ю. Ф. Древний серебряный рудник Лашкерек // Советская археология. 1965. № 1. С. 282–283).
(обратно)663
Одним из смотрителей был, например, Рузмат-бойвачча (племянник Мумин-аксакала, см. Очерки 2, 3 и 4).
(обратно)664
Атала — мучная болтушка, приготовленная из обжаренной на сале или топленом масле пшеничной или ячменной муки с добавлением молока.
(обратно)665
См.: Kleinman A., Sung L. Why Do Indigenous Practitioners Successfully Heal? // Social Sciences & Medicine. 1979. Vol. 13. P. 7—26.
(обратно)666
По другой версии — ирғой. Возможно, речь идет о растении ирга из семейства розоцветных.
(обратно)667
В этнографической литературе описана болезнь бадик, когда тело человека покрывается болячками и для лечения проводится целый ряд ритуальных действий; существует даже специальная категория врачевателей бадикхон (см.: Саримсоков Б. Ўзбек маросим фольклори. Тошкент: Фан, 1986. С. 139–180 [на узбекском языке]). В современном узбекском языке термин лавша обозначает цингу (см.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т. 6. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси нашриети, 2003. С. 207, 208 [на узбекском языке]). В локальных представлениях, по сообщению этнографа Адхама Аширова, слово лапша/лафша означает слабость, полное обессиливание.
(обратно)668
Смешение европейских и локальных языков при объяснении болезней и способов их лечения хорошо показано в книге Й. Расанаягама: Rasanayagam J. Islam in Post-Soviet Uzbekistan: The Morality of Experience. Cambridge University Press, 2011. P. 180–229. Правда, автор рассматривает проблему в контексте вопроса об ощущении себя мусульманином.
(обратно)669
Точка зрения, что народная медицина обладает «положительным народным знанием» и «полезными и рациональными элементами», уже существовала в публичной риторике советского времени (см., например: Ершов Н. Н. Народная медицина таджиков. С. 357).
(обратно)670
Джуна Давиташвили представляет себя целительницей и астрологом. В конце 1980-х годов она сумела создать вокруг себя публичный ореол человека с необычными возможностями и получила разнообразные знаки официального признания. В 1989 году вышла ее книга «Бесконтактный массаж. Профилактическая методика», в которой она пыталась наукообразным языком описать свои способности.
(обратно)671
Английский вариант был опубликован позднее: Fanon F. Studies in a Dying Colonialism. NY: Monthly Review Press, 1965. P. 121–145.
(обратно)672
Fanon F. Studies in a Dying Colonialism. P. 122, 123.
(обратно)673
См.: Фуко М. Этика заботы о себе как практика свободы // М. Фуко. Интеллектуалы и власть. Ч. 3. М.: Праксис, 2006. С. 256–258, 267, 268.
(обратно)674
Лью М., Сулайманов Э. Жизнь в махалле: значения городских узбекских кварталов в Оше // Все про Ош. Вып. 1. Из материалов международной конференции «Ош на пороге XXI века: из глубин истории в цивилизованное будущее. 9—12 октября 1997 года». Ош, 1998. С. 103.
(обратно)675
Там же.
(обратно)676
См., например: Sievers E. Uzbekistan’s Mahalla: From Soviet to Absolutist Residential Community Associations // The Journal of International and Comparative Law in Chicago-Kent. 2002. Vol. 2. P. 91—158; Geiss P. Mahallah and Kinship Relations. A Study of Residential Communal Commitment Structures in Central Asia of the 19th Century // CAS. 2001. Vol. 20. № 1. P. 97—106; Брынских С. Махалля. Заметки писателя. Ташкент: Издательство литературы и искусства, 1988; Арифханова З. Х. Современная жизнь традиционной махалли Ташкента. Ташкент: Узбекистан, 2000.
(обратно)677
Uzbekistan: From House to House: Abuses by Mahalla Committees // Human Rights Watch. 2003. Vol. 15. № 7.
(обратно)678
Мусаев Б. Институт махалли как генная клетка узбекского авторитаризма (31.08.2006) // .
(обратно)679
Abramson D. From Soviet to Mahalla: Community and Transition in Post-Soviet Uzbekistan. The Indiana University, 1998. PhD dissertation; Suda M. The Politics of Civil Society, Mahalla and NGOs: Uzbekistan // Reconstruction and Interaction of Slavic Eurasia and Its Neighboring Worlds / Slavic Eurasian Studies. № 10 / O. Ieda, U. Tomohiko (eds.). Slavic Research Center, Hokkaido University, 2006. P. 335–370; Koroteyeva V., Makarova E. The Assertion of Uzbek National Identity: Nativization or State-Building Process // Post-Soviet Central Asia / T. Atabaki, J. O’Kane (eds.). London; NY: Tauris Academic Studies, IIAS, 1998. P. 137–143; Massicard E., Trevisani T. The Uzbek Mahalla // T. Everett-Heath (ed.). Central Asia: Aspects of Transition. London and New York: Routledge, 2003. P. 205–218; Dadabaev T. Community Life, Memory and a Changing Nature of Mahalla Identity in Uzbekistan // Journal of Eurasian Studies. 2013. № 4. P. 181–196. См. также мою статью: Абашин С. Советская власть и узбекская махалля // Неприкосновенный запас. 2011. № 4 (78). С. 95—110.
(обратно)680
Справедливости ради скажу, что в своей книге, изданной в 2012 году, Морган Лью пишет о том, что смыслы общинной жизни и социальные отношения не обязательно сводятся к территориальности (Liu M. Under Solomon’s Throne: Uzbek Visions of Renewal in Osh. University of Pittsburgh Press, 2012. P. 107).
(обратно)681
См.: Бурдье П. Физическое и социальное пространства: проникновение и присвоение // П. Бурдье. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 35–52.
(обратно)682
Турсунов Н. О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX — начала XX вв. (историко-этнографические очерки). Душанбе: Ирфон, 1976. С. 228, 229.
(обратно)683
Турсунов здесь добавляет, что в 1880 году в Ошобе было 300 дворов, в 1907 году число дворов достигло 457, а население — 2,4 тыс. человек. Первую цифру, как написано в книге, автор взял из архива — ЦГА Таджикской ССР, ф. 19, оп. 1, д. 427. Л. 69. На самом деле источник с такими выходными данными находится в ЦГА РУз в Ташкенте. Вторая цифра взята из «Списка населенных мест Ферганской области» (Скобелев. Ферганский областной статистический комитет, 1909. С. 121), хотя почему-то датирована у Турсунова двумя годами раньше.
(обратно)684
См. также Очерк 1.
(обратно)685
Турсунов к названиям только двух махаллей добавляет «катта», но по моей информации, их было, как и ожидалось, четыре, а также четыре с определением «кичкина».
(обратно)686
К слову, любопытно, что многие старосты сельского общества Ошоба и председатели сельсовета происходили именно из этой махалли: Мирзаолим, Мирхолдор, Ортык Умурзаков, Исмадиеров, Кобилов, Маллаев, Одинаев, Тиллаев, Эргашева (ее муж?). Однако у меня нет никаких свидетельств того, что аксакалов специально выбирали из Кичкина-Урта-махалли.
(обратно)687
См. подробнее: Снесарев Г. П. К вопросу о происхождении празднества суннат-той в его среднеазиатском варианте // Занятия и быт народов Средней Азии / Н. Кисляков (отв. ред.). Л.: Наука, 1971. С. 256–273; Хамиджанова М. А. Туи хатна — обрезание у таджиков верхнего Зеравшана // История и этнография народов Средней Азии / А. Писарчик (отв. ред.). Душанбе: Дониш, 1981. С. 90—105; Басилов В. Н. Суннат-той в ферганском кишлаке // ЭО. 1996. № 3. С. 99—114; Абашин С. Н. Миндонский цирюльник // Среднеазиатский этнографический сборник / В. Бушков (отв. ред.). Вып. 4. М.: Наука, 2001. С. 198–218; Chylinski E. Ritualism of Family Life in Soviet Central Asia: The Sunnat (Circumcision) // Cultural Change and Continuity in Central Asia / S. Akiner (ed.). London and New York: Kegan Paul International, 1991. P. 160–170.
(обратно)688
Впрочем, если мужчина взял вторую жену или развелся, после чего женился во второй раз, то от него ждали, чтобы он повторно провел катта-туй в случае рождения детей от нового брака.
(обратно)689
Иногда в других селениях для проведения ўғил-тўй (или суннат-тўй) братья могут объединить свои усилия и провести одновременно пир по поводу обрезания своих сыновей. В Ошобе я ни разу не встретил случая, чтобы братья вместе проводили катта-туй — каждый делал его самостоятельно.
(обратно)690
В Ошобе, как и в Ташкенте, раньше предпочитали пить черный чай (қора-чой, помил-чой), но со временем распространился популярный в Ферганской долине зеленый чай (кўк-чой).
(обратно)691
Топленое масло используется в качестве обязательного элемента при приготовлении иранского, турецкого и кавказского плова, то есть, возможно, эта традиция ошобинцев — еще одно доказательство кавказско-переднеазиатского происхождения их далеких предков (см. Очерк 1).
(обратно)692
Лепешки для туев делают пекари (см. Очерк 4), которые имеют собственные пекарни (нонвойхона). Эту работу в Ошобе монополизировали дети, внуки, племянники и ученики известного в прошлом в кишлаке пекаря Султанназара.
(обратно)693
К. поделился любопытной историей: в это время у него родился второй сын, и люди предложили назвать его именем «Туйчивой» (участник туя) — так сначала и записали, но потом приехал дед К. (по матери) вместе со своим приятелем (ошно) из Ашта, который был ишаном, и они сказали, что имя «Туйчивой» не годится для мусульманина, поэтому мальчику дали новое, более мусульманское имя.
(обратно)694
В Ошобе, в отличие от соседних и многих других старинных оседлых селений Ферганской долины, мясники не брали благословение (патаха) на право резать животных.
(обратно)695
С каждого ритуала часть плова относили также в сельсовет, в правление колхоза, иногда в школу и больницу, а кроме того, в дома тура, ходжей и ишанов (о них см. Очерк 8).
(обратно)696
Рисовая каша, но без масла — ее готовили на бульоне, сваренном из мяса второго бычка, которое и раздавали членам махалли домой.
(обратно)697
Был случай, когда лепешек не хватило в одной из махаллей и было решено раздать вместо них булки, что стало предметом шуток для местных жителей.
(обратно)698
См. Очерк 5.
(обратно)699
Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // М. Мосс. Общества, обмен, личность: Труды по социальной антропологии. М.: Главная редакция восточной литературы, 1996. С. 83—222.
(обратно)700
Сухарева О. А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи с историей кварталов). М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1976. С. 26–32. См. также: Pétric B. Pouvoir, don et réseaux en Ouzbékistan post-soviétique. Paris: Presses Universitaires de France, 2002; Абашин С. Н. Вопреки «здравому смыслу»? (К вопросу о «рациональности/иррациональности» ритуальных расходов в Средней Азии) // ВЕ. 1999. № 1–2. С. 92—112.
(обратно)701
В этом смысле весьма характерно, что председатель колхоза и члены его семьи, как мне говорили, на махалля-туи не ходили, тем самым отказавшись считать социальные сети махалли важными и необходимыми для себя. Правда, лепешки для раиса с каждого ритуала все равно выделялись, но всякий раз по его просьбе передавались «беднякам», то есть и сам разрыв с долгом перед общиной оформлялся в общинных моральных категориях.
(обратно)702
См. Очерк 3.
(обратно)703
См. Очерк 3.
(обратно)704
См. Очерк 3.
(обратно)705
См. Очерк 3.
(обратно)706
См. Очерк 3.
(обратно)707
См. Очерк 8.
(обратно)708
См.: Похозяйственная книга Ашабинского сельсовета за 1935 год // ААР РТ, ф. 24, оп. 2, д. 3, 4, 7, 8, 9. Все восемь махаллей были перечислены под своими старыми названиями также в «кратком поселенном бланке», составленном при обследовании 1928 года (ГАСО РТ, ф. 3, оп. 1, д. 165. Л. 39, 39 об.).
(обратно)709
См. Очерки 4 и 5. Кроме того, избирали депутатов сельских советов, в число которых входили те же бригадиры и учителя, но эта должность носила скорее декоративный характер.
(обратно)710
См., например: Поляков C. Традиционализм в современном среднеазиатском обществе. М.: Центральный дом научного атеизма, 1989. С. 14.
(обратно)711
Анишев А. Пути социалистического переустройства хлопководческого хозяйства. Опыт района Ассаке Узбекской ССР. М.: Издание Коммунистической академии, 1930. С. 116. Нередко такого рода планы подкреплялись ссылками на классиков марксизма, которые в XIX веке неоднократно писали о возможности использовать коллективистский опыт русской общины для коммунистического строительства (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Предисловие ко второму русскому изданию Манифеста Коммунистической партии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. Т. 19. С. 305; см. также знаменитую переписку К. Маркса и В. Засулич: Маркс К. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич // Там же. С. 400–421).
(обратно)712
Кисляков Н. А. Патриархальная семья у таджиков долины Ванджа // Вопросы истории доклассового общества / А. Деборин (отв. ред.). М.; Л.: АН СССР, 1936. С. 788.
(обратно)713
См. Очерки 3 и 5. В прошлом в Ошобе существовала практика передачи поливной земли в наследство (как положено по нормам ислама) или в подарок по женской линии. Поэтому часть земли регулярно переходила к членам других патрилинейных групп и махаллей. Имела место также интенсивная купля-продажа земли.
(обратно)714
См. Очерк 5.
(обратно)715
См.: Abramson D. From Soviet to Mahalla. P. 71–76; Suda M. The Politics of Civil Society, Mahalla and NGOs. P. 346–350; Абашин С. Н. Советская власть и узбекская махалля.
(обратно)716
Циркуляры НКВД ТАССР об организации махаллинских комиссий и переписка с управлением налогами и госдоходами Комиссариата финансов РСФСР о содержании членов махаллинских комиссий // ЦГА РУз, ф. 39, оп. 2, д. 176. Л. 3, 5, 5 об.
(обратно)717
См., например: Доклад «Об обследовании махаллинских комиссий в старых городах Коканде и Маргелане» // ГАФО РУз, ф. 121, оп. 2, д. 481. Л. 192–201; Конкретные выводы из материала обследования махаллинских комиссий в городах Маргелане и старом Коканде // ГАФО РУз, ф. 121, оп. 2, д. 482. Л. 3–6.
(обратно)718
Положение «О махаллинских (квартальных) комитетах в городах Узбекской ССР» // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-дехканского правительства Узбекской Советской Социалистической республики. 1932. № 10 (7 апреля). С. 617, 618.
(обратно)719
Левитин Л. Узбекистан на историческом повороте: Критические заметки сторонника Президента Ислама Каримова. М.: Вагриус, 2001. С. 177.
(обратно)720
См.: Chatterjee P. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993. P. 220–239.
(обратно)721
См.: Scott J. The Moral Economy of Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven and London: Yale University Press, 1976.
(обратно)722
Koroteyeva V., Makarova E. The Assertion of Uzbek National Identity. P. 139.
(обратно)723
Положение «О махаллинских (квартальных) комитетах в городах, поселках, селах и аулах Узбекской ССР» // Ведомости Верховного Совета Узбекской ССР. 1961. № 25 (11 сентября). С. 52.
(обратно)724
Положение о махаллинских (квартальных) комитетах в городах, поселках и кишлаках Узбекской ССР // Ведомости Верховного Совета Узбекской ССР. № 20. Ташкент, 1983. С. 33.
(обратно)725
См.: Abramson D. From Soviet to Mahalla. P. 187–220; Koroteyeva V., Makarova E. The Assertion of Uzbek National Identity. P. 139–141; Massicard E., Trevisani T. The Uzbek Mahalla. P. 206–210; Petric B. La mahalla vecteur de construction d’un imaginaire national dans l’Ouzbekistan post-sovietique // Cahiers d’etudes sur laMediterranee orientale et le monde turco-iranien. 2002. № 33. P. 243–266.
(обратно)726
Конституция Республики Узбекистан. Ташкент: Узбекистан, 1992. С. 37.
(обратно)727
См.: Koroteyeva V., Makarova E. The Assertion of Uzbek National Identity. P. 139; Massicard E., Trevisani T. The Uzbek Mahalla. P. 206–208.
(обратно)728
Каримов И. Узбекистан на пороге XXI века. Угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. Ташкент: Узбекистан, 1997. С. 149, 150.
(обратно)729
Новые законы Республики Таджикистан. Ч. 3. [Б.м., б.и.], 1991. С. 6.
(обратно)730
В 1997 году в Таджикистане был принят новый закон «Об органах территориального общественного самоуправления граждан», который во многом копировал узбекский закон о местном управлении и объявлял органом самоуправления «собрания (конференции) граждан» и созданные на этом сходе институты, наделяя их юридическими и хозяйственными правами. См.: Олимов М., Олимова С. Этнический фактор и местное самоуправление в Таджикистане // Местное управление многоэтничными сообществами в странах СНГ / В. Тишков, Е. Филиппова (ред.). М.: Авиаиздат, 2001. С. 323–350.
(обратно)731
В 2010 году я выяснил, что проведение катта-туев в Ошобе в конце 1990-х годов возобновилось по старой схеме, но после принятия в 2007 году закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» (см. Очерк 9) эта практика опять была приостановлена.
(обратно)732
Massicard E., Trevisani T. The Uzbek Mahalla. P. 205–218.
(обратно)733
К слову, поиск настоящей, традиционной махалли напоминает поиск настоящей русской общины в XIX веке или крестьянской общины (community) в колониальной Индии.
(обратно)734
Например, изучая Хорезм, один из регионов Узбекистана, итальянский антрополог Томмазо Тревизани обратил внимание на то, что соседские сообщества здесь не являются такими же сплоченными, как в той же Фергане: Trevisani T. Land and Power in Khorezm: Farmers, Communities, and the State in Uzbekistan’s Decollectivisation. Berlin: Lit Verlag, 2010. P. 40–43.
(обратно)735
Очерк основан на моей статье: Abashin S. The logic of Islamic practice: a religious conflict in Central Asia // CAS. 2006. Vol. 25. № 3. P. 267–286. Для книги текст был несколько видоизменен и дополнен. Существует также опубликованный в сокращенном виде вариант статьи: Абашин С. Практическая логика ислама // Антропология социальных перемен. Сб. статей к 70-летию В. А. Тишкова / Э.-Б. Гучинова, Г. А. Комарова (отв. ред.). М.: Российская политическая энциклопедия, 2011. С. 256–281.
(обратно)736
Bennigsen A., Wimbush S. Muslims of the Soviet Empire: A Guide. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1986. P. 21. См. также: Bennigsen A., Wimbush S. Mystics and Commissars: Sufism in the Soviet Union. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1985.
(обратно)737
Bennigsen A., Wimbush S. Muslims of the Soviet Empire. P. 32.
(обратно)738
Ro’i Y. Islam in the Soviet Union: From the Second World War to Gorbachev. London: Hurst & Company, 2000.
(обратно)739
Ibid. P. 723.
(обратно)740
Это расставание с советологическим языком демонстрируют и другие работы Рои, в которых он еще больше подчеркивает разнообразие региональных и индивидуальных вариантов мусульманской идентичности и практик в постсоветской Средней Азии (см.: Ro’i Y., Wainer A. Muslim Identity and Islamic practice in post-Soviet Central Asia // CAS. 2009. Vol. 28. № 3. P. 303–322).
(обратно)741
Ro’i Y. Islam in the Soviet Union. P. 346–347, 383, 384, 719–720.
(обратно)742
Упомяну еще одну антиимперскую книгу — американского историка Шошаны Келлер, которая на основе архивных источников написала историю преследования ислама в первые десятилетия советской эпохи (см.: Keller Sh. To Moscow, Not Mecca: The Soviet Campaign Against Islam in Central Asia, 1917–1941. London: Praeger, 2001).
(обратно)743
DeWeese D. Islam and the Legacy of Sovietology: a Review Essay on Yaacov Ro’i’s Islam in the Soviet Union // Journal of Islamic Studies. 2002. Vol. 13. № 3. P. 309.
(обратно)744
О разных политических и богословских течениях в советском среднеазиатском исламе см. также: Бабаджанов Б., Муминов А. К., фон Кюгельген А. Диспуты мусульманских религиозных авторитетов Центральной Азии в XX веке. Алматы: Дайк-пресс, 2007; Бабаджанов Б. Ислам в Узбекистане: от репрессий к борьбе идентичностей // Россия — Средняя Азия. Т. 2. Политика и ислам в XX — начале XXI в. / А. Кокошин (гл. ред.). М.: URSS, 2011. С. 191–213; Бабаджанов Б. «Ваххабитские реформаторы»: от диспутов к расколам и политической активности // Там же. С. 214–256; Dudoignon S. From revival to mutation: the religious personnel of Islam in Tajikistan, from de-Stalinization to independence (1955–1991) // CAS. 2011. Vol. 30. № 1. P. 53–80.
(обратно)745
Бурдье П. Генезис и структура поля религии // П. Бурдье. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя, 2005. С. 23. См. также опыт обращения к теориям Бурдье при анализе среднеазиатского ислама: Louw M. Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia. London; NY: Routledge, 2007.
(обратно)746
Более подробно об идентичности и социальных функциях «потомков святых» см.: Privratsky B. G. Muslim Turkistan: Kazak Religion and Collective Memory. Richmond, Surrey: Curzon Press, 2001; Privratsky B. G. «Turkistan Belongs to the Qojas»: Local Knowledge of a Muslim Tradition // Devout Societies vs. Impious States? Transmitting Islamic Learning in Russia, Central Asia and China, through the Twentieth Century / S. Dudoignon (ed.). Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2004. P. 161–212. См. также мою работу: Абашин С. Потомки святых в современной Средней Азии // ЭО. 2001. № 4. С. 62–83.
(обратно)747
См.: Резван Е. Ходжа // Ислам. Энциклопедический словарь / С. Прозоров (ред.). М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 280.
(обратно)748
См.: Абашин С. Н. Ишан // Ислам на территории бывшей Российской империи / С. Прозоров (ред.). Вып. 2. М.: Восточная литература, 1999. С. 40, 41.
(обратно)749
См.: Абашин С. Н. Тура // Там же. С. 88, 89.
(обратно)750
В архивных документах 1870—1890-х годов неоднократно упоминаются Ишанхан-тура Батырханов (Батырходжаев), который какое-то время был сельским старшиной (аксакалом) и пятидесятником в Ошобе, и его сын Салихан (см. Очерк 3). Возможно, этот архивный Ишанхан — Рахматуллахан, а Салихан остался в памяти ошобинцев (в том числе и своих потомков) как Ишанхан — эшонхон было не именем собственным, а титулом, который передавался по наследству и использовался в практиках называния.
(обратно)751
См. Очерк 2.
(обратно)752
Правда, согласно похозяйственной книге 1995 года, Сайидгозы-ходжа родился уже в 1901 году!
(обратно)753
См. Очерк 4.
(обратно)754
О бу-отин, или отинча, см.: Fathi H. Otines: the unknown women clerics of Central Asian Islam // CAS. 1997. Vol. 16. № 1. P. 27–43; Крэмер А. Отин // Ислам на территории / С. Прозоров (ред.). Вып. 3. М.: Восточная литература, 2001. С. 77–79; Peshkova S. Otinchalar in the Ferghana Valley: Islam, Gender and Power. PhD dissertation. Syracuse University. 2006.
(обратно)755
Буквально «четыре друга», то есть четыре первых праведных халифа — Абу Бакр, Омар, Осман и Али — ближайшие сподвижники и первые преемники пророка Мухаммада.
(обратно)756
Обычно к именам потомков Али и Фатимы прилагается титул сайид, но он крайне редко использовался местным населением и самими ишанами.
(обратно)757
Мюрид — духовный ученик, находящийся на низшей ступени посвящения в суфийское братство. См.: Халидов А. Мурид // Ислам. С. 172, 173.
(обратно)758
Бузургхан-ишану приписывали, например, то, что в 1941 году он якобы предсказал точную дату начала войны. По другой, видимо недавно придуманной, истории, Бузургхан-ишан сделал предсказание, что «придет однажды Михаил с пятном на лбу и развалит Советский Союз» — и оно тоже сбылось!
(обратно)759
Правда, этот брак расстроился и они развелись, что было необычным поступком — развод таких близких родственников, к тому же принадлежавших к религиозной семье, запомнился, и многие ошобинцы рассказывали мне о нем.
(обратно)760
См.: Акимушкин О. Накшбанд. Накшбандиййа // Ислам. С. 186–188.
(обратно)761
См.: Kamp M. Were Did the Mullahs Go? Oral Histories From Rural Uzbekistan // Die Welt des Islams. 2010. № 50. P. 503–531.
(обратно)762
К слову, именно от Мукаррам получали специальное разрешение/благословение на свою практику бахши, которые занимались религиозно-магической и лечебной практикой (см. Очерк 6).
(обратно)763
По традиции главной считается отцовская линия. Однако в семьях «потомков святых» ценится и сохраняется как мужская родословная, так и женская, особенно если последняя имеет в своем составе особо почитаемых персон.
(обратно)764
См. Очерк 7.
(обратно)765
Важная деталь: с каждого катта-туя, который проводился в Ошобе, тарелку с пловом обязательно относили в родовые дома тура и ходжей (где находятся могилы их умерших предков, о чем я скажу дальше), тем самым выказывая почтение ко всем этим семьям (включая ишанов, поскольку по женской линии ходжи с ними связаны) и рассчитывая на помощь их «святости». Ошобинское население выделяло «потомков святых» из своих внутренних социальных сетей — с тем, чтобы опять вступить с ними в отношения, но на других условиях.
(обратно)766
См., например: Исламизация и сакральные родословные в Центральной Азии: Наследие Исхак Баба в нарративной и генеалогической традициях. Т. 2 / М. Х. Абусеитова и др. (ред.). Алматы; Берн; Ташкент; Блумингтон: Дайк-Пресс, 2008.
(обратно)767
См. аналогичное разделение титулов у туркменских «потомков святых»: Демидов С.М. Туркменские овляды. Ашхабад: Ылым, 1976.
(обратно)768
Андреев М. С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи). Вып. 1. Сталинабад: АН Таджикской ССР, 1953. С. 30, прим. 1.
(обратно)769
См. Очерк 6.
(обратно)770
Некоторые «святые» в других городах и селениях Средней Азии легитимированы богатой письменной традицией, которую их настоящие или мнимые потомки либо просто почитатели пытаются сохранить и актуализировать. Эту же роль играют иногда и научные работы, популярные издания о «святых» и «святых» местах. В процессе легитимации «святых» участвует сегодня и государство, которое пытается включить их в пантеон национальных героев. Реставрация мазаров, публичное их посещение чиновниками разного ранга, упоминание имен «святых» в официальных речах вольно или невольно расширяют паломничество, увеличивают приношения и укрепляют статус «потомков святых» (см.: Louw M. E. Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia; Abramson D., Karimov E. Sacred Sites, Profane Ideologies: Religious Pilgrimage and the Uzbek State // Everyday Life in Central Asia. Past and Present / J. Sahadeo, R. Zanca (eds.). Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2007. P. 319–338). Ничего подобного в Ошобе не было.
(обратно)771
См., например: Иванов П. П. Хозяйство Джуйбарских шейхов (к истории феодального землевладения в Средней Азии в XVI–XVII вв.). М.; Л.: АН СССР, 1954; Сухарева О.А. Потомки Ходжа Ахрара // Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма / Г. Ким, Г. Гирс, Е. Давидович (ред.). М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1985. С. 157–168.
(обратно)772
В данном разделе частично использованы материалы моей статьи: Абашин С. Мазар Бобои-об: о типичности и нетипичности святых мест Средней Азии // Рахмат-наме: Сборник статей к 70-летию Р. Р. Рахимова / М. Резван (отв. ред.). СПб.: МАЭ РАН, 2008. С. 5—23 (английский перевод: Abashin S. Mazars of Boboi-ob: Typical and Untypical Features of Holy Places in Central Asia // Muslim Saints and Mausoleums in Central Asia and Xinjiang / Y. Shinmen, M. Sawada, E. Waite (eds.). Paris: Jean Maisonneuve Successeur, 2013. P. 91—105).
(обратно)773
См.: Халидов А. Шайх // Ислам. С. 289.
(обратно)774
См. также: Кузнецов П. О таджиках Наманганского уезда // Известия Туркестанского отдела Императорского русского географического общества. Т. IX, ч. 1. Ташкент, 1915. С. 9.
(обратно)775
Его еще называют «Катта-мазар» (большой мазар), «Мазар-бува» (дедушка-мазар).
(обратно)776
Худоярхан закончил строительство новой крепости-урды в 1869/1870 годах (см.: Набиев Р. Из истории Кокандского ханства (феодальное хозяйство Худояр-хана). Ташкент: Издательство «ФАН» Узбекской ССР, 1973. С. 218).
(обратно)777
См. Очерк 1.
(обратно)778
Какое-то время, когда мечети были закрыты, около мазара проводилась общественная молитва в праздники рўза-ҳайит и қурбан-ҳайит.
(обратно)779
Со временем эта практика несколько видоизменилась. На ритуальном угощении худойи стали молиться о благополучии в предстоящий год, при этом водно-аграрная подоплека этого благополучия не раскрывалась. Как выразился один информатор, «раньше говорили сув бўлсин (пусть будет вода), сейчас говорим тинчлик бўлсин (пусть будет мир)».
(обратно)780
См.: Наливкин В., Наливкина М. Очерки быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. Казань: [б.и.], 1886. С. 145, 146, 154.
(обратно)781
См. также Очерк 3.
(обратно)782
В 2006 году Тулгон-кампыр передала право на «наследство Абдурахмона-об» Якубджан-шайху, который является внуком Эрали-шайха по мужской линии. Эта передача была оформлена в виде письменного заявления, подписанного свидетелями и заверенного печатью сельского совета/джамоата, и объявлена на специально организованном по этому случаю ритуале чтения Корана.
(обратно)783
См. Очерк 7.
(обратно)784
См. Очерк 9.
(обратно)785
См.: Haruka K. Ruh or Spirits of the Deceased as Mediators in Islamic Belief: The Case of a Town in Uzbekistan // Acta Slavica Iaponica. 2011. Vol. XXX. P. 63–78.
(обратно)786
См.: Халидов А. Мулла // Ислам. С. 170.
(обратно)787
См.: Прозоров С. Имам // Ислам. С. 96–98.
(обратно)788
Домулла (в просторечии домла) — учитель (см.: Муминов А. Дамулла // Ислам на территории. Вып. 2. С. 28–29).
(обратно)789
ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 700. Л. 128.
(обратно)790
См. Заключение.
(обратно)791
В Ошобе было еще несколько более или менее известных подгрупп махсумов, но их члены редко практиковали муллочилик.
(обратно)792
О женских ритуалах см.: Kandiyoti D., Azimova N. The Communal and the Sacred: Women’s Worlds of Ritual in Uzbekistan // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2004. Vol. 10. № 2. P. 327–349. О коммерциализации бусешанба см.: Koroteyeva V., Makarova E. Money and social connections in the Soviet and Post-Soviet Uzbek City // CAS. 1998. Vol. 17. № 4. P. 593; Louw M. Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia. P. 153–166.
(обратно)793
О конфликтах между новыми и старыми бу-отин в других регионах Средней Азии см.: Fathi H. Femmes d’autorite dans l’Asie centrale contemporaine. Quete des ancetres et recompositions identitaires dans l’islam postsovietique. Paris: Maisonneuve&Larose, 2004.
(обратно)794
Титул қози (казий) означает, что он был, видимо, волостным народным судьей.
(обратно)795
Обычно так (кори, кари) называли тех, кто знает наизусть весь Коран. См.: Абашин С.Н. Кори // Ислам на территории. Вып. 2. С. 50.
(обратно)796
К моменту массового закрытия мечетей в 1930-е годы в Ошобе было около десяти мечетей, самой старой и крупной из которых была Катта-мачит (буквально «большая/главная мечеть») около кургана, мéста первого поселения, потом в здании этой мечети находился склад промкомбината. Новая мечеть открылась на месте другой мечети, которую называли Сирли-мачит (буквально «покрашенная мечеть»).
(обратно)797
См.: Резван Е. Джаназа // Ислам. С. 58, 59.
(обратно)798
См. Очерк 4.
(обратно)799
В 2010 году официальным имамом в Ошобе был сын Абдуджаббар-махсума. Он нашел общий язык с хаджиями и читал вместе с ними намазы в мечети. Таким образом, некоторые махсумы приняли новую риторику и тем самым сумели сохранить свой символический капитал.
(обратно)800
См.: Ермаков Д. Ал-Хаджж // Ислам. С. 261. Титул ҳажи носят не только новые муллы. В одном из соседних селений, где живут выходцы из Ошобы, махсум по прозвищу Кори-бува, то есть «дедушка кори» (қори — как я уже говорил, человек, знающий наизусть Коран), совершил хадж и получил новое прозвище — Хаджи-бува.
(обратно)801
См.: Поляков С. П. Традиционализм в современном среднеазиатском обществе. М.: Центральный дом научного атеизма, 1989; Кариев О. Ферганская долина в 70-е — 80-е годы XX в.: экономические аспекты появления исламистского движения // Исламские ценности и центральноазиатские реалии / Document de travail de l’IFEAC. Вып. 7, март 2004. Ташкент: IFEAC, 2004. С. 23–30.
(обратно)802
На это различие обратил внимание Б. Петрик (Pétric B. Pouvoir, don et réseaux en Ouzbékistan post-soviétique. Paris: Presses Universitaires de France, 2002. P. 229).
(обратно)803
О коммерциализации ритуально-религиозной деятельности в 1990-е годы см.: Koroteyeva V., Makarova E. Money and social connections. P. 593; Kandiyoti D., Azimova N. The communal and the sacred. P. 335.
(обратно)804
Бурдье П. Генезис и структура поля религии. С. 44.
(обратно)805
См., например: Sartori P. What Went Wrong? The Failure of Soviet Policy on shari’a Courts in Turkestan, 1917–1923 // Die Welt des Islams. 2010. № 50. P. 397–434.
(обратно)806
Бурдье П. Генезис и структура поля религии. С. 43.
(обратно)807
Местные мусульмане охотно пользовались всеми возможностями, которые предоставляла исламская догматическая традиция, как предлогом для того, чтобы уйти от исполнения книжных предписаний. Что же касается «потомков святых», то они, по поверьям, уже обладали «святостью» по рождению и поэтому были вправе, как считалось в народе, нарушать формальные требования к мусульманину.
(обратно)808
Практика многоженства сохранялась в Средней Азии на протяжении всех советских лет, несмотря на уголовный запрет. Чаще всего к ней прибегали в случае бездетности первой жены. Местная власть на такие факты, как правило, закрывала глаза.
(обратно)809
Спор об исламскости ритуалов — обычный способ выяснения отношений между разными группами. Этот способ веками практиковался в среднеазиатском обществе, принимая форму борьбы между разнообразными течениями мусульманского богословия, политическими партиями или суфийскими братствами. См., например: Бабаджанов Б.М. Зикр джахр и сама’: сакрализация профанного или профанация сакрального? // Подвижники ислама: Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе / С. Абашин, В. Бобровников (ред.). М.: Восточная литература, 2003. С. 237–252.
(обратно)810
О различных вариантах похоронно-поминальных ритуалов см.: Кармышева Б. Х. Архаическая символика в погребально-поминальной обрядности узбеков Ферганы // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии (историко-этнографические очерки) / В. Басилов (отв. ред.). М.: Наука, 1986. С. 139–181.
(обратно)811
Сами близкие родственники умершего, которые встречали гостей в его доме, ту еду, что была приготовлена в доме покойного, в пищу не употребляли в течение первых четырех-пяти суток — чтобы поесть, они уходили к соседям или родственникам либо употребляли только ту пищу, которую приносили гости.
(обратно)812
К тому же с такими призывами выступало и государство, и официальное Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана (см.: Абашин С. Н. Вопреки «здравому смыслу»? (К вопросу о «рациональности/иррациональности» ритуальных расходов в Средней Азии) // ВЕ. 1999. № 1–2. С. 92—112; Бабаджанов Б. О фетвах САДУМ против «неисламских обычаев» // Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри / А. Малашенко, М. Олкотт (ред.). М.: Арт-Бизнес-Центр, 2001. С. 175, 176).
(обратно)813
«Потомки святых» в других селениях и в городах Средней Азии успешно конвертировали свой символический капитал в политику, общественную и культурную сферу (см.: Абашин С. Н. Геллнер, «потомки святых» и Средняя Азия: между исламом и национализмом // AI. 2004. № 3. С. 535–562, английский перевод: Abashin S. Gellner, the «Saints» and Central Asia: between Islam and Nationalism // Inner Asia. 2005. Vol. 7. № 1. P. 65–86). В 2010 году я выяснил, что после смерти официального имама Абдумумин-махсума эту должность в Ошобе много лет занимал Мухтархан-ишан.
(обратно)814
Хаджии использовали и новую литературу, которую распространяли муллы-проповедники, и видеофильмы с их выступлениями. На ошобинцев, привыкших с советского времени благоговейно относиться к печатному слову и телевидению, эти материалы действовали гипнотически, наглядно подтверждая особое положение хаджиев как носителей нового знания об исламе.
(обратно)815
О наманганской общине исламистов, из которой позднее выросло оппозиционное Исламское движение Узбекистана, предпринявшее в 1999 и 2000 годах несколько военных антиправительственных акций, написано довольно много (см., например: Abduvahitov A. Islamic Revivalism in Uzbekistan // Russia’s Muslim Frontier / D. Eickelman (ed.). Indiana: Indiana University Press, 1993. P. 79—100). Сами себя сторонники этой общины ваххабитами не называли, но это слово стало очень популярным для маркировки идей, которые они исповедовали.
(обратно)816
Хронологию событий в Таджикистане в начале 1990-х годов см.: Бушков В. И., Микульский Д. В. «Таджикская революция» и гражданская война (1989–1994 гг.). М.: ИЭА РАН, 1995; Бушков В. И., Микульский Д. В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (Этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992–1996). Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ИЭА РАН, 1997.
(обратно)817
Ново-Матчинский район был освоен в 1950-е годы, туда были переселены таджики, выходцы из горных районов Матчи, верховий р. Зеравшан.
(обратно)818
Среди сторонников ИПВТ было немало «потомков святых» (см.: Бушков В. И., Микульский Д.В. Анатомия гражданской войны. С. 125–127).
(обратно)819
В это время многие религиозные деятели проделывали путь от умеренности к радикализму. Напомню, что в позднесоветское время во главе казията, то есть высшего органа официальной исламской иерархии в Таджикистане, стоял казий-калон Акбар Каххаров, известный как Тураджан-зода (он происходил из семьи ишанов-тура). Это был лояльный к власти и умеренный по взглядам человек. Однако и он в 1991–1992 годах выступал за более решительные религиозные реформы, а также за усиление роли ислама в жизни Таджикистана. Такая позиция сблизила его с ИПВТ. Во время войны 1992–1997 годов Тураджан-зода эмигрировал и жил в Иране. В 1997 году, после заключения мира, стал первым вице-премьером Таджикистана, в 2005 году ушел с этой должности. См.: Gretsky S. Qadi Akbar Turajonzoda // Central Asia Monitor. 1994. № 1. P. 16–24.
(обратно)820
ИПВТ имела в Новой Матче очень сильную поддержку (см.: Бушков В. И., Микульский Д. В. Анатомия гражданской войны. С. 117, 118, 120, 121; Идиев Х. Традиции и новации в контексте изменения общественной жизни современного Таджикистана. Душанбе: Ирфон, 2006. С. 61, 62).
(обратно)821
См.: Rasanayagam J. Islam in Post-Soviet Uzbekistan: The Morality of Experience. Cambridge University Press, 2011; Louw M. Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia. P. 167–176; Zanca R. «Explaining» Islam in Central Asia: An Anthropological Approach for Uzbekistan // Journal of Muslim Affairs. 2004. № 1. P. 99—107; Халид А. Ислам после коммунизма: Религия и политика в Центральной Азии. М.: Новое литературное обозрение, 2010 (оригинал: Khalid A. Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 2007). Критику объективации или эссенциализации ислама см. также: el-Zein A. Beyond Ideology and Theology: The Search for the Anthropology of Islam // Annual Review of Anthropology. 1977. Vol. 6. P. 227–254; Asad T. The Idea of An Anthropology of Islam / Center for Contemporary Arab Studies. Washington, D.C.: Georgetown University, 1986; Varisco D. M. Islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological Representations. Palgrave Macmillan, 2005.
(обратно)822
Massell G. The Surrogate Proletariat: Muslim Woman and Revolutionary Strategies in Soviet Central Asia, 1919–1929. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974.
(обратно)823
Northrop D. Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. P. 22.
(обратно)824
Ibid. P. 23, 29.
(обратно)825
Ibid. P. 31.
(обратно)826
Ibid. P. 31.
(обратно)827
Ibid. P. 344–352.
(обратно)828
Kamp M. The New Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism. Seattle&London: University of Washington Press, 2006. P. 66–75. Эту мысль развивает Эдриенн Эдгар (Edgar A. Bolshevism, Patriarchy, and the Nation: The Soviet «Emancipation» of Muslim Women in Pan-Islamic Perspective // Slavic Review. 2006. Vol. 65. № 2. P. 252–272).
(обратно)829
Kamp M. The New Woman in Uzbekistan. P. 231, 232.
(обратно)830
Схожую точку зрения отстаивает Элизабет Константин (Constantine E. Practical Consequences of Soviet Policy and Ideology for Gender in Central Asia and Contemporary Reversal // Everyday Life in Central Asia: Past and Present / J. Sahadeo, R. Zanca (eds.). Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2007. P. 115–126). Замечу, правда, что далеко не все женщины выступали за изменения — они не являлись единой группой с одинаковыми интересами, в женском мире существовали собственные иерархия и противоречия (например, между подчиненной невесткой и всевластной свекровью).
(обратно)831
К.С. Вафо қўшиғи. Душанбе: Илҳом, 2006. С. 6—19 (на узбекском языке).
(обратно)832
Пиримкул Кадыров (1928–2010) родился в Ура-Тюбинском районе Таджикистана, узбекский писатель, жил и работал в Ташкенте.
(обратно)833
Ошно — это люди, которые не принадлежат к одному сообществу (живут в разных селениях), но имеют долговременные, иногда передающиеся по наследству отношения и обязательства.
(обратно)834
См. Очерк 4.
(обратно)835
По данным переписи 1897 года, в Ферганской области 46,9 % девушек в возрасте 15–16 лет были уже замужем, из молодых людей того же возраста женатыми были 1,3 % (Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 год. Т. 89. Ферганская область / Н. Тройницкий (ред.). СПб.: ЦСК МВД, 1904. С. VI).
(обратно)836
Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. Казань: [б.и.], 1886. С. 199.
(обратно)837
Бурдье П. Практический смысл. СПб.; М.: Алетейя; Институт экспериментальной социологии, 2001. С. 309.
(обратно)838
О брачных стратегиях в советской Средней Азии см., например: Касымова С. Трансформация гендерного порядка в таджикском обществе. Душанбе: Ирфон, 2007. С. 32–49; Ибраева Г. Брачные стратегии в Кыргызстане: поколение отцов и детей (город Бишкек в последние двадцать лет). Бишкек: Салам, 2006. С. 32–55; Тохтаходжаева М. Между лозунгами коммунизма и законами ислама. Ташкент: [б.и.], 2000.
(обратно)839
В Ошобе мне рассказывали о нескольких случаях самоубийства молодых людей до или после заключения брака, но специальным расследованием и сбором информации об этих случаях я не занимался. В целом в Узбекистане и Таджикистане самоубийство (самосожжение) молодых людей, в основном женского пола, имело массовый характер и вызывало беспокойство у власти.
(обратно)840
См. Очерк 4.
(обратно)841
Дело по жалобе Ашурджан-биби Халмурадовой [Хальмухамедовой] и Сары-биби Курбановой на противозаконные действия Аштского народного судьи // ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 19243. Л. 2–9 об.
(обратно)842
Одинамат Исаматов — бывший аксакал Ошобы (см. Очерк 3).
(обратно)843
Согласно шариату, дочь наследует имущество родителей. В случае если у нее есть братья, ее доля составляет половину от доли брата (см. подробности: Кисляков Н. А. Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и Казахстана (XIX — начало XX в.). Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1977. С. 51–56).
(обратно)844
См. Очерк 5.
(обратно)845
О родственных браках см.: Сухарева О. А. Традиция семейно-родственных браков у народов Средней Азии (в порядке дискуссии) // Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана / Г. Снесарев (отв. ред.). М.: Наука, 1978. С. 118–131.
(обратно)846
См., например: Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины. С. 196–213.
(обратно)847
Об этом подробно пишет Пьер Бурдье: Бурдье П. Практический смысл. С. 347–352.
(обратно)848
Бурдье называет интерес внешних наблюдателей именно к этой традиционной, или, как он говорил, «официальной», брачной сделке «коварным искажением» локального восприятия (см.: Там же. С. 352).
(обратно)849
См. также: Petric B. Pouvoir, don et reseaux en Ouzbekistan post-sovietique. Paris: Presses Universitaires de France, 2002. P. 89–99, 141–152, 179–191.
(обратно)850
Бурдье пишет, говоря об арабах Северной Африки, что у них были две стратегии — слияния, то есть заключения брачных сделок внутри семейной группы, и расщепления, то есть заключения брака с чужаками, которые могли предоставить новые материальные и символические выгоды (см.: Бурдье П. Практический смысл. С. 362). Это верно и для среднеазиатского общества.
(обратно)851
Существует множество работ о свадебных обрядах в Средней Азии. Я назову лишь один из обобщающих трудов: Кисляков Н. А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1969.
(обратно)852
Бурдье П. Практический смысл. С. 365.
(обратно)853
Известно, что в прошлом бывали случаи, когда такой договор о браке, заверяемый клятвами, заключался, когда дети были еще совсем маленькими, и спустя много лет его исполняли. Частыми ли были такие случаи в 1950—1980-е годы, я не слышал, кроме ссылок на клятву отца К-хон.
(обратно)854
В других регионах этот ритуал был известен как патаха-тўй, то есть день, когда в знак согласия на брак читалась кораническая сура ал-Фатиха.
(обратно)855
Хотя бывали и исключения. Как мне рассказывали, когда одна девушка из Ошобы выходила замуж за некоего молодого человека из Канибадама, между ишонтириш и самой свадьбой прошел целый год, пока жених ездил в Россию на заработки.
(обратно)856
Несмотря на явное символическое значение всех этих действий, в реальности они исполнялись в виде игры. Я видел, например, как вместо родственницы жениха поднимать невесту — не по правилам — взялась более крепкая подружка девушки, при этом она смогла поднять ее только один раз — и все происходившее сопровождалось шумом и смехом.
(обратно)857
Как выразился один мой информатор, в Ошобе обычно никто таких халатов (тўн) не носил. Надевали их только на похороны, поэтому если видели человека в таком халате, то могли подумать, что кто-то умер. Поэтому, в частности, халаты дарили редко (только родне).
(обратно)858
См.: Лобачева Н. П. Сверстники и семья (к вопросу о древней половозрастной градации общества у народов Средней Азии и Казахстана) // СЭ. 1989. № 5. С. 87–89.
(обратно)859
Боголюбов А. аш-Шахада // Ислам. Энциклопедический словарь / С. Прозоров (отв. ред.). М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 296.
(обратно)860
Махр — обеспечение, которое муж должен, согласно шариату, передать жене в момент заключения брака. В действительности выплата махра в советское время превратилась в символическую формулу (см.: Кисляков Н. А. Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и Казахстана (XIX — начало XX в.). Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1977. С. 85–87; Абашин С. Калым и махр в Средней Азии: о «границах» в социальных отношениях // Человек и право. Книга о летней школе по юридической антропологии (г. Звенигород, 22–29 мая 1999 года) / Н. Новикова, В. Тишков (отв. ред.). М.: ИЭА РАН, 1999. С. 155–161).
(обратно)861
По окончании церемонии мулла получал подарок (в 1995 году — узелок с сушеным урюком, хлебом, орехами и около 3 тыс. рублей) и уходил.
(обратно)862
В других регионах молодые ложились на кровать, с головой накрывались одеялом и вместе смотрели в зеркало.
(обратно)863
Кстати, обязательной была демонстрация постельного белья с кровью, которая доказывала добрачную невинность невесты.
(обратно)864
Классический вариант, описанный этнографами, выглядел иначе: на следующий день после переезда невесты к жениху проводился ритуал открывания лица, спустя несколько дней жених ехал в дом родителей невесты. Каким образом и когда юз-очар и чақирув в Ошобе поменялись местами и удвоились на два дома, мне не очень понятно.
(обратно)865
Термин қалин встречался мне редко — обычно подарки жениха мои собеседники не называли каким-то общим словом, что, возможно, было связано с законодательным запретом на калым в советское время.
(обратно)866
См. также: Моногарова Л. Ф., Мухиддинов И. Современная сельская семья таджиков. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1992. С. 139–141, 147–153; Zanca R. Life in a Muslim Uzbek Village: Cotton Farming after Communism. Wadsworth: Cengage Learning, 2011. P. 106–109.
(обратно)867
В других селениях Ферганской долины, где мне довелось проводить исследования, эту денежную часть подарков, составлявшую от 500 до 1500 советских рублей, называли қалин. Эти деньги, однако, шли не в семейный бюджет, а на приобретение стороной невесты комплекта праздничной одежды для жениха. Иногда представители стороны невесты со словами «деньги теперь наши, но одежду покупайте сами» возвращали всю сумму (или ее бóльшую часть) стороне жениха, и тогда он сам покупал себе одежду.
(обратно)868
Подарки на свадьбе, если их больше одного, дарятся обязательно в четном числе.
(обратно)869
Люшкевич Ф. Д. Традиции межсемейных связей узбекско-таджикского населения Средней Азии (к проблеме бытования «калыма» и других патриархальных обычаев) // СЭ. 1989. № 4. С. 65.
(обратно)870
Общие расходы стороны жениха были немного меньше, чем общие расходы стороны невесты, но надо иметь в виду, что в обязанность стороны жениха входило обеспечение новобрачных отдельным жильем.
(обратно)871
Эту особенность свадебных взаимообменов еще в конце XIX века подметили супруги Наливкины: «Получив калын, родители невесты обязуются соразмерно количеству последнего снабдить дочь при отправке ее к мужу», «жених сам, сообразуясь со своими средствами, делает приданое невесте»(Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины. С. 202, 207).
(обратно)872
Можно лишь добавить, что были еще свадьбы с разведенными женщинами или вдовами. В этом случае логика и последовательность мероприятий оказывались несколько иными: чтение брачной молитвы (в личном присутствии жениха и невесты) проводилось вечером, без особых торжеств, не было до этого ишонтириш (хотя продукты и подарки сторона жениха привозила — правда, меньше, чем обычно), проводился чақирув, а юз-очар — нет.
(обратно)873
См. Очерк 7.
(обратно)874
См. также: Roche S., Hohmann S. Wedding rituals and the struggle over national identities // CAS. 2011. Vol. 30. № 1. P. 113–128.
(обратно)875
См.: Kamp M. The New Woman in Uzbekistan. P. 32–52; Шадманова С. Свадебные церемонии в Туркестане на страницах периодической печати конца XIX — начала XX в. // Pax Islamica. 2010. № 2. С. 146–157.
(обратно)876
Шадманова С. Свадебные церемонии в Туркестане. С. 153, 154.
(обратно)877
ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 3, д. 117. [Б.л.].
(обратно)878
См.: Hilgers I. Why Do Uzbeks Have to Be Muslims? Exploring Religiosity in the Ferghana Valley. Berlin: Lit Verlag, 2009. P. 95—110.
(обратно)879
См.: Абашин С. Вопреки «здравому смыслу»? (К вопросу о «рациональности/иррациональности» ритуальных расходов в Средней Азии) // ВЕ. 1999. № 1–2. С. 92—112.
(обратно)880
См., например: .
(обратно)881
ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 121. Л. 9; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 122. Л. 3.
(обратно)882
ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 159. Л. 8–9.
(обратно)883
ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 187. Л. 96, 98; ФГАСО РТ, ф. 191, оп. 1, д. 259. Л. 6–8.
(обратно)884
Об этих социальных группах см. Очерки 4 и 6.
(обратно)885
Здесь можно еще вспомнить возраставшую социальную роль кино — собственно узбекских и, например, индийских фильмов, которые оказывали колоссальное влияние на настроения в обществе, формируя модели выражения чувств (см.: Abu-Lughod L. Egyptian Melodrama: Technology of the Modern Subject // Media Worlds: Anthropology on New Terrain / F. Ginsburg, L. Abu-Lughod, B. Larkin (eds.). Berkeley: University of California Press, 2002. P. 115–133; Abu-Lughod L. Dramas of Nationhood: The Politics of Television in Egypt. Chicago: University of Chicago Press, 2005).
(обратно)886
См. описание и сравнение традиционных и «красных» (комсомольских) свадеб: Лобачева Н. П. Формирование новой обрядности узбеков. М.: Наука, 1975. С. 22–69.
(обратно)887
См. Очерк 10.
(обратно)888
См., например: Моногарова Л. Ф., Мухиддинов И. Современная сельская семья таджиков. С. 124–126.
(обратно)889
См. Очерк 7.
(обратно)890
См. также: Roche S., Hohmann S. Wedding rituals. P. 118; Hilgers I. Why Do Uzbeks Have to Be Muslims? P. 110.
(обратно)891
Темкина А. Гендерный порядок: постсоветские трансформации (Северный Таджикистан) // Гендер: традиции и современность / С. Касымова (ред.). Душанбе: [б.и.], 2005. С. 6—91. См. также: Она же. Подчинение старшим и модернизация патриархата: женская сексуальность в браке (Таджикистан) // А. Темкина. Сексуальная жизнь женщины: между подчинением и свободой. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. С. 67—144; Она же. Гендерная модернизация по-советски vs. традиционные сценарии сексуальной жизни // AI. 2008. № 3. С. 243–287.
(обратно)892
Темкина А. Гендерный порядок. С. 36, 39, 40, 77–79. В других работах исследовательница отказывается от метафоры концентрических кругов, но употребляет термин «ядро», предпочитая ему, впрочем, в качестве синонима выражение «парадигмальный сценарий» (Темкина А. Подчинение старшим и модернизация патриархата. С. 74–77, 140–141). Последнее, пожалуй, ближе к театральной метафоре масок, которую использует Харрис (см. ниже).
(обратно)893
Темкина А. Гендерный порядок. С. 38.
(обратно)894
Там же. С. 74.
(обратно)895
Harris C. Control and Subversion: Gender Relations in Tajikistan. Pluto Press, 2004.
(обратно)896
Харрис здесь отсылает к Фуко, хотя последний писал о дисциплинарном обществе, которое возникло в Европе в XVIII веке.
(обратно)897
Ibid. P. 21–24, 114, 115, 172–174.
(обратно)898
Ibid. P. 21, 22.
(обратно)899
Большинство среднеазиатских городов имело так называемые старую часть, где люди жили еще со времен, предшествующих российскому завоеванию, и новую, которая застраивалась и заселялась уже в период Российской империи и СССР.
(обратно)900
Очерк был опубликован в несколько видоизмененном виде: Абашин С. Власть и фотография: визуальная репрезентация в имперской рамке // Неприкосновенный запас. 2012. № 4 (84). С. 120–138.
(обратно)901
Круткин В., Романов П., Ярская-Смирнова Е. Интеллектуальное поле визуальной антропологии // Визуальная антропология: Новые взгляды на социальную реальность / Е. Ярская-Смирнова, П. Романов, В. Круткин (ред.). Саратов: Научная книга, 2007. С. 8.
(обратно)902
Романов П., Ярская-Смирнова Е. Ландшафты памяти: опыт прочтения фотоальбомов // Там же. С. 162.
(обратно)903
Там же. С. 163.
(обратно)904
См., например: Nunan T. Soviet Nationalities Policy: USSR in Construction, and Soviet Documentary Photography in Comparative Context, 1931–1937 // AI. 2010. № 2. P. 47–92.
(обратно)905
См. Очерк 1, а также: Sahni K. Crucifying the Orient: Russian Orientalism and the Colonization of the Caucasus and Central Asia. Thailand: White Orchide Press, 1997.
(обратно)906
Подробнее см.: Горшенина С. Крупнейшие проекты колониальных архивов России: утопичность тотальной Туркестаники генерал-губернатора Константина Петровича фон Кауфмана // AI. 2007. № 3. С. 31–42; Dikovitskaya M. Central Asia in Early Photographs: Russian Colonial Attitude and Visual Culture // Empire, Islam, and Politics in Central Eurasia / T. Uyama (ed.). Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2007. P. 104–108.
(обратно)907
См.: Dikovitskaya M. Central Asia in Early Photographs. P. 108–117.
(обратно)908
Прищепова В. А. Центральная Азия в фотографиях российских исследователей (по материалам иллюстративных коллекций МАЭ РАН) // Центральная Азия: Традиция в условиях перемен / Р. Рахимов (отв. ред.). Вып. 1. СПб.: Наука, 2007. С. 234–245. См. также: Бабаджанов Б. М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио; Ташкент: TIAS, 2010. С. 569–580.
(обратно)909
На роль натурщиц с открытыми лицами приглашались, как правило, местные проститутки (Прищепова В. А. Центральная Азия в фотографиях российских исследователей. С. 224–234). Проститутки снимались даже обнаженными для демонстрации строения тела (см.: De Ujfalvy de Mezö-Kövesd Ch.E. Expedition scientifique française en Russie, en Siberie et dans le Turkestan. Vol. 1. Le Kohistan, le Ferghanah et Kouldja avec un appendice sur la Kashgarie. Paris, 1878; Vol. 4. Atlas antropologique des peoples du Ferghanah. Paris, 1879. P. 10–13, иллюстрации 5, 6, 11, 12).
(обратно)910
См. Очерк 7.
(обратно)911
См. Очерк 2.
(обратно)912
Bourdieu P. The Cult of Unity and Cultivated Differences // P. Bourdieu. Photography. A Middle-brow Art. Cambridge: Polity Press, 1990 (1-е изд. — 1965). P. 19.
(обратно)913
См.: Круткин В. Пьер Бурдье: фотография как средство и индекс социальной интеграции // Вестник Удмуртского университета. 2006. № 3. С. 40–55; Круткин В. Снимки домашних альбомов и фотографический дискурс // Визуальная антропология: настройка оптики / Е. Смирнова-Ярская, П. Романов (ред.). М.: ООО «Вариант»; Центр социальной политики и гендерных исследований, 2009. С. 118, 119.
(обратно)914
См. Очерк 7.
(обратно)915
Bourdieu P. The Cult of Unity and Cultivated Differences. P. 23.
(обратно)916
Для сравнения см.: Бойцова О. Фотография в обрядах перехода // Визуальная антропология: настройка оптики. С. 189–200; Она же. Роль фотографии в современном городском свадебном обряде // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. С. 78—101; Она же. «Не смотри, они плохие»: фотографии похорон в русской культуре // Антропологический форум. 2010. № 12. С. 327–352.
(обратно)917
См.: Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. С. 168–264.
(обратно)918
См. Очерк 9.
(обратно)919
См.: Чвырь Л. А. Три «чилла» у таджиков // Этнография Таджикистана / Б. Литвинский (отв. ред.). Душанбе: Дониш, 1985. С. 69–76.
(обратно)920
Тэрнер В. Символ и ритуал. С. 203 и далее.
(обратно)921
Одну из попыток анализа дружеских связей и их классификации у таджиков см.: Roche S. Friendship Relations in Tajikistan: an Ethnographic Account // AI. 2010. № 3. C. 273–298.
(обратно)922
См., например: Задыхина К. Л. Пережитки возрастных классов у народов Средней Азии // Родовое общество: Этнографические материалы и исследования / С. Толстов (ред.). М.: АН СССР, 1951. С. 157–179; Снесарев Г. П. Традиция мужских союзов в ее позднейшем варианте у народов Средней Азии // Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958–1961 гг. Ч. 2. Памятники средневекового времени. Этнографические работы / С. Толстов, Е. Неразик (ред.). М.: АН СССР, 1963. С. 155–204; Рахимов Р.Р. «Мужские дома» в традиционной культуре таджиков. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1990.
(обратно)923
См.: Абдулвахидов Р. М. Побратимство у таджиков Кулябской области // Современный и традиционный семейный быт таджиков / И. Мухиддинов, Л. Моногарова (отв. ред.). Душанбе: Дониш, 1991. С. 57–64.
(обратно)924
См., например: Лобачева Н. П. Сверстники и семья (к вопросу о древней половозрастной градации общества у народов Средней Азии и Казахстана) // СЭ. 1989. № 5. С. 86, 87, 89–93.
(обратно)925
О трансформациях одежды в Средней Азии в конце XIX и первой половине XX века см., например: Сухарева О. А. История среднеазиатского костюма: Самарканд (2-я половина XIX — начало XX в.). М.: Наука, 1982; Рассудова Р. Я. Сравнительная характеристика мужской одежды населения Ферганско-Ташкентского региона (XIX–XX вв.) // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана / Н. Лобачева, М. Сазонова (отв. ред.). М.: Наука, 1989. С. 139–156; Горшунова О. В. Узбекская женщина: социальный статус, семья, религия. М.: ИЭА РАН, 2006. С. 175–200.
(обратно)926
На фотографиях 2000-х годов видна радикальная перемена в том, как изображаются девушки: в их одежде и прическе полностью исчезают какие-либо местные или национальные черты.
(обратно)927
См. Очерк 2.
(обратно)928
Bourdieu P. The Cult of Unity and Cultivated Differences. P. 50, 51.
(обратно)929
Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Harvard University Press, 2006.
(обратно)930
Hellbeck J. Revolution on My Mind. P. 5.
(обратно)931
Ibid. P. 12.
(обратно)932
Среднеазиатские дневники или письма советского времени пока не стали предметом специального изучения. Одна из немногих работ на эту тему: Тохтаходжаева М. (ред., сост.). XX век в воспоминаниях, устных историях, письмах и дневниках женщин Узбекистана. М.: Наталис, 2008.
(обратно)933
См., например, главу о советских этнографических выставках в книге Ф. Хирш: Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca; London: Cornell University Press, 2005. P. 187–227.
(обратно)934
Похожий раскол в сознании колонизированных, правда с расовой интерпретацией, Франц Фанон считал причиной внутренней дисгармонии и неврозов (см.: Fanon F. Black Skin, White Masks. NY: Grove Press, 1967 (1952)).
(обратно)935
См.: Бхабха Х. Местонахождение культуры // Перекрестки. 2005. № 3–4. С. 161–191; Bhabha X. The Location of Culture. London and New York: Routledge, 1994.
(обратно)936
Некоторые идеи заключения изложены в моей статье: Абашин С. Всматриваясь в поле после боя // Антропология академической жизни: традиции и инновации / Г. Комарова (ред.). Москва: ИЭА РАН, 2013. С. 238–271.
(обратно)937
Slezkine Y. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca: Cornell University Press, 1994 (русский перевод: Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 2008).
(обратно)938
См. статьи того же автора о российской/советской этнографии, которые во многом пересекаются с содержанием «Арктических зеркал»: Слезкин Ю. Советская этнография в нокдауне: 1928–1938 // ЭО. 1993. № 2. С. 113–125; Он же. Н. Я. Марр и национальные корни советской генетики // Новое литературное обозрение. 1999. № 36. С. 48–82; Он же. Естествоиспытатели и нации: русские ученые XVIII века и проблема этнического многообразия // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет / П. Верт, П. Кабытов, А. Миллер (сост.). М.: Новое издательство, 2005. С. 120–154.
(обратно)939
Слезкин Ю. Арктические зеркала. С. 438.
(обратно)940
Там же. С. 16, 441.
(обратно)941
Там же. С. 440, 444, 446.
(обратно)942
Тишков В. А. Советская этнография: преодоление кризиса // ЭО. 1992. № 1. С. 5—19.
(обратно)943
Там же. С. 5.
(обратно)944
Там же. С. 11.
(обратно)945
См. в журнале «Этнографическое обозрение» за 1992–1993 годы отклики В. Н. Басилова, В. И. Козлова, Ю. И. Семенова, В. А. Шнирельмана, И. С. Кона, которые и сегодня читаются с огромным интересом. См. также схожие споры о кризисе в американской антропологии: Размышления о судьбах науки // ЭО. 1996. № 6. С. 3—18; Marcus G. The End(s) of Ethnography: Social/Cultural Anthropology’s Signature Form of Producing Knowledge in Transition // Cultural Anthropology. 2008. Vol. 23. № 1. P. 1—14.
(обратно)946
Соколовский С. В. Этнографические исследования: идеал и действительность // ЭО. 1993. № 2. С. 3—13; № 3. С. 3—14.
(обратно)947
Соколовский С. В. Этнографические исследования. № 3. С. 13, 14.
(обратно)948
Соколовский С. В. Этнографические исследования. № 2. С. 3, 4. Впрочем, Соколовский не согласен и с теми, кто видит в этнографическом исследовании исключительно проекцию культуры исследователя на культуру исследуемого, а само исследование считает версией культурного империализма. Взаимопонимание возможно, потому что люди постоянно взаимодействуют друг с другом и создают для этого, по выражению автора, «сейчас-культуры», в которых происходит обмен смыслами — Там же. С. 12.
(обратно)949
Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры" / К. Гирц. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 9—42. См. также: Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography / J. Clifford, G. E. Marcus (eds.) University of California Press, 1986.
(обратно)950
Asad T. Introduction // Anthropology and The Colonial Encounter / T. Asad (ed.). NY: Humanity Books, 1998. P. 9—19 (1-е изд. — 1973).
(обратно)951
Bourdieu P. Participant Objectivation // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2003. Vol. 9. № 2. P. 281–294.
(обратно)952
См.: Clifford J. Spatial Practices: Fieldwork, Travel, and the Disciplining of Anthropology // Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science / A. Gupta, J. Ferguson (eds.). University of California Press. 1997. P. 199.
(обратно)953
По заявлению лесного объездчика Герасима Павлова о противодействии Ашабинского старшины Аштской волости Наманганского уезда Магомет Газы Таирбаева при задержании вывезенного из казенных дач леса и хвороста // ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 663. Л. 1—24.
(обратно)954
Речь о Гозыбае Таирбаеве (см. Очерк 3).
(обратно)955
Речь, видимо, об Имамбае Муллабаеве (см. Очерк 3).
(обратно)956
См. Очерк 2.
(обратно)957
См. Очерк 3.
(обратно)958
Ср.: Слезкин Ю. Арктические зеркала. С. 78.
(обратно)959
См. Очерки 4 и 5.
(обратно)960
См. Очерк 8.
(обратно)961
См. Очерк 7.
(обратно)962
См. Очерк 9.
(обратно)963
Позднее была осуществлена новая денежная реформа и введены в оборот новые купюры — сомони.
(обратно)964
Один доллар США в мае 1995 года стоил примерно 5000–5100 российских рублей, к августу его курс снизился до 4400–4450 рублей.
(обратно)965
Американский антрополог Расселл Занка, который проводил исследование в начале 1990-х годов, описывает свой опыт пребывания в постсоветском Узбекистане: Zanca R. Life in a Muslim Uzbek Village: Cotton Farming after Communism. Wadsworth: Cengage Learning, 2011. В этой книге можно найти также множество зарисовок повседневной жизни, которые были общими для всей Средней Азии и в какой-то части — для всего бывшего СССР.
(обратно)966
См. Очерк 6.
(обратно)967
Другой темой моих опросов поначалу было описание ритуалов, в первую очередь махалля-туев, что также позволяло как-то структурировать общее представление об истории кишлака и его социальной композиции.
(обратно)968
В более ранних своих поездках в другие кишлаки Ферганской долины я в качестве картотеки использовал похозяйственные книги, которые велись в сельсоветах. В Ошобе я тоже обратился к таким книгам, но расхождения между зафиксированной в них информацией и реальностью оказались настолько существенными, что пользоваться ими в качестве картотеки не получилось.
(обратно)969
См. Очерк 8.
(обратно)970
Впрочем, внимательный читатель, которому хватит любопытства и настойчивости, чтобы вникнуть в детали, легко раскроет многие имена, иногда упоминаемые в книге полностью.
(обратно)971
Могу сослаться на другие случаи повторного посещения поля с анализом как произошедших изменений, так и первоначального опыта: Abu-Lughod L. Preface to the Second Edition // L. Abu-Lughod. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society. Updated Edition with a New Preface. University of California Press, 1999. P. XI–XXVII; Humphrey C. Preface to New Edition // C. Humphrey. Marx Went Away — But Karl Stayed Behind. Updated Edition of Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998. P. VII–XXII; Humphrey C. Update // Ibid. P. 444–505. Хочу заметить, что в отличие от этих примеров результаты моего повторного приезда в Ошобу включены в основной текст книги, а не являются дополнением к нему.
(обратно)972
К слову, члены семьи Х. (сам он к тому времени умер), которые в 1995 году числились бедняками и аутсайдерами, одними из первых в кишлаке освоили путь трудовой миграции и к 2010 году заметно поправили свое социальное положение, поднявшись по иерархической лестнице.
(обратно)973
Он трагически погиб во время селя, который прошел по Ошоба-саю 22 июля 2007 года. После этого ошобинцы сложили легенду о том, что "потомок святых" пытался защитить кишлак от еще больших разрушений.
(обратно)974
Кроме того, весной 2010 года я побывал в Адрасмане.
(обратно)975
Наличие доступной мобильной связи облегчило мне координацию передвижений по кишлаку, обеспечило постоянную связь с Москвой и даже выход в Интернет. К слову, мобильные телефоны сильно повлияли на само ошобинское сообщество, что могло бы стать предметом отдельного исследования.
(обратно)976
Gupta A., Ferguson J. Culture, Power, Place: Ethnography at the End of an Era // Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology / A. Gupta, J. Ferguson (eds.). Durham, NC: Duke University Press, 1997. P. 1—29. См. схожую критику: Burawoy M. Introduction: Reaching for the Global // Global Ethnography: Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World / M. Burawoy et al. (eds.). University of California Press, 2000. P. 1—40.
(обратно)977
См.: Gupta A., Ferguson J. Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference // Ibid. P. 33–51.
(обратно)978
Gupta A., Ferguson J. Culture, Power, Place. P. 6.
(обратно)979
Ibid. P. 7.
(обратно)980
Gupta A., Ferguson J. Discipline and Practice: "The Field" as Site, Method, and Location in Anthropology // Anthropological Locations. P. 1—46.
(обратно)981
Ibid. P. 13.
(обратно)982
Ibid. P. 16.
(обратно)983
Ibid. P. 37.
(обратно)984
См.: Zanca R. Life in a Muslim Uzbek Village. P. 79–81.
(обратно)985
См., например: Стратегия социально-экономического развития джамоата Ошоба Аштского района. Худжанд: АППР Нау, 2008.
(обратно)


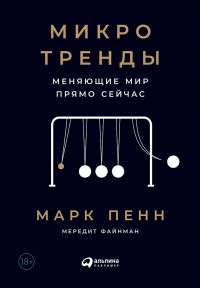


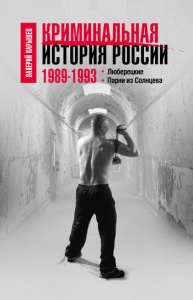




Комментарии к книге «Советский кишлак», Сергей Николаевич Абашин
Всего 0 комментариев