Дмитрий Губин Въездное & (Не)Выездное
© Д. Губин, 2014
© ООО «Новое литературное обозрение», 2014
Приложение к maps.google.com
Тексты, места, 20 городов, 20 стран, теги, хэштеги, комментарии, бонусы
От автора
Первую часть этой книги – «По России» – я хотел начать так: «Только русский человек так устроен, что терпеть не может Москву: наглую, безвкусную, обобравшую и обожравшую всю страну. И только русский человек, получив малейшую возможность сбежать в Москву из своих Шуй и Кимр, немедленно сбегает…».
Эта часть объединяет тексты, где действие (за исключением главы «Москва, куриная нога») происходит вне Москвы. Полагаю, эти тексты могут быть интересны, например, немосквичам, которым любопытно, что именно про их Иваново (Питер, Волгоград, Краснодар, Красноярск) наплел этот Губин (вообще, вся моя книга – социальный травелог).
А вот вторая часть – «Вне России» – может пригодиться многим другим, потому что всегда много тех, кому интересно, что пишет о стране, в которую они собираются или в которой они побывали (или в которой подзадержались – порою на всю жизнь), профессиональный журналист. В этой части собраны и мои очерки о некоторых зарубежных проблемах – начиная с прав супругов в гражданском браке (common law marriage) и заканчивая законностью употребления галлюциногенных грибов – и их решениях, на которые я смотрю и применительно к России.
Больше всего текстов имеет отношение к Великобритании (какое-то время я жил и работал в Лондоне на BBC World Service), однако доля внимания уделена Азербайджану, Белоруссии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Казахстану, Кипру, Китаю, Нидерландам, Норвегии, ОАЭ, Португалии, США, Таиланду, Украине, Финляндии, Франции и Швеции.
Знак # хэштега означает топографическую привязку, за тегами (tags) следует краткое содержание, comment – это комментарий, а слово «бонус» (bonus) предваряет текст, который можно использовать как путеводитель.
Для любителей сказок для взрослых в книге есть чертова дюжина абсолютно правдивых сказок про жизнь в Лондоне Романа Абрамовича (он, как мне сообщили, их прочитал).
Кажется, обо всем предупредил.
ДГdimagubin.livejournal.comПо России
#СССР #Иваново Ивановский самиздат
Этак можно продолжать и продолжать, ибо свершений ивановцев, как и всех советских людей, не счесть.
Владимир Кулагин, бывший редактор газеты «Рабочий край».
Теги: Илья Глазунов в роли диссидента. – Леонид Брежнев в роли станционного cмотрителя. – Евгений Евтушенко в роли залпа «Авроры».
Когда зима 1978 года перешла в зиму 1979-го, в областном городе Иваново произошло два события культурной жизни, всколыхнувших его обитателей и потрепавших тех, кто этому колыханию доверился.
Первым был приезд в город художника Ильи Глазунова, тогда еще не написавшего портрета Л.И.Брежнева, не удостоенного звания народного, не принятого в Академию Художеств СССР (хотя и принятого в Академии Мадридскую и Барселонскую). Илья Сергеевич привез вместе с собой выставку, которой отдали ряд залов ивановского художественного музея, потеснив на время одну из достопримечательностей текстильного края – черную и зубастую египетскую мумию, неизменно притягивающую в музей ребятишек. На пресс-конференции для ивановских журналистов Глазунов рассказал о своей любви к «русскому Манчестеру», о намерении построить в подчиненном Иванову Палехе новый музей для знаменитых лаковых панно и шкатулок – и выслушан был благосклонно. Отчет о встрече можно прочитать в ивановской газете «Рабочий край», название которой ехидные акселераты двух городских спецшкол, успевшие выучить считалочку про плаксу Вилли «Уай ду ю край, Вилли…», переиначивали (транслитерируя с английского слово cry) как «Плачущий гегемон». При этом надо признать, что ивановцы в своей массе плохо представляли себе, кто такой Илья Глазунов, музеи посещали не иначе как на профсоюзных экскурсиях (не считая детских визитов к мумии), а потому никакого ажиотажа вокруг выставки первоначально не было, и только тонкая прослойка интеллигенции составляла хилую очередь в кассу.
Думаю, во всем дальнейшем следует винить именно эту прослойку: для наших интеллигентов вообще характерно заваривать кашу в благой надежде накормить весь мир, несмотря на то, что это мероприятие неизменно оборачивается для них же кашей березовой.
Но ивановская интеллигенция тогда о диалектике не думала и, видимо, слегка уязвленная немассовостью выставки, начала проводить воспитательную работу: мол, посмотреть следует непременно, ибо Глазунов, как бы поточнее выразиться, художник не совсем официальный, а может быть даже совсем не официальный, его картины закупает заграница. На одном холсте у него нарисована очень красивая, но совершенно голая девица, перебирающая конверты пластинок Элвиса Пресли, являющегося, как известно, агентом ФБР; на другой под красным знаменем, привязанном к ракете, свиньи жрут трупы и возвращается к отцу библейский блудный сын; на третьей же картине, которая в Иванове не выставлена, но которая точно есть, лежит в кровавом гробу Сталин, – так что, выходит, просто удивительно и невероятно, что такая замечательная выставка устроена именно в нашем городе.
Агитация имела успех, и вскоре очередь в кассу заметно возросла, а потом вылезла и на улицу, а потом началось и вовсе столпотворение, не доводимое до размеров Вавилонского разве что стайкой людей в пальто цвета маренго, в сапогах и с бляхами. Тут уже пошло черт-те что, появились откуда-то непонятные свитерастые бородастые молодые люди, с видом знатоков утверждавшие, что выставляется Глазунов вовсе не по приглашению областного отдела культуры, а потому, что в Москве его персональную выставку зарубил секретарь Академии художеств Налбандян, сказавший: «Я никогда не повешу ваш ужасный картина» про то самое полотно, где Сталин в крови и Христос – в белом венчике…
Ясно стало, что назревает скандал.
Я тогда учился в восьмом классе и отрабатывал в себе, как мне тогда казалось, качества совершенно необходимой журналистской прохиндеестости, подрабатывая в «Плачущем гегемоне» фотоснимками и небольшими статейками. Хорошо помню это предгрозовое ощущение, когда фоторепортер «Гегемона», крючконосый, маленький и неутомимый Александр Дворжец сдавал в редакцию фотографию за фотографией, включая общий вид очереди, голую преслиевскую девицу и блудного сына, из чего в конечном итоге для публикации отбирался портрет детского писателя Михалкова, изображенного художником с взятым наизготовку пером перед стопкой абсолютно чистой бумаги, – ах, память моя фиксировала все, да мозг еще не осмыслял: как жаль, что только сейчас мне стала видна взаимосвязь людей и событий…
Ивановцы прекрасно знали, что скандалы нехарактерны для нашей системы и спешили посмотреть выставку, пока ее вместе с нехарактерностью не прикрыли. Все настолько были готовы к любой беде, что не случись ее, беду бы выдумали. Она же, как водится, пришла оттуда, откуда не ждали: в январе, чуть запоздав, городская «Союзпечать» доставила подписчикам декабрьский номер ленинградского журнала «Аврора». Подписчиков было немного, журнал прочитали не сразу, но потом все читавшие как-то разом заговорили об опубликованных в нем стихах Евгения Евтушенко «Москва – Иваново»: говорили, между прочим, что врезал он нашим чинушам промеж глаз здорово; и что влетит же ему теперь за это; и что, молодец, поддал Жень Саныч пару всем, кто еще надеется освоить всякие там нечерноземные программы, – из одних только этих очень уклончивых реплик можно было понять, что «Аврора» допустила какой-то идеологический ляп, по сравнению с которым и скандальная выставка – так, мальчишеская шалость.
Впрочем, прежде чем объяснить, что за публикацию позволила себе редакция журнала, возглавляемого писателем Глебом Горышиным, необходимо ближе ознакомиться с жизнью Иваново конца 1970-х, чтобы у читателя не сложилось ощущения ивановской провинциальности, забитости и непросвещенности. Ей-богу, это было бы несправедливо по отношению к городу, давшему стране поэта Михаила Дудина, модельера Вячеслава Зайцева и каждый третий метр хлопчатобумажной ткани.
Итак, следует сказать, что город Иваново тогда отнюдь не был дремуч ни в культурной, ни в иных сферах. Работали два театра, и строился, отмечая пятнадцатилетие строительства, третий, некогда заложенный на месте стертого с лица земли монастыря. Под монастырем, как выяснилось впоследствии, протекала подземная речка, в которую опускался плотинообразно театр по мере своей постройки. Несмотря на такую сложность, строительные организации приобретали мало-помалу гидротехнический опыт, периодически приостанавливая театральное падение и опускание. Решалась успешно жилищная проблема, было возведено несколько двенадцатиэтажных домов, и на улице Станционной предполагалась закладка шестнадцатиэтажного. Любопытно отметить, что еще до начала работ место постройки первого ивановского небоскреба было увековечено открытием памятника Генеральному секретарю ЦК Л.И. Брежневу – это, конечно, было почином, нашедшим в стране самый горячий отклик. Памятник представлял собой дымчато-мраморное сооружение, напоминающее одновременно развернутое знамя и раскрытую книгу, левую страницу которой занимал выполненный маслом портрет Л.И. Брежнева, а правую – его цитата бронзового литья. По мысли отцов города, шестнадцатиэтажная махина должна была произрастать прямо из этого иллюстрированного издания, как бы намекая на то, что каждому делу предшествует партийное слово.
Правда, не обошлось без рецидивов несознательности: отдельные граждане не только прозвали, в силу топографической привязки, памятник вождю «станционным смотрителем», но и несколько раз пытались изничтожить иллюстрированную часть. Тогда возле памятника появилась будка со спецтелефоном (с трубкой, но без диска), а возле будки день и ночь стали прогуливаться все те же граждане в пальто цвета маренго, образующие маленькое, но чрезвычайно действенное общество охраны памятников…
Замечу еще, что проблема снабжения продовольствием, то есть отсутствия снабжения, затронула Иваново меньше других городов. Конечно, ни масла, ни колбасы, ни мяса ивановцы в магазинах не видели, поскольку вкусные и полезные продукты исчезли, а карточки на них не появились, плохо, кроме того, было с молоком и сметаной; но зато всегда в продаже были пельмени и куры. Это выгодно выделяло Иваново в ряду других областных центров, как выделялся в свое время середняк на фоне безлошадников. Во всяком случае, если ивановские автобусы можно было заметить у московских универсамов, то возле ивановских продмагов можно было заметить автобусы костромские и ярославские.
Это, конечно, самый общий абрис ивановской жизни. Пора возвращаться к поэту Евгению Александровичу Евтушенко и его искусству, потребовавшему от ивановцев самых настоящих жертв.
Итак, в декабрьской «Авроре» было помещено стихотворение Евтушенко «Москва – Иваново», где поэт описывал поездку в город славных текстильных традиций в «нескором поезде», вагоны которого битком набиты людьми, которых «зажали как в тиски апельсины микропористые – фрукты матушки-Москвы», а также «порошок стиральный импортный, и кримплен, и колбаса». Сам Евтушенко едет в купе, с ним трое попутчиков, которые дремлют, но продолжают и во сне охранять с боем раздобытое в Москве добро:
Прижимала к сердцу бабушка ценный сверток, где была с растворимым кофе баночка. Чутко бабушка спала. Прижимал командированный, истерзав свою постель, важный мусор, замурованный в замордованный портфель. И камвольщица грудастая, носом тоненько свистя, принимала государственно свое личное дитя.Поскольку сам Евтушенко был поэтом, то вез с собой нечто нематериальное: он
…Россию серединную прижимал к своей груди, –в чем можно видеть лирический перегиб, но можно – и весьма важное отличие провинциала, занятого проблемой поиска хлеба насущного, от москвича, решившего проблему снабжения всерьез и надолго.
Ох уж этот нескорый поезд № 662! Я изучил его, пока был студентом, вдоль и поперек и навеки запомнил, какое зрелище он представляет даже в купейном варианте, не говоря уж про общие вагоны, где с третьих полок капает на вторые оттаявшее в поезде мясо, где люди сидят голова на голове и две соседки ночь напролет спорят, сколько зарабатывает Пугачева и стухнет колбаса «Останкинская» до Иванова или же обождет…
Так что мне весьма понятны чувства Евтушенко, вопрошающего:
Мы за столько горьких лет заслужили жизнь хорошую? Заслужили или нет?Как понятны и чувства ивановцев при чтении этих стихов: это была еще не вся правда, поскольку ответ на вопрос «заслужили или нет?» давался слишком неопределенный: «Что исполнится, то вспомнится кем-нибудь когда-нибудь», – но уже ее попытка. А так как ивановцы жаждали если не плана действий, то определенности, то они прочитали всю стихотворную «авроровскую» подборку, и вслед за «Москвой – Иваново», через типографский знак, называющийся типографскими рабочими неопределенно-любовно «бубочкой», прочли еще одно стихотворение из шестнадцати строк, которое мне хочется привести полностью. В силу неопределенности постановки бубочки было совершенно непонятно, следует считать шестнадцать строк отдельным стихотворением или как бы прицепным, дополнительным вагоном, также прибывшим в Иваново, и ивановцы решили, что – прицепным:
Достойно, главное, достойно любые встретить времена, когда эпоха то застойна, то взбаламучена до дна. Достойно, главное, достойно, чтоб раздаватели щедрот не довели тебя до стойла и не заткнули сеном рот. Страх перед временем – паденье. На трусость душу не потрать, но приготовь себя к потере всего, что страшно потерять. Но если все переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе такую малость: «И это можно пережить…»Эти шестнадцать строк были, таким образом, все-таки некоторой попыткой программы социального поведения, и я, право, удивляюсь, как они могли быть напечатаны в 1978 году – мне почему-то кажется, что их непросто было бы напечатать и сейчас…
Соединение поэтического и социального должно было, вследствие превышения критической массы, вызвать в Иванове взрыв. И вызвало.
Первый ответный залп по «Авроре» сделал работавший в то время первым секретарем Ивановского обкома КПСС Виктор Клюев. На информационной встрече идеологического актива области 17 января 1979 года он, по позднейшему сообщению «Плачущего гегемона», сурово заметил: «Осмысливать настоящие жизненные явления и измышлять их во сне – вещи разные».
Это разгромное выступление, вызвало, разумеется, противоположный эффект: весь идеологический актив кинулся раздобывать «Аврору», ставшую вмиг сверхдефицитной, и стихи Евтушенко переписывались, заучивались наизусть, перепечатывались на машинке, ксерокопировались, ротапринтировались, перефотографировались… Пусть будущий ивановский историк отметит это время как начало ивановского самиздата, когда к 169 тысячам экземпляров центрального тиража «Авроры» прибавилось несколько тысяч тиража местного.
И это был не единственный вид творчества масс, который пробудила литературоведческая речь первого секретаря.
Спустя некоторый срок одним из ответных творений стало выступление в «Плачущем гегемоне» его редактора Владимира Кулагина, занявшее половину полосы девяносто пятого номера газеты и потеснившее даже традиционное обсуждение бестселлера тех лет «Целина» – подобно тому, как Глазунов вытеснил в художественном музее мумию. Если Владимир Клюев давал стихотворению общую оценку, то Владимир Кулагин шел дальше. Евтушенко был дан бой по всем пунктам: объявлялось, например, что в своей давней поэме «Ивановские ситцы» святое для всей России слово «Иваново» он рифмует со словами «пьяново», «рваново», «надуваново», по существу ставит между ними знак равенства; что картина быта и нравов поезда № 662 «нетипична»; что «область и страна хорошо знают и любят других камвольщиц»; что бабушка с баночкой кофе «карикатурна»; что командированный вез никакой не «мусор», а «планы обновления наших полей в свете постановлений партии и правительства», – отлуп, как говаривал дед Щукарь, был полнейший.
Единственным неоспоренным тезисом Евтушенко остался, кажется, лишь тезис о грудастости ивановских камвольщиц: подозреваю, что Владимир Кулагин, конечно, видел за этим неприличный, сексуально-прозападнический намек, но все же не решился выставить антитезу об антигрудастости – как не соответствующую народному типу телосложения. Спорить с Евтушенко в этом вопросе было щекотливо, а все редакторы щекотки боятся.
Другим откликом было стихотворение анонимного автора, начавшее бурное хождение по рукам горожан и известное под названием «Ответ Евгению Евтушенко», уже своим заголовком как бы намекающее на возможность в наше суровое время продолжения стихотворно-эпистолярного жанра (ивановский стихотворец – московскому мэтру) или даже провоцирующее Евтушенко на очередной полемический выпад. Заранее прошу прощения за обильное цитирование, но оно совершенно необходимо: достать ныне «Ответ» гораздо сложнее, чем подшивку «Авроры» или «Плачущего гегемона».
Композиционно «Ответ Евтушенко» делился на две части, констатирующую и полемизирующую, причем основная, констатирующая, была написана слегка хромающим пятистопным ямбом, который нередко использовал (хотя и без хромоты) Александр Пушкин для создания шедевров лирики – например, «Я вас любил, любовь еще, быть может…» Вначале неизвестный литератор констатировал расклад сил:
Смотрю на строки, что с таким гореньем Евгений Евтушенко написал, которые с не меньшим вдохновеньем на партактиве Клюев изругал. За что ругал – мне не совсем понятно: что здесь пасквильного и кто из них неправ?Пасквильного, по мысли автора «Ответа», и впрямь не было, ибо когда голодает страна – это трагедия, а не пасквиль, в доказательство чего в следующих четырех строках давал развернутое описание ивановской жизни, нищей и сирой, но завершал его на контрапункте, оптимистично и в мажоре:
Вот в Ярославле, говорят, соседнем, за молоком – так в пять утра встают, а мясо – может, врут, но только в среднем по килограмму в год всего дают. А Кострома совсем оголодала… Да что и говорить, неплохо мы живем…И за этим «мы» стояли непереводящиеся в Иванове куры и пельмени, а также укор мастеру: уж если ивановцы способны в своей жизни видеть светлые стороны, то не Евгению Александровичу жаловаться за них.
И аноним переходил от скрытой иронии к иронии менее скрытой:
Зачем же патриотом притворяться, шуметь, кричать, в грудь кулаком стучать, змеей шипеть и по углам шептаться? Достал – и съел. И много не болтать, –после чего пятистопный неспешный ямб заменялся четырехстопным, употреблявшимся Пушкиным для послания «Во глубине сибирских руд», и неизвестный стихотворец указывал на беды, которые могут последовать от разговоров во весь голос:
Ты, Женя, говоришь: «достойно», когда крушится все кругом, а сколько было их, достойных, в тридцать седьмом? тридцать восьмом? Так как «достойно»? Где решенье? Давно народ в набат не бил? «Храните гордое терпенье…» Об этом Пушкин говорил…А завершался «Ответ» опять-таки ироническим советом Евгению Евтушенко подобных стихов не писать, поскольку столичная безопасность не чета ивановской реальности:
Поэтому не трогай душу, ведь ты поэт, и не понять, что я почти совсем не трушу – свободу жалко потерять…Чуть забегая вперед, скажу, что как в воду глядел безымянный автор!.. Но пока все было спокойно, и только листки с «Ответом» носились туда-сюда по Иванову, размножаясь со скоростью мушки дрозофилы. Эти чуждые генетические штучки должны были непременно аукнуться, но тогда все только перекрикивались, и я сам в один прекрасный день раздобыл разом три списка «Ответа»: один – в комитете комсомола своей школы, второй – в редакции «Плачущего гегемона» (там его распечатывало в пять закладок все машбюро), а третий принес из института мой отец, заметивший, что есть во всех этих самодельных ответах что-то непрофессиональное, но пушкинское… лермонтовское… что-то от зари отечественной бесцензурной литературы.
Два листка я пустил в множительный оборот, а третий зачитывал кому ни попадя, одноклассникам и старшим приятелям, давал, кажется, кому-то из учителей, и чувствовал себя – скажем так – «частицей общего дела», какого именно – ей-богу, тогда бы я не ответил.
Все прекратилось в один день (забавно, что неофициальная информация доходит до всех единовременно, будто копится-копится за плотиной, а потом прорывает: в один день стал популярен в Иванове Глазунов, в один день стал он скандален, в один день все узнали про Клюева, про «Аврору» и так далее…) – точнее, в один вечер, я запомнил его особенно хорошо. Отец пришел с работы позже обычного и вошел ко мне в комнату странной для него, какой-то военной походкой.
– Где Евтушенко и этот… – он попытался щелкнуть пальцами, но не получилось, так что отец поморщился, – ответ?
Я пожал плечами, и тогда отец развернул меня лицом к себе и, крепко взяв за плечи, очень медленно произнес глаза в глаза каким-то подчеркнуто безразличным голосом:
– Ты кому-нибудь… давал это читать?
Подобное обращение было совершенно не принято в нашей семье, так вели себя только герои «мужских» сцен очень плохих фильмов, ежедневно показываемых по второму каналу телевидения, и от этой неестественности я почувствовал холодок и так же неестественно-безразлично соврал:
– Не-е-ет… Ты что?
А дальше в моей памяти следует десятиминутный провал, и всплывают лишь отдельные фразы:
– Ты никому… потому что может быть самое худшее… и на работе… Чернявская… арестовали… машинистку… в «серый дом»… расширенное… парткома… я прошу тебя…
И я, чувствуя, что в дом приходит что-то беспощадное, постороннее, трясущимися руками отдал несчастный список стихотворений, которые к тому времени заучил наизусть, и отец взял листки и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь, а через десять минут вошел и нормальным голосом сказал, что я уже большой и должен понимать некоторые вещи, что в институте только что окончился закрытый партком, на котором человек из горкома объявил «Ответ Евтушенко» диверсией с душком, не без усилий диссидентуры, что виновные в распространении понесут ответственность, что заведующей кафедрой иностранных языков Ирине Ивановне Чернявской, где-то прочитавшей ответ и кому-то давшей почитать, уже вынесли «строгача» и что какая-то машинистка, размножавшая диссидентское произведение, арестована и доставлена в «серый дом», как, впрочем, и ряд других лиц, и что времена могут быть всякими, и нужно быть готовым. Ты же читал про это у Эренбурга… Достойно, главное, достойно…
И, кажется, чувствовался запах жженой бумаги.
Я думаю, это и есть кульминация истории ивановского самиздата: не повсеместные экстренные закрытые партсобрания, не упорные разговоры о заведенных делах по статье «антисоветская агитация и пропаганда», а разговор в комнате двухкомнатной кооперативной квартиры с невыплаченным паем, когда мой отец, кандидат наук и доцент, поживший за границей, написавший и издавший на французском языке несколько учебников, поклонник Матисса и Модильяни, идет в кухню сжигать стихи в тигельной фаянсовой чашечке… Или я нафантазировал про сжигание? А отец просто порвал их и выкинул в мусорное ведро?
Теперь неважно. Зимой 1979 года я видел отца в особую минуту, и больше таким не увижу никогда. С первым теплом все Иваново опять как-то вдруг заговорило о том, что весть об ивановских карательных акциях докатилась до Москвы, «первого» вызывали на ковер и дали нагоняй за «перегибы», все прощены, и дела замяты.
Трудно сказать точно, как там было на самом деле.
ЭПИЛОГ
Осталось рассказать только о дальнейших судьбах людей, так или иначе оказавшихся причастными к истории ивановского самиздата.
С Ильей Сергеевичем Глазуновым я познакомился позднее, в Москве, когда, учась на журфаке, брал одно из первых в своей жизни интервью. Визируя интервью, Глазунов вдруг пригласил меня позировать для его картины под названием «Похороны», которая огромными своими размерами занимала половину его немаленькой мастерской, не вмещаясь в нее, как не вмещалось «Утро стрелецкой казни» в мастерскую Сурикова. На прописанном заднем плане низкое небо давило серые серийные дома, сжатые еще и черной лентой московской кольцевой автодороги, а на переднем лежала в гробу возле вырытой могилы на старом, с мраморными ангелами, кладбище старушка. Ее осенял крестом священник, а рядом скорбели родственники и просто люди – рабочие, интеллигенты, военные, дети, служащие… Поскольку с меня предполагалось писать фигуру наглухо заджинсованного фотографа, запечатлевающего этот апокалипсис, я спросил, что символизирует старушка. Аристократическим голосом, в который вкрадывалась мешающая, дребезжащая нотка, как будто это был не голос, а чашечка гарднеровского фарфора, давшая трещинку от небрежного хранения, Глазунов ответил:
– Кого хоронят, кого хоронят… Россию-бабушку, советскую власть хоронят, – и, поскольку стояли времена позднего застоя, я, подумав, позировать согласился, хотя мой вид на картине – в три четверти со спины.
С художником Глазуновым я с тех пор не встречался, хотя по сообщениям газет знаю, что он по-прежнему пишет, как, впрочем, и поэт Евтушенко, только один – картины, а другой – стихи.
Редактор «Плачущего гегемона» Владимир Кулагин, призывавший в свое время кару на головы как Евтушенко, так и руководства «Авроры», вынужден был уйти на пенсию где-то при Андропове.
Впрочем, кара журнал «Аврора» все-таки постигла: ровно через три года после истории со стихами Евтушенко вышел декабрьский номер журнала за 1981 год, вторую страницу которого украшала картина уже известного читателю придворного живописца Налбандяна, называвшаяся «Выступление Л.И. Брежнева на конференции в Хельсинки. К семидесятипятилетию Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума…» Но кара, конечно, постигла не за тиражирование более чем посредственной картины, а за публикацию в том же номере рассказа ленинградского писателя Виктора Голявкина. Сам по себе рассказ был безобиден, он высмеивал абстрактного литературного начштаба, но, во-первых, назывался «Юбилейная речь», а во-вторых, занимал ровно семьдесят пятую страницу журнала. Рассказ начинался так: «Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив. Не верится…» – и заканчивался опровержением слуха о смерти писателя: «Радость была преждевременна. Но я думаю, что долго нам не придется ждать. Он нас не разочарует. Мы все верим в него. Мы пожелаем ему закончить труды, которые он еще не закончил, и поскорее обрадовать нас».
Увы, одним из нравственных последствий правления Брежнева было превращение его смерти в фарс еще при жизни. Ведь он «умирал» не единожды, и помню, что, когда 11 ноября 1982 года я пришел на лекции и услышал, что «Леня гигнулся», то машинально спросил: «Как, опять?» Ясно, что половина страны не могла устоять перед соблазном сохранить для себя 75-ю страницу и вновь ксерокопировала, переснимала… Это была вторая, уже всесоюзная волна журнального самиздата, которая, прокатив по стране, оставила как минимум три последствия:
1) заведующая редакцией научилась отвечать иностранным корреспондентам, требующим «мистера Горышина», что «мистер Горышин рестс он дача»;
2) ответственный секретарь «Авроры» Магда Алексеева была уволена «за антиредакционную деятельность»;
3) сам Глеб Горышин ушел с редакторского поста по собственному желанию.
Разгромленная «Аврора» почти потонула, уменьшив тираж до минимального в 105 800 экземпляров, но потом выровнялась и стала идти нюх в нюх со «Знаменем»: полмиллиона. Была история с рассказом Голявкина умышленной или случайной – точно сказать в «Авроре» не может никто, за что я ручаюсь по той причине, что сам работаю в этом издании, давно покинув Иваново.
После смерти Брежнева (некролог в «Авроре» был поставлен ровно через год после «Юбилейной речи», опять-таки в декабрьский номер – есть все-таки у моего журнала определенная любовь к декабрю…) и вышедшего наружу дела министра внутренних дел Щелокова в Ивановском управлении внутренних дел сочли, что содержать круглосуточно общество охраны памятников накладно, и людей с портупеями убрали от «станционного смотрителя» вместе с будочкой. Одновременно пришлось заняться и перестройкой: портрет генсека заменили гербом СССР, а бронзовую цитату – бронзовым куплетом гимна. Единственный памятник государственной атрибутике в стране! Ивановцы могут этим гордиться – как, впрочем, и завершением двадцатилетней реконструкции гигантского театра: тот перестал уходить под воду и, пережив всего-навсего один пожар, принимает зрителей.
После превращения «станционного смотрителя» в памятник атрибутике Владимир Григорьевич Клюев оставил пост первого секретаря ивановского обкома и стал министром легкой промышленности страны. Говорили, что именно он способствовал изданию на русском языке журнала «Бурда», и если это действительно так, то это мирит с ним не только ивановских женщин, но и меня.
Ирина Ивановна Чернявская по-прежнему работает в Ивановском химико-технологическом институте, выговор снят с нее за сроком давности, но вспоминать об истории со стихами она не любит.
А мой отец в августе 1980 года вышел на прогулку перед сном и был убит на центральной улице города шестнадцатилетним мальчишкой, позарившимся на его американские джинсы, выпуск которых никак не могла освоить наша легкая промышленность. Впрочем, по некоторым сведениям, это был не один мальчишка, а несколько, – ивановская милиция, занятая более важными задачами, так и не смогла раскрыть дела, и мама писала жалобу министру внутренних дел Щелокову, но о Щелокове я уже написал выше…
Ничего мне неизвестно и о судьбе той женщины-машинистки (или, опять-таки, нескольких женщин), что решились перепечатать понравившийся им «Ответ Евтушенко». Порой мне кажется, что все разговоры о приводах и допросах – плод общественного воображения, но некоторый опыт времени да рассказы лиц, наотрез отказавшихся от появления в печати их фамилий, убеждают, что это не так. И тогда я думаю – что должна была чувствовать эта машинистка, доставленная в комитет государственной безопасности, что говорить и от чего отрекаться, – как думаю и о том, что должен был чувствовать мой отец, когда велел немедленно уничтожить мой самиздатовский список. Право, мой тогдашний детский страх не идет в сравнение со страхом этих людей, и от этого мне становится еще печальнее.
Хотя совсем в миноре завершать бы не хотелось. Многие отрадные моменты можно отыскать в жизни того же Иванова сегодня. Например, масло по карточкам получают уже все без исключения несовершеннолетние граждане города. А пельмени до сих пор продаются без карточек, и их завались в любом магазине. Если купить пельмени и завернуть их в десяток целлофановых пакетов, то они великолепно перенесут ночь в поезде до Москвы, где пельменей пока в недостатке – и, право, мне очень странно, почему приезжающие в командировку москвичи так не делают.
1988КОММЕНТАРИЙ
«Ивановский самиздат» был опубликован в коротичевском «Огоньке» – и я тут же стал лауреатом премии этого журнала (а было мне 24). Причем одним списком вместе с Петрушевской, Алексиевич, Адамовичем, Сергеем Хрущевым и полузабытыми ныне следователями-правдоискателями Ивановым и Гдляном. Денег лауреатам не платили. Но работавший в «Огоньке» Валя Юмашев (еще не ведавший, что станет главой президентской администрации и женится на дочке Ельцина) позвонил и сказал: «Старик, мы хотим, чтобы ты был в Ленинграде нашим собкором. Ты сделаешь величайшую глупость, если откажешься». Я согласился.
Второй раз он повторит фразу о «величайшей глупости» отказа в 1990-м, предложив обработать мемуары «одного очень важного человека». Я тогда только женился и собирался проводить медовый месяц на Черном море. А под «важным человеком», как впоследствии выяснилось, подразумевался Ельцин, – но я до сих пор полагаю, что поступил правильно, потому что знаю, как переломались судьбы тех, кто решил поиграть во власть или с властью.
В Иванове я редко, но бываю. Там многое изменилось: например, текстильные фабрики превратились в шопинг-моллы. Но там по-прежнему живет моя мама – в этом году ей исполняется 74 года. Поезд из Москвы до Иванова ходит все с той же регулярностью и все с той же скоростью.
2014#CCCР #Иваново #Россия #Петербург #Нидерланды #Амстердам Жизнь за царя
Теги: Настоящие ивановские пацаны. – Фальшивые голландские гопники. – Всеобщий эквивалент цены жизни.
Я – русский человек.
То есть, будучи настроен критически по отношению к своей нации (которая после шести веков деспотии, рабства и, по формуле ознакомившегося с деяниями советской власти Эйнштейна, «трагедии человеческой истории, в которой убивают, чтобы не быть убитыми» – дает для критики поистине русский простор), я обладаю теми чертами, какие сам и ругаю.
Ну, например, я с легкостью переношу во внешний мир, полагая универсальным и повсеместно распространенным тот склад жизни, который только и сложился, что в моей банке с пауками (где я – один из пауков).
Например, я с детства был уверен, что настоящий мужчина должен доказывать честь и достоинство в прямой простой драке – тогда, когда встречает против себя прямой и простой напор.
Искренне полагал. Хотя рос болезненным, тщедушным и рано очкастым мальчиком, представляя собой плохо заточенный под драку инструмент.
А вокруг меня был город Иваново, с мешаниной параллелепипедных пятиэтажек, застилавших небо едким паром фабрик и деревянных домов «частного сектора».
Я рос во дворе, образованном пятиэтажкой и задами этого сектора, уклоняясь сколько возможно от драк и невероятно страдая от уклонения (тогда мне было еще не известно слово «рефлексия»). Ни у одного ивановского мальчика, даже у последнего еврейского задроты со скрипочкой в руках – да будь он трижды будущий Кремер! – не было шанса избежать двора.
Внутри своей компании во дворе не дрались, но две остановки влево, вправо, вверх или вниз от центра мира приводили в новый мир, где к тебе подходили цыкающие слюной мальчишки, спрашивали двадцать копеек и били морду просто за то, что ты пересек границу, отправившись в магазин «Юный техник» за пилочками для лобзика, надеясь втайне, что в продаже будут те, что на концах содержат гладкую плоскость, а не те, что по всей длине состоят из зубчиков. Потому что те, из сплошных зубчиков, имели паскудное свойство гнуться туда-сюда при пилке фанеры.
И я дико боялся, конечно, пацанов из других миров, и презирал себя, но сомнению подвергал не справедливость такого мира, а лишь собственную смелость. Однажды возле моего двора из сугробов и тьмы материализовался разивший сивухой детина лет эдак семнадцати. Он молча приблизился и деловито дал мне меж глаз. Очки разлетелись вдребезги, шапка взмахнула крыльями кроличьих ушей, я, захлебываясь слезами, рванул домой и, двенадцатилетний, в истерике катался по полу – и отказался идти искать шапку даже вместе с отцом и дедом. Они потом нашли ее без меня. Жуткая та была ночь перед Новым годом. Я встретил его, упрекая и укоряя себя, принимая решение с утра 1 января накачивать мускулы, – за неимением гантелей утюгами, как делал когда-то Борис Лагутин, боксер и олимпийский чемпион, о чем я вычитал в подаренной на Новый год книге «Мужчинам до 16 лет». Утюги в нашу с Лагутиным эпоху действительно были еще тяжелы.
Эта мучительная рефлексия с неизменным самооговором тащили меня по жизни долго (драк я не так и не смог избежать, и дрался, некрасиво выбрасывая вперед руки, чтобы защитить лицо, лет примерно до девятнадцати), пока банка с пауками не разбилась вдребезги, как мои детские очки, – от пинка Горбачева.
В новой реальности, помимо прочего, появились ночные рестораны и поездки за границу.
В Голландии я жил у своего друга Игоря Drozdov’а, который делал первые шаги к иногражданству, то есть уже щебетал щеглом на языке, вмещающем чуть не две дюжины вариаций звуков «х», начинающих царапать ухо сразу в аэропорту Скх-х-хипхол. В один прекрасный день мы прогуливались вдоль амстердамского канала Кайзерсграхт, когда к нам подвалила группка из человек пяти страшномордых парней в прошипованных «косухах» и таких же напульсниках, с банками пива в руках. Я с тоской ощутил чувство, которое мужчины в подобных ситуациях никогда не называют вслух: не обоссаться бы. Страшномордые что-то гаркнули. Drozdov ответил хрипяще. Они отвалили, вскинув руки в салюте: спасибо, братан! «Спросили, который час», – равнодушно сказал Игорь и, взглянув на мою физиономию, расхохотался: «Эти здесь абсолютно безопасны!».
Мы были тогда беззастенчиво, лихо бедны. Вместо одеяла Drozdov выдал мне бархатное красное знамя в имперском шитье, славящее передовиков труда. Он вывез уцененный на родине стяг, надеясь в Голландии хорошо толкануть, но тут Горбачев ввел в Вильнюс войска, и цена империи в глазах Европы упала. Перед сном Игорь рассказывал о технологии устройства местной жизни, и я запомнил совет: относиться к любой трате свыше 20 долларов как к инвестиции (подняв планку до 50 долларов, я нахожу его и сейчас не утратившим оценочной силы).
Спустя лет пять Drozdov приехал в выкатившуюся из СССР Россию – главой торговой площадки голландского банка, между прочим. Ему полагались машина и дача в «Жуковке-2». У меня жизнь тоже неслась ракетой вверх, в Питере я расселил большую коммуналку… Drozdov приехал ко мне на выходные и смотрел вместе со мной, как сквозь заклеенные скотчем битые стекла окон, на фоне подсвеченных луной облаков, проступал шпиль Петропавловки. «Тебе нужны будут декоратор и архитектор, – сказал Игорь. – Слишком большая квартира. У тебя есть вкус, но нет опыта применения вкуса. Жаль будет все испортить».
Под оперными облаками с луной мы поехали в ночной бар «Трибунал». Игорь встретил там каких-то голландцев, они заскхрипели. Я наслаждался жизнью, в которой есть все – бельгийское пиво, Петропавловка в окне, не закрывающиеся в ночи ресторации – и пропустил момент, когда в интонациях разговора что-то тяжело переменилось. К столику подвалили какие-то русские – кажется, бизнес-партнеры голландцев. Впрочем, тогда все были бизнес-партнерами. Партнеры громко и нервно говорили на дурном английском, посыпая речь, как перцем, словом fuck, и в итоге схватили Игоря за пиджак.
«Секундочку», – сказал я и, поманив официанта, шепнул ему на ухо: «Позови начальника вашей секьюрити, быстро». Я был в восторге от владения новой техникой эффективного гашения публичного конфликта, а точнее, достижения справедливости. Я далеко ушел с ивановского двора.
Когда нервные на секунду отодвинулись от стола, я сказал Игорю, чтобы он не волновался, что все будет улажено в лучшем виде, но Игорь кивнул нервным мужикам – «Мы отойдем на минуту!», неспешно повлек меня из-за стола, но не в туалет, а к гардеробу, где мгновенно схватил куртки и выставил меня наружу, с размаху швырнув в нутро «жигулей» застывшего в ожидании Годо бомбилы.
«Ты поступил трусливо и несправедливо, – сказал я в машине Drozdov’у. – Испортил мне вечер. Пришла бы охрана, разобралась бы. А хамов надо наказывать». – «Извини, – ответил Drozdov. – Я просто оценил риски. Наши головы против их голов. Я отвечаю за представительство банка и за деньги клиентов, а еще за свою семью. А если у этих был кастет или нож?» – «Они теперь думают, что мы позорное дрефло». – «Знаешь, мне абсолютно плевать, что эти там обо мне думают».
Я понимаю, что он говорил, как колонизатор об аборигенах, но не мог не признать, что сила логики была на стороне колонизатора (а на какую силу еще опираться, когда под рукой нет силы оружия?).
Я с того дня много-много-много чего пережил, и не пишу «много лет» только потому, что глупо измерять жизнь оборотами планеты вокруг звезды, как и оценивать жизнь деньгами, – всерьез полагая их всеобщим, то есть абсолютно на все сферы жизни распространяющимся, эквивалентом.
И, кстати, довольно многое в своей жизни забыл.
Но ивановские дворы, голландский разговор про 20 долларов и бегство из «Трибунала» помню хорошо.
В природе, хочется мне сказать, подводя некий промежуточный итог жизни, нет понятия справедливости, нет понятия добра и зла, нет никакой морали. Более того: в природе у жизни нет никакого смысла и, как следствие, цены.
Все оценочные категории привнесены в мироустройство исключительно человеком, и оценочных шкал – как и систем морали – количество такое, что голова кружится, как от вида неба в звездную тихую летнюю ночь. Потому что вариантов жизненного устройства на Земле бесчисленное количество. И сила мужчины не в том, чтобы биться с врагами в рамках тех координат, в которых родился, а понять границы своей географии, за пределами которой начинаются другие координаты, в которых твои враги оказываются просто несчастными сопливыми мальчишками, которых родители произвели по залету в городе Иваново, и он, есть ощущение, тоже был создан по залету, как многие тяжелые несчастливые русские города.
И тогда окажется, что все эти отчаянно пацанские «жить – Родине служить», «жизнь – Родине, честь – никому» – такая же фальшивая система, если уверовать в нее как единственно возможную. У нас низка цена жизни и велик процент драк с поножовщиной не потому, что мало зарабатывают, много пьют или что в русской ДНК образовалась прореха. А потому, что на всех распространяется единственная система координат, при которой во главе царь, а остальные принадлежат царю, и жизни их принадлежат царю, и цену их жизням дает царь, а до кого не долетит взор царя, тому и ярлычка с самой малой ценой не приклеить, вот и живут они свой коротенький век низачем и никак, цепляясь за то, что совсем уж бессмысленно на других берегах, то есть за величие трона, деликатно прозываемого словом «отчизна».
Сильный мужчина – не тот, кто обхватил близрастущее дерево и бьется за ветви и корни до последней капли крови и падает, бездыханный, в борьбе. Это как раз слабый, неповзрослевший мужчина. Сильный мужчина – тот, кто идет по лесу и изучает его, а потом выходит из леса и обнаруживает еще и поля, реки, моря, заснеженные шапки полюсов, движение планет, созвездий, Вселенную, и пытается понять их законы, и уклоняется от опасности, а понятие «справедливость» трактует исключительно в применении себя самого.
То есть наполняет свою жизнь смыслом миссии путешественника, чем придает ей цену.
Только это цена выражается не через деньги, а через объем познанной Вселенной.
Хотя это и не означает, что стоимость экспедиции – включая защитный шлем и ремни безопасности – невозможно или не нужно включать в жизненную смету, заведомо, вне цены, расценивая как инвестицию.
2011КОММЕНТАРИЙ
Этот тест был написан по заказу журнала «Медведь» – точнее, по просьбе тогдашнего главреда Бори Минаева, с которым я знаком тьму лет и даже вместе работал в «Огоньке» (у Минаева есть дивная, тихая, прозрачная повесть «Детство Левы»: рекомендую). Чуть ли не сразу после публикации «Медведь» остановил выход на бумаге, так что было очень любезно сначала заплатить мне гонорар и только потом впасть в кому.
Бывают такие подарки судьбы (я не про гонорар, и уж тем более не про кому): предложение написать про то, о чем давно думал, но никак не находил повода. Для меня было важно написать не про низкую цену жизни в России. И даже не зафиксировать формулу русской жизни как автократии. А сказать: автократия («жизнь за царя») никогда не была предопределенностью страны. Но почти всегда была – увы! – результатом выбора на развилке. Не верите – прочитайте хоть «Россию при старом режиме» Ричарда Пайпса, хоть «Трех царей» Эдварда Радзинского, хоть конспективный труд «История России от Рюрика до Путина» Евгения Анисимова.
Да, крайне печально, что выбор был именно таков.
Впрочем, это же означает, что мы – страна не без выбора.
2014#Россия #Екатеринбург Грязное дело
Теги: Почему тяжка жизнь уральской красавицы. – Почему восточный Берлин не западный. – Почему в коммунальной квартире хреново.
Я вернулся из Екатеринбурга, в который раз досадуя, что куда у нас ни лети – от Архангельска до Хабаровска – все везде одинаково.
Церковь-новодел; туша бывшего обкома; щепотка дореволюционных домишек; уныние брежневских панельных домов. И сбоку припеку – частные кафешки со столь спорыми официантками, что, верно, и беременность у них длится месяцев 18. А живут они бедно, поскольку получают по труду.
Впрочем, Екатеринбург отличался от других городов тремя вещами: девушками невероятной красоты и ухоженности; бьющим в глаза изобилием бутиков вроде Max Mara (девушки и бутики наверняка состояли между собой в преступной связи), а также покрывающей абсолютно все, от каблучков до ступенек, серой, особой, никогда прежде мной не виданной грязью. Слой в палец толщиной, не меньше. Будто выпустили кишки цементному производству.
Много городов и стран я повидал, и красавицам, а уж тем более бутикам, давно не удивляюсь, но вот российская грязь, не говоря о екатеринбургском замесе, поражает как в первый раз. Поскольку она отсутствует в иных странах (впрочем, за Африку и азиатскую глубинку не ручаюсь), то объяснений ее появлению, кроме пресловутого «умом не понять», я долгое время дать не мог.
То есть банальные объяснения известны: и развал ЖКХ, и карбюраторные «жигули» без катализатора, и промзоны в городской черте – однако это, друзья, байки. Потому что бывал я и в Париже в разгар забастовки мусорщиков, видел и в Таиланде дорожную полицию в респираторах (без них задохнешься от выхлопов грузовичков), и по финской Иматре (где сталелитейный завод) гулял. Однако чтоб грязь, грязюка, грязища – такого нигде.
Я даже как-то устроил в эфире на эту тему дискуссию, и звонящие кричали, что «грязь от пробок» (да видели б вы пробки в Лондоне!), «от климата» (господи, а в Хельсинки, что – климат другой?), «от отсутствия дворников» (да у меня в Москве они с 5 утра метут!), пока кто-то из слушателей, фыркнув, не сказал, что грязь есть внешнее проявление даже не бедности, а поощрения бедности. Что там, где бедность не порок, грязь будет всегда.
И я присвистнул, к справедливому гневу звукорежиссера.
Однако ж действительно так.
Грязь – всего лишь пустая почва, грунт, земля, разнесенная ветром. А чистый город – это отсутствие свободной земли, где существуют лишь асфальт либо газон, и больше никаких вариантов. Причем и асфальт, и газон разобраны до последнего метра – так что нельзя бросить машину иначе, кроме как на дорогущей стоянке, и жить в центре нельзя иначе, кроме как в дорогущем кондоминиуме, в цену которого входят частный садик и мытье тротуара с шампунем. И в этом центре бедный человек жить не может, ему тут места нет, но нет места и грязи. Бедный человек приезжает в центр города на общественном транспорте и ходит по чистым, ухоженным улицам пешком.
Разговоры в пользу бедных, ведущиеся богатыми (это лужковская идея, что городскую землю распродавать нельзя!), по сути своей являются разговорами в пользу грязи, которой, кстати, в Москве немногим меньше, чем в Екатеринбурге. О да, можно сочувствовать жильцам, протестующим против уплотнительной застройки, бьющимся за площадки для выгула детей или собак, за право парковать машину бесплатно, – но съездите-ка для начала в Берлин. Там идеально чист застроенный до скуки, вымытый до тоски западный сектор – но ветер метет пыль в разлапистом, расхристанном, зияющем пустырями да заброшенными фабричными пространствами Восточном Берлине.
Грязь – это коммунальное бытие городской земли, родственное бытию коммунальной квартиры, где красиво и чисто не бывает по определению. Нет ничего дешевле комнаты в коммуналке. Но нет надежнее способа превратить дворец в лачугу, как отдать его в коммунальное пользование.
И тут уж надо выбирать. Либо Акакий Акакиевич, социальная справедливость и грязь – либо чистый подъезд, быстрый официант, сверкающие штиблеты.
2005КОММЕНТАРИЙ
Вот и Лужков давно больше не мэр, и его жена больше не миллиардерша, и в Екатеринбурге уже давно не местный князь Россель, а присланный Москвой губернатор-надсмотрщик, однако грязь и ныне там.
Думаю, я правильно писал, что главная причина российской жизни в грязи в том, что у городской земли нет владельца.
Однако в 2005-м мне казалось, что хозяин отсутствует из-за «разговоров в пользу бедных», а теперь вижу, что был неправ. У московских, екатеринбургских, петербургских и каких угодно других русских земель есть теневой хозяин – это тот самый, назначенный Кремлем, смотритель. Это он реально распоряжается землей: проводит дикие, немыслимые в Европе аукционы «на право аренды» (торгуется не сама аренда, а право на нее!), подписывает разрешения на землеотвод под строительство и прочее. По сути, это – временщик, присланный на кормление (Москва и Петербург при Путине были даны на кормление Лужкову и Матвиенко практически так же, как в Х веке при князе Игоре древлянские земли были даны на кормление конунгу Свенельду). А временщик заботится не столько об удобствах горожан, сколько об извлечении максимальной прибыли. До земли же, неспособной дать прибыль, ему дела нет.
Вот почему у нас нет в городах частных земель, а есть грязь.
Разговоры же в пользу бедных – просто такому положению дел идеологическое прикрытие.
2014#Россия #Нижний Новгород Перестройка сознания снизу
Теги: Кризис смыслов и тренировки по эскапизму. – Барселонская жизнь и нижегородское идолище. – Камчадалы и популярность в пределах Нью-Йорка.
На выходных я был Нижнем Новгороде в качестве тренера. Где с радиожурналистами, съехавшимися со всего Поволжья – от Ульяновска до Казани – говорил о том, что, возможно, пришло время менять работу. И даже профессию. И меня за эту идею не закидали тухлыми помидорами.
Поездку оплачивал Фонд независимого радиовещания – негосударственная организация, по случайности недокошмаренная в эпоху строительства суверенной демократии. На деньги фонда журналисты даже из самых богом забытых мест приезжают на учебу в Москву или, допустим, в Нижний, где напрямую общаются друг с другом. Это не то чтобы халява – фонд оплачивает лишь часть расходов – но серьезное побуждение к действию.
Других возможностей для общения по горизонтали у журналистов в вертикально интегрированной стране мало. Была еще негосударственная организация Internews – я сам туда когда-то бегал на мастер-классы Игоря Кириллова – но ее уничтожили, «замочили в сортире», против главы Мананы Асламазян за провоз валюты сверх нормы возбудили уголовное дело, Манана эмигрировала во Францию.
В других странах таких профессиональных фондов – тысячи. Они объединяют людей по профессиональному принципу – от инженеров турбин до инженеров человеческих душ – и находят средства приглашать в качестве лекторов, тренеров, медиаторов диалогов тех, кто профессионалам может быть интересен.
А мне, повторяю, в этом году сочли разумным платить за то, чтобы я рассказывал – в том числе и про уход из профессии. Пчелы оплачивали агитацию против меда. И не потому, что я когда-то занимался радиожурналистикой на «Радио России» и «Маяке», а потом из этой профессии ушел, и даже не потому, что меня из профессии «ушли» и пускать в эфир перестали.
Главная причина в том, что в стране и в мире наступил кризис. Кризис смыслов. А кризис, будь то финансовый с потерей дохода или физический в виде потери здоровья, всегда заставляет людей задуматься – что происходит не так? Правильно ли они живут? Почему, вкалывая с утра до вечера, они не могут себе заработать на жилье? Нужно ли им такое жилье? И такая работа? Чем вообще они хотели бы заниматься? Ради чего жить? В чем их ответственность перед собой и перед богом?
Кризис – плохое время, чтобы думать о квартирах, машинах, бытовой технике и прочих потребительских пирожных.
Кризис – хорошее время, чтобы думать о хлебе насущном, то есть о своем месте на земле.
* * *
«Знаете, Дима, а ведь журналистика – действительно не мое. Мне нравится продавать. Я хотела бы стать риелтором.
Но когда я пришла на собеседование, мне сказали, что раз я журналист, то я несерьезный человек».
Так говорит Лена из Тольятти.
Перед этим я объяснял Лене и ее коллегам, что политической журналистикой сегодня в России не заработать ни на квартиру, ни на машину. Потому что журналистика – это передача информации и очистка смыслов, а очистка политических смыслов и передача информации в России мало кому нужна. Она даже не запрещена – запрет действует лишь на телевидении, – но она не востребована. Российский житель требует кривых зеркал, которые навевали бы ему сон золотой: что он живет в великой стране, с которой обязан считаться (и которую обязан бояться) весь мир, а если что не так, то виноваты НАТО и США.
С этим невозможно бороться – попробуйте-ка бороться с волной – и потому однажды необходимо принимать решение. Либо ты находишь другой источник дохода и сохраняешь профессию как хобби, либо меняешь профессию.
«Ведь те, кто остался на телевидении, они же сменили профессию? – ехидно спрашивает меня кто-то из Лениных коллег. – Они ведь переквалифицировались в пропагандисты? А кто не захотел, – те, как Парфенов, переквалифицировались в писатели?»
Парень, который спрашивает это, если я не ошибаюсь, – бизнесмен из Урюпинска. Радио – его хобби. Он делает деньги на том, на чем делает, а журналистикой занимается, потому что это занятие считает важным.
* * *
Фонд независимого радиовещания уже давно приглашает меня то в Вологду, то в Екатеринбург, то в Хабаровск, то в Казань.
Но впервые вне Москвы меня не спрашивают о том, о чем спрашивают всегда: легко ли устроиться в Москве на работу, сколько в Москве платят, почем снять квартиру. Более того, технические моменты поиска работы – список рекрутерских агентств, правила написания резюме, особенности прохождения собеседования, поиск работы через интернет – вообще мало кого волнуют. Зато бурно идет разговор о том самом кризисе смыслов, о котором я уже упоминал. О том, почему людей во всем мире перестала интересовать истина, а стало интересовать потребление. Почему среди героев времени нет ни математиков, ни физиков, ни лириков, ни путешественников, ни врачей, ни конструкторов, – а только участники телешоу. Почему всех перестало интересовать, как устроен мир. И не есть ли кризис расплата за это – за надутые щеки и закрытые глаза.
Впервые эти теоретические, спекулятивные рассуждения оказываются востребованы и интересны, а, казалось бы, практические вещи – нет.
Впрочем, и я впервые говорю не о том, как преуспеть в профессии.
* * *
У меня есть немного времени, и я отправляюсь гулять по Нижнему банальным туристическим маршрутом: от Кремля, где торгуют чудовищными поделками и путеводителями в десяток страниц по 200 рублей, вниз по пешеходной Большой Покровке. Но мне настоятельно советовали совершить именно такой променад, чтобы понять, в чем суть смеси французского с нижегородским.
И вскоре я понимаю.
Покровка – вполне мертвая пешеходная улица, по духу не отличимая от Арбата или от Малой Конюшенной в Петербурге, которые пешеходными стали не потому, что так сложилось, а потому, что так велело начальство. Чугунные «пушкинские» фонари. Стандартные сетевые магазины, точь-в-точь те же самые, что и в первопрестольной, и на Урале, и на Дальнем Востоке – от Sela и Oggi до Adidas и Reebok, с теми же неулыбчивыми продавцами, – и ни одной местной марки.
А через каждые метров пятьдесят – реалистической манеры бронзовые скульптуры в человеческий рост, возле которых родители фотографируют детей в вязаных шапочках. Первым мне попался бронзовый фотограф, и я улыбнулся: это была ухудшенная копия такого же фотографа в Питере. Потом пошли железные дамы с детьми и без, швейцары, дворяне, ремесленники, чистильщики, актеры, скрипачи, почтальоны – в немыслимом церетелиевском изобилии, разве что без церетелиевского масштаба… Смыслом сего было не совершить эстетическую революцию, а «подчеркнуть связь времен» (думаю, с такой формулировкой на них и тратились бюджетные деньги). Вскоре обнаружилась бронзовая коза, пользующаяся особой популярностью среди «фотографов» – я испугался, что дальше пойдут собачки и уточки.
Я вспомнил вдруг реконструированный порт в Барселоне, где создали рай для скейтбордистов, а доски на мостах проложили с щелями, чтобы ночью сквозь них в подсвеченной воде видеть косяки огромных рыб, вспомнил порт в Генуе, где устроили тропикарий для бабочек в виде стеклянного глобуса и установили гигантские парусиновые ветряки, – там была новая жизнь, а здесь были бронзовые идолы.
И когда я в отчаянии свернул в какую-то щель с надписью «Кладовка», уповая найти лавку старого барахла, – чуть не остолбенел. Дворик был расписан с яростью, какую можно еще найти в берлинских сквотах. Над головой плыли огромные деревянные скелеты рыб. «Кладовка» оказалась крохотным выставочным зальчиком для юных и наглых дарований. Две отнюдь не наглые и, боюсь, даже не вполне юные женщины взяли с меня 30 рублей «за экскурсионное обслуживание» и провели по выставке поделок в виде разнообразных кошек (ага, котики все же появились!), сопровождая словами: «это произведения искусства». Произведенные искусства меня не вдохновили, но под ногами был прекрасный пол из старых досок, а под потолком вместо люстры висело старое рассохшееся окно, что как идею следовало своровать.
А потом, когда разговор про котиков исчерпался, начался другой. Женщины рассказывали мне про новгородских ребят, которые устроили эту вот «Кладовку». И про их планы. И про то, как уничтожается старый деревянный Нижний, заменяясь монолитным железобетоном и новоделом, – у одной из них снесли прадедов особняк. И что на Покровке, это правда, живому человеку делать нечего, оттуда выселили единственный на весь центр гастроном, а с гастрономом ушла и жизнь, ведь не будешь ты каждый день заходить в Adidas. И что вообще ради денег все готовы на все. Вот, к примеру, был почти в самом центре Нижнего трамплин – так его разобрали, чтобы строить дома.
Они прекрасны были, эти не вполне юные женщины.
Им дико нравилась их «Кладовка» и их молодые художники. Они видели смысл в этой работе. Она была для них, я не сомневаюсь, настоящей жизнью.
Они сияли и давали мне секретные адреса злачных мест.
И вечером, когда мы с трудом отыскали свободный столик в арт-подвальчике «Буфет», где за 100 рублей можно заказать бараньи яйца или бараньи мозги, я вдруг вспомнил, что ни одна из женщин не пожаловалась на высокие цены или небольшие доходы.
Я так полагаю, они были готовы к кризису. И в некотором смысле через него уже прошли.
* * *
У меня скоро поезд, я спешу в общежитие лингвистического университета, чтобы собрать сумку. Общагу ремонтировали лет 10 тому назад в том же стиле, в какой устроена в Нижнем Новгороде Большая Покровка. Но на гостиницу у Фонда независимого радиовещания нет денег, да и мне грех жаловаться: в пяти минутах – Волга, я надеюсь побегать час по ее высокому берегу.
У моих бывших коллег по радио еще продолжаются семинары и лекции. В одной из аудиторий рассказывают о том, что такое институт независимых продюсеров и как эти продюсеры находят по всему миру гранты на создание радиопрограмм. «…И вот живет в Петропавловске-Камчатском Стас Зверев, никто его там не знает, но его программы обожают в Вашингтоне, Берлине и Нью-Йорке, где он кумир и герой», – долетает до меня.
У меня, кстати, еще с одной девушкой был разговор. «Ну а вы сами-то думали из журналистики уходить? – спросила она. – А то все говорят, но никто не уходит». Я ответил, что вот бывший глава Русской службы новостей Сережа Мерцалов не просто сменил профессию, а переехал жить в Ванкувер; что в Италии с недавних пор проводит половину времени Матвей Ганапольский… Да и мы с женой не отказываемся от идеи переезда на Атлантику, на берег басков. Нам там ужасно нравится, у нас там друзья, там дома дешевле, чем на Карельском перешейке, и есть даже идея открыть магазинчик товаров для спальни – всякие наволочки с вышивкой на местную тему, sachet из прибрежных трав… «Еще можно продавать натуральное мыло с ракушками внутри, – подхватывает с интересом девушка, – или ароматические свечи. Сувенир хороший, и всегда пригодится. Мы с мужем тоже об этом думали. Бизнес такой начать. Потому что у нас ничего на память не купить, одни тарелки с церквями».
Господи, как ее звали, из какого города она была?! М-да, мы не одиноки во Вселенной.
2008КОММЕНТАРИЙ
Мы с женой не купили домик в баскском Сен-Жан-де-Люзе и не открыли на Атлантике магазинчик (мы и домик под Петербургом-то не построили).
У Ганапольского что-то там не сложилось с Италией, и он стал сначала работать в Грузии, а потом вернулся в Москву.
На месте старого трамплина в Нижнем построили не только новые дома, но и канатную переправу через Волгу, а также, в качестве социальной нагрузки, мечеть, после чего цены на квартиры в этих домах упали.
Все именно так и произошло.
А еще я почти перестал ездить на машине (все равно одни пробки), зато купил новый велосипед и стал в разы больше читать.
Что, безусловно, следует отнести к благодатным последствиям кризиса.
2014#Россия #Нижний Новгород #Красноярск Страна овец
Теги: Про запрет на политику в законодательном собрании. – Про запрет на эфир жуликами и ворами. – Про опасность игр в снежки и про новый срок Владимира Путина.
За неделю до российских парламентских выборов я проехал маршрутом от Нижнего до Красноярска. То есть я видел предвыборное прошлое страны. Которое в тот момент мне казалось также и лишенным выбора будущим.
Но начну все же с прошлого.
В Новгород я был зван читать лекцию. Одна крупная структура проводила большой журналистский семинар по производственной тематике и хотела, чтобы я поделился прогнозом на развитие медиа. Зная, возможно, мои взгляды на то, что FM-радио скоро просто потеряет смысл; что собственную интернет-радиостанцию (и собственное вещание) за три копейки сможет устроить каждый; что лицензии, частоты и Роскомпечати тоже потеряют смысл; что человек за рулем в эпоху сетей 3G и 4G получит возможность выбирать не из 52 (как сейчас в Москве), а из полумиллиона радиостанций. А с учетом того, что программы преобразования текста в голос вот-вот ворвутся в мир, конкуренцию интернет-радио составят голосовые газеты, голосовой ЖЖ, голосовой твиттер…
Встречал меня на вокзале один симпатичный предупредительный мужчина, работавший в аппарате местного заксобрания – там, под эгидой профильного комитета, и проходил семинар. Мужчина учтиво нес мою сумку и провел очень недурную экскурсию по дороге в гостиницу. Он же встречал меня на следующий день (мероприятие проходило в стенах заксобрания в кремле).
На семинар приехали, надо сказать, и коллеги неюных лет из дальних нижегородских районов, и вы понимаете, с какими лицами они сидели, когда я говорил, что дети в Москве уже не понимают, почему телевизор – это «ящик», поскольку для них телевидение – это айпэд. Что интернет-медиа вообще уничтожают привычные СМИ. Эти люди во всякую чушь не верили. И тогда я привел простой пример. «Скажите, – спросил я, – какую партию в нашей стране называют партией жуликов и воров?» Зал засмеялся. «Между тем, – продолжил я, не называя партии, – это определение, данное блогером Навальным, распространялось исключительно через интернет. По государственным телеканалам о Навальном – а он, возможно, наш будущий президент – не говорят. Фразу про жуликов и воров на госканалах не употребляют. Однако даже те, кто не знает, что такое интернет, знает, что такое партия жуликов и воров».
А когда я закончил, мой провожатый вдруг кинулся к микрофону и с отчаянием стал призывать не устраивать политические дискуссии в стенах заксобрания. А затем подошел ко мне и с укоризной спросил – как же я мог критиковать «Единую Россию»? Разве я не знаю, что главой заксобрания в Нижнем является лидер фракции «Единая Россия»? (Да, теперь я знал – а какая еще партия в лидеры определит дядю, тоскливо долдонящего текст по бумажке при открытии семинара?) И еще – как я мог усомниться в президенте Путине?
Знаете, моя любимая метаморфоза – это превращение российского мужчины в овцу. Апулей и Овидий отдыхают. Наш мужчина превращается в дрожащее животное так быстро и массово, что в этом и состоит единство нации. Но все же я довольно спокойно ответил, что Путин пока что никакой не президент, и, возможно, президентом и не будет, если его прокатят на выборах. И что законодательное собрание есть собрание представителей граждан любых политических взглядов, а не чайный домик одной партии. И мужчина, услышав, что Путина, оказывается, можно и не избрать, застыл с видом уже не овцы, а переклиненного робота из старого фильма «Отроки во Вселенной». Так что я не стал спрашивать, женат ли он, есть ли у него сыновья, и на каких примерах он объясняет им, что такое мужское достоинство.
Про достоинство мне потом напомнил шофер, сказавший, что сам когда-то был дураком, когда верил тандему – «А они, оказывается, там все сами порешали, и этот потом перед нами Петрушку четыре года валял!» – и что ему теперь стыдно за свое поведение, потому что ему главное было – машину купить, а какой прок в машине, если может случиться революция? Вон жулики и воры отрапортовали об очистке города от снега, и весь Нижний потом хохотал: чтобы столько кубов снега вывезти, нужно, чтобы засыпало на три метра!
…Из Нижнего я улетал в Красноярск. Там был конкурс местных радиостанций. Сибирь вообще по силе местной журналистики – один из главных регионов страны. У них в прямом эфире идут дискуссии, подзабытые в центре. Пока ждал пересадки, пришли новости из Хакасии. Редакция радио «Абакан» чуть не в полном составе уволилась. Потому что они собирались в прямом эфире обсуждать две темы: первую – возможный запрет на пропаганду гомосексуализма, а вторую – нужен ли нам Путин на третий срок? А им позвонил человек из партии жуликов и воров и попросил не обсуждать обе темы вместе, и они психанули, этот звонок записали и выдали в эфир, и сказали, что работать под давлением не намерены. И, повторяю, уволились, хотя Абакан – это не Москва, где можно другую работу найти. Их коллеги, съехавшиеся в Красноярск, бурно обсуждали произошедшее: этично или неэтично было телефонный разговор записывать (вопрос о том, этично или неэтично давить на журналистов, не обсуждался: по умолчанию подразумевалось, что жулики сраму не имут).
А я сидел и слушал программу радио «Абакан», где обсуждался случай с депутатом Черногорского горсовета Катаревым. Там, в городе Черногорске (это, как и Абакан, – Хакасия), дети играли в снежки и попали снежком в депутата. А депутат достал травматический пистолет и открыл огонь; одного мальчишку отвезли в больницу. И вот это обсуждалось. Хотя, казалось бы, что тут обсуждать: я думал, звонки будут – типа, отдайте Катарева нам, мы его четвертуем, а журналисты в ответ – нет, давайте по закону.
А знаете, что там, в абаканском эфире, в итоге было? Там каждый второй звонивший настаивал, что виноваты в случившемся сами дети. Точнее, родители детей, дурно детей воспитавшие. То есть я не верил своим ушам – что-о-о?! – но очередной звонивший простодушно объяснил: ну, родители должны были объяснить детям, что опасно играть на улице, потому что можно попасть снежком в человека из власти. То есть блеявшая овца обвиняла родителей-овец в том, что не объяснили ягнятам, как в овцах жить. Я не сильно преувеличиваю.
А потом я слушал эфир томского «Маяка», шедший в день памяти жертв политических репрессий. И там большинство звонков было тоже от овец, блеявших, что «Мемориал» врет, говоря о миллионах жертв! Жертв было никак не больше полумиллиона, а скорее и того меньше! И при Сталине в загоне был порядок! И одна овца даже объяснила, что подразумевает под порядком. На мясокомбинат, то бишь в лагерь, при Сталине отправили деда овцы. Но через полгода выпустили, потому что разобрались. Вот так-то, съели?! А вы – репрессии, репрессии! Сталин войну выиграл, Путин нас накормил!
И, если честно, после этого три дня в Сибири виделись мне сквозь некую пелену. Из этой пелены вставало бескрайнее, на девять часовых поясов, пастбище, где овцы считали разумным и нормальным, что их режут и стригут, и блеяли разве от того, что забор между теми, кого должно стричь, и теми, кто стрижет, не слишком заметен. И было ясно, что если просто уничтожить загон – овцы построят новый.
Я гулял по красноярскому заповеднику «Столбы», я любовался Енисеем на морозе, когда сброшенная плотиной вода превращается в туман, я видел увешанный предвыборными щитами Красноярск. Я даже ответил коллегам на вопрос про случившееся в Абакане. Я сказал, что, да, приходя в отчаяние, в ярость, будучи загнанным в угол, можно отказаться быть овцой, но за право быть человеком придется расплатиться как минимум потерей работы.
Но ведь не тюрьмой же.
Тогда я еще не знал, что случится в Москве и Питере 5 и 6 декабря.
Тогда я не знал, что тех, кто откажется быть овцами, будут бить, а 1-й канал, «Россия» и НТВ ни слова не скажут тем, кто живет в Сибири, но не знает, что такое интернет, что в Москве ОМОН избивал мирную демонстрацию возмутившихся фальсификациями на выборах, – и будут врать, врать и врать, что москвичи и питерцы 5 и 6 декабря весело праздновали победу любимой партии.
То есть я не знал, что всего за неделю дихотомия русской жизни изменится.
С «если ты не овца, то ты без денег» на «если ты не овца, то ты можешь лишиться свободного выпаса».
И гарант проблеет, что ничегошеньки-ничегошеньки не случилось.
А тот, который отвоевал себе право резать любую свою овцу, – он, разумеется, до разъяснений не снизойдет.
И должен признаться, что не знаю, что в такой ситуации делать. Бежать из загона? Очеловечивать овец? Выводить новую породу? Самому не превращаться в овцу? Читать Пушкина – «их должно резать или стричь»? Выходить на площадь?
Вот, некоторые выходят.
И овечий телевизор доносит:
– Бе-ее-е-е… бе… бе…
2011КОММЕНТАРИЙ
Этот текст не был опубликован в «Огоньке» – как мне объяснили, потому, что «опоздал» (но теперь, когда в «Огоньке» политический огонек притушен до минимума, мне кажется, что вовсе не потому). Ответ на вопрос «что делать?» был уже дан Болотной площадью. В 2012 году Путин снова стал официальным президентом России, ознаменовав возвращение в хозяева страны инаугурационным проездом по абсолютно пустой, вычищенной от людей Москве, и Россия стала все больше походить на какую-нибудь Белоруссию. Вон в Белоруссии Лукашенко запретил выходить в интернет без паспорта – так и у нас идет к тому же. Тем более исторический опыт есть: еще Павел I вводил запрет на ввоз из-за границы «всякого рода книг, на каком бы языке оные не были», а заодно и нот. Любопытно: сейчас, когда вы про это читаете – Лукашенко все еще на троне? Или к нему в ночи уже заглянул граф Пален?
Вывести из себя ведь могут не только перемены, но и отсутствие перемен…
2014#Россия #Волгоград Почему я предпочел бы Рюрика
Теги: Имперский туман Волгограда. – Вучетич, инвалиды и туалеты. – Биргардены на Волге.
Я вынужденно задержался в Волгограде – сначала была метель, а потом туман, и самолеты не летали. Но сквозь туман было видно, как город пытается поставить себе на службу советское прошлое. Жалею, кстати, что не побывал в пионерах в Волгограде, на школьной экскурсии. Любопытно было бы сравнить тогдашнее советское ощущение с нынешним, – когда никакой идеологии, а чистый восторг.
Ведь что знает сегодняшний турист про Волгоград? Мамаев курган, Сталинградская битва, споры об имени: одни за Сталинград, другие за Царицын (споры о том, откуда происходит «Царицын», утихли: тут заимствование из хазарского словаря, такое же, как у Царского Села из финского). Ну, в общем, информация историческая. А из современности – «танцующий мост» через Волгу, смотри рутьюб.
Но когда я прилетел, то увидел другое. На меня из тумана мощнейшими колоннами, капителями, фронтонами, портиками – выплывали Афины, Рим, империя. Дело было в архитектурных пропорциях, несомненно. Вот циклопический железнодорожный вокзал – в абрисе как бы шехтелевский, то есть московский Ярославский вокзал, только выполненный в сталинскую эпоху, сталинскими архитекторами и по сталинским представлениям о красоте (я вздрогнул, вспомнив циклопический вокзал в Милане. У Муссолини была сходная эстетика: огромное – значит красивое). Вот огромная, слоновья колоннада Педагогического университета. «Сталинские» с эркерами, портиками, башенками, нишами жилые домищи. «Сталинские» присутственные местищи. «Сталинские» (копирующие Парфенон) театрищи. Плюс планетарий – по виду парижский Пантеон, только со статуей на темечке купола. «Сталинской» роскоши гостиница «Волгоград», – с четырехметровыми потолками в номере, с коврами, бронзой, мрамором, маркетри, наборными паркетами, хрустальными люстрами, швейцарами с галунами. А вместо развалин Колизея в Волгограде – военные руины, которые турист ошибочно называет «домом Павлова», но местный житель называет «Мельницей», ибо стоящий напротив дом Павлова цел-целехонек: в нем, мне сказали, ныне «элитное жилье», оно продается с повышающим коэффициентом «2».
И вот я норштейновским ежиком бродил по этому туману империи, а когда туман рассеивался, вскрикивал. Потому что новое строительство в Волгограде имело связь с деньгами, но никакой связи с тем городом, что был выстроен после войны. А в советско-ампирной гостинице «Волгоград» работал ресторан, отчего-то называвшийся «Мольер». И в гостиничном холле висели подсвеченные фото Сталина, Горбачева и Уго Чавеса. Вместо ванной же в номере была дырка в полу, и этой воде не было слива, вода стояла озером, а постояльцам выдавались шлепки на толстенной подошве, так что они ходили по ванной апостолами Андреями. А в коридорах висели марины с тонущими кораблями и виды Берлина. И это был уже совершеннейший сюр, которого никто – ни улыбающаяся девушка на ресепшен, ни улыбающиеся горничные, а в Волгограде улыбались все! – в общем, никто, кроме меня, не замечал.
ЧТО ПОЛУЧИТЬ И ОТ ЧЕГО ОТКАЗАТЬСЯ
Нет, я отнюдь не считаю волгоградцев простаками, не видящими ценности и цельности эстетики сталинизма. Мне один раз даже сказали: «Мы – Волгоград, а «Сталинград» – это наша торговая марка, ну, это как «Вымпелком» и «Билайн»!
Нигде, повторяю, ни в одном другом областном городе я не видел такого размаха, такого масштаба, таких архитектурных пропорций. Даже в Москве «сталинская» архитектура теряется на фоне прочих эпох и стилей – в Москве, чтобы оценить эстетику сталинизма, надо не бродить по холмам, а спускаться под землю в метро.
Но чтобы понять, как советское наследство соотносится с обычным человеком, в Волгограде нужно отправиться туда, куда отправляются все, – на Мамаев курган. Некогда безымянная высота 102 и правда впечатляет. 200 огромных ступеней по числу дней битвы (на ступенях – надпись: «За нашу советскую Родину! СССР!). Пирамидальные тополя, стены-руины, статуи героев, воды Стикса, скала с прорастающим торсом маршала Чуйкова, – все это сквозь туман. Скульптор Вучетич был, скажем так, неоригинальным художником, – но как хорошо, что он таким был. Скорбящую мать он подсмотрел у «Пьеты» Микеланджело, Родину-мать позаимствовал у Эрнста Неизвестного, все прочее – у греков и римлян, но в итоге курган стал отражать величие битвы и трагедию смерти, а не идеологию СССР. Вучетич – в отличие от Церетели в Москве – работал на вечность, пренебрегая мелочами вроде посетителей, которые у подножия 87-метровой Родины могут валиться с ног от усталости (или не иметь ног вовсе, будучи инвалидами войны), а также хотеть поесть, попить или даже пописать.
Так что ничуть не меньше трагедии, запечатленной в камне и бетоне, меня потрясло то, что на Мамаев курган ветераны должны были подниматься только по лестнице – там не было и нет подъемника для инвалидов. На всем гигантском кургане во времена СССР не было ни единой скамейки. Ни одного фонтанчика с водой. Ни одного кафе и ни одного туалета. Кафе с туалетом и киоск сувениров, торгующих аляповатой родиной (той, которая с мечом) – появились недавно. «Туалет коммерческий, – сказал, улыбаясь, человек на входе. – Восемьдесят рублей. Только ключ у бармена, а бармен ушел. Будете ждать?».
Я покачал головой и пошел прочь, надеясь, что это была шутка. Ботинки промокли. На Мамаевом кургане снег чистили. Но в городе не чистили, а попросту ждали, когда сам растает.
ПОЗОВИТЕ ВАРЯГОВ
К третьему дню пребывания в Волгограде у меня голова кругом шла. Не только потому, что сайт аэропорта сообщал о регулярных вылетах и прилетах, а по телефону диспетчеры отвечали, что аэропорт закрыт наглухо.
Я сидел в гостинице, где было все – беспроводной интернет, Сталин и виды рейха, советский ампир и господин де Мольер, – и понимал, что современный русский как ребенок: он хочет всего и сразу.
– А ты считаешь, мы должны скрывать, что здесь Сталин жил? – сказал мне обиженно один из местных. – Это наша история!
– Ни в коем случае скрывать не надо! – ответил я. – Но я представить не могу, чтобы в отеле Adlon в Берлине висел портрет Гитлера на том основании, что там бывал Гитлер. Фотографиям Гитлера, как и Сталина, место в альбоме, который тем и хорош, что фиксирует, а не дает оценок. А на стене – место тому, чем гордятся. Или тому, что подходит по стилю. Я понимаю, что картины с видами Германии гостинице подарили, но вообще-то здесь место соцреализму, «Битвам за урожай» или «Сталеварам во Дворце съездов». Хороший стиль, понимаешь ли, это не когда богато, а когда есть соответствие, перекличка.
– Хм, логично… – откликнулся мой собеседник. – Ну что, звоним в аэропорт?
И потом, по дороге на рейс, задерживавшийся на сутки, я думал, что, пожалуй, наши города не так уж и одинаковы. И что людей, желающих не разрушать прошлое, а вписать в него настоящее, тоже хватает. Им не хватает лишь малости – знания стандартов. Через эту перекличку времен уже прошла вся Европа, и многому научилась. Гостинице «Волгоград» не хватает не бархатных штор с бомбошками и ламбрекенами, а западного управляющего, хорошо осведомленного, где место тиранам и каковы требования к санузлам.
А когда я садился в самолет, то подумал о том, что городу Волгограду тоже, пожалуй, не хватает управляющего из варягов. Чтобы установил правила архитектурной игры, например. Чтобы не вызывали оторопь наглые новые башни, выросшие на берегу Волги из ниоткуда. Чтобы общественный транспорт в городе ходил по расписанию на электронном табло.
Чтобы тротуары, черт побери, чистили либо же посыпали песком.
А когда самолет отрывался от земли, то я политически некорректно подумал уже о том, что на президентских выборах 2012-го я бы, пожалуй, проголосовал за Рюрика. А что? Прецедент был. Тогда земля была богата, да не хватало порядка. Сейчас тоже вон полно всего, но не хватает стандартов. А стандарт – он и есть порядок.
А когда самолет приземлялся в Москве, я вдруг вспомнил, что было в Волгограде одно местечко – технологически, так сказать, безупречное. Немецкая пивнушка «Бамберг», где было весело, дешево и очень вкусно. Я в таких многих бывал в Баварии, где и находится город Бамберг. Пивнушка, кстати, располагалась в паре минут от «Мельницы» и музея Сталинградской битвы. И, что радует, это ничьих протестов не вызывало, потому что в хорошем и грамотном заведении любой нормальный человек не чувствует ни малейшего оскорбления идеала, а чувствует ровно то, что чувствует немец во французском ресторане или француз в швабском биргардене – радость и удовольствие от жизни.
2010КОММЕНТАРИЙ
У меня однажды возникла идея обставить квартиру в «сталинском» стиле (мы живем в «сталинском» доме), но я быстро понял, что это безумие. Ни диванов с высоченной спинкой и валиками по бокам, ни секретеров с полукруглой сдвигающейся крышкой, ни сервантов пальмового дерева – к нашему времени не сохранилось ни-че-го. А то, что сохранилось (вентилятор в виде пограничника Карацупы), шло и идет по цене хороших каминных часов времен александровского ампира.
К увиденному мною в Волгограде это замечание, впрочем, имеет малое отношение. Просто давно хотел об этой мимолетной печали упомянуть.
Но жанр комментария и предполагает, скорее, скромное замечание по поводу, нежели развернутую парадигму.
2014#Россия #Ростов-на-Дону Казаки и гопники
Теги: Казаки, суши и «Маргарита». – Гопники, Nike и аутентичность. – Документальное кино, любовь и мат как лингвистический транспорт.
Казаки в Ростове-на-Дону – хмельные, с иконами, с толстозадыми бабами – смотрят на тебя начиная с аэропорта. Потому как сувенирные. Эта казачья самоирония прекрасна. Я упивался ею, поехав в Ростов на уикенд по делу.
Это был не первый мой приезд. Но в первый там боролись со снегом методом самотаяния, и по городу было особо не погулять. Запомнилась невероятная южная архитектурная пышность, которой навалом, скажем, в Праге, а вот в России практически нет. Не просто пламенеющая эклектика, когда все в кучу, много и сразу; не просто кремовый торт здания городской думы, – а весь старый город этим кремом мазан, всюду эти архитектурные марципаны, на каждом дореволюционном домишке. Ими покрыт весь центр, начиная с крутобедрых улочек возле собора и рынка, моющих ступни в Доне – и южный город производит сильное впечатление сочетанием изобилия с покосившимися хибарами, а также с той грязью, которой город покрыт.
Надеюсь, вы меня поняли: Ростов мне даже нравится, потому что грязь у нас всюду, включая Питер и Москву, это наш такой цивилизационный маркер, – а вот пышный историзм в России не везде. Всюду у нас как раз все одинаково уныло (или почти одинаково, или почти уныло), Иваново от Тюмени не отличить. Поверьте человеку, объехавшему страну от Калининграда до Камчатки.
Вот эта ужасающая стандартизация, однообразие, этот единый городской шаблон – он, конечно, предмет моих страданий. В поездках хорошо видно, что страна причесана под одну даже не архитектурную, а идейную гребенку. Главный этап был послевоенный, когда на руинах церквей, хором, да и просто руинах начали взращивать одинаковые драмтеатры с колоннами, одинаковых Лениных на проспектах Ленина, одинаковые пятиэтажки. И если вы думаете, что эта стрижка бобриком в прошлом – да ничего подобного! Потому что суть не в том, как стрижена башка, а в том, что всем одинаково.
В наше время выделяются три таких пахоты плугом едино-образия. Первая – это дорогие (или, если с южным фрикативным «г», «дорохие») высотные дома монолитного железобетона, непременно с подземными гаражами, а теперь и со сплошным остеклением, торчащие прыщами что над Тихим океаном, что над Доном, что над какой-нибудь Уводью. Смысл – заявить, что, эвона! и мы можем, а не только москвичи. Они прут вверх, не считаясь ни с окружением, ни с историей, ни с genius loci, потому что какие, на хрен, боги места, если есть бабки.
Вслед за «бохатыми» домами стал перепахивать города второй лемех: сетевые магазины. Я уже давно в поездках ни в какие магазины не хожу, потому что – какой смысл? В Хабаровске, в Казани, в Новосибирске – всюду одно. Вот скучковались Adidas, Intersport, Nike; вот Zara, «М.Видео», H&M. Причем плуг ритейла разворотил поле так, что на нем вообще не растет ничего из того, что обильно колосится в Европе: я про магазинчики с местными товарами для дома. Ну, все эти свечи, лампы, зеркала, салфетки. Я в Европе люблю по таким шататься и мелочевку покупать. У нас вместо этого – общак Zara Home.
А третий плуг ведет борозду прямо на наших глазах: это сетевые рестораны и фастфуд. Теперь всюду, куда ни плюнь (а плюнуть хочется) – роллы, суши, «цезарь», кальян. Всюду – «Патио Пицца» и «Кофе Хауз» (где, если повезет, дрянной кофе через полчаса принесут). То есть узнать в Ростове-на-Дону, что такое южнорусская кухня, нельзя. И если вы захотите в Ростове вкусно поесть, примите мои соболезнования. Единственный оазис – угол Красноармейской и Газетного переулка, мне про него нашептал один знакомый ресторатор. Но поваров в сетевом ресторане «Рис» (где и роллы, и ризотто) следует сбросить с раската в Дон. Там я съел худшую в своей жизни «Маргариту». Тесто в ней было пышно, как актриса Крачковская, зато помидоры – пластмассовые…
…Ну, а теперь возвращаюсь к тому, с чего начал: с донских казаков. И не надо только, еще до разговора о них, сурово мне выговаривать, что я ни фига в Ростове не понял, что пишу про грязь, а надо про грандиозный драмтеатр в стиле конструктивизма; что ужинать грамотный ростовчанин катит в шалманы Левбердона, левого берега Дона, – вот там шашлыки, вино рекой и гостинички.
Да знаю я! Про Левбердон когда-то свистящим шепотом мне рассказывал еще бывший коллега Дибров: «Там пох-х-хоть растворена в воздухе!».
Все это, повторяю, мне известно, и печаль моя в другом – в одинаковости убогости и в убогости одинаковости, равняющей наши города. И вот казаки, будь они хоть нацией, хоть сословием, хоть просто ряжеными, – да, казаков на ростовских улицах я мечтал бы увидеть. Ведь должны они где-то существовать? Вещает же в Ростове радио «Казачий Дон» – чудовищная второсортная тоска, прерываемая «Любо!» да «Слава богу!» в манере «Слава КПСС!»? Дела, приведшие в Ростов, заставили меня прослушать по «Казачьему Дону» пару программ – с шансонно-ресторанным музыкантом Никольским («Любо!»), и еще про местный «Гимн Кавказу» – невероятного убожества произведение, начиная от слов («Здесь земля отцов, дедов и нас») и заканчивая музыкальной раскладкой, убедительно доказывающей, что интернационализм по заказу, как и патриотизм по заказу, всегда выполняют роль крышки над выгребной ямой…
Но казаков я хотел видеть!
Потому что мне казалось, что усатые, чубатые люди с нагайками, в надраенных сапогах, вышедшие в пятничный вечер на Большую Садовую, должны менять городскую атмосферу в сторону уникальности. Знаете, в любимом мной Мюнхене эдаким манером гуляют по вечерам парни в кожаных шортах на лямках и фройляйн в корсетах со шнуровкою – и мне это нравится. И я готов был заранее полюбить этих костюмированных казаков и не видеть в них угрозы свободам и либеральной идее. Потому что я ведь не вижу угрозы либеральной идее в костюмированных баварцах, пусть даже пьющих пиво в пивной «Хофбройхаус», откуда вышли в люди и Ленин, и Гитлер.
Я бы и в Иваново был рад увидеть ряженых ткачей. А в Вологде – не знаю, ряженых доярок… Потому что если наши города одинаковы, то маскарад в сочетании с ярмаркой местного продукта, будь то ситцы, масло или семечки, мог бы как-то всероссийскую унификацию очеловечить, смягчить.
А второе мое соображение состояло в том, что выход чистеньких казаков на пышные, но загаженные улицы, покрытые сетью псевдо-японо-итальянских харчевен, должен был вызвать некий городской катарсис. Показать всем, и казакам в первую голову, что неладны дела в их собственном королевстве и что биться всем своим войском Донским, с атаманами и куренными, следует не за то, какие выставки кому запрещать, – а за то, чтобы улицы были вылизаны до ослепительного блеска. А уж когда Ростов, или Краснодар, или Петербург, или что еще у нас сегодня числится в казацких станицах, избавятся от физической грязи, и Ростов не будет выглядеть как елизаветинская дама в нестираных юбках, когда там поднимет голову местный ресторатор, отельер, мастеровой и так далее, – тогда я готов буду слушать, что эти люди думают о судьбах страны. Но не раньше…
…Но, как вы правильно догадались, никаких казаков я так и не встретил. Казачью лавку с нагайками и прочей сувениркой на углу Буденновского проспекта – да, нашел. Но не казаков. Вместо казаков по ростовским улицам плыли гопники, гопота. Не будет преувеличением сказать, что каждый второй мужчина и парень в Ростове выглядит так, как будто собрался на гоп-стоп. И когда я слегка ошарашенно поделился этим наблюдением с местными (из числе негопников), те подтвердили: «А ты как хотел? Ростов-папа!».
И я вспомнил дивный документальный фильм «Я тебя люблю» режиссеров Костомарова и Расторгуева (торрент качается без проблем), которые, отсмотрев сотни видеоклипов, снятых ростовскими гопниками на мобильники про самих себя, смонтировали из этого добра на час двадцать пронзительную ленту про любовь на Дону. Там, в этом фильме, гопота обоих полов пытается, но не может выразить ощущение своих «отношений», а потому прибегает исключительно к мату. То есть у них мат – не язык, а такой лингвистический транспорт чувств. Сильная получилась вещь.
Да, гопников на пышных грязных улицах было полно, я такой прекрасной аутентичной гопоты нигде не встречал и чувствовал себя совершенно как в кино.
То есть все же могут наши города отличаться друг от друга, если захотят.
Хотя я, летя в Ростов, надеялся все же не на такое отличие.
2013КОММЕНТАРИЙ
С режиссером-документалистом Павлом Костомаровым (как оператор он снимал, например, игровые фильмы «Как я провел этим летом» и «Пока ночь не разлучит») я познакомился годом спустя, в Петербурге, в здании знаменитых Двенадцати коллегий Петербургского университета, – на открытии киноклуба фестиваля «Послание к человеку».
Нынешний ренессанс российского документального кино – это такой же результат работы российской матрицы 2000-х, как и провал игрового. Большое игровое кино провалилось, потому что, грубо говоря, там требуется за деньги Родину любить, да еще и приносить прибыль. А документальное кино, где никаких денег нет, но где свободы залейся, взлетело как раз на бесплатной любви – к своей работе, к своему герою, к эксперименту (потому что, когда денег нет, поневоле приходится экспериментировать с новыми, финансово малозатратными, техниками).
В общем, посмотрев костомаровские «Дикий пляж. Жар нежных» и «Я тебя люблю», я уже вполне был в Павла влюблен. А познакомившись и посмотрев на открытии клуба «Мать», втюрился вообще по уши. Особенно после того, как Костомарова спросили, отчего это он снимает фильмы про одну гопоту и быдло, а он ответил:
– Ну, а герои Достоевского-то были кто? В ваших категориях получается – сплошное быдло и гопота…
2014#Россия #Байкал Как мы чистили Байкал от людей
Теги: Олег Дерипаска, Дуглас Томпкинс и прочие экобароны. – Байкал как бурятское исключение в русском единообразии. – О ребятах и свинятах.
Мизантропия охватывает, как только кончается асфальт, и автобус, захлебываясь и прихрамывая на все колеса, начинает семенить по прибайкайльской грунтовке. На западной стороне Байкала асфальт кончается после Хурай-Нура и Ялга-Узура (а вы думали, здесь все исконно русское, здесь русский дух?! – держи карман шире: здесь разноцветные ленточки на столбах и деревьях, и бурятские юрты, и харчевни с буззами-позами, то бишь вариацией мантов-хинкали-пельменей, и вообще другая земля).
Зато здесь есть горы в снегах и предгорья, холмы, распадки, земные складки, хребты окаменевших драконов – и все это в бриллиантовой россыпи щедро разбросанных бутылок, банок, пластмассового дерьма. И если Байкал не загажен так мощно, как загажена на любом километре трасса M10 Москва – Петербург, то только потому, что Байкал в длину – это почти расстояние от Петербурга до Москвы, а плотность машин и народа другая.
«Зачем, о господи, они гадят под себя?!» – вот о чем думаешь, когда за холмами начинает угадываться великое пресное море. А когда море Байкал появляется, ты на какое-то время думать перестаешь.
Я немало поколесил по великой равнине, что начинается за Бугом и бежит, запнувшись на Урале, до Тихого океана и которая во многом определяет характер обитателей. Главное свойство русской равнины – одинаковость. Что Омск, что Томск. Хрущев и Брежнев скучными типовыми домами не столько формировали ментальность, сколько отражали. Россия – всюду стриженный под ноль новобранец, застывший перед старшиной. К разрекламированным исключениям относишься настороженно, боясь разочарований.
Так вот: Байкал – исключение из исключений. Меня он потряс. Дело не в размере. Размер ограничен взглядом (от горизонта до горизонта), и в этом смысле одинакова любая большая вода, а я бывал на больших, в десятки километров, озерах. Дело в том, что Байкалом невозможно разочароваться.
Байкал – это водяная щель среди хоровода рельефа. Местность меняется каждые пару сотен метров, и порой меняется кардинально. Заливы, бухты, острова, камни, косы, скалы. Постоянно новое кино. Похожий трюк можно видеть где-нибудь на Андаманском море, но чтобы внутри России?! Это как если бы вы приехали в Иркутск – а там мультикультурализм, народная демократия, цветут сто цветов, защищены права меньшинств, на улицах демонстрации-шествия, а на телеке нет цензуры. Примерно такое образование и представляет собой в геологическом смысле Байкал. Возможно, и в биологическом. Возле истока Ангары, в местечке Листвянка, из которого местный житель пытается сделать Сочи (в смысле, «коньячок под шашлычок – вкусно очень»), есть музей Байкала. Там в аквариумах живут осетры, омули и сиги, а также нерпа Муся, напоминающая морской буек с ластами. Но главное, там быстро понимаешь, что такое пресловутая «уникальная экосистема Байкала». Что чистота байкальской воды – это результат не отсутствия жизни, а биологической плотности жизни. Что когда сородич Муси откидывает ласты, в дело тут же включаются рачки и креветки-гаммарусы – и все. Вода чиста, ибо вскоре (как нам сказали на полном серьезе) «нет даже костей».
И такая экосистема Байкала на всех его 620 км длины и 1,6 км глубины естественным образом обеспечивает Байкалу чистоту.
А люди на берегах Байкала Байкал загаживают так, что даже ЦБК, который, по утверждениям экологов, губит все живое, кажется не родившимся по приказу Москвы, а выросшим из местной ментальности…
Так вот: акция «360 минут ради Байкала», на которую я был приглашен и которую уже третий год проводила промгруппа En+, – это имплантат в человеческой природе. Потому что люди, как сказал волонтер, студент местного энергетического колледжа Федя Вайнеев, «где живут, там и свинякают». Это очень печально, но это так.
Тут я должен, по идее, сказать пару слов про En+ Group. В конце концов, это En+ объявила призыв 1000 добровольцев, выдала каждому кепку, ветровку и перчатки, притащила на Байкал журналистов и блогеров. Есть в отечественной журналистике такой тухлый жанр – благодарственное слово спонсорам. Спонсор нас кормил и поил, он на природоохрану потратился, а мы в благодарность создадим ему образ экологически ответственной компании.
Увы, у меня с этим жанром туго.
En+ Group – это, в общем, Олег Дерипаска. Которого только ленивый эколог не пинает, и я своими ушами слышал, что говорят про его заводы в Хакасии или в Красноярске, и дымы его заводов видел. И, наверное, тема создания благоприятного имиджа у Олега Дерипаски имеет место быть. Но мне всегда приятнее думать о людях приятное, а поэтому я думаю, что вот есть такой сверхбогач, как Дерипаска, который в состоянии менять мир, – и у него кураж в том, чтобы мир менять к лучшему. Вложил же колоссальные деньги в национальные парки Патагонии мультимиллионер Дуглас Томпкинс, продав свои компании Esprit и North Pole. Может, и Дерипаска и его сотрудники испытывают, попав на Байкал, некоторое раздражение. Не только от битых бутылок. А оттого, что местный человек не соответствует местности. Точно так же, как житель Иркутска не соответствует своей истории, не видя ценности в старых деревянных домах со ставнями. И эти дома подыхают, покосившиеся, со своими резными наличниками. А на берегах Байкала и по пути на Байкал местный человек либо строит халупы, либо фальшивые дворцы, материализуя глупейшее самодовольство. У кого же нет ни дворцов, ни халуп, тот жжет костры, жрет водку и бьет бутылки.
И все дело усугубляется еще и тем, что технологично и быстро убрать мусор стоило бы Дерипаске дешевле, чем собирать 1000 волонтеров: хватило бы 50 гастарбайтеров-таджиков. Но, увы, убирая мусор, гастарбайтеры не искореняют причину, состоящую в самодовольстве и хамстве тех, за кем они прибирают. Гастарбайтеры в некотором смысле самодовольство даже усугубляют.
Вот почему простая экономическая схема здесь не работает. Но работает другая. Когда два года назад сотрудники En+ сами устроили себе на Байкале субботник, мусор пришлось вывозить с одной небольшой точки КАМАЗами. И тогда на следующий год они решили пригласить волонтеров. А в этом году пригласили вдвое больше волонтеров и протрубили об однодневной акции на всю страну. И что изменилось?
«В этом году, – сказал представитель En+, – у фотографов могут быть проблемы с картинками. Потому что в первый год мусора были горы. А на второй год поменьше, хотя деревянные таблички, которые мы поставили, пустили на костры, и мы теперь ставим металлические. А на третий год, то есть сейчас, еще меньше, хотя место то же самое».
То есть метод, похоже, понемножечку действует.
Я говорил со многими волонтерами. Это все были ребята-тинейджеры. Говорят, приезжали и пенсионеры, но на них охотились фотографы, и они заметали следы. Тинейджеры были замечательные – из иркутских школьных парламентов, из Российского союза молодежи, у мальчишек которого была мода на восточные шаровары, парусами плещущие на ветру, так что не догнавшие пенсионеров фотографы нашли, чем утешиться. Запись в добровольцы шла через интернет, но взрослые, возможно, считали чересчур тяжким бременем вставать в 5 утра и трястись 9 часов автобусом туда-обратно с бутербродом в котомке плюс горбатиться с мешком для мусора в руке.
А меня напрягал единообразный ответ на единственный вопрос, который я задавал: почему люди гадят на запредельной красоты берегах?
«Потому что дебилы».
«Потому что их не воспитали».
Меня это напрягало, потому что передо мной были умные, ответственные дети – и я не понимал, откуда потом берутся безответственные взрослые…
А впрочем – что это я?
День был прекрасен. Погода менялась ежеминутно, и ежеминутно менялся Байкал. К концу дня 24 полных мусоровоза вывезли 2100 мешков с мусором, среди которого было 35 % пластиковых бутылок, 15 % бутылок стеклянных, а прочее по мелочам, включая чемодан с чайником внутри, упаковку в 100 памперсов, пару унитазов и одно разрешение на ввоз в Россию мяса из Дании и Канады.
Ну да, я понимаю, что вы улыбаетесь, и я сам улыбаюсь.
Хотя иногда хочется выть, – да только, как говаривала героиня Окуджавы, хорошее воспитание не позволяет.
2014КОММЕНТАРИЙ
Я всю жизнь мечтал побывать на Байкале, но все не складывалось. А тут, по иронии судьбы, через три недели после чистки байкальских берегов от мусора, прилетел снова. И во второй раз мне показали многое из того, что я не увидел в первый. Например, тот крутой берег, с которого, согласно легенде, был пущен под откос поезд с золотом Колчака (почему это золото никто не достал? А потому что там глубина – километр!). А еще показали недавно построенную внушительную базу МЧС, добавив, что вообще-то на Байкале спасать особо некого и не от кого, так что наверняка главная задача МЧС – золото со дна все же достать. Ну, а главное, я увидел, как загажен Байкал даже не банками-склянками, а постройками местных нуворишек. Этими чудовищными, вне архитектурной истории или культурной логики сооруженьищами, растопыривающими по-хамски пальцы, перемежаемыми заброшенными индустриальными постройками и шалманами с надписями «Живые медведи».
Местные мне объяснили, что единственный шанс спасти Байкал – объявить все его побережье федеральным заповедником, подчиняющимся непосредственно Москве, и любую постройку – хоть лодочный сарай – согласовывать только с Москвой. И объявить для начала Листвянку особой зоной.
Но я понимаю, что сделать это абсолютно невозможно.
Абсолютно по той же причине, по какой невозможно объявить всю Россию мировым заповедником, подчиняющимся напрямую Парижу, Лондону или, не знаю, Дугласу Томпкинсу, что ли.
2014#Россия #Владивосток В поисках утраченного (недавно) времени
Теги: Московские самосвалы на Дальнем Востоке. – Сравнительный анализ системы времен в английском, французском и русском. – Сатирик Задорнов и падшие женщины Владивостока.
Среди того, что делает Россию единой (помимо оцеплений ОМОНа, Дня Победы и оливье на Новый год), можно отметить и небрежение недавней историей. Недавнее прошлое считается рухлядью, а не сокровищем.
Мысль о том, что и большая история является у нас не ценностью (ценность – это то, что нельзя изменить, вроде картин Рембрандта), а скорее черновиком, меня занимала давно, но окончательно заняла (как войско занимает города: да, я перед нею пал) пару недель назад, на берегу Тихого океана, хотя это мог быть не океан, а озеро, река, Обь, Ока, Уводь, – всюду одинаково. Но так легла карта – как минимум географическая.
Слева и справа от меня лежал город Владивосток; от Японского моря его отделяли врытые в землю покрышки, битый кирпич и железяки, образующие совокупно пляж перед гостиницей «Амурский залив». За гостиницей на фоне Медвежьей сопки высился дом с признаками элитности (там, с видом на океан и железяки, купила квартиру, сказали мне, Пугачева) – в доме вместо окон кое-где чернели пустые проемы, потому что дом (снова сказали мне) года четыре как заброшен, и, значит, его скоро придется сносить, потому что начнет разрушаться.
На фоне тихоокеанского заката рычали бульдозеры, которые строили дорогу, причем строили не потому, что нужно строить, а что нужно строить к саммиту АТЭС, который пройдет в 2012-м. Вообще вся жизнь во Владивостоке-2010 была заточена под саммит АТЭС (визиты глав трех десятков глав государств и т. д.). Уже был возведен новый аэропорт, внешне напоминающий супермаркет, а через бухту Золотой Рог и на остров Русский (где когда-то будущий драматург Гришковец ел собаку) строились циклопических размеров мосты.
Миллиарды на все это щедро давала Москва; по раздрызганной дорожной стройке в направлении аэропорта скакали самосвалы с московскими номерами (понятно было, что местным нельзя доверять освоение миллиардов), и самым неприличным вопросом во Владивостоке был – «а ради чего и за счет чего город будет жить после саммита?».
Ну да, я описываю Владивосток, невольно прибегая к интонации Гришковца, – но, повторяю, дело не в месторасположении. Вертикаль власти, кулак Москвы давно привели к однообразию. Всюду одинаково сносят старые дома (как нечто нищенское, потому что именно по этой причине, а не по причине аварийности их сносят в Москве, а теперь и в Петербурге), – чтобы в лучшем случае построить «многофункциональные торгово-развлекательные центры», а в худшем – бетонный фальшак «под старину». Иногда провинциальным городам удается обособиться, прикрыться дореволюционным пышным историзмом (как Ростову-на-Дону) или сталинским ампиром (как Воронежу и, в меньше степени, Волгограду). Владивосток же мне напоминал побитого хозяином пса, дрожащего на самом краю света (здесь кончался Транссиб, и рельсы, как пел Лагутенко, вылезали из кармана страны), но про которого было ясно, что он снова приползет к бьющей руке, когда та поставит перед ним миску.
Я не преувеличиваю. Дело было не только в том, что из города уезжало большинство выпускников вузов, и не только в разбитых тротуарах и дорогах, по которым в пыли носились стада автомобилей (в большинстве, да, праворульных, даже у милиции). Дело в том, что если саммит АТЭС определял в городе все денежные потоки, то подмосковный спецназ, в декабре 2008-го пошинковавший как капусту местную демонстрацию против повышения пошлин на иномарки, определил самосознание. «Нас тогда опустили», – сказали мне. – «В каком смысле?» – «В том самом, в каком опускают на зоне. Нам страшно, что-то сломалось, с нами теперь можно делать что угодно».
* * *
Я прерву описания восточной окраины империи и чуть забегу вперед в рассуждениях о том, почему у нас история не считается большою ценностью.
Думаю, причины этого феномена объективны. Например, структура языка с единственным прошедшим временем. Для сравнения: в английском шесть прошедших времен, во французском устном – пять, в письменном – снова шесть, причем в обоих присутствует прошедшее ближайшее (passé immédiat).
Или архитектура, которая, как известно, «каменная летопись», – но каковая в России, краю лесов, всегда была летописью недолговечной, деревянной. Это в холмисто-гористой Европе, где леса извели к средним векам, строили из камня – там и сегодня видно, как из романской базилики прорастает готический собор, упираясь в барочный фасад. А у нас даже в Петербурге, который «Петра творенье», от петровских лет уцелел десяток зданий, ибо не то что деревянные дома, но и деревянные дворцы и церкви раскатывались по бревнышку с легкостью необыкновенной.
Русская история выстраивалась аналогично: то выводилась от Рюрика, то отрицалась, то вновь обрастала новодельными (элитными, полагаю) князьями, графьями, казаками в крестах. Впрочем, я не об этом, а о следствии из этого. Если история не слишком ценна, то она оставляет после себя мало материальных следов – и наоборот. Я вот долго думал, что у нас хил рынок антиквариата из-за войн да революций, а теперь понимаю, что нет. В Германии, порушенной сильнее СССР, антикварного добра сохранилось куда больше. Просто у нас вещи, чуть состарятся, отправляются на помойку: то есть не обретают новую цену, цену времени, а теряют в глазах обладателя всякую. Все эти пузатые холодильники «ЗиЛ», проигрыватели «Аккорд», часы «Победа», газеты с праздничным первомайским приветом и секретарем обкома в пыжиковой шапке на трибуне на первой полосе. Культурный слой не накапливается, а уничтожается – и затем, в отсутствие слоя, история не реконструируется, а подтасовывается под нужды момента…
А теперь – снова во Владивосток.
* * *
Мне там повезло.
У меня случился гид, Вергилий, сталкер.
Его звали Виктором, он был замдиректора в местном музее. Я заметил, что молодые люди, что называется, с сердцем и умом, из городов, напоминающих побитых псов, либо уж драпают во все лопатки – либо оседают капитально, утешаясь каким-нибудь редким делом, альпинизмом или рафтингом, в которое ныряют, как в океан.
Виктор был из вторых. Его океаном была история.
Без него Владивосток для меня остался бы странным городом с полированными гранитными балясинами приморского променада, с обильно гуляющей по этому променаду местной доброжелательной гопотой (каждый третий паренек, ей-ей, внешне походил на героя «Аватара», только без хвоста; но каждый двадцатый, скажу справедливости ради, походил на певца Лагутенко), с запыленными зданиями в стиле art nouveau; с сопками, с которых открывался фантастический вид на океан, но половину вида заштриховывал дым из трубы флотской кочегарки; с бельем, которое сушили под окнами. Городом, где меня без конца спрашивали, похожи ли местные женщины на проституток – я сначала вздрагивал, но потом узнал, что сатирик Задорнов по телеку заявил, что-де похожи, чем вызвал бурю, и местная радиостанция «Лемма» в выпуске новостей трижды попрекнула Задорнова съеденным морским гребешком. (Опять же ради справедливости: женщины Владивостока похожи на женщин, которые недостаток средств заменяют яркостью косметики; то есть они похожи на большинство русских женщин, но не похожи на обеспеченных женщин из Парижа или Москвы.)
Виктор показал мне два других – невидимых – города. Первый, конца 1910-х – начала 1920-х, вставал над снесенным корейским и полуснесенным китайским кварталами. Там был богатейший на Тихом океане рыбный рынок; там курили опиум в подвалах под казино; там шныряли полицейские облавы; там пел Вертинский вживую; там адмирал Колчак жил с возлюбленной в отеле «Версаль»; там писали стихи Асеев и Ивнев; там интервенты-японцы сменяли интервентов-англичан, а бежавшие от большевиков петербургские писатели работали на местные газеты…
Второй город был закрытым советским Владивостоком, опорной точкой Тихоокеанского флота, куда проникнуть не мог ни один иностранец, где по склянкам на кораблях сверяли городское время; где – в единственном городе страны! – секретарь обкома был никто по сравнению с комфлотом; где ночами посверкивали маслянисто в свете луны горбатые спины подводных ракетоносцев; где расцвечивали пейзаж матросы в увольнительных; где бицепсом на руке перекатывалась военно-морская мощь Союза Советских Социалистических Республик – и где каждая женщина мечтала ожидать из похода моряка.
Эта картина завораживала почище вида римского форума времена Нерона и Сенеки.
И когда Виктор отлучился, я помчался вприпрыжку в его музей, и, заплатив 70 рублей, миновав чучело рыси и тигра уссурийского, полетел на этаж, где, надеялся, сохранилась, уцелела в документах, вещах, фотографиях недавняя эпоха. Как выглядело праздничное – в день ВМФ – застолье морских офицеров, этой белой военной кости? Присутствовал ли в кают-компании крейсера-ракетоносца рояль? Как выглядели во Владивостоке новогодние елки? Какая прическа была у дочери комфлота и каков был ее взгляд (о, какой взгляд! – ведь, по Гребенщикову, генеральские дочки знать не знают, что значит «нельзя»)? Чем торговали в буфете Дома моряков? Какую музыку слушал усредненный сынок усредненного каперанга?
Эта эпоха была так рядом – рукой подать! – и она на глазах превращалась в песок, утекающий меж пальцев.
На верхнем этаже музея я нашел недурную, технологично выполненную экспозицию, посвященную англичанке Элеоноре Прей, жившей во Владивостоке век назад и подробно описывавшей в письмах быт революционной эпохи (я минут десять проторчал у фотографий расстрела белочешского мятежа).
Но от эпохи, завершившейся всего 20 лет назад, в музее не было ничего.
А какие лица тогда были? Какие наряды? Мысли? Дневники? Письма? Записки сексотов? Рапорты о преступлениях? Протоколы разборов персональных дел? Как выглядел значок «воин-спортсмен»? Под какую музыку танцевали на школьном выпускном? Это не сохранилось? У музея не было средств покупать хотя бы и для запасников?
Я вышел на улицу. В полнеба дымила уцелевшая с брежневских пор флотская кочегарка. Китайский квартал был еще наполовину цел – но его к саммиту собирались сносить, как когда-то, в 1974-м, из-за приезда Брежнева на переговоры с американцами снесли здание знаменитой фирмы «Кунст и Альберс» – просто чтобы ветхостью не мозолило глаза. Чуть поодаль, где рельсы вылезали из кармана страны, бабушка за лотком продавала пян-се – вкуснейшие корейские паровые колобки, начиненные острой капустой, по цене 28 рублей. А за 250 я купил себе в военно-морском универмаге тельняшку (универмаг тоже работал).
Грандиозная эпоха миновала, а от нее не осталось следов – разве что мумифицированная подлодка на набережной, и то сокращенная на отсек.
И я увидел, что будет с нынешним временем, если ближайшее прошедшее так и не войдет в нашу жизнь.
2010КОММЕНТАРИЙ
Виктор Шалай из замдиректора музея стал директором – кстати, в этот музей я настоятельно советую любому во Владивостоке сходить. Шалай обещал мне и моему коллеге и приятелю Вите Набутову (мы ездили во Владивосток вместе) приехать в ближайшее же лето в Петербург, мы его ждали, но он не появился, – думаю, новая должность отняла все время. Так что я пока не знаю, будет ли музей усиленно собирать материалы недавних советских времен.
Говорят, остатки китайского квартала накануне саммита АТЭС окончательно снесли (непрезентабельно выглядят и все такое) – но я об этом не хочу ничего даже слышать.
Как и слышать не хочу, что построенный к саммиту за какие-то немыслимые миллионы оперный театр на какие-то немыслимые тысячи мест (оперный театр в городе, где нет даже крохотного джаз-клуба – о, это культурный скачок!) открылся с невероятной помпой, там требовали даже приходить строго в black tie (в смокинге, да!) на открытие, – и сразу же закрылся по причине огрехов строительства, хотя куда больше, чем по огрехам, у меня вопросов – а кто будет там петь? И это будет это пение слушать?
На купленную же за 250 рублей тельняшку я случайно капнул соусом. При попытке удалить пятно отбеливателем вместе с пятном исчезли и полоски.
Такие дела.
2014#Россия #Краснодар Город красной ночи
Теги: Красноярск как танцевальный район Лондона. – Губернатор, тесть губернатора и ресторан тестя губернатора. – Элита, свиньи и перспективы кубаноидов.
Я на выходные слетал в город Краснодар и вернулся сильно впечатленный – не столько проведенными днями, сколько ночами. Потому что ночью Краснодар превращается в колоссальную дискотеку, отчасти под открытым небом.
Наводку туда слетать мне дал Леша Зимин, – тот самый, в меру упитанный, в полном расцвете сил, кудряво-бородатый Зимин, главред «Афиши-Еды», ведущий кулинарных программ и совладелец гастрокафе Ragout, которого все кличут отчего-то «Кузьмой» и который смотрит теперь с рекламы бульонных кубиков в каждом втором супермаркете.
– Там интересно, ночная жизнь всякая, – сказал Кузьма про город, но как-то неопределенно, и я потом понял, почему.
Потому что в Краснодаре под грохот дискотеки мне показали в одном баре кресло у стенки и добавили благоговейно: «Вот здесь спал Зимин!» – как будто он все еще тут пребывал, и страшно было потревожить полуночный сон этого фавна.
Объясню, отчего разговор о краснодарском феномене я начал с Зимина.
Кузьма сегодня – один из тех, кто определяет в России моду. Вот он буркнет в своей флегматичной манере, что Краснодар – это наши Бангкок и Хокстон в одном флаконе (Хокстон – это такой суровый, пролетарский, однако нашпигованный модными ночными клубами лондонский район), и все незаметно, но неотвратимо придет в движение. Кинет благосклонный взор на странно устроенный, неряшливо застроенный, одноэтажно-двухэтажный город на берегу пахнущей тиной Кубани главред GQ Николай Усков. Оттянутся на выходных московские богатенькие студенты, подтянутся питерские тусовщики, прилетит частным бортом весь джет-сет, отпляшут в «Дранке-баре» Тина Канделаки с Ксенией Собчак… И тогда, конечно, Краснодар будут считать модным все пэтэушники, ставя его в один ряд с Куршевелем, хотя в последнем мест для ночной жизни раз эдак в сто меньше.
Но до преображения Краснодара в общее место из модного у нас еще время есть. Можно еще успеть заскочить и в тот самый Mr. Drunke Bar, и в несколько «Холостяков», и в «Рюмашу», в Justin, и в «АмБар», и в «Деревяшку»: прелесть в том, что десятки работающих в ночи заведений расположены на одном пятачке в самом-самом центре.
Не знаю, бывали ли вы когда-либо в столице Кубани. Краснодар, честно сказать, не относится к городам, в которые c детства мечтаешь попасть. Легенда гласит, что после войны тогдашний секретарь обкома широким жестом отказался от материальной помощи ЦК в пользу разрушенного Волгограда. Так и остался Краснодар стоять как был: покрытым набычившимися частными домами с заборами («бычка» – местное словцо), к которым советское время прибавило горкомов-обкомов, а антисоветское – наглых высоток из монолитного железобетона с подземными гаражами. Некоторые из бетонных уродцев, впрочем, стоят замершими в недострое, – эдакими памятниками основателям. Надеюсь, что не могильными.
Рассекает все это великолепие длиннющая улица Красная. Там находится администрация губернатора Ткачева, а в пяти минутах от нее – ресторан «Беллини», принадлежащий зятю губернатора Ткачева. И я, разумеется, в этот ресторан зашел, чтобы продегустировать коктейль «Беллини», который, как известно, представляет собой смесь просекко и персикового пюре и который я много где в мире пробовал по цене от 10 до 25 евро. Так вот, в краснодарском «Беллини» коктейль «Беллини» был рекордно дешев (180 рублей) и столь же рекордно плох. Может быть, потому, что делали его не из просекко, а из «Абрау-Дюрсо», – и уж страшно представить, что добавляли туда вместо персиков. Так что губернатору Ткачеву надо что-то срочно делать либо с производством вин в Абрау-Дюрсо, либо с зятем, – но, слава богу, на этом отрицательные моменты заканчиваются.
Самое замечательное впечатление от города Краснодара обеспечивается тем фактом, что улица Красная на выходные частично перекрывается и превращается в пешеходную. То есть город который год ставит грандиозный эксперимент: что будет, если людьми не руководить, а дать им самим сорганизоваться. (Я хочу, чтобы вы поняли: в Краснодаре не создали для услады начальства пешеходную зону «как на Арбате в Москве» – таких зон по стране полно, и они по большей части искусственны и скучны, как и пешеходный Арбат. В Краснодаре же освободили от машин на выходные здоровенной кусок главной улицы, то есть поступили так же, как в Киеве поступают на выходных с Крещатиком.) Результат ошеломляет. Во-первых, пешеход может видеть улицу такой, какой видит автомобилист. Во-вторых, Красная на всю длину-ширину тут же покрывается мамашами с колясками, пацанвой на скейтах, роликах и великах, девушками и дедушками: ожившей переписью населения. В-третьих, ожившая перепись с невероятной скоростью обросла кафешками, магазинчиками, ресторанчиками и прочим инфраструктурным добром.
Красноуличный рост добра привел к тому, что параллельная Красноармейская улица тоже провозгласила эпоху ренессанса и стала представлять собой непрерывную цепь баров и клубов, – просто какой-то Аксенов, «Остров Крым», не хватает только набережной, с которой прямо от столиков кафе должны сигать в воду девушки в бикини. «Непрерывную» – это не два-три заведения. Это, боюсь ошибиться, десятки всяких заведений. И когда в пятницу вечером город сладостно отдается южной прохладе, Красноармейская заполняется сотнями, тысячами молодых людей в возрасте до 30, образующими совокупно прекрасную толпу, занимающуюся точно тем же, чем занимается толпа в Хокстоне: толпа тусуется, знакомится, выпивает, перетекает из паба в бар, из бара в клуб, танцует. Впрочем, в Краснодаре ночью образуется куда более прекрасная толпа, чем в Хокстоне, потому что Хокстон – это жесткий послевоенный бетон, в отличие двухэтажного, безалаберного и милого Краснодара.
Ни в Москве, ни в Петербурге вы не найдете в уикенд такой толпы!
В Москве тусовка загнана в резервации – куда-нибудь в бывшие цеха «Красного Октября». А в Петербурге ночь напролет толпа наслаждается не клубами, а видами. В Краснодаре же тысячеликий ночной движняк танцует в каждой витрине кафе, да и просто на улице, отчего Красноармейскую явочным порядком переименовали в Клубную, хотя это и неправильно. В городе, столь замороченном на красный цвет, ее следовало бы переименовать в Красноклубную…
Ну, а теперь несколько замечаний для тех, кто давно не «тусовал». По известной традиции, у нас сбор в ночи нескольких сотен парней, да еще подогретых спиртным, да еще в опасной близости девушек, неизменно перерастает в драку. Так вот: в Краснодаре я не просто не видел драк, но и не ощущал приближения таковых. А у меня, как у выходца из города Иваново, где с дрекольем махались каждые выходные, – уж поверьте, на драки нюх. И весь специалитет улицы Красноклубной сводится к тому, что время от времени (мне рассказывали) ее запирают с двух сторон менты, и, идя цепью, как с бреднем на карася, отлавливают поголовно всех заплывших внутрь и проверяют на наркотики (жаль, что нельзя проверять самих рыбаков). Но меня принудительный анализ плескавшегося в желудке «Беллини», по счастью, миновал.
Второе: житель российских столиц, вероятно, считает, что в кафе или бар можно зайти просто так. Но в Краснодаре за вход в клуб надо заплатить около 500 рублей, а за вход в бар – около 300. Не один Краснодар славен этим: в Хабаровске я как-то ужинал по приглашению владельца местного ресторанчика. Сам он отсутствовал, а подлетевшая официантка тут же потребовала «плату за вход». Когда я же вякнул, что меня пригласил хозяин, она ответила: «Вот-вот. Он только что позвонил и сказал, чтобы я не забыла взять».
Каким бы мотивом это ни было вызвано – похвальной заботой об эффективности бизнеса или простым жлобством – в отношении города Краснодара эта система означает следующее. Средний юный тусовщик оставляет за ночь в разных заведениях тысячу-другую рублей, с учетом потребленного спиртного. Я легко поверю, что в любом русском городе, включая самые депрессивные, сыщется узкая прослойка богатеньких буратин. Но вот чтобы буратины и мальвины обитали в количестве, способном заполнить целую улицу, – тут я отказывался верить собственным глазам, когда бы глаза этого не видели.
Я потом приставал ко всем с вопросом: откуда в городе деньги? Откуда – если шире – в Краснодаре средний класс (ведь очевидно, что детки гуляют в ночи на деньги родителей, а сами родители обильно тратятся на кафе и рестораны, которым, поверьте, там тоже несть числа)?
Про то, что Кубань – регион небедный, мне дружно сообщали все. Про масличное производство, контролируемое губернатором, говорили тоже. Но объяснения тому, почем кубаноид зажиточен, толком дать не мог никто. (A propos: «кубаноид» – это, как мне рассказал владелец одного заведения с улицы Красноклубной, «не просто житель Кубани, а настоящий житель Кубани. Кубаноид завистлив, жаден, ленив и ненавидит москалей. Сам он из станицы, хотя может быть откуда угодно, потому что кубаноидами не рождаются, а становятся».) Пока несколько человек, крякнув и повертев головой, не рубанули: местная зажиточность – это эхо Сочи. Перераспределение олимпийского бюджета. Если, конечно, выражаться деликатно.
И я облегченно вздохнул. Я ведь, признаться, не поддерживал идею сочинской Олимпиады. Поскольку исходил из наивной идеи, что олимпийские игры являются своего рода платой за усилия по развитию спорта в стране. В России же вместо развития спорта – жопа, и это самое мягкое слово, какое я могу сказать, поскольку в Красной Поляне незадолго до исторического заседания МОК я катался, и это была худшая трасса в моей жизни, а в Москве под моими окнами уже который год закрыт навсегда бассейн школы олимпийского резерва.
Но, знаете, если побочный эффект Олимпийских строек – это ночная и ресторанная жизнь Краснодара, то черт с ним, я согласен на такую Олимпиаду.
Если б еще краснодарские власти не запрещали на улицах открытые веранды (без которых город все же дико провинциален), если бы требовали от госучреждений делать стойки для велосипедов (потому что Краснодар набит велосипедистами плотнее, чем ночными тусовщиками) – тогда вообще бы сказка была, не считая вышеописанной ночной.
А то (мне местные пессимисты на ухо шепнули) собираются эти власти ночную вольницу прикрывать. Потому как вырос на Красноармейской довольно уродливый железобетонный (элитный, как водится) дом, и проживающей в нем элите тусняк будет мешать. И вот я теперь трясусь: а вдруг и в самом деле прикроют?
Ведь элиты в стране как свиней нерезаных, а город с нормальной ночной жизнью только один.
2011КОММЕНТАРИЙ
С этим текстом случилась вот какая история. Он был написан для «Огонька», но командировку в Краснодар мне оплачивала «Афиша-Еда». По возвращении мы с Лешей Зиминым договорились, что для «Огонька» я напишу про краснодарскую ночную жизнь, а для «Афиши-Еды» – про краснодарский ресторанный бизнес. Однако, увы, за рамками публикации в «Огоньке» осталась важная вещь: борьба в Краснодаре между рестораторами гастрономической и кальянных партий. В кальянной партии состоит большинство владельцев местных шалманов, их идея в том, что раз пипл лучше всего хавает салат «Цезарь», солянку, роллы и кальян, то с таких пристрастий и нужно срубать бабло. А «гастрономы» – лидером у них молодой парень Тахир Холикбердиев, у него гастробар Mr. Drunke Bar, французское кафе «Жан-Поль» и дегустационный зал Smoke & Water – считают, что деньги нужно зарабатывать, не поощряя дурной вкус, но развивая хороший. И вот эта чисто гастрономическая (казалось бы) борьба кажется мне показательной. Что важнее – мастерство или деньги? Можно ли за деньги вести игру на понижение качества? Вообще – все ли можно за деньги?
Эта борьба идет на многих фронтах, просто гастрономический проходит прямо по моему дому (моя жена – ресторанный критик). В этом причина, почему я включил в эту книгу еще один «гастрономический» (формально он про открытие в Петербурге первого в России ресторана знаменитого мишленовского шефа Алена Дюкасса) текст с названием «Творог в своем отечестве».
После публикации на сайте «Огонька» посыпались комментарии, что вовсе не в Олимпиаде причина достатка жителя Кубани, что я глупость написал. Но я свою глупость решил в итоге оставить как есть: дело в том, что ни один комментатор своей версии зажиточности кубаноидов не предложил.
Да, и уж совсем напоследок: Усков ушел из GQ, заняв по приглашению Михаила Прохорова пост гендиректора «Сноба», на сайте которого я порой публикую свои тексты. А в Москве появилось место модной тусовки, не загнанной в резервацию, то есть место модной тусовки под открытым небом: реконструированный Парк Горького.
Я в этом парке нередко катаюсь на роликах или на велосипеде.
В общем, жизнь хороша.
2014#Россия #Петропавловск Одноразовая Камчатка
Теги: Мамы, дети и атомная бомба. – Икра, сивучи и помойки. – Гейзеры, дороги и старик Козлодоев.
Про необходимость развивать внутренний туризм у нас не столько говорят, сколько заклинают, как шаманы духов, – и этот туризм у нас так же нематериален, как дух. Вот вам отчет о поездке на Камчатку: тут волей-неволей прибегнешь к жанру путевых заметок.
* * *
– Ты по городу хочешь еще прогуляться?
Я первый раз в жизни отрицательно мотаю головой.
Хотя обожаю коллекционировать города.
Не по чему гулять: Петропавловск-Камчатский – для меня это не город. Фантом.
Как можно назвать городом населенный пункт на берегу океана, где нет даже набережной? Бухта Авачинская – есть. Одна из прекраснейших бухт, какие мне доводилось видеть, нежная и туманная, обрамленная волнами сопок. Говорят, весь мировой флот может в ней разместиться. А набережной, променада, места любования красавицей – нет. Яхт-клуба нет! К океану выходит огрызок площади, по бокам которой стоят администрация и драмтеатр, а серединка ударно мостится плиткой: Дальний Восток – с трудовым приветом замощенной Москве. Но если Москва живет к Москве-реке боком, то Петропавловск живет к океану задом. С дороги, тянущейся над бухтой, на бухту смотрят зады гаражей. Раньше еще смотрела детская площадка. Но ее ликвидировали, отдав под застройку. Теперь здесь хоромы, в абрисе которых читается уверенность хозяев, что только размер и имеет значение. Хоромы все зовут «деревней бедняков».
Сам же Петропавловск – просто просыпанные между сопками и по сопкам домишки, бараки да пятиэтажки, порой укрепленные, на манер средневековых крепостей, бетонными контр-форсами, потому чуть не каждый месяц город трясет силой в три, а то и в четыре балла. Землетрясение здесь такая же банальность, как в Москве – пролет членовозов с «крякалками» и «мигалками».
– Я когда сюда из Владивостока переехал, то первый раз, когда затрясло, зимой в ночи в одних трусах на улицу выбежал, а теперь не замечаю, – говорит мне глава местной «Европы плюс» Дима, хотя, по идее, радиостанцию здесь следует называть «Азия минус»
– Может и дважды в неделю трясти, – вторит его коллега. – Ко всему привыкаешь. Ты лежишь, а лампочка трусится.
Перед землетрясением рыбки в аквариумах залетают на дно и ложатся набок, кошки и собаки мечутся, а люди не обращают внимания. Но 7 баллов – уже страшно. Секунд за тридцать до толчка земля превращается в гигантский сабвуфер, издавая низкий, почти не воспринимаемый ухом, наводящий ужас утробный гул.
* * *
Над Камчаткой орбиты навигационных спутников пролетают как-то так, что GPS пеленгует коммуникатор через пару секунд. Но в «Яндексе» на экране – серое поле с неутешительным: «Карт для этой местности не существует». Те, кому сильно нужно, пользуются аэросъемкой «Гугла». Если наложить на съемку схему дорог, выяснится, что схема с реальностью не совпадает. Ядерный щит родины, черт побери: сбивай прицелы своим, чтобы не целились чужие. Когда в Вилючинске передвигают – спускают со стапелей, выводят из доков, не знаю, что у них там происходит – атомные ракетоносцы, говорят, грузовики на берегу создают задымление. Но «Гугл» про это ничего не знает, и на фотокартах в малейших деталях запечатлены 16 субмарин, похожих из космоса на треску. Четыре из них совсем крошки: наверное, пока не подросли.
Свежая треска, кстати, на рынке в Петропавловске идет по 50 рублей за кило, я ее тушил в белом вине. Тем более что вино по 300 рублей бутылка здесь качества такого, что лучше не пить.
Вилючинск, чуть не забыл, – это городок по соседству с Петропавловском. Там – единственный на всю Камчатку аквапарк, и в Вилючинске обожают селиться семейные люди с детьми: закрытая, охраняемая территория и все такое. Чтобы приехать в аквапарк с детьми из других мест, надо заранее оформлять спецпропуск через турфирму.
Если однажды тресковая стайка выполнит свою боевую задачу, ответный удар заморского тунца приведет к тому, что ближайшие десять тысяч лет на Камчатке не будет ни мамашек, ни детишек. Разве что с пятью головами.
* * *
– Скажи, а Петропавловск тебе что больше напоминает – Владивосток или Хабаровск?
А мне Петропавловск больше напоминает Шанхай – но не тот небоскребный, что в районе Пудонга, и даже не старый город, где по ночам горят на улицах жаровни и старухи стирают белье в поставленных на табуретки тазах. А Шанхай районов-шанхаек эпохи Мао, кое-как и без всякого плана выстроенный, уляпанный рекламой и магазинишками как попало.
В Петропавловске, например, считается нормальным балконы и лоджии одного дома красить в разные цвета.
Правда, в Шанхае на каждом углу китайские едальни, а в Петропавловске их немного, и в них отсоветовали идти, а рыбного ресторана или краб-хауза, или, бог его знает, трепанг-кафе нет ни одного. Вероятно, потому, что свои рыбой объелись, а на чужих не рассчитано. На рынке свежий кижуч идет по 150 рублей килограмм, а икра от 1200 рублей (кетовая) до 1600 (чавычовая и кижучовая), и в консервных банках ее покупают лишь идиоты, а нормальные люди берут развесную. Кстати, и целикового краба тоже покупают лишь туристы, платя не за вкуснятину, то есть за фаланги, а за панцирную несущественную пустоту, если пустотой считать красоту.
При этом в кафе, где мы все же находим в меню палтуса, цены московские, хотя палтус убит наваленной сверху дрянью с майонезом. А модное петропавловское кафе – оно ровно такое же, как и модное костромское, и владимирское, и московское. «Цезарь», солянка, роллы, кальян.
* * *
Странно живут в моем сознании собранные в коллекцию города. Вот один, не хочу даже называть, на большой реке, – никак не могу полюбить. Там массовый уличный тип – угрюмый мужик в спортивных штанах, черном кожане, смотрящий исподлобья. И ведь он не из вохры, он местный средний класс, вон тащит на прогулку сына: «Ща, мля, пойдем, мля, поющие фонтаны смотреть, мля». Поющие, то есть танцующие под музыку фонтаны они у себя устроили за 2 миллиона евро, повторив, в меру своего понимания прекрасного, то, что в Барселоне всех поразило в 1929-м. Но так и не пожелав узнать, что лучшие сейчас фонтаны – у нефтеносных арабов: то выписывают водою суры из Корана, то образуют туман (а на туман как на экран проецируются фильмы).
Это я к тому, что в Петропавловске мне как раз нравятся люди. Они открыты, приветливы, и, кстати, словоохотливы, что для меня вообще клад. Взять Витю, владельца гостиницы, в которой я живу. Его гостиничка (загородный коттедж в дюжину номеров, из которого по диким пробкам еще почти час добираться до города, он выстроен в красивом месте, но как-то нелепо, про эргономику молчу, про дизайн тем более, потому что если не смолчу, то закричу), – однако ж так, чтоб всем было хорошо, то есть чтоб у всех в номере душ и крантики в позолоте. Деньги на постройку Витя, скорее всего, отбивает не на туристах, а на праздничных корпоративных бардаках, – но это неважно, а важно, что хозяин гостиницы из Вити такой, каких я сто раз встречал во Франции или Испании: ожившее гостеприимство и счастье. Витя только что во Владивостоке был. Может, по-другому назвать?
– Собирай, – говорит, – своих ребят человек двадцать, и прилетай на хели-ски.
– А почему двадцать?
– Так вместимость вертолета, аренда, иначе невыгодно…
Начинаем считать: получается, что неделька катания на горных лыжах по вулканам Камчатки обойдется по 15 тысяч евро с носа.
– Спасибо, – говорю, – но дешевле в Чили взять яхту с вертолетной площадкой, спускаясь вдоль побережья. Или на Сицилию слетать, в жерле Этны покататься…
Витя вздыхает:
– Да… Это проблема – люди приезжают, природой восхищаются, но дорог нет, гостиниц нормальных нет, инфраструктуры нет, цены дикие, и больше не возвращаются…
О том, каким образом Витя в свои двадцать семь лет заработал на постройку коттеджа, он говорить избегает. Но вскользь замечает, что Камчатка живет рыбой. Выкупают люди квоты у МНС – малых народов севера – тем дозволено рыбу заготовлять тоннами. Или на грузовиках прут по бездорожью километров триста, когда в нерест в реках вместо воды одна рыба – но, понятно, берут только икру. Икра и рыба, рыба и икра. Шойгу вот прилетал, три дня учения МЧС проводил – так потом вся Камчатка гудела, что учения были только прикрытием и что борта улетали в Москву, полные икрой.
А то, что показывают по телевизору, мол, тонну левой игры перехватили и бульдозером по земле размазали – это для идиотов. Тонну перехватили, а сто тон пропустили, потому что всем отстегнули. И еще: зачем эту икру в землю было зарывать? Что, нельзя было детям, старикам или солдатикам отдать?!
Кстати, о детях: в камчатских магазинах маленькая бутылочка питьевого йогурта «Активия» стоит 120 рублей. А кило икры стоит столько же, сколько гигабайт закачки из интернета. И самый странный телефон здесь – iPhone: без интернета он теряет смысл, а с интернетом становится золотым.
* * *
Пожалуйста, не спрашивайте, побывал ли я в долине гейзеров.
И камчадалов тоже не спрашивайте, особенно если они многодетны.
Поездка в долину гейзеров обходится в три часа жизни (два часа на вертолет, час – на осмотр) и в 24 тысячи рублей с носа.
Так что отдыхать камчадалы предпочитают в Таиланде.
Двухнедельный тур, однако, стоит 150 тысяч рублей («Что-оо-о-о?! Сдурели?! Да из Москвы втрое дешевле!» – «Ну, кое-кто из Москвы и летит. Просто билет до Москвы и обратно под Новый год – 100 тысяч. Те, кто умнее, летят из Хабаровска».)
В общем, я не видел гейзеров, зато покупался в горячем источнике. Эти источники на Камчатке делятся на дикие и окультуренные. Окультуренный – это бассейнчик под открытым небом, в котором за двести рублей греешься сколько хочешь, но дольше четверти часа все равно не усидишь, а рядом обычного бассейна, чтобы поплавать, устроить никто не догадался. Диких же я не видел, потому что ехать до них далеко, а дорог на Камчатке нет.
По единственной здесь федеральной трассе А-401 ни в какой субъект федерации не добраться, потому что дорог, позволяющих выбраться с Камчатки своим ходом на Чукотку, в Хабаровск или в Магадан, нет вообще.
Федеральная трасса соединяет аэропорт и морпорт, и являет собой пробку на разбитом асфальте, чему никто не удивляется: одна из петропавловских дорог вообще называется ласково «бомбежка».
При этом на одного камчадала приходится полтора автомобиля; в семьях по три-четыре-пять машин – японских, подержанных, праворульных «автоматов» (четырехлетняя «Субару» в 265 «лошадей» – 800 тысяч; средняя зарплата – 25 тысяч).
Из интереса я выясняю, каков размер взяток, собираемый гаишниками, скажем, за выезд на «встречку» – и неожиданно обнаруживаю, что помимо тех, кто утверждает, что «звери» берут от 12 до 50 тысяч, есть и те, кто утверждает, что «звери» не берут вообще, а сразу отбирают права, так что лучше бы уж брали.
Но и те, и другие сходятся в том, что на посту при въезде в Вилючинск работает знаменитый камчатский гаишник Козлодоев, которому если какая машина не полюбится, он будет шмонать ее методично и ежедневно, проверяя, например, соответствие ГОСТу длины буксировочного троса, – и не обращая внимания на то, что «автоматы» на тросе буксировать вообще нельзя.
* * *
Шоферу такси я рассказываю, что на утренней пробежке в сопках чуть не заблудился и заблудился бы, когда бы не GPS.
Он одобрительно кивает головой:
– Я, когда по грибы еду, тоже только с GPS. Вон в прошлом году знакомая свой «джип» потеряла, ну, с трассы в сопки ушла, сама еле выбралась. Так мы потом машину вчетвером четыре часа искали!
Вокруг бушует даже не золотая, а какая-то червонно-пурпур-ная теплая осень («Осень – это наше камчатское лето», – замечает шофер). Недалеко за сопками – Тихий океан с черным вулканическим песком, как на Тенерифе, но купаться можно только в гидрокостюме: +12 даже в июле. Зато ходить по пляжу босиком приятно и при октябрьском солнце: в песке – 85 % железа, он хорошо прогревается. Пляж вычерпывают для строительных целей огромные экскаваторы. Океан за время штормов зализывает раны. Была даже идея добывать железо промышленным способом – но вовремя спохватились, поняв, что тогда берег не восстановить. Тихий океан поражает тем, что на берегу, от горизонта до горизонта, ни души, ни человечка, ни закусочной, ни даже пластикового мусора, которым завалены сопки в самом Петропавловске. Та сопка, на которой телевышка, откуда на город открывается открыточный вид с вулканом на заднике и на которую после метели взлетают на джипах сноубордисты, чтобы рвануть вниз по пухляку, – она своими склонами являет, по сути, городскую помойку.
– А у нас тут всегда так, – зло соглашается шофер, – где нет человека, там красотища, а где есть человек, там срач.
И выбрасывает окурок в пламенеющую осень из окошка леворульного такси «Рено», которые в Петропавловске появились после того, как Путин перекрыл импорт праворульных машин из Японии.
* * *
Когда я говорю коллегам в Петропавловске, что интернет вытесняет в Москве телевидение и радио, – на меня смотрят как на проповедника каббалы.
И когда снимаю на коммуникатор лежащих в городской черте сивучей, морских львов, и тут же посылаю картинку с комментарием в твиттер (а комментировать есть что: сивучи лежат на волнорезе у руин какого-то завода, посреди беспримерного дерьмища) – на меня тоже таращатся: твиттер для Камчатки такая же экзотика, какая для меня сивучи. Потому что Камчатке весь интернет идет через спутник, его возможности ограничены, а других возможностей нет, – а трафик нужен и военным, и МЧС, и администрации.
На обратном пути, уже после сивучей, когда мы проезжаем поселок Елизово, и машина после разбитой дороги переходит вдруг на почтительный, свежего асфальта, шепот, меня спрашивают:
– Догадаешься, с какого дуба тут свежий асфальт?
– А чего гадать? Либо Путин прилетал, либо губер живет!
– Ага, наш губернатор новый. Он себе под жилье детский садик переделал. Но это еще до губернаторства, он на платине заработал. У нас тут платину добывают.
Елки зеленые, они что, не видят этой своей тайной, то есть явной, символики: сивучи – на помойке, губернатор – в детском саду?!
* * *
– Приезжай, слышишь, обязательно приезжай еще. На лыжах кататься. У нас, учти, катаются все как боги, если девочка-мальчик плохо катаются, они в школе чуть не изгои. Приедешь?
Я грустно улыбаюсь. Я бы хотел приехать, но врать неохота.
Аэропорт в Петропавловске крохотный, самолет в Москву огромный, и рейс задерживают просто потому, что две створки спецконтроля за два часа регистрации не в состоянии переварить толпу, над которой возвышаются гигантские, двухметрового размаха, оленьи рога, которые везет парень в камуфляже, расстроенный – узнал, что за рога придется доплатить 16 тысяч рублей. Перед посадкой я делаю снимок – самолеты на фоне вулканов – и подбегает охранник, требующий все стереть, потому как это «объект», на что я вежливо отвечаю, что сфотографирую сейчас его самого и вышлю на твиттер президенту Медведеву. Мужик смущенно улыбается и отходит в сторону.
В самолете я думаю о том, что местные напоминают не имперских колонизаторов и не колонизованных аборигенов, а колонизованных колонистов, так будет точнее. Они живут на Камчатке всю жизнь как бы временно, то есть не всласть и не вразмах, не обустраивая красивейший край, а упрыгивая в личную жизнь, урывая кусочек из мира вокруг. И еще – о том, что у Москвы есть тьма резонов держать в руках Дальний Восток – икра, платина, щит и меч – но, скажите, какие у Дальнего Востока резоны держаться за Москву? Нет даже обычных колониальных соображений – типа, метрополия даст нам передовой опыт и вообще цивилизацию принесет.
Рядом со мной у иллюминатора сидит местный мужик. Знакомимся: отставной силовик. У него ранняя пенсия, раз в год бесплатный билет, вывезенная в Подмосковье семья и купленная в Подмосковье земля.
– А чего в отставку?
– Достало. Знаете, когда в ночи ребята из транспортной прокуратуры звонят и говорят, что им надо бы на одном судне груз по весу проверить, а им из «Единой России» угрожают и требуют не проверять, – это уже не прокуроры, и это не работа.
– А при Брежневе – что, из обкома не звонили?
– Да при Брежневе я бы в ЦК написал, и в обкоме бы за такое под суд пошли!
Мы взлетаем, и под крылом образуется вид, по красоте соперничающий с тем, что я видел как-то поутру, пролетая над Альпами, когда розовые макушки гор выныривали из океана облаков, как острова.
С Москвой восемь часов разницы, до Москвы восемь с лишним часов лету.
И в Альпы лететь из Москвы и дешевле, и проще.
2011КОММЕНТАРИЙ
Если региональный журнал опубликует текст про Москву – первопрестольная и бровью не поведет. Но если столичный журнал опубликует репортаж с периферии, там тотчас же поднимется переполох (собственно, этот эффект описан в очерке «Ивановский самиздат»).
К этому я привык, и в потоке комментариев на сайте ловлю только указания на фактические ошибки. Я очень благодарен моим добровольным корректорам. Однако «Одноразовая Камчатка» Камчатку, похоже, задела. Со мной спорили по всем пунктам – начиная от частоты землетрясений и заканчивая тем, какая именно дорога называется «бомбежкой». Правда, того, что гаишник Козлодоев – сволочуга редчайшая, не оспаривал никто (даже тот парень, который написал, что на самом деле у Козлодоева чуть иная фамилия. Но уж тут дудки – пусть именно Козлодоевым входит в историю!). А больше всех повеселила девушка, написавшая, что на Камчатке прожила всю жизнь, но того, о чем написал я, не видела ни разу. (Есть девушки в русских селеньях…)
А еще на меня обиделся владелец гостиницы, описанный под именем Вити. Он ведь искренне думал, что построил шикарный коттедж (да ему так все до меня и говорили). Но у меня такая профессия – писать то, что мне кажется правдой, даже если правда и кому-то и не по душе. Так что еще раз: Витя – отличный парень. А вот гостиничка у него – на «троечку с минусом». Если Витя построит другую, хотя бы на твердую «четверку», – обещаю непременно вернуться.
2014#Россия #Петербург За что я не люблю Москву
Теги: Золотые цепи, золотые купола и приблатненная крутизна. – Почему Москве Церетели к лицу. – Покупки на ярмарках тщеславия, выстрелы в тире честолюбия.
Нижеследующий антимосковский выпад частично объясним личным поводом, ибо по окончании Московского университета я не остался в Москве, а напротив, эмигрировал из первопрестольной в Петербург, благодаря чему московские друзья считают меня по меньшей мере странным. Тем более, что эмигрировал я, сжегши все мосты за спиною, включая предложение работы в модной газете и комнату с пропиской в Химках (а в Питере не светило ничего, и целый год я спал на столе редактора журнала «Аврора» и стирал носки в кастрюле на редакционной кухне).
Но уехал я потому, что в Москве приходилось делать, что нужно, а в эмиграции я мог жить, как хотел.
Кстати: готовы ли вы, граждане, платить цену за счастье, если цена ему – Москва? Вот за что я Москву не люблю: за этот конфуз неожиданного молчания. В первопрестольной, где знают толк в шопинге или устройстве карьеры, отчего-то конфузятся при словах «счастье» или, что еще неприличнее, «душа». Если при «душе» продвинутый москвич и оживляется, то лишь для рассказа о знакомом митрополите, который провел его на пасхальную службу, где были президент и мэр (у меня нет сомнений, что у москвичей и в аду будут самые теплые места).
Ужасно то, что подобная жизнь единственно возможна в Москве. В поезде, чуть покажется перрон Ленинградского вокзала, у меня самого презрительно вздергивается верхняя губа. И знакомым, вопрошающим, почему я не брошу свой провинциальный Санкт-Петербург, я помимо воли отвечаю, что в Питере я выгуливаю своего пса по Неве против Летнего сада, а из квартиры у меня вид на Петропавловку, что по московским понятиям равносильно виду на храм Христа Спасителя. И тогда знакомые удовлетворенно говорят: «Класс!», поскольку найден эквивалент.
А я понимаю, что я не люблю Москву за то, что здесь внешний успех важнее личного счастья, и за то, что она требует материальных доказательств успеха, на манер золотой цепи или золотых куполов, пусть за сравнение москвичи на меня и обидятся (за что, кстати, я Москву не люблю тоже). Но с точки зрения человека, привыкшего к абрису Исаакия, лысо-помпезное творение архитектора Тона – попросту моветон. И уж если ты такой эстет и громишь сиволапую бронзу на Манежной площади, тогда, пожалуйста, громи и Христа Спасителя вкупе с Большим Кремлевским дворцом, ибо они – зубы одного рта и зубья одной расчески.
Кстати, я не люблю Москву и за то, что хвала и хула здесь вопрос не вкуса, а моды. Московские снобы меня веселят, ибо страшатся признаться, что подлинная (и единственная) московская эстетика состоит в приблатненной крутизне. Так что к лицу Москве и церетелиевский памятник Петру, и клыковский памятник Жукову, и разрушение бассейнов, и строительство храмов (равно как и наоборот). В Петербурге же одной упакованной в кафель Неглинки хватило бы, чтоб навсегда вылететь из списка городов, охраняемых ЮНЕСКО.
То, в чем стесняется признаться богема, хорошо усвоили московские министерские мужички – знаете, из тех, что по-бабьи визгливо смеются в курилках, тряся телесами. Их хамство, мздоимство и льстивость вызваны смещением позвонков, заработанным стоянием на цыпочках в надежде глянуть за кремлевскую стену. Правильно, что они тянутся вверх: другой вариант означает падение вниз.
Что мужички! Мой однокурсник, владелец модного клуба «Туда-Сюда», не видев меня три года, первым делом говорит, что мой галстук ужасен. Между прочим, сам он до 20 лет жил в Белоруссии, а потом в общежитии МГУ на улице Шверника не брезговал пользоваться польским одеколоном «Газель». Ныне в глазах его весь холод жизни, но мне он сообщает, что купил за $15 000 золотой Rolex в дополнение к четырем таким же. А я в ответ несу про цену моего галстука и все ту же дурь про пса, Христа, Петра и Павла. Хотя хочу сказать простое: «Шура. Москва вечно меняется, а Петербург все тот же. Там каждое утро, выйдя из дома, можно идти по следам любви, проложенным в юности. Поехали в Питер, там никому ничего не надо доказывать. В гробу же, Шура, карманов нет, как это ни печально».
Должно быть, я не люблю Москву оттого, что я себе в ней не слишком нравлюсь. А чего, спрашивается, ожидать, когда палишь из ружья честолюбия в столичном тире, не разбирая результатов по причине социальной близорукости. В дыме и гаме ежедневной пристрелки я слышу дыхание миллионов, что навек в этой игре чужаки, как бы ни уверяли они в обратном. Но Москва не потерпит подобных признаний, ибо признавший поражение обречен стать мишенью. Я не то чтобы всегда на стороне жертвы. Просто мне не всегда нравится быть охотником.
В Петербурге, между прочим, ни одному журналу не придет в голову заказать статью о нелюбви к своему городу. В Москве же – как видите. Но это как раз то немногое, что меня как журналиста с существованием Москвы мирит.
1997КОММЕНТАРИЙ
Клуб «Туда-Сюда» – это Up&Down, было в Москве такое модное и дико дорогое заведение, которым наполовину владел мой однокурсник Саша Могучий. (Он затем открыл модную и дорогую «Красную шапочку» – стрип-клуб для женщин.) А текст этот я написал для журнала «Столица», где работал еще один мой однокурсник, Коля Фохт и где главредом был Сергей Мостовщиков – муж моей однокурсницы Лены Дудкевич. Москва – город маленький…
В 1997-м я как раз потерял работу в Питере. Вообще всю. Но поначалу не расстроился, потому что хотел выпускать журнал «Вторая столица», писал бизнес-план, посылал запросы в типографии, встречался с какими-то русскими эстонскими жуликами, которые гнули пальцы: «Да чо ты бюджет на 50 штук грина написал! Это не инвестиция! Ты на 100 штук напиши!». (Тогда среди разбогатевших жуликов была мода играть в медиамагнатов.)
Но за окном начинала мало-помалу строиться вертикаль власти, и все деньги стали стекаться в Москву. А средний россиянин начинал охотиться за деньгами, – и читать журналы (за исключением глянцевых журналов про моду) по этой причине ему было неохота. И региональная журналистика стала потихоньку вымирать, просто из питерского окна это было плохо видно. А жизнь в регионах перестала интересовать Москву совсем. И когда я начал обзванивать в Москве однокурсников, пытаясь продать хоть какие питерские темы, – интерес был соответствующим, то есть отсутствующим. Пока Коля Фохт не спросил, какого черта я не бросаю свой Питер и не перебираюсь в столицу, где полно и бабок, и работы. Я ответил: «Потому что терпеть не могу Москву». И тогда Фохт вскричал: «Классная тема! Вот это мы у тебя покупаем!»
2014БОНУС #Россия #Петербург Просто добавь воды
Теги: Петербург относится к Москве и стране, как Венеция к Риму и миру. – Структурный анализ и тень Дурново. – Кафе «Эльф» на Стремянной, системщики и декорации.
Идеальный Петербург относится к Москве и стране, как Венеция относится к Риму и миру.
В этой красивой – явно удавшейся – фразе стройной красоты больше, чем смысла. Но таков Петербург.
Форма здесь важнее содержания, легенда – реальности.
В Венеции позволительно жить миллионерам, интеллектуалам да наследникам славных родов, при удобном случае сдающим жилье первым двум видам. Аборигены селятся на континенте, в Местре, где набираются сил, чтобы обслуживать мир, которому так нужна Венеция – слишком маленькая, чтобы быть столицей, слишком красивая, чтобы быть реальностью – для врачевания душевных ран.
Венеция для любви безопасна. Каждый голубь на Сан-Марко получает от турагента посреднический процент. Все умерли. Но есть Петербург.
Мы живем в чудесное время.
В Петербурге нет орд с фотовспышками, нет трехзвездочных отелей, нет пансионов для семейного размещения, здесь ты все еще первооткрыватель и первопечатник. Марко Федоров.
Мы – избранные.
В свой первый Петербург я валялся три дня у приятеля на Апраксином переулке, в пяти минутах от нынешнего «Money Honey», где рокабильщиков тащит от «Балтики» и группы «Барбулятор». А тогда шли тихие снеги, как молодость. Было трехметровое зеркало между окнами, бульканье парового, бой репетира в напольных часах, кусок улицы в окне. Этого хватало. Питались пышками на Сенной. Там били женщину кнутом, селянку молодую. Рядом, на Вознесенском, утыкался в шинель нос майора Ковалева.
Как бы точнее объяснить? Открыточный, путеводительский город, с его Петром-Растрелли-Эрмитажем – вот его действительно нет. Его нет, как нет в сознании ни одной из тех дат, которыми сыпал экскурсовод. Есть другое.
Я белой ночью катаюсь по Петроградской стороне.
Вы белой ночью гуляете по Петроградской стороне.
В начале Кронверкского проспекта, у виллы Кшесинской, мы встречаемся. Читаю:
Мне далекое время мерещится Дом на стороне Петербургской Дочь степной небогатой помещицы, Ты на курсах, ты родом из Курска.Тот самый пастернаковский небоскреб, откуда он слушал соловьев, я вам покажу. Шесть этажей. Он где-то здесь.
Я буду в нейлоновых желтых перчатках с обрезанными пальцами, желтом шлеме, на темном велосипеде со злой, с глубокими протекторами, резиной. Узнаете.
ПЕТЕРБУРЖЦЫ
Кстати, о людях.
Город гениально поделен кольцом фабричных застав и шевелящимися мостами Обводного канала на острова и континент. На континенте – Местре, аборигены, Ульянки-Гражданки и станция метро с инквизиторским названием Дыбенко. Ни малейшего шанса сойтись с населением и узнать, почем брали турецкий кожан.
С петербуржцами вы знакомитесь по паролю чужого родства. Едете на Растанную к знакомым знакомых. Там узнается, что Маша – Нарышкина, Юра – правнук актера Самойлова, Антон же вырос в квартире Куинджи.
В этом городе так и должно быть.
Кондитер по вечерам немножко подрабатывает царем, а по средам на полставки – судьей, но палачом только раз в месяц, и это уже для туристов, потому что плаха бутафорская, да и преступника играет сосед. Министр чего-то, по совместительству.
Ну вот.
Как-то бог вынес навстречу мне из парадной одного из шаубовых домов, шпилями попадающих в небо над Австрийской площадью, старуху, толковавшую о тюрьме и суме.
– Как вас зовут? – спросил я.
– Дурново, – ответствовала она, глядя поверх рампы.
Не говори никому, все, что ты видел, забудь.
Я никогда не стану настоящим петербуржцем, потому что настоящий петербуржец не живет, а работает историческим экспонатом.
Настоящие нежные петербургские девушки рассказывают, как испуганно вскрикивает ночью рояль в Аничковом дворце, когда ушли все, а сторожа заснули.
Для сведения: Аничков дворец есть Дворец пионеров имени Жданова, как-то, впрочем, переименованный при Собчаке. Но рояль искать бессмысленно: звук будет не тот.
МИФЫ
Кстати, о звуках.
Лев Лурье – журналист, историк, основатель классической гимназии и вообще человек, занявший в Петербурге место примерно академика Лихачева в Ленинграде – в какой-то статье приписал Набокову Нобелевскую премию.
Бабушки с очками в десять диоптрий давали отповеди.
Между тем Лурье прав.
Набоков (дом, где он вырос, – в шаге от Исаакиевской площади и гостиницы «Астория» покажет всякая студентка с неглупым лицом) и есть нобелевский лауреат. То, что об этом неизвестно Нобелевскому комитету – проблема комитета. Кто – автор «Лужина» или какая-нибудь Сельма Лагерлеф – есть подлинный лауреат, спрашивается?
Миф – это внутренняя реальность.
Мест, лояльно устроенных по отношению к ней, на Земле почти нет. Организованный туризм убивает миф в угоду комфорту.
Петербург внутренне допускает иную возможность исторического хода.
Петр срубил ракиту, обозначая место для церкви, с неба спустился орел, диакон в отстроенной церкви видел кикимору и вопиял: «Быть пусту месту сему!», за что лишился ноздрей, рваных в Тайном приказе (полагаю, каленым железом).
Если разбираться, то не было ничего. Петр при закладке отсутствовал, и орлы на топи блат не гнездятся. Но, понимаете, было все, ибо город перед вами, с граффити и желтым запахом разбитых парадных.
В доме на Малой Морской, 10, жила княгиня Голицына. Она была Пиковой Дамой, что так же верно, как мелкий шаг старухи-процентщицы на Кривушах, 102, отмеряющий сокращающееся (заворачивающееся жгутом) пространство жизни. А за гигантской аркой на Ждановской набережной (имя – по речке Ждановке) прогревают автомобили во дворе, откуда стартовал 18 августа 192… года на Марс инженер Лось. Летательный аппарат, если помните, был яйцевидной формы.
Для развенчания мифов давайте встретимся ночью, без пяти два, на площади Коннетабля перед Михайловским замком, у конного памятника Петру работы Растрелли (кстати – первого памятника Петру и первого конного памятника в России, кочевавшего полвека туда-сюда по городу). Займем позицию метрах в двух от копыта. Когда часы на башне начнут бить, копыто дрогнет и начнет шевелиться.
Я экспериментировал дважды, и дважды бежал, подобно пушкинскому Евгению на картинке помянутого выше Бенуа.
Я буду в пальто цвета соли и перца, в берете, заломленном на ухо. Узнаете.
МЕСТА
Кстати, о местах встреч.
Рекомендую Артиллерийский музей.
Приходить одному.
Там барочная красота орудий мужских игр при правильном маршруте вытесняется завораживающей индустриальной силой конвейерной смерти. Эпоха Цусимы – красота мускула стали. Верден был в каждой петербургской квартире. Вторая мировая убила и это. Выходя на свет, кусаешь губы и сглатываешь слезы, навечно пронзенный эпохой, когда в черных доках собирали жирно проклепанные броненосцы.
Для подъема на верхний этаж лестницы устранены в пользу пандусов.
Ты катишь себя по ним, как гаубицу среднего калибра, и в отчаянии прокручиваешь маршрут назад, к разноцветной старательности потешных войск.
В Артиллерийском музее, в Кронверке, надо рвом которого казнили пятерых под жестяную дробь барабанов, женщины понимают, что такое обида мальчишки: узнать, что необитаемых островов не осталось.
После этого влюбляешься в жуткий Обводный канал. Кирпичные красные трубы. Американские железные мосты. Путиловский гудок. Точка отсчета. Когда московский поезд проезжает Обводный, значит, можно одеваться и выходить из купе.
Или вот еще: лебединое озеро.
Это в Приморском парке Победы. Немыслимый канцелярит – функция охранительная. Чашища мертвого стадиона имени Кирова. Подниматься на роликах кругами к его вершине, откуда – залив, лодки, новостройки, два сухогруза и Кронштадт на горизонте. Пометить в памяти: «Зайти в муз. – кварт. Кирова на Каменноостровском. Чучела, мебель, выст. детск. рис. «За детство счастливое наше спасибо, родная страна».
Молодое, спортивное место. Гимназисты в белых брючках в лаун-теннисном азарте. Байдарки. Яхт-клуб. Роллерблейдеры.
Я ныряю в березовую рощу к озеру, где от ступеней ложноклассического, как шаль Ахматовой, павильона, можно кормить доверчивых лебедей.
Никто вам не скажет про это озеро.
Пот капает с лица, разогретого кружением по стадиону.
Зигфрид кормит левой рукой лебедей, а правой набирает sms Одетте.
ЛЕНИНГРАД
Кстати, о любви.
Я знаю скорость петербургского исторического пищеварения.
Здесь люди превращаются в воспоминание раньше, чем встречают вас на перроне.
Моей жене уже не хватает того чистого пустоватого города, со строгими необветшалыми фасадами, каким был Ленинград.
Я тоже тоскую теперь по нему.
Там действовала таинственная «Система» – структура, не имевшая структуры и сфер приложения.
Мальчики и девочки, с хэйрами и бисерными фенечками, собирались («тусоваться» слетело на язык году в 1985-м) на углу Стремянной и Поварского, где была гостиница «Париж», где встречались Тургенев и Виардо (умоляю, не проверяйте). Дом был разрушен авиабомбой, образовался пустырь.
С еще одной дверью в другую реальность.
Системщики это чувствовали, и спешили обменяться самиздатовским Бродским до того, как его издадут.
Меня приводила туда Баба Фима – густоволосая девушка со вскинутыми бровями, работавшая курьером в журнале «Аврора», где я тоже работал и жил, отвинчивая по ночам боковину банкетки в кабинете редактора и пододвигая стул для устройства ложа.
Я ночевал в бывших казармах Преображенского полка – тех самых, где жил Германн; выходивших окнами на дом Адомини, в котором жил Герман, даже два Германа, Юрий и Алексей.
А днем Баба Фима таскала меня на Стремянную, мы пили «маленький двойной» в исчезнувшем ныне кафе «Эльф», который, в отличие от Системы, помнят все.
Баба Фима сгинула на Трассе, как называлась дорога Ленинград-Москва, по которой автостопом передвигались системщики.
Мы с женой, поднакопив деньжат, купили квартиру на Петроградской стороне.
Петроградская – это сторона башенок, шпилей, нелинейных улиц, отскока и отпрыга в сторону от идеи державности в пользу буржуазной, частной жизни.
Во всех книжках издательства «Детская литература» в матерчатых переплетах, читанных во время школьных ангин, есть такой город: с выносными лифтами и двориками, где выгуливают одного на двоих пса мальчик и девочка.
Жена просит обязательно дописать, что от Ленинграда в Петербурге сохранилась нестыдность ощущения душевной смуты и нестыдность бедной жизни. Нет ничего зазорного в том, чтобы жить в коммуналке, с протечкой по лепнине и соседями в халатах и тренировочных штанах. Город все равно твой.
Я дописываю.
На мне черный шелковый костюм производства FOSP, фабрики одежды Санкт-Петербурга. В трех километрах от меня ее хрустальные окна эпохи art nouveau плещут рыбий жир электричества прямо в Мойку.
ЭПИЛОГ
Петербург – это декорация, созданная для спектакля по превращению маленькой, сухопутной Руси в морскую имперскую Россию. Жемчужные колонны греминского дворца. Кто там в малиновом берете. Бал.
Спектакль отыгран. Театр пустует. Можно выйти на сцену, пройтись по залу или попросить огоньку у брандмейстера, скучающего без работы.
Входных билетов не существует.
Лучшей декорации для любви – тоже.
2003КОММЕНТАРИЙ
2003 год был горячей порой для продажи пирожков с петербургской начинкой. У меня была на пирожки, если так можно сказать, лицензия. Вышедшая за год до этого книга «Недвижимый Петербург», посвященная петербургской недвижимости, принесла трем авторам – историку Льву Лурье, журналисту Игорю Порошину и мне – Анциферовский диплом, краеведческий знак качества. Может быть, Лурье этот знак был как Брежневу очередной орден, а мне так очень даже пригодился. Мне стали звонить из журналов больших и малых и просили «что-нибудь написать про Петербург по теме 300-летия». Я на этом зарабатывал подобно ряженому Петру на фотосъемке в Петропавловской крепости…
Но этот текст меня просил написать мой давний знакомый Сережа Николаевич – один из самых деликатных и элегантных мужчин нашего времени и тех же достоинств журналист. Он тогда был замглавреда журнала Elle. Я с ним как-то столкнулся в театре, и он сказал, что журнал Elle проводит конкурс на лучшее эссе о Петербурге и что я обязан участвовать.
Я занял третье место.
Лауреатов чествовали в Мраморном дворце.
На знаменитой лестнице на каждом марше стояли застывшие юноши с серебряными шандалами в руках, а в шандалах пылали алые свечи. Я пишу об этом не затем, чтобы похвастать лауреатством – а затем, чтобы похвастать наблюдением, тогда еще не приходившим в головы петербуржцам: оказывается, большие деньги, если они потрачены со вкусом, невероятно украшают город, ничуть не разрушая миф о его гордыне, которую глупо связывать лишь с бедной честностью.
В общем, если нужно кому-то устроить в Петербурге праздник, – к Николаевичу, к Николаевичу! Тем более что гостиниц и гостиничек теперь в Петербурге невероятное количество на любой кошелек и вкус, а в низкий сезон, который в Питере круглый год, за исключением Нового года да белых ночей, номера в них стоят невероятно дешево.
2014БОНУС #Россия #Петербург 300 лет одной ошибки
Теги: Хельсинки и Одесса в качестве петербургской альтернативы. – Миф как зазор между ожиданием и реальностью. – Белая ночь как машина времени.
Столицей Российской империи, как замышлял ее Петр, должна была стать, конечно, Одесса: морской порт с веселым характером и приятным климатом. Молодой царь очень тосковал по югу. Однако с южной кампанией не сложилось, на Черном море нас умыли – пришлось идти на Север.
Если бы шведов отогнали еще на 380 километров, столицей российской империи стал бы Гельсингфорс, Хельсинки, и мы, поцелованные Гольфстримом, получили бы в подарок незамерзающий порт.
Однако вышло, как вышло. В мае 1703 года Александр Меньшиков на незначительном островке Енисаари в устье Невы заложил крепость. Многие историки полагают, что Петр в тот день был вообще в отъезде, и в любом случае об окне в Европу никто не думал: нужно было прикрыть с моря проход к Ладоге – так вот вам крышка с ручкой.
То есть Санкт-Петербург – это столица-случайность и город-ошибка, о чем сказать хотят многие, но стесняются, подбирая эвфемизмы: «умышленный город», «город-миф» и так далее. Да что там! Ошибка.
Петербург – это история о том, как хотели одного, а получали другое, причем столь удивительное, что думаешь: да Бог с ним, с замыслом. Петербург оттого и таинственен для многих реалистов, даже, не побоюсь сказать, для циников зрелого возраста, что каждым своим камнем, шпицем, щипцом ставит вопрос о соотношении целей, средств и результата.
Вот самые поздние доказательства.
Во времена холодного как вчерашний суп члена Политбюро Романова Ленинград превратился в столицу подпольной рок-музыки и хиппи-движения, знаменитой «системы». Причем борьба с инакомыслием привела к тому, что Ленинград стал оплотом оппозиции режиму. В самый глухой застой ленинградский журнал «Аврора» публиковал, например, рассказ писателя Голявкина «Юбилейная речь», в котором усмотрели карикатуру на Брежнева (я писал об этом выше). Редакцию разогнали, Голявкин разошелся в самиздате. Ни писатель, ни издатель ничего подобного не замышляли, но таков Петербург.
Во времена Собчака, грезящего о славе Wall Street, финансового центра, Петербург неожиданно обратился в город-праздник, город-фиесту. Игры Доброй воли; свадьба Пугачевой и Киркорова; Генри Киссинджер и Лайза Минелли; Сергей Курехин, под военный оркестр пакующий в фольгу Эдуарда Хиля. Вернулись Одоевцева и ангел на шпиль Петропавловки (последний – под грандиозный фейерверк и музыку Гребенщикова). С банковским центром – провал.
Наконец, в наши дни, при хозяйственниках у власти, ремонтниках дорог и водопроводов, Петербург стал пивной, пельменной, филармонической и гей-столицей России. От Калининграда до Хабаровска едят «Дарью» и пьют «Балтику», клуб «69» признается лучшим клубом страны, а Мариинский театр – лучшим музыкальным театром мира. При этом трубы как текли, так и текут.
Здесь всегда такое случается.
И если вы едете в Петербург с четкой целью, и графы органайзера заполнены волевым почерком – святой Петр в помощь. Он проследит, чтобы все у вас вышло абсолютно не так, чтобы туман завел корабль не в ту гавань – но в гавань.
* * *
Миф не значит обман. Миф не есть выдумка в духе носовских «Фантазеров». Миф – это зазор между ожиданием и реальностью, открывающий дверь в иную реальность.
Взять самое известное: белые ночи. Начать с того, что не белые. В два пополуночи даже в июне темно, но фонари не включают, что бесит водителей, ослепляемых встречными фарами. В Архангельске, Мурманске, Копенгагене летние ночи несравнимо светлее. К тому же в пору самых длинных ночей погода в Петербурге часто дурна, моросит дождь.
Однако ни Архангельск, ни Копенгаген не обладают силой, заставляющей не спать этими самыми не слишком светлыми ночами, гуляя по набережным, катаясь на корабликах или роликовых коньках.
Гуляющие и катающиеся абсолютно правы.
Белая ночь – это для города единственный способ избавиться от людей, предстать самим собой, скелетом, каменной оболочкой, поскольку другие средства, вроде чумы и войны, в цивилизованном обществе не проходят.
Для людей же белая ночь – машина времени. Все так или примерно так, как было при Пушкине или в блокаду. Приметы эпохи, вроде проводов и спутниковых тарелок, сглажены сумерками. Разведенные мосты обрывают и без того скудеющий автомобильный поток. Люди растворены до теней. Тихо, и на Петроградской стороне можно слышать соловья, которого слушал молодой Живаго. Сходное ощущение испытывали москвичи в ноябре 1982-го, когда хоронили Брежнева: абсолютно зачищенный от людей и машин центр среди дня. Милиционеры нервно поеживались.
Пустой, свободный ото всего город – явление столь невозможное, что заслуживает особой реальности. Если хотите совсем уж потустороннего результата, отправляйтесь гулять белой ночью не по туристским набережным, а куда-нибудь в глухую подмышку Коломны, к Калинкину мосту. Мало не покажется.
* * *
Важный вклад в становление петербургских мифов внесли Пушкин с «Полтавой» и издательство «Просвещение», навыпускавшее учебников с наивным растолкованием квадратно-гнездового устройства «северной Венеции».
Эти два текста склеились, совместились в сознании. Получилось, что «дворцы нависли над водами» и «темно-зелеными садами ее покрылись берега» – это и есть Петербург Петра, он же Петербург Пушкина, он же наш Петербург, где дворец – Зимний, а сад – Летний.
Между тем Петербург Петра – сумбурное, запутанное устройство улочек в районе Троицкой площади, где когда-то были «фахверковые», то есть глинобитные, Сенат и Синод, а ныне высится громада обкомовского дома, прозванного «гимном колоннам» (в нем жил секретарь Романов). Главная же дорога («Невская першпектива») была океаном садов и парков с утонувшими в них усадьбами аристократов – прочие домишки лепились к тракту, как челядь к барину.
Ничего от той поры не сохранилось, не считая Домика Петра (упакованного в кирпичный футляр), перестроенной крепости да Тучкова Буяна работы Ринальди (не самой удачной работы).
Тот линейный, четкий город, который мы знаем, сложился к восстанию декабристов, к исходу царствования Александра I, плешивого щеголя, врага труда (опять-таки несовпадение ощущения эпохи и результата).
Пушкин был первым, кто заметил в Петербурге красоту города. Потом про нее забыли, почти столетие замечая лишь ледяной, чиновничий Петербург с бритвенными контрастами роскоши и нищеты, от холода которого Чайковский, например, нырял в теплую варежку Москвы.
А второй раз о красоте заговорили после революции, при порфироносной вдовости. Стали расти кружки и общества по изучению истории, возник скучный термин «краеведение», а Мандельштам заметил пробивающуюся траву забвения на Невском и написал: «Твой брат, Петрополь, умирает».
И теперь мы никак не можем глянуть на Петербург, что называется, объективно. Нам втерты литературные очки. Они замечательно искажают перспективу. Вымышленные люди оказываются живее живых. Германн томится в каждом казино. Акакий Акакиевич в оперативках угро навечно.
* * *
Тот Петербург, который глядит на нас с открыток – это Петербург XIX века.
XIX век – вообще вершина столичного имперского торжества. Забыто, как по смерти Петра двор бежал в Москву. Забыто, как при Бироне казнили на Обжорном (ныне известном как Сытном) рынке патриота Еропкина. Забыто пруссофильство Павла. Стилевые несуразицы вроде греческого классицизма или бонапартовского ампира перемолоты, переварены в соку российского государственного желудка. Но по петербургской безумной логике именно в этом веке империи начинает изменять архитектура. Она перестает быть явлением государственным, становясь делом частным.
А что? В первую четверть века планировка города завершена. Росси оформляет выход Невского к Неве полукруглым Главным штабом с его знаменитой аркой (лично я считаю Дворцовую площадь самой элегантной площадью мира). Воронихин возводит Казанский собор с его ватиканской колоннадой. Захаров – Адмиралтейство. Фантастический проект: обреченное на казенную тоску, подавляющее размерами зданьище смотрится легко, как елочная игрушка.
Все.
С государственной точки зрения, архитектуре в Петербурге больше делать нечего. Все сколько-нибудь заметное, известное, вечное – от Смольного монастыря со Смольным училищем до Инженерного замка – построено.
Во второй половине XIX века, когда Петербург окончательно превращается в выставку достижений империи (железная дорога, порошковая металлургия, электрический свет), петербургская архитектура перестает обслуживать власть и принимает частный заказ. Так стартует «русский стиль» – неравный брак Мавритании с Берендеевкой. Так заявляют о себе новые хозяева России – промышленники, фабриканты и торговцы.
К началу XX века стилевое разноголосье, впрочем, будет укрощено: грядет Серебряный век, век модерна. Имперское самодержавие его не заметит. Оно увлечено геополитикой, башнями главного калибра линейных кораблей, идеей подчинения всех единой воле. А Серебряный век – парение индивидуализма, игнорирующего империю. По Невскому выгуливает лангуста с позолоченными усами поэзофутурист Северянин (усы позолочены именно у лангуста). В «Бродячей собаке» поэт Георгий Иванов шепчет двусмысленное разом Адамовичу и Одоевцевой. Мандельштам увлечен Саломеей Андрониковой. Гумилев – Африкой и Ахматовой. И доходные шестиэтажные дома на Каменноостровском проспекте (механические прачечные, гаражи) изукрашены не орлами, но ирисами. Зазор между политической и поэтической реальностью так велик, что в него без хлопот въезжает известный броневик с Ульяновым-Лениным и под угрозой расстрела утверждает лагерную, серую, кондовую до рвоты власть. Петербург на 70 лет застывает, – принцесса, уколотая веретеном.
* * *
Все столицы мира делятся на имперские и неимперские. Петербург – имперский город.
Только империя способна на жертву. И единственно в этом ее честь и величие. Жертва – это объективно ненужное сверхусилие. Что-то вроде Карнака, Царьграда или Петербурга. Это то, чего не может позволить себе народовластие. Это то, что переживет фанеру республики, какую бы великую державу она из себя ни строила.
Это из петербуржца Крусанова, из его «Укуса ангела» – альтернативной истории России и одновременно гимна империи и войне. Роман до смерти напугал либеральную критику.
С абсолютно мирным, расслабленно-рассеянным (как и большинство петербуржцев) Павлом Крусановым вполне можно столкнуться в одной из кофеен на солнечной стороне Невского проспекта, по которой гуляет приличная публика. Крусанов расскажет про ясенелистный клен, растущий у него в окне, но вряд ли будет говорить про могов из Объединенного Петербургского Могущества (в котором, по слухам, состоит). Попробуйте все же выпытать, собираются ли моги на шабаши, и правда ли они умеют разгонять над Васильевским островом облака.
Ведь Петербург – это избыточное, рационально не обоснованное усилие.
Усилие, приводящее к прямо противоположному результату.
В результате чего иная реальность торжествует над привычкой.
И душа торжествует над плотью.
А гранит, волны, ветер торжествуют над душой.
На второй такой город больше нет сил.
2003КОММЕНТАРИЙ
Словом «бонус», напомню, я помечаю тексты, которые являются скорее текстами-гидами, нежели социальными очерками. Конкретно этот текст был мне заказан к юбилею Петербурга журналом GEO. Задачи обоих типов текстов сходны в пробуждении мысли, но инструментарий для этого используется разный. Например, задача текста-гида – создать образ места. Потому что даты, имена отцов-основателей или архитекторов, – это все ерунда. Я до сих пор помню, как гидесса в Венеции, кивнув на пьяцца Сан-Марко со знаменитым Duomo, знаменитыми голубями и знаменитыми непарными колоннами (на одной – крылатый лев), воскликнула: «Да разве ж это город! Здесь, обратите внимание, голуби ходят пешком, а летают исключительно львы!».
Петербург – это город, в котором вообще мало что можно понять, если у тебя не сложился образ города. И то, что Петербург, по сути, колоссальная ошибка (такая же, как стоящая на стрелке Васильевского острова Биржа, этот античный храм – о господи, ну зачем северному городу с его бесконечной зимой эта колоннада, призванная защищать от зноя греческого солнца?!) – вполне корректный образ. Как и предположение, что более удобной столицей Российской империи были бы Хельсинки или Одесса. И не говорите только, что «история не знает сослагательного наклонения» – это обычная увертка политиков, которым надо прикрывать свои гадости и глупости.
Хороший историк знает, что у любой истории альтернатива есть.
2014#Россия #Петербург Козы на склоне
Теги: Аборигены на римских развалинах. – Петербургский снобизм и петербургское жлобство. – Монополия на историю и задачи конкистадора.
Умоляю, только не в Питер в этом мае.
После краха империй чудо как хороши развалины Колизея, их не портят ни просящие милостыню лаццарони, ни пейзане, пасущие по соседству коз. Но смотреть на ряженых под императоров аборигенов, орущих с завыванием: «Быть граду сему!», тупить глаз завитушками на растяжках: «300 лет! Красуйся, град Петров!» – увольте. «Завитушки – это, типа, культура».
Редкий путешественник избежит волчьей питерской ямы, образованной формой города и содержимым.
Спектакль отыгран, декорация осталась, в театре засели на постой пожарные, сантехники и престарелые (интеллигентные) дамы из литчасти. Они всерьез считают себя наследниками традиций. В мае у них праздник и повод сотворить месткомовское торжество. Стенгазета с цветочками, стишки, Розенбаум и шампанское, полусладкое и полугадкое.
Самый большой миф, не столько созданный Петербургом, сколько жадно впитанный страной – вовсе не миф белых ночей. Это сказка о том, что есть оазис, населенный тонкими, одухотворенными, благородными людьми.
Как и любой миф, он порожден душевным авитаминозом, недовольством физиономией в зеркале и взысканием идеала.
Граждане страны по имени Россия так и не выработали иммунитета к штамму народничества, сводящегося en gros к тому, что есть кто-то – кто по классовой сути, по факту происхождения или месту проживания – но лучше тебя.
В действительности же средний петербуржец – средней вредности жлоб. Я отдам их десяток за парочку голодных до жизни москвичей или стеснительных, как подростки в гостях, костромичей или вологодцев.
Когда я бегаю по набережным (чу! Летний сад, «Аврора» и Ши-Цзы), то режу подошвы кроссовок, а моя собака – лапы. Петербург – единственный город страны, где принято, допив пиво из горла, бить оземь бутылки. В провинции не бьют, поскольку бутылка стоит денег, а в Москве – просто потому, что не бьют.
На Невском, с поезда, полчаса тяну руку: хоть бы один гад остановился подбросить до Петропавловки. В Москве в таких случаях материализуются разом машины три, и поездка в пять километров обходится от полтинника до сотни. Здесь же – злобный взгляд и требование отдать двести. Всю дорогу водила, врубив «Шансон» (здесь на FM целых два «Шансона»), будет хаять зажравшихся москвичей.
И ты поедешь, ты помчишься по той слегка твердой поверхности суши, которую здесь называют дорогами.
Да: бойтесь быть в Петербурге за рулем. Мало того, что нет разметки, мало того, что яма на яме, мало того, что гаишники пузырятся в левиафанском количестве в надежде на отстегнутое бабло (о! мой рекорд – три проверки за час!), так еще никто не уступает дорогу. Здесь все дорожные права у жлобья на джипах, признающиеся безоговорочно жлобьем на «жигулях».(…Я не злобствую. Заметки натуралиста. Честный Дидель описал повадки птичьи…)
Ладно, качество дорог не зависит от воли аборигена. Не он виноват, что в тридцать мороза здесь вспарывают асфальт, отогревают землю в специальных шатрах и укладывают посреди января тротуарную плитку. Не он виноват, что местный губернатор называет этот труд идиотов прорывом в благоустройстве. Но за этого губера, глядя в незатейливое лицо которого прозреваешь взаимосвязь двух главных российских бед, проголосовал – кто? Кто обеспечил ему победу в первом же туре?!
Что там политика, что – выборы! В Петербурге не принято здороваться с незнакомыми в подъездах. На твое «здрас-с-сь…» реагируют, как на лязг затвора «калаша». Подъезды здесь затем, чтобы в них ссать. Меня они, впрочем, возненавидят не за «ссать», а за то, что написал «подъезд» вместо «парадная». Неграматна-а-ай!
Я их не ненавижу. Я просто по отношению к ним брезглив. Брезглив к жлобью и к интеллигентам, которые всегда есть продолжение совка и, следовательно, жлобья.
Здесь по-прежнему советская власть, куда более советская, чем в какой-нибудь Костомукше, куда не дошли IKEA и «Перекресток».
Советская власть – это торжество идеологии над комфортом и разумностью устройства жизни. Это оправдание неудобства и дискомфорта тем, что есть чуждое, навязанное, бесчеловечное государственное начальство, на которое ты не можешь влиять и от которого не можешь сбежать.
Здесь турникеты в метро по типу заводских проходных – так, что бьешься о них мошонкой. Здесь нет указателей на дорогах. Здесь не надеть белую обувь. Здесь по утрам ездят особые загрязнительные машины, взбивающие щетками пыль, что тучей оседает весь день. Здесь до кромешной тьмы не включают фонари. Здесь нет профессий «сантехник» и «дворник». Здесь женщины не ухожены. Здесь мужчины отстойно одеты. Здесь парень в турецкой коже… лет примерно двадцати… обнимает девку в юбке типа «господи, прости», – как писал поэт Быков, хотя и по иному поводу. Другой рукой этот парень опрокидывает в рот бутылку «Арсенального», а, допив, отшвыривает со словами: «Пиздец, бля». Это и есть настоящий петербуржец.
Собственно, Петербург рубежа веков – урок, напоминание, что жлобью нельзя оставлять ни малейшей возможности для оправдания. Что маленького человечка жалеть нечего, а жалеющих его – тем более. Что слово «традиция» воняет так же, как коммунальный подъезд. Что интеллигентом вне советской власти быть стыдно. Что советская власть должна быть изничтожена. Что монополии на историю не существует.
Блистательный Петербург – всехний, всеобщий.
Когда они отгундосят и отопьют свое 300-летие, мы, конквистадоры в панцирях железных, приедем туда, найдем себе квартиры, будем гулять и колбаситься в ночных клубах на набережной Лейтенанта Шмидта, у ночующих кораблей.
Нам нужно взять этот красивый город в свое полное распоряжение. Закрыть его на полгодика на дезинфекцию, и, не обращая внимания на вопли прогрессивной общественности, технологично, с чувством, с расстановкой, начать жить, поглядывая сквозь эркер на освещаемый закатным солнцем Колизей.
Козы склон не портят. А у пастушек родятся от нас красивые дети.
2003КОММЕНТАРИЙ
Этот очерк был написан для журнала GQ, и только благодаря этому, полагаю, меня в Питере не побили: это в Москве почитают GQ флагманом интеллектуального «глянца», а в Питере читателей «глянца» полагают уродами. По крайней мере, средний питерец в 2003 году скорее удушился бы, чем отдал за GQ 120 рублей. Попалить те же деньги на пивко – другое дело.
Хотя прошло 9 лет, мое отношение к среднему питерцу осталось настороженным. Я вообще настороженно отношусь ко всему среднему и серому, будь то социальный класс или цвет одежды. И та серая скука, те серые воровство и кумовство, которые накрыли страну в 2000-х, – они как раз были определены эстетикой взявшей власть ленинградско-питерской команды: Путиным, Сечиным, Нарышкиным, двумя Ивановыми, Кожиным.
Я не знаю, с какого именно времени серое стало доминировать в эстетике города. Историк Лев Лурье считает, что перелом случился в начале 1950-х, когда места вымерших в блокаду и убитых на фронте ленинградцев стали занимать приехавшие по трудовому лимиту. Их задача была – не насладиться, а закрепиться, добившись любой ценой жилплощади и матблаг, невозможных в провинции. Эта версия похожа на правду.
Мое настороженное отношение к петербуржцам ничуть не влияет на мое восторженное отношение к Петербургу. Это Париж перестанет быть Парижем, если из него убрать парижан (не случайно по Парижу интереснее гулять днем, чем ночью). А Питеру, городу-декорации, отсутствие дурных актеров только идет на пользу. Безлюдный ночной Питер особенно красив.
Значит ли это, что я никого из питерцев не ценю (ну, кроме Льва Лурье)?
Вовсе нет. Питерских интеллектуалов – от Аркадия Ипполитова до Александра Секацкого – я и вовсе ставлю выше интеллектуалов московских, особенно если учесть, что «московский интеллектуал» звучит как оксюморон. И вообще мне мой питерский круг – от Леонида Десятникова до Павла Крусанова – бесконечно интересен, более того: я им горжусь.
Откуда ж эти люди в сером городе взялись, спросите?
Отвечаю: алмазы рождаются под давлением.
2014#Россия #Петербург Блаженство духом
Теги: Почему петербургский бедняк не товарищ ни московскому, ни саратовскому. – Почему богачу в Москве завидуют, а в Питере над ним смеются. – Почему Ахматова не жалела Акакия Акакиевича.
На концерте в Малом зале филармонии – на Невском проспекте – меня охватил кашель. Кто хоть раз испытал, тот поймет. Тем более – концерт фортепианный. Комкая воздух в трахеях, я в поту дожидался паузы между руколомным Дебюсси и хрестоматийным Шуманом, и вот – ура.
У меня было хорошее настроение. Я выпил шампанского. Я был прилично одет. За роялем был Мишель Шаплен – лучший исполнитель Дебюсси в мире. Если честно, моим настроением все перечисленное руководило именно в такой последовательности. И вот, вдобавок к этому счастью я, наконец, прокашлялся.
И тут сосед, который был, несомненно, интеллигентен, трачен жизнью, как молью, и знал про импрессионизм в музыке абсолютно все, с ненавистью прошипел, что надо пить таблетки, что не надо ходить на концерты и что постыдился бы я.
Я вскипел, невероятно расстроив жену, которая сто раз говорила, что в таких случаях отвечать нужно скромно: «Спасибо, вы напомнили мне, что я нахожусь в культурной столице России». А не выглядеть в своем кипении самоваром.
Знаю, да.
В Петербурге глупо разъяснять, что стремление учить, поучать, лечить – есть первейший признак советскости или, по крайней мере, неевропейскости. В Лондоне, где я жил последнее время, кашляющего соседа будут либо терпеть, либо от него отсядут, либо предложат какой-нибудь Strepsils.
В Петербурге бедность, неуспех чаще, чем где бы то ни было, проявляются в агрессивной защите своей территории. Нувориш на «Хованщине» – объект анекдота, хотя, казалось бы, надо радоваться, что он пошел в оперу, а не в кабак. Здесь чаще, чем где-либо, защищают право быть неуспешным. Сирым. Убогим. Начитанным. В очках, вышедших из моды лет двадцать назад. С придыханием говорящим «культура». Собирающим непременную дань ощущения неполноценности со всех, кто на иномарке, но Пушкина не читает. Пушкина не отдадим-с. Наш-с. И руки, если сунут, отобьем-с.
У этой позиции фундамент держится на стольких сваях, что урагану времени не свалить. Интеллигентность и бедность, осанна культуре и бедность, почтение к традициям и бедность – это все явления одного порядка, ибо основаны на простенькой схеме: требовании платить за потребление, а не за производство. Причем на том единственном основании, что это потребление не колбасы или водки, а музыки, истории, литературы или (и что даже важнее) жизненного страдания.
Петербург постсоветского времени, хоть и не без изменений юбилейного обустройства, остался во многом городом шантажирующей нищеты. Нищеты, настаивающей на праве превосходства бедняка – над богачом-мироедом, непризнанного гения – над тиражируемым автором, графомана – над успешным профессионалом, скромного знатока культуры – над богатеньким дилетантом.
Эта отличается от ситуации в других городах.
Московский бедняк, ненавидя толстосума, проецирует на него претензии к самому себе: что недостаточно умен, образован, трудолюбив, жесток, хитер (по сравнению с толстосумом). Но, завидев малейшую социальную щель, он мгновенно укрепляется в ней, плющом тянется вверх, глядишь – вот уже и покупает «девятку», а затем меняет ее на «дэу», «гольф», «лексус», не испытывая ни малейшего сострадания к тем, кто остался ниже. От московской бедности до нуворишей – один шаг, и оттого в Москве даже среди бедняков прибедняться не принято. Скорее наоборот.
Провинциальный бедняк, ненавидя богача, на самом деле ненавидит условия, которые не позволяют ему жить «не хуже других»: стороннюю силу. Он обречен прибедняться, но его манят, зовут обои с золотой финтифлюшкой, ковер под ногами, хрустальная люстра и телевизор с большим экраном – дайте только деньгам прийти в регион.
Петербургский бедняк совсем иной. Он бедняк с идеологическим обоснованием: Макар Девушкин, Акакий Акакиевич. Богатство, деньги, успех для него – не проекция неблагоприятных условий или собственной слабости. Он хотел бы уничтожить богача не от злобы или из зависти, а оттого, что этот мир успешных, довольных и, как правило, энергичных людей сужает площадь его тихой заводи. Отдать им ее? Господи, ну это ж как Курилы – Японии. Не то чтобы позарез нужны. Просто отдать их – значит предать идею.
Петербургские риелторы рассказывают потрясающие истории про старушек-вымогательниц, получавших за оставшиеся последними в цепочке расселений коммунальные комнаты по 70 тысяч долларов – то есть про старушек, так сказать, московского типа. Но на практике они куда чаще сталкиваются с коммунальным народцем, который отказывается расселяться за любые деньги. А что? Здесь же соседка Тася. Три привычных плиты в кухне на пять семей. Лампочка на 25 ватт в сортире. Я могу Тасе плюнуть в борщ. И пошли вы все, а будете воду мутить – я Путину напишу, мы ж ветераны труда.
Что пенсионеры! В Петербурге среди моих вполне юных, то есть до 50 лет, знакомых, есть спивающийся художник, отказывающийся сделать для клиента копию старой картины, и есть так и не добившийся популярности журналист, твердящий формулу профнепригодности: «на заказ не пишу». Они талантливые люди. Сделав простой шаг к потребностям других – и никому не сделав дурного – они могли бы улучшить свое материальное положение и обрести ту энергию, которую несут с собой деньги. Однако они не хотят: они боятся большей игры, большего мира, больших возможностей. Я полагаю, что боятся большей ответственности. Боятся держать на плече часть мира, которую ты получаешь всегда, вместе с деньгами вступая в игру, а с большими деньгами – в большую игру.
Ужасно не то, что эти люди отстаивают свое право на подобную жизнь, а точнее, на подобную смерть. Каждый, кто смотрел ужастик про кладбища, знает, что право на смерть – свято. Ужасно то, что они виртуозно освоили механизм вымогательства. Не назовешь же ведь старой гадиной старушку-блокадницу даже тогда, когда она гадина и есть. Еще ужаснее то, что они мнут, подминают под себя и закон, и прецедент, который могли бы использовать те, кто намерен жить. Никто не смеет тронуть засравшие сотни километров земли садоводства, с их архитектурным полиомиелитом, хотя это напрямую оскорбляет Творение и зарождает сомнения в существовании Творца. Но как приятно – атуууу! Геть, сволочь, геть! – добиваться сноса постройки миллионной дачи, построенной без разрешения. Никто не может бросить укоризненный взор на газетку, убого прикрывающую окно вместо штор или жалюзи. Но как же приятно не дать разрешение построить над потолком мансарду! Не дать сменить разводку отопления, перекрыть крышу, тронуть нашу могилку!
В Петербурге Макар Девушкин – национальный герой, годный для поклонения и уважения. Достоевский – певец честной бедности. Никто не хочет замечать, что советский командированный, которого, по словам Мандельштама, нет «ни страшней, ни нелепей» – это ведь тот же Акакий Акакиевич, Макар Девушкин.
Эти связь и цепь давно были бы прерваны, если бы не посредник: интеллигент. Интеллигентность и бедность, одинаковы ваши приметы. И, собственно, грех защиты Акакия Акакиевича – это тяжкий грех, достойный того, чтобы не жалеть о вымирании класса. Петербург – все еще интеллигентный город. К сожалению. Это правда.
Оттащите интеллигента от бедняка – он окажется просто слабовольным лентяем, отделите Солженицына от Матрены – и она станет просто бабой-грязнулей, которой несчастья жизни все – поделом.
Петербург и так лет на пять отстает от Москвы – даже не по числу супермаркетов или отремонтированных крыш (здесь отставание лет на семь), а по выражению сытости, удовлетворенности на лицах в толпе. По запахам в метро. По доброжелательности на остановках. Деньги, в которых для интеллигентных петербуржцев символизировано сакральное зло, могли бы эту ситуацию изменить. Тем более что деньги, судя по всему, в город приходить будут.
Глупо надеяться изменить классического советского ленинградца, отчаянно борящегося за право жить среди геранек и текущих труб парового отопления.
Еще глупее останавливать того, кто хочет эти трубы починить.
И уж совсем глупо, невозможно, преступно поощрять что словом, что делом тех, кто искренне пытается доказать, что первые – святые, а вторые – негодяи.
«Проблемы маленького человека нет, и жалеть Акакия Акакиевича не за что».
Цитату узнаете?
Правильно, Ахматова.
2004КОММЕНТАРИЙ
Помните, какой главный врачебный дар был у доктора Живаго? Правильно: диагноста. Талант распознать разные болезни за одинаковыми признаками. Вот почему настоящие диагносты – на вес золота: ошибки диагностов диагностируются уже патологоанатомами.
Увы, я не Живаго.
В 2003-м я не понимал, что интересы Акакия Акакиевича – включая имущественные, то есть право не отдавать никому свою собственность, на какой бы ладан она ни дышала – следует защищать хотя бы потому, что если не защищать, то однажды тебя самого объявят Акакием Акакиевичем (именно по этой схеме началось великое выселение старожилов из центров столиц, со спешным объявлением их жилья «аварийным»; точно так же сносились исторические здания на Невском, не говоря про Москву). Да, в 2003-м я глупо верил, что любые жалобы на бедность проистекают исключительно от дурости, лености, от рабской тяги к патернализму. Теперь я понимаю, что бывают ситуации, в которых на бедность обречены все, вне зависимости от таланта или трудолюбия. И ситуации, когда достаток обеспечивается личной преданностью, а не талантом (что стало нормой при Путине). И вообще, за прошедшие годы категории «богач-бедняк» стали мне казаться совершенно ерундовыми при оценке жизни и счастья, не говоря уж о любви.
А под остальным – подпишусь и сегодня.
2014#Россия #Петербург Балтийское заливное
Теги: Приморское шоссе и Балтийский залив как эквивалент Рублевки. – Приморское шоссе и Балтийский залив как антипод Рублевки. – Почему Комарово не Ново-Огарево, Репино не Жуковка, а Солнечное не Чигасово.
Трюизмы вроде «всюду есть своя Рублевка, и Петербург не исключение» благосклонно принимаются публикой: а с чего бы нет? Пять минут от северной границы Питера – и, натурально, Рублевка. Тот же чистый, нерубленый сосновый бор. То же небыстрое двухрядное шоссе. Рестораны «У камина» или «Бастион» – чем не «Царская охота» или «Веранда»? Та же анекдотичная скученность неорусских фазенд, где с балкона один набоб может при желании помочиться на балкон другого набоба.
Однако есть местные особенности, couleur locale. В двухсотых номерах домов Приморского шоссе, там, где оно в страстном прыжке впервые целуется с заливом, выстроен поселок миллионеров, окруженный какой-то фантастической (метра четыре кирпича, стекла и чугуна) стеной. В середине стена неожиданно вдавливается внутрь буквой «п», в которую мелкой горошиной закатилась (то есть с советских времен сохранилась) независимая хибара. Там живут местные Макары Девушкины: лицом к стенке. Бедно, но гордо.
Цены на землю такие: в первой линии пляжа – до $50 тысяч за сотку (чем крупнее участок, тем дороже), на второй линии за шоссе – до $25 тысяч, вверх-влево-вправо по Курортному району – $2–5 тысяч, даже если до шоссе полчаса по грунтовке, и озера рядом нет, и соседи на грядке поплавками вверх до полуночи. Правда, цена во многом условна: дачу академика в соснах с ландышами попросту не купить. Терпеливые ждут годами.
Но все же петербургский Залив московской Рублевке – антипод. Идея Рублевки – в закрытости, изоляции от людского стада с его с шаурмой и пивом из пластиковых бутылей, которое пасется на загаженных публичных пляжах Серебряного бора. Но каким транспортом, спрашивается, поклонники шаурмы до Жуковки или Николиной горы доберутся? Откуда возьмут бабло заплатить в «Причале»? Кто пустит их в Чигасово?
Идея петербургского Залива – в открытости миру. Выглядящая игрушечной железная дорога (именно с вводом ее в строй в 1870-м и стал осваиваться Залив. До этого модно было жить на юге: поближе к Семье, к дворцам Царского Села, Павловска, Петродворца). Три параллельных шоссе. Изгои на Заливе – не приезжие, а обитатели резерваций, отрезанные оградой и охраной ото всего, ради чего приезжает на Залив модный петербуржец. От моря с виндсерферами; от дюн с загорающими topless прогрессивными девушками; от нудистского пляжа с еще более прогрессивными девушками (и дедушками, подглядывающими за девушками); от россыпи кафе open air на берегу; от велосипедных прогулок вдоль моря, от мини-гольфа при реконструированных санаториях; от растущих тут и там мотелей, в которые заваливаются на выходные любовники и влюбленные; от спальных мест в Доме кинематографистов и Доме писателей, где душ в коридоре, но все почти даром.
«Мы ужинали в Жуковке, рядом сидели Авен и этот, забыл, из администрации президента» – это один вариант. «Мы барбекю в дюнах делали, а потом на великах в Комарово рванули, были на могиле Ахматовой и Курехина, а ночевали у Пети, у них свой пляж через дом от Чукоккалы, танцы устроили прямо на берегу» – другой. Почувствуйте разницу.
И если Рублевка не ведет никуда, кроме как к нужным знакомствам, большим деньгам, Генеральной прокуратуре, офшорам, трансферам – то Залив, причудливо меняясь, ведет и к горным лыжам на Пухтоловой горе, и к даун-хиллу на Красном озере, и к шхерам и фьордам под Выборгом, где когда-то скрывалась подлодка из «Секретного фарватера». В конце концов, петляя мимо волн, озер, гранита, сосен, дач академиков, актеров, музыкантов, режиссеров, телезвезд, Приморское шоссе приводит в Финляндию. То есть в Европу.
2006КОММЕНТАРИЙ
Непитерскому читателю вот какую вещь важно учесть. Дачка или садоводство даже в советские времена считались в Ленинграде правилом, а не исключением. У моих московских однокурсников дачи были мало у кого (в основном у детей и внуков военных – например, у Димы Рогозина: да-да, того самого, впоследствии ставшего вице-премьером). В Иваново ни у кого из моих одноклассников вообще не было дач – там ездили в деревню к бабушкам. В Питере же все знакомые были с домиком за городом. Аннексированную финскую территорию нарезали дольками по шесть соток обильно, от Куоккалы-Солнечного до Виипури-Выборга, хватало на всех.
Думаю, эта тотальная наделенность землей вкупе с близостью моря – с Невского проспекта на машине полчаса до Сестрорецка! – и определила внутренний демократизм питерских загородных развлечений: провести день на заливе или за городом у друзей может каждый.
Что касается цен на землю, то первые 6 соток, примыкающие к нашим 6 соткам в огромном садоводстве близ Пухтоловой горы, мы купили у соседей в 2004-м за 500 долларов. В 2006-м прикупили еще 6 соток, – уже за 3000 долларов. В 2011-м нам пришлось заплатить государству за право эти 6 соток приватизировать больше 12 тысяч долларов. К этому времени государство в России превратилось и в бизнесмена, и в монополиста, и в рвача.
2014#Россия #Петербург В ожидании Альмодовара
Теги: Питер как Мекка гуляки. – Испанская movida и правила русской жизни. – Жизнь в России как недогляд начальства.
– Мии-и-иш!.. Доставай фотик быстрее! Уплывуу-у-у-ут! – кричит дама в панаме на мосту через Кронверкскую протоку. Мост ведет на Заячий остров с Петропавловской крепостью и могилами царей. Под мостом, на деревянной свае – бронзовый заяц, в которого принято кидать монетку. Удержалась на свае – значит, будет счастье. Ну, а из Невы в протоку, на фоне Мраморного дворца, мимо зайца, мимо панамы, на скорости, прыгая на волнах, вылетают болиды – один, другой, третий… И дама кричит, и муж – в шортах, сандалиях и черных носках – быстро щелкает фотиком: кр-р-расота!
Приезжие не знают (да и питерцы, признаться, не знают), что спешить незачем: после полуденного выстрела катера будут гонять вокруг крепости целых 24 часа – это у них, между прочим, чемпионат мира.
Но все, кто любуется катерами, хорошо чувствуют это питерское летнее, «белоночное», в роскошных архитектурных декорациях, разлюли-разгуляевское настроение.
Питер – пожалуй, единственный в России город круглосуточной и почти что круглогодичной фиесты, публичного спектакля. Вся Нева, все каналы и реки забиты яхтами, катерами, лодками, лодчонками, байдарками; в половине второго ночи, когда начинают разводить мосты, река обретает вид бульона с клецками, а порой и буйабеса. По всем дорогам, дорожкам, тропинкам носятся велосипедисты: кто на низкорослых трюкаческих, напоминающих пони, BMX, кто на длиннющих ситибайках, похожих на «харлей-дэвидсоны». Колонна настоящих «харлеев», вся во флагах и мигающих огоньках, пролетает по главным улицам чуть ли не с оркестром. В Александровском парке играет рок-группа, рядом жонглируют огнем, – граждане, постелив на газон коврики, достают снедь: ужин на траве, и все (кроме снеди) бесплатно. Заплатив же 500 рублей и пройдя на пляж с классическим видом на Биржу и цепочку дворцов, попадаешь на джазовый фестиваль, присоседившийся к выставке песчаной скульптуры. На всех мало-мальски пригодных площадях и площадках – танцоры на роликах, каталы на мокиках, экскурсанты на этих, как их, забыл, – на двухколесных таких пепелацах с электромоторчиком, с которых невозможно свалиться, но Буш-младший умудрился… А, вспомнил, – сегвеи! Сегвейщики стаями – вообще фишка сезона. Как и велорикши.
И вода, и твердь, и небо – все забито гуляками (в небе барражирует вертолет).
Там, где твердь смыкается с водой, – свои приколы. Компашки на гидроциклах поджидают, когда к гранитным шарам на стрелке Васильевского острова спустится свадьба, – и гонят к брачующимся на всех парах, лихо разворачиваясь в метре от жениха с невестой. Пара секунд – и все мокры насквозь, и в бокалах вместо шампанского невская вода. Хулиганье, конечно. Или аниматоры – это как посмотреть.
И это лишь малая часть картины.
На открытых террасах на Невском забиты все столики.
Залив покрыт яхтами, кайтами, виндсерфами.
Мариинский театр на двух сценах дает до четырех представлений в день (последнее начинается в десять вечера), и толпа, заплатившая по 1000 рублей за «Адскую комедию» с Джоном Малковичем и пятью сопрано, вываливается из концертного зала в тихий рай ночной Коломны (той самой, где жила возлюбленная пушкинского Евгения Параша и где доживали век однодумы-генералы, не обзаведшиеся собственными домами в Царском Селе). В этой Коломне, сразу за абрисом Новой Голландии с гигантской аркой, – другая жизнь: дядечки в трениках, тетечки в бигудях, собачки потрепанных пород, сады, огороды, и ощущение такое, что заблеет за забором овца и взлетит на забор кочет… И тоже красота.
Малковича же везут до третьих петухов ужинать куда-нибудь в «Мансарду» с невероятным видом на Исаакиевский собор, а по Исаакиевской площади гуляют Кароль Буке и Павел Лунгин (а месяцем ранее гуляли Депардье и Фанни Ардан, – в Питере то кинофорум, то киносъемки… На последних съемках Депардье, кстати, играл Распутина, Ардан – императрицу Александру Федоровну. Расстрел царской семьи снимали на площади Искусств на императорской гауптвахте; гауптвахта оказалась военным объектом; в итоге Ардан, как иностранку, в день съемок не пустили на собственный расстрел – и Питер со смехом повторял ее царственное: «Ну, значит, поживу дольше, чем планировала…»). И всюду в ночи – фейерверки, фейерверки, фейерверки… А на Островах – музыка, дамы, танцы…
Я даю эту картину не только потому, что люблю Петербург. Хотя я очень его люблю: настолько, что если бы его не было, для меня бы исчез повод в России оставаться.
Я так подробно описываю питерское роскошное-ленивое гуляние (на фоне которого так смешны бегущие по Москве люди, потратившие деньги в магазинах и торопящиеся тратить оставшееся в ресторанах) потому, что у довольно многих людей возникает вопрос: а что ж это в Питере все гуляют? Все поют? Они что, не знают, как коротко северное лето, карикатура южных зим, – а зима в России всегда катит в глаза? Или это такой пир во время чумы – ничего не видеть, не слышать, не знать? А может, Питер – это такой северный Сочи, где, мы знаем, дурные галечные пляжи, грязноватое море, диковатый сервис, плоховатые гостиницы, чудовищные цены, но полно отдыхающих? Такой русский ответ на несчастья жизни?
Отвечаю: это не ответ, не прожигание и не реакция на чуму (которую многие из питерских праздных гуляк хотели бы послать на все дома российской власти). Это – рост грибов после теплых дней и обильных дождей. Это явление человеческой природы.
Объясняю: Питер – город имитационный, псевдоевропейский, то есть не выросший естественно вокруг площадей возле храмов, рынков и ратуш, а устроенный по приказу, чтобы было, говоря современным языком, круче, чем на Западе. Чтобы европейцы ахнули и задрожали от русской жизни, как некогда варяжская княгиня Хельга, больше известная под русским именем Ольга, ахнула от вида Константинополя и, задрожав, крестилась в греческую веру (по крайней мере, по одной из версий). Эту умышленность, нарочитость Петербурга замечали и Гоголь, и Достоевский, да хоть Мережковский («Надо прожить несколько лет в Европе, чтобы почувствовать, что Петербург все еще не европейский город, а какая-то огромная каменная чухонская деревня. Невытанцевавшаяся Европа», – писал он в 1900-х в очерке «Зимние радуги», вошедшем затем в сборник «Больная Россия»). Но обезьянничанье и утирание носа привело к обильному появлению общественных пространств «как в Европе», – бульваров, парков, набережных, проспектов. Европейский город, начиная еще с Афин и Рима – это ведь прежде всего общественные пространства, где все жители равны. А поскольку Питер не центр и силенок у местной власти маловато, то проконтролировать все пространства она не может. Ну, побить десяток-другой демонстрантов у Гостиного двора, – это да. Разогнать велопробег на Дворцовой, этих холопов, решивших покататься в те дни, когда баре в Константиновском дворце трындели про великую Россию, – тоже. Так ведь это все из цикла «от него кровопролитие ждали, а он чижика съел», а чтоб по-настоящему всех прищучить, – тут, слава богу, слабо.
А поле, когда его не вытаптывают менты, омоновцы, гэбэшники и фэсэошники, – оно мгновенно начинает прорастать и цветами, и злаками, и деревьями, и кустами.
Вот почему так мертва Красная площадь в Москве – умерщвленное охран(к)ой пространство (где даже приличный фотоаппарат достать нельзя, только «мыльницу», там вообще все запрещено).
Вот откуда эта фиеста, с движняком, уличными концертами, оркестрами, певцами, спортсменами, капитанами, – петербургская мовида.
Кстати, movida, если запамятовали, – это испанский неологизм, родившийся после смерти диктатора Франко и означавший, с одной стороны, культурный подъем (это мовида подняла на гребень волны Альмодовара!), а с другой – невозможную при Франко уличную фиесту, в которую и сейчас легко окунуться, стоит приехать в Мадрид или в Барселону.
Вот и в Питере мовида идет, потому что место есть, а диктатора нет – потому что жизнь в России вообще возможна только по слабости или недосмотру власти.
Эх, забраться на крышу, что ли, с друзьями и с шампанским – и, любуясь фейерверками, ангелом над крепостью да корабликами на Неве, выпить если не за смерть Франко, то за здоровье Альмодовара?..
2011КОММЕНТАРИЙ
Хорошая новость: на Красной площади теперь фотографируй, сколько хочешь. И на улицах, и в частных торговых центрах, и в метро, и на вокзалах, и в аэропортах. Этого во многом добилось движение фотографов во главе с блогером Ильей Варламовым. Варламов, опираясь на закон, фотографировал там, где хотел, а когда ревнители запретов ему фотографировать запрещали (а бывало, и доставляли в кутузку), он эти запрещения тоже фотографировал и выкладывал в интернет. А еще он требовал дать объяснения, на основании чего ему запрещают. И выяснялось, что Варламов был прав, а его гонители неправы, и благодаря интернету это мгновенно становилось известно. И тысячи других фотографов следовали Варламову, отвоевывая право жить так, как они хотят, – то есть жить.
А потом к движению с требованием к государству убрать свои лапы от наших жизней стали примыкать уже никакие не фотографы, журналисты или правозащитники, – а просто люди, которых достало, что охранники и охранка командуют, когда, на какую площадь, по каким дням, в каком количестве и под какими знаменами (или воздушными шариками, или с ленточками на груди) можно выходить. Так случилась в Москве на исходе 2011 года Болотная площадь.
А потом, когда люди решили, что они вообще свободны жить как хотят, вернулся Путин, и произошло то, что произошло, хотя пока еще не до конца произошло, – и это все, что я пока могу сказать.
Потому что на русской улице за окном – не только дивно похорошевший к Олимпийским играм Сочи, но и в тот момент, когда я это пишу, покрытый колоннами военных машин со снятыми номерными знаками Крым.
2014#Россия #Петербург Питерский исход
Теги: Улучшает ли генофонд города отъезд чиновников. – Мелкий бизнес и внутренний смысл городов. – Что будет, если Путин сбежит из Москвы.
Удивительное дело! Стоит заговорить о революции, войне, эмиграции, – как немедленно начинается: «Вымирание нации! Оскудение генофонда!».
А из Питера в Москву в ходе чубайсовского, а потом и путинского призыва уехали сотни и тысячи госуправленцев, а вслед за ними десятки тысяч молодых растиньяков – но про оскудение генофонда и вымирание второй столицы как-то молчок.
И правильно, что молчок: город после этого великого исхода даже как-то подозрительно похорошел. Я вовсе не про реставрацию фасадов, а про то, что жить в Петербурге последние годы становится комфортнее, чем в Москве.
В радиусе километра от моей петербургской квартиры открылся, наверное, уже десятый по счету мини-отель. Столь большое число лодок и катеров у Аничкова моста я видел только на дореволюционном снимке, и то с подписью «Живорыбные садки на Фонтанке». Недорогих и дико вкусных китайских ресторанов в городе уже больше сотни. Ресторанчики вдоль залива, где едят шашлык и любуются видом на Балтику, образуют непрерывную цепь. Вертолеты над городом летают, яхты Неву рассекают, виндсерферы прямо у кромки Васильевского острова резвятся, собравшиеся в стада роллерблейдеры и велосипедисты мчатся, музыкальные фонтаны поют. На Дворцовой площади играют Rolling Stones, у Петропавловки – Слава Полунин. В небе всю ночь фейерверки, а в шесть утра Невский запружен пестрой молодой толпой: это не на работу, это догуливает ночная тусовка. Фиеста с ночи и до утра. Прямо Рио-де-Жанейро.
Соблазнительно, конечно, из этой картины вывести обратную формулу: мол, всем лучшим в себе город обязан отъезду чиновников, – но это была бы прекрасная, но неправда. Правда заключается в том, что всем лучшим в себе город обязан частному бизнесу, причем по-питерски не слишком крупному, в известной степени семейному, дружески домашнему, что образует иной, очень уютный масштаб жизни. Это как жизнь в трехэтажном домике (такова, кстати, в Петербурге средняя этажность) по сравнению с жизнью в небоскребе.
Вот мой знакомый банкир Михаил живет от меня через дом. Своей жене Жанне он подарил кафе в этом доме. В зале – дизайн фламандского толка, на окнах со стороны улицы пылают цветы, и Жанна звонит и зовет попить чаю с бисквитами. Мы идем и берем с собой друзей. Один – ресторатор и владелец трех гастрономических заведений, другой – винный торговец, открывающий уже пятый магазинчик с погребом и зальчиком для дегустаций. На дегустации у него встречаются владелец ночного клуба, еще одного ресторана, управляющий фарфоровым производством, торговец автомобилями и торговец тканями. У меня в Петербурге среди знакомых вообще не владельцев какого-нибудь весьма украшающего город бизнеса не осталось: есть владелица косметологической клиники и владелица парикмахерской, есть хозяин лесопилки и владелец фабрики по выпуску дорожных знаков, есть владельцы архитектурного бюро, есть знакомые рестораторы (человек семь) и отельеры (двое)… Даже хозяева киностудии! Все ходят друг к другу: пообедать, подстричься, посоветоваться, заказать проект, выпить, посмотреть, оттянуться. «Творческая интеллигенция» (бог мой, что за слово!) среди этих буржуа выглядит своею: по крайней мере, в этом кругу у меня есть знакомый книгоиздатель и семья переводчиков, пустившая избыточную квартиру в коммерческий оборот. И даже с крупным бизнесом – с каким-нибудь номером пятнадцатым из питерских «форбсов» с капиталом $380 миллионов встречаешься запросто на чьем-нибудь дне рождения или на вечеринке по случаю открытия магазина колониальных товаров.
В Москве, кстати, при невероятном круге знакомств я знаю всего лишь десяток владельцев своего бизнеса, и то один из них – Роман Абрамович. Зато знакомых чиновников, политиков, завов и замов – даже не пруд пруди, а океан.
Понимаете, к чему это я? Для города критичен не исход горожан, а исход тех горожан, на которых держится внутренний городской смысл. Внутренний смысл сегодняшней Москвы – сжимать кулак государственной власти. Внутренний смысл сегодняшнего Петербурга – быть городом-праздником в декорациях империи, эдаким Мариинским театром на 5 миллионов зрителей (подозреваю, что у декораций рухнувших империй иного смысла не найти). Сбежит завтра Путин в Александрову слободу – и все, больше нет Москвы. А для Петербурга будет критичен не отъезд в Москву Матвиенко, а той полутысячи китайцев, что работают в своих гастрономических шалманах, и той полусотни первоклассных шефов, что превратили город в гастрономическую столицу России, и тех капитанов, что катают по каналам и рекам, – виноват, если всех незаменимых не упомяну.
И что самое любопытное, почти никто из представителей этих славных профессий в Москву не перебрался. Попробовал было знаменитый шеф Илья Лазерсон, первым начавший экспериментировать с высокой русской кухней, – но, говорят, не прижился, вернулся.
И, я так думаю, правильно сделал, что вернулся.
То есть правильно то, что чиновники уезжали и будут уезжать, а что люди, делающие свои города городами, останутся.
Мне бы тоже пора возвращаться назад.
Вот только зарегистрирую ИЧП «Дмитрий Губин» – и тоже запущу что-нибудь петербургское в оборот.
2007КОММЕНТАРИЙ
Увы, виндсерферы у кромки Васильевского острова больше не резвятся: там начали насыпать новые территории (ну, или разворовывать бюджет – не знаю точно, у нас это часто синонимы), но бросили, и теперь там, где вился вольный парус, – заболоченная помойка. Это успела реализовать свои представления о прекрасном Валентина Матвиенко – перед тем как сменить кресло питерского губернатора на кресло спикера сената (т. е. на пост главы опереточного, декорационного, потемкинского сената – это для нее такая отставка и синекура в одном лице). Впрочем, в истории города Глупова замена одного градоначальника на другого меняет только эстетику, но не суть правления: сменивший лихую распорядительницу земель Валентину Матвиенко глубоко православный Георгий Полтавченко ввел обычай молебнов в Смольном (не в Смольном соборе, а в здании Смольного института, где располагается петербургская власть), сам Смольный собор (где был концертный зал) вернул церкви, стал издавать за госсчет душеспасительную литературу и одобрять крестные ходы на Невском. Благодаря Полтавченко в питерский деловой обиход вошло, например, словосочетание «православный девелопмент»: это когда в среду и пятницу (постные дни) в Смольный нельзя подавать документы на землеотвод или строительство, все равно их рассматривать никто не будет – а надо подавать в дни скоромные и через доверенного (в смысле имеющего доверие в Смольном) батюшку.
То есть по-прежнему, чем меньше в Петербурге (да и в любом российском городе) госучастия и госприсутствия, тем лучше.
Спросите хоть того самого парня из питерских «форбсов» – по имени Борис Белоцерковский, – хоть его жену Нику Белоцерковскую, издающую по лицензии русский TimeOut и пекущую как пирожки книги недурных кулинарных рецептов с дурным названием «Рецептыши».
2014#Россия #Петербург Ночь, улица, фонарь, аптека. Аптека, улица, фонарь
Теги: Про бордюры и поребрики. – Про кольцевую и конечную. – Вообще про все принципиальные отличия двух столиц, если забыть про слова и перейти к делам.
В журнале «Огонек», где я работаю, есть рубрика «О своем / со стороны». Идея проста: русский журналист пишет, что его поразило в мире; иностранный – что поразило у нас.
Анекдот в том, что «со стороны» пишут тоже русские журналисты, и по банальной причине. Когда обратились к иностранным, они, как под копирку, стали писать про одно: как их поразила Москва, зачищенная под проезд Путина, с замершими «скорыми» и пожарными – когда с «крякалками» и «мигалками» по московской пустыне летит царский кортеж.
А недавно в одном издании меня спросили, как мне идея рубрики «У нас / у них», в которой москвичи бы говорили о том, что их поразило в Петербурге, а петербуржцы – о том, что поразило в Москве.
Вместо ответа я устроил опрос своих ездящих туда-сюда знакомых. Каково же было мое изумление, когда ответы снова сошлись как под копирку!
Итак, москвичей потрясали:
Ужасные туалеты на Московском вокзале.
Отсутствие парковки у Московского вокзала.
Закрывающееся в полночь (а не в час ночи, как в Москве) метро и в 20 часов – кассы предварительной продажи билетов на поезда.
Медленный темп жизни.
Цены в киосках на Московском вокзале.
Питерцев же, соответственно:
Чудовищные туалеты на Ленинградском вокзале.
Куча-мала вместо парковки у Ленинградского вокзала.
Пробки на Тверской в полночь.
Безумный темп жизни.
200 рублей за чашку кофе-чая в среднем московском кафе.
А больше всего меня поразило – тут я кинулся к архиву, не может такого быть, но я эту запись нашел! – что и 25 лет назад жителей двух столиц больше всего ужасались сортирам-побратимам и разнице темпов жизни.
Чай, правда, в СССР был по копейке без сахара, а проблемы парковок и пробок не было вообще. Но в целом «повторилось все, как встарь» – просто-таки по Блоку.
Рубрика тихо умерла.
2008КОММЕНТАРИЙ
За 6 лет чашка кофе-чая в модном московском кафе подорожала раза в полтора, хотя это, конечно, не рекорд подорожаний. Бокал вина в Москве дешевле 250 рублей стало найти вообще нереально (в некоторых местах цены стартуют от 500–600 рублей, а в некоторых вино стали тарифицировать по 50 граммов, как водку, порцию же водки отсчитывают от 20 граммов, и я все жду, когда дойдет до 10). Правда, – будем считать, в порядке компенсации – на Ленинградском вокзале провели ремонт, сделавший вокзал неотличимым от торгового центра (а торговый центр в Москве – это разом капище, ристалище и святилище). Но с туалетами в этом железнодорожном капище все о’кей. В Питере же, где с напитками ситуация не столь печальна, беспорточный посетитель сортира Московского вокзала по-прежнему изображает из себя орла. А что вы хотите? Эта птичка – наш герб!
2014#Россия #Петербург Мечеть в окне
Теги: Русский страх проснуться в мусульманской стране. – Русская идея одинаковости. – Страна действия и шарм инородности.
Я уже довольно давно живу на два города, Москву и Петербург, и скоростной поезд «Сапсан» использую как избу-читальню. Скапливаются в обоих городах недочитанные газеты, журналы, – и вот есть время и место с ними разобраться.
Порой случаются примечательные находки.
Открываю газету «Мой район», в том варианте, в каком она выходит для жителей центрального округа Москвы, где я по рабочим дням квартирую. Мне, сразу скажу, очень нравится эта бесплатная и, казалось бы, невеликая газета. Там рядом с высокой политикой невиннейшим образом присутствуют рубрики типа «Автобусные экскурсии», заметки «Гаджеты для пенсионеров», а также сообщения о днях рождения детишек, – что вкупе превращает население района в community, в общество, да и меня самого из квартиранта – в жителя. Я в Европе немало видел таких рассчитанных на местное community газет (или даже газеток, печатающихся в крохотных поселочках на струйном принтере: начался сезон рыбалки, муниципалитет принял решение установить второй светофор) – и рад, что добралось и до нас…
Так вот, открываю свежий, октябрьский, московский «Мой район». Читаю: против разрешения на строительство на Волжском бульваре в Текстильщиках мечети и медресе выступают «инициативные группы местных жителей, общественное движение «Мой двор», а также националистические организации. Перца конфликту придает то, что ранее инициативные местные товарищи обращались в местную управу с просьбой построить на бульваре православную церковь, но получили ответ, что это невозможно «из-за большого количества коммуникаций».
Газета, понятно, не пишет – и, возможно, правильно делает, – что один из сильнейших страхов, который живет в современном горожанине титульной нации сразу после страха попасть в лапы к ментам, – это страх в одно прекрасное утро проснуться в «мусульманской стране». Где за словом «мусульманский» стоит не ислам как идеология (большинство страшащихся не в состоянии даже примерно сказать, чем шииты отличаются от суннитов, и неизменно разевают рот, услышав, что ислам признает Христа пророком, да и вообще вместе с иудаизмом и христианством относится к аврамическим, то есть однокоренным, религиям) – а ислам как эстетика, внешнее проявление. Вроде того, что устроила однажды арт-группа «AES+F» в рамках «Исламского проекта», где посредством фотошопа показала, как могли бы выглядеть города мира (включая Москву), если бы ислам стал в них доминировать. Ничего себе получилась картинка: эстетически более привлекательная, чем та, в которую безо всякого фотошопа превратил Москву Лужков.
Я принимаю это на заметку (в смысле, про мечеть в Текстильщиках, потому что травить Лужкова после отставки – это как травить псами лису; собаки лису разрывают в клочья, я тут на стороне «зеленых»), откладываю прочитанный московский «Район» и открываю «Мой район» петербургский, с локализацией на Петроградской стороне, моем любимейшем районе, где всего отсыпано разом и щедро – крепость, крейсер «Аврора», домик Петра, мюзик-холл, зоопарк, планетарий, Острова, дома с курдонерами и пауками на балконных решетках – в стиле северного art nouveau… Номер газеты, кстати, за то же число, что и московский. Читаю: петербуржцы собирают подписи под открытым письмом губернатору, в котором требуют запрета проведения мусульманских праздников в жилых кварталах. Например: девушка по имени Светлана живет на Сенной площади, во дворе у нее мусульманский молельный дом, в Ураза-Байрам туда пришли три тысячи мусульман, во двор вынесли динамики, и для Светы случился конец света…
«Сапсан» – это самый быстрый российский поезд, построенный в Германии. Свой скоростной поезд, под названием «Сокол», мы тоже строили, но он склеил крылья (и ласты) с большим конфузом, в присутствии журналистов, еще на испытаниях, не долетев даже до Бологого. Богатейший, доложу вам, был проект, прекрасные деньги освоены – впрочем, это я снова в сторону… Так вот, сидя в немецком поезде, летящем на скорости 200 км/ч по России, легко ощущать себя космополитом и задаваться логически возникающими вопросами. Если не нравится, как кто-то совершает религиозные обряды под окнами, то почему протестуют только против мусульманских, а не православных обычаев? Вон у моей мамы в городе Иваново прямо под окнами – собор Введения Богородицы, в народе именуемый «Красной церковью». Краснокирпичное здание, возведенное в эпоху церковного архитектурного упадка рубежа XIX и XX веков, оно не слишком радует глаз, а по выходным маме не дает высыпаться колокольный звон, который там, увы, отнюдь не малиновый. И что? Мама жалуется, но терпит, а я, когда бываю в Иваново, даже не жалуюсь: в одной деревушке под Парижем, где мы с женой гостили у друзей, мы поначалу вскакивали в ночи, потому что каждый час бил колокол на церкви, но потом привыкли, перестали замечать и даже оценили: тишина гробовая, спит все, уснуло все вокруг, на небе Млечный Путь, пятисотлетней давности церковь на холме, деревушка в сто домов, и вдруг одиноко и гулко – бум-м-м….
Или вот, об этом писали, в Москве планируется построить двести типовых православных церквей по магазинному принципу, то есть по принципу «шаговой доступности» – они ведь тоже выплеснутся во дворы, если не колокольным звоном, то крестными ходами, бабушками в платочках, нищими у ворот. Но никто ведь не думает протестовать, верно? Это, наоборот, почему-то связывают с немедленным снисхождением на микрорайон чего-то такого, что синонимично духовности и просветлению.
Или еще вопрос: если не нравится странная и непривычная толпа (мужчины – в бородах, женщины – в платках, и я не про убежденных православных, я про мусульман, хотя, согласитесь, в общих чертах похоже) в Ураза-байрам, то как можно не хотеть строить мечеть, которая могла бы эту толпу принять внутри? Или если вот не нравится ислам как религия – то что именно не нравится? Теракты, да? Тень Кавказа? Распространение ваххабитских идей под прикрытием медресе и мечетей? Кстати, в чем сущность ваххабизма и в чем он расходится (и расходится ли) с «правильным» исламом, вы хоть примерно представляете? Если видите за каждым муллой вдохновителя террористов, то почему протестами загоняете мусульман в подполье? Думаете, не будете видеть – терроризм исчезнет? Кстати, вы знаете, чему учат в медресе? Как устроена мечеть? Какие там правила? И почему вы считаете, что это ислам превращает человека в террориста, а не зачистки в кавказских республиках, в результате которых исчезают родные и близкие?
Ответов нет, поскольку логика – не тот принцип, на котором держится русская цивилизация. Мы, как однажды заметил крайне ценимый мною писатель Александр Терехов, страна действия, а не думания. И вошедшего в плоть страха, как заметил он же. Мусульмане – чужие, непонятные, темные, страшные, вот придут и укроют наших женщин хиджабом, а мужчинам перережут горло. Даже робкое, и тоже не бог весть какое умное замечание – «по крайней мере, мусульмане не пьют!» – отметается с ходу. Ты, Губин, и вправду не русский какой-то, ты засланный, что ты тут нам пишешь, сам все знаешь, а не знаешь, так не смеешь судить.
На самом деле, я судить смею. Моя питерская квартира выходит одними окнами на Петропавловский собор, а другими – на мечеть. Мечеть на Петроградской стороне – это творение архитекторов Васильева, Кричинского и фон Гогена, сумевших нежно скрестить Самарканд с северным модерном. Когда мы только купили квартиру – расселили чудовищную, без горячей воды и с разбитыми окнами коммуналку – никаких служб в мечети не велось, потому что шел ремонт, и она стояла в лесах. Когда леса сняли, все ахнули: у мечети – фантастические купол и фасад, весь в голубой глазури с восточной вязью, в обрамлении сурового гранита. В ночи в прожекторах вспыхнули купол и минареты. Утром праздновали, если не ошибаюсь, Курбан-байрам, – в мечеть втекала толпа, и усилитель разносил над Невой голос муэдзина, и все это придавало местности такой же шарм, какой придает греческий солнечный храм Биржи – стрелке северного Васильевского острова. Именно «шарм», да, я отвечаю за слова: шарм чужого, но давшего корни у тебя под окнами, шарм лютеранских игольчатых шпилей, украшающих в Питере православные церкви, шарм русских блинов, шалей, шалостей, ярмарок, вдруг прижившихся на берегах холодной шведской реки. Это дает жизни ощущение эстетической наполненности, тяжести, придает твоему району колорит, наделяет его, как говорят питерские эстеты, genius loci, богом места. (Не сочтите меня восторженным идиотом, – я вовсе не идеализирую взаимное проникновение разных, и порою принципиально разных культур.)
Купол и минареты довольно быстро перестали освещать, и вместо сказки Востока в ночи в моих окнах стал возникать мрачный его профиль, и я даже жаловался на это в приватной беседе – ну что им, трудно лампочки заменить?! – верховному муфтию Нафигулле Хазрату Аширову, но он только вежливо покивал головой. Зато человек из питерской администрации мне аккуратно намекнул, что дело не в лампочках, просто не надо чересчур уж подчеркивать, не надо, чтобы слишком уж сияло и било в глаза… «Било что?!» – вскричал я, но вскоре узнал, что не так и давно, в 1990-х, человека, задумавшего издать в России перевод «Сатанинских писем» Салмана Рушди, – этого человека схватили и удерживали пару дней в подвале этой самой, что в моих окнах, мечети, двое суровых бородачей с «Калашниковыми» на коленях. И источнику этой информации, поверьте, у меня нет оснований не доверять, и «Сатанинские письма» (заставляющие любого, прочитавшего их по-английски, пожимать плечами – да где здесь антиисламская крамола-то?!) не найти в магазинах.
Рядом с мечетью появился магазин «Халяль» с дивной бараниной и пряностями, где обслуживали с какой-то сказочной любезностью, а потом по соседству появился врачебный кабинет строго для женщин-мусульманок… И жена сказала мне, что это не очень красиво, но она поймала себя на мысли, что одна культура может не просто противоречить, но и исключать другую (это про кабинет). А потом в магазин швырнули поутру гранату (а мы как раз с женой собирались идти за бараньей лопаткой), и там посекло осколками людей, и когда я зашел выразить хозяину соболезнования и поинтересовался, нашли ли бомбистов, тот только махнул рукой: «Кто будет искать? Тут всюду видеокамеры, всем все понятно, все на записи видно, но – КТО – БУДЕТ – ИСКАТЬ? Кому это надо?!» – и извинился, что сорвался, повысил голос.
Медицинский кабинет, кстати, исчез.
У вас вот тоже бывает отчаяние по поводу того, что идея или мысль, казавшиеся простыми, элементарными, так что нужно их претворять немедленно, вдруг запутываются, усложняются так, что делать нельзя вообще ничего?!
Не знаю, понятно ли из написанного выше, что я – неверующий человек. Вообще неверующий, атеист. Но моя вера в практическом смысле – это вера в действенность вещей и явлений, подобных газете «Мой район». В то, что на уровне двора, микрорайона, района договариваться не то чтобы проще, но надежнее, чем на уровне верховного муфтия или патриарха.
Страхи почти всегда провоцируются неизвестностью. Будь я правоверным мусульманином, ходил бы по домам возле мечети на Петроградской стороне – или в Текстильщиках, где спорят из-за мечети, или на Сенной площади, где молельный дом, а мечети нет – раскладывал по почтовым ящикам свою газету, где совсем мало было бы про религиозные идеи, но было про бытовую культуру и жизнь. Вот у нас Курбан-байрам 17 ноября, вот так-то мы его празднуем, народу будет много, машину будет негде припарковать, вы уж простите, пожалуйста. Приходите в наш магазин, там самый лучший в городе рахат-лукум по самой низкой цене. А еще мы детский праздник устроим, приходите с вашими детьми, мы придем с нашими, это на нейтральной территории, в кафе, вы не беспокойтесь. И будь я правоверным православным, я так же вел бы себя в городе Иваново: а не мешает ли вам колокольный звон? Да? А не хотите прийти на выступление звонарей? А знаете, что у нас бесплатная воскресная школа?
Я не хочу сказать, что все это просто. Я хочу сказать, что только складывание соседей в сообщество, превращение чужих в своих позволяет чужую эстетику воспринимать не как угрозу, а как расширение жизни.
Я тоже этому расширению не сразу научился, пока не пожил в Европе. Там как-то сразу ощущаешь себя внутри сообщества: вот это, слышишь, посуду бьют супруги-португальцы, но ты полицию не вызывай, потому что они всегда сразу же мирятся. В этой квартире сумасшедшая бабушка живет, но она очень добрая, в среду приходи к ней на день рождения, ей будет 90 лет, она сладкое любит. Этот сосед – ортодоксальный еврей, он в субботу пешком к себе на седьмой этаж ходит, как это – почему? Потому что шабат, нажимать кнопки лифта нельзя. Это – двое аргентинцев, геи, семейная пара, поженились в Испании, там это разрешено. А вот Хасан, араб, он прораб на стройке и у него всегда хорошая травка, так что обращайся, если будет нужда…
И не надо мне только про запреты хиджабов во Франции, про беспорядки в пригородах Парижа и запрет на строительство минаретов в Швейцарии – компатриоты, тычущие пальцем в эти несомненные факты, забывают, однако, упомянуть про фантастический фестиваль эмигрантов в лондонском Ноттинг-Хилле, про гигантский Исламский культурный центр в Париже (а также в Лондоне), а главное – про феноменальное влияние всех неевропейских культур на культуру европейскую. Европа всех их приняла и сделала своими.
Так что эту статью я дописываю под взятый во французской медиатеке диск группы «Космофонический оркестр», где Ямина и Надя Нид эль-Мурид с дивным магрибским акцентом поют по-французски так, что крышу сносит.
Диск, кстати, называется, Chansons apatrides – «Песни апатридов».
То есть людей без гражданства.
Но, однако ж, с культурой.
2010КОММЕНТАРИЙ
На исходе 2011-го мечеть на Петроградской стороне стали, наконец, подсвечивать в ночи. На мой взгляд, вульгарно. Так там и забор приделан точно такой же – как украденный с советского кладбища, где родня посмертно приукрашала могилку покойного в своем представлении о прекрасном. «Худшее из уродств – уродство, порожденное недостатком культуры», – как заметил однажды Франсуа Мориак. То есть нынешним мусульманским властям Петербурга не до Васильева, Кричинского и фон Гогена. И это моя основная к ним претензия, поскольку молельные коврики, ныне расстилаемые в Ураза-байрам уже и на противоположной стороне Каменноостровского проспекта, у памятника «Стерегущему», меня ни капельки не раздражают, а напротив, преисполняют еще большей любовью к месту, где я живу.
А вот злых русских откликов я получил на эту статью – тьму. Типа: если соседи не разделяют наших порядков – в гробу мы таких соседей видели! И еще: ты, Губин, идиот, уже и в твоей любимой Европе мультикультурализм провалился, ха-ха три раза!
Я сначала возражал, поминал что-то про молодого Петра и Немецкую слободу, про Великое посольство, про Ганнибала, про то, что на французском, например, телевидении, ведущие есть и арабы по происхождению, и афроамериканцы, – а потом плюнул. Этот комментарий я дописываю во французских Альпах – и через два дня в Париж. В Париже у меня будет немного времени, но все равно надо будет успеть заскочить в ресторанчик Chez Omar, «У Омара».
Говорят, что там лучший в мире кускус.
2014#Россия #Петербург А также в области билета
Теги: Аусвайс на пути к Рембрандту. – Кто оплачивает Михаилу Пиотровскому сотовый телефон. – Эрмитаж как распределитель культуры.
Недавно я дважды испытал унижение. Первый раз – на входе в Эрмитаж, где от меня потребовали паспорт. А второй раз – общаясь в эфире с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
Я не преувеличиваю. Если вы решите заглянуть в Эрмитаж, то кассирша потребует с вас паспорт. Дело в том, что билет в Эрмитаж стоит 400 рублей, но для граждан России действует установленная самим Эрмитажем льгота, и билет обходится в 100 рублей. Как кассирша разберет, что перед ней гражданин России? Что это вы ей суете? Водительские права? Они не документ, подтверждающий гражданство. Служебное удостоверение? Тем более! Что? Без акцента говорите по-русски? А может, вы жулик, то есть украинец, белорус или америкос, пытающийся прорваться к Дюшану или Рембрандту по российской скидке!
И я ничуть не утрирую, а цитирую Пиотровского, хотя о потрясшем меня разговоре с ним чуть позже. Сначала – о том, о чем вы, возможно, забыли.
Когда-то страна по имени CCCР была закрытой для иностранцев. Те ручейки, что просачивались, не допускались до контактов с аборигенами. Однако встречались места, где агнцы и козлища с неизбежностью перемешивались. Таковыми были: Большой и Кировский театры; Эрмитаж, Третьяковка и Русский музеи; поезда и самолеты внутри страны; Кремль. Там всюду существовали двойные цены: низкие – для советских граждан, высокие – для интуристов.
В этом был извращенный, но смысл. Если бы интуристы платили за билет на балет по ценам для аборигенов, это выглядело бы смешно по сравнению с ценами на их родине. Если бы аборигены платили по ценам для интуристов, они бы увидели, насколько ничтожны их зарплаты. Но смыслом двойных цен была не только конвертация неконвертируемого рубля. Еще одним смыслом была дойка иностранцев, разводка на валюту. То есть музеи Кремля, железные дороги и Кировский театр вели себя так же, как и ленинградская фарца, щипавшая финский автобус под Сестрорецком, – только под прикрытием государства.
Когда занавес и Советский Союз пали, и Кировский театр стал Мариинским, выяснилось, что рубль прекрасно конвертируется, и российские граждане могут зарабатывать не меньше интуристов (а многие граждане СССР сами стали интуристами). Театры, авиакомпании и РЖД сегодня продают всем билеты по единым ценам (и мне это кажется справедливым, потому что позволяет сравнивать цены и доходы).
А вот главные российские музеи и музеи-заповедники неожиданно остались заповедниками не просто двойных цен, но советской системы, целью которой, повторяю, было щипануть богатенького Пиноккио. Только теперь бизнес крышуется не именем государства (никакой Минкульт не заставляет музеи держать двойные цены), а именем культуры. «Дадим бедным россиянам приобщиться к культуре, а иностранцы и так богаты!» – посылает сигнал Эрмитаж, устанавливая цены в 100 и 400 рублей соответственно. А Русский музей и Третьяковка – в 150 и 300 рублей. А царскосельский Екатерининский дворец – 550 и 260 рублей. И т. д.
Вы никогда не приглашали знакомых иностранцев – допустим, тетушку из Кременчуга – прогуляться по Кремлю или Царскосельскому парку? Вы на входе получите сегрегацию по принципу гражданства, и тетушка будет скрывать, что она с Украины. И вы поймете, что чувствовали негры в США во время расовой сегрегации, и что евреи в Германии – во время национальной. Там, кстати, тоже все было во имя высокой цели – защиты прав коренного населения.
Тут нужно заметить следующее. У любой фискальной политики два аспекта. Первый – собственно фискальный, позволяющий пополнить бюджет: и я бы очень хотел видеть цифры, чтобы понять, сколько денег приносят Эрмитажу иностранцы, а сколько – граждане России, чтобы подискутировать, не выгоднее ли Эрмитажу единый билет, скажем, в 200 рублей. Второй – идеологический: любая льгота показывает, что обществом поддерживается, а что нет. То есть льготы для молодых и пожилых вытекают из социальной уязвимости этих категорий, и это нормально. Но идеологический посыл двойных музейных цен для взрослых таков: россияне нуждаются в поддержке, и иностранец эту поддержку обязан обеспечить. Ведь мы не такие, как все.
Мне такая – в пользу своих – установка представляется стыдной. «Иностранец» не обязательно дядюшка Скрудж. Иностранцы – это и граждане СНГ (где жизнь часто просто бедна), и бэк-пэкеры, туристы с рюкзаками, останавливающиеся в хостелах или B&B. А «рэндж-роверами» и «кайенами» нуждающихся в дотациях россиян забиты все подъезды к Эрмитажу (а ну-ка, если в Лувр, в порядке единых стандартов, для русских установить четверную цену?!).
Эта установка ужасна еще и потому, что не дело музея определять, кто из взрослых людей беден, кто богат. Дело музея: а) свои сокровища сохранять, б) знакомить с ними максимальное число людей. Не говоря уж о том, что предъявление аусвайса (то есть доказательства, что ты – это ты) по сути своей унизительно. Да-да, мне унизительно показывать паспорт даже пограничнику, и потому меня так радует Европа без границ – но, замечу, пограничник действует хотя бы от имени государства, а Эрмитаж – по инициативе Пиотровского.
Поэтому, когда билетерша в Эрмитаже потребовала от меня паспорт, я был потрясен. Я мог заплатить за билет 400 рублей, не в этом дело. Но рядом плакали две подружки без паспортов, у которых денег на полные билеты не хватало. И объясняла что-то тщетно белоруска, говорившая, что всю жизнь проработала на СССР. Это было невыносимо. Невыносимо и унизительно настолько, что на радиостанции «Вести ФМ», где по понедельникам и пятницам у меня в ту пору был утренний эфир, я немедленно устроил обсуждение.
Поучаствовать я пригласил атташе по культуре посольства Франции Бланш Гринбаум-Сольгас (она раньше была главным куратором музеев Франции и сказала, что во Франции льготы существуют для молодых и пожилых, но по гражданству никто никого не делит, и что российская ситуация иностранцам «обидна»), и замдиректора Третьяковки Марину Эльзессер (она сказала, что в Третьяковке паспорт не спрашивают и что иностранцы не обижаются) – и, разумеется, Михаила Пиотровского. Чья пресс-служба заявила, что он невероятно занят, и что вообще никто из Эрмитажа участвовать в эфире не может. Поэтому мне пришлось звонить ему в прямом эфире на сотовый телефон, за что я тут же получил обвинение в «неинтеллигентности» (за что я был готов извиниться – в случае если директор Эрмитажа, конечно, оплачивает телефон за свой счет, а не музея).
И от Михаила Пиотровского я услышал, что да, гражданство нужно доказать, и что это вполне нормально. И он добавил, что паспорта нужны, чтобы по льготной цене в Эрмитаж не попадали «жулики и аферисты».
«Жулики и аферисты не имеют права на Рембрандта?» – спросил я, не веря своим ушам, ибо видел на входе этих аферисток, этих плачущих девушек. «Имеют, но за полную цену», – уточнил Пиотровский.
И я понял, что стояло за его словами. За ними стояла не идея открытости культуры, и не идея общности мира, и не идея объединения людей, – а идея культурного распределителя. Хозяин которого неподотчетен получателям и сам решает, кому, сколько и чего предоставить (и которого получатели благотворят за льготы). Я понял вдруг в секунду многое – даже то, отчего наши музейные бабушки-хранительницы в музеях так набрасываются на тебя, охраняя «культурное достояние» (но очень редко помогают и никогда не улыбаются). Меня вон в день паспортизации на входе одна из них не пускала в Эрмитаже на перформанс Бартенева, требуя какой-то немыслимый «бейджик» (Бартенев потом был в шоке), а когда я открыл все же дверь, побежала за милицией, поскольку я в ее глазах (без бейджика!) уж точно был жуликом.
Идея распределителя – она, я считаю, ужасна. И дело не в деньгах. Москвой как распределителем правил Лужков. Это очень русская идея – распределять, подкупая льготами лояльность своих, и игнорировать чувства прочих. Делить мир на коренных и понаехавших тут. Разделять – и властвовать.
Заковырка лишь в том, что в Эрмитаже собраны шедевры все же мирового искусства.
2010КОММЕНТАРИЙ
Вот уж чего я не ожидал после публикации в «Огоньке» – так это вала злых откликов: типа, если тебе стыдно паспорт показать, то не показывай и плати по полной, а нам нашу малину не ломай!
Я благодарен этим откликам.
Без них мне часто – людям свойственно судить о мире по себе – начинает казаться, что всем моим соотечественникам процедура предъявления паспорта кажется унизительной; что всем моим соотечественникам идея сегрегации кажется отвратительной; что для всех двойные цены и двойные стандарты дурно пахнут… Отнюдь.
Многие люди, прожившие жизнь в СССР, так и продолжают делить мир на своих и чужих. Как такое могло сохраниться и даже укрепиться в голове директора Эрмитажа, сына директора Эрмитажа – ума не приложу.
Но мне и на самом деле стыдно.
Тем более что в Эрмитаже в смысле сегрегации все без изменений.
2014#Россия #Петербург Соседская страна
Теги: Собрание ТСЖ как способ превратить русский рай в русский ад. – Фракция блондинок и перекрашивание брюнетов. – Мое малодушие и мечты о вертикали власти.
Я тут побывал на собрании своего ТСЖ. И в трехчасовом гаме, реве и оре прозрел будущее страны. Не слишком, скажу честно, приглядное. Но и не безнадежное.
Я не то чтобы явился на это собрание, не зная куда (а главное, на что) иду. На собрании другого ТСЖ, в старом питерском доме, на моих глазах председателя правления жилтоварищи пытались выудить из-за железной решетки на лестнице, грозясь, коли тот не выйдет, за решетку упечь. Но там накал страстей был прогнозируем: дореволюционные дома петербургского центра, пережившие три революции, две войны, но ни одного капремонта, заселенные вперемежку бабулями, алкашами, богачами и школьными учителями, на своих собраниях взрываются потому, что денег на ремонт дома надо столько, сколько все равно не собрать. И мой приятель, питерский журналист Дима Синочкин, исключительный специалист по недвижимости, всерьез считает, что ТСЖ в таких случаях городить – как строить город на вулкане. К Синочкину и его идеям я еще вернусь, а сейчас о собрании.
Дело в том, что мой новый дом являет собой некий идеал новой и, если хотите, путинской России. Индивидуальный проект (я не про Путина, а про архитектора Явейна). Монолитный железобетон. Подземный гараж. Пятьдесят квартир и два подъезда. Закрытый зеленый двор. Консьержки. Тихий центр. Таков сегодня дом русской мечты (а не верите мне – спросите Синочкина!). Достаточно большой, чтобы оплачивать охрану и благоустройство (типичная машина во дворе у тех, кому не хватило мест под землей – двухлетняя Audi A4), и достаточно маленький, чтобы всем договориться. Меня, правда, смущало, что половина балконов в нашем доме быстро и разномастно переродилась в лоджии, где, как известно, советские люди складируют то, что держать дома стыдно, а выбрасывать жалко… Но это детали.
Для собрания был арендован соседний конференц-зал (о, скромное обаяние буржуазии!), повестку раздали заранее, я приготовился быстренько проголосовать за утверждение отчета, за новый бюджет, а также за найм юриста, занимающегося переводом придомовой земли в собственность. А заодно спросить, почем нынче земля для народа, сколько налогов с нее придется платить, и сможем ли мы устроить на нашей земле теннисный корт и тенистый сад.
И вот когда председатель объяснила, что миллион рублей в год на консьержек складывается из зарплаты в 8 тысяч рублей, помноженной на 4 смены, помноженной на 2 подъезда, плюс налоги, левая часть зала, традиционно занимаемая в России социалистами, вдруг обрела вид трех блондинок и голосом гламурного Горыныча неожиданно приказала:
– Прекратите! Мы не будем слушать вашу белиберду, пока вы не объясните – зачем мы тратим деньги на управляющую компанию! Я не хочу, чтобы управляющая компания тратила на консьержек миллион из моего кармана!
Присутствовавшие мужчины прикрыли рты ладонями, но председатель, слыхавшая, полагаю, и не такое, невозмутимо ответила, что платит миллион не лично блондинка, а мы все, причем пропорционально размерам квартир, за что сами голосовали на учредительном собрании, – как и за найм управляющей компании. И мы можем обсудить консьержек либо в разделе «разное», либо на новом собрании, а сейчас давайте по повестке, которую, кстати, мы тоже только что единогласно утвердили…
– Мой муж, – поднялась при этих словах светлая голова номер два, – управляет бизнес-центром площадью 15 тысяч метров! И он говорит, что консьержки, вахтеры – это вообще фигня, что защищают лишь профессиональные системы охраны!
– А не мог бы ваш муж прикинуть, во сколько нам обойдется установка и обслуживание такой системы? – невозмутимо отозвалась председатель. (У меня начало складываться впечатление, что она способна заменить Брюса Уиллиса в любом из «Крепких орешков». Вскоре я понял, что она может его заменить и без грима.)
– Это вы должны все считать! Вы! Зачем мы вас выбрали? – проснулась голова номер три. – И я не согласна, что у нас теперь закрытый двор! Зачем нам шлагбаум? У моего ребенка может развиться клаустрофобия!!!
Любезный читатель! (Простите мою старомодность, но для описания больших страстей требуется классический слог.) Читатель! Представьте, что вместо этого очерка нравов вам всучили стенограмму трехчасового собрания жильцов, перебивающих, кричащих: «А вот когда мы с мужем отдыхали в Канаде…» или «Мне мало трех машиномест!», – и главное, представьте, что вас эту стенограмму заставили читать.
И вы поймете, в каком состоянии был я (и не я один) к исходу третьего часа. Потому что уже к исходу первого мне стало ясно, что целью кричавших было не выяснить юридический или финансовый вопрос, не обозначить свой интерес и попробовать найти компромисс, – а показать себя. Намекнуть на доход или близость к Смольному. Показать, что это не единственная квартира в собственности. То есть добиться неких моральных преимуществ, выхода в сторону из общего правила. И эти дикие танцы блондинок (которых оказалось не три, а минимум треть, причем к ним примкнули и блондины, на собрании замаскировавшись брюнетами) – я стал понимать! – можно было прекратить лишь одним. Нужно всех этих орущих вывести в отдельный зал, а самим остаться в узком составе – председатель, представитель управляющей компании, юрист и несколько здравых мужиков – и быстро перерешать все вопросы. Так, консьержки или видеонаблюдение? Что по деньгам? Когда по срокам? Принято! Сколько денег от арендаторов? Сколько стоит саженец клена? Отклонено! Официальное подключение к электросетям? Сколько дать на лапу? Кому? Принято!
Потому что иначе даже простые и здравые идеи – вроде создания сайта ТСЖ или обмена электронными адресами – замылятся, уйдут в пар, а консьержки разбегутся, и крыши и трубы начнут течь. Такой у нас народ и такая страна.
И когда собрание все же закончилось, и сосед Миша (брюнет) предложил мне сигарету, я машинально взял, хотя уже шесть лет не курю. Мы с Мишей вышли на балкон при конференц-зале, полюбовались питерскими видами, и Миша сказал:
– Знаете, а ведь если бы это было не собрание, а сезонная распродажа, все бы быстренько договорились по скидкам и размерам… У нас в отношениях между людьми деньги и вещи – необходимый посредник, а напрямую никак, вот почему законы не работают…
Он докурил, а я понял, как называется система, которую я в ярости хотел создать. Она называется вертикалью власти, когда вся демократия – для декорации и отчета. И от Путина, получается, меня отличало лишь то, что он эту систему создал, а я о ней лишь слабодушно мечтал.
Я Путина вставил в текст не для (пре)красного словца. В последнее время оттуда, где обитает «власть», уж больно часто поступает информация, что сценарий распада страны в Кремле считают вполне реальным. И я не думаю, что главред «Эха Москвы» Венедиктов, сообщая об этом, питается личной фантазией, а не тем, что ему сообщили «за стенкой». Возможно, цель этих сливов – успокоить, показать, что все под контролем. Я же, в свою очередь, думаю, что когда страны разваливаются, их разносит такая сила, что утрачивается любой контроль. В конце концов, сегодня у Владивостока, Калининграда и Москвы нет ничего общего, кроме русского языка, доходов от нефти и привычки к покорности, но как минимум один из ингредиентов может исчезнуть.
И вот мне интересно, – что будет тогда? Ведь когда творится новая Большая История, когда еще ничего не окостенело, все ведь действительно зависит от самих людей, разве не так? Если они умеют не просто говорить, но договариваться, – у них, скорее всего, образуются в той или иной форме народовластие и закон. А если нет – то Туркмен-баши, который, полагаю, был все же не злодеем, а человеком, которого достал бардак, и который понимал, что с его народом иначе нельзя.
И вот здесь, в этой картине будущего – только не смейтесь! – мне кажется чрезвычайно важным для России опыт ТСЖ. Потому что где же еще учиться договариваться жить совместно, как не в своем доме? Не на выборах же президента (и, тем более, не на отмененных же выборах губернаторов)? Научимся выбирать правление ТСЖ, научимся принимать у правления отчеты – научимся выбираться и контролировать муниципальные власти. А потом дойдем и до Кремля, и будет там не бог с мигалкой, а свой человек. И даже наше жуткое собрание было не таким уж и провальным – я кое с кем познакомился, обменялся телефонами, многое узнал. И уж дальнейшие собрания пропускать точно не намерен.
Возможно, я идиот в своих предположениях, возможно, даже блондин – но не одинокий, это уж точно. И я сейчас не про Солженицына и его идею спасительности земской власти (отличная, кстати, идея, если бы ее Николай I не свел к нулю в конце XIX века). А про того же моего приятеля Диму Синочкина. Дима в последнее время редактирует питерский журнал «Пригород» и сам все больше за городом живет, обожая лодку и рыбалку – и считает, что то, что сегодня складывается в садоводствах, дачных и коттеджных поселках, в конечном итоге определит будущее России. Потому что там сами люди решают, асфальтировать ли им подъезд, устраивать ли общую канализацию, подключаться ли к газу, – и ни на какую другую «власть» они свалить свои проблемы не могут.
Мы с Синочкиным недавно встречались, он эту идею мне разъяснял, и я кивал, соглашаясь с тем, что даже в самых дохлых садоводствах за последние лет пятнадцать произошли колоссальные изменения, основанные на совместном управлении частной собственностью, и он вполне серьезно спросил, не собираюсь ли я все же переехать из Города Большой Нефти, то есть Москвы, в провинцию у моря, то есть на балтийский берег под Петербург. У меня такая идея ведь была.
– Понимаешь, тезка, – ответил я, – Большая Нефть и Большие Деньги, как к ним ни относись, формируют Большое Историческое Время.
– Ты называешь возню в дерьме ради денег большим временем? – удивился он.
Вон, поди, плавает сейчас на лодке, пока я дописываю этот текст на увитом виноградом балконе – единственном, кстати, зеленом балконе в нашем небедненьком ТСЖ. Нужно будет соседу Мише позвонить, мы договаривались сходить в муниципалитет, чтобы выяснить, можем ли мы рассчитывать на высадку кленов под окнами, пока земля во дворе еще государственная.
Деваться некуда – я обещал.
2011КОММЕНТАРИЙ
Отчитываюсь: в муниципалитет я сходил, но выяснилось, что озеленением занимается садово-парковое хозяйство, которое подчиняется городским, а не муниципальным властям (и я потом в это хозяйство звонил, выяснял, кто отвечает за нашу улицу, а потом замотался и про озеленение забыл, – и про идею развития демократии «снизу», признаться, тоже).
И так шло до осени 2012 года, пока не просто бесчестные, а уж какие-то совершенно бесстыжие по бесчестности выборы в Госдуму взорвали страну – и тогда начались митинги, образовались активисты, началась низовая активность… Что, правда, к отмене результатов выборов не привело.
А за месяц до выборов (и, думаю, вне всякой связи с ними) садово-парковое хозяйство, то есть та самая госструктура, на которую я уж махнул рукой – посадила на нашей улице клены и даже выставила вокруг газона, на котором нередко парковались машины, довольно симпатичное ограждение.
То есть, используя фразеологию Солженицына – и теленок крепнет, и дуб (клен) растет. Вон год спустя, когда какие-то из саженцев погибли, их заменили новыми, и они прижились.
Может, и не придется бодаться.
2014#Россия #Петербург Поэт, революция и бомж
Теги: Арабская весна и Ленинградский вокзал. – Шииты, сунниты, бомжи и охрана. – Удар по морде и цитата из Маяковского.
У нас все чаще задаются вопросом о возможности революции в России, правда? И неважно, что цены не нефть высоки: посмотрите, что в нефтяном Бахрейне творится! Хотя, казалось бы – богатейшее островное государство!
…Обо всем этом я думал, стоя на крайней правой платформе (не в политическом смысле) Ленинградского вокзала в Москве. Я думал, что Бахрейн есть показатель того, что понятие справедливости без понятия равенства в правах и равенства перед законом приводит к произволу.
Там, где на правой платформе к ней примыкает вокзальная стена, есть киоски со всякой снедью. После размышлений о Бахрейне меня вдруг невероятно пробило на ближневосточную шаурму-шаверму, а на платформе был как раз ларек с шампуром и блинами мяса. И я попросил сделать мне шаурму, а сам, додумав мысль о Бахрейне – где большинство шииты, но правят сунниты, что и было, в представлении шиитов, попранием справедливости, а для восстановления попранной справедливости богатство или бедность неважны, вот там и громыхнуло, – стал думать о том, что падение автократических режимов часто меняет не строй, а его форму, причем не в лучшую сторону. Автократии ведь как устроены? Они уничтожают любую параллельную структуру, которая могла бы тихо-мирно принять на себя часть власти, потому что ни тихо, ни громко автократия свою власть отдавать никому не намерена. Поэтому, если деспотии уж рушатся, то сразу валясь под ноги толпы, обуздать которую лучше всего получается у негодяев. Взять большевиков с Лениным, который не просто утверждал, что оппонентов нужно не переубеждать, а уничтожать, – но и уничтожал. Большевики потому и победили, что шли через толпу и трупы нагло, с ложью, обманом, заложниками и концлагерями. А прочие миндальничали…
Вот ровно об этом я и думал, когда во внешнем мире произошли два действия. Во-первых, продавец за стеклом протянул мне завернутую в салфетку шаурму. Во-вторых, подле меня материализовались двое: бомж, в котором я опознал бомжа сначала по запаху, а потом по одежде, и мужик, вышедший на мороз покурить в одной белой сорочке и галстуке. В манерах и чертах мужика проглядывал бывший бандит, которого бог чудом спас от тюрьмы и перепрофилировал в мелкие бизнесмены. У мужика в глубине вокзала наверняка был офис.
– Извините, пожалуйста, – обдал меня амбре бомж, – у вас не найдется пяти рублей?
Я достал из кошелька 10-рублевый кругляш и, брезгуя вложить монету в грязную ладонь (и злясь на себя за брезгливость), устроил так, чтобы денежка как бы бесконтактно упала в руки бомжу, но с прилично близкого расстояния.
И ровно в тот момент, когда десятирублевка коснулась ладони, мужик в сорочке коротко, жестко и страшно ударил бомжа в лицо, и тот двинулся головой в ларечное стекло, а затем повалился на асфальт в окурках.
– Здесь люди едят, – понял, нет? – зло сказал мужик.
– Вы что, это же человек! – заорал я, ошарашенный.
– Эй, если стекло разобьется, что я хозяину скажу? – горестно, но так, чтобы услышала белая сорочка, спросил продавец.
Сорочка не удостоила нас даже взглядом и сделала шаг назад. Бомж, подвывая, но не думая ни терять сознание, ни удивляться, на четвереньках, по-крабьи, попятился и исчез.
– Это начальник охраны наш, – кивнул в сторону мужика продавец. – По-другому они не понимают. По-другому им уже объясняли, но они снова приходят. Они здесь воровством занимаются, нескольких пассажиров обокрали.
Я отошел, обгаженный разом всем: и тем, что при мне ударили человека; и что меня защитили как прилично одетого господина; и что аппетит у меня не пропал, и я стою трескаю из чистых рук относительно съедобную шаверму; а главное, что на слова продавца и действия мужика мне нечего возразить.
К чему я это гну? Да ни к чему. Слегка перефразируя Маяковского,
В политику этим не думал ввязаться я. А так – срисовал для видика. Одни говорят – «русская цивилизация», другие – «самодержавная политика».КОММЕНТАРИЙ
Текст был написан для портала GZT.ru (не путать с Gazeta.ru – GZT.ru через некоторое время закрылся).
Случившееся, ей-ей, я не придумал.
И получилась очередная иллюстрация к вопросу – в России власть есть производное от народа или народ есть производное от власти?
Ни у кого нет знакомого из Бахрейна, чтобы переадресовать вопрос?
2014#Россия #Петербург Петербургский детский сад
Теги: Башня «Газпрома» и демократы с кашей в бороде. – Отчего петербуржцы предпочитают шопинг митингам. – Детское сознание и небесная линия Петербурга.
7 октября 2010 года Главгосэкспертиза согласовала проект питерского небоскреба «Газпрома», а 9 октября в городе у ТЮЗа был митинг протеста. Кто туда пришел – тысяча с небольшим человек – понятно. Так что куда интереснее, кто (и почему) не пришел.
Пишу «понятно», потому что если на митинг против явления, призванного кардинально изменить символику города, собирается лишь тысяча горожан (ну хорошо: две тысячи), их можно перечислить поименно. Юра Шевчук – музыкант там был, спел куплет «Родины», а как подошло к «боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!» – так лопнула струна. Художника Тихомирова, который из «Митьков», я встретил. Были режиссеры Сокуров и Мамин. Но большинство людей из массовки (которую поддержать численно пришли и мы с женой) – были, в общем, теми, кого Невзоров некогда называл «демократами с кашей в бороде». Вне зависимости от пола и политических убеждений. То есть по одежде которых нельзя было уловить тренд сезона. Жестикулировавшие чересчур оживленно. Слово «культура» произносившие с уважением. А слова «тренд», подозреваю, не знавшие совсем. Плюс какие-то, бог его не знает, юные коммунисты, анархо-синдикалисты, – периферия общества, тьфу.
Хотите правду? Толпа на шопинге в «Гостином дворе» или «Меге» выглядела богаче, чем эти митингующие, которых современная российская власть, начиная с рядового мента, искренне считала быдлом (а Шевчук с Сокуровым? – а что Шевчук с Сокуровым? Шевчук, он что – в ежедневной ротации на «Русском» и «Дорожном» радио? Сокуров идет широким экраном? – такие же маргиналы, только от искусства). Да и протестовали они потому, что ничего не добились. И Дмитрий Губин шел на митинг оттого, что он не Андрей Малахов. Был бы Дмитрий Андреем (пусть даже не Малаховым, а Губиным) – косил бы косой деньгу, а не занимался глупостями.
Вопрос: почему успешный массовый петербуржец, тот, который на иномарке, у которого дачка под Вырой либо Выборгом, а детишки в спецшколе плюс в лектории при Эрмитаже – он на митинг не пришел?
Тут важно сказать одну принципиальную вещь.
Петербург – город уникальный не просто в России, но и в мире. У него гигантский – по сравнению с любой европейской столицей – нетронутый исторический центр. Но ценнейшая особенность города даже не в архитектуре или имперских ансамблях, каких в мире хватает (и, скажем, в Вене имперский размах будет покрупнее петербургского). Просто Петербург – единственная столица, обладающая горизонтальной небесной линией. Эта практически ровная линия крыш, сложившаяся вследствие запрета строить выше 24 метров, то есть Зимнего дворца, открывается с невероятно воздушных набережных Невы – и действительно потрясает. Небесную линию в Петербурге дано нарушать лишь куполам и шпилям. Вот кораблик на Адмиралтействе парит над небесной линией – все понятно. Ангел над Петропавловкой на высоте 122,5 метра, хранящий город – тоже понятно. Ангел на Александровской колонной, у которого лицо Александра I, но над которым возвышается крест – и это понятно. Как понятно и то, что газпромовский небоскреб – тоже символ времени и города, призванный обозначить, что поток углеводородов, то есть денег, теперь превыше всего. Другие символы пали, скукожились в масштабе 122,5:403, – в каком соотносится Петропавловский собор с ангелом к небоскребу с Миллером (который суть нефтегазовая ипостась царя).
А теперь возвращаюсь к вопросу: почему массовый петербуржец не протестует против этой кардинальной смены символики? Боится, что утихомирят с ОМОНом?
Увы: правда не в том, что боится. А в том, не видит в небоскребе ничего страшного.
Вот у меня есть добрый знакомый, архитектор Андрей Шаров. В Питере архитектурное бюро «Рейнберг & Шаров» – одно из лучших. Шаров, например, построил торговый дом, известный как Vanity House, у Казанского собора – это архитектура изящная, современная и нежная, не просто вписавшаяся в старый центр, но и давшая, стоит зайти внутрь и подняться по эскалаторам, новые высотные точки обзора.
Так вот, Шаров – за небоскреб. Говорит, что это интересно, даст новую архитектуру, новый стимул: город ведь должен развиваться. И это Андрей не от страха и не ради денег говорит, а по убеждению.
Или вот Михаил Боярский, которого многие склоняли за якобы меркантильную поддержку небоскреба – я с ним говорил и убедился, что Боярский так поступает не потому, что ему что-то посулили или чем-то пригрозили. Он тоже считает, что город должен развиваться и строить небоскребы в том числе.
И еще десятки мне лично известных, в том числе и неподкупностью, людей говорят именно это: Петербург должен развиваться. Поэтому пусть будет небоскреб. А на мое: так почему ж развитие должно идти по архитектурной вертикали, а не горизонтали, столь хребетно значимой в Петербурге? Почему небоскреб в 100 этажей, а не цепь разноэтажных зданий, скажем, должен быть офисом «Газпромнефти»? – они смотрят на меня с искренним недоумением: как почему? Да потому, что небоскреб – это прогресс! Небоскреб – это идея развития!
Я, признаться, вначале спорил. Я говорил, что в Нью-Йорке строительство небоскребов на Манхэттене было следствием нескольких совпавших обстоятельств: дефицита островной земли (340 гектаров из которой трогать нельзя – зарезервированы за Центральным парком), дефицита офисных площадей, наличия строительных технологий и огромных денег. То есть нью-йоркский небоскреб – это продукт рационального подхода, как рационален вообще почти любой продукт панатлантической цивилизации. В Америке, например, некоторое время чугун был дешевле кирпича – и фасады домов в Нью-Йорке строили из чугуна. А в Питере что – на Охте дефицит земли? Дефицит офисов? Избыток денег? Или специалистов по высотному строительству?
Любая иррациональная вещь обречена быть символом, как символом является сам Петербург, построенный вопреки законам природы, но в силу воли империи, но даже в этой воле связавший себя правилами: строить дома «единой фасадою» и минимум на полсажени ниже дворца. Империя рухнула, а символ остался. Небоскреб же символизирует, что прежние законы отменены и за деньги можно отменить любые законы.
Я это сотни раз повторял, но те, кому нравился небоскреб, меня не слушали, потому что любовь имеет глаза, но не уши.
Так ребенка восхищает кричащая бижутерия, – детям вообще, как говаривал Рома Трахтенберг, «говно всякое нравится». Гамбургеры, сникерсы, сладости, гадости. Не мишленовский же ресторан. И подросток грезит о гоночном «суперском» автомобиле, не слушая аргументов взрослых, что это дорого, опасно и непрактично. Зато круто. Ух!
Так вот, я сейчас о принципиальной вещи.
Понимание истории как ценности и принятие истории как ценности – это свойство взрослых зрелых наций. Даже в Европе такое понимание и приятие появилось в массовом сознании совсем недавно, примерно с раскопок Шлимана, то есть с конца XIX века. Вот тогда вещи начали цениться за старину, а до этого ценились лишь за красоту. Так у Пруста в «Сване» принцесса де Лом с презрением замечает, что всю доставшуюся по наследству ампирную мебель держит на чердаке, никому не показывая, поскольку она «пошлая, ужасная и мещанская» – действие романа как раз происходит в эпоху импрессионистов и Шлимана. Уже через десяток-другой лет после высказываний де Лом в интерьерах начнется цениться старина, и антикварный бизнес переживет настоящий бум. Это в дошлимановскую эпоху, в 1850-х и 1860-х, Жорж Осман смог снести и перестроить пол-Парижа под современные нужды – полувеком спустя точно такую же идею признали бы преступлением и осудили.
Русские по сравнению с европейцами – совершенные дети (да и французы Пятой республики успели натворить детских ошибок, воткнув в османовский Париж чудовищную башню Монпарнас).
Цикличность нашей истории, когда каждый новый царь зачищал и подчищал созданное предыдущим царем, немало способствовала сохранению этой детскости – или, если хотите, неразвитости. Историческое мышление вообще – удел народовластия; при самодержавии летоисчисление начинается с нового деспота, называйся он хоть царем, хоть генсеком.
Обычный русский человек сегодня в эстетическом, в историческом плане еще неразвит, невинен. Он как дитя ищет в пластическом искусстве нарратива, то есть сходства, повествования, рассказа – и потому так уважает реализм (и почитает абстракционизм «мазней»). Он все еще любит все «богатое» и новое, потому что страшится прочитать в старом и бедном тот приговор, что с детства вынесен ему самому. Он хотел бы небоскреб, потому что русский небоскреб создает в его глазах иллюзию равенства России с Америкой.
Он вообще хотел бы яркой новой простоты и понятности.
Четыреста метров над Невой, стеклянный лифт, вау, круто – да плевать он хотел на скрытую новую символику, и на явную старую символику, он просто клюет на яркий посул, – как ребенок, садящийся в машину к незнакомому дяде, клюет на ценность обещанного ему в неограниченном количестве мороженого.
Русские не одна такая детская нация на земле. Скажем, китайцы сегодня те же дети: их история была обнулена Мао и хунвейбинами. Прочите роман Го Сяолу «Краткий китайско-английский словарь любовников». Роман, написанный от лица студентки-китаянки, приехавшей учиться в Лондон, использует старый трюк: он пишется вначале простейшими фразами, какими иностранец выражает на чужом языке свои мысли. Постепенно все усложняется. У героини заводится любовник, кого она поначалу не понимает: он не ценит ни работу, ни деньги, он любит старые вещи, – о господи, как странно, в Китае так мало денег и так много бедных, и все мечтают о новых вещах! Но глава за главой все меняется, причем настолько, что, вернувшись в Китай, героиня уже не понимает компатриотов.
Я вот тоже среди петербуржцев – как вернувшаяся героиня Го Сяолу.
Я понимаю, что Питер, эту чудом сложившуюся драгоценную игрушку уничтожает никакая ни Валентина Матвиенко и даже не нынешний русский царь.
Петербург ломают – и сломают – нынешние петербуржцы.
Как нынешние москвичи сломали Москву, в своем наивном детском желании предпочтя пластмассовую новизну офиса сложносочиненности старого дома.
Я не знаю, что тут делать.
То ли, плюнув в сердцах, продавать квартиру в Питере и покупать во Франции. То ли записаться на курсы пилотов «боинга». То ли ждать, что Шаров с Боярским повзрослеют.
Пока вот хожу на безнадежные митинги.
2010КОММЕНТАРИЙ
Ну, на идею о том, что все митинги в России в наше время «безнадежны», теперь смотришь по-другому. В конечном итоге публично выражаемое недовольство привело к тому, что башню газоскреба на Охте строить не будут, а будут подальше от центра, на Лахте (хотя все эти причитания, охты-лахты, в данном случае не столько лукавы, сколько глумливы). А скорее всего, в конечном итоге ее так и не построят. Кризис грянет или революция, нефть подешевеет или бюджет разворуют, царь сменится или интрига со сменой фигур при дворе произойдет – ох ты, ах ты, да если хоть одно из перечисленного случится, не вырастет ничего!
Кстати, внутренний смысл вырастающего из ровного места небоскреба лучше других разъяснил Иосиф Бродский. Есть у него в одном из сонетов Марии Стюарт дивные строфы – правда, не про «Газпром», а про ту самую башню Монпарнас, но разницы никакой, достаточно мысленно подменить топонимы:
Париж не изменился. Пляс де Вож по-прежнему, скажу тебе, квадратна. Река не потекла еще обратно. Бульвар Распай по-прежнему пригож. Из нового – концерты за бесплатно и башня, чтоб почувствовать – ты вошь. 2014#Россия #Выборг Святые и благоверные
Теги: Провинциальный чиновник и столичные ветры. – Фальшивые Александр Невский и немецкий фашизм. – Русские летописцы и российские телевизионщики.
О скандале в Выборге – там и.о. мэра Туркин попробовал отменить рыцарский турнир в местной крепости – сегодня говорят много. Но не говорят, что нам дан образчик приватизации православного мифа в личных (других не видно) целях. А миф очень даже себе приватизируется – примерно так же, как брендируется сахар или крупа.
Но для начала представьте себе, товарищи дорогие, город Выборг.
Прелестный, замечательный средневековый городок с девичьим именем Viippuri, в 120 километрах от Петербурга-Pietari, на краю российской Ойкумены. В городе – порт; за городом – погранзона; вокруг – балтийские шхеры, острова, озера; сам город – декорация для исторического фильма. Проглоченный Россией, но не вполне переваренный кусок чужой жизни, что ценила еще советская фарца, делавшая первый налет на автобус с финнами как раз на выборгском отрезке «финбана».
Выборгский район и сегодня держится в области особняком. Местный житель благостен и зажиточен, шопинг он делает в финских Иматре и Лаппеенранте. Выборгское лобби заметно в областном ленинградском правительстве на уровне вице-премьеров. Цены на землю и на квартиры в домах art nouveau сопоставимы с петербургскими. Библиотека со световыми люнетами в потолке, построенная знаменитым Алваром Аалто, – объект паломничества всего архитектурно просвещенного мира. Бабушки на Рыночной площади чисто мыты, в хорошем рабочем состоянии и говорят по-фински. А директриса музея «Выборгский замок» (впечатляющее сооружение с башней-донжоном начали строить еще в XIII веке) Светлана Абдуллина – это такой выборгский Пиотровский, если равнять не по коллекциям, а по влиянию. Реконструкция средневекового сражения с участием рыцарей-тевтонцев проводится ежегодно в июле как раз в стенах вверенного ей учреждения.
В общем, мой искренней совет любому хоть питерцу, хоть туристу: езжайте в Выборг. Прогуляетесь по единственному у нас кусочку средневековой Европы. Выберетесь и в романтический морской парк Монрепо, и на руины «анненских», то есть времен Анны Ивановны, укреплений, и в порт, и на улицу Сторожевой башни. А, может, и на фестиваль «Рыцарский замок» с упомянутым турниром. Который, полагаю, и.о. мэра Туркину запретить так же слабо, как депутату Милонову запретить братьев Чепмен в Эрмитаже.
Но к запрету нам необходимо вернуться по простой причине. Если хотите понять, в какую сторону дует ветер в стране, – смотрите не на кремлевских мастеров пускать ветры, а на поведение провинциального чиновника, искренне убежденного, что вверенная территория дана ему в повелевание.
В общем, и.о. выборгского мэра по весне направил в областное музейное агентство письмо, в котором («в связи с многочисленными жалобами и обращениями граждан» – э-э-э! Туркин! Ссылочку на многочисленные жалобы, плиз!), написал, что рыцарский турнир администрацией города «согласован не будет». А если они пройдет самовольно – материалы на устроителей отправят «для принятия мер прокурорского реагирования».
Здесь переведу дыхание. Все, кто объяснял мне пружины местной административной жизни, сходятся, в общем, на том, что чиновник Туркин преследовал мелкую корысть: убирал конкурента альтернативного фестиваля-реконструкции, проводимого дружественными ему структурами. Не знаю, не знаю. Мне мотив вообще не интересен. Важно другое: какими аргументами Туркин свой интерес обставляет. Потому как что у наивного провинциала обычно на языке – то на уме при столичном дворе.
«Тевтонский орден, – обосновывает Туркин, – исторически сложившаяся враждебная структура для Руси, с которым героически сражался Святой Благоверный Князь Александр Невский (все слова с прописных букв! – Д.Г.). В годы Второй мировой войны с символикой этого Ордена полчища немецко-фашистских захватчиков ворвались на территорию нашей Родины».
Нет, братцы – каково?! А если «полчища немецко-фашистских захватчиков» сапоги носили, теперь, что – сапоги запретить? (Я уж молчу про то, что никаких «немецко-фашистских захватчиков» в природе не существовало по той простой причине, что в Германии фашизма никогда не было, там был нацизм, фашизм же существовал в Италии. «Немецкий фашизм» – это словесный продукт сталинской пропаганды, что Туркину неплохо бы знать.)
Как Туркину неплохо бы и знать кое-что о князе Александре Ярославовиче, вошедшем в историю под именем Невского – в честь победы в якобы великой битве со шведами на реке Неве.
Есть очень большие сомнения в том, что эта битва вообще имела место быть. Скорее всего, случилась в 1240 году близ Ижоры небольшая приграничная стычка. В шведских летописях об этом вообще ни слова, а в новгородской летописи первого извода (единственном относительно достоверном источнике), говорится, например, что князю Александру противостоял вражеский воевода Спиридон (не правда ли, типично шведское имя?!) и что погибло в сей «сече великой» всего 20 русских. Правда, там же поминается «бесчисленное множество» убитых «латинян», большей частью пораженных «ангелом Божиим», – ну, так летописцы всегда приукрашивали картину в пользу своих князей, а вдобавок выпендривались перед коллегами из альтернативных летописных центров. Средневековая Русь в информационном плане вообще очень напоминала российское телевидение времен позднего Ельцина, когда НТВ работало на Гусинского, 1-й канал – на Березовского, ТВЦ – на Лужкова, а РТР – на команду Лесина. Поэтому историк, сравнивая изложение одного и того же события в летописях новгородской, рязанской и, не знаю, суздальской, может более или менее точно реконструировать реальность. Правда, позже, по мере становления централизованной московской Руси, этой летописной вольнице была свернута шея (точно так же, как она была свернута яркому и разнообразному, хотя и не всегда правдивому, российскому телевидению в начале 2000-х): вся историография стала жестко контролироваться Москвой.
Александр Невский был канонизирован русской церковью в 1547 году – в год, когда Иван Грозный объявил себя русским царем. То, что Невский во времена ордынского ига был для северной Руси ордынским эмиром и одновременно финансовым агентом, стыдливо опустили. Цитируя академика Янина, это Александр Невский «распространил татарскую власть на Новгород, который никогда не был завоеван татарами». Это святой благоверный князь обложил данью в пользу Орды Новгород и Псков, это святой благоверный князь трижды ездил в Орду, где на коленях полз меж двух костров к шатру хана, чтобы получить ярлык на княжение. Наконец, святой благоверный князь за свою жизнь не убил ни одного оккупанта-ордынца, зато убил и искалечил немало русских, подавляя с примерной жестокостью псковские и новгородские восстания против «численников», то есть присланных Ордою переписчиков.
Такова была цена выбора в пользу Востока (нейтрально относившегося к вероисповеданию оккупированных народов) против Запада (желавшего обратить русских людей в «латинскую» веру).
Сценой с Александром Невским на коленях перед ханом должен был заканчиваться и фильм Эйзенштейна, но финал, согласно легенде, вычеркнул лично Сталин, бывший и обожателем, и продолжателем дела Грозного, вырезавшим ради укрепления личной власти врагов и создававшим ради того же героев. Вот откуда у нас единый исторический иконостас, единый краткий курс ВКП(б) – и, очень боюсь, скоро будет единый учебник истории…
…Но всего этого несчастный, потому как подставившийся и ославившийся выборгский чиновник, скорее всего, просто не знал. Он ведь что почувствовал? В верхах дуют-веют ветра – патриотизм! Православие! История должна воспитывать гордость за страну!
Ну и возомнил себя флюгером на башне Святого Олафа в местном замке. И мне его даже жалко. Если Алексей Александрович Туркин пригласит меня на чай в Выборге, я непременно заеду и новгородскую летопись в подарок привезу.
И пишу я все это не для того, чтобы его лишний раз ударить. Думаю, довольно еще молодой человек и так уже сполна получил. А для того чтобы прочих чиновников предостеречь. Ребята, у вас для проведения своих интересов есть тьма инструментов. Полиция, прокуратура, налоговая инспекция, СЭС и пожарные, способные придраться к искрам из-под копыт лошадей, изображающих средневековую конницу. На худой конец, контролируемая газета, где можно тиснуть патриотический стишок за собственной подписью, чем обратить на себя благосклонное внимание…
Но не надо влезать на темную историческую лошадку, – а других лошадок в историях автократий не бывает. Взбрыкнет и сбросит. Лучше сидите спокойно и ради удовольствия изучайте: жили-были в XV веке два брата, князья Андрей и Александр Ярославовичи. Второй был западник, а первый – ордынофил…
Ах, какие просторы открываются! Какие открытия простираются!
Читать вам не перечитать.
2013КОММЕНТАРИЙ
Когда номер «Огонька» с этим очерком уже был в типографии (кстати, финской: в Финляндии российские журналы печатать обходится дешевле), я вдруг заволновался, что чересчур сильно бью по этому самому Туркину. В конце концов, мне про него ничего не было известно, кроме того, что он «молодой чиновник», сделавший единичное гадкое дело. Но ведь и я когда-то, пребывая в «молодых журналистах», тоже сделал гадкое дело, опубликовав статью про Феликса Дзержинского с заголовком «Честное имя» (хотя уже знал, сколько на этом имени крови, поскольку двухтомник «Ленин и ВЧК» был издан еще в СССР, а документы, которые в нем приводились и которые касались Дзержинского, заставляли волосы шевелиться на голове – взять хоть расстрелы заложников).
В общем, я залез в интернет и увидел, что внешне выборгский Туркин, хоть и чиновник, выглядит дитя дитем.
И мне стало стыдно.
И было стыдно дня, наверное, три, пока из Выборга не пришли отчаянные новости, касающиеся уже не рыцарского турнира, а сноса старых финских домов. В них видели аварийную опасность, но не видели ни грана исторической ценности. А Туркин во время сноса пребывал, напомню, в статусе и.о. мэра.
И жалость моя никуда не делась – Туркина мне жалко и сейчас, – но перестала быть действенной. Это значит, что имя и.о. мэра я прятать под псевдонимом не буду – пусть входит в историю под своим. В конце концов, у молодого чиновника, покуда не станет старым чиновником, еще есть возможность исправлять дурные поступки хорошими.
А пока он не исправит, мне будет куда более жаль Выборга-Viippuri.
2014#Россия #Петербург Как я шел под чужими знаменами
Теги: Нацболы, ДПНИ, эсеры и лечение дисфункций. – От этих подростков, печальных и тощих, еще содрогнется Дворцовая площадь. – Развод скота по загонам.
«Фашистам в твоем любимом Питере, – сказали мне, – разрешили 1 мая марш по Невскому. Капец».
Спустя сутки я стоял под знаменами тех, чьего марша мои информаторы боялись. Я много под чьими знаменами 1 мая постоял.
Сейчас я вам расскажу про это привлекательное для фотоаппарата шествие, объединившее два десятка разномастных колонн, от нацболов из запрещенной НБП и националистов из полузапрещенного ДПНИ до владельцев сносимых гаражей и женщин из гендерных организаций с розовыми шариками в руках. Плюс едроссов, справороссов, коммунистов, профсоюзов, патриотов и обглоданного до сплюнутых косточек «Яблока».
Но вначале – дорожный пролог.
Дело в том, что я поехал в Питер из Москвы на машине. Десять с половиной часов пути, быстрее не получается, даже если гнать: узкая, дурная, на 40 % проходящая по городкам и деревням трасса давно представляет из себя 750-километровую пробку. Там есть выдающийся затор в Вышнем Волочке, где легко потерять пару часов, но заторы нынче вообще везде, где есть гаишники и светофоры. Я выехал в половине шестого утра, в шесть влетел в первую пробку у подмосковного памятника-штыка, а в два тридцать в пробке под Питером отчаянно пытался поймать новости на «Эхе Москвы», то есть «Эхе Петербурга». Но в середине часа не было новостей, их перекрывали рекламой. После приглашения вылечить эректильную дисфункцию последовало приглашение депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой выйти на первомайский марш вместе со «Справедливой Россией». И это тоже была реклама избавления от дисфункции, только политической. Я вздохнул. Пробка выглядела безнадежной. Левую из двух полос занимала колонна ОМОНа, который подтягивали в Питер не то из Новгорода, не то из Твери. После того как во Владивостоке местные менты отказались бить местных мужиков и пришлось вызывать подмосковный спецназ, урок был усвоен. В стране, где социальные отношения, по сути, остались на уровне родоплеменных, для избивания своих нужно привлекать бойцов из другого племени.
Я позвонил Дмитриевой. Дмитриеву любят в Петербурге. Питер вот уже два года разрыт на тотальный ремонт, ведущийся в эстетике честного свинства подзаборного алкаша, которому вдруг привалило денег на реставрацию бывшей барской квартиры. И алкаш, мочась мимо унитаза, вершит ремонт так, как он это себе представляет. А Дмитриева – одна из немногих, кто об этом говорит, потому что местным говорунам рты позатыкали. Дмитриеву любят потому, что она не любит губернаторшу Матвиенко, в Питере вообще готовы любить любого, кто против Матвиенко. Это тоже, кстати, из разряда первобытности, в которую город покатился, как только губернаторов запретили выбирать (и, соответственно, не выбирают).
«А вы знаете, что на меня властям жалуются уже покойники? – отозвалась по телефону Дмитриева. – Да-да, губернатору письма с кляузами на меня подписывают умершие люди, я могу это доказать!»
Я не удивился.
Когда шваль перекраивает дворец на свой вкус и манер, покойники и впрямь должны вставать из гробов… (И здесь будет конец вступлению: слава богу, я доехал. По Питеру ветер гнал тучи пыли. Тротуаров кое-где не было, вместо них – грязь, песок и ямы с перекинутыми над ними досками. Ну и что – талибы в Афгане уничтожили статуи Будды, и мир не рухнул. Срочно в душ!)
* * *
Пронизывающим утром первого мая, когда пар шел изо рта, а в области выпал снег, я уже стоял в колонне тех, кого мои знакомые называли русскими фашистами и кто сам себя называл русскими националистами. И мирно беседовал с их лидером Семеном Пихтелевым – худым молодым человеком в модных очках, чья внешность позволила бы ему затеряться среди кембриджских выпускников. Над нами реяли монархические черно-желто-белые стяги без единой надписи, потому что писать правду («Движение против нелегальной иммиграции») было нельзя, а отличительный знак иметь было нужно. Вокруг флагов вились полсотни худых бритоголовых окраинных мальчишек, натянувших на лица медицинские маски-респираторы. Эстетика, так привлекающая режиссера Бардина-младшего и отмеченная поэтом Емелиным. Протестующая окраинная гопота, если сказать правду. Под предводительством умного парня в очках. «От этих подростков // Печальных и тощих // Еще содрогнется // Манежная площадь». Маловато их было в то утро для содрогания.
«ДПНИ не запрещено, а лишь приостановлено по решению суда, – объяснял Пихтелев, зябко натягивая перчатки. – Я получил в Смольном разрешение на демонстрацию как частное лицо, и в моей заявке указано 500 человек. – В Смольном ведь прекрасно знают, кто вы? – Конечно. – И легко разрешили? – В этом году долго не давали ответа, я допускаю, что ждали решения от Москвы. В итоге, видите, идти по Невскому разрешили всем. Мы идем под лозунгом «Слава России!» – Семен, у вас юридическое образование? – Я заканчивал муниципальное управление».
Разрешение на первомайскую демонстрацию в этом году действительно получили без малого два десятка организаций (отказали, кажется, только геям, наказав зачем-то тех, кто имел непосредственное отношение к майскому тестостерону в крови). При этом место сбора было общим: угол Невского и Лиговского. И порядок расположения и формирования того, что в былую пору называли «праздничными первомайскими колоннами», был наглядных рейтингом политических сил. Верхняя строчка – с триколорами, одинаковыми бейсболками и Путиным на флагах – это «Единая Россия». У них были даже таблички с названиями районов, организаций и учебных заведений – о господи, какая прелестная дурость в демонстрации административного ресурса! Я заметил, что едроссы заигрывали с молодыми – в колонне были роллерблейдеры, парни и девушки на ходулях, у тротуара была припаркована горстка сегвеев… За «едроссами» следовали официальные профсоюзы, и мужской голос с интонациями больного хроническим геморроем вещал: «Трехстороннее соглашение – основа профсоюзной политики! Работодатель! Соблюдай права наемного работника! Ура!». (Но тут уже требовался не проктолог, а психиатр.) По рейтингу вниз жали гашетки затянутые в черную кожу головные мотоциклисты справороссов Оксаны Дмитриевой. А в самом хвосте, глубоко на Лиговском, робко переминалась просыпанная горсточка молодых людей – все, что осталось от «Яблока» (и я мысленно послал Явлинскому привет).
Если брать середину рейтинга, повыше размещались коммунисты всех мастей, патриоты, сталинисты и ЛДПР, – а вот лимоновцы с лимонками на флаге и полузапрещенное ДПНИ значились ближе к концу.
И все это по краскам и звукам – впрочем, эстетически близким, поскольку в любой колонне крутили советские песни (невольно подтверждая, что в России любое движение вперед сводится к шагу назад), – словом, по многообразию все это напоминало коралловый риф в океане, то есть живой большой город. Вот поперек проспекта прошли мальчишки в корсарских шапках и с «Веселым Роджером»; по свободной полосе Лиговского покатился шар-зорб с надписью «Не нравится в России? Катитесь отсюда!», приближаясь то к либерал-демократам, то к обществу автомобилистов; коммунисты повели ряженого медведем мужика с табличкой, утверждающей, что «Единая Россия» – партия жуликов и воров.
Мне нравилось это птичье, рыбье, звериное, цветочное многообразие.
Но одна вещь настораживала. Что-то в этой майской демонстрации было не то. Чем-то она отличалась от виденных мною в Берлине, Париже, Лондоне.
И вот, когда милиция дала отмашку и шествие покатило по Невскому, и загундосил официальный профсоюз, и пошли вслед за лимоновцами голоногие барабанщицы из неофициального профсоюза, и вскинулись портреты Сталина, и заорали «Слава России» стриженые мальчишки, – я вдруг не столько даже понял, сколько увидел, что было не так. По Невскому и Лиговскому, по всем прилегающим улицам, сколько хватало взгляда, стояли, чуть не плечом к плечу, бесконечные милиционеры, омоновцы, гаишники, спецназовцы, военные, снова милиционеры, гаишники, омоновцы и курсанты. Нестоявшие шли рядом с колоннами. Их вообще было больше, чем всех демонстрантов, и тротуары Невского были перетянуты лентой, чтобы никто из прохожих не мог в шествие включиться, а идти по Невскому могли только те, у кого есть разрешение. Мне показалось даже, что всем этим милиционерам немного не по себе, что они вынуждены мерзнуть, что их лишили выходных, родных, праздничного винегрета – и все лишь затем, чтобы ограждать людей, как зверей. Может быть, чувствуя эту невольную вину, милиционеры разрешали мне переходить с тротуара в колонну и обратно – хотя, может, я для них был просто одиночный пикет.
Это шествие было пародией, но не жизнью свободного города. Это больше всего, если честно, напоминало развод скота по загонам – и те, кто разводил, были абсолютно уверены, что разводимые есть скот, который в случае чего можно и забить. И потом, когда на Исаакиевской площади я увидел либерал-демократов, поставленных к стенке Института растениеводства (ни шага влево, ни шага вправо!), и когда увидел коммунистов и нацистов, окруженных плотным строем военных, и когда у ТЮЗа увидел жалкую горсточку яблочников, окруженных совершенно уж какими-то невообразимыми чудищами в шлемах с забралами, я понял, что это не я прошел по Невскому. Это меня провели. И мне еще повезло, потому что кого-то там повязали как неразрешенных анархистов – уж не тех ли мальчишек, что играли в корсаров?
Я побрел по разрытой, изгаженной вдупель Гороховой, и думал, что нет больше никакого «моего Петербурга», а есть котлован для рытья бабла, а поскольку с этим ничего не попишешь, честнее встречать следующий Первомай на даче. И коли будет совсем невмоготу, то напиться.
2011КОММЕНТАРИЙ
Последние года четыре я старался больше читать по истории страны. Здоровенные тома «Истории» Соловьева и «Истории государства российского» Карамзина, первый том «Истории российского государства» Акунина, лекции по русской истории Ключевского и сохранившиеся только на магнитофонных кассетах лекции Мачинского, «Александр II», «Николай I» и «Сталин» Радзинского, «Россия при старом режиме» и «Русская революция» Пайпса, «История России от Рюрика до Путина» Анисимова, «Технология власти» Авторханова, «Техника государственного переворота» Малапарте, «22 смерти, 63 версии» Лурье, «Любовь к истории» Акунина, а еще Бердяев и Розанов, Эйдельман и Зимин (которого мало знают, но который написал «Русского витязя на распутье», одну из лучших книг по отечественному средневековью) – и это не считая книг по смежным дисциплинам, вроде «Столкновения цивилизаций» Хантингтона или «Коллапса» Даймонда.
То, что современный тип государственного управления в России является самодержавным – он ведет свою историю пусть не с Рюрика, а примерно с периода между Иваном III и Иваном IV, – для меня новостью не было. Но меня каждый раз забавляла быстрота смены всеобщей любви к самодержцу столь же всеобщей нелюбовью. Еще вчера – «дней Александровых прекрасное начало», а уже сегодня – «властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда».
Это я к тому, что очерк про Первомай в Петербурге был опубликован в «Огоньке», когда завершалась эпоха «прекрасных начал» очередного русского самодержца (в рамках представления о прекрасном среднего русского человека). А комментарий я пишу в сезон осени «плешивого щеголя» (как назло, еще и пережившего крайне неудачное вмешательство в свою внешность врача-косметолога).
Что нас ждет дальше? В соответствии с историей падений русских самодержцев, имеются варианты: смерть при не до конца проясненных обстоятельствах (Иван IV, Александр I, Николай I, Сталин), однозначно насильственная смерть при власти (Павел I, Александр II), насильственное отстранение от власти (Иван VI, Петр III, Николай II, Хрущев, Горбачев – первые трое затем были убиты). Шансов у деспота мирно умереть, «садясь на судно» (как Екатерина II) – меньше половины.
Ждем-с.
2014#Россия #Петербург Столовые сервисы
Теги: Рубль и «Копейка». – Игорь Мельцер и Роман Трахтенберг. – Новые времена и новые бедные.
В Петербурге ныне любому приезжему в глаза, помимо десятков дворцов, сотен кариатид, тысяч отелей, гостиниц и хостелов, бросаются вывески «Столовая». Это свежая тема в нашем общепите.
Я сам заметил столовки как явление не сразу, а лишь в апреле 2013-го, когда вернулся в свой город, знакомый до слез, после некоторого перерыва. Вон гордо сверкает «Столовая № 1 Копейка» на Невском. Вон «Тарелка столовая» (новенькая, еще не сдулись при входе шарики) на углу Марата и Колокольной. Подвальную «Столовую № 5» на Большом проспекте Петроградской стороны, правда, легко проскочить – зато она в доме, где бутик Paul & Shark. В таких покупает себе одежду для яхтенных прогулок Абрамович и прочие олигархи, и раньше такого соседства нельзя было и представить.
Клич, кинутый в ЖЖ – дайте адреса питерских любимых столовок! – тут же принес улов в две дюжины адресов, от сети «Столовая ложка» до столовки налоговой инспекции у Пантелеймоновской церкви.
Столовки, конечно, не из-под снега в Петербурге проклюнулись. Мы с женой, гуляя еще года полтора назад по Невскому, проголодавшись, заскочили в заведение Market Place у Большой Конюшенной. Привлечены были запахами, меню и ценами. Вошли – батюшки светы! Тут тебе и открытая кухня с овощами на воке, и гриль, и роллы… Но главное – подносы и открытый доступ, потому что признаков у настоящей столовой (как бы она себя ни называла) ровно три.
Первый – самообслуживание: берешь поднос, набираешь еду и двигаешь к кассе (это – американское изобретение, привезенное в СССР советскими колумбами Ильфом и Петровым, раскрывшими в «Одноэтажной Америке» логистику нью-йоркской «кафетерии»: «Вдоль прилавка во всю его длину шли три ряда никелированных трубок, на которые было удобно класть поднос… Прилавок, собственно, представлял собой огромную скрытую электрическую плиту»).
Второй признак – свободный доступ к блюдам: сначала видишь, потом заказываешь.
Третий – низкие цены, и у меня выработан прием, как определить их разумность, но потерпите чуть-чуть: пока о столовках самих по себе.
Так вот, заход в Market Place был моим возвращением в столовую после 20-летнего перерыва, потому что опыт советского общепита, когда в супе отделялась несъедобная гуща от жижи, до сих пор вызывает спазм. Нет, я знал, что столовые бывают другими (ах, какая кантина была в Брюсселе в Европарламенте! Какая была столовка Би-Би-Си в Буш-Хаусе, где за три с полтиной фунта черный парень наворачивал стир-фрай с цыпленком! Впрочем, вру: в России вместе с «Икеей» появились и столовые с замечательно вкусными шведскими фрикадельками). Но я никогда не думал, что демократичный общепит станет у нас уличным, массовым. Потому что еда вне дома в России – сплошные понты, чайник чая по 500 рублей и выложенный на столик «пятый» айфон (ибо «четвертый», понятно, лишь у лохов).
Но вдруг в Питере я стал все чаще слышать: «А ты был во «Фрикадельках»?» – и зимой, на бегу от метро к корпусу Бенуа Русского музея, где шумела очередная выставка-блокбастер (а такие выставки директор музея Гусев лепит одну за другой, как фрикадельки), я туда заскочил.
Боги, боги мои! Там были свиные котлетки с огурцом, нежнее которых я не ел! Я облизывался и шептал, цитируя Заболоцкого: «Хочу тебя! Отдайся мне! Дай жрать тебя до самой глотки! Мой рот трепещет, весь в огне, кишки дрожат, как готтентотки!». Во «Фрикадельках» была тьма народа. И там было самообслуживание: да-да, подносы, рельсики-трубки. Сто-лов-ка. Но провернувшая трюк, подобный трюку Русского музея, ставшего фабрикой-кухней блокбастеров. (Что за трюк у Русского музея? А простой! Чтобы вытащить картины из запасников и привлечь публику, Гусев использует формальный признак. Например, говорит он, у нас будет выставка «Красное». И – оппаньки! – выставляются все картины, где есть красный кадмий, сурик или киноварь. Потом – Синее! Белое! Воздух! Вода! Двое! Трое!.. Сегодня в корпусе Бенуа выставлены «Рожденные летать… и ползать» – картины с птичками, бабочками, жучками и паучками.)
…Ух, как меня закружило!.. Но возвращаюсь.
Возвращение столовых в питерский общепит стало происходить пару лет назад. Сначала осторожно, как бы под псевдонимом. Ну, а в этом сезоне – уже не стесняясь. На вывеске «Тарелка столовая» слово «тарелка» ма-а-ленькое, зато «СТОЛОВАЯ» – аршинными буквами. На него и расчет. Это (такую версию я слышал часто) результат переориентации перебравшихся в Петербург людей, нередко беженцев, то есть азербайджанских, грузинских, армянских семейств, и занявшихся общепитом просто чтобы выжить. Лет десять назад они открывали кафешку «Рица» (оливье, харчо, солянка, шашлык), где прибыль строилась на праздниках в кругу диаспоры (а питерцы воротили нос: недешево и невнятно). А теперь они открывают столовку, рассчитывая на проходимость, оборот.
Да что беженцы! Столовыми в Петербурге сегодня занимается знаменитый ресторатор Мельцер. У него одна на заводе «Волна», плюс в университете ЛЭТИ.
Игорь Мельцер – человек-легенда. Это он придумал «клуб грязных эстетов Хали-Гали», раскрутил Романа Трахтенберга и создал ресторан «Зов Ильича», где при входе повязывали пионерский галстук, а в туалете по монитору гоняли смесь порнухи и хроники с Брежневым, – а потом переключился на рыбные рестораны («Матросская тишина» ныне образцовый), проводя акции типа «устрицы за 900 рублей – без ограничений!»
Мельцер – талант изощренный (была у него идея клуба с чил-аутом, заполненным газом, искажающим звуки: жаль, не сложилось!)… Таких поднимало наверх в перестройку. Примечательно, что в нынешние серые времена Мельцер вернулся к тому, с чего начинал: а начинал он карьеру на фабрике-кухне № 1 Кировского района Ленинграда. И он унаследованные от СССР столовые решил перекроить по европейским лекалам. В итоге у него используют итальянский соус из печеных помидоров – а не нашу томатную пасту, напичканную крахмалом. Во фрикадельки добавляют корицу, а в котлетки – мускатный орех. В его столовых ассортимент шведских столов (от 170 до 235 рублей) выстраивают шеф-повара из Kempinski.
То есть ресторатор Мельцер отреагировал на то, что носится в российском воздухе. А носится, как мне кажется, очевидная вещь: средний класс в России не сложился. И если в пафосной Москве по этому поводу еще есть иллюзии, то в Петербурге они утрачены. В России есть богатые и очень богатые, так или иначе связанные с госбизнесом. И есть новый бедный класс – который либо в золушках у государства, либо сам по себе. Новые бедные хорохорятся, одеваются в H&M и Gap, но бизнес-ланч за 250 рублей им дорог. В столовых – иное дело. В шалманчике «Плюшкин дом» на Казанской щи (вкусные!) – 55 рублей, макароны по-флотски (переваренные) – 70. В «Тарелке столовой» суп грибной – 35 рублей, куриная отбивная – 53. В замечательной «Столовой № 5» полновесные порции «горячего» идут по 100 рублей.
То есть обед, если ужаться, обходится в сотню, а если шиковать – то в две.
Дорого это или дешево по сравнению, например, с советской бедной жизнью? Я для сравнения использую коэффициент «200». Умножьте на 200 советские цены (или разделите на 200 российские) – увидите, как они соотносятся. Скажем, средняя зарплата в Питере что-то около 36 тысяч рублей в месяц. Ну, так и в Ленинграде средней считалась зарплата в 180 рублей. В СССР обед в студенческой столовке обходился в 60 копеек, в профессорской – в рубль. Сегодня это соответственно 120 и 200 рублей. Все совпадает.
Чтобы понять, в каком гастрономическом обличье вернулся в Россию СССР, зайдите в Питере не только в Эрмитаж, но и в столовые. Посмотрите, до чего там разнообразен народ! Строгие юноши с небрежно повязанными шарфиками. Ухоженные девушки в очках с недешевыми сумочками. Пожилые пары. Темноволосые мужчины в рабочих костюмах.
Это – объединение новых бедных. Там и 50-летние, которые после развала СССР кроме как на собственной кухне нигде вообще не ели. И 20-летние, экономящие на обеде, чтобы вечером небрежно заказать капучино в гламурном кафе «Счастье». И офисный планктон, у кого на работе дорогой и невкусный буфет. И те, у кого, как у меня, есть лишь четверть часа на перекус. Одних привлекает цена, других – отсутствие барьера между тобой и едой, третьих – непридуманная русская еда, то есть та, которую мы едим дома.
Это значит: у столовых в ССС… э-э-э, в России! – огромные перспективы.
2013КОММЕНТАРИЙ
Столовые после того, как этот текст был опубликован, стали в Петербурге расти с удвоенной скоростью: только на Невском их сегодня уже штук пять, и количество стало переходить в качество, причем необязательно высокое. Скажем, московские друзья с поезда заглянули в свежеоткрытую столовку на Пушкинской улице (это в паре минут от вокзала) – и с удивлением обнаружили, что на завтрак там не готовят решительно ничего. А не все, знаете ли, любят начинать день с котлет с макаронами. Другие столовые – например, помянутая мной «Копейка» – стали настоящей сетью, что, на мой субъективный вкус, на пользу тамошней еде не пошло. Но с сетевым общепитом вообще нужно держать ухо востро: я лично считаю «Макдоналдс» великим фастфудом не потому, что там готовят самые вкусные в мире гамбургеры, а потому, что в абсолютно любом ресторане сети гамбургеры стандартно вкусны. В большинстве же других случаев «сеть» есть признак того, что владельцы делают деньги вместо еды. Кстати: в Петербурге упаси бог вам зайти в самую большую из ресторанных сетей – «Суши-Евразия»! Даже умирая с голоду… Моя жена, которая, напомню, гастрономический критик, всерьез считает, что «Суши-Евразия» делает деньги на мазохистах, которым по душе оплачивать самые невкусные >в мире роллы и лечение диареи. Но если вы из таких, тогда, как говорят японцы, – дозо!
2014#Россия #Петербург Творог в своем отечестве
Теги: Замок Розан-Сегла как французский привет деревне Мезгино. – Девятнадцатирежды герой гастрономического труда Ален Дюкасс с приветом Петербургу. – Творог с Кузнечного рынка как привет мировому чревоугодию.
В июне в Петербурге открылся ресторан самого знаменитого шефа мира – Алена Дюкасса. Гурманы вздрогнули: еще и потому, что Дюкасс всюду и всегда использует местные продукты. Которых, по словам питерских же рестораторов, они избегают.
Но сначала я расскажу одну историю, в качестве закуски перед основным блюдом, перед тем, что французы называют le plat principal, – не волнуйтесь, история будет недлинной, но имеющей отношение к гастрономии, Франции и России.
Мы с женой недавно проехались по региону Бордо, дегустируя молодое, урожая 2010 года, вино, которое еще даже не начинали разливать, так что на бутылках, из которых нам наливали, были временные этикетки. Эта дегустация молодых вин, les primeurs, – штука закрытая, для специалистов, которые в Бордо опознают друг друга в толпе по черным губам, как будто объелись черники (трещинки на губах смотрятся и вовсе клыками вампира). Но нас пригласил французский друг Доминик, хемингуэевский совершенно персонаж, грустный и умный прожигатель жизни. Он занимается тем, что любит вино, самозабвенно и взаимно. А поскольку Доминик человек небедный, он хватает в охапку тех, кто понимает толк в вине, и таскает с собой по местам производства и потребления жидких сокровищ. Вот он и захватил на этот раз мою жену, которая винный и ресторанный критик, – да и меня в качестве нагрузки.
Если бы я хотел довести какого завистника до белого каления, то написал бы, что дегустации начинались утром в Шато д’Икем, продолжались днем в Шато Петрюс, а завершались вечером в Шато Пап-Клеман (и написал бы правду!), но дело не в этом. Просто на второй или третий день, стоя под стенами замка Розан-Сегла, любуясь убегающими за горизонт виноградниками (и идеально ухоженным замком, что отдельная тема), я вдруг поймал себя на том, что этот пейзаж уже видел. Просто не могу вспомнить где. Но вспомнил: если виноградники заменить полями овса, а Розан-Сегла – полуразрушенным Введенским монастырем, то будет точь-в-точь ландшафт между деревнями Чернцы и Мезгино Шуйского района Ивановской области, где я проводил детство. То есть если повернуть круто направо, то скоро дойдешь до речки Тезы, то есть, тьфу, Гаронны.
И вот я стоял на одной из богатейших земель мира (бутылка молодого «Петрюса» обходится оптовику в 600 евро, и эту честь – быть оптовиком – нужно еще заслужить), где работает без продыха 15 000 винодельческих хозяйств, из которых 1000 можно смело отнести к известным и знаменитым, и думал – ну почему так, а? Почему не овсяное шуйское печенье известно в мире, а «Шато Марго»? Не ивановская водка, и даже, прямо скажем, не современные ситцы? Не мезгинский березовый сок? Почему не знамениты в мире стейки из чернских бычков, как знамениты ти-боун-стейки из бычков техасских? Не, елки-палки, лес густой – местные грибы? Не пиво из местного хмеля, когда бы он рос?
Вот у вас – есть ответ или хотя бы предположение?
А у меня – есть, иначе бы я это путешествие по волнам моей памяти не совершал. Но гипотезу свою я изложу в самом конце, а пока что давайте из-под Шуи, из-под виноградников Марго, перенесемся в Петербург в свежеоткрытый ресторан Алена Дюкасса.
Называется этот гастрономический храм mIX (именно так: mIX, в написании нет ошибки), и располагается он в новеньком отеле W (да, одна буква, дабл-ю, дубль-вэ), – отель этот находится сбоку припеку от Исаакиевской площади, на коротком отрезке Вознесенского проспекта, где целый квартал образован знаменитым домом Лобанова-Ростовского. Лобановы-Ростовские – это были такие князья, рюриковичи, последний из которых, Никита Дмитриевич, примечателен не только привычкой проходить в музеи без билета и дружбой с Сальвадором Дали, но и своей знаменитой коллекцией. А дом Лобанова-Ростовского – это воспетый в «Медном всаднике» дом «с возвышенным крыльцом», на котором, с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые. На чьих мраморных спинах главный герой поэмы спасался от наводнения 1824 года – но, как вы помните, не смог спастись от безумия… Сеть отелей W – вполне знаменитая, ничуть не хуже «Риц-Карлтона»: как-то в W на Юнион-сквер я жил в Нью-Йорке, сам чуть не сходя с ума от того, что каждое утро проходил по площади, где стартует действие романа «Гламорама» Брета Истона Эллиса, первые страниц двести которого ну просто «Духless» Сергея Минаева, бренды-шмотки-фишки-моды, а потом все опрокидывается, как поверженный боец на лопатки, и роман начинает вскрывать твой мозг консервным ножом – так что непременно Эллиса почитайте (Минаевым можно и пренебречь…). Тот нью-йоркский W расположен, кстати, в старом здании ар-деко, в проекте которого не был предусмотрен ресторан – так что мне выдавали талончики для завтрака в соседнем заведении, модном, но не очень вкусном, между нами…
(Скажете, я затягиваю, брожу и увожу в сторону от темы французской гастрономии и русских продуктов? Ничуть не бывало: я бегу ей навстречу; объяснения – повторяю – будут даны в конце.)
И вот я сидел в Петербурге, на знаменитом проспекте, в отеле знаменитой сети, в ресторане знаменитого гастронома (у Дюкасса на 20 ресторанов в Париже, Монте-Карло и Лондоне приходится 19 мишленовских звезд, – он эдакий девятнадцатирежды герой чревоугодного труда, суперзвезда).
Я сидел, поджидал шефа mIX Александра Николя (сам Дюкасс, открыв ресторан, из России отбыл) и думал о всяких забавных вещах (например, о том, что Дюкасс просил недавно Папу Римского исключить чревоугодие из списка смертных грехов, – к чему я отношусь, как пишут в таких случаях в «каментах» блогеры, «+1»), а параллельно читал подборку, подготовленную моей женой.
Это была подборка высказываний петербургских рестораторов о местных, производства Ленинградской области, продуктах, – и российским патриотам лучше бы этих высказываний не знать. Потому что над местными поставками и местными поставщиками местные дюкассы даже не издевались – они их попросту игнорировали. Их отвергал и ресторатор Мельцер, владелец рыбной «Матросской тишины», аргументировавший это даже не тем, что сибас и желтохвостик в Финском заливе не водятся или что на берегу Финского залива нет ни одного рыбного рынка – а тем, что под Питером корову «сначала доят, а потом режут», то есть что в России утрачено элементарное деление буренок на молочные и мясные породы, и царит в смысле производства продуктов каменный век. Отвергал местных производителей и владелец «Строганоff стейк-хауса» и «Рюмочной номер 1» Гарбар. Отвергали вообще все, одинаково объясняя, что даже если случайно удается найти вкусную утку, поросенка или судака – нет никакой гарантии, что в следующей партии вместо утки не придет кура, вместо судака – лещ, и что их доставят в том количестве, качестве и размере, что необходимо. На отсутствии гарантированных, стандартных поставок местных продуктов как на главной проблеме местной кухни настаивали абсолютно все, на пальцах и калькуляторах объясняя, почему из-за границы выгоднее везти не только рыбу, но и, что удивительно, белые грибы. Да потому что, импортируя, ты получаешь калиброванный, отсортированный, проверенный продукт. А покупая в России, рискуешь получить в одной поставке и крупную рыбу, и мелкую; а в ящике с грибами половину червивых; и вместо готовки будешь заниматься переборкой… Спасибо, не надо. Оставьте тему любви к отечеству электорату «Единой России»…
…И вот с кухни в зал вышел (а кухня в mIX отделяется стеклянной стенкой, чтобы при желании наблюдать процесс) Александр Николя – молодой шеф такого телосложения, что шансов пройти кастинг на роль повара в кино у него нет, зато на роль Дон Кихота сколько угодно. И начал говорить про местные продукты совершенно удивительные вещи. То есть он сначала рассказал, как в Париже с 12 лет помогал своему отцу, зеленщику, в работе: они вставали в 3 утра и во тьме ночной ехали на знаменитый оптовый рынок Ражис, чтобы успеть выбрать лучший товар (да, восходы всех парижских мишленовских звезд начинаются именно спозаранок и именно на Ражис, потому что хорошая кухня начинается с отборных продуктов, и уважающий себя шеф всегда едет на рынок сам, не доверяя никому отделение зерен от плевел и агнцев от козлищ). В Петербурге, к сожалению, такого оптового рынка нет, зато есть очень неплохой Кузнечный рынок, где они основную часть своих продуктов и закупают. «Да-да, не смотрите так: все овощи у нас от фермеров из Ленинградской области, кроме черного редиса, который мы не смогли найти». – «Что, и помидоры? Не надо сказок! Ни на каком рынке сегодня в России нет вкусных помидоров, а так называемые «бакинские» та же вода!»– «Да, и помидоры, им удалось найти вкуснейшие, ленинградские, не испанские. А вообще, кое с какими продуктами в России дела даже лучше, чем во Франции. Потому что в Париже существуют три сорта творога, а в Петербурге тридцать три. А, к примеру, с местной курицей проблем вообще нет: это вначале поставщик не понимал, отчего цыпленок должен весить от тысячи двухсот до тысячи четырехсот граммов, но никак не тысячу шестьсот, но теперь привык». – «Ну, а яйца, месье Николя? Я знаю одну французскую булочную, закрывшуюся оттого, что яйца в России и в рестораны, и в магазины поставляют немытыми!» – «Да, это проблема. Нам даже пришлось организовать в ресторане место для мытья яиц. Вообще, главная проблема русских продуктов – это отсутствие стандартов и аккуратности, как бы объяснить… Вот, скажем, у Дюкасса в ресторане дело поставлено так, что кухню моют не уборщицы, а сами повара: потому что только повар знает, что такое идеальная рабочая чистота! А так – в Петербурге проблем не больше, чем в Англии. И эти проблемы решаемы, поверьте. И вы знаете, что говорит мэтр Дюкасс? Он говорит, что через пять лет вы не узнаете города! Вы не узнаете России! А сейчас – вы позволите? Время обеда, нужно быть на кухне…»
И я вот после этого разговора я сидел в mIX, любовался сквозь окна имперским классицизмом дома Лобанова-Ростовского и ел дивный, холодный, из местного питерского зеленого горошка суп. То есть мне принесли тарелку, на дне которой покорно ожидали участи горошинки и в центре которой надсмотрщиком над ними возвышалось сбитое яйцо, как мне показалось, из сметаны – и на моих глазах все эти горошины и пол-яйца утопили в прохладном, нежно-салатного цвета, пюре. О боже мой, какой это был суп! Никакого подобия с гороховыми похлебками, с которыми у меня случалась близость! Это вообще была другая история, и со сметаной сразу стало понятно, что это была не сметана, а творог! Я ел этот холодный прекрасный суп и вспоминал, как еще один мишленовский шеф, Стефано Заффрани, который в Петербурге ставил кухню в ресторане «Шабу-шабу», ресторане-шутке, эдаком варианте исполнения японской кухни руками итальянца, никогда Японии не видевшим, – убедил меня покупать макароны «Макфа», поскольку они ему показались вкуснее импортируемых итальянских…
И еще, думал я, – да, проблем в русской гастрономии тьма, и пока что поставки достойной говядины организовать трудно, однако это не кошмар, а просто задача, над решением которой надо трудиться. Потому что все существующие в мире чревоугоднические Мекки, все эти Бордо и Лионы, – это ведь продукт не столько земли, сколько великой исторической традиции. Именно традиции, а не просто вливания денег баронов Ротшильдов в замки Лафит и Мутон. Это продукт досконального соблюдения стандарта, технологии, и так год за годом, век за веком, скрупулезнейшего описания миллезимных годов (когда, сколько осадков, сколько солнца, какие температуры подневно и почасно случались) – то есть продукт превращения стандарта в легенду.
И пишу я это к тому, что Россия, русские, при всех моих гигантских претензиях к ним (то есть к нам) и скептицизме – это пластилиновая, или, чтобы убрать негативную коннотацию, довольно пластичная нация, чтобы вышеописанную идею не перенять. Мы, должен сказать – вообще нация, примечательная именно способностью к заимствованию, приспособлению. И тогда, через какое-то время, безо всяких противоречий с национальным характером… и с национальной идеей… под Шуей… под Петербургом… Иваново… Мезгино… Москвой…
Понимаете, к чему это я? Если да, то приятного аппетита!
2011КОММЕНТАРИЙ
Я писал этот очерк для «Огонька» и, кажется, немного увлекся в гастрономическом красноречии. Не уверен, что понятна принципиальная вещь – почему все-таки такой интерес отдается гастрономами местным продуктам. Попробую показать на другом примере. Вот я, будучи петербуржцем, частенько бываю в Финляндии. Обычно езжу машиной, но когда есть деньги (и нет желания проводить часы в очереди на границе), то поездом Allegro, который меньше чем за три часа доставляет из Петербурга в Хельсинки (кстати, для меня это лучший поезд хотя бы потому, что сбоку у каждого – да! – кресла есть розетка для ноутбука. И еще, но уже по теме: Хельсинки, да и Финляндия в целом – это гастрономические город и страна…). Так вот, представьте себе: Хельсинки в 2012 году официально нес титул столицы мирового дизайна. Представляете? Страна, которая никогда не имела ни великой истории, ни грандиозных денег, что обычно и переплавляется в исторический стиль – или, говоря по-современному, дизайн. Что могла предъявить миру Финляндия, обретя независимость в начале ХХ века? Немного русского классицизма? Северного модерна? Это все были платья с чужого плеча. У финнов не было ничего, кроме девственной природы и любви к этой природе. И тогда великий Алвар Аалто стал делать мебель из гнутой фанеры (дешевый материал!) и строить дома так, чтобы они составляли с природой целое. А за Аалто потянулись и остальные. И это создало целую школу дизайна, превратившую в итоге Хельсинки в столицу мира.
То же и с местными продуктами в гастрономии.
Не закрываться от мира, не выдавать себя за другого, – а наоборот, восхитить мир тем, что только у тебя и есть.
В этом смысл.
2014#Россия #Петербург Через окно пролезть в европу
Теги: Почему понаезжают в Питер, а не в Москву. – Почему некондиционное бывает спасительно. – Почему в Питере привольно студентам и Гельману.
Чеховские три сестры сегодня бы рвались не в Москву, а в Петербург (впрочем, при Чехове Москва административно была как сегодня Питер). Статистика неумолима: на Неву за 2 последних года переехало жить 324 тысячи человек. В первопрестольную – лишь 299 тысяч.
В самом Петербурге наплыв новых горожан (в 2011 году таких зарегистрировано 130 тысяч человек, в 2012 уже 194 тысячи; тенденция, однако!) объясняют просто: «К нам переезжает Газпром!».
Это не совсем так.
Во-первых, в Питер в 2013 году перебирается лишь «Газпром экспорт».
Во-вторых, да хоть и весь газовый гигант: для пятимиллионного города (самого крупного в мире из северных городов) это как слону дробина.
Но все равно риелторы потирают руки: растет цена на квадратные метры на Крестовском острове, играющем роль резервации для нуворишей (или, говоря языком Пелевина, нуворашей), которые воротят нос от центра, едва узнав, что в старых домах подземных гаражей не бывает. По городу гуляют шуточки типа «Объявление: менеджер «Газпрома» снимет квартал». А историк и телеведущий Лев Лурье – и это уже не шутка – проводит для газпромовских менеджеров курсы адаптации к петербургской жизни. Учит называть пончики – пышками, подъезды – парадными и не бежать в ужасе из третьего двора-колодца.
Но это поверхностный, хоть и культурный слой.
Глубинная же причина в том, что Петербург сегодня не столько окно в Европу, через которое в Европу можно только, вздыхая, смотреть, – но и сама Европа, если судить по жизненному укладу.
Ведь что видит приезжий, выходя из поезда на Московском вокзале? Сразу напротив – круглосуточный музей эротики. Рядом – секс-шоп «Розовый кролик». Влево и вниз по Лиговке к Обводному – дешевые харчевни и бары с шестовым стриптизом, там же десятки отелей и отельчиков: предлагаются в том числе и номера с почасовой оплатой.
Возможно, кому-то все это и ужас, но ужас совершенно европейский. Потому что в любом большом европейском городе район возле вокзала – «красная» зона, напичканная злачными местами, стрип-клубами, кинотеатрами для взрослых, дешевыми отелями. Что в Риме, что в Копенгагене, что во Франкфурте (про Гамбург с Амстердамом я уж молчу).
Не нравится «красный» район? Пожалуйста, можно пойти по Невскому. Толпа невероятная: в том смысле, что тьма людей просто гуляющих, шляющихся, причем в любое время суток. В два или в три ночи на Невском в уикенд столько же народу, сколько я ночью видел лишь в Бангкоке на Патпонге, в Париже на Сен-Андре-дез-Ар и в Краснодаре на улице Красноармейской в выходные. Развлечений – тьма, на любой вкус и возраст. Дробность и мозаичность поражают. Это не Тверская в Москве, где вообще делать нечего, если нет на Тверской дел. Вот сладкоежки лижут витрины в Елисеевском магазине в очереди за французскими пирожными-макаронами. Наверху на балюстраде под механическое пианино танцуют механические куклы в человеческий рост. Вот музей дореволюционного фотографа Буллы, где проходит отличная выставка советского фотографа Ахломова, – прямо с нее за 100 рублей можно шагнуть на крышу над перекрестком Невского и Садовой (это на нем в 1917-м расстреляли матросов-анархистов, спровоцированных на путч большевиками). Вот первый в истории России Пассаж с сохранившимся в идеальном состоянии кафелем на полу: здесь, по версии Достоевского, слопал чиновника Ивана Матвеевича крокодил. Вон полусекретная галерея Al, чтобы попасть в нее, надо нажать на правильную кнопку на домофоне. И снова, тут же, отели, отелищи, отельчики; гостиницы и хостелы; рестораны, кафе и бары; дворцы и церкви, и не подавляющего масштаба, а человеческого. Летом ко всему этому добавятся катания на катерах, открытые террасы, уличные жонглеры, актеры, певцы и танцоры.
И все это не дутое новодельное, как в Москве, где фальшивую потертость создают за особые деньги, а подлинное и доступное, помнящее и Блока, и Довлатова. Это в Москве ресторатор Новиков ценой невероятных усилий создает советское кафе «Камчатка», которое все равно псевдосоветское. А в Питере пока работают настоящие стоячие рюмочные типа «щель», где можно опрокинуть пятьдесят граммов перцовой (40 руб.), закусив яйцом с майонезом (20 руб.), а заодно познакомиться с парой университетских профессоров, спорящих о Бодрийяре и Фуко. Победите в споре – вам нальют.
Я своим московским студентам сейчас с чистой совестью рекомендую сгонять в Питер ради выставки Icons Марата Гельмана: ночной сидячий вагон – около 450 рублей, койка в хостеле (а хостелов в Питере пруд пруди) – 200–300, именно так в Европе студенты и путешествуют. Заодно можно увидеть Питер фабричный, индустриальный, Питер заводских корпусов на Обводном канале, где в конверсии «Ткачи» и проходит выставка. А потом пешком прогуляться до еще одной конверсии, лофта «Этажи», где на стенах бывших цехов грамотно оставили даже советский жуткий кафель размером 20х20 и где почти все выставки бесплатны. Ну, а потом – в арт-центр «Пушкинская, 10», где до сих пор обитают хипаны – духовные родители нынешних хипстеров, и девушки с фенечками на запястьях варят кофе в джезвах…
За границей такие арт-сквоты есть в Берлине (Хакские дворы), в Копенгагене (Христиания), в Париже я знаю местечко на рю Риволи, 59 – но в российских городах такого больше нет. Как нет, скажем, и возможности купить за 100 рублей килограммовый пирог с капустой в фермерском магазинчике прямо напротив дома, где жил Достоевский.
Вот эту европейскость, состоящую вовсе не в больших деньгах, а в человечности городской среды, и чувствуют, как мне кажется, провинциалы, которые сначала приезжают в Питер на экскурсию, а потом навсегда.
И здесь обращу внимание на мысль, которую повторяют и Григорий Ревзин, и Юрий Сапрыкин, и тот же Гельман. Главный продукт, который создает современный город – это свободное время. Европейский город создает доступное и разно-образное свободное время. Европа – это вообще когда всего много, дробно и доступно. В Москве свободное время чудовищно дорого стоит. У москвича со средней зарплатой, заплатившего за съемную квартиру, просто нет денег свободное время потреблять. Потому что в Москве есть хорошие и безумно дорогие рестораны и клубы, но почти нет дешевых и вкусных кафе и баров. А в Питере на улице Рубинштейна длиной 750 метров пихаются локтями примерно полсотни разно-образных едален, включая полутайное дворовое кафе «Кафе», где хозяин, карабахский армянин, по слухам, дает скидку всем, кто знает, что «Карабах» по-армянски будет «Арцах». То есть Питер безо всяких инвесторов и начальников освоил современную формулу городской жизни: город – это общение в максимально разнообразных формах. И если добавить к харчевням Балтийский залив с дюнами, озера Карельского перешейка, университеты, две сотни музеев, под сотню театров, дворцовые пригороды, покатушки на великах, прогулки по Островам, тайные экскурсии по крышам, концерты-квартирники, возможность сгонять за 20 евро в Финляндию, публичные лекции в библиотеках, – то да, Питер утирает нос страдающей насморком мегаломании Москве.
Остается только обозначить мотор, делающий эту дробную жизнь возможной. Это – некондиционная недвижимость огромного по площади старого центра. Грубо говоря, ни одно из питерских дореволюционных зданий не соответствует нынешним СНИПам и ГОСТам. Говорить о нормах инсоляции в дворах-колодцах бессмысленно. Ни один нувориш, а тем более нуворишка и нуворашка, никогда не станет там жить. Но то, что плохо для них, замечательно для студентов, мелких предпринимателей, рестораторов, отельеров, магазиньеров и прочей городской рыбешки. Не заглядывает в коммунальную квартиру солнце? Но можно сделать ремонт, снабдить каждую комнату туалетом и душем – будет мини-отель. Не выгорает с отдельным туалетом? Можно устроить хостел с удобствами в коридоре. Не получается хостел? Откроем велосипедный магазин с мастерской: некондиционные квадратные метры замечательно ярко горят в огне творческих идей.
В России второго такого города просто нет. В Москве должны случиться разом кипрский кризис, чума и потоп, чтобы ее «красные» зоны, которые по зубам только большим деньгам, начали мало-помалу превращаться в нечто подобное лондонскому Камдену или берлинскому восточному Кройцбергу.
А в Питере – довольно азиатском по взаимоотношениям власти и горожан – идет совершенно европейская жизнь там, где горожане могут плевать на власть и договариваться друг с другом напрямую.
Так что приезжайте посмотреть.
Или переезжайте.
2013КОММЕНТАРИЙ
К упомянутой выставке Марата Гельмана Icons я имел некоторое отношение. Дело в том, что сначала Гельмана с этой выставкой в Петербург пригласили, а потом, испугавшись темы «художник и православие», приглашение отозвали, а впоследствии, когда разразился скандал, Гельмана снова пригласили – и на этот раз уже мои добрые знакомые, арендовавшие целый этаж конверсионного пространства «Ткачи». «Ткачи» – это бывшая ткацкая фабрика, с которой новый владелец, олигархическая группа, не знал, что делать. Ее стали сдавать кусочками разным дизайнерским магазинчикам, всяким организатором свободного времени, среди которых оказались и мои знакомые. Например, книготорговец Денис Бирюлин, интеллектуальный магазин которого с названием «Борхес» очень бывшую фабрику украсил. Но Бирюлин с друзьями шел дальше, он понимал, что фабрика оживет, только если туда будут приходить люди, а люди будут приходить, только если там найдется нечто интересное для них, нечто новое и меняющееся, – и вот тогда они придумали пригласить Гельмана, а прямо в залах выставки устраивать ежедневный лекторий Lectorium, чтобы прямо среди экспонатов читали-выступали историки, политики, писатели, градостроители, священники, вообще неординарные люди. А координатором лекций по уикендам пригласили меня. Ну, я и накоординировал – и Диму Быкова, и Николая Сванидзе, и Сергея Пархоменко, и Льва Лурье, и Андрея Архангельского, и Евгения Анисимова, и много кого.
Это было очень живое время. Потому что люди приходили на выставку и тут же, в залах с гигантским полотнами «библейского цикла» Дмитрия Врубеля, слушали Юрия Сапрыкина, а потом они покупали книги Даймонда в «Борхесе», пили кофе в кафе и стекали вниз по этажам с магазинчиками, где торговали ситибайками, смешными майками и гитарами Fender. Это было чудесное, прекрасное время, когда в одном месте оказывались все – и неосталинисты, и интеллектуалы-троцкисты, и поклонники Гельмана, и хулители Гельмана, и даже казаки, чесавшие репу, потому как пришли богомерзкую выставку громить, а богомерзкого найти не смогли. В общем, там была жизнь.
А потом даже не знаю, что и случилось – скорее всего, владельцы здания получили сигнал, что глубоко православное руководство Петербурга считает любые попытки интеллектуальных игр с православием делом порочным, и договор аренды с моими друзьями мгновенно и в одностороннем порядке разорвали.
И жизнь кончилась. И лекторий кончился. И книжный магазин. И выставки, которых был готов уже план на год. И большая разнообразная прекрасная толпа.
Это я к тому, насколько хрупка бывает многоукладная, яркая, сложная городская картина, певцом которой я являюсь.
2014#Россия #Азия Москва, куриная нога
Теги: Москва как закрытое от мира пространство. – Мир как супермаркет и мир как проститутка. – Москва как азиатский город.
Сегодняшняя Москва как столица опирается на одну идею – национальную. Избушка на курьих ножках и то устойчивее. Москва, в отличие от европейских столиц, не интернациональна. И, как следствие – провинциальна. Она хочет выглядеть Европой, но в итоге обазиатчивается.
Сейчас, когда лечу на Запад, то неизменно испытываю одно свежее чувство. В дополнение к прочим, охватывающим в Европе русского путешественника, – включая и то, что было подмечено еще в 1839-м Астольфом де Кюстином, описавшим разницу в выражениях лиц отъезжающих за границу русских – и возвращающихся обратно.
Мне трудно выразить это новое (лет 10 назад его не было) чувство одним словом, – но, в общем, это ощущение, что вырвался из мира замкнутого и самодостаточного в мир открытый и большой. На огромную планету, где пять обитаемых континентов, сотни стран и множество событий, в курсе которых хочет быть обитатель планеты. Неважно, какую газету я открою в аэропорту – Le Figaro или International Herald Tribune – но в обеих я прочту про беспорядки в Тунисе и в Кот-д’Ивуаре, про расследования в Штатах, про Польшу, про попытки «Хезболлы» низложить правительство Харири в Ливане, – и еще про массу всего, случающегося много где. И не только в «Геральд Трибьюн», которая «интернэйшнл», но и в абсолютно французской «Фигаро». Извольте: из первых шести полос – четыре отданы Тунису, Бельгии, Ливану, Нигеру, Гаити, убийству полицейских в северных кварталах Абиджана, и только две – Франции. Вот вы – вы укажете сходу на карте этот самый Абиджан?
Нет, я понимаю, что Тунис – бывшая французская колония, к нему во Франции отношение, как у нас к Молдавии, а Бельгия – это Евросоюз, на поезде до Брюсселя из Парижа час с мелочью, но так ведь и СССР претендовал на полмира! А вы давно читали репортажи из Каунаса? Вам показывают по ТВ, каких успехов достиг ресторанный бизнес в Эстонии? Вы, кстати, знаете, что от Таллина до Хельсинки под заливом собираются рыть тоннель?
Отсутствие в российских СМИ интереса к событиям в мире – это реакция на отсутствие интереса к событиям в мире у россиян. Оказалось, падение железного занавеса не обязательно провоцирует такой интерес. Особенно при росте заменившей занавес убежденности, что мир – это большой супермаркет, совмещенный с домом отдыха, и что вообще-то хваленые европейцы и американцы (не говоря уже про третий мир) – такие же дряни, как и мы, просто они более опытные лицемеры и лицедеи, и если мы перекроем им трубу, то у них все тут же рухнет. И вообще, пусть трепещут, потому что мы поднялись с колен.
Я вовсе не хочу сказать, что Россия – страна третьего разбора и сорта. Думаю, по массе показателей мы сильно впереди того же Кот-д’Ивуара, где и расположен Абиджан. Но в нашем отношении к миру заложен, к сожалению, полный набор стереотипов дворового пацана. Наш двор – самый крутой. Боятся – значит уважают. Да ладно, блин, у них все то же самое. Кто платит девушку – тот и танцует. Ты чо сказал, кааазел?! Хорош учить, мы сами с усами. Чего мы там не видели? Лучше и милее в мире нету Родины родной.
Сон разума рождает чудовищ: современный русский искренне не понимает, что для миллионов европейцев, родившихся в одной стране, учившихся в другой, женившихся в третьей, а работающих в четвертой, патриотизм в русском значении – вообще бессмыслица. А смысл имеют лояльность стране пребывания и цивилизационная идентичность (где открытость и ответственность – базовые принципы). И по этой, кстати, причине люди Запада смотрят на мир как на общий дом и как на сферу персональной ответственности. Их действительно волнуют бунты в Тунисе, резня в Дарфуре и гибель китов в Патагонии.
Обратная позиция – мир как магазин или мир как проститутка, обслуживающие за деньги, а круче тот, у кого денег больше – не то чтобы ведет к жизненному краху (я не думаю, что обвешанные пакетами соотечественники в аэропортах, которым я порой помогаю объясниться с местными, – что они страдают от того, что их жизни не задались: скорее, они думают противоположное, и потому свои пакеты выставляют напоказ).
Но эта позиция имеет неожиданный побочный эффект. Его недурно сформулировал – отдаю должное – в последнем номере «Афиши» за 2010 год президент института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер.
«Москва, – сказал он, – превратилась в азиатский город. На протяжении 300 лет в Россию ехали люди с Запада: евреи, поляки, литовцы, латыши, украинцы, немцы, шведы. А сейчас происходит обратный, очень мощный процесс: евреи все уехали, уехало очень много русских, и на их место едут азербайджанцы, армяне, таджики. Сейчас мужчины, когда встречаются, часто обнимаются и хлопают друг друга по плечам. Этого не было 10 лет назад. Мужчины при встрече только пожимали друг другу руки. Это влияние кавказской культуры».
Это верное наблюдение. Совсем как у Кюстина. Переезжая в другую страну, люди ищут не только, где им больше платят, – но и место, где действуют близкие им принципы. Россия – и прежде всего Москва – платят сегодня за свое моральное пацанство, то есть за предпочтение своячества закону, силы – справедливости, старшинства – таланту. Эта плата – замена оевропеизирования обазиатчиванием. Потому что принципы пацанства совпадают с принципами феодализма, общинного уклада, клановых либо родоплеменных отношений, которые довольно часто встречаются в Азии, но уже не встречаются в Европе.
То, что я написал – конечно, всего лишь гипотеза.
Но если она хотя бы наполовину верна, превращение России в Азию никаким шопингом в Европе не остановить.
2011КОММЕНТАРИЙ
Я вообще думаю, что те таджики, туркмены или узбеки, что всеми правдами или неправдами просачиваются в Москву, терпя то, чего человек терпеть не должен – они ведь терпят это не просто в погоне за рублем, обращаемым затем в сомони, манат, сум или доллар. А потому что в такой системе унижения ничего странного не видят. Не видят несправедливости в том, что сильный унижает слабого. Был бы слабый сильным – он бы унижал.
Москва в этом смысле действительно куда более их город, чем город приобретшего внешний европейский лоск москвича.
2014#Россия Как нам обустроиться в России
Теги: Валить или оставаться? – Куда сбежать от государства? – На дачу, в звезды или ну все на хрен?
Я в каком-то магазине возмутился ценами. Со мной бывает. Цены выросли скачком, став выше парижских раза в полтора. Продавец – моя невинная жертва – признав рост цен и неизменность зарплат, равнодушно бросил: «Если здесь так не нравится, чего ж не уезжаете?».
Я сто раз в своей жизни слышал: «Не нравится – вали». Для меня совет давно стал цивилизационной меткой, пограничным столбом, отделяющим Россию от других жизнеустройств. Потому что англичане или французы тоже многим возмущаются, но другие англичане и французы никогда не советуют им «валить». Напротив, если возмущение сильно, люди вываливают в знак протеста навоз перед Елисейским дворцом, а случается, что валят и собственное правительство.
И меня это рабское «вали» (рабское – не потому что не дает выбора, а потому что скрывает рабский выбор: «либо уезжай, либо прогибайся, как все») долгое время возмущало. А теперь нет. Потому что мне дают дельный совет – другое дело, что не единственно возможный. Это совет по организации жизни в условиях, когда, по замечанию Бориса Немцова 2007 года (когда Немцов и не думал, что будет встречать Новый год в каталажке), «жить стало лучше, но противнее».
То, что вы прочтете ниже – попытка перечислить варианты жизнеустройств в России ближайшего будущего. Это будущее, кстати, сегодня тоже выглядит по-другому, чем в 2007-м. Тогда в среде городских профессионалов был разлит страх возможного и скорого экономического кризиса, коллапса. Кризис и вправду случился, но коллапса не произошло. Новая российская система, лицом которой является Владимир Путин, оказалась подобна продукции АвтоВАЗа: трещит, ломается, проигрывает по всем статьям иномаркам, но зато ремонтируется в любом гараже и пусть кое-как, но едет. А случившийся при Путине прогресс – это прогресс от «жигулей»-«копейки» к желтой «ладе-калине».
Я не ставлю целью ни описать машину, ни, тем паче, спорить с теми, кто считает, что на колдобинах «лада-калина» лучше «мерседеса». Я, повторяю, ставлю целью определить варианты, как обустроиться в «жигулях».
Итак, как жить? Даже ведь в СССР находили возможность «жить не по лжи»!
ВАРИАНТ 1: ВАЛИТЬ
Кстати, это вариант самый непротиворечивый, если по умолчанию принять, что из России «валят» на Запад, а не на Восток. На Западе сразу включаешься в систему, основанную на равенстве, справедливости, поощрении частной инициативы, подконтрольности государства обществу. Своих проблем тоже хватает, но лютующие гаишники, воспитание патриотизма, барство дикое и рабство тощее – про это все сразу можно забыть.
Проблемами этого варианта считаются две. Первая – что нас «там никто не ждет», вторая – языковая (бытует мнение, что с русским акцентом ты человек второго сорта). Насчет первого – программы поощрения иммиграции действуют в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и даже (будете смеяться!) Норвегии, где не хватает, например, стоматологов. Что до языка, то человек со средненьким английским через полгода начинает говорить, через год – болтать, через два – прилично, а на акценты в мультинациональной Европе всем плевать.
Однако проблемы варианта «валить» существуют. Главная – культурная. Это из России Запад видится монолитным, а на деле он дробен. Когда в Англии мне предложили продлить контракт (перспектива – вид на жительство и гражданство), я отказался. Невероятно уважая англичан, я не мог принять их культурных привычек – начиная от внешней холодности и заканчивая отношением к еде как к заправке бензобака. А вот предложили бы во Франции – запрыгал бы от радости. Не потому, что французы лучше англичан, а потому, что французский стиль жизни, гедонистический, показной и лукавый, мне близок (при этом франкоговорящая Бельгия, живущая внутрь себя, а не напоказ, – мне снова чужда).
Другая реальная проблема – востребованность профессий. Нужны строители, озеленители, электротехники, зоологи; с оговорками – физики, математики, химики; совсем не требуются – люди, кормящиеся с русской культуры и языка (например, я).
И, наконец, третья проблема – возраст. Чтобы на Западе прилично жить в старости, нужно делать взносы в социальные фонды сызмальства. На этом многие попались – например, 70-летний Сева Новгородцев продолжает сотрудничать с Би-Би-Си не только потому, что ему это в радость, но и потому, что заботой о пенсии в свое время пренебрег.
ВАРИАНТ 2: УЙТИ ОТ ГОСУДАРСТВА
Эту концепцию год назад публично изложил актер Алексей Девотченко, полюбоваться на игру которого можно, например, в Московском ТЮЗе в «Записках сумасшедшего». Если кратко: чтобы сохранить себя, не окормляйся от государства, тем более что частного бизнеса навалом. У меня по этому поводу с Девотченко случилась заочная полемика (на государственных телеканалах и государственной радиостанции идут мои программы, и что-то никто пока не просил меня целовать дьявола в зад); позицию Девотченко некоторые из культовых фигур разделяют (например Дмитрий Быков).
Не желая подлавливать Девотченко на мелочах (ТЮЗ, подозреваю, получает дотации от государства), сразу скажу, что плюс этого варианта в том, что да, любой шаг в сторону от государства дает упоительное ощущение свободы. Скажем, нашу с Димой Дибровым программу «Временно доступен», показываемую по ТВ-Центру, снимает все же частная компания «АТВ», работать с которой приятно (а штатные сотрудники телеканалов жалуются, что не знают, «что можно и что нельзя»). Или пример совсем из другой сферы: в Петербурге я вздыхаю с облегчением за рулем, только тогда он является рулем велосипеда: тогда ни кошмара пробок, ни кошмара гаишников – рай!
А самый очевидный минус «концепта Девотченко» в том, что совсем уйти от государства не удастся. Техосмотры, поликлиники, школы и вузы, те же дороги, те же менты, жилконторы, военкоматы… Мрак и плач. И это я по Хельсинки зимой могу гонять на велосипеде – зимний Петербург для меня перекрыт ледяными наростами и сугробами, как в блокаду.
ВАРИАНТ 3: СТАТЬ ГОСУДАРСТВОМ
Вот история журналиста N.
В начале 1990-х он был в тройке самых популярных телеведущих, и, как ракета, влетел в те информационные слои, которые давали и власть над думами, и доход. Жил широко – загородный дом, коллекция олдтаймеров – но щедро; любил друзей; жене при разводе оставил недвижимость, но главное – являл образец яростного, бескомпромиссного служения профессии, смысл которой не пропаганда, не обогащение, а поиск истины, хотя бы информационной.
Его ток-шоу было популярно, а он не давал спуска никому. Помню, кто-то из экспертов возопил о секретных документах, хранящихся в секретном архиве, и N. гюрзой вскинулся: «Какой организации принадлежит архив? Адрес можно узнать? Туда троллейбус какого маршрута идет?». Или в разговоре с Шойгу, когда Шойгу недовольно пробурчал: «Вам что, про меня все важно знать, от шнурков до макушки?» – «Да, именно так. Потому что профессия заставляет выяснять про публичных политиков все, от пальто до трусов». А на курсах Internews Мананы Асламазян, ныне разогнанных (там региональные журналисты учились у мэтров), когда какая-то девочка сказала, что если последует совету, то губернатор ее уволит, и как ей же быть? – N. взорвался: «Вешаться! Или уходить из журналистики! Служить губернатору – другая профессия!».
Для меня N. был образцом мужчины и журналиста. Но потом настали 2000-е, и я уж не знаю, что случилось, но N. замечен был в узком кругу в «Бочаровом ручье», а вскоре сменил риторику от служения обществу и профессии на служение государству и государю, любые замечания отметая: «Страна при Путине развивается ди-на-мич-но!». Когда же кто-то возразил, что при Гитлере Германия развивалась еще более динамично, при этом Гитлер, в отличие от Путина, строил автобаны, N. выгнал человека из дома.
Так что все плюсы это варианта очевидны: гармония личных и государственных интересов. Правда, имени N. – даже если я назову – не знает сегодня никто. Хотя он – я с изумлением узнал – чуть не каждый день на экране.
ВАРИАНТ 4: ЖИТЬ В ГЛУХОЙ ПРОВИНЦИИ У МОРЯ
Это, кажется, сегодня такое поветрие.
Люди в возрасте от 35 до 50 лет если не строят, то активно готовятся к строительству автономного и экономного загородного дома, подчеркиваю: автономного и экономного. Означает это следующее. Площадь не более 150 метров, несколько спален, однако небольших, с возможностью отключать зимой отопление на втором этаже. Автономные системы снабжения (включая аварийный дизель), экономное отопление (включая дорогие в установке, зато дешевые в эксплуатации теплонасосы), вообще минимум наворотов при максимуме комфорта, и материал – не кирпич, а брус, щит или каркас с хорошей теплоизоляцией.
Это не просто мечта о даче или о загородной фазенде. То есть, конечно, и она, но – с элементами убежища на тот случай, если «что-то случится». Если здоровье не позволит работать так же активно. Если государство закошмарит твой бизнес. Если вышвырнут с наемной работы. Если упадет цена на нефть. Тогда можно сдать городское жилье и очень недорого и очень комфортно жить за городом. (По Бунину: что ж, камин затоплю, буду пить; хорошо бы собаку купить.)
Если в доме интернет и надежный «рамный» джип – вообще никаких проблем. Сплошные удовольствия, и пропади российская власть пропадом. В журналистской среде ходят рассказы о бывшем ответственном секретаре «Огонька» Владимире Глотове, переехавшим жить под Суздаль, где у него теперь дом над рекой, сосны, высаженные собственными руками, баня, компьютер и электронная связь со всем миром. Чувствует он себя отлично и пишет в свое удовольствие книги – в последней признался, что для счастья не хватает лишь ветряка.
Полной радости (не Глотова, а прочих страдальцев по эскапизму) мешает только цена строительства (три-пять миллионов) да память о том, что после 1917-го отсидеться на хуторах и усадьбах не удалось никому, причем погромили их даже не большевики, а соседи-крестьяне, мечтавшие о долгожданном общинном «черном переделе» и наконец получившие его.
ВАРИАНТ 5: СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ
Вариант очевидный – он манит тех мальчиков и девочек, что толпились в Москве на Дмитровском шоссе, 80, когда там записывали «Фабрику звезд» (местный скверик был превращен ими в место свиданий и в фабрику жизни).
Мальчики и девочки хотят поклонников, фото на обложках и сладкую жизнь плюс самое ценное в жизни звезды – переход в касту тех, кому законы не писаны. Я в программе «Временно доступен» люблю спрашивать гостей, давно ли они последний раз давали взятку гаишникам, и все вопрошаемые – от Марата Башарова до Олега Меньшикова – смеялись в ответ. Гаишникам лестно пообщаться со звездой, звезд не кошмарят, звездам игриво грозят пальчиком. Со звездами заигрывали бы даже регистраторши в поликлиниках, когда бы звездам пришла блажь пожить той жизнью, что и все. Российская звезда – вне суда и закона, а если даже в рамках суда и закона, то очень мягких, и Николай Валуев или Филипп Киркоров, думаю, это должны подтвердить.
И если бы мальчики и девочки с Дмитровского, 80, понимали, как в реальности устроена их страна, то рвались бы на экран телевизора с удесятеренной силой. Даже если бы понимали, что их шанс стать той звездой, которой улыбаются и миллионеры, и милиционеры, то есть всеобщим любимцем вроде Ивана Урганта, Андрея Малахова или Александра Цекало, у талантливого человека 1:1000. А поэтому у них шансов нет совсем.
ВАРИАНТ 6: УВЛЕЧЬСЯ РАБОТОЙ
Недавно арт-куратор Марат Гельман рассказал о своем новом проекте. Касается Твери, называется «Издательский рай». После арт-революции, которую Гельман произвел в Перми (а Пермь благодаря Гельману из провинциального города превратилась в одну из столиц современного искусства: вокзал был переделан в музей, по крышам присутствий стали путешествовать огромные красные буквы «П», на улицах проросли инсталляции), Марат теперь хочет так же всколыхнуть, наполнить новым смыслом Тверь. Тем более что город на трассе между Москвой и Питером: будут заезжать и приезжать.
У Гельмана есть особенность, которой он не скрывает: примерно каждые лет семь он кардинально меняется, ощущая себя новым человеком, не имеющим отношения к предыдущему. Он вдоволь покувыркался в российской и украинской политике, занимался галереей, был однажды зверски избит неизвестными, принимал участие в создании «Винзавода», а потом превратил в арт-площадку целый город. Может, умение меняться заставляло его так страстно отдаваться новым проектам, но именно страстное увлечение снимает противоречие между собственной совестью и гнусностью государства.
Потому что если превращаешь Пермь в полигон арт-идей, то неважно, кем является тот, кого ты своим делом увлек: художником или министром, ментом или вором. Важно, что увлеклись. Когда Ольга Свиблова превращала Москву в мировую фотостолицу, – ей что, мешали эстетические вкусы Лужкова, особенности бизнеса его жены или общее гниловатое московское устройство? Да она бы при любом режиме продвигала фотографию в массы.
Главный риск этого варианта – оценка властью культурных революций как политических. Гельману в Перми повезло с губернатором Чиркуновым. Советским же абстракционистам с Хрущевым – не повезло. Сегодня место советских абстракционистов занимает в России арт-группа «Война»: часть сидит, часть под следствием, идеолог Плуцер-Сарно в эмиграции в Праге.
ВАРИАНТ 7: СТАТЬ ТУРКОМ
Я хотел бы вернуться к разнице ощущений, бытовавших в моем кругу несколькими годами ранее и сейчас. Тогда тревога была связана с тем, что страна развивается не по-европейски, коррумпированно, несправедливо, а оттого может рухнуть. Сейчас тревога связана с тем, что страна несправедлива, коррумпирована, но не рухнет. Все будут долго, до горизонта жизни, с Европой ругаться, на Европу оглядываться, воровать, надувать щеки, давить слабых, лебезить перед сильными. В принципе, похоже на Турцию. Даже в оглядке на Европу много общего. Только одной стране дал пенделя по направлению к Европе Петр, а другой двумя веками позднее – Ататюрк. Обе страны – ни Восток, ни Запад; в обеих – государства ни светские, ни религиозные. Обе полны противоречий, но в обеих основу нации составляют люди, которым эти противоречия как с гуся вода.
Эти люди добры тем, что писатели-почвенники называют «национальным характером», эти люди невероятно пластичны, эти люди из любого времени, режима, религии успешно одомашнивают лишь то, что способствует благоденствию ближнего круга, – а перспективы на поколения вперед их не волнуют совсем. Моя теща такой человек. Она смотрит телевизор. Она искренне верит, что Лукашенко порядок навел и что он крестный батька (в разное время по телевизору показывали разное). Ее радует и наш нынешний достаток, и порядок при Сталине. Она не хочет съездить за границу «посмотреть», хотя мы предлагали. Для нее величие страны есть производное от размера. У нее есть кот, она разговаривает с ним. Когда я приезжаю, она, не спрашивая, хочу я или нет, накрывает на стол. И – положа руку на сердце – она живет более цельной, а потому более счастливой жизнью, чем я. Россия – ее страна.
Стать гармоничным русским (или гармоничным турком) – тоже хороший вариант.
Просто для меня это путь невозможный.
Вон турок Орхан Памук написал блистательный, грустный и горький насквозь роман «Стамбул», сокрушил все мои прежние представления о Турции, получил Нобелевскую премию, но из Турции вынужден был уехать, потому что он написал не так, как хотели бы гармоничные турки.
Если я напишу и получу – боюсь, тоже придется.
2011КОММЕНТАРИЙ
Актер Девотченко оказался прав.
Из государственного телеэфира меня в 2011-м убрали по причине политической неблагонадежности: я позволил себе прилюдно по радио сказать то, что думал, о питерской губернаторше Матвиенко.
А в Перми Кремль сменил губернатора, и новый все идеи Марата Гельмана похерил; а тверской проект Марата Гельмана тоже погорел, и тоже из-за смены губернатора.
Ну да, еще арт-группа «Война» дала мощный отросток в виде Pussy Riot. В тот месяц, когда девушки из Pussy Riot, отсидев почти два года, были амнистированы президентом России, бывший журналист N. решением того же президента стал кем-то вроде русского Геббельса, не просто возглавив пропагандистское агентство «Россия сегодня», но открыто заявив, что времена «дистиллированной журналистики» (т. е. объективной журналистики) закончены и что «Россия нуждается в нашей любви».
2014#Россия #Мир Валить нельзя остаться
Теги: От Андрея Ярославовича до Сергея Гуриева. – От Маши Гессен до Олега Кашина. – От Льва Лурье до Андрея Аллахвердова.
Очень интеллигентская и очень русская идея эмиграции знавала падения и взлеты, но сейчас – какой-то удивительный взлетоспад.
Я попробую это объяснить, хотя по-хорошему начинать надо с времен брата Александра Невского князя Андрея (он бежал в Швецию от «ордынской партии», чью сторону держал брат) или князя Курбского (тот – в Литву от Ивана Грозного), но от пространных экскурсов в историю я все же воздержусь.
Просто обращу ваше внимание на то, что политика (а не экономика), страх тюрьмы (а не сумы) всегда была главным топливом русского эмигрантского мотора (в отличие от миграции в Россию). Ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев остался в Париже не потому, что ему там предложили оклад повыше. А потому, что Следственный комитет начал копать под экспертов, писавших заключение по второму делу Ходорковского, и уж мы-то знаем: если велели копать – могут найти зарытую собаку, даже если не было и дохлой кошки.
В последнее время у меня перебралось жить за границу столько знакомых и коллег, сколько не уезжало даже при позднем Горбачеве, когда совпадали векторы «Так жить нельзя!» и «Здесь никогда хорошо не будет!».
Да, политика неотделима от экономики, и многие при Горби были «колбасными эмигрантами», которых достали очереди и пустые полки в магазинах (мощное сочетание). Но я с большим уважением к колбасной эмиграции отношусь. Не только потому, что Колумб тоже был колбасным путешественником – мечтал разбогатеть. А потому, что у остававшихся был велик шанс превратиться в апологетов и собственной вялости, и государственной подлости.
Сейчас эмигрантский парус наполняется почти тем же ветром.
С одной стороны – есть стойкое ощущение, что «здесь никогда ничего не изменится», но «что так жить нельзя». Хэштег «#поравалить» обрел в твиттере популярность одновременно с хэштегом «#жалкий» – когда стало ясно, что Медведев был президентом понарошку. А расцвел тогда, когда Путин стал, в традициях Николая I и Александра III, подмораживать Россию. Повторяю: никогда еще столько моих коллег не поворачивалось к России спиной. Вернулась, например, в США Маша Гессен. Поработала в России главредом «Вокруг света», была уволена за отказ ставить репортаж о полете Путина со стерхами, удостоилась встречи с Путиным, предложившим ее в главреды вернуть – и гордо ответила, что в гробу видела должность, которая зависит от царя. Но вернулась не поэтому, а потому что у Маши дети, а сама она живет с женщиной, а в Госдуме пошли разговоры, что родителей-гомосексуалистов надо лишать родительских прав. Непустая, кстати, угроза. В таких ситуациях действительно надо уносить ноги: и свои, и детские.
В Праге теперь живет, как я уже говорил, бывший лексикограф «Союза правых сил», составитель академического «Большого словаря мата», идеолог группы «Война» Алексей Плуцер-Сарно, всегда восхищавший меня тем, что не боялся идти на территории, куда боялся я. В Европе его радикализм идет по части эстетической провокации, а в России грозит реальным тюремным сроком.
В Швейцарии обитает Олег Кашин, у которого начались проблемы после вхождения в Координационный совет оппозиции (впрочем, там у всех проблемы начались)…
Я могу продолжать (но список не эмигрантов, а тех, кто оказался в эпоху заморозков под судом или засунутым в автозак: журналист Валерий Панюшкин, историк Лев Лурье, художник Кирилл Миллер, журналист Андрей Аллахвердов и делавший снимки для «Огонька» Денис Синяков – последние двое сейчас в тюрьме в Мурманске по делу корабля «Гринписа»).
Примечательны на этом фоне две тенденции. Первая – рост негативной реакции на эмиграцию в том социальном слое, который эту эмиграцию и питает. Я все чаще слышу (и это – тренд последнего полугода), что «пора валить» – это удел идиотов. Что про эмиграцию треплются «лишь либерасты», сколачивающие политический капиталец. Если и правда невмочь – вали тихо и не порть воздух. У нас здесь семьи, квартиры, карьеры…
Ну да, это знакомая апологетика бесколбасного охранительства – с той поправкой, что теперь не хватает, так сказать, колбасы свободы. Если с несвободой миришься – приходится философствовать о привлекательности родимых осин и давать укорот несогласным.
Но есть и новенькое. Резко расширилась, обратите внимание, территория эмиграции. В полном соответствии с теорией Сэмюэля Хантингтона, согласно которой планету сегодня определяет противостояние не идеологий, но культур. Россия, по Хантингтону, отдельная страна-цивилизация, у нее союзников нет. Вот почему отъезд на Украину (где работают Евгений Киселев и Савик Шустер) или в Грузию (где поработал Матвей Ганапольский) воспринимается многими как измена. Не говоря уж про отъезд в Лондон (где, несмотря на 200 тысяч постоянно проживающих русских, французов вдвое больше – но изменниками во Франции их не считает никто).
И уж совсем новая тема – это резкие высказывания об эмигрантах со стороны тех, кто за границей пожил и нашей действительности цену знает. Почти одновременно появились (поищите в интернете) одинаково злые тексты Леонида Бершидского и Льва Лурье. Бершидский в свое время получил диплом MBA во французской INSEAD, год проработал на Украине. Лурье преподавал в США и легко мог там остаться.
Бершидский пишет, что любая добровольная эмиграция сегодня – это фикция и поза, потому что единственный товар, которым россияне могут миру предложить, – это «мы и Россия». «Даже если Кашин перестанет снимать жилье в Москве, а снимет в Женеве, – пишет Бершидский, – он никуда отсюда не денется. По той простой причине, что швейцарским сайтам не нужны его колонки, а швейцарским журналам – его интервью. По крайней мере, в таком количестве, чтобы Кашин мог снимать квартиру».
Лурье же говорит об эмиграции словами, привычными скорее ура-патриотам («средний эмигрант первые лет десять чувствует себя как таджик в сегодняшнем Петербурге»), жестко проходится по эмигрантской среде («вас объединяют не общие ценности и установки, а то, что вы жертвы одних и тех же обстоятельств») и уж совсем жестко – по идее эмиграции ради детей. Потому что дети в эмиграции становятся иностранцами куда быстрее родителей, и родители, их спасая, их теряют.
И я читал эти тексты в легком шоке – не потому, что был не согласен, а по причине российской идейной бинарности, когда либо ты бьешь – либо бьют тебя. Бинарность предполагает, что, осуждая эмигрантов, ты тем самым солидаризируешься с теми, с кем стыдно рядом стоять.
И вот это противоречие мне покоя не давало. Потому что я, знаете ли, не от чего не зарекаюсь.
А потом как-то прояснилось. Почему мы так много говорим об отъезде? Если отбросить очевидные «потому что достало» и «в знак протеста», то окажется, просто потому, что одной реальности, одного мироустройства сегодня многим мало. И в этом смысле жизнь в другой стране – это дополнительная жизнь, что и вправду важна и нужна. Просто отъезд сам по себе мало что дает. Глупо эмигрировать в Лондон без языка: не потому, что «там нас никто не ждет» (можно подумать, что здесь ждут!), а потому, что опыт сузится до опыта продавца или штукатура. А вот эмигрировать в иностранный язык или в иностранные источники – очень даже имеет смысл. Это ведь идиотизм – кричать «достало-все-пора-валить», но при этом кликать мышкой по одному и тому же набору русскоязычных сайтов, игнорируя иностранные.
Есть и другие варианты эмиграции в смысле цивилизационного проникновения. Можно не только возмущаться, но и изучать предмет своего возмущения. Причем деньги на эти цели вполне можно найти. В мире существует целая система fellowships и scholarships – грантов, стипендий, в том числе зарезервированных за гражданами СНГ. Пугает, не знаю, наступление религиозных мракобесов? Можно, конечно, свалить. Но разумнее – свалить на fellowship в Гарвард, где имеются и методика, и опыт, и деньги на изучение этого вопроса. И если за американские деньги нужно еще биться, то уже с немецкими деньгами куда проще. Я устал отвечать про просьбы типа: «Нет у тебя провинциального журналиста с немецким языком – поехать на полгода в Германию? Оплачивают все расходы и дают стипендию!»
Увы, нет. Хотя полно таких, кто сидит в Челябинске или в Чите, тоскует, ругает местную власть и власть вообще.
Да, власть наша дурна, косна, малообразованна и малолегитимна. Да, выбирая между Читой и Челябинском, я предпочел бы Париж, потому что в Париже ощущать себя европейцем много проще.
Но все же сегодня парижанином в Чите или Москве ощущать себя много проще, чем в предыдущую эпоху. Поэтому, видимо, я пока еще здесь.
2013КОММЕНТАРИЙ
Андрея Аллахвердова, Дениса Синякова и вообще всех, кто был на борту судна «Гринписа» Arctic Sunrise, освободили после двух месяцев пребывания в мурманском и петербургском СИЗО. «Это, конечно, был сильный опыт, но это не тот опыт, который человеку нужен», – сказал мне Андрей, когда мы с ним созвонились в ночь первого дня 2014 года.
У меня нет никаких оснований ему не доверять.
Надежду Толоконникову и Марию Алехину выпустили, и они ныне борются за права тех, кто ежедневно получает тот «опыт, который человеку не нужен», то есть за гуманизацию мест заключения, хотя удается это им, похоже, плохо. К тому же их на свободе бьют нагайками казаки и обливают зеленкой неизвестные активисты.
Да и Ходорковского неожиданно, перед сочинской Олимпиадой, тоже выпустили – и он мгновенно оказался в эмиграции (подозреваю, что это было одним из условий освобождения).
Так что по совокупности траекторий получается, что европейцем в России быть можно, но все же опасно.
2014Вне России
#Великобритания #Лондон Москвичи и лондонеры
Tags: Коммунистический взгляд на капиталистические ужасы. – Роман Абрамович как командный резерв для лондонских сепаратистов. – Чем Кен Ливингстон отличается от Юрия Лужкова, Англия от России, а москвич от лондонца.
Гады демократы, довели страну.
Где прежнее счастье вылазок в закордонье? Где парфюмерная свежесть международных аэропортов?
Я несколько недель в Лондоне, жизнь структурно неотличима от прежней. Ну, в Москве бегал по утрам по Миуссам – а здесь бегаю по Гайд-парку, там плавал в бассейне – и здесь плаваю (только здесь дешевле), там держал под рукою «Афишу» – здесь TimeOut. От местных газет и вовсе ощущение дежавю. «Несмотря на всю экономическую мощь, уровень безработицы в Лондоне на 7 % выше среднего по стране (там 4,9 %). Кроме того, 48 % лондонских детей живут в бедности на фоне 30 % в среднем по стране». Привет Зюганову. Каждый день я узнаю, как очередная звезда уехала из Лондона, потому что здесь грабят, убивают, насилуют, не работает метро и вообще – жить невозможно, особенно с детьми.
Мазохисты, выбирающие жизнь в нищете, без метро и работы, но с насильником под окном, называются лондонцами, или, если быть точным, Londoners, лондонерами. Половина лондонеров – желтые и черные, в чалмах, сапогах на шнуровке до пупа, в зеленых париках, бритые наголо, в проклепанных косухах, при пирсинге и тату, сбежавшие из своих Норфолков и Уэльсов, Бангладеш и Египтов. Именно они бросилив чайник театрального Вест-Энда заварку чайна-тауна, они превратили помоечный железнодорожный Камден в прикольный веселый район, они сотворили местную униформу – голубые джинсы, пиджак, кроссовки, они сделали предметом гордости звучание в Лондоне 300 языков. Самые крутые из них читают сегодня «Тревоги статуса» Алена де Ботона, бегают на выставку Роя Лихтенштейна и зажигают под бразильского DJ Marky.
Стоило, спрашивается, ехать работать на Би-Би-Си, если в России работал на «Радио России», читал Жижека и тусовал в «Б2» под Tiger Lillies? Мы, лондонцы, москвичи, питерцы – столичные жители – крутые, улетные, wow & cool. Именно мы даем 16 % национальной экономики и получаем обратно лишь 84 % от уплаченных налогов (цифры привожу местные, но нет сомнений, в Москве все точно так).
Однако различия есть. Не может не быть. Иначе как объяснить, что в лондонском чайна-тауне – сто тысяч дешевых китайских ресторанов, а в московском Китай-городе – лишь администрация президента, Минфин да Минтруд, который как раз ограничением китайской иммиграции озабочен?
May I ask your attention, леди и джентльмены?
Тут у нас вышел очередной TimeOut с шапкой: ЛОНДОН ЗАЯВЛЯЕТ ОБ ОТДЕЛЕНИИ. (Господи, а о чем еще мечтают Питер и Москва? Понаехали тут…) Внутри – карта новой Европы: Германия, Франция, Ла-Манш, Лондон. Привычные очертания Британии – в голубых размывах океана. «Что случилось с вашей страной, господин премьер-министр?» – «Она утонула». Рядом – плакат: «Голосуйте за Народную Республику Лондон!» Возможный гимн республики – «Закат на Ватерлоо» The Kinks, возможный флаг – лоскутное одеяло, возможный глава республиканской сборной по футболу – Роман Абрамович. (Шучу. Согласно интернет-голосованию, он оказался седьмым, заняв то же место, что и поп-звезда Дайдо в номинации «президент».)
В редакционной статье обозреватель Би-Би-Си Роберт Элмс популярно объясняет экономический базис отделения (без Англии Народная Республика Лондон численностью 8 миллионов человек станет восьмой по богатству страной мира, перестав субсидировать незадачливые Шотландию и Уэльс). Но самое главное, объясняет причины отделения.
«Дело не только в экономике. Культурно и расово Лондон сегодня дальше от остальной страны, чем когда бы то ни было. Наша восхитительная мешанина рас и религий, языков и кухонь давно не смешивается ни с чем. Стоит съездить на денек-другой в эту монокультурную Англию, с ее белым хлебом, теплым пивом, ненавистью к иностранцам, травлей лисиц и сексуальных меньшинств («fox hunting, gay hating»), чтобы понять, насколько далеки от них мы».
Ну, и далее в том же духе: мы, лондонеры, изменим миграционную политику и практику выдачи лицензий, изменим законодательство в отношении наркотиков и т. д.
Понимаете, да?
Они не закрывать собираются ворота, а открывать. Чем больше польских, китайских, русских, индийских, таиландских эмигрантов «с их невероятной энергией и драйвом», тем нам, лондонерам, лучше. Чем меньше сажают за марихуану – тем лучше. Чем меньше лицензий на торговлю и бизнес – тем мы, лондонеры, богаче.
Они там у себя в редакции созвали экспертный совет из 12 человек, включая членов парламента, актеров, директоров туристических обществ и театральных компаний, ребят из Лондонской школы экономики, а на следующий день три часа обсуждали идею отделения столицы от страны на радио BBC London. «Делай что хочешь, пока это не мешает другим». Вот в чем они сходятся. Лондонеров классическая, с овечками по полям, с овсянкой, пэрами и сэрами Англия не устраивает, потому что такая Англия тормозит их perpetuum mobile.
В Питере же и Москве, я слышал, риелторы и туркомпании недавно умоляли вернуть лицензирование, ибо боятся «недобросовестной конкуренции» (добросовестная – это та, которая тебе не страшна). В России не только мидлы, но и up-мидлы до смерти боятся, что лицо России ненароком станет смуглым и раскосым, – хотя, по моему, бояться надо той тупорылой самодовольной хари, которую наше великое отечество сегодня имеет, мечтая о солидности, респектабельности и единой национальной идее.
И с точки зрения среднего лондонера средний москвич – это английский быдлан, со всеми его потугами на викторианский стиль и великой верой, что звезды не ездят в метро (в Лондоне члены парламента ездят на работу на великах, за это им даже доплачивают из бюджета), со всей его клаустро– и гомофобией и стоеросовым желанием жить «прилично», – ибо это картина Шишкина, утро в советском лесу.
Здесь мэр Кен Ливингстон популярен среди лондонеров, потому что открывает фестиваль эмигрантов в Ноттинг-Хилле, одобряет уличную торговлю (кило мартовской клубники с лотка – сто рублей), отдает перестраивать старые фабрики Норману Фостеру (от его стеклянного огурца крышу сносит реально) и приветствует эксперименты вроде стеклянного куба с людьми на Трафальгарской площади. При Ливингстоне, кстати, регистрация в полиции (бессмысленная, тем не менее, процедура) занимает минут пять.
А в Москве мэр Лужков популярен среди населения, потому что носит пролетарскую кепку, кричит, что Москва для москвичей, запрещает свободную торговлю, покровительствует Церетели и Шилову, устраивает облавы на приезжих и делает так, что зарегистрироваться в течение отведенных трех дней решительно невозможно. Его влияние огромно. Мои московские друзья чуть не поголовно лужковцы. Говорят, Дима Быков, когда-то над ним издевавшийся до упаду, теперь под его знаменами.
И вот это убивает меня наповал.
Лондонерам, случайно затусовавшим в Москве или Питере, пора объединяться в братство, выбрав штаб-квартирой какое-нибудь приличное место, вроде «Китайского летчика Джао Да». Пора начать выдавливать из Москвы так называемых коренных москвичей во главе с их любимым мэром. Если они хотят правильной, регламентированной жизни, по пусть ее строят в чистом посконном русском поле под Суздалем, со всеми их Церетели делают себе красиво, пусть налаживают производство кепок. На фига им для таких глобальных целей мегаполис со всем его qui pro quo.
Москва и Питер – для мировых нахалюг; для беженцев из Таджикистана (так старательно одевающих своих детей для воскресной прогулки по центру); для наглых парней из Харькова, вопящих под акустические гитару о-фи-генными голосами; для азиатов, пятью рыбинами кормящих пять тысяч страждущих не хуже Христа; для растиньяков и космополитов, у которых если что-то и есть – это жизненный драйв.
Нас, лондонеров, в Москве все-таки прибывает.
Когда мы победим, мы вернем Китай-город китайцам. Мы объявим сезон открытой охоты на членовозовские мигалки и отдадим улицы велосипедистам и роллерблейдерам. Мы объявим английский вторым государственным языком и запретим по телеку дубляж фильмов, ибо загадочность русской души, выражающаяся в шовинизме, обычно и держится на тоскливо осознанной ущербности, вытекающей из незнания языков.
Зато растущие детки будут схватывать чужую жизнь на лету. Москву – молодым. Сколько можно терпеть страну, к двадцати пяти заводящую пузо и помирающую к тридцати пяти?
Быков, блин, докажи, что ты жив!
Ты бы мог увидеть небо, я бы взял тебя с собой.
2004COMMENT
Слухи про коллаборационизм Быкова оказались сильно преувеличенными, что он потом доказал в язвительнейших (по отношению к Лужкову) «письмах счастья»… Да и вообще – тип хлебосольного, тароватого, вороватого хозяина не мог быть тем, что привлекло бы (хотя б и ненадолго) сложноустроенного и, что называется, well-educated Быкова.
То, что было мною сочтено оппортунизмом, на самом деле являлось у Быкова тотальгией, то есть (согласно введшему этот термин и употребившего его применительно к Быкову философу Михаилу Эпштейну) «тоской по целостности, по тотальности, по тоталитарному строю, в том числе по советскому прошлому… тоской по единению с народом». Конкретно же в Быкове (как верно подмечает Эпштейн, и Быков против этого уж точно не будет протестовать) разлита тоска по общей идее, по объединявшим всех в СССР идеалам: «Да, советская власть (цитирую Быкова) натворила отвратительных дел, но при этом всегда говорила очень правильные слова, и эти правильные слова успели воспитать несколько неплохих поколений».
Мне кажется, Быков просто не видит – он много бывал за границей, даже выступал с лекциями, но никогда долго не жил – что любая государственная идеология, вот эти «общие правильные слова», возведенные в ранг внутренней политики, присуща только тоталитарным устройствам. То есть таким устройствам, которые требуют единообразия не только в общественной, но и в личной жизни подданных. Вот тут-то и начинает чесать всех под одну гребенку какой-нибудь моральный кодекс строителя коммунизма…
А в европейских демократиях нет национальных идей и общих идеологий никаких нет – там нации объединяются не идеями, а культурными привычками…
Впрочем, здесь я поставлю точку (в конце концов, мой комментарий – где хочу, там и обрываю!), чтобы наш давний спор с Быковым не выглядел со стороны как полемика Ленина с Каутским. Или Каутский – это довольно некрасиво снятый в 2010-м со своего мэрского поста, ставший в итоге австрийским эмигрантом Лужков?..
2014#Великобритания #Лондон Беспредел разрешенного
Tags: Футболист Бэкхем как мастер корпоративной фелляции. – Почему Рейгана и Буша можно публично называть идиотами. – Количество, переходящее в качество применительно к диффамации.
Есть, знаете, в России тип таких старичков в пучеглазых очках, что до сих пор читают газеты, подчеркивая ручкой. Надо полагать, репетируют политинформации в аду, ибо в раю политинформаций нет. И хуже нет, когда они вдруг возопиют: «Демократия не означает вседозволенности! А-а-а!!!».
Хуже не потому, что старичку нельзя в ответ дать по кумполу: положим, ему не привыкать, жизнь и так приложила по полной, подтверждая идею, что по делам может воздаться уже на этом свете.
А потому, что ведь как бы, зараза, прав. Как бы не означает.
Хотя на идиотский вопрос, где граница, тоже не ответить. Ибо разумно отвечая, сам превращаешься в надутого индюка с пионерским галстуком на груди.
И я, получается, разумно поступил, улетев поработать в страну, где существует libel law, закон о диффамации, и границы свободы очерчены четко, и вседозволенность уж точно не спускается с рук.
Правда, в одном из первых глянцевых журналов я прочитал в статье про Бэкхема: – He sucks corporate cock without gag reflex («Он сосет у корпораций член и не давится»). И испытал чувство, сходное тому, когда в школе прочел есенинский «Сорокоуст» в несокращенном варианте. Помните? «Вам, любители песенных блох: не хотите ль пососать у мерина…».
Ну ладно, Бэкхем – звезда, celebrity, черт с ним, может, здесь так со звездами полагается. Но вот открываю в лондонской подземке местную «вечерку»: «Блэр по отношению к идиоту Бушу – то же, что была Тэтчер по отношению к идиоту Рейгану». Как будет по-английски сказать «mamma mia!»?..
На учебном семинаре меня заставляют штудировать упомянутый libel law, и я обращаюсь к одному из trainers, тренеров: так и так, разве можно безнаказанно оскорблять главу государства, а также знаменитого футболиста?
На что тренер переспрашивает: а кто, собственно, назвал Буша идиотом, а Бэкхема – ммм… cocksucker?
То есть как кто? Назвали газета и журнал. Нет, конкретно, кто? Ах, журналист? Автор колонки? И это не редакционная статья, которая идет обезличенно, без подписи? И в ней не утверждалось, что Бэкхем такого-то числа, у такого-то господина?.. Да, впрочем, пусть бы и утверждалось – в Великобритании к фелляции нейтральное отношение, это вам не США, где в ряде штатов, включая Нью-Йорк, оральный секс вне закона. Generally speaking (говоря в целом), в Великобритании любой человек имеет право на публичное выражение любой личной точки зрения. В том числе и той, что Буш – идиот, а Бэкхем, на карачках ползающий перед миром брендов, сами-слышали-кто. И за это никто ничего ни человеку, ни изданию сделать не сможет. Потому как право на личное мнение и на личную оценку – это неотъемлемое право индивида, завоеванное демократией.
Что же, и ограничений нет? Почему же, есть. То, что позволено частному лицу – не позволено организации. Если газета в редакционной статье назовет президента США идиотом, у нее могут быть проблемы. Это раз. Два – закон защищает от диффамации других частных лиц. То есть публично отозваться о соседе по дому так, как о Бэкхеме, нельзя. Ибо сосед – фигура непубличная, в отличие от футболиста, который давно принадлежит не себе, а миру. Более того: нельзя публично высказать отрицательное мнение о фирме, если в ней работает, если не ошибаюсь, меньше 25 человек, ибо это может повредить ее репутации, а то и вообще разорить. То есть публично облаять, скажем, Би-Би-Си – можно, а районную радиостанцию – только предварительно сверившись с ее штатным расписанием. Понимаете, где watershed, водораздел, да?
В Великобритании существует прямая зависимость: чем более известен человек, чем выше его общественный статус – тем больше он открыт публичному обстрелу. Кстати, не так давно в Блэра кинули красителем – засыпанным, кстати, в презерватив. И это символично. Глава государства – самый незащищенный от диффамации человек. О нем могут высказаться все и всюду, на него могут рисовать карикатуры, его могут стирать с лица земли и смешивать с грязью. Взобравшись, в самом примитивном варианте, в Гайд-парке в уголке ораторов на ящик или табурет – правило, введенное во времена Карла Маркса, действует до сих пор. И никакому частному лицу, высказавшемуся публично о том, что, с его точки зрения, премьер-министр «этой страны» (здесь так все и говорят: this country, что в России считалось бы непатриотичным) – жалкий притворщик, мелкий хвостик американской собаки, – на территории Великобритании за это не будет ничего.
Ответственность наступает не за мнения, а за ложь, каковой признается намеренное искажение фактов под видом их изложения. И это принципиально.
Я не берусь утверждать, что британская система – самая идеальная в мире, хотя бы потому, что не знаю других, кроме британской и русской.
Но происходящее в России меня определенно пугает.
У нас граница разрешенного-запрещенного все больше сдвигается в сторону способа реализации прав. То есть если ты назвал Путина земляным червяком на кухне – это твое личное дело. А если заявил об этом публично – тебя могут упечь за оскорбление президента, ибо демократия, как известно, не предполагает.
И граждане рукоплещут тому, что не.
Однако боюсь, то в этом случае российская демократия – вообще не.
Ибо, убей бог, не понимаю, чем она отличается тогда от того, что существовало при Брежневе. Тогда тоже распускать языки на кухне можно было сколько угодно.
Власть своими поступками всегда вызывает разнообразные эмоции, которые на низовом, частном уровне нуждаются не в обоснованиях, а в проявлениях, ибо это выражение есть важная часть самодиагностики общественной системы, ее обратная связь.
И Путин может, конечно, назначать премьер-министром никому не известного Фрадкова, набирать в команду бесконечных серых питерцев, считать нормальным существование членовозов с «мигалками», пользоваться точно такой же гадостью в качестве средства передвижения и тратить деньги управделами на содержание резиденций, которых у него в разы больше, чем у президента США и даже чем у королевы Великобритании. Но и граждане должны иметь право сказать, что подобное поведение Путина хамовато и слишком напоминает повадки дворового пацана, по капризу судьбы взявшего под контроль все дворы.
И только при условии, что это право соблюдается и гарантируется, между властью и людьми, как посредник, нормально функционирует пресса. Которая, кстати, в Англии крайне неоднородна по принципам. Газеты, например, в этой стране нередко ангажированы. Мэрдоковская The Times – умеренно-консервативна, The Guardian – либеральна, а лейбористскую Daily Mail («Ежедневная почта») в глаза и за глаза называют Labor Mail («Лейбористская почта»). Зато Би-Би-Си исповедует принцип полной беспристрастности: на мнение одного эксперта надо непременно приводить мнение другого, и журналисту категорически запрещено давать хоть какие-нибудь оценки.
Кстати, в качестве эксперта по России (ха!) мне здесь пару раз приходилось защищать Путина. Особенно когда начинали утверждать, что для его прихода к власти ФСБ взрывало дома в Москве и развязывало чеченскую войну, и что Кремль целенаправленно душит свободу слова в российских медиа. У меня нет доказанных фактов, чтобы поверить в руку спецслужб, а что до свободы прессы и мнений в России, то, похоже, их в первую очередь душит само население России, с радостью готовое схватить самописку и надеть на нос очки в оправе с замотанной изолентой дужкой. Я, к сожалению, невысокого мнения о свободолюбии своих сограждан.
Однако то, как тяга к ярму поощряется, и то, как ведет себя серое чиновничье хамье, и тот бесконечный кремлевский цинизм, с каким осуществляется путинское правление, заставляет меня все же думать, что сравнение с земляным червяком не такое уж и большое преувеличение.
Прошу заметить: это моя частная точка зрения.
2004COMMENT
Авторитарно устроенное общество – например, Россия – в дни своих переломов (когда ничто не дорешено, все плавится и бурлит, как в 1990-х, и конечную авторитарную форму определяет лишь суммарный вектор, суммарное признание, что самодержец и вертикаль власти есть штуки не просто хорошие, но и нам, дуракам, необходимые) нередко выносит наверх, в самодержцы, серого негодяя. Иногда – яркого негодяя. Но то, что негодяя, можно считать законом.
Под негодяем я имею в виду человека, для которого не существует нравственности – набора ограничений и поощрений в поведении, не всегда помогающих выжить индивиду, но обеспечивающих развитие рода в целом. Вот почему мораль требует, например, не идти по головам других ради карьеры или наживы (потому что ты все равно умрешь, в гробу карманов нет, но человечество-то останется).
Но автократия – это такое устройство, при котором в одном человеке сосредоточено все: власть, собственность, даже надежда на бессмертие. И потому в автократии человек, взявший власть, добровольно ее не сдает, – а человек, намеренный взять власть, не останавливается ни перед чем.
Негодяй – это человек, считающий мораль погремушкой для идиотов и применяющий ее (трактующий так или сяк) исключительно в собственных интересах. У негодяя в переломные для автократии дни больше шансов прийти к власти, чем у человека, сообразующегося с принципами морали. Так было в России в начале ХХ века – и ровно то же самое происходило в ХХ веке и в Германии, и в Италии, и в Греции, и в Португалии.
Я даже думаю, что монархия – то есть механизм полуавтоматического престолонаследия – есть в условиях автократии способ блокировки прихода к власти негодяев: самодержец по праву рождению при прочих равных лучше пролезшего по головам в самодержцы диктатора.
То, что Владимир Путин подтверждает это правило, для меня очевидно.
Поэтому наша задача – не заменять его на другого самодержца, рассчитывая, что новый царь будет добрее или благороднее, а заменить автократию совершенно другой парадигмой.
2014#Великобритания #Лондон Брак по-неписаному
Tags: Политика Би-Би-Си в отношении однополых партнерств. – Ужасы гражданского брака в случае случившегося ужаса. – Начало половой жизни, Мик Джаггер и «Хартия любовниц».
Может быть, вам случится когда-нибудь получать разрешение на работу в Великобритании. На оборотной стороне бумаги будет значиться: «Супруги, незарегистрированные партнеры и другие зависимые от обладателя разрешения лица не нуждаются в получении дополнительного разрешения».
– Очень интересно, – говорю я в recruitment department, отделе кадров на Всемирной службе Би-Би-Си, – а что является критерием партнерства? И какие документы для подтверждения партнерства требуются, если оно – незарегистрированное?
– Никаких, – отвечает мне вполне серьезно девушка, ответственная за адаптацию новобранцев, – таких бумажек нам не надо. Важно, чтобы партнерство было постоянным. Недавно мы, например, взяли на работу в бразильскую редакцию парня, у которого есть постоянный друг. И выплатили ему пособие по переезду в размере для семейных пар, хотя однополые браки в Великобритании пока не регистрируются…
Меня, правда, с рабочей визой мурыжили в консульстве два месяца, а мою вполне официальную жену – три месяца, но этот частный случай кажется просто досадным просчетом на фоне общего либерального карнавала.
Англичанам тоже так кажется.
В отелях паспорт не спрашивают. Про личную жизнь одного из принцев бульварные газеты пишут так: «Он сказал, что Кейт его первая серьезная подруга» (читай: первый постоянный партнер). Возмущения это не вызывает даже у викториански настроенных старушек, когда б такие в современной Британии водились: согласно опросам, у 70 процентов замужних британских женщин был опыт совместной жизни без регистрации отношений. При этом средний возраст вступления в брак у женщин достиг 25 лет, а у мужчин – почти 30. Еще в конце 80-х он был на 5 лет ниже.
К партнерству, совместной жизни здесь, помимо чувств, подталкивает и быт. Комната на одного в общежитии Би-Би-Си (норка размером со славянский шкаф) обходится в $1100 в месяц, комната для двоих (норка с душем) – в $1300. Минимальная зарплата в Великобритании – $1700, минус налоги. Жить вдвоем веселее, жить вдвоем экономнее.
Кстати, поздний возраст вступления в брак тоже объясним экономическими причинами. Свадьба – мероприятие разорительное, на нее копят и влезают в долги. Играть ее в нашем представлении не принято, зато после венчания (церковь на этот срок арендуется) принято устраивать reception, прием с обедом или фуршетом, а после приема – танцы. Выливается это в такие тысячи, что на скромной свадьбе (50 гостей) бесплатным может оказаться только первый бокал шампанского (прочее спиртное гости приобретают за свой счет в буфете). Или часть гостей могут пригласить сразу на танцы, минуя стадию еды.
– Как, – спрашиваю я у коллег, – по-английски будет «незарегистрированный брак»? Unregistered marriage? Permanent partnership?
– Нет, – отвечают, – это будет common law marriage, «брак по неписаному закону».
Звучит не просто красиво, но с принципиально иным, чем в России, смыслом. Таким иным, что компьютерная программа Lingvo переводит «common law wife», то есть «жена по неписаному закону», – как «незаконная жена».
И эта замечательная, созданная в России программа зрит прямо в корень.
Дело в том, что британское писаное право чудовищно консервативно: в Англии и Уэльсе до сих пор действует Акт о браке 1763 года.
То, что бразильских однополых партнеров оно не замечаетв упор – понятно. Но и базовое для российского брака понятие – совместное ведение хозяйства – оно игнорирует.
– Представь себе, – говорит мне парень Борис, который в Англии уже тьму лет, – что вы всю жизнь живете себе вдвоем, детишки у вас в школу бегают, и тут твою подругу сбивает машина…
– Ужас какой, – мотаю я в ответ головой. – Бегу в больницу, то есть в hospital, дежурю под дверьми casualty…
– Если человек без сознания, на операцию требуется согласие родственников. И они будут искать маму, тетю, троюродного племянника. Но ты для них будешь никто, ноль, – отрезает Борис. – И если, не приведи господь, твоя common law жена будет умирать, тебе не дадут с ней даже проститься. А квартировладелец не даст забрать из квартиры вещи. И твоих детей отберут и сдадут в приют. Потому что таков закон.
– Подожди, Борис. Но есть же суд. Можно ведь по суду добиться признания брака де-факто?
– Можно. Если повезет найти начинающего, дешевого адвоката, который будет брать с тебя всего $200 в час. А среди моих знакомых ни одного, кто бы мог позволить себе адвоката, нет.
– Но неписаный брак в Англии – явление массовое?
– Массовое.
– И детишек без регистрации рожают, вот у бывшего споуксмена с Даунинг-стрит, я слышал, таких целых два?..
– Целых три. Да, рожают.
– Тогда получается, что англичане безумно похоже на русских: пока гром не грянет – не перекрестятся.
– Не совсем. Скорее, они убеждены, что гром давно отгремел. Спроси любого – тебе скажут, что закон о нерасписанных парах существует, и что зарегистрированные и незарегистрированные пары имеют равные права…
Борис судит не понаслышке. Он, между прочим, тоже в ус не дул и даже родил ребеночка без регистрации, пока не выяснилось, что у малыша возникают проблемы с гражданством (Борис – подданный Соединенного Королевства, жена – иностранка). А ринувшись изучать проблему, ужаснулся последствиям жизни вне брака и отношения немедленно узаконил.
Озабочены ли англичане проблемой массового незарегистрированного сожительства? Похоже, не слишком. Когда местная Комиссия по законодательству подготовила имущественные рекомендации для таких пар, его мгновенно прозвали «Хартией любовниц». На том все застыло. Вот подростковая беременность или венерические болезни – это другое дело, тут о них в газетах шумят. Потому что, несмотря на массовое половое просвещение и пропаганду безопасного секса, английские школьницы отчего-то беременеют куда чаще, чем их континентальные сверстницы. И никто не может объяснить почему…
Пора подытожить.
Так вот, британский закон – предельно консервативен.
Британская жизнь – предельно либеральна.
В зазоре между ними – свобода компаний поощрять или не поощрять свободное партнерство, борьба за легализацию однополых браков и деятельность тьмы организаций, готовых помогать тем и консультировать тех, кто не может или не хочет регистрировать свои отношения.
Дабы они не попали в ситуацию Мика Джаггера, который, сыграв на острове Бали свадьбу, по возвращении в старую добрую Англию оказался не мужем, но мальчиком: индонезийское свидетельство о браке в Англии не признали.
Правда, злые языки говорят, что именно это обстоятельство позволило адвокатам Джаггера снизить при разводе размер оставляемого жене имущества с тридцати миллионов фунтов стерлингов до десяти.
2004COMMENT
Как-то я чуть не бросился с кулаками на менеджера, упивавшегося фразой «сокращение издержек» – он ее раз пять повторил. Когда же я, не выдержав, спросил, правильно ли понимаю, что под издержками подразумеваются люди, он, не заметив иронии, продолжил восторженно: «Конечно, это основной ресурс для выхода в положительный баланс!». Тут меня и понесло. А остановило лишь то, что в стране, где половина населения главным богатством считает не себя, а нефть и газ, всем морду не набьешь. И даже не объяснишь, что в результате самого радикального сокращения издержек баланс в перспективе все равно будет отрицательным, потому что, лишившись зарплаты, сокращенные издержки продукцию фирмы не смогут купить.
Это я к тому, что англичане мне преподали хороший урок гуманизма: показали, что в ситуации, которую законодательство никак не регулирует, компании могут (а некоторые считают – и обязаны) определять свою собственную политику. Би-Би-Си свою политику определило: поощрять постоянные партнерства вне зависимости от того, имеют они статус официального брака или нет. Нашим компаниям никто не мешает поступать точно так же, но что-то я во время работы в государственной телерадиокомпании ни о чем подобном не слышал…
2014#Великобритания #Лондон Поставить банки
Tags: Сбербанк и крепостное право. – Счета, жировки, чековые книжки и розовый галстук мистера Саймона. – Два мира – два банкира.
– Слу-у-у-шай, – тяну я душу из коллеги, – а что будет, если Би-Би-Си откроет всем счета в одном банке и будет перечислять зарплату туда?
В Лондоне жарко, окна открыты, внизу шумит Стрэнд и бьют колокола на St. Clement Danes.
– Как это – всем в одном? – изумляется коллега. – Здесь у каждого свой банк.
– А ты представь: всем разом открыли и сказали, что зарплата будет теперь только там!
– Крик будет на всю Англию. Про монополизм.
– А если этот банк за утрату карты будет снимать фунтов по пятьдесят? А если за пользование банкоматом заставят платить?
– С ума сошел? Тогда крик услышат за Ла-Маншем…
Я не свихнулся. Пару лет назад российская компания, в которой я работаю, выдала сотрудникам по пластиковой карте «Сбербанка», не спрашивая, хотим мы или нет получать деньги именно через это учреждение.
Я, например, не хотел. На то было несколько причин.
1. Банкоматы «Сбера» есть не при всех отделениях, а в тех, что есть, вечно нет денег.
2. Нельзя контролировать счет через интернет.
3. Выписки можно получать лишь в том отделении, в котором открыт счет (и я должен туда тащиться через город и торчать в очереди, да?).
4. В «сберовских» банкоматах в другом городе за выдачу денег берут процент (да пошли вы!).
5. Несмотря на легенды о численности пресс-службы «Сбербанка» (говорят, несколько сот человек) для интервью нужно отправлять письма чуть не за месяц, после чего обычно приходит отказ.
То есть для журналиста иметь счет в «Сбербанке» – это как трудоустраивать в бордель свободу слова, а для нежурналиста – как отправляться назад в СССР.
Однако в Англии я неожиданно убедился, что в мое суждение нуждается в коррективах. Я не потеплел к Сбербанку. Но ощутил полымя банков местных.
Впрочем, по порядку.
В первые дни моего пребывания на острове выяснилось, что банковский счет здесь важнее, чем британская виза. Без него не получить зарплату: зарплату вообще не выдают наличными. Без местной банковской карты ты ограничен в заказах через интернет (British Airways, например, в рекламе дешевых билетов указывает: «принимаются только карты, выпущенные в Великобритании»). Без счета ты не сможешь рассчитывать на то, что, с моей точки зрения, важнее кредита: оплату крупных покупок с помесячным списанием, то есть на так называемый direct bank pay, прямой банковский платеж, де-факто – беспроцентную рассрочку.
«Самое ценное, что у тебя здесь есть – это твоя подпись, потому что она гарантирует твои платежи, которые все равно спишут с банка, после чего банк тебя найдет из-под земли», – сказали мне сразу несколько человек.
А поскольку английские банки хорошо находят должников, видимо, лишь из-под английской земли, то с людьми с континента они предпочитают не связываться. Иностранцам не открывает счета ни крупнейший в Англии банк HSBC, ни известный в России Barclay. Дело не в российском паспорте. Мой бельгийский приятель (кстати, сын банкира, имеющий в Лондоне постоянную работу), тоже помучился, открывая счет. Чуть ли не единственный банк, привечающий трудовую мигрантскую силу – NatWest, National Westminster, а причина сложностей проста: наличие счета есть гарантия твоей добропорядочности. И по этой причине менеджеры банка ведут переговоры с твоими финансовыми менеджерами и требуют писем из бухгалтерии с размером твоей зарплаты, и все это занимает время, за которое ты не можешь получить эту зарплату, потому что без счета в банке ее выписывают чеком, который в Англии не обналичат иначе, кроме как положив на счет… Я же говорил, что он важнее визы!
В общем, мне устроили встречу в NatWest с банкиром Саймоном, произведшим на меня неизгладимое впечатление. Розовая рубашка, розовый галстук, выглядывающее из-под воротничка тату и дыбом стоящая шевелюра (тут я лоханулся. Надо было его спросить, каким гелем он пользуется – и взять на заметку).
– Саймон, – спросил я его, робея, – как с интернетом? С выписками по счету? И сколько сдерут с меня при выдаче из банкомата? И потом, мне нужны, эти… – я запнулся, не зная, как будет по-английски «БИК», «корсчет», «ИНН» и прочее, без чего я в России ты как во тьме, даже когда платишь за свет.
– No problem! – растянулся в улыбке Саймон. – И с интернетом, и с выписками в любом отделении. Что же до наличных, то в этой стране банкоматы любого банка их выдают бесплатно. А для зачислений на счет достаточно знать восемь цифр счета, и шесть – номера отделения банка. Кстати, с вашим доходом вы можете претендовать на золотую VISA. Она выдается тоже бесплатно. Подпишите здесь, здесь, и здесь. Через пять дней, mister Gubin, все будет готово.
– Зовите меня просто Dima, – сказал я, почти прослезившись.
В сознании всплывал экс-глава Центробанка Дубинин, когда-то клявшийся на голубом глазу и экране мне и стране, что во всем мире используются исключительно 20-значные номера счетов, это такой международный стандарт…
Первые сомнения по поводу эффективности местной системы закрались через неделю. Выяснилось, что пять – кстати, рабочих – дней занимает только открытие счета, а карточка – это потом, в течение еще пяти дней, ее вышлют по почте, ее надо активизировать, после чего еще в течение пяти дней пришлют пин-код. Карт, кстати, будет две: одна – расчетная, национальной платежной системы SWITCH, чтобы платить за покупки со счета. Вторая – кредитная VISA, чтобы платить, когда денег на счету нет. «Будем надеяться, mister Gubin, что вам ее выдадут». И я расслабился. Надежды юношей питают, а кто не хочет быть молодым?
Еще через неделю пришли два конверта из банка. В одном был отказ выдать мне кредитную карту, ибо у меня в Англии лишь краткосрочный контракт. В другом содержалась чековая книжка, которую последний раз я держал в руках во время павловской денежной реформы, когда деньги свыше 500 рублей со счета снимать было нельзя, но чековую книжку завести было можно, и я завел.
Телефон Саймона вдруг перестал отвечать. Я кинулся к знакомым.
– Фигня, – сказали они, – кредитную карту в первый год вообще никому не дают. Чековая книжка – вещь удобная, будешь чеками отдавать долги. А если должны тебе, то по жировкам будешь заносить деньги на счет.
– Жировки – это что? – спросил я осипшим голосом. – И как мне без карты, скажем, расплачиваться в интернете?
– Жировка – это приходный ордер. Входит в чековую книжку. Без карты расплачиваться не сможешь никак. Расчетную карточку пришлют по почте, жди.
Я ждал. Я ждал, когда выданную чеком зарплату зачислят по жировке на счет (разумеется, еще пять рабочих дней!). Карты не было. На третью неделю я дозвонился до Саймона. Фальшиво делая вид, что рад мне, и еще более фальшиво делая вид, что торопится, он посоветовал заблокировать недошедшую карточку и перевыпустить новую. («Это еще пять дней, Саймон?» – «Yes, mister Gubin!».) Я праздновал день рождения в ресторане, расплачиваясь привезенными женой из России наличными. Сбербанковская VISA через интернет не принималась. Саймон исчез. 24-часовая служба поддержки клиентов говорила со мной с таким бангладешским акцентом, что мне проще было перейти на бенгали.
Меня утешал другой приятель, японский фотограф:
– Чего ты хочешь? Для нас эта страна – по сервису вообще прошлый век. Нет, если бы не футбол и язык, мы бы сюда не ездили…
И я успокоился. Тем более что всего лишь через месяц и неделю после первого визита к Саймону у меня все же появились счет, деньги на счету, карта SWITCH, а также интернет-банкинг, который отказался работать всего-то три раза. Мой банк раз в месяц присылает мне стейтмент: полный отчет о моих тратах, в котором для удобства хранения в скоросшивателе заранее проделаны дырочки. А за время бесконечных ожиданий я нашел в Лондоне пару мест, где на фунт стерлингов (55 рублей) можно купить три дыни или три ананаса, которые можно даже растянуть на два ужина…
Подвожу баланс.
Российская банковская система – не худшая в мире: по крайней мере, по быстродействию. Счет – мгновенно, карточка – почти мгновенно (разве что за исключением все того же дремучего «Сбера»). И чековые книжки с жировками нам у англичан вряд ли следует перенимать, как и манеру принимать к оплате карты, не проверяя подпись на слипе: оттого здесь такое количество карточных жуликов. Но то, что для постановки карты в стоп-лист можно дозвониться мгновенно (в «Сбер» я когда-то дозванивался час, не дозвонился и бросился бегом в ближайшее открытое отделение) и что перевыпуск ничего не стоит – перенять стоит. Как и систему прямого банковского платежа, например.
Центробанк следит за российскими банками с точки зрения их фундаментальных показателей. Финансовая пресса публикуют соответствующие рейтинги. Но ни одна надзирающая финансовая структура России даже не пытается сформулировать рекомендации, каким должен быть современный банк с точки зрения услуг.
И это во всей этой истории занимает меня больше всего.
Неудобство жизни оскорбляет людей и страну.
2004COMMENT
За прошедшие годы в России много что изменилось: интернет-банкинг дошел и до «Сбера», где, по счастью, европеизированный Герман Греф сменил даже не советского, а совкового банкира Андрея Казьмина. В отделениях появились универсальные банкоматы, операционистки повязали зеленые косынки и научились улыбаться, а когда в 2011-м в Живом Журнале я ехидно прошелся по тому, что за выпиской по-прежнему надо переться черт-те куда – тут же получил ответ из «Сбера» с благодарностью за критику, а также с уведомлением, что с конца года любую выписку можно получать там, где удобно.
Однако в некоторых местах моей работы от меня по-прежнему требуют не просто открывать счет в определенном банке, но и в определенном отделении банка.
То есть крепостное право улучшилось, подверглось апдейту, но сохранилось.
А значит, если не у британских банков, то у Британии нам по-прежнему есть чему поучиться.
2014#Великобритания #Лондон Грыбы отсюдова!
Tags: Во Владимире, Ростове и Курске Госнаркоконтроль, а в Лондоне галлюциногенные грибы. – Отчего наркотики нельзя, но можно водку? – Обыски и бегство Ильи Кормильцева.
У меня в журнале FHM идет совещание по планированию номера. Мы предполагаем, что у нас могут быть неприятности. В номере идут репортаж про растаманов в Москве и биография Александра Шульгина, того самого, врача-американца, синтезировавшего экстази и после проблем с ФБР написавшего (и выложившего в открытый доступ) книгу «Фенэтиламины, которые я знал и любил».
– Интересны ли нашим читателям растаманы? – спрашиваем мы себя. – О, йес! А писать про растаманов, не упоминая марихуану, мы можем? О, ноу!
Вопрос, стало быть, в том, не сочтет ли Госнаркоконтроль слово «каннабис» призывом каннабис потреблять, и ответ таков: а хрен его знает. Смогли же во Владимире наркоконтролеры обнародовать приговор ветеринару, обвиняемому в использовании кетамина, еще до его вынесения. Изъяли же в Курске панельки для мобильников с рисунком листка марихуаны. Конфисковали же в Ростове водку Cannabis (каннабиса при этом в ней не обнаружилось: обман неопытной души).
В прошлом году, когда я жил в Лондоне, у меня таких вопросов не было. Хотя с наркотиками я сталкивался чуть не ежедневно. После работы я шел через Ковент-Гарден, где на Нил-стрит, знаменитой своим разукрашенным двориком с ресторанами, подающими «органик фуд», то есть экологически чистую еду, был ларек с надписью magic mushrooms. В нем торговали экологически чистыми галлюциногенными грибами, от которых всерьез и надолго улетали герои Пелевина, Кастанеды, Берроуза и Керуака, до которых, надо полагать, в России Госнаркоконтроль тоже доберется, если не уже.
Смотреть на торговлю не было сил. Душераздирающее зрелище, как говаривал ослик Иа. Пустота, ни одного клиента. Лишь изредка подходят любопытствующие тинейджеры.
– Скажите, а что делать с магическими грибами?
– Их едят.
– А они вкусные?
– Они безвкусные, но они меняют представление о мире.
– А вы отвечаете за результат их потребления?
– Да, мы даем гарантию качества и рекомендуем безопасные дозы…
За двадцать минут, что я как-то проболтался рядом, дозу за 10 фунтов (550 рублей) купила лишь пара американцев, сетующая, что в США это illegal, нелегально. Для бойкого места в 10-миллионном городе такой оборот – слезы. Рядом с ларьком скучал полицейский-бобби. Но он был призван спасать заблудившихся, а не заблудших: у Камденской грибной компании шесть торговых точек в Лондоне, и все они абсолютно legal.
Страна старейшей демократии привыкла давать гражданам объяснения о границе между легальным и нелегальным. Принцип водораздела может выглядеть смешным, даже наивным, но должен быть понятен. В отношении психоактивных средств он таков: все, что растет естественным путем и таким же путем потребляется – законно. Все, что требует переработки или особых условий выращивания – регулируется дополнительно. Поганки растут в естественных условиях, их можно собрать, съесть, улететь и не вернуться – но это риск потребителя, как если бы он собрал, съел, улетел и не вернулся от килограмма голубиного дерьма. Личный риск не смешивают с общественным, а потому с торговцев магическими грибами берут 17 % налога, в то время как с производителей виски (которое ручьями по естественной среде, увы, не течет) – 67 %.
Я привожу пример не ради укоренения английских поганок в российских лесах. А потому что в России борьба со злом основана, во-первых, на стереотипах («наркотики – зло»). Но что есть зло и что называть наркотиком? А во-вторых, на фигурах умолчания, что зло подмечено Шнуром: «Напоминает какую-то разводку – наркотики нельзя, но можно водку». И еще потому, что Госнаркоконтроль превращает в преступников моих ровесников, включая меня самого, ибо большинство населения крупных городов в возрасте до сорока хотя бы раз в жизни, но марихуану попробовало.
Вот список примитивных, но все же вопросов, ответа на которые нет.
1. В мире известны сотни психоактивных веществ, однако считаются наркотиками (признаются нелегальными) лишь некоторые. Другая часть (от никотина до алкоголя) не просто легальна, но и приносит государству колоссальный доход, несмотря на возникающую зависимость и опасность для здоровья. Спрашивается: чем пиво лучше каннабиса? Даже циничный ответ «с чего берем налоги – то легально, с чего не можем взять – нелегально», – лучше, чем отсутствие ответа.
2. Если есть преступление, то должна быть и жертва – где она? Если потерпевшим является наркоман, то означает ли это, что человек не вправе распоряжаться собственной жизнью? И как может потерпевший быть одновременно преступником?
3. Почему разговоры о наркотиках приравнивают к пропаганде наркотиков? Общество не вправе обсуждать способ своего функционирования? Джордж Сорос тратит миллионы на борьбу за легализацию легких наркотиков в США, не будучи ни наркоманом, ни наркодилером – мы что, не имеем права знать его точку зрения?
4. Сегодня бравирование марихуаной – популярный протест против официального госустройства. Он так же естественен, как детский мат, за которым нет испорченности, а лишь желание определить границы дозволенного. Право на протест породило рэп, рейв, граффити и до сих пор питает лимоновскую НБП. Клапан в котле – это теперь вещь лишняя?
5. Антинаркотическая пропаганда в России строится примерно по такой схеме: будешь заниматься онанизмом – волосы на ладонях вырастут. А поскольку волосы не растут, объект пропаганды делает вывод, что его дурят. Психоактивные вещества различны по типу и последствиям воздействия, из которых исключать положительное – крайне глупо: иначе б мы не пили утром психоактивный кофе, а в Новый год – психоактивное шампанское. И впаривать, что затяжка «травкой» приводит к зависимости, ломке и смерти – значит убеждать молодых, что чиновники – вруны. И что дурить их (посредством «дури») – дело чести. Но почему-то качественное научное исследование по марихуане, вышедшее в издательстве «Контркультура», привело к обыскам в издательстве, а издатель Илья Кормильцев, поэт и переводчик Уэлша и Паланика, должен был уйти чуть ли не в подполье.
6. В нежном возрасте отказ от общего действия в своей компании равносилен самоубийству. Сверстники бренчат на гитарах – и ты бренчишь, катаются на роликах – и ты катаешься, пускают шприц по кругу – и ты пускаешь. Американский парень Ди Снайдерс в знаменитом «Курсе выживания подростка» тьму страниц отвел умению говорить «нет», не теряя лица. Сколько книг уровня Ди Снайдерса вышло благодаря Госнаркоконтролю? А если ни одной, то, может, не надо в посудную лавку при таких-то габаритах?
Продолжать список можно долго, хотя во главе этой организации, верю, стоят честнейшие люди, примерные главы семейств, готовые жизнь отдать за детей, и биться с этими милыми людьми – не супостатам в лицо плевать.
Однако искренность намерений никого и никогда не извиняла.
Мы живем в стране, где запрещенные препараты хотя бы раз в жизни пробовала добрая треть, а то и половина жителей больших городов, причем в большинстве – группой лиц и по предварительному сговору.
А в обществе, где все население нарушает закон, может существовать только выборочное правоприменение с целями, далекими от общественного блага.
Сорос ведь убеждает легализовать легкие наркотики не в силу эмоций, а в силу расчета: с его точки зрения, вред от них меньше вреда от борьбы с ними. Я не знаю, насколько он прав. Но знаю, прошу прощения за банальность, что в Нидерландах легкие наркотики легализованы, а экономика этой страны краха не потерпела, население не выродилось и преступность не увеличилась. Зато у нас любая дискуссия о допустимости или запрете, легальности или нелегальности широко употребляемых веществ объявляется антиобщественной и преступной.
В то время как именно такая дискуссия сейчас нужна. Именно потому, что в нашу жизнь вошли новые вещества. Именно потому, что они оставили след (Пелевин, Ширянов, Болмат, Спектр – и это только в книгах). Именно потому, что этот след не стереть. Именно потому, что мы плохо разбираемся в структуре, механизмах воздействия, возможных последствиях и последствиях борьбы с последствиями.
Я говорю о наркомании не как девушка, начитавшаяся романтических книжек про жизнь «дна» – но, надеюсь, и не как бабушка, которая видит за каждым кустом насильника. Среди близких мне людей есть наркоманы – и один из них однажды чуть не умер у меня на глазах, а другой умер. Я знаю, каково отчаяние матерей, чьи дети не могут слезть с иглы – хотя знаю, что вину они должны делить минимум надвое. Я знаю, что подсевшие на героин регионы – это не чья-то выдумка. Да, и я знаю, что от целого ряда синтетических наркотиков действительно возникает мгновенное привыкание, а их применение действительно ведет к уничтожению организма.
Однако я знаю и то, что каждое общество психоактивные вещества применяет, и что способ приема зависит от традиций, привычек, культуры, и только потом от репрессий. В конце концов, СССР был страной тупого ужирания водкой – и там выли от ужаса жены и спускался последний скарб, разлетались в клочья печени и судьбы… И были борьба и принудительное лечение.
А сегодня мидл-класс водку принимает все больше в малых дозах как аперитив, сочетает цвет вина с типом пищи и на вызовы времени отвечает увеличением потребления соков и минеральной воды.
И все это без создания Главаперитивконтроля, без конфискаций книг Венички Ерофеева и без налетов на рестораны. Хотя Горбачев и пытался.
То есть шанс у нас все-таки есть.
В Лондоне, между прочим, телефоны с изображением каннабиса теперь тоже не гвоздь сезона, хотя пару лет назад были хитом. Сегодня в чести черепа, кресты и прочая суровая готика.
Протестуют, понимаешь, против сытого истеблишмента.
И хоть бы один протест со стороны профсоюза гробовщиков.
2005COMMENT
В подготовительных материалах к статье, опубликованной в «Известиях», у меня сохранились вопросы и ответы из газеты The Evening Standard от 26 мая 2004, цитирую:
«– Что говорит закон о марихуане?
– Марихуана относится к наркотикам класса С. Ее хранение и продажа нелегальны. Максимальный срок за хранение – 2 года, за торговлю – до 14 лет.
– Меня могут арестовать за то, что при мне есть марихуана?
– У полиции есть это право. Но служебная инструкция такова, что в большинстве случаев полицейские лишь конфискуют марихуану и выносят предупреждение. Полицейские должны задерживать только тех, кто делает это неоднократно или тех, кто курит марихуану в общественных местах, нарушает порядок или делает это возле детских учреждений.
– Я могу выкурить косяк на улице?
– Нет. Могут арестовать – особенно если это возле школы.
– Какое наказание можно получить?
– Большинство отделывается предупреждением – хотя попасть на два года в тюрьму тоже возможно. Самым распространенным наказанием является штраф, но это целиком зависит от судьи.
– Откуда весь этот шум про изменения в законодательстве?
– До 29 января 2004 года марихуана относилась к наркотикам класса B. Изменения в законе понизили ее до класса С, потому что государство считает, что наибольшую опасность для молодых людей несут тяжелые наркотики».
Я привожу информацию с конкретными цифрами не потому, что она на момент выхода книжки не устарела (скажем, торговлю галлюциногенными грибами в Великобритании все же в итоге признали нелегальной, то есть законодательство изменилось) – а затем, чтобы был ясен принцип британского правоприменения, правосудия и в целом правопорядка.
Остается только добавить, что спасающийся от преследования российских властей в Лондоне Илья Кормильцев умер от скоротечного рака. Был объявлен сбор средств, я тоже посылал деньги.
Но не спасли.
2014#Великобритания #Лондон Смешивать, но не встряхивать
Tags: Почему пабы нельзя называть пивными. – Лагер, сидр, виски, скотч-сода или вино? – Тайные адреса, сосиски с мятой и ролики.
– Ба-бам, да по бабам… Ба-бам, да по пабам… – напевали знакомые, провожая меня в Лондон.
А ведь казалось бы: продвинутые, чуждые пошлости люди.
Ну как объяснить, что лондонцы НЕ едят на завтрак овсянку; НЕ испытывают умиления при виде королевы, и что диккенсовского Лондона тоже давным-давно НЕТ, он уничтожен пожарами и бомбардировками?
Все равно мне никто не поверит, что Лондон – город дорогущего некачественного жилья, дурно работающего метро и безобразно одетых людей. В компенсацию за это он также город потрясающих бесплатных музеев, самых лучших в мире магазинов дизайна и музыки… и фантастических обувных.
Потребление спиртных напитков на этой шкале занимает промежуточное положение между о– и разочарованием. С одной стороны, бутылку приличного аргентинского шираза можно купить за 4–5 фунтов (210–260 рублей): это цена двух поездок в метро. С другой стороны, за 29 фунтов можно взять билет на поезд EuroStar, выйти через 2,5 часа в Париже и покупать там французский syrah в полтора раза дешевле.
Но даже в таких широких границах описать Лондон под градусом – значит чересчур их сузить. Дело в том, что Лондон – не город. Это объединение нескольких сотен деревень. На завалинках которых звучат ежедневно 300 языков (Всемирная Служба Би-Би-Си вещает лишь на 43, к сожалению). И можно всю жизнь прожить в еврейской общине в Гордерз Грин, или в японской – в Эктоне, и даже не догадаться о существовании в Лондоне англичан, эля «Лондон прайд» и скотча с содовой.
То есть в Лондоне скорее, чем в каком другом городе мира, можно жить и пить как угодно. Укрывшись Лондоном, как patchwork – лоскутным одеялом.
ПАБЫ
Английское pub нужно переводить на русский не как «пивная», а как «паб». В пабах, конечно, пьют пиво (вплоть до «Балтики № 3» в Globe на Бейкер-стрит, напротив памятника Холмсу – хотя обычно налегают на дешевый и, на мой вкус, отвратительный лагер, lager), но также пьют сидр, виски, скотч-соду, вино. Еще в пабах едят простецкую еду – бургеры, мясной пудинг или фиш-энд-чипс, рыбу в кляре с фритами (я такую отказывался есть еще в пионерлагере – правда, та была не с жареной картошкой, а с пюре). Расплачиваются вперед и у стойки – в отличие от ресторанов. Однако на сторонний взгляд в пабы ходят, чтобы в дыме, оре и гаме что-то нечленораздельное кричать в ухо соседу. Пабы – это центры общения. В своем пабе встретишь знакомого зеленщика-малайца, риелтора-венгра, примешь на грудь и обсудишь успехи Chelsea и менеджерский талант этого, как его, Abramovich (в фамилии Романа Абрамовича англичане делают ударение на втором слоге).
Как и приличные церкви, пабы обыкновенно находятся на перекрестках. Большинство пабов стандартно, но встречаются и куриозы, которые россиянину трудно представить. Например, лондонский паб Old Bank of England, переделанный из настоящего банка. А в городке Фолкстоун паб переделан из церкви. Перед туалетами там приколочены традиционные ящички для листочков с псалмами (hymns), на которых с редким цинизмом написано Hyms и Hyrs («Евонный» и «Ейный»).
Народ тусуется, переходя из паба в паб. Это называется pub crawling, ползанье по пабам, которому наступает конец в одиннадцать вечера. После чего в пабах Соединенного Королевства штуцеры свинчивают. Принятие закона, позволяющего местному самоуправлению давать лицензию на 24-часовое обслуживание, который год маринуется в парламенте.
ВИННЫЕ БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
В любом, самом задрипанном пабе обязательно будут продавать вино. Спрос на него постоянен. Вот почему в Лондоне на 7 миллионов населения приходится не только 5700 пабов, но и 2000 винных баров.
Так было отнюдь не всегда. Только в 80-х в этом городе теплого эля, вина по имени «просто вино» и еды по фамилии «набить брюхо», стали вкладывать деньги в копии знаменитых американских ресторанов и баров. С вином случился реальный прогресс, в отличие от еды: она либо дорога, либо отвратительна, а в большинстве случаев – и то и другое.
Там, где тусуются белые и синие воротнички – в Сити, в Холборне – баров теперь больше, чем пабов. Во всяком случае, на Кингзвэй, по которой спешат из метро к Буш-хаусу мои коллеги с BBC World Service, нет ни одного паба. А винных баров – с десяток.
Разливают обычно Новый Свет (3–5 фунтов за бокал), французское же подают бутылками. Завсегдатаи бурчат, что во Франции земля лишилась сил, истончилась, и лоза не дает той мясистой, полнокровной округлости, как раньше. В таком случае, уход от выбора – это коктейль. Например, «черный бархат»: смесь «гиннеса» с шампанским.
Шампанское – вообще отдельная тема. Серебряное ведро с бутылкой может стоять в ногах 18-летних джентльменов, играющих в крикет; те же ведра, как жертвенные ковчеги Мамоны, метят в конце дня столики деловых кварталов. А когда у рабочих девушек Ист-Энда, героинь сериала Eastenders, случаются разбитые сердца, они надуваются шампанским прямо с утра.
Что до меня, я предпочитаю после работы красное house wine. Окажетесь вечером в Ковент-Гардене – забегите в ресторан Sarastro, что на Druru Lane, 126, в паре метров от одноименного театра, где Гамлета играл еще Гаррик. Изнутри заведение напоминает освежитель для воздуха в форме короны, который провинциальные водители устанавливают в «Жигулях»: килотонны золота, бархата и парчи. Что неподготовленного человека, понятно, пугает. Однако заходите смело: бокал вина стоит 3 фунта, овощные закуски идут бесплатным приложением, половина персонала – русские студентки, а по понедельникам и воскресеньям вечером поют молодые оперные таланты.
ВИННЫЕ МАГАЗИНЫ
В середине 1990-х в Лондоне по воскресеньям спиртное продавалось лишь упаковками и коробками, и английское воскресенье по скуке спорило с еврейской субботой. Сегодня почти как в Москве: в любой лавчонке найдешь почти что Шато-Латур. Однако привереде таких мест лучше избегать: говорящий с диким акцентом черноусый продавец наверняка всучит бутылку сомнительных качеств, но несомненной цены.
Если нужно вино для обеда – идите в проверенные сетевые супермаркеты: Tesco, Sainsbury, Marks & Spencer. В последнем вообще ничего, кроме вина, покупать нельзя: одежда вдохновит лишь ветеранов битвы при Ватерлоо, а продовольственный отдел, предмет британской гордости, в России был бы закрыт объединенными усилиями СЭС, КПРФ и общества потребителей за геноцид и вредительство. Однако винный прилавок на удивление приличен и радуется постоянными скидками и promotions.
В поисках бутылки поинтереснее имеет смысл заглянуть в специализированные магазины: что во французскую сеть Nicolas (25 отделений в Лондоне), что в Oddbins («Такое всякое»: отделений – как у нас киосков «Союзпечати»). Это типичные магазины мидл-класса, в которых класс отдает 6–7 фунтов за покупку. В некоторых отделениях Oddbins есть отдел fine wines: там найдется и Мутон-Ротшильд по цене 250 фунтов за полуторалитровую бутылку-«магнум», и продавцы будут уверять, что это дешевле, чем во Франции.
Но если приспичило купить действительно дорогое вино – отправляйтесь либо в Сохо, либо в Сент-Джеймс, либо в Кенсингтон. В первом районе предложение определяется утонченностью вкуса геев, во втором – джентльменов (хотя одно другого не исключает, как и не исключает другое первого). Третий район зовут «Маленькой Москвой»: здесь максимальный шанс столкнуться с Абрамовичем или Юмашевым.
Жаждущим аристократической жизни (я, например, гоняю по Лондону на раздолбанном велике, одолженным как раз у знакомого аристократа: мы как-то раз вместе делали pub crawling) можно посоветовать Berry Bros & Rudd на St. James’s street, 3. Wow! Подвалы чуть не середины XVII века, продавцы с манерами лордов и принцип «ничего кроме лучшего». А если хочется необычного – отправляйтесь в универмаг Selfridges, разыщите в нем магазинчик Vom FASS, где отмеряют спиртное из бочек и бутылищ. Или езжайте к Лондон-бридж, где работает Vinopolis – «город вина». За 13,5 фунтов вам предложат программу Six in the City, «сикс в большом городе»: экскурсию по подвалам с шестью дринками.
НА ПОСОШОК
И напоследок я скажу… Лондон – один из самых безумных, сумасшедших Вавилонов на свете. Здесь даже для топографического обозначения улиц и площадей используют дикое количество слов: alley, avenue, boulevard, broadway, circle, circus, corner, court, crescent, croft, drive, end, field, garden, gate, lane, meadow, mews, passage, place, precinct, promenade, rise, road, square, street, terrace, vale, walk, way, yard (crescent, например – это стандартное обозначение дугообразной улицы, a mews – улицы, образовавшиеся на месте задних прогонов, по которым из конюшен выводили лошадей).
И, может быть, именно поэтому здесь имеет смысл забыть о старых привычках и попробовать все – и коктейль Mushroom Martini, и французскую водку Grey Goose (осторожно: 7 паундов за 50 граммов!), и вошедший недавно в моду сидр, и все многообразие вин Нового Света, что последние годы все больше и больше вытесняют вина французские.
У вас тогда будет личный опыт жизни, знакомств, тусовки, еды и пития.
Малая часть моего опыта жизни на углу Moscow Road и St. Petersburgh (почему-то с «h» на конце) Place такова. Поутру я надеваю ролики и качу к зеленщикам на Portobello: в будни здесь нет охочей до антиквариата толпы. На 6 фунтов покупаю спаржу, пару дынь, кочан брокколи, кило помидоров, полкило сладкой картошки-бататы и пару телячьих сарделек с мятой. Еще в 4 фунта в Oddbins обходится бутылка Snake Creek Shiraz прошлогоднего австралийского урожая.
И кто сказал, что нет счастья на земле? Что русских гнетет ностальгия? Что есть болезни, возраст и смерть?!
Ваше здоровье, господа.
Wish you were here.
2004COMMENT
С туристической точки зрения Великобритания – образцово стабильная страна. Вернешься неделю спустя или пятилетку – внешне ничего не изменится. Однако внутренне, по типу организации жизни, здесь все меняется крайне стремительно. Причем во всем, включая употребление алкоголя (я уж молчу о том, что в пабах споры «в дыму» больше вести нереально – курильщики изгнаны на улицу, сигареты продаются пачками по 10 штук, и цена за пачку такова, что курение если не убьет, то разорит). Если кратко, суть постоянных изменений в следующем: если британцы видят, что нечто в мире устроено действительно хорошо, они не отворачиваются высокомерно (хотя раньше бывало), а стараются все самое лучшее перенять. Так, например, случилось с вином, вытесняющим крепкие напитки (кстати, после того, как Россия запретила импорт грузинского вина под предлогом заботы о здоровье граждан, оно полилось в английские бокалы). И если в 2004-м Англия была страной наисквернейшей кухни, то теперь все чаще об английских ресторанах я слышу восторженные возгласы. А Леша Зимин из «Афиши-Еды» даже ездил учиться поварскому мастерству в лондонскую школу Cordon Bleu.
В общем, сила Англии в том, что она открытая миру страна. И стабильность ее – динамическая, позволяющая быстро реагировать на изменения в мире. А не статическая, которая держится-держится, а потом разлетается в клочья.
#Великобритания #Лондон Про пиво
Tags: Last drink, gentlemen, или до какого часа работать пабу. – Пивная как психоаналитик и психотерапевт. – Превентивная стерилизация школьниц, отрубленные головы и пивные животы.
Забавно, когда заносит туда, где ничто не меняется. Я последний раз был в Англии шесть лет назад – и надо ж, все на том же углу все те же иракцы жарят все те же кебабы, и ленд-леди в гостиничке все та же, и так же не протолкнуться вечером к стойке ни в одном из шести пабах возле моего дома.
И, кстати, надуваются в пабах по-прежнему серьезно, чтобы успеть до 23 часов, времени закрытия, о необходимости изменения времени которого шесть лет назад много говорили. И о том, что пивом упиваются подростки, тогда тоже говорили. Светлым пивом, каким-нибудь мерзким Carling, $4,5 за кружку, если кому интересно. Поскольку это жиденькое, как разбавленная моча, пиво сорта lager – самое дешевое. «Гиннес» – это для туристов. И еще для кормящих матерей, кому он помогает поддержать водно-солевой баланс (я не шучу, это точка зрения местных медиков).
Однако изменения все же есть. Раньше в Лондоне было 5700 пабов. За последние – ну, не шесть, но пятнадцать лет к ним прибавились 2000 винных баров. И они в чести не только у менеджеров Сити, но и у продвинутой молодежи. К тому же вино в розлив, бокалами появилось во всех – абсолютно во всех! – пабах. Спасался я как-то от дождя в пивной забегаловке в пригороде Портсмута. Заведение вроде тех, что на трассе под Псковом: мама не горюй, одни суровые работяги. Однако что б вы думали? Предложили на выбор южноафриканское мерло, австралийский шираз, чилийское каберне.
Вкусы британцев не стали более утонченными. Здесь вообще удовольствия плоти неприхотливы. Для среднего бритта еда существует, чтоб набить брюхо; одежда – чтобы прикрыть тело; алкоголь – чтобы вмазать по мозгу. Оттого едят и одеваются здесь хуже, чем в России, а пьют – по-моему, больше. И даже продвинутые лондонцы запросто, на посошок, дергают пиво после бордо. Мода на вино – она, я полагаю, от расширения сбыта виноделами Нового Света. И от информации, что красное вино полезно для сердца (если это не рекламный ход).
Не буду врать: я не встречал в Англии ни рекламы пива на улицах, ни подростков с банками Stella Artoir в руках. Но, может быть, потому, что в Лондоне на улицах вообще нет рекламы, да и подростков нет, исключая французских тинейджеров, которых сюда возят в промышленных количествах для поправки языка. Зато английские тинейджеры квасят, и еще как. В марте четверо провинциальных школьников, будучи на экскурсии в Лондоне, ужрались пивом и водкой. Одного так и не спасли.
Однако как бы это кого ни шокировало, гайки дальше обычных ограничений – до 18 лет не продавать, хотя в магазинах встречается надпись «Если вы выглядите моложе 21, мы можем попросить вас доказать, что вы старше 18» – здесь не закрутят. Реклама пива есть на стадионах, реклама сидра (он стремительно входит в моду) – в частных спортклубах. А британский паб, как я уже отмечал в предыдущей главе, не просто место для пития. В пабы, особенно окраинные, после работы идут с собаками и подругами, с бельем из прачечной, читают газеты и смотрят футбол, играют в дартс и бильярд. Поскольку места мало, народу – много, а шум – коромыслом, общаться бриттам приходится голова к голове, пробивая зону отчуждения, которую они вне паба несут, как пузырь, на плечах. То есть английская пивная – это коллективный организатор и психотерапевт. И в России скорбеть разумно не о том, что пьют – а о том, что негде пить. В Англии же пабы на каждом углу – и какие пабы! В викторианские времена их украшали не хуже дворцов, понимая, что для рабочих паб – и дворец, и театр, и эстрада. Именно в местных, окраинных пабах могут давать концерты начинающие рок-группы, а начинающие модели – танцевать стриптиз, стыдливо называемый exotic dance.
Здесь вообще не переделывают природу человека, а если и борются, то лишь с крайними ее проявлениями. Понимают, например, что люди пьют и будут пить. Или что девочки с рабочих окраин будут рано взрослеть. Но не бьются в истерике, а предлагают девочкам с тринадцатилетнего возраста пройти бесплатную трехлетнюю стерилизацию, вживляя под кожу имплантат (и те даже не спрашивают согласия родителей).
И почему-то это доверие к людям и к врачующей силе времени мне кажется верным. А борьба «серьезных» людей с попсой, комиксами, с пивом – глупой. Хотя бы потому, что борьба превращает людей во врагов безо всякого шанса на переход из лагеря в лагерь.
Впрочем, на этой точке зрения я не настаиваю. Жизнь в Англии располагает к толерантности. Может быть, потому, что последний раз королю здесь отрубали голову за 268 лет до того, как в России последний раз расстреливали императора. Это достаточный срок, чтобы понять, что в мире не одна, а множество правд. Если хочется кому-то считать, что вода из лужи есть напиток мужчин, поскольку пить ее противно, а последствия брутальны, – welcome.
И еще об одной вещи: о популярном в России убеждении, что размер живота и количество выпитого пива взаимосвязаны. Дело в том, что пивопьющие англичане – нация худощавых мужчин. И русского туриста я отличаю в толпе даже не по напряженному от незнания языка взгляду, а по свешивающемуся через ремень пузу.
То есть как минимум пузатость не связана с пивным потреблением напрямую.
Впрочем, по пиву я не особый эксперт: вот уже несколько лет, как его не пью. Да и про животы – после того, как пару лет назад я сбросил 10 кг – лучше спрашивать не меня, а Диму Быкова, который на пару с женой написал дико смешную книгу «Из жизни животиков».
2004COMMENT
Три вещи вдогонку.
Первое: англичане в пересчете на чистый спирт пьют столько же, сколько и русские (в 2004 году, по данным ВОЗ, две нации выдували соответственно 10,39 и 10,58 л чистого алкоголя на человека старше 15 лет. В 2011 появились раздельные данные по легально и нелегально употребленному алкоголю: по выпитому легальному англичане даже опережали Россию: 11,76 против 11,03 л. Зато на нелегальном рынке англичане разгромно проигрывали: 1,7 против 4,73 л).
Второе: давняя дискуссия о времени закрытия пабов в Великобритании завершилась, причем очень по-британски. Local councils, выборным местным территориальным советам, дали самим возможность это решать.
И третье: в пабах барменов нет. И пабменов нет тоже. Там работают publicans, пабликены: «pub», паб, и «public», публика – слова однокоренные.
2014#Великобритания #Лондон Серьгу в ухо
Tags: В утробе «Селфриджиз» как Иона в чреве кита. – «Лондонская муха», кроссовки с галстуком и волосы дыбом. – Чопорность, которую они потеряли.
Шесть лет назад я бежал, подобно лермонтовскому Гаруну, из лондонского универмага Selfridges.
«Селфриджиз» – большой универсальный магазин на торговой Оксфорд-стрит, не из дешевых. В Хельсинки ему аналогом будет «Стокманн», а в Москве – пожалуй, что ГУМ.
Меня в Selfridges подавили своим величием продавцы.
Роскошные как «Титаники», одетые как денди, выглядящие как принцы крови, они одним видом дали понять, что не с этого крыльца мне, в клетчатой ковбойке, заходить в их храм.
И летел я по эскалатору вниз кувырком.
Добавлю, что за день до этого меня не пустили в ночной клуб «Париж» на Пикадилли по причине несоответствия дресс-коду.
– Знаете, сэр, – сказал на входе роскошный черный парень в смокинге и рубашке с ослепительно пенящимся жабо, – в Лондоне после шести коричневые ботинки не носят.
– В настоящем Париже, сэр, – робко квакнул я, – меня бы в любой клуб пустили босиком.
– Вы в Лондоне, сэр! – ответствовало с улыбкой даже не в 32, а в 64 зуба черно-белое чудовище, и я проводил остатки лондонских дней с ощущением бедного родственника на дядином обеде. Наматывая на ус, что настоящий джентльмен должен костюм шить, а не покупать, что на приличных пиджаках петлички на рукавах настоящие, прорезные (отчего одна пуговица может быть не застегнута), что клинышек в разрезе манжет рубашки называется «листвицей» и что в знаменитом среди джентльменов торговом доме Pink она бывает розового цвета.
После Selfridges ни одна сила мира не заставила бы меня зайти в еще более дорогой и знаменитый, пылающий в ночи всеми огнями святого Эльма, универмаг «Хэрродз».
Так вот, спустя шесть лет я решил расстаться с былыми стра-хами и повторить прежний маршрут. Правда, что-то смутно указывало, что его за это время изрядно затоптали.
Теперь менеджер моего банка носил стрижку типа «стога разметало гранатой» и тату на шее. От бывшей электростанции в Southwark перебросили стеклянный мост к собору Святого Петра, выпотрошили начинку и устроили галерею Тейт-модерн: я лежал на полу в машинном зале под выложенном зеркалами потолком, под гигантским искусственным солнцем, в дыму струящегося газа, и вместе с другими складывал из тел буквы и слова. В деловом Сити туда-сюда сновал народ в синих строгих костюмах и сине-желто-рыжих кроссовках. Строгие 501 темно-синие «ливайсы» носил во всем Лондоне, похоже, я один: лондонские магазины иных джинсов, кроме как предварительно стиранных и рваных, не предлагали.
О господи, клуб «Париж» закрылся, о нем никто и не помнил! Ночная тусовка из центра, Вест-Энда и Ковент-Гардена, вообще перебралась в железнодорожный, промышленный, дешевый Ист-Энд, зажигая между брандмауэров с граффити, бангладешских лавчонок и подозрительных химчисток с объявлениями на арабском.
Внутренне леденея, я зашел в «Селфриджиз». Играли драм-энд-бэйс и немножко брэйк-бит. На этаже одежды для джентльменов висели классные желтые батники в ярких синих и красных тюльпанах. Рядом приплясывал черный продавец. Я вздрогнул. На секунду показалось – тот самый, из «Парижа». В том отделе, где я когда-то покупал классические черные ботинки с отстроченным мыском, до сих пор вызывающие завистливые взгляды в России, возвышался Монблан прогрессивных сочетаний кислотного розового с желтым и зеленого с красным. Мне лично понравились башмаки от London Fly, «Лондонской Мухи» с носком, разрезанным пополам: отдельно для большого пальца и остальной стопы. Wow.
Странное что-то приходило на ум. Незадолго до отлета в Лондон мы с приятелем были на модной московской вечеринке. Играл джаз, гуляли девушки в умопомрачительных платьях, официанты разносили бутерброды-канапе. Рядом с нами выпивал и закусывал ухоженный господин лет пятидесяти в очень хорошем костюме и с серьгой в ухе.
– Не понимаю, – наклонился ко мне мой приятель, – либо он уже такой босс, что вообще все может позволить. Либо какой-то недоделанный.
– Ну, может, он из рокеров. Память молодости.
– В его возрасте пора бы уже повзрослеть.
И я невольно запахнул ворот, чтобы он не заметил на мне бусы, купленные как-то по случаю там, где море, солнце и все хорошо…
…Но я возвращаюсь в Лондон. Верите или нет, но общая тенденция такова. Все консервативное, застывшее либо умерло, либо умирает, либо перестроилось, либо перестраивается. Визитная карточка нации, универмаг Marks & Spencer, всю жизнь торговавший одеждой для мисс Марпл и мисс Хадсон, пугает пустотой. Продавцы жмутся робкими кучками ввиду отсутствия покупателей. Акции упали в цене, убытки рекордны, управляющий директор Люк Вандервельде – в отставке.
Би-Би-Си производит внутреннюю реформу, запускает цифровое радиовещание, на котором один из каналов – BBC IXtra: с инди-музыкой, от которой темнеет в глазах. И даже того, что идет по «обычному» Radio 1 обычным пятничным вечерком – в России хватило бы, чтобы стать музыкальным событием года для особо продвинутой молодежи.
На телеке пятидесятилетние девушки в прямом эфире всерьез обсуждают, мешает или нет работе в офисе наличие тату на лице и других открытых частях тела – и приходят к мнению, что не мешает, а позволяет легче установить с клиентом доверительные отношения.
Даже Ministry of Sound, «Министерство звука», самый, пожалуй, известный в России лондонский клуб, весь в долгах как в шелках по причине слишком сильной привязанности к старому доброму прогрессив-хаусу. Никто, кроме туристов, туда не идет…
И что бы по этому поводу мне сказать? Ага!
Дорогие российские мальчики и девочки, особенно достигшие середины жизни или даже перевалившие через нее!
Как и всем брежневским недокормышам, вам, я так полагаю, тоже пришлось недоколбаситься, недогулять, недоплющиться и недорастопыриться. И, держу пари, в мыслях тоже хотелось: серьгу в пупок, «гвоздик» в бровь, тату на лопатку, волосы в дреды – и на скейт, серф или рейв. Особенно когда б знали, что последнее значит.
Но откладывать далее невозможно – хотя бы потому, что волос на голове все меньше.
Я не то чтобы призываю ринуться во все тяжкие, давая материал для диссертаций о кризисе среднего возраста. Я просто думаю, что потратить жизнь на соблюдение приличий и поддержание традиций, – грех куда больший, чем на реализацию желаний. Не говоря уж о том, что поддержание неизменного статуса – свойство скорее смерти, чем жизни. И вообще, какого черта мы, сытые старым совковым консерватизмом, с таким упоением кинулись в постсоветский консерватизм?
Чтобы выжить, чопорному Лондону пришлось перестать быть чопорным. Именно оттого здесь лучшие в мире дизайн, музыка и музеи, которые, кстати, за то время, что я их не видел, перестали брать деньги за вход, стали раз-другой в неделю работать до десяти, да еще и подкатывать под эту продленку выпивку и музон и устраивать parties, очень даже и ничего.
И здесь, в Лондоне, это никого не смущает, как никого не смущают пропирсингованные пенсионерки, целующиеся на набережных со своими крашеными ровесниками-бойфрендами.
Москва на этом фоне – не то чтобы скучновата, но серовата. Может, обувь на людях не та. Может, морды на людях не те.
Попробуйте не побояться попробовать. Что нам за это может быть?
Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь вернуться в Россию из Лондона с серьгой в ухе.
2004COMMENT
Дело прошлое: из Англии я прилетел все же без серьги.
Но в первую неделю в Москве ухо все-таки проколол.
Я тогда еще работал политобозревателем на «Радио России» и с серьгой в ухе завалился на работу.
Мой приятель, выбившийся в начальники, косился на меня весь день. Вечером, в ресторане, я ему рассказывал, что верить в «старую добрую Англию» можно лишь там не бывая. И что котелки в Англии носят не джентльмены, а дормены, охранники при входе в некоторые колледжи в Оксфорде. И что колледжи в Оксфорде – это не департаменты университета, а единицы административно-территориального устройства.
Но мой приятель не слушал, а все смотрел и смотрел на мою серьгу.
– Слушай, – наконец не выдержал он. – А ты не слишком там изменился?
Я оценил усилие, с каким он скрыл подразумеваемое «ориентацию свою не изменил?» – и с таким же усилием сам едва удержался от смеха, потому что как раз собирался рассказать, что в Лондоне на сексуальную ориентацию обращают внимания столько же, сколько на праворукость или леворукость.
При первой же возможности я написал заявление об уходе по собственному желанию – и ушел из госжурналистики на глянцевые хлеба.
Ко всеобщему облегчению.
2014#Великобритания #Лондон Русские летят
Tags: Шопинг и экономический форум. – Очередь из русских самолетов и Little Moscow. – Прикупить недвижимость и футболистов.
В англосаксонском мире есть понятие city stories – городские байки, легенды. Типа рассказов о гастарбайтерах, подрядившихся очистить коллектор от крыс – и сожранных грызунами. В Лондоне я услышал историю о том, как охрана богатых русских, совершающих шопинг, требует отключать в магазинах видеонаблюдение.
Не знаю, не знаю. В Лондоне без телохранителей обходится вроде бы даже Березовский. Но каждый раз, когда пробегаю по Kensington Palace Gardens – тихой, респектабельной улочке у Кенсингтонского дворца (на ней же, кстати, наше посольство) – у меня ощущение, что видеокамеры особняков ведут прямую трансляцию в Москву. Дома здесь скуплены нашими.
О консьюмеристских аппетитах богатых русских ходят легенды. Sunday Times, например, недавно писала о том, что во время экономического форума в Лондоне ради прилетевших на него россиян был снят на ночь моднющий бар Sketch в Мэйфейере: израильский ювелир Лев Левиев показывал там свое неброское искусство, оценивавшееся от 180 тысяч до 2,7 миллионов долларов за единицу продукции. Всего же за время форума 1500 русских («частные реактивные самолеты выстраивались в очередь, чтобы приземлиться» – это впечатляет; по крайней мере, сама фраза) должны были, по сведениям газеты, потратить 27 миллионов долларов. То есть по 18 штук зеленых косых на брата.
Опять-таки не знаю, как считали деньги в чужих кошельках, но вот уже Evening Standard Magazine полагает, что каждые пятнадцатые лондонские квартира или дом ценой выше 900 тысяч долларов покупаются русскими. В Лондоне есть, например, невероятно поднявшиеся за последние годы риелторы – тридцатилетние братья-погодки Ник и Кристиан Канди, владельцы компании Candy and Candy, которая только что установила рекорд цен в Челси: 27 миллионов фунтов (около 50 миллионов долларов) за квартиру. Утверждают, что Канди продают недвижимость по средней цене 40 тысяч долларов за метр. Так вот, если верить братьям, в Британии первые пуленепробиваемые камеры наблюдения, сканеры отпечатков пальцев, дымовые бомбы и лазеры в качестве домашних охранных систем появились именно благодаря русским клиентам. Которые теперь требуют идентификаторов радужной оболочки.
Смежные Челси, Кенсингтон, Найтсбридж – давно модные районы, но во многом благодаря русским цены здесь взлетели вообще до небес. Так что Роман Абрамович купил футбольный клуб с правильным названием. Найтсбридж возле универмага «Хэрродз» в английском народе теперь зовется «Маленькой Москвой». И когда тот же Evening Standard Magazine проводил скрытое исследование о рынке самой дорогой лондонской недвижимости, то на роль квазипокупательницы была приглашена опять-таки русская девушка. Довольно нехилый репортаж вышел. Начинавшийся фразой «Лондон быстро превращается в Москву-на-Темзе».
Замечу попутно, что к большим тратам в Великобритании негативного отношения нет, и наиболее забавные рекорды принадлежат все-таки местным. Пару лет назад, например, компания менеджеров из Сити поужинала на 44 тысячи фунтов. Об этом стало известно, у ребят были большие неприятности на службе, их собирались увольнять. Месяц назад они снова появились в том же ресторане и оставили 39 тысяч фунтов; про увольнение пока не слышно. Роман Абрамович в Лондоне не зажравшийся нувориш, а почти национальный герой, сильно всколыхнувший национальный футбол. Неслучайно он возглавил традиционный список богачей Великобритании, публикуемый газетой Sun. А то, что невиданными платежами за игроков он разрушает футбольный трансфертный рынок – это проблемы трансфертного рынка.
Но тонкая специфика трат в Соединенном Королевстве все-таки есть. Хвастаться деньгами, как и происхождением – здесь непростительный моветон. И если вы слышали, что британский аристократ спарывает лейбл после покупки или искусственно старит вещи, – то это не одна из city stories, а чистая правда. И когда один российский медиамагнат лондонским коллегам как бы невзначай сказал, что отправляется на шопинг в «Хэрродз» – то он себя не просто живым в землю закопал, но и надпись на могиле написал. Извиняет его разве то, что империя у него примерно того же качества…
…Подвожу черту. Лондон – самый дорогой город Европы. Риму, Парижу, Москве до него далеко. Здесь чудовищно дорог транспорт и неподъемны ресторанные счета. Но запредельно дорого прежде всего жилье. И еще – люди, людской труд.
А именно все самое дорогое в Лондоне залетные русские и скупают.
Недвижимость и футболистов.
2004COMMENT
Спустя 4 года, в 2008-м, курс фунта резко упал: почти в полтора раза по отношению к евро. Английская недвижимость перестала быть запредельно дорогой, а у британских пенсионеров стало меньше возможностей использовать популярную схему: продав (или сдав) дорогую недвижимость в Соединенном Королевстве, купить (или снять) дешевую недвижимость в Испании. Таким образом, диспропорция между качеством и ценой жизни в Великобритании была выправлена в сторону справедливости. Но при этом понятия о справедливости (и о долженствующем поведении), насколько я могу судить, не изменились ничуть. По-прежнему хвастаться доходом (не говоря уж про дорогой шопинг) неприлично. По-прежнему достоинством сильного является умение прийти на помощь слабому.
Жаль, что больше не поговорить об этом с Борисом Березовским, в 2013 году покончившим с собой.
2014#Великобритания #Лондон Трехпенсовая опера
Tags: Почем нынче «Челси» и «роллс-ройс». – Почем нынче перекрасить «боинг». – Почем нынче жизнь в Европе.
Дихотомия русского поведения за границей состоит в некоем купеческом кутеже с одновременным пониманием, что кутеж не совсем comme il faut. Дурен, однако ж, не разгул с попаленным баблом, а то, что любой иной вариант поведения – допустим, рюкзачок за спину и вперед – нашими ребятами слабо представим в качестве стиля и тренда.
Я с марта живу в Лондоне, пишу свои вирши, живется легко. Приезжающим показываю рынок Camden, где тусуют фрики, и Eaton Square, где живет Абрамович. Мои знакомые – прогрессивные люди, они от Абрамовича в ужасе. Они говорят, что он закупил игроков для «Челси» на 200 миллионов у.е. (что правда). Они говорят, эти деньги не отобьются никогда (наверное). Они говорят, что Абрамович тем самым испортил футбол как таковой: мне предлагается идею поддержать.
Не знаю, не знаю. Опыт подсказывает мне, что основная идея, питающая русских за рубежом – это идея исключительности, причем неважно какой. Мы либо хуже других, либо лучше, но уж точно не такие, как все.
Все во мне против этого вопиет. Ну господи, вбухал Абрамович в «роллс-ройс» 50 тысяч фунтов поверх стандартного пакета – так саудовские шейхи этих «ройсов» вообще в год по 50 штук покупали. Ну, хочет русский человек делать шопинг непременно в «Хэрродзе» – так и японцы туда идут косяком.
Почему, собственно, мы должны стесняться того, что играем в потребление как малые дети? Что, лучше сразу – в старички-скупердяи, похороните вместе с любимым гроссбухом? Да, The Sun или Daily Mail с сарказмом пишут о «боинге-767», заказанном Абрамовичем (360 мест в стандартной комплектации, прикуплен в дополнение к «боингу-737» и двум вертолетам) и называют флотилию Chelski Air, но почему мы должны уважать их больше, чем «Московский комсомолец»?
Почему – почти ору я своим прогрессивным друзьям – мы вообще должны доверять вкусам англичан? Этих представителей самой безобразно одетой в мире нации? Страны худшего в мире общепита, где для обозначения хоть сколько-нибудь съедобного придуман термин organic food? Обладателям некачественного, микроскопического по габаритам и убийственно дорогого жилья? Это они – авторитеты? Это они учат нас не ковыряться в носу?!
Веди себя, как ведешь; мир – твой, и ты на него имеешь столько же прав, сколько же и остальные! Почему я должен стесняться, что наши в Лондоне скупили треть Найтсбриджа, Белгравии и Челси; что взвинтили и без того безумные цены, что дали району возле «Хэрродза» прозвище Little Moscow, а всему Лондону – Moscow-upon-Thames?!
Но все же я не кричу.
Мешает пара обстоятельств. Первое состоит в том, что русский размах (и размер) есть следствие не столько финансового благополучия, сколько стремления доказать, подтвердить факт благополучия перед миром. Большинство наших транжир все еще не уверены, что нажили деньги по уму, совести и закону – и уж тем более не уверены, что смогли бы повторить успех при других обстоятельствах и в другой стране. И эта смутно ощущаемая неполноценность успеха требует заливать его деньгами, как горе – водкой.
И второе: в своем консьюмеристском поведении русские редко осознают себя частью мира, Европы, другой страны, что подразумевает знание не только стиля, но и последствий его нарушения. Те же самые люди, что ругают Абрамовича, кривятся – «Ты еще на метро нас отправь!» – когда я советую добираться из «Хитроу» электричкой. Они не хотят знать, что можно жить по-другому. Для них лишь деньги есть символ успеха. Говорящие иное – стопудовые лохи. И я, если честно, больше с ними не спорю.
Они все равно не поверят, что в Лондоне можно классно жить и на три пенса. По будням ходить на блошиный рынок Портобелло, где меж антикварных рядов торгуют дешевой спаржей и сладкой картошкой-бататом. По выходным летать компанией-дискаунтером Ryanair на континент. По утрам бегать по Кенсингтон-гарденз с белками наперегонки. По ночам гонять с гиком и свистом в компании роллерблейдеров до собора Сент-Пол.
И понимать из своего прекрасного далека, что потребительский лозунг – создать в России мидл-класс и стать его частью – устарел, ибо не сулит никакой перспективы. Ведь средний класс – это просто идентификация по доходу и потреблению, и больше решительно ничего. «Мидлы» в России победили – и что дальше?
Прогрессивным российским людям пора взять на вооружение другой лозунг – быть европейцем. То есть открыть мир, открыться миру и добавить к своей жизни еще одно измерение.
Act a European, be a European.
Присоединяйтесь, барон.
2004COMMENT
Этот текст был опубликован в GQ: я там был колумнистом. И хотя среди читателей GQ дураков нет по определению, даже умники порой вскидывались, когда я писал, что в Англии безобразно одеваются, ни фига не смыслят в еде и что продукцию, произведенную в Англии, лучше не покупать. – Как это «безобразно» и «ни фига»? – кричали они. – А Вивьен Вествуд? Пол Смит? Джермин-стрит и Сэвил-роу? А ресторан «Айви», где столики резервируют за полгода? А «роллс-ройс» – что, плохая машина?
Я смеялся в ответ, что именно «Роллс-Ройс» делал для реконструируемой Королевской Оперы в Ковент-Гарден новую сцену, представляющую систему вагонеток, посредством который декорации должны перемещаться чуть не мгновенно. И бед с этими вагонетками было столько, что оперные примы ездят теперь на чем угодно, но только не на автомобиле с «летящей леди» на капоте.
И мне снова не верили.
Между тем современная британская бытовая культура в одежде сводится к тому, что одеваться, если не заявлен дресс-код, можно как угодно. Сочетание марлевой юбки-пачки, босоножек и дубленки зимой 2004-го было нормальным делом. Британская культура трапезы сводится к тому, что еда сродни заправке машины бензином, так что лучше покончить скорее, и нечего смаковать. Ну а к чему сводится качество продукции – спросите у главы «Роллс-Ройса» (или у директора Оперы).
Зато британцы великие меломаны, блестящие дизайнеры и великой деликатности и благородства люди.
Словом, в ресторан с англичанином – ни за что.
Зато в разведке или бою с англичанином – как за каменной стеной.
2014#Великобритания #Лондон Убить Versace
Tags: «Серпантайн», Орозко, Пикассо, Уорхол и вытеснение мастерства технологией. – О глянцевых ниспровергателях буржуазных устоев. – Who the f*ck is Dolce, who the f*ck is Versace?
Непременное комильфо быта и вида российских прогрессивных людей плохо не потому, что новодел означает отсутствие истории, хотя бы и кредитной. А потому, что сами свой стиль прогрессивные люди устраивать не решаются. Все дано на откуп дизайнерам, мастерам искусства, ребятам со стороны. Это – комплекс сродни привычке секса в единственной миссионерской позиции.
Но это присказка. А вот вам сказка.
Если, товарищи, взять билет до города Лондона и прогуляться по Гайд-парку, то возле озера Серпантайн можно найти одноименную галерею из тех, что путеводители помечают как «рекомендуется; плохих выставок не бывает». Побродить по exhibition мексиканца Орозко (мячики в пакетиках, войлок на веревках) и услышать за спиной по-русски: «По-моему, нас дурят».
Идиотизм ситуации в том, что, с одной стороны, в общем, да. А с другой – внутренне споришь: вы что, ребята, по Церетели загрустили?
Впрочем, о чем спор. Ребята правы. Пока родное искусство торчало на реалистической точке зрения и замерзания, Запад произвел техническую революцию: грянул век пара. Турбиной был Пикассо. Он первым поставил во главу угла не мастерство, а технологию. Он поначалу плохо рисовал. Загляните в его музей в Барселоне: тоска хилых этюдов. Поскольку в испанском реализме удача не светила, Пикассо уехал в прогрессивный Париж, где и представил результат применения не навыка, но идеи. Кубизм стал технологией, доступной любому: Пикассо или Брак – картинка одинакова. В середине века Уорхол (кстати, отличный рисовальщик) сделал произведением искусства консервную банку: это попало в струю, и в искусство пришел тираж. А завершился век чередой инсталляций, где понятие профессионального мастерства отсутствует вообще. Не нужно уметь рисовать, чтобы завалить пьяцца Сан-Марко скомканными газетами, среди которых, шурша, будут взлетать и садиться голуби. Не нужно знать композицию, чтобы слепить из глины 35 тонн глазастых гуманоидов и уставить ими зал… Можно посреди зала поставить пустую раму: все попавшее в нее, включая вас самих, мгновенно станет артефактом. Искусство пришло к тому, что все могут все. На этом оно завершилось.
Можно расписывать фломастером черепа, заливать акулу стеклом или трахаться под видеозапись с собакой – если повезет, тебя признают. Поскольку о качестве говорить смешно (что считать мастерством в видеозоофилии?), успех зависит от куратора. Куратор – держатель бренда. Отлично, если тебя выставили в «Саатчи». Но и «Серпантайн» – тоже ничего. Вполне нормальный арт-рынок, приставку «арт» можно убрать.
Вдохнуть в эту схему божью искру можно, только если ее к чертовой бабушке попалить. И соотечественник, отказывающий во внимании бренду «Серпантайн», для меня герой времени: контрреволюционер, белая гвардия, Георгий Победоносец, топчущий артефакт.
Как писали в романах эпохи искусства? «Взор его замутился?» Я прочувствованно обернулся: на ниспровергателе устоев были лаковые кроссовки от Ямамото, на его подружке – джинсы с дырами от Dolce & Gabbana (хозяйке на заметку: «Хэрродз» недалеко от Гайд-парка, на распродаже такие джинсы можно ухватить долларов за 150).
Это были, увы, не герои. То есть герои, но не мои.
Я не ругаю, я скорблю. Это был вызов моих соотечественников серому быту и философии буржуа. Штаны были в дырах – потому что обладатели имели всех, а от D&G – чтоб сомнений не возникло, не по бедности ли имеют.
Меня пугает не то, что приподнявшийся на деньгах российский папик хочет в квартире кожаный диван и хрустальную люстру, потребляя то, что каталог или архитектор впаривают ему как «вечно актуальную классику»: набор как набор. Меня пугает, что прогрессом в жизни считается другое потребление. И что искусство жизни – то самое, что теперь доступно всем по технологии – прогрессивными людьми отдано на откуп другим людям. И Calvin Klein, и Versace – они давно не создатели, а просто кураторы.
В принципе, выход есть.
В городе, в котором я пятый месяц живу, – запредельная стоимость жилья, транспорта, ресторанов. Но все искупает запредельный дизайн – то есть то, во что перетекло умершее искусство. Лондонские прогрессивные молодые люди живут в районе с ржавыми рельсами, осыпавшимися брандмауэрами и фабричными корпусами где-нибудь у эмигрантской Брик-лейн, снимают квартиру на пятерых и жрут в сухомятку поганые треугольные сэндвичи. Но нужно видеть силу, с который они ломают асфальт, пробиваясь из своих подземелий. У них нет денег – только идеи и дешевые подручные материалы. Но это они скрестили вылинявшие после стирки штаны с дешевыми кедами. Это они прикрутили для своих подружек к кедам 10-сантиментовые шпильки. Это они придумали не скрывать швы и торчащие нитки. Это от них пошло красить стены по кирпичу без штукатурки. Это они родили лондонские клубы с нулевым интерьером, но с безумной музыкой. Какой еще на хрен Дольче? Если бы им потребовались действительно прогрессивные рваные джинсы, они бы расстреляли имеющиеся штаны на заднем дворе из револьвера, одолженного у знакомого драг-дилера.
Придите на любой лондонский рынок. Из дешевых материалов, руками полулегальных швей здесь сотворены не столько вещи, сколько идеи: шарфы в дырочку, пиджаки с граффити и заплатами. Среди покупателей можно столкнуться с Vivienne Westwood или Paul Smith, прилетевшими как вампиры на запах молодой крови.
Какой из этого всего вывод? А никакого: бегите на распродажу, а то Дольче с Версаче кончатся. Ничего не имею против них, но где те, кто оттиснет на майке «Who the fuck is Gabbana?»?!
Ловите идею, пока Лондон не опередил.
2004COMMENT
Этот текст – равно как последующий и предыдущий – печатался в GQ в рубрике «мораль». До меня эту колонку писал Тони Парсонс, а после меня – Эдуард Лимонов. (Тони Парсонса заменили мною, потому что описываемая им британская реальность слишком уж отличалась от российской, а меня заменили Эдуардом Лимоновым, потому что я стал главредом мужского журнала FHM, формально конкурирующего с GQ.)
Соблазнил меня писать колонку тогдашний замглавреда GQ Игорь Порошин – наитончайший языковой стилист, плетущий бретонские кружева на коклюшках слов, и при этом эпикуреец, небожитель, хозяин собой же воздвигнутого воздушного замка, подпираемого слоновой косточкой произвольно взятого предположения. (Забавно, что при этом Порошин обожал футбол – но это уже совсем замечание в сторону: просто в комментариях любое лыко в строку.)
«Давай ты будешь писать эту колонку по простому принципу, – заливал фундамент очередных небесных чертогов Порошин. – Ты пишешь крайне убедительный текст про то, как классно в 40 лет забыть про 40 лет, встать под парус, прыгнуть с парашютом, вообще сделать то, что так и не сделал, потому что силы у тебя еще есть, а деньги уже есть – и какой отстой те, кто считает, что этому возрасту следует остепеняться. Но в последнем абзаце ты будешь всю эту конструкцию опрокидывать походя брошенным замечанием, что все эти изображающие молодых козликов 40-летние – они самые настоящие козлы, потому что так и не смогли найти счастья в самом простом: в жене, в детях, в воскресном барбекю на лужайке у дома».
Я эдаким макаром эти колонки и писал.
Кстати, неплохой прием; дарю.
2014#Великобритания #Лондон Я приду плюнуть на ваши могилы
Tags: Упорная работа, спокойная старость и экономическая пирамида. – Энергия молодых и заговор стариков. – Торжественная песнь сгоревшим на работе.
Пищеварительный звук старых столиц.
Вот в Лондон приехал автобус из «свежеевропейской» Варшавы, 76 человек на борту, при каждом 700 среднестатистических долларов, втягивается в лондонский пищевод, на ловлю счастья и зарплат.
Хрюп.
Через пару недель 60 из 76 окажутся на Виктория-стейшн, без пенни в кармане, в ожидании отправки домой.
Сокращенье кишечника: переварили.
Вот девочки-мальчики, с чемоданчиками на колесах, слетаются в очередную School of English.
Они разделят на шестерых комнату ($400 в месяц за койку), будут подрабатывать официантами, а их английский никогда, никогда не будет таким, как у держателей прав, аборигенов.
Хрюп.
Мой однокурсник работает в Лондоне десять лет, но не может найти дорогу – смешно – в Ковент-Гарден. Его дом в часе от города электричкой, после службы – сразу туда, он типичный комьютер. Лондонская квартира – для тех, кто успел взять кредит лет пятнадцать назад. Новички цепляются за Ноттингемширы, Глостеширы, уползая с каждым годом все глубже: спрашивается, зачем приезжали. Средняя квартира в Лондоне – полмиллиона долларов (плюс ипотечный процент), средняя зарплата в Лондоне – 50 тысяч в год (минус налоги). Недвижимость дорожает в год процентов на двадцать – где же мы это встречали?..
И не надо про инвестиции, инфляцию и ставку рефинансирования.
Ваша инфляция, с моей точки зрения, есть не экономический, а социальный процесс, дающий преимущества не тем, кто лучше, а тем, кто раньше: как и «старикам» в армии.
Энергичные, работоспособные мальчики и девочки пройдут – хрюп! – все дерьмо городского кишечника, нищеты и отчаяния, жизни в мансардах красных кварталов, прежде чем получат доступ к тому, что схвачено стариками, – то есть когда станут стариками сами.
Сынок, почисти сапоги дедушке.
Хрюп.
Рост цен на недвижимость и объем начального капитала гарантирует дедам превосходство, потому что в Лондоне, Москве и, наверное, уже в Варшаве цена покупки среднего рабочего мяса недостаточна для покупки этим мясом среднего уровня жизни.
Это экономика старых столиц, это строительство пирамиды; она неизбежно связана с моралью, охраняющей рантье. Старые общества говорят: «Не смейте!» – не смейте забывать учителей, не смейте не чтить память прошлого, не смейте не уважать нашу старость. Как будто остановка, отсутствие новой вышивки по канве жизни достойны уважения.
Если хотите жить, – лично вы – забудьте про это дерьмо.
Старость нельзя уважать, ибо уважения заслуживает лишь действие или, точнее, его результат, старость же есть отсутствие изменений.
Уважать можно лишь тех, кто с возрастом не остановился, но и это не повод уступать место в метро.
Развал СССР был самым высокоморальным моментом в его истории, когда каждый бросил своей труд на весы мира стал получать действительно по результату, – а не по стоянию в очереди. Прошлое перестало существовать. О, вот тебе катарсис с пением ангелов: живи как с нуля, доказывай себе, стране, веку, небу, что эти планета, время, страна – твои!
Уважение к прошлому – дешевый трюк. Уважай Microsoft Word версии 1.0: апгрейд есть предательство предков. Можно не созидать, жаловаться на болячки, рано сваливать на покой и эксплуатировать, эксплуатировать молодых, обеспечивающих приток ренты.
Однако пирамиды достигают потолка. В Лондоне, где я пишу эту колонку, говорят о подъеме пенсионного возраста до 70 или 75 лет, и о том, что нынешнее поколение европейских стариков будет последним поколением обеспеченных стариков. Следующих стукнет обломками. Старики не желают работать, но молодые не в силах прокормить их.
Россия идет по тому же пути. Я опять-таки не про экономику. Просто возвышенный идеал современного 30-летнего городского парня из породы новейших русских – это квартира, машина, дача и рента «для спокойной старости», то есть еще одна квартира, бизнес, пенсионный фонд, хрюп-хрюп.
Все больше прогрессивных молодых людей будут класть жизни на этот священный алтарь. Но не факт, что им с него обломится. Рухнет рынок жилья, вздернут пенсионный возраст (а не вздернут – рухнут пенсионные фонды), в дряблый живот уткнется острый ножик Востока – пирамиды не бесконечны.
Вот почему жить ради будущей ренты – идиотизм. Не идиотизм – вкладываясь в ренту, полагать, что пожить на нее не придется.
Что тогда буду я? Кто буду тогда я? В чем моя функция в мире? Кого я люблю? Нуждаются ли во мне? От чего я действительно счастлив? Что я сделал из того, что никогда не делали до меня? Чем хотел бы заниматься?
О, вот вопросы! Игнорируемые активными, продвинутыми, зацикленными на бизнесе (и на деньгах) молодыми людьми, так уверенными, что придет их день ренты сродни бесконечному дню сурка – они оказываются спасительны, когда понимаешь, что день не наступит.
Не заботься о том, чтобы умереть комфортно; живи; сгореть на работе – прикольно.
И пусть мертвые хоронят своих мертвецов.
2004COMMENT
Чтобы было понятно, откуда взялась «свежеевропейская» Варшава: Польша в 2004-м вступила в Евросоюз. Поляки получили право работать во всех странах Евросоюза (включая Великобританию) безо всяких разрешений. И Лондон заранее загомонил: нас смоет волна гастарбайтеров-Янеков! (Точнее, это не Лондон загомонил, а английские англичане, живущие в Лондоне. На что лондонские англичане в Лондоне провели фотосессию: польского актера, голубоглазую и белокурую бестию, обрядили в костюм пламбера, то бишь сантехника, и, дав гаечный ключ в руки, отсняли в живописных позах. Домохозяйки ощущали дрожь в коленях.) И завершилось, как завершилось: не поляки Лондон, а Лондон поляков быстро и технично перемолол.
А «комьютер» – это человек, работающий в Лондоне, но живущий за городом, а оттого мотающийся каждый день на электричке туда-обратно. Комьютера всегда легко вычислить по озабоченному виду, когда после шести вечера он бодрой рысью спешит в направлении вокзалов Кингз-Кросс, Чаринг-Кросс, Виктория, Ватерлоо, Паддингтон или Сент-Панкрас.
2014#Великобритания #Лондон Требуется собака-поводырь
Tags: Английский знак «&», называемый «амперсанд». – Вертикаль власти и горизонталь денег. – Пауки, силовики и что делать, когда кончится нефть.
Нация, уверенная, что весь мир играет в одинаковые с нею игры, рискует крупно продуть в 2050-х.
Я не пугаю. Я предупреждаю. Я только что вернулся из лондонской командировки. Командирован в этот раз я был на знаменитую Джермин-стрит, где обитают лучшие рубашечники Англии. И все эти Hilditch & Key, New & Lingwood – объясняли мне, как именно шьются идеальные рубашки. Я объяснениями был впечатлен.
У погружения в чужую жизнь есть и побочные эффекты. Главный состоял в том, что я понял цену собственным рубашкам – купленным, кстати, недешево. Цена их была такой, чтобы производить впечатление на тех, кто понятия не имеет о Джермин-стрит – и производить обратное впечатление на самой этой улице. А побочный касался моего информационного пространства. Дело в том, что про жизнь Англии я узнавал из местных газет. А российские новости – из Рунета. Монтаж получался, как у Траволты.
Англия: в Лондоне открыт памятник Нельсону Манделе – непримиримому борцу с апартеидом.
Россия: диакон Андрей Кураев заявил, что браки русских женщин с кавказцами являются геноцидом русского народа.
Англия: «сила ван дер Ваалса», позволяющая пауку удерживаться на вертикальной стене, может быть воспроизведена человеком при помощи карбоновых нанотрубок.
Россия: власти заявляют, что не позволят «человеку-пауку» Алену Роберу в Москве взобраться на небоскреб «Федерация».
Англия: Владимир Путин на обложке The Economist с тенью Сталина за спиной; фичер про то, как siloviki берут под контроль над промышленностью.
Россия: в связи с планами строительства небоскреба «Охта-центр» Петербург может быть исключен из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО…
То есть все то, что россиянам дома казалось нормальным (Россия для русских; нечего лазать по стенам; государство должно регулировать экономику; посреди плоско устроенного Петербурга надо воткнуть небоскреб) – при взгляде из Англии как минимум нуждалось в доказательствах. Ведь поколение, выросшее в России за последние 8 лет, вообще не представляет, что мир может держаться не только на вертикали власти и горизонтали денег. Не представляет, например, что еженедельно британский премьер ездит отчитываться перед оппозицией, причем ведь без мигалки ездит, то есть чисто конкретно как лох… А когда говоришь, что еще недавно в британское правительство входил слепой министр МВД Дэвид Бланкетт (ходил на работу с собачкой-поводырем), так и вовсе не верят. А когда продолжаешь, что его из министров поперли за то, что принял бесплатное членство в клубе для джентльменов, – так смеются в лицо. Нет, вы можете себе представить, чтобы нашего сняли за это?!
Зашоренность взгляда на мир лишает возможности замечать изменения в мире. А вот что пишет газета The Evening Standard 28 августа: «Согласно либерал-демократам, использование автомобилей с бензиновыми двигателями в Великобритании будет полностью запрещено к 2050 году, и это станет частью общеевропейского запрета… Лидер партии сэр Мензис Кэмпбелл заявил, что собирается сделать Великобританию «углеводородно нейтральной»…»
Нет, я понимаю, что либерал-демократы пока что не у власти. Но, смеха ради, представьте: а ну как правда – нефть и газ в Европе к 2050-му запретят? И что у нас тогда будет с «Газпромом»? С доходами от нефти-газа? Нам что тогда – на стену небоскреба лезть? В Неву с отражением небоскреба бросаться?
Русь, дай ответ!
Не дает ответа.
2007COMMENT
Русь ответа по-прежнему не дает.
2014#Великобритания #Лондон Борцы и джентльмены
Tags: Лев Толстой, непротивление злу насилием и современный ответ на возможное зло. – Может ли джентльмен носить белые носки вне теннисного корта? – Европейская парадигма для российского гражданина.
Недавно на дорогах Москвы со мной произошел случай, который вполне мог приключиться на дорогах и Питера, и Ярославля, и Ковыкты, и не только со мной, но и с вами, и вообще с кем угодно.
Мы ехали на машине приятеля в умеренно плотном потоке по Садовому кольцу, когда сзади обнаружилось авто из числа Больших Черных Машин – имя им легион. Машина металась из ряда в ряд, не показывая, разумеется, поворота, подрезая всех и всякого, и, пристроившись сзади, стала сигналить ксеноном фар (я так полагаю, что «мущщине» за рулем дико хотелось продемонстрировать, что у него не лампы накаливания, а именно дорогой, голубого спектра свечения ксенон).
– А вот хрен ему, – угрюмо сказал приятель, купивший иномарку гольф-класса в кредит.
– Да пропусти, – посоветовал я.
Большая Черная сзади сигналила в истерике.
– Свинья, – сказал приятель.
Свинья при этих словах метнулась вправо-вперед, а потом так же эпилептически дернулась влево в дырочку между нами и шедшей впереди машиной. Приятель двинул по тормозам, и, судя по визгу, то же проделало все Садовое за нами. А свинье хоть бы что: только вылетела пустая пластиковая бутылка из приоткрывшегося на секунду окна. Полетела хрюкать дальше.
В общем, крики приятеля про мочить в сортире, жарить на гриле и купить бейсбольную биту я опущу, потому как и сам к ним присоединился, за что теперь несколько стыдно. Но я давно искал повод рассказать совершенно другую историю, и вот этот повод нашелся.
История же такова.
Несколько лет назад, в Англии, до приезда в которую я был убежден, что это такая чопорная, замороженная условностями страна, у меня состоялся с одним английским господином разговор по поводу того, что такое есть джентльмен.
– Видите ли, Dmitri, – сказал мне мой vis-a-vis. – Gentleman – это тот, кто gentle born, то есть рожден в мягкости, в терпимости. Кто мягок по отношению к внешнему миру, кто принимает все его проявления.
– Хорошо, – гнул я заложенную в России и, как теперь понимаю, дурацкую линию, – а белые носки джентльмен носить может? С костюмом? Разве джентльмен не носит всегда только черные?
– Видите ли, Dmitri, – не моргнув глазом, продолжал собеседник, – костюм вообще ужасно формальная вещь, не обращайте на него внимания. Джентльмен носит носки того цвета, какого хочет. Черные носки носит шофер джентльмена.
– Отлично, – не унимался я, – а разве можно представить себе джентльмена в рваных носках?
– Если джентльмен, Dmitri, ходит в рваных носках, значит, у джентльмена сейчас трудный период. Но от этого он не перестает быть джентльменом.
Как видите, абсолютно не понимали мы друг друга: русским и внутри страны, и уж тем более за рубежом свойственны поиски каких-то внешних признаков, образующих решетку, за которую можно посадить любого человека, привинтив табличку и приклеив ярлык. Оттого-то мы столько внимания уделяем одежде, ксеноновым фарам или, допустим, швейцарским часам, которые всегда есть предмет страданий юного Вертера на должности менеджера среднего звена.
Мне же предлагали взглянуть на вид мироустройства, который не отделен от большого, живого мира даже стеклом.
Я вспоминаю тот разговор и пишу о нем с исключительно простой целью. Очень многие из людей, переживших большой и тяжелый переход от СССР к России, образовавших и образующих пресловутый средний класс, столкнулись с тем, что принадлежность к этому классу не дает ответа на вопрос о формуле и правилах поведения в своей собственной стране.
Ведь средний класс – это стратификация исключительно по имущественному признаку: квартира, машина, детишки в хорошей школе, утро на даче с зеленой лужайкой, йогурт с живыми бактериями, отдых у моря; средний класс – это классификация для маркетологов.
Но эта консьюмеристская картинка не отвечает на вопрос, как быть, если сосед, у которого все то же самое, что и у тебя, плюс собачка, опять не убирает говно своей собачки у твоего крыльца. Кто виноват – ясно. Но что делать? С чего начать? Ругаться? Убираться? Травануть тявкающую гадину ядом, подсыпав в педигрипал?
Как быть, если старший менеджер вдруг говорит, что в интересах службы отпуска отменяются или что в тех же интересах все скопом должны вступить в единую, справедливую, прекрасную, ужасную или какую-нибудь там еще Россию? Бороться ли против уплотнительной застройки вообще или только когда перекрывается вид на парк под окнами? Прокалывать ли шины мчащимися под теми же окнами в ночи стрит-рейсерами? Класть ли в багажник бейсбольную биту на предмет разговора о правилах хорошего тона за рулем?
Увы: последняя модель поведения в таких обстоятельствах, предназначавшаяся для российского образованного класса, называлась непротивлением злу насилием и была предложена более 100 лет назад Львом Толстым, и жалко, право, что ей мало кто последовал, когда дошло дело до строительства баррикад.
Так вот, у сегодняшнего успешного представителя среднего класса, обнаружившего вдруг, что материальные успехи ничуть не гарантируют ни спокойного сна, ни чистой совести, то есть у россиянина, видящего вокруг себя очень много грязи, хамства, циничнейшей лжи и прочего, чего вы знаете не хуже меня, есть вполне перспективная задача: быть европейцем в собственной стране и вести себя как европеец.
Говорю «европеец», а не, допустим, буддист (что тоже есть способ решения проблемы) только потому, что именно европейская цивилизация, с ее и материальным достатком, и терпимостью, и культурой была все-таки уделом мечтаний большинства русских образованных людей – почитайте хоть письма Пушкина к Вяземскому («Ты, который не на привязи, как ты можешь оставаться в России? …Когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры… то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство»).
Быть европейцем, или джентльменом, или подберите какой еще синоним – это значит быть открытым своей собственной стране, это значит сочувствовать происходящему (когда оно вызывает сочувствие), но не бороться с несправедливостью, пусть даже основанной на насилии, силовым путем. Это значит убирать дерьмо чужой собачки от собственного крыльца, это значит не переставать после уборки дерьма здороваться с соседом, это значит ездить в городе на малолитражной машине, это значит при перестроении показывать поворот, это значит бороться за каждое дерево в общественном сквере и не вступать туда, где думают лишь о карьере, а не о достоинстве человека. Это означает еще и равное отношение к окружающим, что, конечно, легко декларировать, но очень трудно воплощать на самом банальном бытовом уровне, когда дело доходит до таджикского гастарбайтера, московского мента или машины с ксеноном на дороге.
Стать европейцем в России – это значить стать по отношению к собственной стране немножечко иностранцем, в чем, право, нет ничего зазорного: «мыслящий тростник» Паскаля всегда ино-странен по отношению к окружающей его неживой природе. На то он и мыслящий.
Итак: быть терпимым, мягким, открытым, равным, но открытым к пониманию, при этом еще защищенным от действительности тактикой невмешательства – что может быть прекраснее в данный момент? Я уж молчу про осознании миссии и ответственности (о чем у людей, среди которых мы живем, не принято говорить вслух и, похоже, даже не принято думать), и про определенный труд души, который обычно связан с культурой и который дает наслаждение куда более острое и сильное, чем те материальные чувства, которыми довольствуется абориген.
Хотя нельзя не признать: те красивые, умные и, ведь самое главное, абсолютно правильные слова, которые я написал, во многом для нас, для нынешнего взрослого российского поколения обречены остаться словами. И я тут, увы, не исключение. Фигурально выражаясь, моя бейсбольная бита всегда в багажнике моего автомобили (а в реальности я и не покупаю ее потому, что боюсь однажды пустить в ход). Но есть новые поколения и есть растущие дети, которым до известного возраста свойственно слушать нас просто потому, что мы старше: и вот здесь-то и есть настоящее поле битвы, потому что мы обязаны их растить джентльменами. Дети имеют право быть gentle born.
А потом, став взрослыми, они скажут: привет, родители, мы понимаем, вы прошли перестройку, коррупцию, ментуру и ад на дорогах, но мы хотим жить по-другому, то есть без всего перечисленного. Гудбай, нам не нужны ваши банковские счета и квартиры.
И уйдут от нас. Но будут приходить в гости, потому что все-таки правильные слова мы им говорили, проповедуя мягкость.
Так что надежда есть, и правильные слова надо говорить, а биту не надо покупать.
Пару лет назад мой ребенок, тогда еще живущий вместе с нами вместе, смотрел программу, как сейчас помню, на НТВ про группу «Ласковый май» и возвращение Юры Шатунова. «Целлулоидный пупс», «сладенькая кукла» – твердил и твердил ведущий, на фоне старых шлягеров «Эта седая ночь, лишь тебе доверяю я» и, разумеется, «Белые розы». И тут ребенок, на дух не переносящий попсы, выключил телевизор, сказав:
– Зачем они над ним издеваются? Ведь про что он пел, это было так трогательно! Зачем над тем, что трогательно, смеяться?
Я же говорю: есть надежда.
2007COMMENT
Тот кусочек, где я передал разговор с британским джентльменом о белых и черных носках, мне до сих пор кажется самым важным изо всего, что я про Англию написал.
Кстати, звали этого джентльмена Сева Новгородцев.
(А тем, кто возопит, что ну какой же Сева британец, коль он русский еврей, – я замечу, что джентльмен всегда признает за другим джентльменом право самостоятельно определяться со своей национальной идентичностью.)
Когда в июле 2010-го в Петербурге Севе устроили чествование по поводу 70-летия, я, поднявшись на сцену и желая напомнить старый наш разговор, попросил юбиляра определение джентльмена.
– Ну, в общем, это тот, кто умеет играть на саксофоне, но никогда не будет этого делать, – ответил Сева.
2014#Великобритания #Лондон Понаехали тут
Tags: Скушать блинчик, запустив матюжком, на Трафальгарской площади. – Утвердиться в Лондоне над «чурками». – Жить в Англии, не зная английского.
В январе 2008-го в Лондоне прошла четвертая по счету «Русская зима». На Трафальгарской площади было людно, шумно, пьяно. В общем, так, как на любой российской площади во время любых праздничных мероприятий.
А ведь говорили мне перед поездкой мои информированные знакомые:
– Да, в Лондон на пару дней сгонять, конечно, приятно. Но какая в этом году, к черту, «Русская зима»? Колушев попал. Посмотри, что с Англией творится. Напрасный труд. Увидишь – никого у него в этом году не будет.
И другие знакомые загадывали, что «Колушев попал». И что я вместе с ним попал тоже.
– Ты хоть себе эту «Русскую зиму» представляешь? Надежда Бабкина, пара хоров, песня и пляска, Дима Билан и какая-нибудь «Фабрика звезд» номер сто. Славься, славься, Советский Союз.
– Еще будет Бартенев, – слабо отбивался я, – и Кинчев.
– Этих там только и не хватало! – взмахивали руками знакомые. – А группы «Лейся, песня», часом, не предполагается?
Я отводил взгляд. Там предполагалась группа «Земляне». А также «Фабрика звезд» и просто «Фабрика» с Сати Казановой. Но мне ужасно хотелось защитить Колушева. А вы бы что запустили в центр Лондона в качестве собирательного образа России? Предполагаю, что то самое – половецкие пляски, песни с посвистом, чуток попсы, немножко рока, конферанс от Comedy Club. Это и есть сегодня Россия в культурном пространстве, и по-другому ее не представить – если только не организовать сводный хор сотрудников ФСБ (всех вместе взятых) или не залить Трафальгарскую площадь нефтью. Потому что по-иному визуализировать предметы национальной гордости россиян, то есть престолонаследие и стабильность, не получится. Даже у Колушева. Особенно, когда в России закрывают Британский Совет и третируют британского посла.
Сергей Колушев, если кто не знает, – это наш человек, живущий в Лондоне. Он возглавляет фонд Eventica, проводящий «Русскую зиму» уже в четвертый раз, а также Российский экономический форум в Лондоне и кое-что еще по благотворительным мелочам. То есть внимание: лицом страны по имени Россия в Великобритании уже который год подряд занимается никакой не МИД, не администрация президента, не конгресс соотечественников или русских общин, а частное лицо. И поэтому лицо державы, который год поднимающейся (в собственных глазах) с колен, выглядит настолько ухоженным, насколько Колушев и Eventica соберут денег, чтобы устроить на площади праздник.
Денег, говорят знающие люди, в этом году удалось собрать немного. Колушев ведь не может, он не Росприроднадзор и не налоговая, напомнить бизнесу про социальную ответственность. А те, кто может напомнить, заняты ухудшением российско-британских отношений.
Бедный, как Йорик, Колушев.
Но я бы, конечно, соврал, что летел в Лондон из сочувствия. Я летел понять, зачем в эту недружественную официальной России страну едут и едут русские граждане? Зачем они едут туда, где разовый проезд на метро стоит, в пересчете, 200 рублей, а зарабатывать в час (после уплаты налогов) они будут примерно 250? Где цены на жилье такие, что в эмигрантской газете «Англия» в 24 частных объявлениях предлагают снять угол, в 180 – комнату, и лишь в 3 – отдельное жилье? Где без отличного языка нет шансов подняться по социальной лестнице? Где невкусно – и на ходу – столуются?
Кто эти русские люди, которых 4 года назад в одном только Лондоне было 200 тысяч человек, а теперь уже 250? И что значит для них оставшаяся на материке Россия?
* * *
Концерт начинался в полдень. На «Трафальгарке» принято устраивать массовые празднества – китайский Новый год, например, или гей-парад. Отсюда хороший вид вниз к Темзе, на псевдосредневековый Биг Бен.
Пока на сцене поют детишки из лондонских русских английских школ (родители, понятно, умиляются), я гуляю по площади. Здесь торгуют горячим вином – 175 рублей и, в ту же цену, пивом «Балтика» и пельменями числом 6 штук за порцию: плата за экзотику. Из русских в этот час – в основном брежневская эмиграция (диссидентура распознаваема по старомодным бородкам), но иностранцев – полно. Индусы в чалмах, мусульманки в хиджабах. Едят пельмени и blini. Покупают матрешки с лицом Путина. Спрашивают, что значат надписи на продающихся майках. Решительно невозможно объяснить им сакральный смысл фразы «Россия – сделано в СССР». Много британских ветеранов Второй мировой. Для них Колушев накрывает отдельный стол в соседнем «Хилтоне». Ветераны ухожены и благообразны. Я смотрю выступление бурятского ансамбля танца «Байкал» (выполняющего роль половецких плясунов, им много хлопают), Надежду Бабкину со «Славянами», но на Марке Тишмане из «Фабрики звезд» ломаюсь и убегаю глянуть на Учелло в National Gallery. Государственные музеи в Великобритании бесплатны, и можно позволить себе роскошь зайти ради одной картины. По пути я сталкиваюсь нос к носу с приехавшим мэром Кеном Ливингстоном. Приехал он, судя по всему, на метро. Он и на работу ездит на велике либо метро, поскольку в новом здании мэрии – «кривом яйце» по проекту Фостера – мест на стоянке специально практически нет. Кен агитирует за общественный транспорт личным примером. К нему подходят и просят сфотографироваться в обнимку. Кен не возражает. 250 тысяч русских – часть лондонской экономики. Точно так же он приезжает приветствовать и китайцев, и лесбиянок с геями. Everyone is a Londoner, «каждый – лондонец», как гласит надпись на одном из лондонских билбордов.
* * *
Когда я выхожу из музея, на площади что-то меняется. Выглядывает солнце, на сцене – шоу Бартенева «Аквааэробика», где затянутые в латекс фрики швыряют в публику резиновых крокодилов и пенопластовые гитары. Впрочем, я не про это.
– Ladies and gentlemen, – звучит со сцены, – you are really welcome for the fourth traditional Russian Winter festival!
– По-русски, мля, давай! – раздается в ответ из толпы.
Это уже не брежневская, это современная эмиграция, которая прибывает и прибывает. У мужиков в кожанах жесткий взгляд.
– Да **ал я работу пластера, – раздается рядом со мной, – пошли пивка *банем.
«Пластер» – штукатур. Здесь дорог ручной труд. Покрасить дверь – 5000 рублей. Правда, почти столько же придется отдать за комнату. Причем в неделю.
Когда раздается «Земля в иллюминаторе», публика начинает подпевать и кричать «Россия!». Появляются очереди за пивом, триколоры в руках, а матюжки крепчают. Я не придумываю – ведь в той многотысячной толпе не было петербуржцев (потому что они если и эмигрируют, то в Москву), и не было москвичей (им нет смысла эмигрировать). Там были Тамбов, Воркута, Челябинск, Хабаровск, там была «Россия минус 2 столицы», пришедшая под колонну Нельсона выпить пива, отвести душу. Там даже Диму Билана встречали, как мне показалось, не очень, – потому что он совершил грубый политический промах и пел по-английски.
– Че они, мля, бормочут? – нередко раздавалось рядом, когда со сцены говорили без перевода. Я не удивлялся: все та же газета «Англия», опросив своих читателей, узнала, что 10 % не говорят по-английски совсем, а еще 30 % говорят на «двойку» и «тройку».
– Россия! Россия! – бушевала толпа, особенно когда прозвучал гимн, а потом прогремела «Калинка», и над площадью при +10 пошел искусственный снег.
– Пусть чурки местные нос не задирают, – сказал рядом со мной угрюмый парняга. – Россия!!!
Я бы обманул, написав, что так говорили все на площади. Но многие, как говорится, сочувствовали. Я вспомнил, как в аэропорту Хитроу, в очереди на паспортный контроль кто-то буркнул: «А не пустите – мы вам газ перекроем!» – и все засмеялись. Все понимали так, что если Россия перекроет газ, то мир встанет на колени. То, что если она перекроет, то останется без денег, понимали, похоже, немногие. А может, большинство было согласно терпеть свое безденежье ради удовольствия поставить на колени другого.
* * *
Когда все окончилось и отпел свое Кинчев, Лондон продолжал говорить по-русски.
– Ой, как хорошо Костенька сказал, – «желаю вам любви в эти смутные времена!» Так любви в Лондоне так не хватает! – говорила одна женщина средних лет другой.
Я следовал за ними. Они вошли в дверь шалманчика Mr. Wu, где за 250 рублей можно набрать китайской еды до отвала. Все столики были заняты русскими, я сел вместе с женщинами, мы встретились взглядами, я кивнул:
– Как вам здесь?
– Нормально.
– Фунтов шесть в час?
– Почти. А на празднике побывала – и полегчало. Понимаете, англичане как-то без душевности живут.
– А с языком у вас как?
– Да мне уж поздно всерьез учиться. По-правде, не очень он здесь и нужен.
Я промолчал, потому что понимать душу другой нации без языка действительно трудно.
– А у вас там что как? Мне так Путин нравится! Порядок навел. Наконец-то мы перестали на весь мир унижаться, а то стыдно было смотреть.
– У нас Британский Совет закрывают.
– Говорят, там шпионов много.
Я снова промолчал. Вряд ли женщина узнала о шпионах через программы BBC или Sky News. Из них она бы, скорее, узнала, что Британский Совет за всю историю существования закрывался, коли не путаю, лишь в Иране и Мьянме. Она, вероятнее, смотрела «Первый», «Россию» и НТВ по рекламирующейся среди эмигрантов приставке Simply TV. Праздник русской зимы заканчивался, перетекая в эмигрантские будни.
* * *
Не желающие изучать местный язык и следовать местным обычаям иностранцы, не желающие также и возвращаться на Родину – явление, с которым давно столкнулись многие страны мира, причем Великобритания и Франция столкнулись трагически.
В России такие общины наблюдаются среди гастарбайтеров, но обособленность русских общин за рубежом – явление довольно новое. К чему приведет нежелание иностранцев ассимилироваться в России и русских за границей – вопрос открытый.
Это не означает, что Сергею Колушеву следует оставлять свои старания по проведению в Лондоне «Русской зимы».
В конце концов, в этом году там видели Наталью Водянову, Василия Ланового, Алексея Смертина, Вячеслава Никонова.
Говорят, видели и дочку министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вполне может быть.
Пока отец ведет битву с Великобританией, она получает образование в Лондонской школе экономики.
2008COMMENT
C тех пор многое изменилось. Кена Ливингстона на посту мэра сменил Борис (с ударением на «о») Джонсон. Бедный Колушев, причастный к проведению в Лондоне не только «Русской зимы», но и Российского экономического форума, пробовал было перенести этот форум в Дубаи, но люди посильнее его перенесли форум в Петербург, где участники форума от всякого простого люда отгорожены в три кордона: когда я однажды на роликах мчался мимо ресторана, где участники форума откушивали, меня тут же скрутили менты (которых в 2011-м переименовали в полицаев). Про «Русскую зиму» на Трафальгарской площади после 2008-го, кстати, больше не слышно.
А с другой стороны, ничего не изменилось, потому как и богатому русскому бизнесмену, и бедному русскому штукатуру в Лондоне по-прежнему жить как-то спокойнее, чем в России. А в России Британскому Совету работать по-прежнему запрещено.
И вот это, кажется, и называется стабильностью.
2014#Великобритания #Лондон#Саррей Новые сказки про Романа Абрамовича
Tags: Роман Абрамович и принц Чарльз. – Роман Абрамович и Кен Бейтс. – Роман Абрамович и Борис Абрамович. – Роман Абрамович и Ширли Бэсси. – Роман Абрамович и все-все-все.
Старые – российские – сказки про Романа Абрамовича известны всем. Например, сказка про то, как Абрамович верил в семейные ценности, потому что точно знал, сколько их и на каких счетах лежат. Бывало, приедет к дедушке в Барвиху, привезет немного семейных ценностей…
Однако с тех пор, как губернатор Чукотки купил «Челси», взвинтил цены на футбольном трансфертном рынке и стал самым богатым человеком Великобритании, новые сказки придумала жизнь. А как не придумать, если Абрамович изменил и английскую жизнь, и английский язык? Футбольный клуб Chelsea все на Альбионе зовут на русский манер Chelski, владения Романа – Roman Empire (романская, то есть римская, империя), и даже личный авиапарк Абрамовича получил имя Chelski Air.
Так что вот вам рассказ о сказочной жизни ухтинского сироты в Соединенном Королевстве.
СКАЗКА 1. ПРО ТО, КАК РОМАН АБРАМОВИЧ ВХОДИЛ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО, А ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ – В БОГАТОЕ
Однажды брал Роман Абрамович у себя в Сассексе уроки игры в поло, припарковав вертолет сбоку поляны.
Со стороны кажется, что играть в поло сложно: вроде и на лошади надо сидеть, и мячик по полю гонять.
Однако для тех, кто сидел на трубе, самая норовистая лошадка – просто тьфу, а что до мяча на поле, то это даже как-то смешно, этим премудростям Абрамовича еще в 2003-м Раньери научил.
И вот на притоптанной британской лужайке брал Абрамович уроки, пребывая в нерешительности: отдавать их или нет? С одной стороны – отдавать, по привычке, не хочется. А с другой, поло – игра аристократическая, Бог его знает, как у них, аристократов, принято, к тому же и «сэр Роман» звучит приятно, интеллигентно, как будто Лондиниум находился еще под стылым игом Римской, то бишь романской, империи.
В общем, мучился душевно человек.
А в это время далеко-далеко от Сассекса, в английской дыре под названием Хайгроув, страдал наследник британской короны принц Чарльз. Ну ладно, вся эта история с леди Ди и с нынешней подругой Камиллой. Газетчики – гады. А то ведь еще вечная бедность. Весь годовой доход – 10 миллионов фунтов. А ведь детишек вырастить надо? Надо. Камилле колечко, сережки на 8 Марта подарить надо? А то! К тому ж поборы на благотворительность замучили: «ноблес оближ» и все такое. Вот, к примеру, надо в Мидхерст на благотворительный матч в поло ехать, пилить 97 миль, на такси одних расходов сколько! А на электричке нельзя: охрана запрещает. «Хорошо, – думает принц, – быть Абрамовичем: у него одних ликвидов на 7,5 миллиарда… Может, дать ему титул сэра Романа?».
А Абрамович в это время тоже мучился, потому что был тонким, впечатлительным человеком, и не мог перенести, что где-то в английской дыре мучается другой тонкий, впечатлительный человек.
– Нешто, – думал Абрамович, – у меня убудет, если я помогу свести концы с концами местному принцу?
– Набери-ка, брат, – крикнул оказавшемуся под рукой главе «Сибнефти» Швидлеру, – мне телефон этого высочества, скажи, типа, что если на благотворительность че надо – бери все, хоть вот яхту… нет, не яхту, у меня их всего три осталось… бери вот хоть этот вертолет!.. Ну, типа, на время там, слетать детишкам-астматикам помочь!
И принц Чарльз в это время тоже говорил помощнику:
– Вы б, голубчик, позвонили нашему русско-британскому мешк… то есть другу, и как-нибудь так поделикатнее выяснили, не завалялось ли у него какого, скажем, транспортного средства на поездку, чтобы сэкономить денег для несчастных детишек…
Поняли друг друга два одиночества.
И принц Чарльз на самом деле летал в мае 2004 года на вертолете Романа Абрамовича из Хайгроува в Мидхерст на благотворительный матч в поло, хотя лично с Романом Аркадьевичем до этого знаком не был. Но это теперь не за горами.
Ведь все в итоге остались довольны: и Роман, и Чарльз, и даже пресс-секретарь Чарльза Харверсон, который заявил, что «принц принимает транспортные услуги либо от близких друзей, либо когда это в интересах благотворительности».
А больше всех был доволен греческий миллионер Джон Латсис, чью яхту доселе любил использовать на каникулах принц Чарльз с компанией, причем скромные расходы в полмиллиона фунтов на горючку, паруса и выпивку, будучи близким другом, возмещать не предлагал: боялся обидеть.
Хотя, нет: больше всех был доволен все же Роман.
Ему слова про «близких друзей» как-то сразу очень понравились.
И теперь он думает, не купить ли одним пакетом для «Челси» и фронтмена Шевченко, и пресс-секретаря Харверсона – для объяснения смысла покупки.
СКАЗКА 2. ПРО ТО, КАК РОМАН АБРАМОВИЧ ХОДИЛ В УНИВЕРСИТЕТ
У Романа Абрамовича, как известно, не было образования. Так, тусовал по молодости с другом Швидлером в буфете московского института нефти и газа имени Губкина, то бишь «губки». Будучи мужчиной душевно ранимым, Абрамович сначала от недообразованности страдал, но потом обвыкся и даже развил на этот счет теорию.
Бывало, гуляет под ручку с Березовским по Рассел-сквер и говорит:
– Вот вы, Борис Абрамович, извиняюсь, хоть и академик, но в списке самых богатых англичан на каком месте? На 14-м. У Ходорковского красный диплом на лбу написан, по списку «Форбс» в России он меня обскакал, однако что же? Сидит. А я вот и с вами под ручку гуляю, и с Путиным, и первый парень в каждом виллидже.
А Березовский мелко-мелко так рядышком семенит и причмокивает:
– Я, Роман Аркадьевич, с вами не спорю, однако ж образование и умение делать деньги – дефиниции различные. Поверьте, милый, образование необходимо не чтобы зарабатывать, а чтобы получать от жизни удовольствие… Вот скажите, голубчик, где мы сейчас находимся?
Абрамович аж остолбенел:
– Так в Лондоне ж.
А Березовский ему:
– Мы, голубчик, в особом районе Лондона – Блумсбери. Вон, гляньте, Британский музей квартал занимает, там украденные англичанами фризы Парфенона – греки до сих пор судятся. А сбоку – Сенат-Хаус, там университет Лондона. Вам бы, душа моя, университет не повредил, – чмокнул губками на прощанье и юркнул в бронированный «майбах».
«Вот голова, – подумал восхищенно Абрамович, уважавший Березовского с тех пор, как тот помог ему выпутаться из глупой истории, когда он еще в мальчиках вывез 55 вагонов мазута с Ухтинского НПЗ, а заплатить по рассеянности забыл. – Не гонит ведь в музей, понимает: куплю – греки не отстанут. Они вон Гусинского как простого цыпленского в кутузку засунули».
И пошел Роман Абрамович другим путем в лондонский университет.
Там же окружили его босоногою стайкой студенты Имперского и Королевского колледжей.
– Роман, – кричат наперебой, – помоги! Ужас как любим футбол, а университетские поля у нас черт-те где: за Лондоном, в Кобхеме, это графство Саррей, электричкой не доехать!
Они прослышали, что Абрамович транспортными средствами разбрасывается и, понятно, подумали – может, обломится.
– Да нечто ж я студентам не помогу? – просветлел суровым лицом Абрамович. – Больше не будете мучиться, бойз!
И купил у колледжей футбольные поля для тренировочных нужд «Челси». Все 20 гектаров за 2 миллиона долларов.
С тех пор, прогуливаясь с Березовским мимо Эмпайр-колледж и Кингз-колледж, Абрамович небрежно бросает:
– Мои университеты.
СКАЗКА 3. ПРО ТО, КАК АБРАМОВИЧ НАУЧИЛСЯ МОЛЧАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ
В Англии Роману Абрамовичу тяжело давался английский язык. Ему, если честно, и русский плохо давался, отчего он по большей части молчал.
С людьми у него проще получалось.
У тех, кто с ним по жизни сталкивался, особого выбора не было: либо даваться диву, либо – Абрамовичу. И те, кто посмышленее, быстренько принимали правильное решение.
Так вот, сидел как-то Роман Абрамович на стадиончике «Уайт Харт Лейн» на выездной игре «Челси» против «Тотенхема» и размышлял печально:
– Нет, русский и англичанин друг друга никогда не поймут. Вот по-английски «Роман» значит «римлянин», оттого я здесь в римских императорах. А по-русски «Роман» значит «литературное произведение», и в России я персонаж гадких сказок… Или вот еще: англичанин пишет «Тотенхем», а читает «Тотнем». У нас разве «Торпедо» прочитать как «Тпедо» возможно?!
Тут Абрамович вспомнил, как «Торпедо» пытался купить его милый друг Саша Мамут, и римский профиль исказило гримасой. Потому что старый пень Алешин загнул такую цену, что и казны Римской империи не хватило бы. А ведь как складывалось замечательно! Уже в капитаны «Торпедо» полузащитника Смертина из «Бордо» выписали, а тут такой облом… А еще Абрамович вспомнил, как купил у «Бордо» Смертина за 5 миллионов у.е. в виде подарка Мамуту, чтоб не расстраивался – и заскрипел зубами снова.
А в это время внизу, под трибунами, метался буревестником главный тренер Tottenham Дэвид Плит.
– Челски – команда иммигрантов! Там лишь Терри и Лэмперт из наших, из русачк… тьфу, из англосаксов! У них даже тренер Раньери – итальянец! Цыган без корней! И это глубоко аморально!
– Вот ведь, f*cking b*stard! – подумал в ответ Абрамович интеллигентно, так что непонятно было, к кому относилось замечание – к Плиту или к самому Абрамовичу. И тут же поймал себя на мысли, что прекрасно понимает Плита. С Абрамовичем и раньше случалось, что он чудесным образом обходился без толмача: когда, например, он расплачивался платиновой VISA (сделанной, шутки ради, из чистой платины, безо всяких микрочипов или магнитных полос) или когда читал интервью тренера «Челси» Раньери, называвшего Абрамовича земляным червяком, ни фига не смыслящим в футболе. Но тут впервые Абрамович по-английски сформулировал ответ.
И самое удивительное, что Плит Абрамовича понял, осекся и быстренько двинул в сторону раздевалки. Хотя Абрамович, будучи человеком робким, ничего не произнес, а только меж глаз Плиту посмотрел молчаливо.
С тех пор Абрамович прекрасно молчит по-английски, а Плит следит, чтобы его команда ни-ни, выше десятой строчки премьер-лиги на всякий случай не поднималась.
Да, а Раньери Абрамович уволил, поскольку подумал, что насчет избытка иностранцев в «Челси» Плит, пожалуй, был прав.
А чтобы местная пресса не поднимала гвалт о расизме, на его место взял другого итальянца – Моуриньу.
Тем более что тот о земляных червяках – ни-ни.
СКАЗКА 4. ПРО ТО, КАК РОМАН АБРАМОВИЧ ВОШЕЛ В ПОГОВОРКУ
С тех пор, как Роман Абрамович перебрался в Англию со всем своим нехитрым скарбом («бентли» красный – один, «роллс-ройс Серебряное Облако» – один, «майбах» по спецзаказу – один, вертолет «дофин» – два, самолет «боинг-737» – один, самолет «боинг-767» – один, яхты в ассортименте – три) местные мамаши стал говорить своим дочерям накануне их жалких свадеб:
– Лучше бы ты вышла замуж за сироту.
СКАЗКА 5. ПРО ТО, КАК РОМАН АБРАМОВИЧ СТАЛ НЕСМЕЛЫМ МОРЯКОМ
Роман Абрамович рос сиротой в суровых условиях советской северной нефтяной трубы. Был он мальчиком худеньким, робким, еврейским, и к тому же от смущения плохо говорившим по-русски.
Даже трехкомнатная квартира ухтинского дяди-нефтяника его подавляла, хотя находилась в самом обычном поганом панельном доме.
Все подобные мальчики мечтали быть отважными летчиками и смелыми моряками, но Абрамович был настолько робок, что решался только на половину мечты, то есть на моряка. Вот, бывало, разметается под байковой одеялкой и грезит: выходит он в море… и мачта гнется и скрипит… или даже две мачты.
Став взрослым британским миллиардером, Абрамович поверил в мечту, что был с его стороны подвиг, ибо до этого он никому и ни во что не верил.
А поскольку Абрамович плохо знал, в каком отделе универмага «Хэрродз» яхты продают, то поутру как-то сказал верному Швидлеру, отводя по привычке глаза:
– Ты эт… брат… того… ну, типа, яхту…
И сунул любимую, чисто платиновую, «визу» в потную швидлерову ладошку, закрыв в предвкушении глаза. А когда через полгода открыл, то вместе со ртом. Швидлер, хлопотун эдакий, выторговал у Пола Аллена из «Майкрософта» по случаю за 110 миллионов американских у.е. яхточку «Ле Гран Бле» – с вертолетной площадкой, бассейном и прочим фаршем на скромном протяжении 108 метров. Господи, подумал Абрамович, вот ведь страхолюдина! Не то утюг, не то пароварка! Паруса-то где? Да если на ней мачта и погнется, то от удара крылатой ракетой!
– Ты… эта… типа… не такую, – сказал тихо и вежливо Абрамович Швидлеру, поскольку успел перенять у Березовского хорошие манеры, тем более что заказное убийство Швидлера в центре Лондона обошлось бы недешево.
И Швидлер ускакал молодой лошадкой исправлять допущенную ошибку. И прискакал уже на борту яхты «Пелорус» длиной 115 метров, меж двух вертолетных площадок и одной маленькой подводной лодки, размахивая слипом на 130 миллионов у.е. и радостно крича:
– Роман Аркадьич! Как ты просил – есть все, включая противоракетную оборону!
«Нет, замочить в сортире было бы разумнее, – подумал расстроенно Абрамович словами одного знакомого чиновника. – А с названием он что – издевается? Намекает, что мы с моим знакомым чиновником так и не приватизировали толком Лукашенко?! Где, блин, алые паруса детской мечты?!»
И не испепелил Швидлера взглядом только потому, что, несмотря на старания Березовского, так и не научился смотреть людям в глаза.
И тогда в третий раз ускакал Швидлер – уже за яхтой «Экстаси». Понял человек, чего от него хотят. Длина будет поменьше – всего 86 метров, и вертолетную площадку, чтоб глаза не мозолила, спрячут в ангар под палубу, как у Джеймса Бонда.
Но пока алые паруса не взвились над речкою Темзой, жизнь Швидлера в Лондоне – под вопросом.
СКАЗКА 6. ПРО ТО, КАК РОМАН АБРАМОВИЧ НАУЧИЛСЯ СКРОМНОСТИ
Однажды пошел с утра Роман Абрамович на рынок. Ну, там, по мелочи чего прикупить: нападающего Креспо немножко, защитника Бриджа или, на худой конец, второй красный «бентли», хотя последний можно и на сдачу.
Беспокоило его, что газетчики в ногах так и шныряли, лишая радости тихой прогулки среди чистых, опрятных торговых рядов. Вот, скажем, не успеет прикупить квартирку на Ютон-сквер, пригласить тренера английской сборной Свена-Горана Эрикссона новоселье чайком обмыть, как тут же – нате: фотка в газете. Или про перекрашенный за каких-то пол-лимона гринбаксов в приятный желтый цвет «боинг» тоже все, кому не лень, треплются.
Даже Березовский на лету бросил однажды:
– Что у вас, Роман Аркадьевич, такая тяга к ярким цветам? Кризис, поди, среднего возраста! О здоровье подумали б! – и умчался на черном «майбахе».
«А ведь прав Березовский, – подумал Абрамович на рынке, – чего это я?»
И не купил ни новый бассейн, ни самолет, ни подлодку, ни человечков для команды, ни депутата парламента, ни крайнесеверную республику, а всего лишь за 99 английских фунтов скромные пластмассовые часы Polar M61 со встроенным кардиомонитором: считать калории, показывать сердцебиение и всякое такое медицинское прочее.
И разочарованные газетчики, лишенные материала, написали, что Абрамович теперь держит руку на пульсе.
СКАЗКА 7. ПРО ТО, КАК РОМАН АБРАМОВИЧ СТАЛ ОТВАЖНЫМ ЛЕТЧИКОМ
Однажды Роман Абрамович решил навестить Кена Бейтса, у которого он в свое время купил за 200 миллионов у.е. футбольный клуб «Челси» вместе с долгами. Поскольку долгов оказалось немножечко больше, чем обещалось, Бейтсу пришлось переехать из столичного Лондона в европейскую глушь, провинциальное княжество Монако. Тем более что глушь давала освобождение от налогов, чем многие бедолаги и пользовались.
И вот Абрамович собирался к Бейтсу поговорить как мужчина с мужчиной, а заодно на кривой козе к вопросу о налогах подъехать. Но поскольку ни одной козы у Абрамовича в Файнинг Хилл не водилось, пришлось добираться в Монако на чем бог послал – на утлом челне «Ле Гран Бле», который как-то прикупил ему по случаю верный Швидлер.
Было это ужас как неудобно: в гавань Монте-Карло утлый челн никак не заходил, высовывая наружу то нос, то корму, и преграждая дорогу другим челнам, менее утлым. А когда с пятой попытки припарковались, со склона монте-карлоского холма донеслись хриплые женские вопли:
– Shit! Эта уродливая и отвратительная посудина перепортила мне вид с балкона!
Роман Абрамович благодаря усилиям Березовского и парочки знакомых президентов уже успел получить поверхностное образование. Он сразу понял, что орущая отвратительная старуха никто иная, как певица Ширли Бэсси, исполнительница любимой песенки Джеймса Бонда Diamonds Are Forever, а также любимой песенки Романа Абрамовича Hey Big Spender, то есть «Привет, большой транжира!», которую он даже одно время хотел сделать гимном, но так и не решил, чего – клуба «Челси», Чукотки или Лондона.
– Нехорошо-то как получилось, – подумал про себя Абрамович, как он думал всегда, когда получал сообщение о гибели кого-то из конкурентов от случайной, нелепой пули, – женщину обидел. Которая поет.
И кликнул верного Швидлера, который все правильно понял, и тут же, один за другим, прикупил Абрамовичу пару вертолетов и столько же «боингов» в качестве альтернативных козе средств передвижения.
Потому что у Ширли Бэсси вида на взлетно-посадочные полосы ни с одного балкона точно не было.
СКАЗКА 8. ПРО ТО, КАК АБРАМОВИЧ СТАЛ РЫЦАРЕМ ПЕЧАЛЬНОГО ОБРАЗА
Роман Абрамович очень страдал оттого, что жизнь на чужбине отличалась от той, к какой он привык на Чукотке. Вот, бывало, поведет по Стамфорд-Бридж игроков клуба «Челси» под горн и барабан, а рядом бегут мальчишки босоногою стайкой, обутой в дорогие кроссовки, и кричат:
– Blues! Blues! Blues!
Абрамович, лично отбивавший палочками «калинку-малинку», поначалу недоумевал: какой еще блюз? Но потом ему объяснили, что на местном варварском языке «blues» значит «голубые». Абрамович, понятно, расстроился: он ведь был не по этой части, а по семейным ценностям. А тут еще заказанная сгоряча яхта – мало то, что без парусов, да еще и называется Le Grand Blue, то есть «Большая Голубая», это уж Абрамович самостоятельно со словарем перевел. То есть сплошной Содом какой-то! Родина, прости, Господи, Оскара Уайльда. Тьфу! С расстройства взял Абрамович второй попавшийся из своих вертолетов (первым попавшимся в этот момент пользовался принц Чарльз) и полетел к Березовскому советоваться. А Березовский, хлопотун эдакий, по телефону дает указания, как демонстрацию в защиту Ходорковского проводить, рукой поглаживает мраморные плечи красавицы-жены Елены, глазом косит в телевизор с прямой трансляцией из Кремля, а уж Абрамовичу уделяет, что остается. И присюсюкивает:
– Понимаете, милейший Роман Аркадьевич, проблемы ваши от недостаточной, гм-гм, образованности. Голубыми вас зовут из-за цвета формы, а слово это в английском имеет значение «печальный, грустный». И яхту свою вы переводили с английского, а надо было – с французского: го-лу-ба-я без-дна.
– За 110 лимонов гринбаксов – и без дна?! – стиснул Абрамович в гневе обагренные нефтью барабанные палочки.
– Фильм надо было одноименный смотреть, – сложил губки бантиком Березовский, – про красоту глубоководного погружения!
«Ну и ну, – протянул про себя Абрамович, – вот что значит академическое образование!» И в блокнотике пометил: «Швидл. заказ. след. яхт. с подлодк. на борт.». Что его сразу развеселило.
– А как, Борис, по-английски будет «веселый»?
– А вот «веселый», Роман Аркадьевич, по-английски будет «гей», – оборвал панибратство академик, нарисовал в воздухе привет, чмокнул прощально бронированной дверцею любимого «майбаха» и, взвив пыль Сассекса, отбыл в сторону Ноттинг-Хилла, где лепилось к краю парка российское посольство: требовать освобождения Ходорковского из тюрьмы.
«Да, расходятся наши пути», – подумал Абрамович, все еще сжимая в руках барабанные палочки.
Но с тех пор, чтобы про него лишнего по-английски не сказали, на публике веселым не появляется.
СКАЗКА 9. ПРО ТО, КАК РОМАН АБРАМОВИЧ ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ ЗАПЛАКАЛ
Поскольку Роман Абрамович рос худеньким, испуганным, интеллигентным и к тому же еврейским мальчиком, в детстве его часто колотили пацаны. Но он не плакал – ни когда его били в Ухте, ни позже в Подмосковье, ни когда в Советской Армии на инициации в черпаки вбивали в тощие ягодицы изображение революционной символики посредством бляхи ремня. Но вот когда «Челси» проиграл «Монако», тут Абрамович дал слабину. Сначала потащил тренера Раньери на борт «Ле Гран Бле»:
– Летс хэв э дринг энд ток лайк мэн ту мэн.
Но тот сделал вид, что акцент не разобрал и потихонечку смылся.
Потом Абрамович решил позвать на борт давно ненавистной «Ле Гран Бле» всю команду, открыть кингстоны и утопить в волнах трансфертного рынка, который и так не на шутку разбушевался. Но команда тоже была не лыком шита и хлипкому борту «Ле Гран Бле» предпочла надежный отель «Ле Порт Палас». Тогда хватанул Абрамович вместе с Швидлером двойного чаю с мятой и поехал на берег.
Очевидцы потом утверждали, что сидел Абрамович вместе с защитником Марселем Дезайи, обнявшись, пел тихо из русского народного, и говорил:
– Ну типа, че ж вы… зверушки… зверьки…
Кормил Дезайи орешками, чесал за ушком, блестел глазами, и в словах песни можно было разобрать:
– Кап-кап-кап… из ясных глаз… Ромуси… капают слезы… на «Гран Бле»…
СКАЗКА 10. ПРО ТО, КАК РОМАН АБРАМОВИЧ В ИГРУШКИ ИГРАЛ
Роман Абрамович вел в Лондоне скромную, тихую жизнь – если, конечно, на трансфертный рынок не ходил. А вернется с рынка – тихо-тихо в раздевалке «Челси» сядет, ладошки на коленки положит и смотрит задумчиво в пространство. Защитника Селестино Бабаяро это ужасно забавляло, и он газетчикам трепался:
– Ну уж такой сидит робкий, такой робкий… Если не знаешь кто, то подумаешь – уборщик…
А Романа Абрамовича Селестино Бабаяро тоже очень забавлял, и он так посматривал на него в раздевалке и думал:
– Надо ж, по-людски лопочет, зверушка афроамериканская… И ведь тоже, поди, что-то такое про себя соображает, по полю бегает, ножками шевелит: Раньери выдрессировал… Надо будет в следующий раз сахару или орешков с собой взять…
Верного Швидлера поведение Абрамовича восхищало: он-то предлагал Бабаяро продать либо в Северную Корею, играть против сборной местного КГБ, либо в Ботсвану, славящуюся на всю Африку отличной кухней из подручного материала. А того не понимал, что Роман Абрамович был в душе большим ребенком, по причине сиротства не наигравшимся в детстве. Он в России в монополию долго играл – но там много мальчишек злых было, локтями толкались. Потом с чукчами и оленями возился, страх как любопытно было – но там его холод доставал и Степашин со своей Счетной палатой. А здесь – страна с мягким климатом, язык непонятный, смешной…
Вот отсыплет Абрамович из коробочки человечков одиннадцать, выпустит попастись на зеленое поле, а сам сядет наверху, позовет таких же тихих, спокойных мальчиков, каких-нибудь Ротшильдов, или президента Исландии, улыбнется так робко-робко:
– А может, в ладушки поиграем?
И сидят они наверху, в ладушки играют, Швидлер суши из «Убона» или из «Нобу» тащит, внизу зверушки кренделя ногами выписывают, наверху настоящий принц на вертолете летает – ну, разве что для счастья «Калинку-малинку» спеть! И поют они всем стадионом «Калинку-малинку».
И радость такая в детской душе, что не передать.
СКАЗКА 11. ПРО ТО, КАК РОМАН АБРАМОВИЧ РАНЬЕРИ УВОЛИЛ
Главный тренер клуба «Челси» Раньери не страдал нескупостью в желаньях. Еще в 2000-м заявил: либо за три года «Челси» выиграет премьер-лигу, либо сам он станет фактом истории. Поэтому, когда в клубе Абрамович уже был, а чемпионом клуб еще не был, Раньери стал суетиться, обзываться, а потом каяться и просить прощения. И однажды, теплым лондонским майским вечерком, дабы загладить вину, пригласил Раньери Абрамовича в сильно уважавшийся тем ресторанчик «Убон» на Канарской верфи повалять во рту суши.
И вот сидят и валяют, причем Абрамович, по всегдашней привычке, смотрит в сторону и печально так, грустно молчит о своем, миллиардерском, чего простому миллионеру Раньери никак не понять. Но Раньери не выдерживает и говорит:
– Вчера была прекрасная погода, не так ли?
Абрамович молчит и не отвечает, только жует копченого тунца в окружении риса и водорослей. Раньери между тем продолжает:
– И сегодня прекрасная погода, не так ли?
Абрамович молчит и снова жует: на этот раз морскую каракатицу. А Раньери, прямо как какой хлопотун Березовский, и не думает остановиться:
– И завтра тоже будет прекрасная погода!
Тут, понятно, Роман Абрамович не выдерживает и с печалью так замечает:
– Заметь, мужик, тебя за язык никто не тянул. Ну, типа, ноубоди дид пул ер тан аут.
Раньери при слове «аут» опомнился, поперхнулся, но было поздно. После дождичка утром 31 мая 2004 года не стало такого тренера.
А те суши, что поперхнувшийся Раньери не доел, Абрамович попросил с собой завернуть.
Не пропадать же добру.
СКАЗКА 12. ПРО ТО, КАК АБРАМОВИЧ РАЗВЕЛСЯ
Однажды у Романа Абрамовича случился кризис семейных ценностей. Он и раньше-то верил в них наполовину, потому что ровно половину за управление ценностями ему когда-то обещал дедушка, стоявший во главе семьи.
Со временем семейные миллионы стали миллиардами, которые Абрамович, если честно, считал своими, тем более что глубоко погрязший в Барвихе дедушка про обещание не напоминал. Так что Роман Абрамович ужасно расстроился, когда ему позвонил один знакомый чиновник, с которым он когда-то удачно помочился в сортире, и на правах дедушкиного наследника попросил 50 процентов ценностей. Прозрачно намекая, что в противном случае можно прогубернаторствовать на Чукотке до смерти, которая, напротив, может случиться досрочно, после чаю с полонием.
И тогда с горя поехал Абрамович в графство Саррей к Березовскому, с которым всегда советовался в тяжелых жизненных ситуациях, таких как необходимость предъявить диплом, сходить в музей или прикупить футбольный клуб. Тем более, Березовский имел на чиновника зуб, поскольку когда-то выстрогал его из подручного материала в качестве наследника одной суверенной демократии, а тот отказался признать в нем папу Карло и отдать золотой ключик (кстати, все от тех же семейных ценностей, чему Абрамович был втайне рад).
– Милый мой Роман Аркадьевич, – отозвался Березовский, оглаживавший даже при живой жене красотку-модель и одновременно шипя в телефонную трубку: «Так что тебе сказал Миша, Бадри?» – супруга ваша, извиняюсь, стюардессой работала?
– Стюардессой… Как и у этого… Ну, понимаете…
– А отката с вас, Роман Аркадьич, этот наш общий знакомый требует половину?
– Половину.
– А какую, позвольте, узнать, половину?
– Да уж не худшую.
– Так и отдайте свою лучшую! – вскричал Березовский и чмокнул фотомодель в плечико.
«Ну, голова! – в который раз восхитился Березовским Абрамович, вспомнивший, что его знакомый чиновник не хотел на третий срок идти, потому что на службе Отечеству ему было не развестись со своей половиной, тоже ведь в девичестве стюардессой. – Со стюардессы на стюардессу ему перейти попривычнее будет, тем более что моя Ирина не в пример гламурнее. Деток пять штук, опять же: будет из кого преемника назначить. А уж при разводе имущество поделю не 50:50, а как-нибудь позаковыристей…» – тут же стал в уме всяких заковыристых адвокатов перебирать, пока его не прервал Березовский:
– Времени нет, Бадри ждет, судьба Грузии в опасности! Оставляю милую девушку вам на попечение. Не знакомы, кстати? Даша Жукова!
…Вот так и случилось, что Роман Абрамович расстался с лучшей половиной.
И ведь главное, что семейные ценности от этого не пострадали!
СКАЗКА 13. ПРО ТО, КАК РОМАН АБРАМОВИЧ ИСПЫТАЛ СЕРЬЕЗНОЕ ЧУВСТВО
Когда Роман Абрамович приходил на трансфертный рынок, все думали, что он всерьез миллионы платить будет. А он на самом деле ходил смотреть на людскую натуру. Вот идет по рынку с утра с корзинкой между выставленной натуры и думает:
– Ведь спозаранок стоят, цуцики, покупателя ждут… Дрожат, бедные, по худой английской погоде, в одних трусиках…
Абрамович знал, что стоит ему руку к кому протянуть – того тут же переименовывают на русский манер и нагоняют цену. Подойдет к Рональдо – тот сразу же станет Рональдски, гордо голову откинет, вымолвит:
– Не продаюсь! Я с «Реалом» навек! – а сам глазки строит и на пальцах показывает: типа, 40 лимонов – и твой.
Или Рональдински плакат на грудь повесит: «Можешь видеть, но не можешь потрогать!» – а сам мускулистым бедром так и виляет, так и виляет.
На самом деле, Абрамович испытывал сильное мужское чувство только к Бэкхему. И фотку его из газеты вырезал и в бумажник засунул, и тайком от жены Ирины в Национальную портретную галерею бегал на видеоинсталляцию «Давид» поглядеть: ту, где Бекски три часа подряд спит. И уж верный Швидлер предлагал Бэкхема прикупить по цене средних размеров «боинга», и уж толерантный хлопотун Березовский раза два многозначительно сказанул: «Вы бы уж, Роман Аркадьевич, позволили себе и успокоились»…
И уж сам Бекски Абрамовичу несколько эсэмэсок присылал…
Но Абрамович страдал, а Бекхэма не покупал. И пел, мешая слова с ночным ветром над Темзой и суровой мужскою слезой:
– Любовь нельзя купить… Can’t buy me love…
2004COMMENT
Сказки про Абрамовича мне заказал московский журнал «Pro Спорт». Это была крутая, надо сказать, идея. В поисковой системе Би-Би-Си я выудил три с лишним тысячи статей, связанных с пребыванием моего героя в Соединенном Королевстве, из них я отобрал три сотни, что называется, уникальных, и самым тщательным образом изучил. Покупка «Челси» и тренировочных полей Лондонского университета; перекрашенный «боинг»; предоставленный принцу Чарльзу вертолет; возмущение певицы Ширли Бэсси; вообще вся сюжетная канва – это никакие не сказки, а такие же факты (проверенные мною по нескольким источникам), как и, скажем, отсутствие у Романа Абрамовича высшего образования. Фамилии игроков и тренеров, как и названия посещаемых моим героем ресторанов – тоже подлинные. Единственный второстепенный герой по имени Швидлер – вот он не был списан с настоящего Евгения Швидлера (главы принадлежавшей Роману Абрамовичу «Сибнефти»), а, скорее, придуман (в отличие от названий принадлежащих Роману Абрамовичу яхт).
В общем, когда журнал со «Сказками» вышел, мои московские знакомые позвонили мне в Лондон и поинтересовались, застраховал ли я свою жизнь в пользу своей вдовы. И я – признаюсь – запаниковал. Выходя из двери гостинички Би-Би-Си в старом викторианском доме (так называемой «викторианской террасе», это такое типичное для Лондона типовое длиннющее здание с колоннами, в котором каждый подъезд – это отдельный дом), я целый месяц оглядывался по сторонам в поисках наемных негодяев.
Потому что о настоящем Абрамовиче я думал куда хуже, чем о сказочном.
А знаете, что сделал после – хотя и не рискну написать «вследствие» – выхода в «Pro Спорте» этих сказок настоящий Абрамович?
Он взял да и купил сам «Pro Спорт».
2014Bonus #Великобритания #Лондон United Colors of Лондон
Tags: Что лучше не говорить в Лондоне. – Что можно увидеть в Лондоне. – Что следует сделать в Лондоне.
Лондон – одно из тех замечательных мест, где невозможно почувствовать себя дураком. Потому что если даже как дурак бежать за экскурсоводом – действительность превзойдет ожидания. И если отстать от экскурсовода, потерять путеводитель и брести наугад – все равно превзойдет.
Отчасти это объяснимо тем, что в Лондоне весьма условен центр и, безусловно, нет главной улицы. По Пикадилли бродят лишь постояльцы дорогущих отелей и, видимо, Лайма Вайкуле (что на этой Пикадилли найдешь, кроме пары недурных магазинов ковров, отеля Ritz, Королевской Академии художеств да офиса Аэрофлота?).
На самом деле Лондон – объединение сотен деревень, в каждой из которых есть своя главная улица, свой гений места и своя тусовка. Бизнесмены – в Сити, фрики – в Камдене, геи – в Сохо, диджеи – в Хокстоне, аристократы – в Сент-Джеймсе, антиквары – в Ноттинг-Хилле. Каравай, каравай, кого хочешь выбирай. Это безумное чередование стилей, когда через десять минут пешей прогулки неоренессанс Банка Англии прорастает небоскребом-огурцом Нормана Фостера, который через десять минут рассыпается улицей бенгальских харчевен Брик-лейн, чтобы еще через десять прорасти лучшими ночными клубами Олд-стрит, – объясняет, почему и за год Лондон не познать, но почему даже за пару дней в него можно влюбиться на всю оставшуюся жизнь.
Но перед тем как вы Лондон оцените, позвольте дружески посоветовать НЕ произносить в присутствии лондонцев следующие фразы. Даже если очень хочется.
Ду ю спик инглиш?
Я обожаю королеву.
Наконец-то я в старой доброй Англии.
Обожаю английскую кухню.
В Лондоне все бы ничего, если бы не черные (желтые, красные, голубые).
Я собираюсь на шопинг в «Хэрродз».
Мой дедушка был граф.
Потому что Лондон – это не Англия (лондонский TimeOut однажды вполне всерьез предлагал от Англии отделиться, создав Народную республику Лондон), и гордятся здесь не происхождением, богатством и консерватизмом, а открытостью миру, мобильностью, новыми идеями и знанием классных мест.
Здесь более трехсот языков, неимоверное количество цветов кожи и их оттенков.
Русских, кстати, тоже немало – если выкрасить их в зеленый цвет, разноцветная лондонская толпа позеленеет изрядно.
И вся эта мировая суета – на фоне баснословных цен на жилье и строгих иммиграционных законов. Газет, которые ежедневно вопрошают: «Как жить нашим медсестрам и учителям?!». Да, сколько-нибудь приличной квартиры меньше чем за 200 фунтов (почти $400) в неделю не снять. Отели безумно дороги. Но если поискать, то даже в центре (например, на Bayswater), можно отыскать отели от £30 за ночь. В номере, возможно, не будет ванной, но души и туалеты на этажах будут функционировать исправно.
Найти в Лондоне классную, но недорогую вещь вообще почетно. Для того чтобы в дорогом городе жить втридорога, большого ума не надо – нужно просто много денег. А настоящий лондонец – стайер на дистанции удешевления жизни. Газеты и телевидение кишат рекламами скидок и распродаж. На последних, кстати, можно торговаться – особенно если осталась только одна пара обуви, и она вашего, не очень ходового, размера.
Да и вообще: в Лондоне не хочется думать о деньгах. Хочется просто ходить, восхищаться и замирать. Потому что по дизайнерским и музыкальным идеям Лондон – самый крутой город мира. Тем более что даже здесь есть масса недорогих и даже бесплатных удовольствий (прежде всего – роскошные музеи). Просто, повторяю, надо знать места.
10 УДИВИТЕЛЬНЫХ МЕСТ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПОСЕТИТЬ В ЛОНДОНЕ
Портобелло (Portobello Road). Один из самых знаменитых в Европе блошиных рынков: можно купить часы с советской подводной лодки, а можно – викторианский ночной горшок. Весь рынок – одна длинная улица, где стойки с одеждой и «старинными» жестяными табличками соседствуют с цветочными и овощными рядами, плавно перетекая внутрь домов, в которых антикварные лавки занимают иногда и по два этажа. Где-то в середине Портобелло-роуд, поднявшись по лестнице, обнаруживаешь коллекцию старинных игрушек. На следующем углу звучит попурри из «Щелкунчика» и Love Me, Tender Элвиса Пресли – пластинки здесь одни из самых дешевых в городе. Денег лучше взять побольше, но следить за ними лучше получше – в плотной толпе немало pickpockets, воров-карманников.
Национальная галерея (National Gallery). Как и все государственные музеи, Национальная галерея (английский эквивалент Лувра или Эрмитажа) – бесплатна (кроме временных выставок). Имеет смысл приходить в среду (удлиненный день до 21:00) ради пары пары-тройки избранных залов. Во время «длинных» дней в британских музеях нередко играет живая музыка, в лобби сервирован бар, в ресторане обслуживают со скидкой и т. д. Важное отличие National Gallery от Эрмитажа или Лувра – принцип не широты охвата, но тщательности отбора (имеющийся в коллекции, но не лучший Илья Репин здесь сослан в подвал – вместе с не лучшим Моне). Не пропустите «Послов» Ганса Гольбейна (западное крыло): оптические игры с черепом, который виден лишь под острым углом, на минуту повергают в мистический ужас даже закоренелых материалистов.
Музей Виктории и Альберта (Victoria & Albert Museum). Невероятное сборище всего на свете, место непременного паломничества всех, кто хоть сколько-нибудь занимается дизайном, модой, рекламой и т. д. Мода от Шанель и Жан-Поля Готье до Вивьен Вествуд, итальянская ренессансная скульптура, японские нэцке и кимоно, далее везде. Музей образовался из сладких остатков Всемирной выставки в Лондоне в ХIХ веке. Коллекция прикладного искусства Англии, Европы и Азии – одна из лучших в мире. Но и современные выставки (какой-нибудь «Brilliant – дизайн света») – тоже сносят крышу по полной программе. Альбомы по истории костюма и моды в музейном магазине следует закупать килотоннами.
Королевский ботанический сад Кью Гарденз (Kew Gardens). Огромный, вылизанный до последней тычинки, цветущий парк с прудами, лебедями и оранжереями. По газонам ходить не просто можно, но и нужно. В оранжереях все напоминает о просветительской идее империи: вот пушечное дерево, вот мангровое, а вот вам Deherania smaragdina с зелеными цветками. На тысячелетнем дубе – табличка: памяти экипажа рейса 103, Локерби, 21 декабря 1988. Этот самолет был взорван в воздухе террористами из организации освобождения Палестины.
Рынок Камден (Camden market). Резервация панков, хиппи, сатанистов, милитаристов и т. д., окруженная лофтами прогрессивных яппи. Крупнейший в Лондоне (и, пожалуй, в мире) блошиный рынок, занимающий здания бывшей железнодорожной станции, а также конюшен и пакгаузов. В «винтажных» магазинчиках можно одеться по моде 50-х, а можно, пройдя через зал дискотеки со стальными стенами и светящимся полом, оказаться прямиком в экстремальной зоне а-ля «Пятый элемент» и купить флуоресцирующую в темноте тишортку, по которой бегают светящиеся надписи. В бывших конюшнях – лучшая дизайнерская мебель за последние 100 лет и подлинные принты Уорхола. Среди всего этого – шипящие сковородки всех кухонь и самое большое скопище фриков, какого нет ни в «Пятом элементе», ни в «Людях в черном».
Докландз (Docklands). Район небоскребов на месте бывшего дока. Небоскреб Canary Wharf Tower виден практически отовсюду. Весь район можно проехать насквозь на «легком метро» Docklands Light Railway (см. «Главные вещи»). Космическая архитектура наземных станций – дело рук архитектора Нормана Фостера.
Джермин-стрит (Jermyn street). Знаменитая улица, где настоящий джентльмен может купить правильную рубашку, запонки, галстук, костюм, таксидо («таксидо» означает по-русски «смокинг», но если вы попросите смокинг, вам принесут smoking jacket – спальный халат), а также – помаду для усов, подтяжки и тросточку. Здесь, как ни странно, тоже бывают распродажи, и тогда идеальную рубашку можно купить за полцены – то есть начиная от £25. Там же продают потрясающие «мужские» рубашки для женщин (то есть для businesswomen), специальные женские мужские галстуки и запонки. Очень стильные.
Брик-лейн (Brick Lane): настоящий город, настоящий Ист-Энд: район рабочих, эмигрантов, яппи и обедающих в барах с натуральными продуктами гомосексуалистов, обильно сдобренный модными клубами, восточными ресторанчиками (по преимуществу бенгальскими) и магазинчиками винтажа. Тут же, в прилегающих к Брик-лейн переулках – магазины молодых дизайнеров, к которым ходят «вдохновляться» дизайнеры постарше. Здесь вещи стоят дороже – но они того стоят.
«Огурец» Фостера (точнее, «Вскочивший корнишон», если переводить Erected Gherkin буквально). Знаменитый небоскреб виден буквально отовсюду, он расположен в двух шагах от Ливерпульского вокзала, в Сити, где самая современная архитектура соседствует со средневековыми церквями и рынком Leadenhall market в стиле ар-деко. Прогулка от «огурца» к Банку Англии по Корнхилл с магазинами Louis Vuitton, Mont Blanc и Hermes может стать отличным завершением поездки на андеграундную Брик-лейн. Пригодится для сочинения «Лондон – город контрастов».
Сохо (Soho). Расположенный в самом-самом центре, этот район когда-то был скопищем притонов, затем – обителью богемы, а ныне он – конечная точка молодежного туризма. Главная улица – Old Compton Street: толпа в у входа в бар с танцполом G.A.Y., велорикши, крашеные мужики под сорок в красных стрингах, магазины полупрозрачного мужского белья, мастерские пирсинга и тату – не протолкнуться. Чуть в сторону – секс-шопы и стрип-бары «near-beer». Девушки там раскручивают клиентов на фальшивое шампанское, но вместо секса следуют счета по 250 фунтов и сообщения во всех газетах о драке с секьюрити.
10 ГЛАВНЫХ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ В ЛОНДОНЕ
Покормить белок в Кенсингтон-гарденз (Kensington Gardens) у дворца леди Ди (Kengsington Palace). Если гулять не по газонам, а по аллеям, беличьи полчища нападут на вас сами. Есть также шанс увидеть семейство принца Чарльза, выгружающееся из вертолета, припаркованного на лужайке пред дворцом.
Проехаться на надземном автоматическом метро Dockland Light Rail от Тауэра (Tower Gateway) до Гринвича (Cutty Sark for Maritime Greenwich). Займите первые места в первом вагоне: машинистов нет, так что аттракцион еще тот, особенно когда врезаешься в космический район небоскребов Канарской верфи (Canary Wharf). В Гринвиче надо бродить по двору Военно-Морского колледжа, парку Королевской обсерватории (там и проходит нулевой меридиан), любоваться знаменитым клипером «Катти Сарк» и поесть в Noodles House – китайской харчевне у метро с порциями, подходящими для француза Гаргантюа или англичанина Гулливера.
Принять на грудь скотча с содовой в журналистском пабе Yo Olde Cheshire Cheese на знаменитой Флит-стрит (Fleet Street, 140), где еще недавно размещались штаб-квартиры всех ведущих бульварных газет. Заведение в стиле Диккенса начало работу еще в XVII веке, и кто там, включая Марка Твена, только не бывал! Если неохота тащиться на Флит-стрит – посетите любой старый викторианский паб (с интерьером а-ля Елисеевский магазин), помня, что во многих местах еду перестают готовить в 20.30, а пресловутое «Last drink, gentlemen!» («Последний напиток, джентльмены!») звучит в 22:55. Заодно попробуете fish & chips – чтобы навсегда выработать отвращение к английской кухне. Да: пабы произрастают исключительно на перекрестках, их издалека видно по цвету (дубовые, темно-зеленые или малиновые наружные панели).
Зайти в среду в здания парламента (Houses of Parliament, вход свободный, но придется, скорее всего, отстоять очередь) послушать, как премьер-министр отвечает на вопросы оппозиции. Как и среди вопросов, так и среди ответов случаются удивительные образцы ораторского мастерства. Если среда занята, есть смысл посетить (вход тоже свободный, но без очереди) Верховный Суд (Royal Court of Justice) на Strand или Уголовный суд (Criminal Court) на Old Bailey. Парики, мантии, зеленые лампы, дубовые панели, кожаные переплеты и длящийся третий век процесс «Смит против Смита» – идеальное место для послеобеденного сна.
Посмотреть в 11 утра (время меняется в зависимости от сезона) смену караула у Букингемского дворца – чтобы отдать дань Лондону туристическому. У ограды дворца – толпа, гвардейцы отобраны по принципу красавца к красавцу (без шуток: они и правда проходят кастинг!), и если повезет, вы узнаете, что такое royal nut – чудак, помешанный на любви к королеве.
Пощекотать себе нервы вечерним общением с мумиями в British Museum, египетская коллекция которого поражает и в дневное время. Но детальные объяснения способов засолки человеческих останков в Древнем Египте на сон грядущий – это особое ощущение.
Сделать круг на London Eye, гигантском колесе обозрения, воздвигнутом в центре Лондона к Миллениуму. Набережная Темзы в этом месте вообще образцово красива, 40-минутное путешествие дух захватывает в буквальном смысле. Если денег на колесо жаль – дойдите до расположенной рядом Oxo Tower: вид из расположенных на последнем этаже ресторана и бара тоже хорош. Можно совместить с посещением знаменитой галереи Saatchi.
Заплатить 15–30 фунтов за afternoon tea (это то, что в России называют файв-о-клоком) в дорогом отеле, например, Savoy: в цену входят шампанское, чай с молоком, различные джемы и вкуснейшие пирожки и пирожные.
Проехаться на красном двухэтажном автобусе-даблдеккере, вариант: ночном даблдеккере (автобусы в Лондоне ходят всю ночь). Автобусы, в отличие от метро, ходят как часы, имеет смысл занять первые места на втором этаже-империале. К сведению полуночников: практически все ночные маршруты пересекаются на Trafalgar Square.
Перейти в сумерках по пешеходному мосту Millennium через Темзу от собора святого Павла к галерее Tate Modern. Фантастическое ощущение! Превращенное в галерею здание бывшей электростанции напоминает о неземной мощи страны Главного Буржуина, высаженные березы подсвечены инфернальным голубым.
2004COMMENT
Этот текст-гид был напечатан в первом русском номере TimeOut, в который плавно превратился выходивший до того доморощенный «Календарь». Вообще это была эпоха, когда в журнальном бизнесе лицензионные издания – Cosmopolitan, Vogue, Elle, GQ, Playboy, «Домашний очаг» (Good Housekeeping) – выигрывали битву у местных «Она», «Андрей» и прочих (точно так же, как сделанные по лицензии иномарки в эту пору начали вытеснять «жигули»).
Это не значит, что у местной продукции шансов нет: в борьбе с TimeOut не просто выжил, но и закалился журнал «Афиша», превратившийся в издательский дом с «Афишей-Мир» и «Афишей-Еда» (и я, если честно, предпочитаю «Тайм-ауту» именно «Афишу»). Существует даже легенда, что основатель «Афиши» Эндрю Поулсон в свое время приезжал в Лондон именно в TimeOut, сказал, что собирается покупать лицензию для России, все выведал, все вынюхал – в итоге лицензию не купил, но выведанное применил.
Даже если Поулсон и вел такие переговоры, не думаю, что легенда правдива. Дело в том, что если TimeOut журнал статический (подборка обзоров), то «Афиша» – журнал динамический, устроенный по принципу киносценария. Допустим, оба журнала решили рассказать о китайских ресторанах Москвы. TimeOut в этом случае поместит разбитый на главки («кантонская кухня», «сычуаньская кухня») обзорный текст. А вот «Афиша» – напечатает репортаж «Где съесть в Москве змею и мозги обезьяны», в основу которого как раз будет положена интрига, действие, квест (а обзоры ресторанов будут приложением). Кроме того, у журналов разные идеологии. TimeOut – журнал описания потребления (хоть шмоточного, хоть культурного). «Афиша» – разведчик тектонических разломов времени (хоть в моде, хоть в политике).
Собственно, идеология вкупе с технологией и определяют успех (или неуспех) любого СМИ.
Но это так, издателю на заметку.
2014#Испания #Каталония #Петербург Мое сердце, аста ла виста. Мое сердце замерло
Tags: Несуществующий испанский язык. – Существующая каталонская гордость. – Даешь Барселону в Петербурге!
По пятницам в поселке Мальграт под Барселоной, где мы отдыхаем, творится невообразимое. К вечеру все въезды перекрыты, машины гудят стадами растревоженных носорогов, туда-сюда снуют полицейские. В первый раз решили: либо бомба, либо псих перестрелял толпу.
Потом разъяснилось: нет, это так местные власти борются с уикендными пробками в историческом центре. Ну, и что с того, что залетный водила в отчаянии вертит головой, напрягая скудный запас испанского? Он – в Каталонии. Это такое место не земле, где тебе разъясняют, что испанского языка вообще на свете нет, а то, что наивный иностранец за него принимает – это кастильский язык, способ общения зажравшихся мадридцев, от которых местным одно зло. По сей причине туристическая реклама печатается так: сначала – на каталонском, потом – на английском, далее – на немецком, и уж совсем внизу, меленьким шрифтом – на ненавистном кастильском.
Первые три дня жизни в Каталонии удивляешься. На завтрак дают шампанское, на ужин – йогурты. Барменша полчаса игнорирует просьбу смешать джин с тоником, потом выскакивает из-за стойки, бросается в пляс, затем смешивает кампари с содовой. В отличие от Парижа, Рима или Амстердама, торговцы и официанты манерами и видом подчеркивают личную гордость, богатый внутренний мир и сдержанное пренебрежение пошлыми запросами клиента.
Однако с четвертого дня удивление заменяется удовольствием от так странно, но так знакомо организованной жизни.
Во-первых, Барселона. Портовый город редкой гармонии, с оперно-средневековым кварталом и космическими творениями Гауди, она выглядит так, будто мэром у них Пиотровский, которому странны бронзовые городовые скульптора Чаркина, но близки бронзовые пауки Луизы Буржуа. На фоне знаменитого, и вправду сносящего голову, собора Sagrada Familia – отличная скульптура и современные уличные конструкции, построенные просто так, для форсу, чтобы заявить: мы – энергичная, спортивная, юная столица.
Во-вторых, сама Каталония. Хотите видеть рай на земле – езжайте куда-нибудь в бухту Канэис (скалы с двух сторон, дорогие виллы на уступах, пинии, агавы, россыпь оранжевых байдарок на воде). Хотите видеть рай, пройдя сквозь чистилище – езжайте в Кадакес, где в глухие времена фашизма коротали время Пикассо и Дали. Скоростная трасса, ведущая на знаменитый мыс, вдруг превращается в серпантин шириной в сигаретную пачку, правое колесо повисает над пропастью, ограждение – в каталонском духе – отсутствует, в окно бьют крылами орлы, лица приобретают приятный зеленый цвет. Зато внизу – шелк моря, россыпь беленых домиков с синими ставнями, яхты, виндсерферы.
В-третьих, начинаешь понимать, что насмешка над местными нравами – это просто снобизм питерца, решившего поиграть в ньюйоркца. Вот, допустим, полиция: та, что устраивает пробочный кошмар по уикендам. Полиций этих мы насчитали штук пять (дорожная, жандармерия, краснопетличная Mossos d’Esquadra, синебрюхая Policia Local плюс еще Guardia Urbana в черно-белую шашечку: ни дать ни взять таксисты, томящиеся от безделья). При этом в Каталонии воровство – обычное дело, террористы чуть ли не при нас взорвали гостиницу на Costa Daurada, однако у нас, что, – лучше? Когда застрелили Маневича, по Невскому дефилировали краснооколышевые городовые, гордость губернатора: убийца скрылся по крышам у них на глазах. А наличие ОМОНа, РУБОПа, ОБЭПа не спасло Питер от славы криминальной столицы.
Или – каталонские дороги. Их изобилие, но проложены они пьяным картографом. Нумерация на карте и в жизни не имеет ничего общего. Дорожные указатели порадовали бы психоаналитика: вот вы рулите по национальной трассе N2, однако через пять километров выясняется, что это местная А2, а еще через километр – что это С32, за ближайшим поворотом превращающаяся в С33! Один указатель был нами особенно любим за географический оптимизм: Мальграт налево, Мальграт направо, Мальграт прямо. Местный пейзанин лениво пояснил: да езжай куда хочешь. Поехали прямо – оказался тупик… Можно поржать, конечно, но представьте себе каталонца, в районе Репино решившего свернуть с Верхне-Выборского шоссе на Приморское: он вообще заблудится и погибнет, как доверившиеся Сусанину интервенты.
Или, допустим, горделивость каталонского сервиса, – та самая, что не позволяет снисходить до обслуживания. Ну и что? Пройдитесь по питерским магазинам, где торгуют дорогими марками: на вас будут обращать внимание ровно настолько, насколько вы интересны в качестве потенциального воришки. Я на днях зашел в TJ Collection на Сенной, бродил по пустым залам, не выдержал, подошел к сбившимся в щебечущую стайку продавцам: не мешаю?
– Ну что вы, – ответили, – нисколько…
А в-четвертых, Каталония хорошо лечит от упоенного петербургского отчаяния, от этой сладкой горечи, вызванного постоянным сравнением с Москвой, от комплекса отстающего. Действительность по возвращении начинает меньше царапать глаз. Вот у Московского вокзала с ночи до утра – не подъехать, не запарковаться. Полосатые палки, пробка, неразбериха, какие-то для кого-то зарезервированные места, извозчичья мафия, гудение и ор. Ну и что? Просто палки доверены каталонцам. Вот перекрыли Троицкий мост слепым щитом, разбиться в ночи – раз плюнуть, вот не установили схемы объезда у закатанной в ремонтную грязь улицы Куйбышева, ну так – строительство и ремонт в руках каталонцев. Нет отопления, вдрызг разбиты подъезды, не идет вызванный месяц назад сантехник? Да просто в РЭУ, районных администрациях и в Смольном – сплошь лица каталонской ментальности.
И, как ни странно, это обстоятельство наполняет оптимизмом. В конце концов, несмотря на всю неприязнь к Мадриду и все связанные с этим обиды, Барселона провела-таки у себя Олимпиаду, воспела себя совместным дуэтом Кабалье и Меркьюри, привела в город лучших мировых дизайнеров и архитекторов. Несмотря на зигзаги местного характера и местных дорог, каталонские трассы все равно лучше и разумнее имеющихся петербургских, а несмотря на весь идиотизм местных полиций, жизнь в Каталонии все-таки безопасней. И как бы ни странен был местный уклад, именно здесь, в Барселоне, в Каталонии, на Коста-Дорада и Коста-Брава построены тысячи и строятся сотни новых отелей, потому что сюда едут миллионы и миллионы туристов, хмыкают, кривят губы, но едут и едут опять и по второму, и по третьему разу, потому что сердце их сладко замирает, и, уезжая, они говорят не adios («прощай»), а asta la vista («до встречи») или, кто попродвинутей – fins aviat.
Москва в 1994-м, за три года до 850-летия, тоже была мрачна, угрюма, хамовата, пессимистична и разбита повсеместным строительством в грязь. А теперь ничего – полыхает в ночи хрустальною елкой.
Asta la vista, дайте только срок.
2001COMMENT
Из меня никудышный предсказатель, я слишком доверяюсь текущим эмоциям, экстраполируя их в будущее, чтобы холодным умом вычислить разлом, революцию, резкий скачок, как раз будущее и определяющий, – но тут оказался прав.
Питер, да и Россия в целом к Каталонии подтянулись.
В чем, возможно, есть и капля влияния этого текста, опубликованного в свое время в газете «На Невском».
2014Bonus #Испания #Каталония #Барселона #Испания #Каталония #Барселона В поисках утраченного времени
Tags: Свежий антиквариат. – Олимпиада-80 и Олимпиада-92. – Экологический комфорт.
Когда б имел времени и денег вдосталь, – снова рванул бы на неделю в Барселону, взяв пентхаус в Hotel Arts. Сейчас объясню почему.
Барселона – город, где есть уникальный товар, отсутствующий в России. И этот товар – не Гауди, как принято считать. Точнее, не только Гауди.
В Барселоне обильно, от горы Монжуик вдоль всей цепочки портов и пляжей – Platja Barceloneta, Port Olimpic, Platja Nova Icaria – представлено то, что является свежим городским антиквариатом, то есть продуктом, главную ценность которого представляет не материал, а недавняя история. Это Барселона олимпийская, родившаяся в 1992-м на месте портовых складов и доков, трущоб и припортовых чащоб, Барселона старого порта, Port Vell, преобразованного в новейший (по тем временам) аттракцион с шопинг-моллом Maremagnum, океанариумом и кинотеатром Imax, сквозь палубный настил моста на пути к которому видны черные спины рыб, подсвечиваемых в ночи. Это Барселона велосипедистов и скейтбордистов, рампы для которых образовали новый рельеф площадей, это Барселона уличной скульптуры, показывающей язык памятникам франкистской эпохи (по-нашему – стилю Церетели).
Понимаете?
Это интереснейшее явление – вчерашняя мода, модерн, стекло+металл+море, превращающиеся на глазах в реликвию, минуя стадию старья. У нас этого нет. В Москве не осталось ничего от Олимпиады-1980.
Вот почему я остановился бы в Hotel Arts Barcelona. Построенный к Олимпиаде стеклянный небоскреб с вывернутыми наружу металлическими швами; гигантская рыба-дерево Фрэнка Гери в подножье на берегу; двухэтажные пентхаусы, сплошь из стекла, то есть со стенами из моря и неба; кухни в номерах; частная клубная зона для их обитателей на верхотуре – это роскошь, как ее представляли двадцать лет назад. В эти представления порой можно нырнуть (бизнес-класс «Аэрофлота» – то же ретро 1990-х, только советское: «Европа-люкс», какой она виделась тогда). Но их больше не повторить.
Потому что барселонская роскошь в представлении 1990-х – это первый экологический комфорт без спеси. С тех пор Европа сильно продвинулась в сторону экологии. Россия – в сторону спеси.
Эта Барселона 1990-х, этот город ближайшего прошедшего времени, ничуть не отменяет всей остальной, классически туристической Барселоны, которую перелистывай хоть на кольцевом автобусе-даблдеккере, хоть на прокатном велосипеде, хоть просто пешком al azar, наугад. Неделя – тот срок, что не позволяет миновать ни площади Колумба, ни места всех встреч площади Каталонии, ни, разумеется, текущего по речному руслу бульвара Рамбла, ни построек Антонио Гауди, от La Pedrera до Sagrada Familia.
Примечательно в этой гербаризированной путеводителями Барселоне то, что она не выродилась в туристическое гетто. Тут история примерно как с домами Гауди, которые остаются жилыми: покупаешь билет в Каса Бальо, чинно ступаешь по лестнице – и вдруг видишь сквозь внутренние окна, как девочка играет на скрипке и семейство откупоривает бутылку Penedes.
При всей туристической плотности Барселоны в ней немало прекрасных прорех: от ночного цветочного рынка до тапас-баров, где вино не отмеряют в миллилитрах, а попросту льют до краев. Барселона – еще и город гастрономии. И шопинга, кстати. Особенно если не идти по мировым брендам, а купить вырви-глаз-рубашку-или-платье в лихом местном Desigual.
И в прорехи, и в роскошь имеет смысл сунуть нос.
Если есть время и деньги.
Далее – ясно.
Вики, Кристина, Барселона.
2010COMMENT
«Аэрофлот» был одним из спонсоров этой моей пресс-поездки в компании вечнокудрявого Эдика Дорожкина, тогдашнего главреда газеты «На Рублевке», весьма ценимого мной за умение привить метафору на стебель повествования о недвижимости, и Ксении Соколовой из GQ. C Ксенией мы там даже сначала дико поругались (Ксения – девушка непростая, на первый взгляд высокомерная), но потом помирились.
В общем, было хорошо.
Я помню «Аэрофлот» совсем еще ранней постсоветской поры, когда бизнес-класс там только что появился: тогда в «экономе» хамили, а в «бизнесе» лебезили. Не замечая, что равно отвратительно и то, и другое.
Теперь контраст, слава богу, исчез, и вся разница в том, что в «бизнесе» дают шампанское бесплатно и до взлета, а в «экономе» на международных рейсах алкоголь лишь в обед и за деньги, а на внутренних рейсах так и вообще не дают.
Может, оно и к лучшему.
2014#Испания # Барселона Похвала лицемерию
Tags: Искренность как синоним свинства. – Русские бытовые нацизм и дискриминация. – Беженец Мохаммед и гимн политкорректности.
У меня в Барселоне живет подруга.
Зовут Тамара Трапез.
Больше всего в жизни Тамара Трапез ценит свободу, равенство и братство.
Генералу Франко повезло, что правил в другую эпоху. Иначе бы Тамара Трапез разрядила ему в лоб револьвер, пролетая мимо в красных туфлях на десятисантиметровых каблуках и мурлыча под нос самую модную каталонскую песенку.
Недавно мы с Тамаркой обедали вместе. Помимо свободы, туфель и модной музыки, она знает толк в ресторанах. Мы обедали в гениальном ресторане La Lluna, вжавшемся в узкую щель возле Рамблы, так что незнатоки пролетали мимо, а знатоками, как Средиземным морем, был колышим зал. Но для нас – для Тамарки то есть – место нашли. И вкус кролика, которого я ел, у меня до сих пор на губах.
И вот, когда кролик на столе уже превратился в воспоминание о кролике, разговор зашел о ценах на съемное жилье. И я сказал Тамарке, что в России дело не только в ценах, а в том, что человеку с именем Ахмед или, скажем, Анзор снять квартиру непросто. Потому что на доброй трети объявлений будет значиться «только славянам».
– Ты вр-р-решь!!! – Тамарка выпрыгнула из-за стола и истребителем «Харриер» взмыла над залом. Все повернули головы к нам; в тишине звякнули приборы о фарфор. – Скажи, что ты врешь!!!
– Не вру. Возьми в Москве любую газету бесплатных объявлений и убедись.
Тамара совершила иммельман плюс пару боевых разворотов и приземлилась, тряхнув гривой волос:
– Тогда вы фашисты.
Описываемая сцена особенно аппетитна на фоне каталонского колорита, который заключается в специфическом отношении Барселоны к Мадриду. То есть, говоря честно, многие каталонцы хотели бы от Мадрида отделиться и жить собственным умом, и кое-чего их каталонские умы добились: например, прав автономии. И этот сепаратизм на бытовом уровне проявляется в виде массы мелочей. Но – именно мелочей. Потому что объявление «сдам квартиру только каталонцам» мгновенно подошьют к уголовному делу, и квартиросдатчика упакуют за дискриминацию по национальному признаку.
Тут любопытно то, что под расизмом, нацизмом, фашизмом, дискриминацией в Европе (включая страны, некогда входившие в коалицию с Гитлером) понимаются те вещи, которые считаются вполне допустимыми в России (где основным, если не единственным объединяющим нацию элементом является воспоминание о победе над Гитлером).
Вот вам случай, произошедший со мной в Москве на курсах французского языка.
Мы там довольно часто занимались играми. Ну, например, десяток взрослых студентов изображал муниципалитет в Квебеке и выбирал лучшего и худшего водителя городского автобуса, попутно овладевая указательными местоимениями и степенями сравнения. Наш преподаватель, нормандка Мари, начинала зачитывать список претендентов: Мохаммед, 25 лет, из Ливана…
– Oh, non! Pas arabe! Celui que est le pire! («О, нет! Не араб! Вот самый худший!»), – отреагировали мгновенно девушки в моей группы, и я почувствовал, что покрываюсь красными пятнами, и не из-за ошибок в их французском.
Эти девушки не были невежественны или бедны, они поездили по свету, но при этом в первозданной чистоте сохранили свойство, которое сильно (и, на мой взгляд, принципиально) отличает среднего россиянина от европейца. Наш человек обычно убежден, что высшая раса – белая, европейская, с которой он себя отождествляет и внутри которой отчаянно ищет место, невероятно комплексуя перед тем, что он называет «Западом» и «Европой». То есть он считает, что и «Европа» и «Запад» так же, как и он, тихо ненавидят арабов, негров и прочих небелых, не решаясь выразить чувства публично лишь по причине насильно внедренной политкорректности, которая, в свою очередь, есть инструмент государственной пропаганды. Чтобы, скажем, угодить арабскому миру, у которого приходится покупать нефть. А вот уж в своем кругу там режут правду-матку.
То есть, даже побывав в Лондоне, мои девушки не могли поверить, что в пабе за расистское заявление легко получить в морду, причем не от негра, а от ирландца или португальца.
А пятнами я покрылся оттого, что одногруппницы открыто выразили шовинизм при француженке Мари, априори записав ее в союзницы, – не ведая, что хуже оскорбления для Мари быть не могло.
Впрочем, пишу я это все не для того, чтобы кого-то перевоспитать. Нетерпимость любая – социальная, национальная, сексуальная, религиозная – вообще корчуется с тяжестью векового пня. Бороться с чувством нелюбви – к цыганам ли, к мусульманам ли, к богатым ли – это примерно как бороться с любовью.
Однако за проявлениями чувств следить следует по той же причине, по какой мы ежедневно чистим зубы. Если ты занимаешься публичным бизнесом, то обязан предоставлять равные услуги всем, кто готов твой продукт покупать: даже если весь твой бизнес – это квартира на съем. И отказывать клиентам нельзя, или уж, в крайнем случае, под благовидным, а не дискриминационным предлогом. И по телевизору нельзя долдонить о «розыске преступника кавказской национальности» и даже о «подозреваемом с кавказской внешностью», потому что «кавказская национальность» у нас давно полный синоним «нерусской внешности», каковой обладает, например, президент Франции Саркози. Иначе, по справедливости, в каждом сообщении о мздоимце-чиновнике и садисте-менте надо прибавлять, что они «русской национальности».
Да, во всем, что касается межнациональных отношений в быту – там, где трется и нагревается – я за лицемерие. За вымученную улыбку гостеприимства вместо искренне хамского «понаехали тут!». За сознательную ложь. Потому что все это суммарно понижает накал страстей, а разница в несколько градусов бывает существенна, когда речь идет о пожароопасности.
Я, конечно, забочусь о себе как о клиенте: европейская неискренность, например, заставляет европейцев мне улыбаться, даже когда они внутри себя не любят русских (да тех русских, что летают кичливо-чванливыми стаями, любить и впрямь не за что).
Но с другой стороны, я забочусь и о бизнесе.
Известно, что поднять настроение можно, заставив себя улыбаться. Да, эта улыбка неискренна – но фишка в том, что настроение улучшается реально. Заставляя себя улыбаться тем, кто, быть может, нам не очень нравится, мы получаем возможность по-иному взаимодействовать с миром.
Знавал я в Питере одного человека, дудевшего во все трубы о том, что город «становится исламским и черным»: дудел-дудел, пока пенсионный возраст да безденежье не вынудили сдавать квартиру. Разные у него там постояльцы были, на всех он жаловался, пока совсем не скрутило и не пришлось сдать квартиру не просто кавказцу, но и убежденному мусульманину, потому что он единственный приплачивал за близость квартиры к мечети. И что бы вы думали? Больше ни о каких клиентах кроме как о мусульманах пенсионер-нацист и слышать не хочет. Потому что мусульманин не пьет, не курит, не водит к себе шалав и поддерживает идеальную чистоту.
Кстати, и девушки из моей французской группы проголо-совали-таки за Мохаммеда как за лучшего кандидата. Потому что стали разбираться и выяснили, что он единственный, кто имеет стаж работы водителем автобуса, да и в Канаду бежал по политическим соображениям. А у другого кандидата были в прошлом аварии, а у третьего кандидата – женщины – маленькие и часто болевшие дети, так что ее на работе пришлось бы постоянно подменять.
– Кроме того, женщине лучше вообще не доверять автобус, – завершила под общий смех обосновавшая выбор одна из моих одноклассниц.
Не смеялись только я и Мари.
2010COMMENT
Из Барселоны в Мадрид стал ходить скоростной поезд (3 часа в пути, вдвое дешевле самолета и чуть ли не 10 рейсов в день).
Тамара Трапез стала работать в Риме продюсером телепрограммы, в которой рассказывают, на какие выдающиеся концерты, выставки и прочее можно сходить за три евроцента или вовсе бесплатно.
В остальном – включая состояние политкорректности в России – все пока что без изменений.
#Голландия #Амстердам Ночной дозор
Tags: Гостиные без занавесок на окнах. – Столицы имперские и неимперские. – Торговля, туризм, синтетическая сперма и немыслимый безопасный разврат.
Когда господь создавал мир, он отписал Голландию занудам.
Нет страны добродетельнее и аккуратнее. Здесь не вешают в гостиных шторы, подчеркивая непорочность быта: вот вадер читает газету, электрический камин горит, мудер вяжет, маленький Йост играет с котенком. Через два часа плывешь мимо этого аквариума: все так же читает, вяжет, играет, и все то же полено горит в очаге.
Подлинная, но тайная столица Нидерландов – Гаага. Чистенькая, вылизанная, Den Haag утопает в парках, скрывая дворец королевы, резиденцию правительства и посольские особняки. Здесь уютно сидеть на скамейке у озера, кормить голубей да закладывать для агента капсулу с шифровкой.
Однако столичную нагрузку Голландии держит не благовоспитанная Гаага, а портовый, торговый, порочный, веселый, обкуренный, справляющий малую нужду прямо на улицах Амстердам: мировой притон, общеевропейский отстойник.
Этот образ не сильно шаржирован. Первый музей на пути от Central Station – музей секса. В полночь в витринах района Red Lights демонстрируют себя доступные женщины. А в любой сувенирной лавчонке, помимо открыток с буколическими ветряками, деревянных башмаков и дельфтского фарфора, предлагается еще и, по-русски говоря, неназываемое.
И Амстердам не просто сдувает пылинки со своего порочного наряда – он сдувает их для того, чтобы освободить место экологически чистой грязце.
В местной газете – дискуссия о производстве экстази: спорят не о разумности производства, а о том, по какой цене продавать. В первом попавшемся кафе-шопе – компания не очень молодых, пирсингованных, крашеных блондинов, прерывающих воркование – ах, милый! – страстными поцелуями. Во втором попавшемся кафе-шопе – такие же точно блондины. Они же, впрочем, и в третьем: мужчины иного толка в Амстердаме – наверняка иностранцы.
Русский турист, привыкший если к страсти – то по Толстому, если к пороку – то по Достоевскому, теряется в догадках. Коли подлинная Голландия добродетельна до зевоты, то откуда взялся всетерпимый Амстердам? А если Амстердам – изнанка голландской души, то почему так уныло добродетельны Нидерланды?
Ответ банален.
Буржуазная революция 1566 года сыграла с Голландией странную игру, вроде «переводного» дурака. С одной стороны, она развязала руки торговле, подтолкнула промышленность и превратила патриархов торговых домов в патрициев. (Любой обитатель дома с патрицианской историей на Keizersgracht подчеркнет эту деталь, объяснив, как отличать хозяйский дом от бывшего склада: последний легко узнать по широким окнам, через которые грузился с воды или на воду товар.) Однако та же революция уничтожила аристократию с неизбежно сопутствующей ей монархической, имперской идеей.
Амстердам – самая неимперская столица Европы. Особняков нет и в помине, узкие домики экономично выстроены в линию, трамваи ходят по одной колее, пропуская встречный состав на остановках, королевский дворец отдан под универмаг, и даже выходцы из Суринама и Антильских островов напоминают не о колониальном прошлом, а о детской игре в путешествия.
Империи всегда избыточны. Это они распускают павлиний хвост искусств, пуская миру золотую пыль в глаза нерасчетливым (на первый взгляд) жестом: расчет и состоит в нерасчетливости, коль на кону – слава в веках.
Другое дело – буржуазный Амстердам. Широкие жесты смешны. Ничего подобного Champs Elyseеs, Невскому проспекту или Тверской. Яркая, но короткая Damrak вряд ли может претендовать на main street: какая же она main без мешанины ресторанов, магазинов, театров, банков, контор и праздно фланирующей публики, что составляют основу любой главной улицы?
Амстердамский житель вопроса про главную улицу вообще не понимает, интересуясь вашей конечной целью: шопинг? ужин? live-show с неприкрытой любовью на вращающейся сцене? Но в Амстердаме не едят в тех местах, где делают шопинг, и не делают шопинг там, где делают любовь.
Коли хотите услышать пульс Амстердама, отправляйтесь на Kalverstraat – узенькую, забитую туристами улочку, на которой нет ничего, кроме торговли. Башмаки, джинсы, платья в раблезианском великолепии заполняют эту улицу-ущелье, пузырятся, лезут наружу и плотно забивают нутро магазинов, зеркальные стены которых множат эффект торгового ада. Но в этом аду – душа Амстердама.
В Париже, Лондоне и Москве можно прожить год, так и не поняв, что нынче в моде. Но стоит пройти сотню метров по Kalverstraat, как ясно: ныне носят фиолетовое и коричневое (так пять лет назад носили оранжевое и зеленое, а десять – розовое и голубое).
Идеально приходить на Kalverstraat ближе к шести, когда она бурлит, шумит и людской пеной дней бьет в тесные свои берега. Но ударяют городские часы, и раздается мерное жужжание: на всех магазинах одновременно опускаются жалюзи. Пять минут – и Kalverstraat пуста и тиха, как и полагается быть маленькой straat в небольшом городке. Лишь несколько итальянских подростков-туристов подпирают стену, блаженные от марихуаны и пива. Мимо них проезжает на лошади полицейский. «Carabineri», – говорят подростки. Цокот копыт гулко разносится по улице. Подростки смеются. Слова «sex, sex» ночными птицами вылетают из кустов их болтовни.
Вечер – идеальная пора для прогулок по Амстердаму, ибо ночной дозор дает понимание города, днем обозримого скорее через частые переплеты музейных окон. Rembrandt-Plein ночью залита мигающими огнями. Весь город стекается сюда, чтобы в одном из утрамбованных, как хор Пятницкого на сцене, баров под Калли Миноуг, Эминема или «Тату» дернуть для разминки вездесущего «Хайнекена». Самые нетерпеливые идут в расположенные тут же стрип-шоу с выцветшими фото перед входом.
Но имеет смысл проследовать дальше: мимо клуба April с перекрывшей улицу толпой мелированных блондинов, мимо знаменитой дискотеки It с еще более мелированной толпой (вас предупреждали!) – в какой-нибудь Beach Club, где пятиметровая акула под потолком, пристающие к девушкам почти голые негры и еще более голые бармены, танцующие знойные мужские танцы прямо на барной стойке.
Имперский турист теряется в этом адике, как голландец путается в анфиладах и ризалитах растреллиевского барокко. Но спросите у негра разрешения на фотографию – он охотно попозирует с вашей подружкой, подойдите к бармену – он дернет зиппером, предлагая выжать fresh juice не отходя от кассы. И эта готовность обнажает пружинку скрытого мотора: негр – жиголо. Бармен – актер. Вместе они наняты раскручивать публику, которая ждет от ночного Амстердама немыслимого разврата и будет разочарована, немыслимого не получив. Не исключено, что в прочее время их пристрастия вписываются в круг с гостиной, котенком, камином.
Раскрутка идет хорошо: упитанные американские студентки изображают милашек, белобрысые скандинавки – распутниц, а невозмутимые японцы, удовлетворенно посверкав вспышками, под руководством гида отправляются дальше по тропе порока в Red Lights, где с любой витринной проституткой можно провести быстрый fuck & suck, и где в крохотных зальчиках live-show пары делают любовь с усердием борцов полусреднего веса.
Однако амстердамский разврат – всего лишь торговля, продолжение Kalverstraat. В «веселом районе» давно нет преступности, продажная любовь защищена латексом, льющаяся на шоу в зал сперма – синтетическая. И даже мужчины из April’а и It похоже на кордебалет Бориса Моисеева: голландский гомосексуализм имеет отношение не к страсти, воспетой Уайльдом и Кузьминым, но к преимуществам однополого брака (дотируемое молодоженам жилье), клубного времяпрепровождения (все свои) и социальной защиты (представителя меньшинства уволить никто не рискнет).
Претензии к голландскому разврату не этические (за отсутствием предмета претензий), а эстетические: не работает вентиляция, кисло пиво, не найти сортира, лыс бархат крохотной, как в жэковском красном уголке, live-сцены. В ночном Амстердаме хорошо понимаешь подлинный масштаб городка, который был бы мало кому интересен со своими давно отсверкавшими революциями и тихими домиками над каналами. И никакой Рембрандт его бы не спас, как не спасает, допустим, Иваново наличествующий в местной галерее Тициан.
Но Амстердам как мог поставил, разрекламировал, раскрутил ту пьесу, что была ему по плечу и карману. Ведь «порок», «разврат» – категории мелкомасштабные: «пороком» называет житель уездного городка нравы, про которые житель столицы пожимает плечами: ну и что?
Амстердамская индустрия разврата нацелена, по большому счету, на кошелек сельского парня, удачно продавшего корову, хватанувшего на радостях хмельного, выкурившего «косячок», погыкавшего на витрину секс-шопа, потаращившегося на гей-клуб и в завершение забредшего к девкам в бордель, где его смущает одно – непостижимое предназначение биде. Компания таких деревенских парней, оставившая на паркинге BMW и у опустившихся жалюзи на витрине с девицей и забравшимся к девице приятелем орущая (должно быть): «Давай, Вася!» – и есть самый распространенный визитер района Red Lights.
Именно здесь, где бьют фонтаны фаллических форм и белье продажных дев светится мертвенно-голубым, как в цирке, и понимаешь, наконец, Амстердам.
Этот город каждый вечер ставит свою пьесу, где злодеев и распутниц играют вполне добропорядочные главы семейств. Можно шутить над их трогательно-серьезной игрой, но нельзя не признать, что туристские аншлаги следуют один за другим.
Мы возвращаемся из Амстердама домой, как возвращаются из оперетты в оперу, с малой сцены – на большую, и как с сельской ярмарки возвращаются в городскую квартиру, недоумевая, зачем же купили под шумок толпы рушник с петухами, глиняную кринку и расписную оглоблю. Мы, чертыхаясь, прилаживаем оглоблю на комод, прячем купленные хм-хм… открытки и говорим друзьям, что, конечно, самое сильное впечатление от Амстердама – это коллекция Вермеера в Rijksmuseum.
Но, ежевечерне натыкаясь на оглоблю взглядом, про себя улыбаемся, поскольку знаем, зачем рано или поздно приедем в Амстердам еще.
1997COMMENT
Когда я первый раз приехал в Голландию – в 1991-м – меня познакомили с питерским парнем Сеней. Он стоял на Кальверстраат в советской шинели и пел про поручика Голицына. Сеня дико страдал по оставленной в Ленинграде семье, дочуркам и пытался заработать хоть какие-то деньги. Он говорил, что прохожие стали скупы, подают неохотно. «Сеня, не будьте дураком, снимите шинель. Горбачев ввел танки в Вильнюс!»
Не очень чуток был к перемене обстоятельств Сеня, вот что.
Когда я просил про Сеню спустя шесть лет, то услышал, что он вышел замуж. «Женился», – уточнил я. «Нет, вышел замуж за Джона, – был ответ. – Ну, помнишь такого блондинчика?»
И, видя мое изумление – от Сени меньше всего можно было ожидать однополой склонности – объяснил, что брак решал все Сенины проблемы. Квартиру паре дадут как молодой семье, работу Сене поможет найти гей-комьюнити, а что касается жизни под одной крышей – так стерпится-слюбится. Мужчины и женщины, что, всегда по любви женятся? А ведь нередко потом хорошо живут! И вообще – не ваше дело.
Я промолчал.
Кажется, был такой сюжет – про как бы однополую по причине выгоды пару – век назад у Тэффи.
2014#Кипр Послать тещу подальше
Tags: Дикий туризм против организованного. – Правила выбора правильного острова. – Фламинго, православие, велосипеды и автобаны.
Я лет двадцать путешествую по миру самостоятельно, но этот текст пишу в групповом туре на Кипре. И многое для себя в этой групповой поездке открыл.
Но вначале, товарищи дорогие, позвольте обратиться к своей теще напрямую – а то, чего доброго, Марь Николаевна отлучит меня от блинов, приняв заголовок буквально (а ее подруги, освоившие интернет, про статью ей непременно сообщат). Под «посыланием подальше» я не прячу второй смысл – поверьте, когда родственников (для которых «юг» – это путевка, Сочи и колоннадно-статуйное великолепие санатория Орджоникидзе) требуется послать на море, посылать их действительно следует подальше, чем в Краснодарский край. И Кипр замечательный для этого вариант, а почему – скажу позже.
Пока же – о преимуществах индивидуального туризма перед готовым, упакованным, каковой продается и покупается, как любой другой товар. Я тоже когда-то отдых себе покупал. И судился-рядился, когда зимой в Риме селили в номере для паломников, умерщвляющих плоть, так что отопления и теплых одеял не полагалось. А в другой раз, поддавшись уговорам жены, провел «милый уютный вечер в типичной греческой деревушке», оказавшейся конвейером по околпачиванию тысяч двух человек, учащихся пьяно танцевать сиртаки.
Ну, там много чего в этих турах было, вроде опаздывающих чартеров или трансферов из аэропорта, развозящих всех-всех-всех по разным отелям (и твой, понятно, последний), или назойливых уговоров скинуться по 100 евро с носа за «незабываемый ужин с лучшими итальянскими тенорами», а еще экскурсий, напоминающих перекидной календарь: в таком-то году это, в таком-то году то…
И в один прекрасный день, когда морс из этнической клюквы встал поперек горла, мы ответили «нет» предложениям турфирм и взяли напрокат машину, чтобы сгонять из Праги в Карловы Вары. И радовались приобретенной свободе, и дрейфили, когда ветер сдувал нашу крошку «шкоду» на обледеневшем перевале в Татрах. А потом стали брать машины напрокат регулярно. А потом у турфирм стали просить минимум: перелет, отель. А потом и это стали заказывать сами, потому что, выбирая рейс самостоятельно, в Париж можно лететь через Мюнхен или ту же Прагу, проводя там день пересадки. А бронировать жилье благодаря интернету оказалось так же забавно, как поворачивать тубус калейдоскопа.
Последний раз, собираясь в Лион, мы с женой выбрали гостиничку на краю лежащего вдалеке от туристических троп парка Тет д’Ор, «Золотая Голова», где и бегали поутру между альпийских сосен, живых слонов, каких-то невероятных араукарий и – не поверите! – калифорнийских черепах, выпущенных в местный пруд с целью адаптации к европейскому климату. Ну и когда добрался бы я до «Золотой Головы», когда бы не подумал своей головой?
Я не хочу насильно никого обращать в свою веру. Просто у индивидуального, частного туризма есть, мне кажется, три важных особенности – а вы уж сами решайте, считать их преимуществами или нет.
Особенность первая: отдыхая самостоятельно, избегаешь мест русских гнездовий. Я же селиться вместе с соотечественниками за границей не хочу ровно по той причине, по какой не хотел бы селиться с соотечественниками, будь я немцем или шведом. Толпа компатриотов на чужбине непременно воспроизводит вокруг себя родину – зачем тогда было уезжать? По той же причине я, летя с коллегой в командировку, регистрируюсь на рейс порознь. Если летишь на соседних креслах, дорогу проводишь в болтовне, а так – можно дочитать книгу, досмотреть фильм. Если путешествуешь «дикарем», можно отправиться паромом не из Хельсинки в Стокгольм, как все русские, а из Турку на фантастические Аландские острова, бывшую северо-западную оконечность Российской империи, где водится огромная морская щука, бьющая хвостом так, что надувная лодка качается на волнах.
Особенность вторая: «дикий» туризм позволяет сохранить идею путешествия как путешествия, ныне убитую «пакетированными» предложениями. Я не про путешествие как авантюру. Диких, неоткрытых мест в мире не осталось, и кипрское местечко Айя-Напа, из рыбацкой деревушки за считанные годы превратившееся довольно шумное курортное предприятие, – лишнее тому подтверждение. Идея путешествия – это идея выбора, как перед камнем на распутье. Налево или направо? Из Барселоны в Андорру или во Францию в Каркассон, с его гигантской средневековой крепостью? Снять на ночлег комнатку в винодельческом хозяйстве или доехать до города? Кораблем или самолетом? Выбор наполняет путешествие весом событий.
Ну, а третья особенность очевидна – снимая комнату у местных хозяев, пользуясь сайтами местных железных дорог, невольно начинаешь понимать устройство местной жизни, приходя к очевидному (но все равно ошарашивающему выводу), что устройств этих великое множество, так что монолитные «Европа» или «Азия» дробятся на глазах. Что заставляет тебя относиться по-другому к собственной стране: с одной стороны, иронически, а с другой – извинительно.
В общем, я бы и дальше пел панегирик самостоятельному туризму, если бы компания MIBS, когда-то открывавшая Кипр для Греции, а затем распространившая это открытие на тьму стран, включая Россию, не пригласила в поездку по острову.
Знаете, я люблю острова – достаточно большие, чтобы требовалась машина для исследования, но все же достаточно маленькие, чтобы, выбравшись на полуостров или мыс, сказать: ого, тут конец местного света. Кипр – третий по величине в Средиземном море – из таких островов.
Вот представьте себе, граждане, гитару, заброшенную в море под палящее солнце на широту, где месяц не имеет вида букв «р» или «с», а висит себе рогами вверх и в таком же виде повторяется на куполах мечетей. Расположите в центре гитары гору в две тысячи метров, где пару месяцев в году горнолыжный сезон. Отдавайте этот остров век за веком попеременно грекам, римлянам, Византии, франкам, венецианцам, персам, туркам, англичанам и следите, чтобы все оставляли свой след, но как бы слегка, карандашом, без пышущего изобилия. Разделите, наконец, остров границей на православно-греческую и турецко-мусульманскую часть, превратив переход границы по причине безвизовости в аттракцион. Добавьте соленые озера с фламинго, античные развалины, скалы из мягких пород, видом напоминающие губку; прошейте остров автобанами, дорогами и велосипедными дорожками, которых на Кипре едва ли не больше, чем дорог в России (да, Кипр всерьез говорит о себе как о рае для велосипедистов. Я проехал километров 25 по кромке моря до мыса Греко, где дайверы ныряют в морские пещеры, – фантастика!). Да и, наконец, наложите на южный Кипр легкий отпечаток православной цивилизации, неуловимо роднящей Кипр с Сочи, с ее ленцой, умением договориться, в том числе и по-русски, потому что нет места, где бы на Кипре не говорили по-русски…
Повторяю: я отвык от радостей организованного туризма. Чем говорить по-русски, мне интереснее выучить десяток фраз по-гречески. Но, видимо, кое-что в развитии туриндустрии я упустил. Грандиозный пятизвездочный отель St. Rafael близ Лимассола, где я дописываю текст – он да, огромен, только ресторанов 6 штук. Но первую фразу я написал в отельчике So Nice на окраине освоенного бурной молодежью поселка Айя-Напа, и это не даже не отель, а горстка дизайнерских домиков-бунгало. И таких отелей-бунгало, обеспечивающих тишину и приватность даже в шумном месте, на Кипре строят все больше.
А главное – поскольку наша группа очень разная – я увидел, что то, что не очень нравится мне, является для других отличным вариантом. Да, Кипр немножечко напоминает Сочи – только море прозрачнее, пляжи лучше, музыка тише, дорог больше, а цены раза в два ниже. И это, кстати, важная причина, по которой, если вы всерьез намерены отправить тещу подальше, Кипр хорош: в Сочи, в Геленджике, в Анапе тещи способны разорять не хуже жен.
Лично мне не очень нравится привычка соотечественников проводить отдых, не вылезая из гостиничного бассейна – но и появившаяся манера объявлять бассейный народ «быдлом» кажется мне ужасающей. Любая попытка объявить свой стиль жизни единственно верным неизбежно тоталитарна, – вот что я понял на Кипре. Навязываемый вкус не обращает в свою веру, но выкручивает руки (кстати, история Кипра тому подтверждением).
Пару лет назад одна женщина, уже в годах, с гордостью рассказала, как дети на круглую дату купили ей поездку – я уж не помню, в Стокгольм или Копенгаген. Она мечтала всю жизнь выбраться за границу. «И как?» – поинтересовался я. «Я так измучилась. Боялась даже на минуту отойти от автобуса. Все казалось, что без меня уедут. А я ведь ничего на их языке не понимаю», – призналась женщина и заплакала.
На Кипре она бы забыла про свой автобус.
Только по-настоящему любящим детям следовало бы послать сюда родителей в самом начале либо конце сезона, да снабдить кремом от загара с индексом защиты как минимум 50.
Сейчас вот апрель, а здесь +23, и киприоты говорят, что таких холодов не помнят, и с ужасом смотрят, как мы лезем в море, в котором вода как в нашей речке в июле.
Но сгорели мы на солнце чуть не за полчаса, – не русские люди, а какое-то общество краснокожих.
И я не то чтобы его вождь, но летописец вождя.
2011COMMENT
После публикации этого очерка в «Огоньке» несколько человек спрашивали: «Ну, хорошо, с тещей ясно. А самим ехать отдыхать на Кипр – или как?»
Повторяю еще раз: за исключением действительно впечатляющего аттракциона Никосии (когда из провинциального, но европейского города в одну минуту, миновав чек-пойнт, переходишь в Никосию турецкую, на оккупированные территории, а по сути, из Европы мгновенно попадаешь в настоящую мусульманскую Азию, с криками муллы, с молчаливо пьющими кофе мужчинами, с бесконечными золотыми лавками), Кипр – это продвинутое и усовершенствованное черноморское побережье России. Включая галечные пляжи и не самое прозрачное море. Такой улучшенный Сочи.
2014#Италия #Флоренция Обезьяний питомник
Tags: Боноццо Гоццоли и попытка объединения Византии с Европой. – Козимо Медичи, Понте-Веккьо и торжество Европы. – Юрий Лужков, храм Христа Спасителя и торжество Византии.
Я только что провел неделю во Флоренции. Там шла знаменитая выставка моды Pitti Immagine Uomo, меня пригласили.
Утром я ходил по бесконечным павильонам, заселившим до краев старую крепость Фортециа да Босса, и понимал, что счастье на земле есть, и оно материализовано в прекрасных, как утро влюбленного мужчины, пиджаках Cantarelli, – а после обеда тихонечко сматывался в город. Где застывал от восторга уже в Капелле Волхвов во дворце Медичи-Риккарди, этой волшебной шкатулке, расписанной Беноццо Гоццоли; и почти час рассматривал чеканные лица в невероятных уборах, эти отстраненные, не пересекающиеся с тобой, взгляды пажей, все эти картинки, которые в детстве показывала мне в альбоме мама. Только тогда я не знал, что на шкатулке изображено византийское посольство 1439 года, последняя напрасная, но прекрасная попытка объединения католицизма и православия; что надменный юноша с живым леопардом на лошади, по имени Джулиано Медичи, будет убит вскоре неподалеку, на ступеньках собора Санта-Мария-дель-Фьоре, того самого, с куполом Брунеллески…
Знание истории, соединяясь со старыми камнями, дает наслаждение абсолютно чувственное, не меньшее, чем алкоголь или же любовная страсть, – каждый, кто это хоть раз испытал, поймет, о чем я говорю. Я простоял в крохотной капелле минут сорок и – о чудо! – в одиночестве, несмотря на «высокий» туристский сезон.
А еще во Флоренции мы играли. Сложилась у приехавших сюда русских – байеров и журналистов – сама собой игра. После очередного показа мы окидывали взором мир окрест, и спрашивали друг друга: «А представляешь, если бы мэром Флоренции был Лужков?».
Нет, ну на минуту поставьте себя на наше место. Вот вы на приеме, устроенном патриархом моды Роберто Капуччи, на вилле Бардини, на высоком левом берегу Арно – том же, где дворец Питти. В залах старого дома выставлены запредельной красоты платья. Из этих залов, с бокалом шампанского, вы спускаетесь в прекрасный сад, любуясь садящимся в sfumato солнцем и видом на город. Вот галерея Уффици. Вот вдоль Арно вышагивают белые цапли. Вот внизу района Ольтрарно стоят бедняцкие дома, в окнах сушится белье, однако дома тоже прекрасны, потому что они старые, многое помнят. И тут вы задаете друг другу вопрос: «А вот что было бы, если бы мэром Флоренции был Лужков?» – и заходитесь в гомерическом хохоте. «Палаццо Строццо?» – «Сначала он бы случайно сгорел, потом воспроизвели бы в монолите и устроили мегамаркет!» – «Санта-Мария Новелла?» – «Рядом начали бы уплотнительную застройку, собор пошел бы трещинами, снесли и воспроизвели бы в монолите, устроив подземный паркинг!».
И уж совсем истерика с нами случилась, когда мы представили, что сделал бы Лужков с Понте-Веккьо, самым древним сохранившимся мостом Европы, построенном в 1345 году. Понте-Веккьо и сегодня, как 660 лет назад, застроен угрожающе нависающими над водой лавками в несколько уровней, и даже дилетант, если удосужился посмотреть «Парфюмера», легко представит, как это впечатляюще выглядит.
Нас просто корчит от смеха: ведь невозможно вообразить, чтобы сегодняшняя московская (а шире – российская) власть не признала бы аварийной и потребовала бы немедленного сноса рухляди, что мокнет в воде 7 с лишним веков! Что, спрашивается, париться по поводу истории? Историю прикажут – перепишут. И воспроизведут в монолите. Тем более история у итальянцев нам не нужная. Вот, скажем, устроил Козимо Медичи в XVI веке внутри моста крытый переход, чтобы ходить в гости к сыну на другой берег. А проход, ныне известный как коридор Вазари, пришлось сделать кривым, потому как какие-то граждане, проживавшие на линии его прокладки, наотрез отказались жилплощадь освобождать. И вот – представляете?! – всесильные Медичи ничего не смогли с бунтовщиками поделать. Их бы да в Южное Бутово!
* * *
Вечером, после шоу мужского белья от Биккембергса (в здании бывшего вокзала Леопольда человек пятьдесят мужиков в одних белых трусах картинно застыли на подиуме, изредка меняя позы под «Лебединое озеро». Когда Чайковский сменяется прогрессив-хаусом, в зале гаснет свет, и в бликах фотовспышек становится ясно, что мужики снимают трусы. Женщины радостно визжат. Когда свет включается, видно, что белые лебеди сменились черными – в смысле цвета трусов. Ты ходишь вокруг подиума с шампанским, испытывая чувства, которые испытывала, должно быть, рыба в СССР по четвергам, когда был рыбный день) – так вот, вечером мы гуляем по городу.
Наша гостиница – на окраине, у старых городских ворот. Идти до центра минут 15. Флоренция – город маленький. И пять веков назад – то есть тогда, когда на местный рынок нельзя было зайти, чтобы не наступить на ногу либо Микеланджело, либо Караваджо – здесь обитало 200 тысяч человек, а сейчас всего в 2,5 раза больше. Зато туристов приезжает каждый год по пять штук на одного местного жителя.
Туристы – народ восторженный, но глупый. Им подавай непременно вековую седину, старые фрески, они без ума от Леонардо и Бронзино, от странных историй и темных времен. А обмануть народец ничего не стоит. Видел я, как в Москве туристы охали у фальшивой Иверской часовни (воспроизведена в монолите) и якобы Китай-города (аналогично). Да и сам охал, приняв по глупости в Риме возвышающийся над Форумом многоколонный монумент Витторио-Эммануила (новодел, историзм, конец XIX века) за камни Возрождения. А гид ужасно смущался и говорил, что «эту пошлость» сами римляне презрительно называют «пишущей машинкой».
Собственно, чтобы предотвратить обман дилетантов, не так давно архитекторы мира подписали так называемую Венецианскую хартию по реставрационной этике (Россия, кстати, к ней присоединилась). Суть в том, чтобы защитить историю от подделок. Когда старые камни рушатся, их нельзя заменять копией. Если Колизей и Форум погибли, можно либо демонстрировать их могилу, либо строить на могиле, условно говоря, стеклянный куб. Что тоже есть памятник времени, только другому. Но создавать копию Колизея – нельзя, как нельзя вывешивать, скажем, в Уффици фальшивого Караваджо, прикрываясь тем, что оригиналы велел сжечь Савонарола (тоже, кстати, был мэром Флоренции. Запретил танцевать, улыбаться, смеяться. Вскоре хмурые недовольные сограждане сожгли его самого). Историческая подлинность состоит в том, что история не переигрывается.
Ни в монолите, ни в кирпиче и ни за какой бюджет.
* * *
А еще, гуляя, мы говорим о том, что Лужков (что есть, по сути, не имя, а торговая марка столичного стройкомплекса), надежда и гордость москвичей, лишил их – и поделом, коль так монолитно его переизбирали, пока еще можно было избирать, – той Москвы, про которую когда-то написал Давид Самойлов: «Снега, снега, зима в разгаре, светло на Пушкинском бульваре, заснеженные дерева, прекрасна в эти дни Москва. В ней все уют и все негромкость». В Москве не осталось соразмерного человеку района: она теперь – сплошной офис, соразмерный занимающим его корпорациям. (Лужков ведь, если не ошибаюсь, сказал, что в центре не должно остаться пятиэтажных домов? – правильно, скоро и не останется. Он ведь сказал, что «сталинки» будет сносить? – правильно, и снесет, и воспроизведет.)
А в офисе туристу делать нечего. На весь осмотр столицы РФ сегодня нужен максимум день: меньше, чем на Суздаль. Красная площадь, Кремль, Третьяковка – и все. Прочее либо торговые комплексы, либо фальшак. Ведь фальшак – храм Христа Спасителя, фальшак – упомянутая Иверская, фальшак – Манеж, фальшаком будет Военторг. Символ сегодняшней Москвы – фальшиво признанная аварийной и воспроизводимая (в монолите) фальшивая гостиница «Москва» (а федеральный символ – незаконно перестраиваемая гостиница «Россия»).
В Москву туристу если и есть смысл приезжать, то как в Лас-Вегас, с его имитациями мировых шедевров. И не парадокс ли, что Лужков бьет себя в грудь, требуя вывода из Москвы казино.
И мы, наслаждаясь прогулкой вдоль Арно, решаем, что это он на публику бла-бла-бла. Не выведет. Воспроизведет. В монолите. В Москве сегодня можно жить, только чтобы зарабатывать крутые деньги и круто их тратить.
Не было в Москве праздника смешнее, чем 850-летие Москвы.
Это праздник новодела, прикидывающегося старым городом. Истории у Москвы больше нет.
* * *
У нас последний вечер во Флоренции, пора собирать чемоданы.
Уже сворачивая к гостинице, мой собеседник, знающий Италию не в пример лучше меня и куда больше здесь живущий, говорит, что понимает любовь москвичей к Лужкову.
Большинству, говорит он, трудно жить в европейских исторических городах. В Венеции, с ее сыростью и гниеньем каналов, не осталось итальянцев. Там покупают недвижимость американцы, англичане и русский художник Андрей Бильжо. А аборигены живут на берегу лагуны, в Местре, потому что не хотят поступаться удобствами жизни ради Большой Истории. И вопрос не в том, чтобы упрекать людей то, что они разменяли историю на удобства, а в направлении исхода.
В Европе, продолжает он, вслед за Америкой после войны случилась suburban revolution, революция пригородов, когда средний класс из Парижа, Рима, Флоренции, Барселоны стал перебираться в домик с лужайкой в пригороде. Все, что потребовалось для революции – строительство пригородных дорог и коммуникаций. В России же с коммуникациями известно что. Вот удобства и стали создаваться прямо на старых камнях.
– Ты понимаешь? – спрашивает он.
Я машинально киваю. Я не москвич, я петербуржец. Мне легко подчинять жизнь истории, потому что жизнь в Петербурге означает подчинение хотя бы графику разводки мостов.
Я знаю, что в Петербурге в последние годы риелторы делят квартиры в центре на два типа: «московский» и «иностранный». «Московский» – это когда монолит и подземный гараж. «Иностранный» – это когда сохранились лепнина и печи. Второй тип приводит в восторг европейцев, первый скупают с инвестиционными целями москвичи.
Я обойдусь без подземного гаража: не может быть подземного гаража под, условно говоря, Трезини. Зато в моем окне Петербург ровно в том виде, в каком он существует последние 200 лет. Смотришь в окно – видишь золотой сон.
– А представляешь, если Лужкова – губернатором в Питер?! – выводит меня из задумчивости приятель.
Я вздрагиваю, потому как по размаху сноса домов на Невском, Литейном и по обилию рекламы Газпрома мне кажется, что – уже. А засыпая, я вспоминаю вдруг безо всякой связи с прошедшим, что homo sapiens, человеком разумным, нас назвал Линней лишь в XVIII веке. До этого мы довольствовались Аристотелевым званием «смеющейся обезьяны».
Похоже, Линней поспешил.
2007COMMENT
Эта статья была опубликована в «Огоньке» без двух последних абзацев и с другим заголовком. Предосторожность была не лишней. В то время мэр Москвы Юрий Лужков выигрывал во всех московских судах все дела о диффамации. Писателя Эдуарда Лимонова мэр просто выпотрошил: все гонорары за текущие публикации одного из лучших русских писателей второй половины ХХ века уходили на оплату исполнительных листов.
По счастью, Лужков в суд на меня и «Огонек» не подал.
Что, впрочем, не помешало ему – как и губернатору Валентине Матвиенко в Петербурге, как и губернатору Валерию Шанцеву в Нижнем Новгороде, а вообще имя им легион – искренне, планомерно и отчасти даже вдохновенно изводить под корень старые камни, заменяя их монолитным железобетоном.
И хотя в Лужкова вот уже 4 года как в довольно свинской манере с губернаторского места прогнали, назад уже не отыграть.
2014#Италия #Тоскана Другая жизнь
Tags: Dolce vita, Пининфарино, просто Фарино и москательная лавка. – Машина по цене двухкомнатной квартиры в Риме. – Как мы с женой попали на тот свет и почему там было хорошо.
Бог его знает, как они на меня вышли; пришло письмо.
В итоге все развивалось как роман (слог тому доказательством).
Неведомый герр Вальтер Лаймер предлагал провести пару дней за рулем олдтаймеров Alfa Romeo под Флоренцией. Я никогда не слышал про компанию Nostalgic с регистрацией в Мюнхене и сайтом в доменной зоне. it; я недавно провел в Тоскане неделю и не люблю повторяться в поездках (mondo longo); и не доверяю незнакомцам. Но я согласился.
На заре гламура мне довелось написать, что мужчина должен уметь сделать женщине подарок: поездку на остров, где накрыт стол на двоих. Пригласить на прогулку, спуститься к воде, там – катер… А сам я был не то что подонком, но пацаном, поскольку своей женщине такого не подарил. Vita brera, пора было исправляться.
Вторая же причина состояла в том, что герр Вальтер не требовал денег вперед.
Это если уж до конца быть честным.
* * *
Во Флоренцию от нас нет прямых рейсов, и отлично: внутри Европы лучше не летать, а ездить. Тогда ее карта – листаемый текст (сказано пошловато, но точность меня извиняет). Пять часов из Парижа в Биарриц – скоростным поездом, тогда песчано-сосновые ланды, la lande, начнут прорисовываться на подъезде к Атлантике, как в «Подростке былых времен» Мориака. Полтора часа из Рима во Флоренцию – тем же Eurostar: можно поймать момент, когда за окном нежные холмы Умбрии заменятся еще более нежными холмами Тосканы, с их вечной дымкой, fumana.
Я смотрел в окно на Тоскану и поверх fumana (или даже foschia) видел отражение жены. Сквозь такой же туман где-то здесь спускался в ад Данте (почти в моем возрасте, кстати). Я обещал жене, что у нас все будет не просто хорошо, а прекрасно.
* * *
…Я же предупреждал, что получается не отчет, а romanzo, где порой смысл заключается в сбивчивости, в воздушных проколах (нет, это – в стихах), в уходе от сюжета. И важно сказать вот что. Массовость туризма позволяет легко менять страны, но не эпохи. Колизей навечно разрушен, и нынешние его центурионы – ряженые для фотосъемки. Самый крутой исторический туризм, кстати, сегодня в России, где в подмышке Вичуги или Шуи еще живы какие-нибудь «Хозтовары» с раздельным существованием дебелой продавщицы и дебелой кассирши… Я не о том? О том. Просто итальянский неореализм, от де Сика до Феллини, разглядел в той, 50-х годов, продавщице – Лоллобриджиду. Или наоборот. И вот ты вечером сидишь в ресторане «Цветы», который придумал Володя Овчаренко, владелец галереи «Риджина», и зачарованно смотришь «Сладкую жизнь», которую показывают прямо на стене. Но все же за окном – иллюминация Тверской, снос и реставрация, питерские чекисты и интервальные фонды. Понимаете, да? Когда имитация создает настроение – это одно. Но боже упаси принять имитацию за реальность.
И я больше не буду отступать от канвы.
* * *
На вокзале во Флоренции – секунда в секунду – ждал минивэн. Мы заехали в аэропорт, забрали немецкую девушку Гудрун (она тоже ехала с нами) и рванули прочь от города с высиженным (по Бродскому) Брунеллески яйцом, образующим купол Duomo. Через час колесики чемодана катились по выложенной кирпичом дорожке Il Borgo di Vescine: это полдюжины крестьянских домов на вершине холма, превращенных в отель. Я знавал в Италии такие дико уютные гостиницы: с балками, с окном в ванной (сквозь них порой прошмыгивают любопытные ящерки), с бассейном, со старыми камнями.
– Век шестнадцатый? – спросил я жену.
– Может, и старше.
Ужинали в – как это сказать? – в том, что по-французски называется chateau, в винном хозяйстве, принадлежащем семье Paladin (ей же принадлежал и отель). В закатной мгле вокруг на километры тонули виноградники и оливковые рощи Кьянти – не надо спрашивать, что мы там пили.
– Dmitry, – спросила вдруг Гудрун, нервничая, – а правда, что на этих машинах нет усилителя тормоза?
Я рассказал про спортивную честность старых машин, где нет усилителей, а есть прямой разговор ноги с тормозом и руки с рулем. Это называют еще «чувством карта». Так выстроены и некоторые современные спорткары вроде Lotus Elise. «Спайдеры» Alfa Romeo, обещанные нам с утра, – из того же ряда.
Я, кажется, зря ей это сказал.
Всего нас собралось человек 10, считая Вальтера и его компаньона Герта. Я отметил англичанина Мартина, дико похожего на молодого Тома Уэйтса, болтливого голландца Аарта и красавицу-итальянку Лючию.
– Вальтер сказал, – шепнула жена, – что наш отель тринадцатого века. Дизайн у наших «альф» от Pininfarina, который вообще-то когда-то был просто Farina. У этих Фарина до автомобилей лавка с мылом была…
Я спросил Лючию, чем она занимается. Она смущалась, ей не хватало иностранных слов – и протянула карточку. На ней значилось: «Компания Paladin. Lucia Paladin». Улыбнулась и подлила вина из собственных подвалов.
…В окно ночью постукивала ветка. На ней росли разом желуди и какие-то абсолютно круглые шарики. Туман рассеялся, все было залито звездами, как было залито ими и 50, и 800 лет назад.
* * *
Утром было солнце. Вальтер сказал, что лишь дважды во время заездов шел дождь. Он снимал чехлы с автомобилей, выстроенных под стеной. Под ними машины казались маленькими и плоскими, как банки сардин. Когда флот обнажился, я ахнул. Я видел такие машины в черно-белой «Сладкой жизни» и, возможно, в «Похитителях велосипедов». А здесь были алый лак, голубой лак. И машины были такими нереально маленькими, какими были автомобильчики с педальками в моем детстве, которое никто не превратил в прекрасную эпоху, потому что в СССР снимал фильмы Бондарчук, а не Феллини.
Я сразу понял, что выберет жена – самый большой красный Alfa Romeo Spider 2600, с двумя рядами кресел. В 1958-м такие стоили 25 000 дойчмарок, цену квартиры с двумя спальнями в Риме, их покупали американцы.
Мы мягко тронули с места: road book под рукой, наш Spider во главе колонны, где были еще один 2600-й и несколько двухместных «Джулий» и «Джульетт». Дорога шла по холмам мимо Fonterutoli, Arezzo, Badesse. Я подумал, а жена произнесла вслух: «Сказочно красиво». Когда ты живешь с женщиной 18 лет, ты молчишь либо оттого, что все сказано, либо потому, что вы думаете одинаково. Но самым сильным ощущением был не вид на Кьянти, а то, что на спортивном Alfa Romeo с объемом двигателя 2,6 литра и развиваемой скоростью 230 км/ч отсутствовали ремни безопасности, а кресла не знали, что такое боковая поддержка и были мягки, как диван.
И вот без ремней, без защиты, без крыши на алом с хромом авто мы с женой ехали по петляющей дороге на высоте 600 метров над уровнем моря.
И это было сильно, солнечно, замечательно, но вовсе не то, чего я ожидал. Я притормозил. Пусть впереди едет хохочущий, не замолкающий ни на секунду Аарт.
* * *
– Но все равно: это же очень красиво, – сказала жена. – Ты расстроен, что ты не Мастроянни? И что это сильно напоминает экологический туризм? Но мы ведь только начали!
Я кивнул. Я выбрал в жены правильную женщину. Теперь нужно было, чтобы ставка на Аарта сыграла. Мы ехали на 50-летней машине, пребывающей в прекрасной форме, но все же не на машине времени.
Когда прекрасный до невозможности вид с белыми доломитовыми холмами, расчесанными полями, домами и кипарисами вдруг обернулся запруженным автобаном, я понял, что не ошибся в Аарте. Мы, слава богу, сбились с начертанного пути. И после короткого совещания остатками колонны решили как партизаны уходить с автобана в ближайшую деревню, откуда звонить за подмогой Вальтеру.
Так мы оказались в, если память не изменяет, Asciano.
Там были церковь с прикрученным к тыльному фасаду волейбольным кольцом, заправка с колонкой (ровесницей Alfa Romeo), кафе со столами на улице и смотревшие на нас старики. То есть они не пялились, но смотрели так, как должен смотреть праведник после смерти на рай, в котором вместо кущ и серафимов обнаружились тот самый дом, в котором жил у бабушки в детстве, и та самая река, и тот пес, что бежал за тобой на реку.
– Вот ты для них сейчас и есть Мастроянни. А твоя московская тусовка и есть твоя сладкая жизнь, если ты, дурак, до сих пор это не понял, – сказала жена.
Лючия принесла кофе, я спросил, сколько стоит, она покачала головой: здесь цены наверняка еще были в лирах, здесь было еще 35 лет до введения евро, и это был не твой мир, но у тебя был действительный пропуск в него, сверкающий лаком и хромом пропуск, с огромным, как штурвал, рулевым колесом и крохотным рычажком указателя поворота, который не отключается автоматически, потому что в 1958-м до автоматического отключения еще не додумались.
И пропуск должен был действовать как минимум 10 минут, через которые обещал приехать Вальтер и на которые хватит 10 миллилитров ристретто, который в Asciano почему-то подают под именем эспрессо.
* * *
– Да! Конечно! Это нормально – сбиваться с пути! Хотя бы потому, что кофе в дороге я предусмотреть забыл! У нас впереди монастырь с потрясающими фресками! У нас обед! Но можно просто поехать, куда захочешь, хоть в Рим!
Вальтер появился ровно через 10 минут.
Когда на следующий день после привала не завелась моя новая любовь, малышка «Джулия» (с олдтаймерами всякое случается) – он через те же 10 минут привез на замену «Джульетту».
Вальтер был из северных итальянцев, наполовину немецкая кровь. Ему нравилось и удавалось сочинять день. И если обед в описанном Данте тысячелетнем замке (том, что «корона дьявола») предполагал клецки с рикоттой в пюре из тыквы с розмарином и баранину, тушенную в санджовезе с фенхелем, – то сменявший его ужин, ясное дело, таил простую домашнюю пиццу на воздухе. Пиццу, кстати, отлично готовил находящийся в найме у Лючии Сергей – бывший ракетчик из Белоруссии, рассказывавший нам, что поздней осенью отель закрывают, потому что дорогу в горах заносит снегом; и что у него здесь есть друг-почтальон; и что они с женой абсолютно, неправдоподобно счастливы, то есть именно здесь, в Кьянти, они начали действительно счастливо жить.
Он же рассказал историю, как какая-то из русских дам, приехав к ним и зайдя в дом, выбежала с криком «Мусик, нам вместо пяти звезд подсунули крестьянскую хибару!».
– Но это был исключительный случай, – добавил Сергей.
Мусиков, правда, так и не переубедили, они уехали, – да и слава мадонне.
* * *
Если ты попал по своему пропуску в другую жизнь, можно не спешить. Однажды мы запарковались у церкви, где шло венчание, и дети, сопровождавшие жениха и невесту, просили разрешения сфотографироваться у нашей машины, и мы специально оставили им дверцу открытой, а сами пошли внутрь церкви, и оказалось, что это церковь при университете Сиены. Еще там были терракотовая собака, сидевшая на стене, сказочной красоты сад и комнаты, из которых никто не гнал; бил колокол.
А в другой день, или месяц, или год мы поехали в саму Сиену, всю из рыжего кирпича, где главная площадь вырезана прямо в земле в форме раковины, и там по праздникам скачки, а еще в Сиене строили самый большой в мире собор, но не достроили, так что из улицы растут стены без крыш.
А потом началась осень, и холмы стали черными и прозрачными, и дорогу в горах занесло, и почтальон жаловался, что в баке застывает солярка, а мы пили кафе у окна, зная, что каждая чашка приближает сезон, когда, случается, к нам в Asciano заезжают люди на шикарных красных спортивных машинах, и мужчина за рулем одной из них мне смутно знаком.
2007COMMENT
Дима Быков много раз уговаривал меня сесть за роман. Даже, нет, не так: «Когда ты сядешь за роман?!» – возмущался он. Быков настоящий писатель, то есть демиург. Он создает скелет сюжета, наделяет его сухожилиями структуры, кровеносной системой идей, мышцами сюжета, кожей слов. А у меня талант не костей – только кожи. Я умею коллизии описывать, но не придумывать. Не я один такой: вон Лимонов писал-писал исключительно про собственную жизнь, а когда все написал, перестал быть писателем, ушел в революционеры. Но у него, – ах, какая была жизнь: эмиграция, нищета, любовь с негром на помойке! А мне про что писать – про поездки на «Альфа-Ромео»?
Но иногда я, если вы обратили внимание, забываюсь, и пишу про «Альфа-Ромео» и Вальтера Лаймера так, как будто это роад-стори и как будто Вальтер в этой истории герой, и даже этот комментарий я пишу сейчас так, как будто это мысли героя за рулем, когда он едет и едет, едет и едет по ведущей в небеса дороге.
И Быков давно махнул на меня рукой. «Черт с тобой, – сказал как-то он. – С тобой и с Радуловой. Может, вы поднимаете журналистику до литературы».
Милый мой Быков, я занимаюсь тем, что упорядочиваю хаос хроник до уровня смыслов. И если пишу, что Овчаренко давным-давно закрыл на Тверской свой ресторан «Цветы», а галерею «Риджина» не закрыл, перенес на Винзавод, то тут же добавляю, что правильно сделал, потому что и галерея, и ресторан – это такие бизнесы, что каждый требует тебя всего без остатка, и невозможно без ущерба совмещать.
И все же… Может, и правда – за роман?
2014Bonus #Италия #Сардиния Хорошо ловится рыбка-сардинка
Tags: Бедная падчерица богатой истории. – Рустам Тарико, Стефано Габбана, Ленни Кравиц и русские в Billionaire. – Бухта Луны, остров Морторио, вилла Берлускони.
Сардиния – место нереста миллиардеров. Сардиния – рай для экономных туристов. Там все бесконечно дорого. Там все за три евроцента. И это все так. И не так. В общем, слушайте…
Несчастлив был мальчик, родившийся в Италии в 1960-х.
Потому что, когда мальчику исполнялось 10 лет, он узнавал, что великие открытия сделаны и неоткрытых островов нет (впрочем, мальчики от этого открытия рыдали не только в Италии).
А еще через 10 лет итальянский парень понимал, что в Италии не осталось романтических побережий. Что Римини, воспетый Феллини, – это просто такой (прости, господи!) Сочи, забитый папиками с матронами и обильно произведенными bambini. И что, скажем, дивный крохотный Портофино под Генуей раскуплен богачами до квадратного миллиметра: цены такие, что к утесу с бывшей виллой Муссолини не подползешь.
И тогда – в ранних 80-х – жаждущие свободы, моря, любви, солнца и пляжей итальянцы открыли для себя остров Сардиния. Как открывают дверь и консервную банку, как открывают в соседке по дому любимую. Вхождение в сардинскую дверь и сегодня оставляет чувство первооткрывания и первооткрывателя. Редко где такое сохранилось.
* * *
Я полетел на Сардинию увидеть миллионерские яхты; потусовать с миллиардерами и их дочками; проверить, каков на вкус отель, который выглядит как горстка рыбацких хижин, но в котором самый дешевый номер стоит 600 евро («У тебя недорогой отель», – сказала мне девочка, которая с мамой копила деньги в Москве, чтобы искать пр-р-рынца в местах королевских кочевий: зимой – в Куршевеле, летом – на Сардинии). Еще я хотел поужинать в ресторане Cipriani, брате нью-йоркского Cipriani, который славен политической кухней, в которой варятся герои капитолийского бомонда. И, наконец, я хотел побывать в клубе Billionaire, с которого, по слухам, был содран весь российский клубный устав.
Самолетик из Рима летел над морем, потом над безотрадной гористой местностью: безотрадность смущала, но остров был явно огромен. Дорога по направлению к местной Жуковке, поселку Порто-Черво, петляла по кручам над берегом, – ничего, доложу вам, особенного; видали мы и покруче. Отель – если не ошибаюсь, Le Palme – тоже не потрясал. Ну да, приличный номер, эдакий «под старину», с намеренно побитым кафелем и живой ящерицей на балконе – но, друзья мои, новодел, как ни маскируйся под деревушку, весело раскинувшуюся на берегу, остается новоделом.
Времени до коктейля Bellini, который в Порто-Черво положено пить умело спускающему миллионы плейбою, было тьма. Я взял машину и спросил паренька, заведовавшего на пляже лежаками, в какую сторону лучше ехать – Costa Paradiso или Costa Smeralda?
– Ты русский? – спросил парнишка меня. – Ты будешь вечером в Billionaire? Там будет русская вечеринка! Там будут русские девушки! Умоляю (он был готов бухнуться на колени) – проведи меня туда!
В глазах его светилась вся похоть мира, помноженная на всю глупость адолессантства, полагающего, что стоит прокрасться на закрытую вечеринку, как девушки тут же предпочтут тебя ювелиру Фавасу Груози или экс-премьеру Сильвио Берлускони.
Я улыбнулся настолько виновато, насколько мог. Он потух и ткнул пальцем в фотографии направлений. Скалы на Райском берегу, Costa Paradiso, походили на преддверие ада. И я выбрал Изумрудный берег, Costa Smeralda, – ощущая себя если не его волшебником, то, по крайней мере, Страшилой Премудрым.
* * *
Только представьте себе: лениво валяется в Тирренском море у подошвы Италии гигантский – почти 400 километров в длину! – остров, на котором век за веком ничего не происходит.
Ну, обитает какой-то невнятный народ, древние нураги, строит в горах из камней круглые башни и крохотные дома, к морю почему-то не снисходит. Римская империя добирается до Сардинии через пень-колоду: ей здесь некого завоевывать и нечего делать (до нас дожила пара невеликих развалин). Новейшая история тоже обошла Сардинию стороной: на сопоставимой по размеру Сицилии отметилась мафия, а здесь – разве что скотоводы, положившие на алтарь местной кухни мелкорубленого молочного поросенка. Именно поросенок (а не сардины-анчоусы) считается фирменным местным блюдом. И вот какой вывод в конце 1980-х делал из перечисленного амбициозный бизнесмен-итальянец (а ведь нашему мальчику было к тому времени уже под 30!). Земля дешева, пляжи – безлюдны, а песок на них – лучший в Италии: надо скупать. И в эпоху всеобщего помешательства на экологии, сбоку припеку слабо обжитых бухт и бухточек стали расти имитирующие деревушки отели, стоящие ныне в сезон до $7000 за номер за ночь и привлекающие всех, кто эти деньги согласен платить.
Отсталость обернулась плюсом.
Сардиния – кажется, единственное место на море в Европе, где отелей-мастодонтов, отелей-небоскребов нет вообще.
* * *
Я ехал по Costa Smeralda без руля и ветрил, то есть без цели. Первые ощущения всегда самые нежные, они стираются на второй или третий день, и вот эту стертость чувств мы называем жизненным опытом. Я задумался, а когда скосил глаза вбок, то чуть не дернул рулем. В прорези деревьев, за полоской моря виднелась даже не скала, не скалища, не гора, – а нечто. Каменная шляпища, торчащая из моря высокою тульей. Я не задумываясь, свернул в поворот, за которым обнаружились, как сказала бы чеховская барышня, «миленький» поселочек, пристань и лодки, игравшие роль такси.
– Это что? – спросил я лодочника, все еще не веря глазу.
– Остров Таволара, – был ответ. – Сейчас соберем людей и рванем, скажете, когда забрать обратно.
Я оценил слово «run» («побежим»), а не «go» («пойдем»), когда через пять минут мы даже не рванули, а полетели, как торпеда летит в цель, подпрыгивая на волнах. Но запомнилось даже не это, а необитаемость Таволара. При желании на песчаной косе можно было изыскать место под нудистский пляж. Вода была сине-зелена; в очках с поляризационным эффектом все выглядело космически, включая остров, который в высоту (полкилометра) был больше, чем в ширину.
Я плескался дельфином молодым и не верил, что такое может быть в хорошо изученной Европе.
Потом несколько раз, уже в другие приезды, я открывал для себя на Сардинии пляжи, доступные только с воды; пляжи с розовым песком и с белым; пляжи, за полосой которых начинались озера, в которых стояли фламинго; пляжи, где громоздились мягкие скалы, выеденные водой и ветром так, как будто Сардиния лизала их вместо мороженого.
И всюду всегда находилось место на паркинге.
* * *
Вот первая фраза из английского путеводителя по Сардинии (русского нет): «Шла вторая неделя августа, когда по радио сообщили, что ежедневно 10–12 тысяч человек высаживаются в аэропорту Олбии; я удивлялся, что под их массой Сардиния до сих пор не опрокинулась в море северной стороной. Я в это время был на юге Сардинии, на пляже с идеальным песком, на 15 километрах которого встретилось не более 30 человек, и я был единственным иностранцем. Где это было, не скажу, потому что нашел это место сам».
Так что у нас есть шанс.
Если, конечно, мы всерьез не застрянем на Изумрудном берегу, или на Райском, или в Порто-Черво, потому что они-то как раз все – на обсиженном миллионерами севере.
* * *
В тот же день в девять вечера, в абсолютно золотых, 24-каратных, лучах заката я с группой товарищей отдыхал в Порто-Черво на террасе Chopard, утыканной хрустальными гробиками с бриллиантами, открытыми взгляду публики, как мумия вождя – посетителям Мавзолея. В компании были дизайнер Надя Сказка, состоявшая в ту пору в подругах Ильи Лагутенко; светская хроникерша Аня; светский фотограф Левитин и менеджер водочной империи «Русский стандарт» кудревласый плейбой Антуан. Пили мы, впрочем, не «Стандарт» и даже не «Империю», а положенное шампанское с персиками: тот самый Bellini по 25 евро за порцию.
В небе нарастал звук пчелы; пчела обрела вид вертолета.
– Сейчас я покажу свою грудь, и вертолет приземлится, – сказала Сказка.
Она опустила лиф платья.
Вертолет приземлился.
На террасе зааплодировали, за исключением мужчины по соседству, в котором я узнал экс-президента Украины Кучму. Из вертолета вылезло телевидение с камерами. Море кишело лодками. Мы шли ужинать в «Чиприани», поднимаясь по террасам, утыканным магазинами вроде Lora Piana, где все свитерки под тысячу евро, потому как связаны из смеси пуха, выщипанного вручную из живота ягнят, и шелка.
В ресторане не покидало чувство, что проходит большой, прекрасный съезд Cosa Nostra. За столами восседали крупных черт жгучие женщины, в дугах бровей которых еще читалась красота их юности; в ушах сияли те самые шопаровские бриллианты, рядом лежали сумочки от Versace и сидели мужья в черных очках и с зачесанными назад шевелюрами. Каждый из них был готов отдать кошелек за молодую любовницу, и жизнь – за семью. Затем появился Берлускони в небрежно наброшенном на плечи голубом свитерке, который наверняка был соткан из смеси шерсти тех самых ягнят с шелком. Сходство со съездом усилилось.
В ужине, честно говоря, самым впечатляющим был счет – что-то около 300 евро на брата; я поблагодарил небеса, что не моей идеей было сюда идти, следовательно, не моей обязанностью – платить.
Выход из ресторана одновременно был входом в Billionaire. О да, всё не всё, но многое русский клубный гламур, от почившей московской «Шамбалы» до живого питерского Jet Set Beach, содрал отсюда: лежаки под балдахинами на улице, бассейн с идущим на бортике шоу, иерархию танцполов и vip-залов. Мы сидели в ложе, забронированной владельцем «Русского стандарта» Рустамом Тарико.
– Ты кто? – спросил Тарико, возникший из ниоткуда сразу с двумя блондинками. Он был напряжен, как напряжен человек, который знает, что его деньги интересуют людей больше, чем он сам, а потому неизбежно подозрителен к незнакомцам.
Я представился. Затем подошел владелец команды Renault «Формула-1» (да, собственно, и Billionaire) Флавио Бриаторе. В соседнюю ложу маленькому индусу носили один за другим полуторалитровые «магнумы» шампанского, из ведерок били фейерверки. Мало кто узнавал в индусе стального короля Лашми Митала, всемирного номер два из «Форбса». Я пошел на танцпол; было весело, один из танцующих показался мне знакомым, я прокричал по-английски:
– Слушай, мы, кажется, встречались в Лондоне? Или в Москве?
– Не помню, – прокричал он в ответ, – в Москве я скоро буду. Меня зовут Стефано. Сейчас будет шампанское.
Когда я вернулся за столик, Сказка мотнула головой:
– А я и не знала, что ты знаком с Габбаной. О чем это вы с ним там болтали?
– Я ему понравился, – поперхнулся я.
Каменной глыбы Таволара не существовало на свете. Не существовало сардинского вина ценой 3 евро за 2 литра, нурагских построек и тихих доверчивых крестьян. Не существовало ничего, что я принимал за единственную реальность днем.
Я понял, что пора на свободу, к морю. Дорога к свободе пролегала мимо туалета; из него как раз выходил Ленни Кравиц.
* * *
Я потом научился совмещать две Сардинии: транжирящую, танцующую, сверкающую бриллиантами, ночующую на собственных яхтах – и тихую, безлюдную, изумрудно красивую, блистающую архипелагом La Maddalena с десятком необитаемых островов, куда добираются за 15 евро рейсовым корабликом, и в цену входит обед с пастой, которой можно есть сколько съестся.
Первая Сардиния была для ночи, для экскурсии в резервацию миллионеров, и пропуском в нее были шикарная рубашка и выражение лица типа «устал я от ваших тусовок». Вторая же была для дня, и в ней для дресс-кода хватало шортов и майки. В этой второй Сардинии очень хорошие отели были дешевы, только находились не в Порто-Черво, а чуть-чуть в стороне, где-нибудь под Порто-Ротондо.
Однажды в этой второй Сардинии мы с моей женой плыли на паромчике из Санта-Мария Наваррес в усеянную пещерами Бухту Луны и по пути поругались. Я гордо ушел к пещерам; жена осталась на пляже. Вода стояла высоко, в дальние пещеры пришлось плыть, волна била в камни, я с трудом забрался в расщелину, где море добывало красную глину. Я просидел в пещере час, лелея обиду; когда же обида умерла, выяснил, что обратного хода нет. Разошедшиеся волны обнажали камни, по которым было не пройти и над которыми было не проплыть. Меня распирало от смеха, что так глупо попался, и мне было страшно, что море может и правда убить. Я думал о жене, которая сейчас волнуется, потому что вот-вот обратный рейс (пожалуйста, прости меня!) и стал поджидать, когда самая высокая волна даст возможность перемахнуть через камни (вот она!) – и перемахнул. И мы потом пили то самое, дешевое отличное вино, а потом ехали сквозь горы – и с одной стороны тоннеля были тучи и дождь, а с другой солнце и небо, и читали бесконечные надписи agriturismo, мелькавшие там и сям, и видели этот сельхозтуризм, с его палатками без удобств, разбитыми прямо в оливковых рощах, с его горожанами, за свои деньги доящими хозяйскую козу, и это было новым развлечением и увлечением мальчугана, рыдавшего от огорчительного открытия, что неизвестные острова все открыты.
На следующий день мы взяли напрокат катер – его здесь дают по водительскому удостоверению – и за сорок минут долетели до островов Соффи и Морторио, где осторожно, чтобы не погнуть винт, ввели лодку, как лошадь, под уздцы, в какую-то тихую бухточку и провели там весь день, утерянные для мира. А на обратном пути сбились с курса и пристали к чьей-то вилле, и купались у нее, пока не прочли, что здесь запрещено швартоваться, купаться и вообще быть, – и мы рванули обратно, и потом нам одни люди объясняли, что это вилла Берлускони, а другие люди – что Путина, и мы потом слышали так часто про Путина и Берлускони, что получалось, любая дорогая вилла на острове принадлежит одному из двух связанных крепкой дружбой мужчин.
А потом мы погрузили машину на паром и отправились на французскую Корсику, где портовый городок Бонифацио, знававший Бонапарта, стоит на обваливающихся в воду скалах, дико похожих на засахаренный слоистый торт.
Впрочем, Корсика и Бонапарт – из другой истории.
* * *
И напоследок вернусь к заголовку. Рассказ Сэлинджера The Perfect Day For Banana Fish, переведенный на русский как «Хорошо ловится рыбка-бананка», содержит в названии игру слов, известную по словосочетанию «банановая республика». Banana – это все, кому привалило случайного наследства, или случайной власти, или случайных нефтедолларов, – в общем, случайных денег. И banana fish, таким образом – не только Elops saurus, сельдь большеглазая, но и, в некотором роде – золотая рыбка. Или, если хотите, золотая сардинка.
Собственно, больше про Сардинию мне нечего сказать.
2007COMMENT
Да, собственно, какие тут могут быть комментарии?
Не считая того, что в тот самый вечер, проведенный в клубе Billionaire, я умудрился чуть не подраться с Флавио Бриаторе.
Дело в том, что девушки, прошмыгнувшие с Рустамом Тарико, оказались воровками. В vip-зоне они стырили кошелек с невероятными тысячами у дочки основателей авиакомпании «Сибирь», подчистили кофточки Lora Piano у светских хроникерш, – хотя Лашми Митал, кажется, не пострадал. Тарико сообщил о случившемся Бриаторе, Бриаторе заменил охрану, а новая охрана меня в vip-зону не пустила.
Возмущенный, я грубо заорал на командовавшего охраной мужика в расстегнутой рубашке с волосатой грудью:
– Get out! It’s my place!
Это, конечно, было идиотское заявление. Мужик (а это оказался Бриаторе, я не узнал его) яростно ответил тем же.
Мы сцепились.
Не знаю, успел ли заснять это Левитин, а теперь не спросить – в 2013-м Валера неожиданно умер от сердечного приступа, и всем, кто был знаком с этим отчаянным матерщинником, умеющим «отстреливаться» из фотоаппарата как из автомата, – стало дико не хватать этого (как стало очевидно сейчас, но не было видно тогда) трогательного и трогательно верящего в лучших ангелов наших душ парня…
Завизжавшие хроникерши предотвратили драку, подобно тому как графитовые стержни в ядерном реакторе предотвращают цепную реакцию. И – надо отдать барышням должное – мои защитницы сказали, что немедленно уезжают «из этого дерьмища».
На семерых у нас была одна машинка-smart, напоминающая размерами швейную. Правда, это был удлиненный (метров до двух) вариант: нечто вроде smart-лимузина. Вместились. У девчонок ноги торчали наружу через окна. Классное было возвращение.
Тот паренек, что выдавал на пляже лежаки, – он бы оценил!
2014Bonus #Португалия #Лиссабон Бабушкина кладовка, сумасшедший трамвай
Tags: О, старые страны, пою я вам гимн! – О, нищее величье бывших великих империй! – О, старые ночные трамваи; о, старые изразцовые стены и старые мраморные мостовые!
В Лиссабон – при первой возможности! Пока там еще бедно, кризисно и фантастически хорошо. Томик Ремарка «Ночь в Лиссабоне» в сумку – и вперед. Прочие – сытые – столицы подождут.
Даже если Португалия вдруг сказочно разбогатеет, путешествие на край Европы будет манить, как всегда манит край. Город на берегу широченной (другой берег теряется в дымке) реки Тежу, запускающей руку в океан. Западнее – ничего. Если плыть, плыть и доплыть, из-за круглого бока Земли вынырнет Новый Свет. Все так отсюда и плыли: и Васко да Гама, и Магеллан. На месте отплытий стоит салазаровских времен колоссальнейший монумент. Можно забраться наверх, охватив взглядом и прыгнувший в воду ренессансный замок Torre de Belеm, и монастырь иеронимитов, и корабли, и конец света. Старого Света.
Лиссабон и вправду старый город. Стары стены, облицованные потрескавшимися изразцами, azulejos. Стары трамваи и фуникулеры. Стары тысячи мелких кафе, в которых готовят соленую треску-бакальяу. Стар нелепый подъемник Санта-Жуста. Стары продавцы на совсем уж блошином рынке Feira da Ladra. Стары церкви. Круты подъемы. Кривы щели улиц Алфамы. Стар как мир запах травки в сквере у Miradouro de Santa Catarina, где лежбище студентов. Невероятно хорошо!
* * *
В Лиссабоне мы сняли квартиру. 400 евро в неделю, 60-метровое дизайнерское пространство. Центральнее не бывает: район Байша, Baixa. Выбегающая на набережную Торговая площадь, – в минуте. Если бы мы выбрали Алфаму – тащили бы чемодан по улицам, уходящим вертикально вверх. Если бы Байру-Алто – получили бы под окнами пару миллионов баров. Если бы поселились в Белеме – добирались бы полчаса до Байши, Алфамы и Байру-Алто.
Прилетев, отправились на площадь, рассчитывая застать остатки рынка. Прошли по мощеной черным и белым мраморным булыжником Rua Augusta сквозь гигантскую арку…
Мы обманулись названием.
Это была, опять же мощенная камнем, площадь – только не рыночная, а бывшего королевского дворца. С трогательным имперским псевдоклассицизмом (империям, впрочем, важны не пышность, но простор). Мы были в сердце бедной, прописавшейся в дальних европейских родственниках, потерявшей морское владычество, пережившей землетрясение 1755 года, – однако империи.
В сердце того царства-государства, что по мере утраты колоний застыло, как провинциальный музей (вот почему в Лиссабоне нет своего Лувра: главный, музей Гюльбенкяна, с отличной коллекцией живописи, ковров и изразцов, был построен уже после смерти спонсора).
Река-океан. Гигантская площадь. Конный всадник. Каре дворца. Край жизни. Во Вторую мировую все, кто бежал от нацистов, оказывались здесь в расчете на чудо, на американскую визу.
* * *
Ночью мы шли, пританцовывая, по этим полированным каменным торцевым мостовым. Мрамор был всюду. Лиссабон ночью блестел, как после дождя, и чудилось, что прошел дождь. Волны мраморного рисунка на Prao Rossio обращались в волны, и приходилось крениться набок, падая, чтобы не упасть.
В Лиссабоне турист – путешественник, первооткрыватель: вот что ценно.
Мраморные торцы, глазурованные изразцы, лестницы, фуникулеры, мавританские окна… В другой стране сняли бы сотни фильмов. Но попробуй-ка найти просто городской путеводитель. Эти дождевые мостовые, эти плитки-азулежуш, эти закуски на столах каждого кафе, молчаливо выставляемые на стол без указания цены (но это не французские комплименты от шефа, не бесплатно!), – это каждый открывает впервые, как ребенок открывает дверь бабушкиной кладовки.
Там груды золота лежат, и нам они принадлежат.
* * *
Цены смешные. Ощущение американца на послевоенной Ривьере. Проездной на день – 5 евро: все фуникулеры, лифты, паромы, автобусы, метро, трамваи.
На следующий день мы впрыгнули в трамвай № 28 – он вдруг понесся, вверх, вниз, по горам, по долам, нынче здесь, завтра там, Мурария и Алфама, улицы в ширину вагона ровно, щ-щ-щас врежемся! – уф-ф-ф, португальские горки. Вышли – не знаю даже где. Площадь, сквер, собор, кафе на два колченогих столика. Жена взяла стакан воды, я – вина. Оставили два евро.
На стандартизированных ценниках в каких-нибудь H&M и GAP отдельно значится цена для Португалии.
* * *
Лиссабон – трамвайный город. Едешь, и виды меняются в ритме боевика. Как-то, уже в сумерках, на Prao dos Restauradores, сели в странный трамвай с опущенным задом, буквой «г», а он оказался фуникулером и потащил в гору, над крышами погоревшего в 1988-м района Шиаду. В Шиаду мы не нашли ни одного супермаркета, но каждый магазинчик был набит porto, и продавцы говорили (если могли сказать на английском хоть слово), что Порту – это, конечно, совсем другое, не Лиссабон.
* * *
А еще мы взяли за 50 евро в день (сглупили, конечно: нужно было за 20) машину и поехали в пригород, в Синтру, в замок Пена, вмиг принижающий фантазии Людвига Баварского до статуса рядовых.
А еще мы бродили по порту и рынку.
А еще объедались треской – в принципе, ужин на двоих обходится в 25 евро с литром вина, потому что самый простой способ выжить в бедной столице на краю света – это открыть ресторан.
Но так и не послушали грустные песни фаду, которые возведены в ранг национального достояния, то есть в разряд туристического развлечения.
Но свойство бабушкиной кладовки состоит в том, что, как ни ройся, все равно в следующий раз найдешь что-то еще.
2012COMMENT
– Почему ты ничего не написал про фаду? Ка-а-ак, ты не сходил на фаду?! – вот что немедленно поставили в упрек после появления этого текста на сайте Geo.ru русские поклонники Португалии (их не так много, но как раз поэтому они очень заметны).
Фаду, fado – это национальные португальские грустно-любовные песни, а с недавних пор еще и часть мирового наследия ЮНЕСКО. Реклама фаду в Лиссабоне всюду. Есть Дом фаду, клубы фаду, бары фаду. Весьма недешевые, кстати. Возможно, из-за коммерциализации фаду у меня с фаду и не срослось – мы все откладывали послушать фаду до последнего дня, то есть повторили вечную ошибку всех путешественников, которые откладывают важное действие на последний день, даже прекрасно зная, что «потом» никогда ничего не бывает.
Но фаду все же произвели на меня сильное впечатление самим фактом своего существования. И я какое-то время по возвращении в Петербург даже носился с идеей создать у нас Дом русского романса и добиться включения русского романса в то же мировое наследие ЮНЕСКО. Мне кажется, что русский городской романс (как и фаду в Португалии, и фламенко в Испании, и танго в Аргентине) – это то, что из музыки в России по-настоящему уникально. К тому же я очень люблю русский романс и, право, «Отцвели уж давно хризантемы в саду» без слез слушать не могу, хотя, казалось бы, пошлость наимещанская и наиневообразимейшая. Однако ж за сердце хватает.
Но я не музыкант, увы. А друзья-музыканты (включая исполнителей романсов) – они все говорили в ответ как-то так: ага… ну да… На этом все и остановилось.
В общем, идея ждет своей реализации; дарю.
2014#Германия #Дюссельдорф С днем победы
Tags: Почему в Дюссельдорфе закрывают на ночь аэропорт. – Старый порт и резиновые человечки. – Почему бургомистр не живет в своей резиденции.
Недавно в Германии, в Дюссельдорфе, я был трижды изумлен, хотя за границей бываю часто, а удивить меня вообще трудно.
Первый раз я изумился тому, что местный аэропорт закрывается на ночь: то есть не тому, что с 23:00 до 7:00 он не работает, а причине, по какой не работает. Ну, попробуйте догадаться сами – почему? Не выдерживает конкуренции с франкфуртским и мюнхенским хабами? За ночную работу нужно дороже платить? Как бы не так! Аэропорт закрывается потому, что местный бюргер желает ночью спать. Он так решил – и баста.
Второй раз потрясение вызвала перестройка старого порта в офисный район: туда пригласили оторваться молодых архитекторов. И они оторвались по полной: один офис – самые большие в мире часы, другой покрыт мятой сталью, третий облеплен резиновыми человечками – знаете, такими, что кувыркаются по стеклу. Но потрясение вызвала не архитектура, а то, что архитекторов вскоре позвали опять: строить в районе офисов жилье. Немцы ужаснулись, что ночью офис-порт мертв, и теперь исправляются, строя рядом и дико дешевые, и дико дорогие квартиры, потому что когда все вместе – это и есть жизнь.
А третий раз я был сражен, когда мне показали резиденцию бургомистра. «А нельзя к нему заскочить на чаек?» – «Нет, нельзя, потому что он там не живет. Резиденция сдается бургомистру в аренду, а у него зарплата не такая, чтобы ее снимать. Так что он живет в своей квартире, а в резиденции проводит официальные приемы».
Что-оо-о-о?! Горожане – градоначальнику – за деньги?!
Испытав катарсис, я вернулся в Россию и, знаете, о чем подумал? Не о свойстве российских бургомистров ездить на «мерседесах», смотреть на город как на источник денег и отгораживаться от тех, кто беднее.
А о том, что правы историки, которые полагают, что выигрывает войну не тот, кто принимает капитуляцию, а тот, кто извлекает больше преимуществ из ситуации, в которой оказался в результате войны.
2008COMMENT
К моему удивлению, на этот текст не последовало ни одной гневной отповеди. Хотя напечатан он был в газете «Деловой Петербург» под День Победы. Я, кстати, считаю, что одна из чудовищных вещей, разъедающих русское сознание, – это статус 9 мая как праздника. Красный мясник победил коричневого мясника, причем мясницкими методами (например, ради того, чтобы раньше союзников взять Берлин, положено было 300 тысяч советских солдат!) – и вот вся скотобойня празднует.
День скорби, день траура, день поминовения, день осознания трагедии и ошибок, что угодно – но только не праздник.
Иначе мы никогда не будем жить сопоставимо с Германией.
И, похоже, мы никогда и не будем.
2014#Германия #Мюнхен Свои люди
Tags: Из страны бесконечного Ahtung в страну идеального Ordnung. – Рай для немецких старичков. – Образцы промдизайна, два потерянных чемодана и отчаяние под сенью родимых осин.
Мы с женой летали на выходные в Германию, в Мюнхен. Билеты были бесплатные, по накопительной бонусной программе «Люфтганзы», а резонов лететь было три. Во-первых, купить кое-какую сантехнику для идущего в квартире ремонта, во-вторых, выпить пива в заведении по имени Хофбройхаус, ну, и, наконец, заглянуть в Старую Пинакотеку. Именно так.
Если кто не знает: Хофбройхаус – это пивная, в которой Гитлер устраивал путч, а Ленин писал «Что делать». Расшифровывая (вот безобразник!) сокращение Hofbrаuhaus до «HB» как русское «Народная воля». («А не пойти ли нам к на’одовольцам, това’ищ Т’оцкий?».) Пинакотека – это такое место, куда ходят смотреть Рембрандта и Сезанна (всего пинакотек в столице Баварии три). А что до ремонта, то в городе Мюнхене существует большое количество ретромагазинов, в которых торгуют вещами, производящимися в неизменном виде чуть не с позапрошлого века, в одном из которых я просмотрел замечательный душ-лейку, который, конечно, мог купить и в России, но по цене в 5 раз большей. То есть лететь по совокупности причин следовало непременно.
И вот в аэропорту «Шереметьево-1» я должен был встретить с петербургского рейса жену, а затем ехать в «Шереметьево-2», откуда уже лететь в Германию.
Полагаю, что в нашей стране существуют люди, для которых оба «шарика», то бишь Шереметьева – совершенно нормальные аэропорты, и дорога к ним вполне себе ничего, и вообще, Россия – лучшая в мире страна. Если хотя бы одно из утверждений близко и вам – умоляю, не летайте на короткую вакацию за границу, хотя бы и по бесплатному билету. Не создавайте себе идеал, которому по возвращении суждено быть опошленным.
Я вот, например, в первом «Шереметьеве» на табло не нашел рейса, которым жена прилетала. То есть представляете, да? – человек вылетел, sms прислал «села в самолет, встречай, целую», а среди прибывших рейса нет. Это что угодно может означать, и я, понятно, психанул. Но милейшая девушка, которую я выловил откуда-то из информационной службы, сказала, что это пустяки, это табло просто не работает, и ласково, исцеляюще на меня смотрела, сказав с интонациями сестры-сиделки: «Загубите вы так себя. Ну что же вы так волнуетесь? Все будет прекрасно у вас!».
Жена и вправду прилетела.
Однако тот, кто ездил хоть раз в ночи (а впрочем, и днем тоже) из «Шереметьева-1» в «Шереметьево-2» знает, что ничего прекрасного на такой дороге быть не может. Дело в том, что шоссе, связывающее два главных аэропорта страны, – это убогая двухрядка, изрядно разбомбленная авиацией противника. Указателей на ней нет, а грузовики на ней есть, а освещение – только местами. Вот представьте: поздний час. Не видно ни зги, кроме заляпанных грязью тусклых фонарей впереди вихляющей фуры. Обогнать невозможно. Плестись в дыму этого газенвагена тоже. Разметки нет. Темная ночь. Этот город называется Москва. Степь да степь кругом. Только пули свистят по степи. Разок я чуть было не врезался в ремонтный столбик, прыгнувший под колеса без предупреждений.
– Господи, и это лицо нашей страны! – воскликнула жена.
Она была глубоко неправа, поскольку это было не лицо, а, скорее, жопа, но жопа была, действительно, Москвы и страны.
В международном аэропорту мы еле-еле нашли парковку. Прежний бесплатный паркинг был урезан втрое, стенка в стенку с ним шла неведомая стройка, куда было идти – решительно непонятно: ни указателей, ни света, битый щебень, мрак, грязь под ногами, вой кранов, брызги сварки. Мы потащили чемоданы туда, где смутно угадывался аэропорт. Через минуту над нами навис ковш экскаватора, и грянуло классическое «Куды прешь?!». Однако человек в каске, уразумевший, что люди прут на рейс, но не знают «куды», сменил гнев на милость и показал на незаметную щель в заборе, куда следовало переть дальше, чтобы не получить но голове башенным краном.
– Развели говнище, – честно сказал он, харкнул на землю и скрылся.
– Господи, и эта страна купается в нефтедолларах! – еще раз воскликнула жена.
Я промолчал, потому как спорить с женской логикой бесполезно. Ничто вокруг нас не указывало, что страна купается в нефтедолларах. Все вокруг нас указывало на то, что в стране осваиваются нефтедоллары – зло, отчаянно, с чуть ли не показным харканьем – и что целью этого освоение является освоение, но никак не, прости господи, забота о ближнем, не говоря уж про дальнего.
– ОНИ, – продолжила жена, выделяя интонацией слово ОНИ, как выделяла его в те времена, когда мы еще читали Солженицына в самиздате, – понимают хоть, как к России должен после такого относиться иностранный турист?
Я опять промолчал, потому что было странно представить, чтобы ОНИ хоть раз в жизни парковали ИХ машины на публичных стоянках и везли к аэропорту чемоданчики на колесах. Думаю, что ИМ вообще странно было представить хоть что-нибудь в своей жизни, осуществляемое на общих основаниях. ОНИ ведь не президенты Франции, приписанные к районной поликлинике, и не мэры Лондона, добирающиеся на велосипеде на работу.
Но мы от НИХ улетали, так что если ОНИ были творцами зла, то без НИХ должно было быть хорошо. Нам и было. Отличный борт «Люфтганзы», ходившие по расписанию автобусы и свежевымытый, весь в зелени, Мюнхен, город, подробности пребывания в котором я опущу. Там и большой Рубенс был на месте, и маленький Рембрандт, и конфетного вида площадь Мариенплац. Для любознательных же соотечественников, никогда в Мюнхене не бывавших, скажу только, что это замечательно богатый старинный город, при взгляде на который никогда не поверишь, что 85 % его было разрушено в войну. В Мюнхене особо привлекателен крохотный, полтора на полтора километра, центр, который, однако, не обойти и за три дня. С изобильнейшим рококо, встреча с которым в России редкость. Рай для немецких пенсионеров, сбивающихся в огромные стаи, – и каких пенсионеров! Настоящих прекрасных фриков. Встречали мы там и жестко мелированную даму лет ста в белом платье с нашитыми розами; и ее ровесника с забранной в pony tail сединой, выгуливающего разом полдюжины собачонок (с которыми, кстати, в Мюнхене пускают и в магазин, и в ресторан, и даже, кажется, в оперу). А у «народовольцев» (пивная могла принять разом с тысячу человек) 70-летняя кельнерша такой валькирией летала по залу, что Вагнер отдыхал.
А еще в Мюнхене немало магазинов, являющихся, по сути, галереями промышленного дизайна: и семейный универмаг Radspieler (запутанный и странный, c барочными потолками), где торгуют, как бы это поточнее описать? – точно тем же, что поставляли Людвигу Баварскому, и где реально купить ночной колпак и наусники. Или ManuFactum, где я как раз нашел свою лейку и где нет ни одной вещи, производство которой не было бы начато как минимум полвека назад: там есть и правильно обрезанные гусиные перья, и деревянные кубики, какими я играл в детстве. Или KARE, где мешаются все стили – от превосходно поддельной Индии до какого-то совсем уж нью-йоркского гламура, с обманно кривыми зеркалами в серебряных рамах.
В общем, будет возможность слетать – летите непременно; я же возвращаюсь в Россию, причем налегке в буквальном смысле: по возвращении выяснилось, что весь мой багаж пропал. И все, что нажито непосильным трудом (замшевая куртка – две, душ-лейка – три, и далее по классике) заблудилось в недрах «Люфтганзы». Хорошенькое возвращение, правда? Особенно ночью.
И вот тут люди, призванные оформлять документы на пропавший багаж, опять оказались как-то не по службе добры. Они, конечно, сначала забыли выдать мне квитанцию с подтверждением потери, но зато потом всячески утешали и говорили, что это потому, что «Люфтганза» перешла на электронные билеты; и что все непременно найдется, прилетит первым утренним рейсом, будет доставлено на дом – и что уже в полдень, максимум в час дня, мне позвонят.
И я, шмыгая носом, но утешенный, поехал по Москве по раздолбанному Ленинградскому проспекту, где шел ремонт, но не было предупреждающих знаков, зато имелось сразу две взаимоисключающих разметки, причем каждая, если по ней честно ехать, приводила в бетонный надолб – но я, слава богу, как опытный гражданин России, ехал нечестно, поэтому остался жив.
В полдень, однако, «Люфтганза» не отозвалась. В час дня тоже.
– Это какая-то российская «Люфтганза», – впервые точно заметила моя жена, когда я, с интервалом в три минуты, начал дозваниваться сам, но никто не брал трубку.
Потом я поехал на работу, жена осталась сторожить. Я звонил и с работы, безрезультатно, и дозвонился только в пять.
– Да все окей! – отозвался лихой парень на другом конце. – С утра найдены ваши чемоданы! Почему не привезли? Да ты ж сам сказал, что тебе завтра опять улетать! (Он или вправду перешел на «ты», или мне так показалось по тону, но, надо сказать, в голосе его была хамоватая артистичность.)
Мне действительно надо было улетать, и я об этом накануне честно сказал, но не ожидал, что это основание, чтобы мне их не привозить вообще.
– Старик, все отлично! В семь вечера выезжает машина! Сиди дома и жди!
Чемоданы не привезли ни в семь, ни в десять. Я сидел и набирал все номера телефонов, хоть как-то связанные с «Шереметьево». Я звонил на склад забытых вещей и на таможню, и – о чудо! – люди, вовсе не обязанные отвечать на мой запрос, после моих искренних жалоб куда-то там звонили по внутренним телефонам, связывались с неведомой «Наташей Королевой», чтобы расспросить о «люфтганзовских, а то тут парень один вообще без штанов остался», – и вскоре я узнал, что чемоданы мои три часа как покинули с представителем «Люфтганзы» (российской «Люфтганзы») аэропорт. Где они шлялись, что делали, почему не звонили – это покрыто мраком.
Когда же я уже пил валидол вперемешку с валерьянкой и мечтал о страшной мести через суд (желательно Басманный), в дверь позвонили. Моя потеря, ты нашлась, войди скорее. Было половина одиннадцатого ночи. Сутки с прилета. Доставивший потерю извинялся и улыбался…
В общем, если окажетесь в такой ситуации – не паникуйте: багаж в наш компьютеризированный век не пропадает, рано или поздно – довезут. Попав на дороги без указателей, не паникуйте тоже: злые люди, его устроившие, при персональном подходе оказываются и добры, и милы, и любезны. Бейте на жалость.
Я же думаю об одном: почему эти милые, добрые, душевные люди, из которых большей частью состоит наша страна (полагаю, и ОНИ в личном общении милы и душевны), творят такую похабень, как только собираются вместе и приступают к профессиональной деятельности?
Следует ли нам утешаться душевностью?
Или все же настаивать на обезличенном, имперсонифицированном, общем для всех Ordnung – порядке, уничтожающем бардак?
Я как-то больше склоняюсь к первому. Боюсь, что выбирая второй вариант, мы придем к неизбежному выбору между русскими без России – либо Россией без русских.
2007COMMENT
«Шереметьево» за прошедшие годы изрядно и построилось, и перестроилось, и даже сменило порядковые номера терминалов на литеры. Особенно хорош терминал D, откуда улетают рейсы «Аэрофлота». Если нет багажа, то, регистрируясь на рейс через интернет, можно вообще приезжать «Аэроэкспрессом» за 50 минут до отлета.
С остальным – что с указателями, что с дорогами, что с порядком, который для меня вовсе не казарма и «колонной-строем-арш», а вот как раз внятная навигация жизнеустройства – тут все обстоит по-прежнему.
И я все чаще объясняю это тем, что люди в России – как и в большинстве азиатского типа стран – живут вне христианского типа бытовой культуры, то есть такой культуры, когда люди равны и равно важны, и ты к путнику относишься как к самому себе, и при этом живешь для себя. У нас живут – учатся, строят, делают машину или пекут пироги – не для себя, а для чего-то (кого-то) вне себя. Для родителей, начальства, ради денег или чтоб отстали. Наша страна по-прежнему не наша, а чья-то. Наши – квартира, дача. А уже подъезд в доме или подъездная дорога к даче – они не наши, на них плевать. И на тех, кто не наш, кто не отсюда, тоже плевать.
В этом-то все и дело.
2014#Германия #Баден-Баден Старая Европа и новый Петербург
Tags: Голой задницей по следам голой задницы Достоевского. – Слуга меня запеленал. – Губернатор Матвиенко как наследница Гитлера.
Как-то приятель соблазнил меня провести уикенд в Баден-Бадене. Он обожал то, что называется Старой Европой, и обещал ее показать по полной программе.
Приятель родился в Перми, однако давно жил в Голландии, я же в ту пору работал в Лондоне. Идиллический городок на краю Шварцвальда был действительно удобен для встречи: из Лондона туда летал дискаунтер Ryanair, из Амстердама шел скоростной поезд. А «полная программа» отсылала к европейской истории в той же мере, что и к русской: я был зван «на воды».
К водам в Баден-Бадене имело отношения два заведения: современный шалман, содержащий в названии что-то типа spa, и старые термы Фридрихсбад, в которые мы и отправились. Войдя внутрь, я остолбенел, а будь на моем месте Елена Батурина-Лужкова (испытывающая, как известно, сильные страдания при виде «ужасного состояния» венецианских домов) – она бы, глядишь, и умерла. Кафелю там было полторы сотни лет. Того же возраста толстенные трубы открывались при помощи огромных рычагов. Потолок выглядел так, как выглядит потолок, веками впитывающий дух минеральных солей. «Зато ты сидишь голой задницей на той же мраморной скамье, на которой сидели Достоевский и Тургенев, – сказал приятель. – А в новом spa кто? Одни ваши воры».
Не могу сказать, что тактильные ощущения от филейных частей Достоевского меня восхитили, но разницу между старым и новым я прочувствовал хорошо. Мы продвигались по термам минута в минуту по заведенному с XIX века расписанию, то погружаясь в горячий бассейн после прохладной парной, то в холодный после горячей. Банщики хватали нас за ноги для разворота на каменной мыльне и растирали какими-то пузырями, что мало походило на то, что я понимал под словом «массаж». И, наконец, мы перешли в последний зал, построенный, на манер римского Пантеона, в виде купола без окон, где тусклый свет вперемежку с дождем падал внутрь через отверстие на самом верху. Капли били о мрамор пола. Еще один слуга беззвучно схватил меня, спеленал простыней по рукам и ногам – как младенца – и уложил на подогретое ложе, накрыв байковым, как в детстве, одеялом. Я уснул невиннейшим сном в своей жизни.
Камни Старой Европы усилили мою любовь к Петербургу – единственному старому европейскому городу в России, который вообще по своей сути есть город золотого сна, декорация вымышленной прекрасной империи. Это было одной из причин, почему я не остался жить в Англии. Должно быть, ту же любовь чувствуют питерские декораторы: не те, что закупают тоннами для очередного интерьерного ресторана стразы от Сваровски, а те, что трясутся над подлинными старыми кирпичами. Ведь эти кирпичи много чего видали и много кого знавали – от Достоевского до Мандельштама.
Тогда я еще не знал, что старый Петербург вскоре начнет уничтожаться с тем же буйством, с каким в 1990-х новые русские сбивали лепнину в протечках ради подвесных потолков. При губернаторе Матвиенко на Невском снесут больше старых домов, чем было разрушено Гитлером в войну, и это, к сожалению, вовсе не литературная гипербола. Многие объясняют уничтожение истории коммерческим интересом, но я порой думаю: а может, разрушители просто не видят, что Петербург – это Старая Европа? Не знают силы старых камней?
Я и сам, плескаясь в термах в бассейне, спросил приятеля: а где же знаменитая баден-баденская минеральная вода?
– Дурак! – был ответ. – Ты в ней сидишь.
2008COMMENT
Мы, русские, иногда представляемся мне нацией детского, детсадовского даже, возраста. Несмотря на тысячелетнюю историю. Может быть, потому, что история в России ходит по кругу – и новое поколение в некотором смысле каждый раз начинает с нуля, не усваивая опыта прежних.
В Европе ведь тоже история не всегда считалась ценностью, и, скажем, во второй половине XIX века префект Осман недрогнувшей рукой снес средневековый Париж, включая дивные мосты-улицы (а уж как против этого протестовали Гюго! Бальзак! Золя!).
Но там уже к концу XIX века одумались.
А у нас в начале XXI века – все еще нет.
И вовсе не утешение, что Матвиенко из гауляйтерш прогнали.
2014#Бельгия #Брюссель #Брюгге #Антверпен Бельгийские штучки
Tags: Страны гастрономические и негастрономические. – Французские шарады и бельгийские невесты. – Завтрак под Вагнера и фактор ума в процессе доведения до ума мидий.
В 2004-м году я жил в Лондоне – этой фантастической столице гастрономической пустыни по имени «Англия». Хваленые рестораны в чайна-таун оказались хуже плохих китайских в Питере; в индийских заведениях карри было ярко-желто от красителей. И всюду было невкусно. Ей-ей, для меня центром гастрономической цивилизации была столовка Би-Би-Си на Стрэнде, где за три с полтиной фунта чернокожий детина наверчивал, как чистый бриллиант, stir-fry – то, что потом пришло к нам под именем «вок». Я с тоской ждал получки и думал, что рвану на поезде под Ла-Маншем в Париж, который стоит мессы чревоугодия. И вот тут по русской секции Всемирной службы Би-Би-Си разнеслось: «Из Бельгии возвращается Кристоф!»
– Ху из Кристоф? – спросил я.
– Наш шоколадный мальчик! У его мамы chocolate factory!
О появлении Кристофа – белозубого сияющего мальчишки, разливающегося по-русски курским соловьем – я узнал по запаху шоколада и, не знаю, по свету, наполнившему коридоры с тугими противопожарными дверями. Кристоф вернулся из дома и теперь коллег одарял. «Это шоколад Leonidas?» – натужно подольстился я, вложив в вопрос все познания о кондитерском цехе Бельгии. «Ну-Leonidas-у-нас-в-общем-то-конечно-больше-для-туристов», – щебетнул Кристоф, протянул мне коробку, – и я пропал.
Я не слишком жалую сладкое, знаете ли. Десерты для меня – цезура, ритмический пропуск в строфе. Но это был шоколад Cornе Port Royal. Это такая, если я правильно понимаю, валлонская материализация представлений о счастье.
Надо ли говорить, что в ближайший уикенд я махнул в Брюссель. Туда из Лондона – как в Бибирево из Теплого Стана. К тому же Париж, должен заметить с высоты сегодняшнего опыта, не есть гастрономическая столица мира, поскольку гастрономической столицей мира не может быть город, где нужно знать, в какой ресторан идти. Париж трачен молью туризма. Гастрономическая столица Франции – Лион; гастрономическая столица мира – Бельгия.
Именно Бельгия, а не Брюссель или Антверпен. Потому что в некрасивой, с подразбитыми дорогами, скучноватой стране, где всех-то и счастий панатлантизма, что стопроцентно освещенные в ночи шоссе, – можно приехать в любой город, завалиться в любую харчевню (да хоть на перекрестке туристских троп, как однажды в шовинистическом и нетолерантном Антверпене мы завалились в первый попавшийся шалман, где с моей женой, переводчицей-синхронисткой, отказались говорить по-французски)… Название заведения, я, понятно, забыл, два кудлатых пса валялись под столами, мы от возмущения и голода заказали первое, во что ткнулся взгляд, свиные ребрышки – и местная национал-официантка нам лениво и быстро их принесла. О боги. О Вицлипуцли и сладостный Озирис. Ребра пред готовкой макнули на секунду в сахарный сироп. Это была свинья с карамелизированных небес. Ребра лежали пулеметною лентой, чуть не полуметровым куском. Мы скомандовали «Пли!» – и перенеслись вслед за свиньей в рай… (Пункты по переходу в рай находятся в Бельгии всюду, и, уверяю, визу не спрашивают.)
Потом Кристоф, – который станет нашим другом и переедет в Париж, и мы будем приезжать в Париж и останавливаться у него, – мне объяснит устройство Бельгии. Это страна, живущая не наружу, а внутрь. Завоеватели Брюсселя всегда задумчиво чесали репу (ту, которая под шлемом): и на фига ж было надо за такое счастье биться? – и решали нестись далее по своим нехитрым делам. А хитрые брюссельцы вылезали из домов и, перекрестясь – ну вот, еще одних дурней спровадили! – отправлялись к скворчащему в котелке (тому, который на огне) маслу, чтобы попарить репу либо же банальную картошку по хитрому рецепту превратить в самые вкусные в мире фриты.
Впрочем, вру. Бельгийская кухня такова, что потайных швов в ней нет.
Это во Франции каждый шеф – шарадист: «мой первый слог на дне морском…», – и поди разгадай, какого морского гада он скрестил, скажем, с телячьим зобом, превратив обоих в суфле. А кухня в Бельгии бесхитростна и открыта, как сельская невеста в первую ночь. Главное национальное блюдо – это как раз жаренная в кипящем масле картошка. Фриты делают на каждом углу и едят на каждом углу – их лузгают, как в Вологде семечки. Но кто бы мне объяснил, на каких Елисейских полях они добывают картошку!
Помню, однажды парень по имени Джеф Хэррис – англичанин, присматривающий в Брюсселе за евроэкстремистами, про коих он пишет книги, – потащил меня на ланч на площадь Журдан. «Популярное место», – сказал он. Я поверил, когда на подступах он раскланялся с дюжиной чиновников Европарламента (евробюрократы, как и геи, в выборе мест для еды осечек не делают). На площади произрастала унылая круглая постройка – в Ленинграде когда-то такими метили конечные остановки трамваев. Мы подошли. Остановка называлась «У Антуана» и торговала фритами навынос. Подле, блаженно-счастливые, фритами объедались семейные матроны и поклонники промискуитета, депутаты и гастарбайтеры, коренные и понаехавшие, – единая, черт побери, Европа!..
Впрочем, забегаю вперед. А тогда, в первый приезд в Брюссель, я мечтал найти буколический городок под хребтами черепичных крыш, желательно пропахший шоколадом, – как в Москве до сих пор им пахнет галерейный район у бывшей фабрики «Красный Октябрь».
Как говорит поколение next, действительность меня обломала жестоко. Брюссельская авеню Сталинград выглядела так, будто битва случилась вчера. На улице, где я зарезервировал комнату – серой, тоскливой и бесконечной, как жизнь по гудку – не было номеров домов, и я надеялся, что правильно понял хозяйку, уверявшую, что «я мимо не пройду». Неожиданно среди уныния образовался дикий виноград, в зарослях обнаружилась дверь. Вышедшая дама грозно спросила, где моя жена. Покачав головой и сказав, что не доверяет мужчинам младше 50, приехавшим без жен, она все же впустила: похоже, из жалости. В комнату вели грандиозные стеклянные двери с травленой плавиковой кислотой рисунком. Кровать эпохи мадам Рекамье могла разместить полк. В столовой из-под пятиметрового потолка свисала хрустальная люстра размерами с то чудище, что украшает в Лондоне Музей Виктории и Альберта. За круглым столом сидели семейные пары старше 50, все в черном, и ножи зловеще звякали в тишине, потроша тушки круассанов. Вдруг грянул Вагнер. Я физически ощутил, что сейчас прозвучит выстрел, а потом приедет Пуаро, и нам не дадут разойтись, пока не найдут убийцу – и бросился вон.
Я бежал до площади Гран-Пляс, где барочные здания цехов и готический абрис ратуши ласкают не столько глаза туристов, сколько линзы их фотокамер, – и плюхнулся за столик. Окрест, насколько хватало взгляда, столики были уставлены черными кастрюлями. В кастрюлях возвышались груды мидий. Публика – плотоядно, смачно, как семечки – поглощала моллюсков, выбрасывая шелуху раковин в крышки от кастрюль.
Возлюбленные братья и сестры мои, родня по чревоугодию! Любой дурак умеет готовить мидии: моешь раковины, режешь пару лимонов, чуть томишь это добро в собственном соку, пока не раскроются створки. Это так же просто, как готовить мидии в белом вине или в пиве – и так же просто, как готовить фриты или сохранять в мясе сок. Это умеют все дураки и дуры мира. Но почему-то у дураков получается унылое дерьмо, а в Бельгии – бесконечное счастье. Почему? Не знаю. Но и в ар-нувошном Brasserie Horta, и в шалмане со стершимся от обилия туристов именем, и на скучнейших деловых авеню, и в кишочках улочек на холме над брюссельским Дворцом Правосудия – вы всюду найдете три слагаемых местного кулинарного счастья: фриты, мидии, шмат мяса. (A propos: в переулках над упомянутым Дворцом мы с женой однажды наткнулись на гастрономический ресторан Le Gourmandin. Там двое мужчин совмещали функции нежных друзей, поваров и официантов. Когда они принесли заказ – голубя с карамелизированным баклажаном на ковре из картофеля – я обомлел: ковер был сложно соткан из картофельных нитей.) Так что не спрашивайте у меня адреса.
Впрочем, один – в качестве предупреждения – я все же дам. Однажды в поисках средневековых красот я поехал в Брюгге (меня извиняет то, что фильм «Залечь на дно в Брюгге» тогда еще не был снят). Насладившись каналами и игрушечными домиками, я поспешил на вокзал по улочке Oostmeers (собственно, другого пути не дано). Улочка представляла собой череду кондитерских лавок. И я, не любящий сладкое человек, накупил шоколада в подарок сестре, жене и племянницам. И мне его художественно упаковали. И потом, в ожидании электрички, я решил одну коробочку открыть. Соблазнился запахом. Хотя это был не изысканный Marco Lini, а уж бог его знает какой шоколад…
…И когда электричка пришла, я стоял, как идиот, с перемазанным шоколадом ртом, и доедал последнюю упаковку.
И самое ужасное – мне за это до сих пор не стыдно!
2011COMMENT
Там еще вот какое продолжение завтрака под Вагнера было (я рассказывал об этом друзьям, но журналу «Афиша-Еда», для которого и был написан этот текст, история явно не годилась…) В общем, та дама, владелица пансиона, что не доверяла одиноким мужчинам младше 50, строго-настрого мне приказала не возвращаться позднее 23:00. А я после обеда поехал в Антверпен, провел там дивный вечер, засиделся в местном рок-клубе, – ну и вернулся в Брюссель лишь последней электричкой сильно за полночь.
В дверь я стучал полчаса. Безрезультатно. В отчаянье я думал искать другой отель – хотя это рушило бюджет – но тут послышались шаги и дверь скрипнула. На пороге, в ночной рубашке до пят и чуть не в ночном колпаке (как теперь услужливо дорисовывает память, которой, впрочем, я бы на сто процентов не доверял) – стоял детина лет тридцати пяти, в котором нельзя было не опознать сына хозяйки. Пробурчав что-то по-фламандски, он растворился в темноте под ведущей на мой этаж лестницей, и вскоре оттуда послышался его свистящий храп, к которому примешивался и второй. Я не удержался и заглянул под лестницу.
Mon Dieu!
Прямо под пролетом, среди обильных пальм и фикусов в горшках, в синем тревожном свете луны я увидел двуспальную кровать, на которой почивали, посвистывая в два носа, хозяйка и ее сын.
На цыпочках, сняв ботинки, я прошмыгнул к себе в номер, где потом долго удерживался, чтобы не расхохотаться. И если про снятые ботинки, я, каюсь, загнул, то за прочее ручаюсь.
Но название пансиона я забыл, имя улицы не помню, – не спрашивайте адрес, не просите!
2014#Франция #Куршевель Рублево-куршевельский склон
Tags: Русский горнолыжный гламур и лыжи с бриллиантами. – Олигарх-хантинг как альпийский вид спорта. – Конец Belle epoque.
Хемингуэй, описывая послевоенную dolce vita – открытие Ривьеры богачами, освоение Cote d’Azure – использовал, если не ошибаюсь, образ рыбы-лоцмана, акулы и прилипалы. Лоцман открывал неизвестное место, акула-миллионер делала его модным, а рыбки-прилипалы разбалтывали тайну и портили все. Приходилось искать новое.
Я к тому, что русским сезонам Куршевеля, в котором этим январем люди вроде меня рисковали свободой (пока вы, граждане, ели оливье), – уже примерно 5 лет. Это пенсионный возраст для модного русского места (в русском представлении о моде, когда тусовка, роясь, каждый сезон опыляет новый цветок). Роман Абрамович, в прошлом году гулявший по склонам на подбитых мехом охотничьих лыжах – в этом не приехал. Михаила Прохорова французы и вовсе бросили в кутузку. То есть те, кто злорадствуют по поводу «конца Куршака», правы. Новогодняя игрушка, прелестная альпийская деревушка перестала, условно говоря, быть приватным открытием горнолыжной семьи Потаниных-Прохорова-«Норникеля» (а без них не было бы и местного Кубка миллионеров) и примкнувшего к ним гламура.
«Куршевель» (через «е»!) перестал быть паролем клана богатых и красивых – и стал понятием собирательным, стоящим в словаре синонимов напротив словосочетания «Ксюша Собчак» (Ксюши, кстати, в этом году тоже там не видели). Каждый теперь судит о Куршевеле и презирает Куршевель – а отчего ж нет, если там (всем известно!) просаживают миллионы, развратничают миллиардеры, а их приживалки катаются на лыжах, инкрустированных бриллиантами?
И ведь лыжи с бриллиантами – от Lacroix – там действительно продаются. Тридцать шесть тысяч евро пара. Кто-то их покупает.
Но только это и правда.
Остальное – миф.
МИФ О ДЕНЬГАХ
Газета, когда-то бывшая рупором либералов, отводит Куршевелю три полосы и пишет взахлеб: самый дорогой курорт в мире! Ski-pass, пропуск на подъемники – 46 евро! Занятие ребенка с инструктором – 500 евро! Цены в гостиницах – за облаками! (Это как истерика 1998-го: доллар будет стоить 30 рублей! Нет, 50! А я говорю, 100, и все мы умрем!) Понятно, никто из писавших в Куршевеле не был.
На самом деле русская неделя в Куршевеле, начиная с первой после Нового года субботы (далее джет-сет перемещается в Санкт-Мориц) – это сезон снижения цен: основной контингент, французы, разъезжаются после рождественских отпусков. Номер в дизайн-отеле Куршевеля-1650 Le Seizena стоит уже не 300, а 230 евро. В самом шикарном и престижном Куршевеле-1850 (одной из четырех деревенек, разбросанных по высотам), где находится и дом Прохорова, экономные умники заранее бронируют номера по 120 евро, а приезжающие большой компанией снимают шале: так еще дешевле. То есть если взять проживание – выходит Финляндия.
Кататься на лыжах и вовсе недорого. Прокат полного комплекта – от 20 евро за день. В парке Волен под Москвой или в Коробицыно под Петербургом придется отдать от 500 до 600 рублей за пару часов. Ski-pass на день – 35 евро (два часа в Сорочанах на выходных). Если кататься после полудня – 25. Подъемники на учебные горки (а они фантастические, до 1,5 км длины) – вообще бесплатны. Если добавить, что действуют 130 склонов и полсотни отличных подъемников – то обдираловкой покажется любой из российских лыжных курортов.
Я не хочу сказать, что Куршевель – дешевое место. Но там есть выбор между очень дорогой жизнью, скажем, в отеле Byblos – и жизнью бюджетной. Между устрицами в Le Tremplin – и крепами с гран-марнье в соседней блинной. На Рублевке такого выбора нет. Может быть, поэтому наши соотечественники выбирают не блины, а устрицы. С европейской точки зрения, это некоторый перебор, свойственный русским, которые всегда к тому же несколько во всех смыслах пере-одеты, overdressed.
Но все же предпочитать устриц – лучше, чем предпочитать спиртное с утра в турецких «все включено».
Хотя с точки зрения европейцев лучше – не перебирать.
МИФ О РАЗВРАТЕ
– Там правда проститутки стоят 1000 евро?
О господи. Вот как объяснить, что начиная с некоторого уровня, то есть с уровня сардинского Порто-Черво, или генуэзского Портофино, или Кап-Ферра, или Монте-Карло, проституция как таковая – по схеме «я плачу, ты делаешь» – исчезает до пренебрежимо малого числа одиночек. Здесь другие игры, и главная, по точному определению веселого журналиста и пиарщика Алексея Карахана, называется oligarch-hunting – охота на олигархов.
Вот прелестная девушка, катающаяся на лыжах с мамой (летом вы их мамой встретите на пляже Никки-бич в Сен-Тропе): денег у семьи в год ровно на две поездки, но девушка мила, и главное – на выданье. Ну, а в Куршевеле есть за кого выдавать. Дочки-матери вовсю стреляют глазами, но осмелился бы кто предложить им деньги!
Вот на веранде пьет свежевыжатый сок (четыре с половиной евро, кстати) глава адвокатской фирмы Виталий, который на лыжах и вовсе не стоит. Зато Виталий умеет находить хороших клиентов, среди которых у него сейчас и Пушкинский музей, и Спиваков. Возможно, будет и Прохоров: полтусовки уже говорит о том, что у Прохорова лежит на сохранении забытое Виталием пальто.
Вот знаменитый светский фотограф Валерий, снимающий со вспышкой длиннющими очередями от живота, как немец в землянке: цель его пребывания здесь вообще объяснять не нужно.
Вот дико модный PR-директор Вадим: это он устраивает четвертый год знаменитые «синие» вечеринки Martell, куда стремятся попасть все – но Вадиму надо, чтобы попал кто надо и чтобы модельер Шаров специально для его вечеринки пошил специальную коллекцию (и Шаров честно шьет).
В Куршевеле вообще 95 % русских – в отличие от 95 % иностранцев – на работе, то есть на охоте. Окруженная горами крохотулька-деревушка с пятком пятизвездных отелей и двумя ночными клубами попросту не дает дичи скрыться. А если уж кто-то из лесных царей готов зафрахтовать самолет, покатать на вертолете над Альпами и подарить на память шубку или кольцо с камушком – то охотница, пожалуй, согласна полезть к такому в берлогу. А что? Обычный русский мужик пьян и скучен. А этот явно нет.
Кроме того… вы видели вблизи Прохорова или Абрамовича? Они подтянуты, спортивны, прекрасно и молодо выглядят.
Полиции Лиона, пытающейся выдать дичь за сутенеров, остается только посочувствовать.
КОНЕЦ ИСТОРИИ
Русских в Куршевеле вычислить проще простого.
Вот пальто от Zileri, под ним пиджак Kiton, под ним пузцо и рубашка Zegna, короткая стрижка, готовность к обороне, взгляд шарит по витрине Omega – это вечером так одет наш, из сургутских «топ-манагеров».
Вот старик, черный бушлат, в зубах сигара, выгуливает кривоногого белого бульдога по рядам торговой галереи – не наш.
Фишка в том, что русские здесь – да, впрочем, и всюду – живут не в свое удовольствие, а напоказ. Точнее, удовольствие именно в том, чтобы напоказ выставлять удовольствие. А европейская идея в том, чтобы получать удовольствие от удовольствия, не мешая другим. У продвинутого, хорошо образованного европейца вообще высший шик – понять устройство чужой страны, выучить язык, стать своим и, таким образом, на одну страну обогатиться.
У русских же повод для гордости – жить всюду как в России.
Несколько куршевельских сезонов эта гордость била фонтаном, но все же для внутреннего потребления. Да, пел в ресторане отеля Les Airelles казацкий хор «Хава нагилу» для Романа Абрамовича – но ведь не на улице же. Да, лилось в прошлом году из автомобильных динамиков про «желтые очки, два сердечка на брелке» – но в таком варианте Рома Зверь даже как бы и мил, как мило, бывает, потанцевать под «Тату» на дискотеке где-нибудь в Таиланде.
Однако в этом году пошло через край.
«Мегафон» воздвиг на Круазетт изо льда Спасскую башню чуть не в натуральную величину.
«Звери» два часа пели на Круазетт вживую – сцена и звук у них были такие, что Лужники отдыхают. Тоже, положим, не криминал, но вот через всю сцену тянулся транспарант «Олигархический ерш дарит зверей простым людям» с портретом мужика, неизвестного самому продвинутому гламуру, за исключением фотографа Левитина, презрительно фыркавшего: «Да это ж Ершов, детка! Считай что Прохоров!» И резал глаз не плакат, а то, что никто не удосужился перевести его на французский.
И означало это, что олигархические ерши говорили всем местным сомам в куршевельской заводи: а пошли вы все на. Это наше. Мы платим бабло. И ведем себя, как у себя, где бабло побеждает что угодно – хоть добро, хоть зло.
…Я не хочу утверждать, что этот перебор был причиной известных событий, связанных с арестом в этом сезоне двадцати шести россиян. Хотя, возможно, какая горнолыжная бабушка из богатых и пожаловалась на мигрень. Более того, я абсолютно уверен, что в Европе жизнь в пределах закона охраняется тем же законом.
Но версия у меня есть: все же наши перебрали. Сдетонировало. Нарочито показная гульба оказалась последней каплей, last drop. Ну, а материал кое-какой уже имелся, и решили проверить, невзирая, как говорится, на. В Европе на материальное и социальное положение полиция, знаете ли, вообще не взирает.
Те русские, что поедут на следующий год в Куршевель, будут это помнить очень хорошо. Настолько хорошо, что русский Куршевель – от души, громкий, на вынос – будет, скорее всего, забыт.
Отличный, сытый, буржуазный, прекрасный горнолыжный курорт будет разбит в качестве русской хрустальной мечты.
Появится новый смысл поехать туда: наконец-то от души покататься. К нам, кстати, местные там относятся исключительно хорошо.
2007COMMENT
Первый раз я приехал туда зимой 2006-го по работе: я тогда был главредом глянцевого журнала. Ехал в диком испуге. Отчего-то я решил, что все катаются там на лыжах как боги. Я же не умел совсем.
В общем, за пару недель до отъезда я стал брать уроки – и успел взять полтора. Еще пару раз я покатался сам (опустим, как это выглядело со стороны) в Волене под Москвой и на Пухтоловой горе (скорее, горке) под Питером. Пятый раз, не видя ничего от страха, я съезжал уже в Куршевеле, причем умудрился зарулить не на новичковую «зеленую», а на «красную» трассу… Слава богу, что в Куршевеле (в отличие от соседнего Мерибеля) трассы маркируют льстиво для отдыхающих: «красные» там – на самом деле менее сложные «синие».
А когда к концу поездки я смог смотреть на мир спокойно, то увидел, что катаюсь я средне, – с учетом, что половина приехавших русских не катается вообще (я не про Прохорова или Потаниных).
Лыжи с тех пор – мое главное увлечение, а попутно я освоил еще и сноуборд. И всех, кого могу, я ставлю на лыжи или доску, не особо и спрашивая, хотят они или нет… Вот, например, сына нашего консула в Дубае Диму Красногора соблазнил сноубордом, причем прямо в Дубае – есть у них там труба со снегом внутри, где катаешься при температуре за бортом +42…
Мораль, полагаю, у этой истории такова: любовь (хотя бы и к лыжам) может зарождаться где угодно. Хоть среди сора, хоть среди глянца. К антуражу любовь не имеет решительно никакого отношения.
#Франция #Куршевель Рай умер, да здравствует рай!
Tags: Выезд царя на гору. – Кура с трюфелями для тюменского менеджера. – Средний куршевельский класс.
Куршевель, эта оживающая на зиму горнолыжная фата-моргана, на какое-то время был в русском сознании примерно тем же, чем до него был в русском сознании Париж. Этой весной я видел то, что осталось от русского Куршевеля.
ИХ НРАВЫ
В апреле, за пару дней до закрытия горнолыжного сезона в Подмосковье, мы с друзьями договорились в ночи покататься. Горнолыжные склоны возле столицы в качестве компенсации за невеликий размер работают до двух ночи.
Я выехал первым и удивлялся, что на Дмитровском шоссе у каждого перекрестка, – да что там! – у каждой заправки стояло по милицейской машине и по дядьке в фуражке. Тут позвонил приятель, застрявший на Рублево-Успенском: там, начиная с поворота на Ново-Огарево, творилось то же самое. Третий звонок довершал картину апокалипсиса: два ряда МКАД от Рублевки до Дмитровки милиционеры перегородили фурами, явно ожидая Важного Выезда.
То, что путь к царской резиденции в Ново-Огарево дважды в день зачищают от подлой черни, меня не удивляло. То, что страна, бившаяся за демократию в 1991-м, утешилась монархией в духе царя Гороха, было, в конце концов, традицией. Я не понимал другого: какое такое дело могло ждать царский выезд на замызганном Дмитровском шоссе? Там не числилось палат ни одного боярина!
Разгадка обнаружилась, когда цепь стрельцов дематериализовалась после указателя на горнолыжный клуб Леонида Тягачева. То есть в тот же вечер, что и мы с приятелями, решил покататься на лыжах и царь. Мы, конечно, из-за этого так и не смогли собраться вместе. Но мне-то жаловаться было грех: я улетал закрывать сезон в Альпы.
ШАЛЕ С АВТОДРОМОМ И ЛИФТОМ
– Вон шале Михаила Прохорова.
– Где?
– Прямо под нами. Видишь, вся крыша в спутниковых антеннах? Тысяча шестьсот квадратных метров. Пять этажей, включая подземные. На нижнем уровне – картодром.
– Ты хочешь сказать, Прохоров в подвале раскатывает на машинах?! Они что, электрические?
– Бензиновые. А Прохоров после ареста вообще в Куршаке не появлялся. Его, кстати, упрашивают сдать дом в аренду. Желающих будет много. Типа, «я тут снимал у Миши Прохорова шале»…
С балкона шале Charmilly, где я стою со знакомым, открывается отличный вид на Альпы: такой же, что из окон дома, принадлежащего самому богатому человеку России. Дом Прохорова на легком отшибе: тишина, нет случайных зевак, зато под рукой аэропорт, а точнее, альтипорт со взлетной полосой длиною с сигару. Арендовать Charmilly на европейское Рождество стоит 120 тысяч евро в неделю. Пять спален, бассейн, хамам и отличный дизайн в стиле Жака Гарсиа. Мне говорят, что еще пятнадцать лет назад бизнеса по аренде таких шале в Куршевеле и Мерибеле не было. У богатых французских семей водились, конечно, в Альпах дома, там они проводили пару недель в году, – и все. Однако потом здесь появился англичанин Пол, который предложил не просто сдавать пустующую собственность, но вместе с дворецким, поваром, шофером, – сочетая, таким образом, приватность с гостиничным сервисом. Сейчас под присмотром Пола находится с десяток шале – одно из них, например, принадлежит семейству Миттеранов. Есть там шале с лифтами, с бассейнами с противотоком, спортзалами, долби-кинозалами на тридцать мест, – картодром сюда бы вписался. А сам Пол вежливо покашливает за нашей спиной и на том королевском английском, который существует только в Букингемском дворце, осведомляется:
– Напитки, джентльмены? Сок, кофе, чай, или, может быть, шампанское? А еще есть исключительные бисквиты!
В руках его поднос: он лично обслуживает гостей.
– Пол – это вклад английской цивилизации в Куршевель, – говорит мой знакомый. – Не считая, конечно, толпы английских студентов, напивающихся после лыж в стельку. Кстати, ты знаешь, что русских в Куршевеле и Мерибеле всего лишь 5 процентов? Но мы на третьем месте после французов и англичан.
– А каков вклад русской цивилизации в Куршевель? – спрашиваю я.
– Русская цивилизация познакомила мир с особенностями национальной охоты на олигархов. Сейчас олигархи кончились, остались экскурсии по местам боевой славы.
У НИХ БЫЛА БОГАТАЯ ЭПОХА
В середине апреля в Трех Долинах катаются лишь до обеда: солнце лупит так, что лица чернеют, каким кремом ни мажься, оставляя белую полосу от очков вокруг глаз, – будешь ходить енот енотом. Снег же к полудню превращается в кашу, которую французы называют супом, и по супу носятся лишь поздно проснувшиеся англичане, порою в одних семейных трусах. Зрелище еще то.
После катания я мучаю вопросами всех, кто попадается на пути: продавщиц в лыжном магазине Lacroix, где в особом кейсе, как Ленин во гробу, выставлен на обозрение набор лыж Courchevel по цене 50 тысяч евро (и это не «лыжи с бриллиантами», которые тоже есть, а просто лыжи); милейшую главу местного турофиса Аделин; чемпионку мира по сноуборду Жюли; управляющего отеля Les Airelles месье Арриги, – меня интересуют две вещи. Первая – изменилось ли что в Куршевеле после кризиса. Вторая – изменились ли в Куршевеле после кризиса русские.
Ответы на удивление схожи. Нет, туристов не стало меньше вообще и русских в частности, свободных мест не было. Или (смущенная заминка) почти не было. Но кое-что изменилось. Скажем, в этом году русские брали в ресторане бутылку вина за 100 евро – но не за 1000, как раньше. А в бутиках просили скидку и уходили, если отказывали, и уж в любом случае не оставляли продавцам чаевых. «А что, продавцам положены чаевые?» – удивленно спрашиваю я продавщиц, из которых примерно половина русских. «Ну, те, кто работали раньше, говорили, что чаевые давали, а одежду не примеряли вообще – сразу покупали. Кстати, раньше на распродажах бутики скидывали максимум 30 %. А в этом, посмотрите – всюду 50 %».
А я помню тот Куршевель, образца 2006-го и 2007 годов, когда, провожая взглядом вертолет, знатоки утверждали, что это окружение Дерипаски посылало геликоптер в Лион за «нашими нормальными, такими, знаешь, типа, молочными сосисками».
Глянцевая историография, описывающая русский Куршевель как зимнее нерестилище российских богачей и Мекку вообще всей русской тусовки, обычно опускает тот факт, что Куршевель на пике славы превратился из горнолыжной станции в место даже не шумного отдыха, и даже не разгульного шопинга, но в охотничий заказник, где такие, как Прохоров, Дерипаска или Потанин были загнанной в долину меж гор дичью, а все остальные – охотниками. Девушки охотились – за олигархами, бизнесмены – за контрактами, юристы – за клиентами, тусовка – за зрелищем, а деньги – за деньгами громадными.
Забронированный номер в отеле был, по сути, охотничьим билетом, дававшим право на отстрел.
Эта охота имела мало отношения к тому, что представлял собой Куршевель как горнолыжный курорт – а он представлял собой великолепную инфраструктуру, где скоростные подъемники связывали в единую сеть сразу три долины и сотни километров отличнейших трасс; отели и шале строились так, чтобы можно было прыгать с крыльца на склон прямо на лыжах, подобно Онегину, который вскакивал с крыльца на жеребца. К услугам новичков были сотни инструкторов (среди них – прославленная русская горнолыжница Варвара Зеленская), лыжные школы и лыжные детские сады.
Вот это и было в Куршевеле основным, а уж все остальное – и рестораны, и отели, и спа – лишь дополнением, десертом.
Но увидеть это означало начать сравнивать Куршевель как минимум с Красной Поляной. А русский человек за границу едет не для того, чтобы понять или перенять чужую жизнь, но чтобы показать себя и проследить за ответной реакцией: в этом, кстати, и причина нынешней нашей обиды на весь мир.
Так что русский Куршевель кончился в 2007-м, когда французская полиция задержала там два с половиной десятка русских, и Прохоров в гневе пообещал в Куршевель не возвращаться, оставив пустовать свежепостроенное шале как забвенью брошенный дворец, – а вслед за Прохоровым Куршевель покинула и прочая крупная дичь.
Русский Куршевель 2009-го – без орущих на все Альпы концертов под открытым небом и бесконечных фейерверков, без ужинов на десятки тысяч евро в мишленовском ресторане «Шабишу» – это поминки по прежнему Куршевелю, или, поскольку гламур смерть отрицает, after-party.
СРЕДНИЙ РУССКИЙ КУРШЕВЕЛЬСКИЙ КЛАСС
– Если мерить в категориях качества, то в русском Куршевеле в этом году изменилось все. Если в категориях количества – то не изменилось ничего, – продолжает рассказывать мой приятель. – То есть русских в январе было так же много, а хочешь знать, почему? Потому что выкупали места за полгода вперед: они же не верили, что нефть подешевеет. И перли сюда, как стадо к пересохшему водопою. На русское Рождество тут, дорогой мой, торчали одни тюменские нефтяники, которые так и не уразумели, на фиг они приехали. 7 января в полдень у кафе «Трамплин» – это на главном тусовочном водопое! – не было ни одного светского фотографа. Представляешь?
Я киваю, потому что сам в это Рождество безошибочно идентифицировал соотечественников на склоне не по дорогущим лыжным курткам Bogner и не по бриллиантам в ушах красавиц, – а по тому одинаковому выражению лица, какое бывает у людей, когда они узнают, что в бутик по продаже счастья закрыт на переучет.
– Хочешь, – продолжает приятель, – я тебе покажу место, где обожал селиться этот самый средний куршевельский класс?
Вечером мы идем в отель Annapurna – единственный пятизвездочный здесь и, боюсь, во всей Франции тоже: налоги в отельном бизнесе здесь платятся с каждой звезды, и скуповатые французы склонны ограничивать статус даже самых шикарных заведений максимум четырьмя с половиной звездами.
От входа ужасающе тянет хлоркой – там явно проблемы с вентиляцией бассейна.
– Ну, если бы пахло нефтью и газом, публике было б совсем привычно, – замечает приятель и тащит меня в ресторан. В дегустационном меню ценой семьдесят восемь евро длинные, как романы Дюма, названия блюд снабжены переводом. Например, под «Le poulet de fermier au risotto avec sause Saint-Augur et les truffes noire» значится: «Кура с рисом». Заказ приносят, и я отдаю должное мастерству перевода: это действительно кура с рисом, заводская столовка, и я не сразу понимаю, что подгоревшие шкварки – это убитые поваром трюфели.
Я в изумлении смотрю на приятеля, потому что во Франции такого быть не может, но приятель хохочет:
– Нет, милый. Ты хотел русский Куршевель? Получи! Что здесь изменил кризис, спрашиваешь? Да у нас со времен Пушкина не меняется ни-че-го! Мы все так же ленивы и нелюбопытны, и не желаем учить языки и знать, как живут другие народы, а когда садимся за чужой стол, требуем картошку с салом и куру с рисом. И только не возражай, что не все русские одинаковы! Те, кто научился ценить тонкую кухню – те бочком-бочком, но отсюда съехали. Кто побогаче – в Мерибель, кто победнее – в Менюир. Хочешь, дам адресок – сдается шале со спальней, кухней, гостиной и сауной за 350 евро в неделю прямо на склоне? Втрое дешевле, чем в твоих Сорочанах! А есть еще Межев, Шамони, Валь д’Изер, есть Австрия, Германия, Италия, Испания, – в мире, знаешь, много чего есть, если не сбиваться в кучу и не устраивать изо всего мира маленькую Россию…
КОНЕЦ СЕЗОНА
На следующий день мне уезжать, и со мной вместе уезжает, похоже, весь Куршевель. Вот в Les Airelles горничные накрывают до следующий зимы мебель пленкой, в спа-центре сливают воду из джакузи, а мне передают в подарок пакет с пасхальными шоколадными яйцами: «Мы закрываемся, приезжай в декабре, будут специальные цены». Вот из бутика Lacroix вывозят на склад нераспроданные лыжи: пасхальные каникулы в Европе закончены, магазин будет закрыт. Вот в офисе по туризму просят не забыть упомянуть о новой автоматической магнитной системе, пристегивающей к креслам подъемников детей, и о возможности зарядить деньгами старые пропуска на подъемники через интернет, – но это тоже теперь только в декабре. У инструкторов сегодня последний рабочий день. Куршевель закрывается до следующей зимы, и буквальностью закрытия я слегка ошарашен. Я спрашиваю, что же работает летом.
– Летом Куршевель – это стройка, – следует ответ. – Как, приедешь на следующий год? Le saison est fini!
Я мотаю головой и говорю, что буду еще непременно кататься под Петербургом, где в Коробицыно закрывают подъемники лишь в середине мая, – но не говорю, что там два курорта разгородили гору забором как берлинской стеной и который год не могут договориться об общем допуске на склоны.
В русский Куршевель мне не вернуться, потому что его больше нет, а есть четыре французских альпийских станции, на любой вкус и кошелек, с отличными инструкторами, с улыбающимися продавцами, где горы общие на всех, и это такие прекрасные горы, что когда мчишь с вершины вниз, то от перепада давления закладывает уши, а от смены красот захватывает дух.
А с другой стороны, все равно вернуться придется, потому что «русский Куршевель» – это ведь не место, а состояние нации.
И не надо никуда ехать, чтобы в этом убедиться – достаточно просто постоять в московской пробке, когда дорогу перекрывают ради кортежа с мигалками.
2009COMMENT
Два года спустя я наблюдал, какой может быть, что называется, пристойная встреча русского Рождества в Альпах, в тех же Трех Долинах: сначала факельный спуск инструкторов горнолыжных школ, потом фейерверк, потом танцы на снегу и горячее вино бесплатно. Было это все в упомянутом Мерибеле, который я просто обожаю за сложносочиненность даже «синих» трасс, обильно поросшие заснеженными елями склоны и наличие отличного олимпийского центра с бассейном, катком, спортзалом и скалодромом. Как и за то, что хотя до Куршевеля – всего один перевал (на лыжах можно управиться за полчаса), это все же другая долина.
А как встречал русское Рождество Куршевель? Оправился ли он после кризиса 2008-го? Замер ли в преддверии нового кризиса?
Право, не знаю. Я с тех пор катался еще много где – и в Норвегии, и в Австрии, во Франции в Лез Арк и в Ла Плань – но в Три Долины заскочил лишь в январе 2012-го.
Тогда там были невероятные снегопады. Все замело, половина подъемников не работала, перевалы были закрыты, с утра гулко стреляли противолавинные пушки, горели предупреждения о «крайне высоком риске катания» – мы жили в Мерибеле как в варежке, затерянной в сугробе. Понемногу катались, конечно. А еще помогали вытаскивать из снега машины, не удосужившиеся надеть на колеса цепи, покупали савойские сыры на местной ярмарке и выслушивали от местных, что деревушку Пралонг из-за лавин и вовсе эвакуировали.
И это была такая зимняя жизнь, что из сугроба, честно говоря, выбираться ни в какой Куршевель и не хотелось.
2014#Финляндия #Южная Карелия Дачное эхо прошедшей войны
Tags: Агрессия СССР против Финляндии. – 25 тысяч погибших финнов и 125 тысяч погибших советских солдат. – Украденные территории, чувство стыда и призыв к покаянию действием.
Каждый раз, когда я еду на питерскую дачу (по скверной и опасной трассе «Скандинавия» до поворота на Гаврилово, далее до Лебедевки), то испытываю чувство без вины виноватого. Потому что еду (до поворота на Кямяря, далее до Хонканиеми) по украденной земле, – пусть и не я украл.
Самая сладкая часть Южной Карелии, что лежит к северо-западу от городка Сестрорецка и зовется ныне Выборгским районом Ленобласти, не является исконно русской ни при каких трактовках истории. Это финские земли, под чьим бы протекторатом они ни пребывали – шведским (по 1721 год) или российским (по 1917-й, когда Финляндия провозгласила независимость. Причем с 1809 года эта страна была автономией).
К 1939 году в маленькой стране, едва ставшей независимой, пережившей кровавую гражданскую войну (да-да, в Финляндии такое тоже было, только там красные проиграли), все понимали, что новая война неизбежна: страна оказалась зернышком между жерновами Советского Союза и Третьего Рейха. А поскольку по пакту Молотова-Риббентропа Финляндия входила в сферу интересов СССР, то даже выбора – с кем воевать – у финнов не было. Так что в приграничных районах формировали армию, строили укрепления, оттуда эвакуировали население. Расчет был – не удержаться, а сдержать наступление на полгода, до прихода союзников.
Далее известно, что случилось.
СССР напал на Финляндию без объявления войны, исключен был за это из Лиги Наций, союзники на помощь не пришли, война уложилась в 3 месяца и 12 дней; финны потеряли земли от Выборга и до бывшей границы, а СССР, вследствие эмбарго, потерял возможность получать авиационные двигатели из США. У финнов был убит каждый четвертый солдат, у советских – четверо из десяти. Часть красноармейцев попросту замерзла насмерть в морозы, выполнив роль щепы на том лесоповале, где все делается числом, а не уменьем. Существует, кстати, точка зрения, что эту информацию крепко-накрепко намотал себе на усики Гитлер.
Описание Зимней войны, Talvisota, я опущу; опущу и период вплоть до 1945 года, после которого Финляндия потеряла Южную Карелию вторично, плюс – о чем у нас опять же мало знают – принуждена была выплачивать СССР репарации и контрибуции в размере 250 миллионов долларов в тогдашних деньгах (около 3 миллиардов долларов в пересчете на нынешние). И платила: эшелоны со станками и техникой шли в СССР вплоть до 1952 года. Я видел снимок 1946-го года с президентом Маннергеймом в санях: подпись гласила, что, поскольку весь бензин уходил в СССР, Маннергейм велел его остатки отправлять на село и запретил чиновникам пользоваться автомобилями, причем начал с себя.
Для меня куда важнее объяснить природу моего нынешнего стыда. Ведь это чувство среди петербуржцев, проводящих летние деньки на карельских дачках, мало кто разделяет. «Ну да, была война, и что теперь, назад все возвращать?» – такова примерно точка зрения питерского дачника. «Чего ж ты не требуешь извинений американцев перед индейцами, которых они завоевали и поубивали?» – ехидно спрашивают меня они, если я все же ввязываюсь в спор (а я, бывает, ввязываюсь: американцы перед потомками тех индейцев все же повинились).
Дело в том, что мой стыд имеет основу, несколько отличную от естественного стыда за не вполне славное прошлое собственной страны, выступившей в роли агрессора, укравшей земли соседа и укокошившей тьму народа, – а затем ни чуточки не раскаявшейся.
Я довольно отстраненно (или, если угодно, цинично) смотрю на историю, поскольку полагаю, что победителей не судят. Другое дело – кого считать победителем. Тут у меня с согражданами существенные разногласия. Для меня победитель не тот, кто водрузил стяг и принял капитуляцию. Для меня победитель – тот, кто сумел с наибольшей выгодой реализовать последствия войны. По этой причине я не испытываю ни малейшего чувства вины за победу Петра над шведами, в результате которой средь топи блат, на месте приюта убогого чухонца вырос град Санкт-Петербург – полночных стран краса и диво. То есть вырос, со всеми своими дворцами, башнями, темно-зелеными садами, на месте черневших по мшистым, топким берегам избушек, – а не наоборот. Чувствуете разницу? Если бы Петр шведов победил и в результате победы разрушил Стокгольм, застроив его убогими избушками – вот это бы я считал поражением.
И американцы на месте индейских вигвамов основали самую передовую, по крайней мере в экономическом плане, цивилизацию, что, с моей точки зрения, их оправдывает, а то, что они при этом ощущают вину, еще и делает им честь.
К сожалению, ситуация с Зимней войной прямо противоположна. Эта война не просто проиграна, – она продолжает проигрываться каждый день. И вот почему.
* * *
Не знаю, случалось ли вам пересекать русско-финскую границу на автомобиле. Я проделывал это десятки раз; зрелище еще то. Два способа жизни на одной и той же земле: химически чистый эксперимент.
Результаты его поражают, начиная с самих погранпунктов: это здания-близнецы по разную сторону границы. Близнецы – потому что наш выстроила финская сторона в порядке, так сказать, шефской помощи младшему (по разуму) брату. Только у финнов водители и пассажиры проходят контроль внутри, в тепле и в строгом порядке, а у нас – на улице на морозе, перебегая из одного окошечка в другое и заполняя друг у друга на спине декларации: очереди, «непонятки», какие-то блатные машины и люди, обычный русский бедлам, который я еще в 1998-м в деталях описывал тогдашнему начальнику пограничников Бордюже (он пригласил меня на Лубянку, в кабинет Берии; мы проговорили час. Не изменилось ничего).
Примерно так же, как погранпункты, соотносятся друг с другом и дороги (по финским грунтовкам я спокойно ездил на 90 км/ч, а по приграничной дороге к Светогорску, то бишь Эсно, лучше передвигаться на танке), и поля, и леса, и фермы, и озера. В Финляндии из многих озер можно пить воду, там девственная чистота, как при сотворении мира – а близ нашей дачи не знаю ни одного, берег которого не был бы усеян битыми бутылками и рваными кедами. То же и с жильем, и я даже не про непременное наличие у финнов в загородных домах теплых клозетов и саун. Я про архитектуру, в которой финны никогда не пытаются выдать себя за тех, кем никогда не были. Они не строят вилл, фазенд, замков, дворцов, барских усадьб, вообще всей этой фальшивки; финский конек – простой дом, идеально вписанный в природу. Построить поселок на 50 коттеджей так, что из каждого окна виден лес – это их величайшее умение.
У меня была какое-то время иллюзия, что загаженность Карельского перешейка исчезнет вместе с советской властью. Теперь понимаю, как был наивен. И если старые садоводства «на 6 сотках» ужасают убогостью, то новые «поселки миллионеров» – хамством «втыкания» в пространство.
Порою в садоводствах я встречаю машины с финскими номерами: это потомки тех, кто отсюда был выселен, ищут свои старые фундаменты. Зря; больше нет ничего.
Недавно я свернул с обычного дачного пути на дорогу от Зеленогорска до Полян, то бишь от Териок до Кирккоярви. Искал построенную в стиле ар-деко усадьбу Мариоки, что дореволюционный министр госимущества Картавцев подарил своей жене Марии Крестовской. Крестовская покровительствовала искусствам, в Мариоках бывали писатель Андреев, художник Серов. Я нашел эту усадьбу (ни единого указателя с дороги) – точнее, то, что осталось: перекореженные взрывом руины на месте дома и церкви, разоренную могилу владелицы. Стенд, установленный в перестройку, свидетельствовал, что еще в 1939-м усадьба была цела. То есть не финны, а наши взорвали.
Таких разоренных мест – которым Финляндия продлила жизнь на пару десятков лет после 1917-го – сотни по всему Карельскому перешейку.
Война проиграна. Захламленная благодатнейшая земля (супесчаники, сосны, озера, Балтика); ужас мелколоскутных кто-во-что-горазд построек; расхристанные дороги; кошмарящие по этим дорогам менты; килотонны валяющихся банок-бутылок, уничтоженные усадьбы, церкви и оскотиненный панельными домами некогда прелестный средневековый городок Виипури, Выборг – вот что такое по большей части сегодня бывшая финская территория.
Проигравшим пора делать выводы.
* * *
Я, если честно, не верю в действенность обычного покаяния – признал ошибки, пустил слезу, поставил свечку, – голос сверху: «Прощео-о-о-о-он!»
Для меня покаяние – это действия, поступки.
Я не о том, чтобы вернуть финскую землю снова под финскую юрисдикцию: это глупая идея, которая принесет лишь страдания новым (теперь уже русским) переселенцам и, кстати, обрушит экономику Финляндии, где во всей стране примерно столько народа, сколько живет в одном Петербурге.
Но я бы, во-первых, начал платить в признание вины компенсации тем финнам, что бросили в Южной Карелии дома, подворья, квартиры, – это вопрос чести. Их немного в живых осталось, но еще можно успеть. Не надо только говорить, что «лишних денег в стране нет» или что «не хватает денег на учителей и врачей». Лишних денег в стране – куча, а учителя и врачи грабятся ежедневно: посмотрите на часы на руке российского чиновника, на его машины и недвижимость. Сколько можно вопить о величии страны, поднявшейся с колен, и ничего при этом не делать? Великая страна для меня – это Германия, не просто признавшая вину, но и выплатившая компенсации жертвам концлагерей.
Во-вторых, я бы в одностороннем порядке отменил для финнов въездные визы: чем больше соседей приезжает, смотрит, влияет на судьбу Южной Карелии – тем лучше. Я слышал десятки раз про «это невозможно» и знаю аргументы – что Финляндия входит в Шенгенский союз, и, следовательно, нужны переговоры со всем Шенгеном. Но я этого не понимаю и не принимаю. Получается, начинать войну можно безо всяких переговоров, а исправлять последствия – нельзя?
В-третьих, я бы издал – причем за счет казны – нечто вроде Зимней книги: документ, честно перечисляющий всех, кто погиб, и все, что было уничтожено в ходе той кампании, – включая прежние, финские, названия. Я бы вообще дополнил все дорожные указатели в Карелии прежними, финскими именами. Уверен, финны бы в этом поучаствовали. И тогда при въезде в Рощино-Райвола каждый смог бы узнать историю этого поселка, а местный житель – еще и сравнить нынешнюю жизнь с прошлой (и задать несколько интересных вопросов себе и своим властям). Кстати, я бы начал дискуссию о том, не вернуть ли ряд прежних имен. Вряд ли надо трогать Комарово и Репино (это бывшие Келломяки и Куоккала). Но вот Гаврилово обратно в Кямяря я бы переименовал. Хотя бы потому, что поселок был назван в честь техника-лейтенанта Гаврилова, отбивавшего у финнов Кямяря в 1944-м и тогда же скончавшегося в госпитале. Техника-лейтенанта Гаврилова жаль, за могилой его следует ухаживать, – но не следует и забывать, что он, пусть и подневольно, продолжал дело, начатое в 1939-м, когда Красная Армия, подойдя к Кямяря, уничтожила здание вокзала и свежепостроенную (год как финские дети в ней отучились) школу. Как вы лодку назовете, так она и поплывет: я вижу прямую связь между нынешним состоянием поселка Гаврилово с его пылью, грязью, страшноватыми домами и вечноразбитой дорогой – и названием.
Я бы вообще максимально поощрял финское присутствие на Карельском перешейке – выделял бы как землю, так и места в каких-нибудь градостроительных советах. У них, маленьких и когда-то слабых, есть чему поучиться: хотя бы тому, как из слабых, аграрных, бедных становятся индустриальными, богатыми, зажиточными, терпимыми.
* * *
Эрнест Хемингуэй назвал один сборник рассказов «Победитель не получает ничего»: Хемингуэй воевал и знал, о чем писал.
История, по счастью, вовсе не статична – победы оборачиваются поражениями, однако может быть и наоборот.
Семьдесят лет с начала советско-финской войны – хороший формальный повод, чтобы обо всем этом начинать говорить. Идея «перестать подвергать сомнению итоги войны» – на мой взгляд, ужасна. Если не пересматривать, то тогда нужно будет признать себя проигравшими войну навсегда.
А таковыми быть ужасно не хочется.
2009COMMENT
Ничего из того, что я предлагал сделать частью деятельного покаяния перед Финляндией, увы, сделано не было. В середине третьего срока правления Владимира Путина (формально главой страны этот срок числился Дмитрий Медведев) Россия упивалась своим величием, за которое искренне принимала размер поступлений от продажи углеводородов. Упивающиеся не каются. Каются протрезвевшие.
Но меня в свое время история маленькой страны, оказавшейся между жерновами двух зловещих империй, а потому обреченной быть виновной при любом раскладе, и вправду потрясла. Однажды я завел об этом разговор с финским актером Вилле Хаапасало, игравшем – если кто запамятовал – в «Особенностях национальной охоты».
«Мы, финны, – неожиданно ответил Вилле, – вообще-то должны быть благодарны Сталину. Потому что, отдавая машины и сталь СССР, мы вынуждены были индустриально развиваться, и в итоге из нации крестьян и алкоголиков мы превратились в экономически процветающую страну».
Наиновейшая история подтвердила этот довольно спорный тезис. Поток нефтедолларов не просто направил русских отдыхать за границу, но и раздул внутренние цены в России так, что выгоднее стало отдыхать, лечиться, делать шопинг не у себя, а за границей (и даже летать за границу через заграницу). Это русские деньги превратили незначительный аэропорт финской Лаппеенранты чуть ли не в международный хаб! За один только 2011 год пассажиропоток там вырос на 90,3 % (каждый второй пассажир был с паспортом РФ).
То есть, когда кончатся газ и нефть, у финнов останутся аэропорты. Ну, а у нас – воспоминания.
Тоже лучше, чем ничего.
2014#Финляндия #Хельсинки #Иматра #Лаппеенранта Это переходит все границы
Tags: Финляндия в роли северного Кувейта. – Граница в роли нефтяной трубы. – О роли Финляндии в жизни россиян.
Я одно время был влюблен в Финляндию, и мы почти сожительствовали. Времени там проводил больше, чем у тещи на даче. А потом появились другие любови; бывает. И когда по старой памяти в Финляндию вернулся, то – с былыми возлюбленными такое порой происходит – ее не узнал.
В пограничной торговой стекляшке в Валимаа, известной русскому туристу как «Шайба», ныне работал бутик «Гламурные дети» (клянусь, прежде моя возлюбленная не знала, что такое «бутик»! Что такое «гламур»! Нет в смиренном финском словаре этих слов!). До горизонта велись скальные взрывные работы и вывозили породу самосвалы: к русской границе подползал автобан. В крошке Иматре (30 тысяч населения!), где и переход-то через границу открылся две пятилетки назад, теперь продавцы в магазинах были либо русскими, либо говорили по-русски и торговали в Иматре ныне шмотками от Calvin Klein и Diesel. Почтовые склады приграничных городков были забиты пришедшими на русские имена посылками «до востребования» с купленным на Amazon или eBay товаром. В Лаппеенранте (72 тысячи финнов и 2 тысячи русских), любовно прозванной нашими челноками «Лапой», к дополнение к старому торговому центру Iso Kristina построили еще три – но побольше и пошикарнее. В Хельсинки в любом ресторане находилось меню на русском, и – что меня добило! – информационные стенды в каком-нибудь парке Кайвопуйсто (том самом, куда «на воды» съезжалось русское дворянство во времена Николая I, запретившего ему выезд в беременную революцией Европу), – так вот, стенды были на двух языках: финском и русском, игнорируя государственный шведский и повсеместный английский. В Финляндии образца 2012 года выходило на русском языке 8 газет и журналов. А в финско-русской школе на юге Финляндии шел набор уже не с 5, а с 1 класса. А, а, а…
Мама дорогая – как, что, с чего все изменилось?!
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИИ
Это не первый раз, когда финны спокойно и тихо выигрывают международный матч (пока в России кричат про поднятие с колен и про геополитику). Причем под выигрышем они разумно понимают не абсолютную победу, а извлечение максимальных преимуществ из конкретной исторической ситуации. Я насчитал таких поворотных моментов пять.
Первый – 1809 год, когда, по условиям русско-шведского мира, Финляндия перестала быть шведской, а стала русской колонией, но на лучших условиях, чем жила прежде (и на условиях куда большей свободы, чем была возможна в самой России). Великое княжество Финляндское получило автономию, парламент, финский язык в качестве государственного, спланированную на манер Петербурга столицу и даже отличную библиотеку, знаменитую «Славику», ибо Николай I велел по экземпляру всей печатной продукции, выходящей в России, отправлять в Хельсинки (кстати, сам царь выполнял для финнов роль не самодержца, а конституционного монарха). В начале XХ века северное дачное направление под Петербургом (Териоки, Куоккала) било южное «царское» и качеством жизни, и невысокими ценами; эта популярность Зеленогорска и Репино держится до сих пор. А в Финляндии до сих пор русские цари в фаворе: памятник Александру II занимает в Хельсинки почетное место на Соборной площади.
Второй момент – большевистский переворот 1917-го, когда, воспользовавшись сумбуром у соседа, Финляндия не просто получила независимость, но и, пройдя кровавую гражданскую войну (в которой победили белые), независимость отстояла. И памятник Ленину в Турку (любимое место сбора местных выпивох) украшает центр города до сих пор.
Третий – две войны середины ХХ века, «зимняя» (когда СССР напал на Финляндию и аннексировал лучшие южнокарельские земли, за что вылетел из Лиги Наций) и Вторая мировая, когда Финляндия не просто проиграла, но и выплачивала СССР огромные репарации и контрибуции, вследствие чего вынуждена была превращаться из отсталой аграрной страны в передовую индустриальную (как раз об этом говорил мне Вилле Хаапасало, чьи слова я приводил в комментарии к предыдущей главе). Да-да, даже атомные ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» строились в Финляндии, и до сих пор главный финский экспорт – станки, а не бумага!
Четвертый – экономическая катастрофа после развала СССР, когда мы перестали закупать за валюту костюмы Tiklas и башмаки Topman: тогда каждый четвертый в Финляндии стал безработным. Но именно это заставило Финляндию стать постиндустриальным государством; сумасшедший взлет Nokia зарождался в те годы).
И, наконец, пятый поворотный момент – нынешнее освоение русских нефтяных шальных денег. И он используется Финляндией на все сто.
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИПЛОМАТИИ
Александр Румянцев, российский посол в Финляндии, в своей должности уже 6 лет. Он вообще-то физик-ядерщик, в прошлом директор Курчатовского института и глава российской атомной отрасли, а в Финляндии – дуайен дипкорпуса, так что прочие послы зовут его просто «босс» (а он их между дел консультирует насчет бозона Хигса).
Так вот, когда Румянцев вручал верительные грамоты, в Финляндии проживало что-то около 30 тысяч русских. Сегодня их вдвое больше. Одних русских студентов стало 2 тысяч – тоже двукратный рост! – что легко объяснить тем, что в Финляндии учеба часто идет на английском. Высшее образование для всех, включая иностранцев, бесплатно, а местные дипломы котируются в Европе высоко. Если 6 лет назад в Финляндии самой популярной машиной был сильно подержанный (но в идеальном состоянии) «фольксваген-пассат» в кузове «сарай», красного цвета для большей безопасности зимой, – то теперь Хельсинки наводнен «ауди», «мерседесами», «БМВ», и даже «порше»-кабриолетом никого не удивить.
Связь между вторым и первым видит даже слепой, и задача российской дипмиссии еще и в том, чтобы денежные потоки шли не только из России в Финляндию. И чтобы постоянно живущие либо имеющие вид на жительство в Финляндии русские не ощущали себя чужаками. Посол Румянцев считает прорывом в российско-финских отношениях пуск между Петербургом и Хельсинки поезда «Аллегро» (2,5 часа в пути, паспорта проверяют по ходу движения и прямо в поезде выплачивают tax free). А вторым важным делом – отмену российских виз для тех иностранцев, кто прибывает в Россию паромом на срок до трех дней.
Двукратно возросший «русский поток» заставил меняться лицо России в Финляндии в самом буквальном смысле. Здание нашего посольства было построено после войны: это монстр даже не «сталинской», а какой-то нацистской архитектуры; есть легенда, что на таком облике настаивал лично глава МИДа Вышинский. Мрачного величия снаружи – максимум, а вот удобства для сотрудников и посетителей – минимум. Cейчас для дипмиссии строится новое здание – с квартирами, спортзалами, залами ожидания и комнатой пеленания младенцев… Где, кстати, не будет кондиционеров. Потому что нынешний писк финской инженерной мысли – замена сушащих воздух и устраивающих сквозняки «кондеев» на доставляемую по трубам смесь воды и ледяной крошки: эдакое центральное охлаждение. Что Румянцев, как знаток физики твердого тела и такого же хозяйствования, тут же взял на заметку, уверяя, что эта идея очень скоро доберется и до России.
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИНСКОГО РУССКОГО
Число газет и журналов, выходящих за границей на русском языке, для меня всегда есть показатель глубины русского проникновения. Когда я только начинал ездить в Финляндию, таких изданий было два: на границе турист получал газету «Северный торговый путь» плюс журнал Stop in Finland. Оба убеждали купить дешево автопокрышки, правильно оформить tax free и не бросать в лесах мусор.
Они живы и сегодня (только «Торговый путь» растолстел до полусотни страниц), но характерны другие: например, хельсинкский «Спектр» (правда, это уже старожил) или свеженародившаяся в Иматре двуязычная «Мозаика» – Mosaiikki. А вот рассчитаны новые издания не на туриста и не на «шопера», а (и это примечательно) на живущего в Финляндии русского.
Главред «Спектра» Эйлина Гусатинская окончила журфак МГУ. Жизнь ее пошвыряла по миру, вплоть до Америки, но Финляндия – это дом. Под ее окнами в пригороде Хельсинки прыгают белки и расхаживают фазаны, и даже тишайший, мирнейший хельсинский центр для нее шумноват.
– Финская проблема в отношении иммигрантов, – говорит Эйлина, – не в том, что здесь их не любят, а в том, что по отношению к ним так и не определились. В итоге ребенок каких-нибудь беженцев из Судана, который в Финляндии вырос и для которого финский язык родной, получив отличное высшее образование, воспринимается не как специалист, а как потенциальный водитель автобуса. Из Финляндии наметилась эмиграция высококлассных специалистов, и сейчас все это понимают…
Звучит для нашего уха странно, но факт: похоже, именно русские (хотя по численности иностранцев мы в Финляндии занимаем не первое, а второе место, после эстонцев: эстонский соотносится с финским примерно как русский с украинским, плыть из Хельсинки до Таллина полтора часа, но если в Таллине средняя зарплата 900 евро в месяц, то в Финляндии это на 200 евро ниже черты бедности), – так вот, именно русские стали теми, кто вынудил финские власти переходить к политике, которую глава хельсинкского иммиграционного ведомства Анника Форсандер назвала «позитивной дискриминацией».
Грубо говоря, это значит, что этнический состав госслужб должен соответствовать этническому составу жителей. Или, по-нашему говоря, финны ради укоренения иностранцев вводят этнические квоты. И это касается не только госслужбы. Например, в новых шикарных районах – где стеклянные дома выбегают прямо на берег залива, а квадратный метр в них стоит 10 тысяч евро – запрещено строить только дорогое жилье. И дорогое, и социальное – все должно быть рядом, чтобы район не превращался в гетто, чтобы богатые понимали жизнь бедных, а бедные богатых (хотя в Финляндии, с ее социализмом, ни нищеты, ни роскошествующего богатства нет. Состояние самого богатого человека страны, владельца компании по выпуску лифтов Konе Антти Херлина, чуть больше одного жалкого миллиарда, и то унаследованного – куда ему до живущего в Швейцарии финского подданного Геннадия Тимченко с заработанными на русской нефти 25 миллиардами!).
Причем процесс приспособления взаимен.
Скажем, в местечке Артярви (100 км от Хельсинки: в общем, дикая глушь, по причине чего там скупает себе леса и земли Вилле Хаапасало, голосом которого, кстати, говорит реклама на финском русском радио «Спутник»), – так вот, в Артярви никак не продавалась земля, хотя были подведены все коммуникации. Местный мелкий муниципалитет бедствовал. Пока землю не купил и не начал строительство дома кто-то из русских, а за ним и другие, – один за другим были проданы 14 участков. А местные стали интересоваться: а каковы, собственно, представления этих русских о хорошей жизни? Выяснив же, что «этим русским» нужны красота, чистота и спокойствие, сделали совместный пляж, детскую площадку и вообще стали жить-поживать, как выражается Эйлина, «в отношениях доброжелательного сотрудничества».
И вообще русские, по мнению Эйлины, заставили финнов задуматься над тем, что такое «финские ценности» и что такое их «разрушение». Легко кричать, что ценности рушатся (а крикуны были), но попробуй-ка эти ценности перечисли. А потом сравни: во всех ли регионах они одни и те же? И значит ли, что ценности со временем не могут меняться?
Итог этого размышления – новая ситуация в финских школах, когда подростку-иностранцу учитель больше не может сказать «А у нас в Финляндии…», потому что «у нас в Финляндии» остается на вешалке, а в классе все равны.
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
Между двумя самыми близкими к границе городами – «Лапой», Лаппеенрантой, и Иматрой – 30 километров отличного автобана. 20 минут на машине. В «Лапу» преимущественно едут за покупками (хотя в городе есть и старая крепость), а в Иматру – отдыхать (хотя в городе недурные магазины).
Городки всегда конкурировали, но благодаря новейшим русским деньгам случилось невероятное: они не просто развились, раздобрели, разбогатели, но и умудрились де-факто слиться в единый город-гантелю.
Чтобы привлечь русского туриста, «Лапа» проводит исследования («сколько всего мы приезжих в состоянии обслужить?») и, поняв, что средний русский приезжает за покупками «обороткой», без ночевки, строит грандиозный спа-курорт Saimaa Gardens на площади в 300 гектаров. Аэропорт «Лапы» (что у нас соответствовало бы примерно «аэропорту Шуи», когда бы в Шуе аэропорт был) обеспечивает дешевые полеты в 60 европейских городов (включая Ригу, Дюссельдорф, Милан, Берлин, Копенгаген), его оборот за прошлый год вырос почти на 100 %, и надо ли говорить, что каждый второй пассажир – русский?
– Ежедневно к нам приезжает, – радуется как ребенок мэр «Лапы» Киммо Ярва, – 4000 русских туристов. Каждый из них оставляет в среднем 280 евро в день!
То есть «Лапа» – это ответвление от русского нефтепровода объемом прокачки свыше миллиона евро в сутки. За 17 дней «Лапа» только на русских зарабатывает столько же, сколько вся Шуя за год.
– А к нам перед Новым годом приезжает, – разделяет радость своего коллеги мэр Иматры Перти Линтунен, – до 14 000 человек ежедневно. И каждый русский в среднем оставляет у нас в день 250 евро…
Три с половиной миллиона евро в день – неплохой подарочек для городка, равного по размеру подмосковному Волоколамску!
Причем Иматра, привлекая туриста, с одной стороны, уже зарезервировала площадку для мегамолла (площадь одного этажа – 100 тысяч квадратных метров), а с другой – построила крытый ледовый комплекс с двумя катками, не особо скрывая, что предлагает его для сборов российским хоккейным командам или даже сборной. И строит с аналогичными целями мирового класса футбольный комплекс.
– А не боитесь вы, господин Линтунен, что этот русский наплыв превратит вашу тихую заводь примерно в то же, во что превратились сегодня бывшие Териоки и Куоккала – сверхзастроенную, убившую природу зону? Что русские и в Финляндии все позастроят?
– Как это все позастроят? – удивляется мэр. – У нас незастроенная земля принадлежит городу. И мы обсуждаем, под какие цели ее продавать. Кстати, и «русской преступности», чего раньше многие боялись, у нас нет. И Лаппеенранта, и Иматра – абсолютно безопасные города! А вообще, идея Иматры – стать еще и транзитным пунктом для иностранцев в Россию. Нужно только отменить русские визы, расширить погран-переход и пустить из России до Иматры поезд, ведь железная дорога есть. Напишите, это очень важно: надо пустить, как это век назад было, из Петербурга до Иматры поезд!
И серьезный государственный муж, завзятый спортсмен и байдарочник Линтунен, на глазах превращается в героя Костолевского из «Утренней звезды», которому для счастья только и не хватало, что английского рожка в местный оркестр…
ВОЗВРАЩАЯСЬ В РОССИЮ
Я возвращаюсь в Петербург с типичным «финским сувениром»: несколькими упаковками «Фэйри» и стирального порошка, таблетками для посудомоечной машины и копченой рыбой. Про чудодейственные моющие средства финского «Фэйри» в Питере ходят легенды. Мой приятель, серьезный бизнесмен, включенный в президентский кадровый резерв, посредством чайной ложки этого средства на 10 литров воды умудрился излечить свой дачный участок от мучнистой росы, которую не брал ни один гербицид. Порошок, таблетки, кофе, рыба – все это, с зачетом качества и с вычетом tax free (по объемам которого, забыл сказать, «Лапа» сравнялась с Хельсинки), выгоднее покупать в Финляндии. О приближении границы начинаешь догадываться по бесконечной веренице автопоездов, груженных иномарками: их везут и везут в страну, где есть деньги, но нет нормальных автодорог и морских портов (вот почему дорогие яхты из Питера перегоняют на зимовку в финские Котку и Хамину). Около 2 миллиардов долларов – то есть двойное состояние богача Антти Херлина – переливается сегодня через границу каждый год по направлению из России в Финляндию, и с каждым годом, пока высоки цены не нефть, этот поток будет расти, а когда он иссякнет, у финнов останется инфраструктура.
И главный противник этого потока – я уже знаю – не финские консерваторы-пенсионеры, не радикалы из партии «истинных финнов» (это они потребовали было запретить продавать недвижимость в России русским, но быстро сообразили, что после таких заявлений им лучше в Лаппеенранту и Иматру не соваться), а те русские, которые купили неподалеку, в какой-нибудь тихой Пуумале, дома на берегу озера, окнами на юго-запад, чтобы вечером в доме было солнце, чтобы росла земляника и плодоносили яблони. Вот они, зная Россию, боятся тихую милую Финляндию потерять.
Я не за рулем, а потому, проехав границу, могу позволить себе закрыть глаза. Чтобы не видеть нашего пограничного Светогорска, в котором хоть сейчас снимай «Сталкер», где руины обочь дороги и вид такой, будто война кончилась вчера, и мы ее проиграли. Где даже американские менеджеры местного ЦБК предпочитают коттеджи на финской, а не на русской стороне.
Приоткрыв глаза, я успеваю заметить призывный билборд – кажется, «Россия – страна возможностей».
Ну да. И лучшее место для инвестиций.
Я имею в виду, что Россия – лучшая страна для инвестиций в Финляндию.
COMMENT
Это не имеет отношения к теме статьи, но не могу удержаться. Если поедете в Финляндию – берите напрокат велосипед. Или берите велосипед с собой. В Хельсинки зеленые, похожие на кузнечиков, смешные велики прокатной системы CityBikes выдаются вообще бесплатно (как, кстати, бесплатно выдаются и обязательные велошлемы). Это невероятно увеличивает степень свободы и расширяет представление о стране. И тогда можно поехать в Старый Хельсинки – точнее, в тот орнитологический заповедник, который существует сегодня на месте существовавшего когда-то городского центра: там, на воде и болотцах, гнездятся птицы, за жизнью которых можно наблюдать со специально проложенных мостков. Или можно поехать по невероятно изрезанной береговой линии Хельсинки, но нужно рассчитывать силы: все-таки это полторы сотни километров.
Велик в Финляндии – счастье.
Говорю вам как тот, кто это счастье испытал.
2014#Финляндия #Коли А зори здесь тихие
Tags: Дорога на Север и менаж-а-труа в церкви Темппелиаукио. – Отсутствие комаров и секретный подземный ракетный завод. – Питьевая вода из озера, нудизм, лососевое сафари, двойной закат и лунный автобан.
Я однажды забыл обо всем, проводя отпуск внутри открытки, а потому потом, уже вернувшись, описал ее содержимое в архаичном эпистолярном жанре. Ведь национальный парк-заповедник Коли (гора, озеро, сосны, кораблик) – это главный открыточный вид Финляндии. Вот вам письма из Коли.
1.
Дорогой мой!
Я, признаться, впечатлен днем пути, хотя мы сняли коттедж всего в 400 километрах от Хельсинки к северу, в центре того, что финны в угоду туристу называют Lakeland и «страной тысячи озер», – к чему, как понимаешь, я относился со скептицизмом. Наш соотечественник вообще, заметь, с иронией относится к тому, что связано с ценностями финской жизни, полагая эту жизнь эдаким природным придатком к нашей конвульсивно дышащей империи. Но что бы ты сказал, узнав, что в гранитном щите, на котором устроен Хельсинки, выгрызен подземный город, весь отведенный под паркинг (вряд ли финны замышляли бомбоубежище)? Или что в Lakeland, начинающейся к северу от Иматры и Лаппеенранты, и правда тысячи озер, так что, как говорит моя Тамара, от «красоты неземной» захватывает дух, когда едешь по дамбе через воду, испещренную бухточками, заливами, островами, шхерами? Что бы ты, дорогой, молвил, увидев пасущихся по берегам коров в кожаных лифчиках (размер примерно 10-й), дабы вымя не волочилось по земле?
Впрочем, я отвлекся, хотя надо бы еще упомянуть свадьбу в Хельсинки, в скальной церкви с не-вы-го-ва-ри-ва-е-мым именем Темппелиаукио. Мы стали невольными очевидцами. Свадьба была из богатых (дамы все в шляпках), жених наголо брит (типа шоу-биз), а невеста старше, думаю, лет на пятнадцать. Стоял ровный «гур-гур», какой всегда бывает в толпе. А потом вдруг, как перед грозой, стихло, и сквозь толпу, рассекая ее, словно Гамлет, прошел белокурый юный бог, так что Тамара дернула меня за рукав, и невеста бросилась к богу, но он отстранил ее рукой и поцеловал жениха в губы. А потом все в той же тишине развернулся и ушел – что там твой Гас Ван Сент!.. Впрочем, опять отвлекся.
Итак, коттедж наш (вполне шикарный) стоит прямо на мысе Коли в центре заповедника Коли, а сбоку в тайге угадывается гора Коли с горнолыжным курортом, от которого к августу только и осталось, что кресельный подъемник (говорят, действующий).
Нас окружают, как бы в Мурманске сказали, «севера».
Заход случается поздно, к полуночи, и мы непременно ходим смотреть на «зорю» – а зори здесь необычно тихие.
После них небо долго еще белесо, и полная луна отражается в воде странно. Митя, достигший того прелестного возраста, когда уже способен к анализу, но еще непосредствен, говорит: «Родители, это не лунная дорожка, это лунный автобан». Озеро называется Пиелинен. Длиной оно 80 верст – и, если не ошибаюсь, является в Финляндии крупнейшим водоемом, жирным сальмоном, плюхнувшимся в Лейклэнд… Вот, Тамара с Митей вернулись.
Завтра – или послезавтра – продолжу.
2.
Привет, снова я.
На третий день жизни у озера пришла мысль писать письма ручкой и отправлять тебе с дикими гусями, которых здесь в изобилии, потому как (мне объяснила местная правительница тетя Кайя) Коли – птичий заповедник.
О впечатлениях первых дней.
Как ты знаешь, мы с Тамарой по утрам бегаем километров пять, то же и здесь. Комаров, к твоему сведению, в Финляндии нет – как объяснить, что они тучей висели над нами у погранперехода в Торфяновке, но совершенно исчезли в Valimaa? Но ведь факт! Бег по мягкой тропе под соснами – особое удовольствие. Особенно, когда из-под ног взлетают пуховыми подушками тетерева – за первое утро вспугнули штук пять. Но главную проблему для бегуна составляет черника размером, не вру, с ноготь. И это, обрати внимание, безо всякой генной инженерии. И Тима, конечно, удержаться не может: бег вместо сорока минут занимает теперь часа полтора.
А вчера нашли холм, у подножия поросший желтой морошкой: обзавидуйся! Морошка, черника, тетерева, озеро и лес, почти что тайга. Но на развилках все деревья помечены – перед ресепшен у тети Кайи вывешен щит с разноцветными обозначениями троп: не заблудишься. Тамара в поисках премиальной черники забрела в какую-то совершенную чащу и вдруг криком призвала меня. Что бы ты думал? В чащобе обнаружен был стационарный электронный пульт, над ним оранжево мигала лампа. В девственном-то лесу! Я, как верный сын своего народа, подумал: ага, сыны Суоми! Рассекречен ваш секретный ракетный подземный завод! Но тут же понял, что это датчики коммуникаций, проходящих у нас под ногами. Ведь питается же электричеством наш коттедж, хотя проводов к нему нигде не видно? А лампа указывает обходчику место проверки. Такие дела.
После обеда, оставив Тамарку в черничнике, покатил на велосипеде на узкий, как лезвие, полуостров, сильно прельщавший меня на карте. Понимаю, что не описать, но… Помнишь, мы обсуждали, что когда едешь по Питеру по набережной Фонтанки, то ощущение, будто внутри гравюры? А здесь ощущение, будто внутри сотворения мира. Справа и слева вода, беспримерно чиста. Гранитные валуны, вот сосны. Ни души. И знаешь, я, который натуристского движения всегда не без брезгливости сторонился – вдруг понял, что нужно раздеться, и сиганул голым с гранитного плато в воду, потом загорал голым на этой каменной плите, а потом как дурак – что было, то было! – кувыркался во мху как на ковре, как в детстве дети прыгают и кувыркаются исключительно по причине счастья. Очнулся от треснувшей ветки. Расставив четыре жирафьих ножонки, на меня с интересом смотрел лосенок. Потом уковылял.
Кстати: обнаружил виллу богатого финна: небольшой по нашим меркам дом сливался с водой и валунами, а рядом была вертолетная площадка.
Да, ты просил написать о самом сильном впечатлении первых дней. Самым сильным было предупреждение в нашем коттедже (где сауна, посудомойка, DVD и спутник): Drinking water from the lake. Я сначала опешил: а что, из-под крана воду пить нельзя?! – пока не дошло: пить из озера можно тоже.
И вот плывешь себе по Пиелинену, делаешь глоток – и плывешь дальше.
3.
Прости за вынужденный перерыв.
Тамара вспомнила про рыболовецкую ипостась и полдня просидела на берегу, пытаясь поймать лосося удочкой и игнорируя предположения, что для этого необходимы моторная лодка и спиннинг. Впрочем, идея лодки ей понравилась, и я пошел к тете Кайе договариваться о salmon safari. Решено: в каком-то уж совсем медвежьем углу нас должен послезавтра ждать рыбный Вергилий по имени Анти.
– Анти говорит по-английски? – спросил я тетю Кайю, пока она выписывала лицензию на убийство лосося.
– I hope so, – уклончиво ответила Кайя.
Кстати, вот еще две вещи, которая здесь поражают, не считая тишины, отсутствия комаров, тихих зорь и питьевой воды из озера. В месте, где мы живем, не так уж и мало коттеджей – думаю, с полсотни – но одного из другого не видно: в гостиной натуризм можно продолжать. А второе – что коттеджи, управляемые Кайей, относятся к конкурирующим фирмам. Как можно конкурировать, управляя бизнесом конкурентов – я пока не понял. Но здесь это в порядке вещей.
Кстати, Кайя забронировала нам на завтра спуск с порогов Панка-коски. Это на другой стороне озера, под городком Лиекса. Варианты: либо шесть часов на плотах на веслах, либо четыре часа на моторных лодках с перерывом на «традиционный карельский обед». Догадайся, что выбрала Тамара, чему я не смог перечить и за что нас теперь презирает Митя? Хотя уж, казалось бы, после «ужинов в типично греческой (баварской, испанской) деревушке» пора бы обрести иммунитет!
Сегодня же после обычного обеда (шмат мяса на углях, сплошное блаженство) поехали смотреть пристань, с которой завтра загружаться на паром: собственно, от пристани на макушку Коли ведет тот самый кресельный подъемник. Поднялись, я горным козлом скакал по хребту (внизу – озеро, на озере – паром, под ногами – граниты, вокруг – облака), испытывая все то же странное чувство, о котором уже писал: будто сейчас сотворяется мир. Познакомились с бэк-пэкерами, студентами из Хельсинки, они как-то странно кивнули: да, мир сотворен здесь. Я переспросил, они откликнулись:
– Вы слышали про «Калевалу»? В общем-то, это тут. Карелия, центр мира.
Я, признаться, разинул рот, силясь вспомнить сюжет, но на ум приходило лишь имя Лемминкяйнена, этого карельского Кухулина и Ильи Муромца, которого, если не ошибаюсь, убили, расчленили, утопили, а мать выловила сына в реке по кусочкам; он ожил.
Попивая минералку из озера, в это начинаешь верить.
4.
О, дорогой мой! О!
Не знаю, каков шестичасовой сплав на плотах, но и четырехчасовая прогулка на моторной лодке – это вещь.
Впрочем, извини, снова с отступления. Паром, везущий нас из Коли в Лиексу, оказался морским (и это на озере, откуда до Балтики четыре сотни верст сушей!). С идеально опереточным бородатым капитаном, бархатными шторами и финской музыкой 50-х типа ум-ца-ца. Отчего Митя немедленно объявил окружающую действительность «пошлятиной» и надулся как спелая тыква.
Однако его настроение переменилось, когда по прибытии нас облачили в резиновые доспехи типа химзащиты, отчего мы все – человек, наверное, 20, позарившихся на карельский обед – выглядели как взвод карателей, намеренных выкурить партизан фосгеном.
Дальше, понятно, заскользили по глади такой красоты, широты и чистоты, что Митя, перекрикивая шум мотора, не переставал издеваться: «Ну что? Опять? Красота неземная?» – пока мы не влетели в пороги, появившиеся как партизаны перед полицаями. На носу нашей довольно большой лодки сидел мальчик из числа белобрысых финских херувимов. Так вот, когда мы нырнули в водопад, дите просто смыло волной – я поймал его в воздухе, и мы, облитые с головы до пят, являли скульп-турную группу из берлинского Трептов-парка: типа, «воин-освободитель». И началось: лодка черпала воды полным бортом, очки и камера заливались, херувим парил над водами, Митя гомерически хохотал – как школьник, упившийся кока-колы.
Кстати, и «карельский обед» оказался тоже аттракционом – только психологического толка. Представь себе остров с идеальным лесом (и идеально стерильным сортиром в лесу), а на его берегу – чум-вигвам. В вигваме костер, у костра семнадцать промокших финнов и трое таких же русских, все жарят на огне сосиски на прутиках (помнишь, мы так в пионерлагере жарили хлеб?), а старик финн ведет неспешный рассказ, прерываемый сочувственным «Йо! йо!» – должно, о зимней кампании 1939-го. Или о Лемминкяйнене. И ты отчего-то прекрасно все понимаешь, йо… Полчаса в трансе у огня. А потом выясняется, что обед – это не сосиски, а запеченный в костре в глиняных сковородах лосось плюс всякие там обожаемые Тимой шанежки и щучья икра со сметаной и луком – Митя уплетал за обе щеки.
Перед обратным паромом успели заскочить в местный музей карельского быта (среди изб пасутся овечки и прыгают кролики). Тут, знаешь, на любом хуторе для привлечения туриста непременно устроен музейчик: где – почтовых рожков, где – тележных колес. Так вот, в карельской деревне я испытал катарсис. Правда!
Ох, елки, я прерываюсь: Тамара кричит, что гриль готов, вино открыто, и ждут только меня. Завтра допишу.
5.
Ха-ха!
Но ты себе и представить не можешь, что такое – лососевое сафари, описание катарсиса подождет!
Хутор обещанного Анти располагался на краю васнецовско-билибинского леса, в тяжелых лапах елей. Сходство усиливал частокол с насаженными черепами исполинских лососей – не сомневаюсь, что в полночь глазницы их загорались мрачным огнем. А сам Анти оказался эдаким сиволапым мужиком, не говорившим не только по-английски, но и по-фински. Во всяком случае, за три часа мы услышали от него четыре слова: Antti (тык пальцем в себя), kala (рыба), iso (большая), pieni (маленькая). Когда Анти привел нас берег с очевидным намерением плыть на лодке, мы раззявили рты. Никаких лодок там не было, не считая одной, затопленной. Из сарайчика на берегу наш Сусанин достал новенький движок Yamaha, спасательные жилеты, затем перевернул утопленницу, вылил воду, заткнул дырку в днище промасленной тряпицей, приладил мотор и жестом пригласил садиться. Глаза Тамары стали белесы как февральская тундра, но Митя повизгивал, предчувствуя приключение. Она сдалась. И мы, дорогой мой, не понеслись, не полетели – мы на челне убогого чухонца телепортировались на середину озера со всеми своими спиннингами.
Далеко, с севера, надвигалась тяжелая гроза. Мы кидали блесны (впустую). Анти таскал одного за другим окуньков посредством лески с крючком, намотанной прямо на палец. Когда гром грянул над нами, ливень стукнул в корму, а радуга встала в полнеба, мы телепортировались обратно к хутору, где посредством нехитрых товарно-денежных отношений одну iso kala типа лосось получили в собственность. И теперь рыбина корчится на углях, а мы нервно смеемся, вспоминая тряпицу в дырке…
Что же до вчерашнего музея – я ведь обещал про просветление. Так вот: потрясло то, что финский быт в конце 1930-х был нищ, как до революции совсем уж убогое село под Смоленском, с крытыми соломой хатами (я такие видел на старых фото). Полати для ночлега вповалку, топка по-черному. А на обратном пути на пароме (который, кстати, оказался ретро-паромом, отсюда и ум-ца-ца, и бархатные бомбошки на шторах) я смотрел финские фотоальбомы, как наши прадедушки смотрели волшебный фонарь с движущимися картинками.
Представь, Финляндия еще в 40-х была абсолютно нища, а до середины 60-х на снимках мало отличалась от СССР: стриженные под «бобрик» малыши таращат глаза на осмотре у врача в сельском детском саду. Но с конца 60-х пейзаж меняется: вот появляется частная гостиничка, вот подъемничек, вот у частной заправки улыбающаяся пара на Volvo. Ни у кого в Финляндии не было достаточно денег, и они осваивали свой край медленно, нежно и в складчину. Вот коттеджный поселочек, вот новый горнолыжный спуск, вот появилось его освещение ночью (а мы тогда в СССР гордились исключительно бомбой и космосом). Вот еще лица с вытаращенными глазами, а вот уже европейские.
Ты, кстати, спрашивал, много ли сегодня горнолыжных курортов в Финляндии – так вот, милый мой, 80 штук. И это при равнинном рельефе и населении в 5 миллионов. А летом лыжные курорты превращаются в то, что я тебе день за днем описываю: в северный рай, куда многие едут, потому как – недорогой «низкий» сезон.
…Я снова прервусь – Тима с Митей зовут смотреть на закат…
…Вот, вернулся. В доме играет диск, подаренный соседом по лодке на Панка-коски – его звали Аско, он оказался главой комитета по культуре той самой Лиексы, городочка в табакерке. Вот теперь у меня оркестр Лиексы сменяет молодежный джаз Лиексы, а затем вступает духовой оркестр Лиексы, а потом хор мальчиков местной школы. Juuret Suomessa, «Корни в Финляндии», как переводит быстро осваивающая финский моя жена.
Вот она сидит рядом, и глаза ее влажны.
Скоро нам уезжать, – может, поэтому.
Или она думает о судьбе крохотной страны, поднимавшейся из нищеты, держась друг за друга. Или об оркестриках, джазиках и хорах, всей этой структуре жизни маленького городка…
Закат в правых окнах нашей гостиной гаснет, но через четверть часа загорится в левых. Такие тут, на севере, оптические эффекты: проделывая тайный путь в подземном царстве, солнце ежевечерне устраивает второй закат, под углом градусов в сорок пять к первому.
Так что зори здесь тихие, но странные.
Если бы ты знал, как не хочется возвращаться.
Тамара передает тебе привет, но, кажется, вот-вот зарыдает, и я, кажется, присоединюсь.
Обнимаю.
<Send>
2007COMMENT
Да уж какие тут комментарии? Не думаю, что за 5 лет в Коли что-нибудь изменилось. Неизменность – вообще ключевая характеристика рая.
2014Bonus #Финляндия #Швеция #Аландские острова На велосипеде по грибы
Tags: Морская щука, банкиры и ведьмы. – Лисички, белые и грузди. – Лебеди, топотуны и единороги.
Было одно лето – я ездил на велосипеде, собирал грибы на Аландских островах.
Во фразе ничто не кольнуло?
Я так и знал, что «Аландские острова»! А я-то, на самом деле…
Впрочем, все по порядку.
Аландские острова – замечательные, 6757 штук, добраться до них проще финской пареной репы, паромом пять часов из Турку: лежат они между Финляндией и Швецией, имея при этом собственный парламент, собственную почту с собственной маркой и даже российское консульство с консулом, существование должности которого на Аландах является несомненным доказательством существования если не бога, то рая и божественной должности в нем. Потому что в местном представлении рай – это покой, тишина, малолюдье, развитая цивилизация при единении с природой (плюс – пока меня не слышат политики из партии Истинных финнов – автономия от Финляндии. А когда-то Аланды были самой западной точкой Российской империи, мир праху ее).
Нет прекрасней Аландов земли на свете! Там водится морская щука, метящая кругами свою территорию: когда она бьет хвостом, лодка качается на волнах (не вру, ей-ей!) Там белые лебеди взмывают с водной глади, хлопая при разбеге задницами по воде, как подушками. Там один остров – типа, юг с голубым морем и пляжами, а остров рядом – типа, на Севере диком растет одиноко, и край суровый тишиной объят.
Аландцы в шведском и финском бытовом сознании занимают место примерно шотландцев в сознании английском и евреев в сознании мировом, то есть скуповатых богатеев себе на уме. Паромная компания Viking Line плюс еще шесть десятков крупнотоннажных судов, – все это у аландцев в собственности. За 28 тысячами аборигенов вообще числится чуть ли не 25 тысяч яхт, яхточек, катеров, катерков и лодок, и нормальный аландец – это банкир, который держит в шхерах на сдачу пару коттеджей, ездит на 15-летнем «вольво» (но «вольво» же ездит!), а на своем катере, помимо 200-сильного, держит и маломощный моторчик, чтобы не жечь зря горючку по время глубоководного троллинга тайменя (паруса и весла, думаю, он прячет в кокпите).
Экзотики на Аландах – не меньше, чем на каких-нибудь островах Кука. В мрачные Средние века здесь сжигали ведьм, чем сильно проредили женское население (вот почему, возможно, Аланды так малообитаемы), на архипелаге нередки рощи скрюченных, довольно страшных берез, выросших, по преданию, на месте кладбищ ведьм. Асфальт (во Франции были? Так вот, дороги во Франции – проселок, а не дороги по сравнению с Аландами!) – рыжего цвета (в него подмешивают местную скальную оранжевую породу). Живности нереальное количество, и ночью в лесу кто-то мяучит, бабучит и хнычет, а поутру прямо под носом обнаруживаешь следы неведомых зверей.
И, пока меня не слышат патриоты из числа истинно русских: русских на Аландах совершенно нет. По крайней мере, в тот недавний год, когда я там верхом на велике собирал грибы (минуточку, минуточку: сейчас я до грибов дойду!), русских на Аландах было четыре семейства. Упомянутого уже консула, мое собственное, вышедшей замуж за местного банкира питерской филологини Саши Решетовой и семьи парня из Минфина, который умудрился изо всех островов не просто выбрать тот же, что и мы, Eckero, но и снять коттедж рядом с нашим. Очень милое, кстати, было семейство, отцы, дети и деды, а заправлял всем спец по региональным трансфертам по имени Миша.
И вот в первый же день я увидел, как Мишино семейство извлекает из багажников металлические ящики типа мангалов, только закрытые.
– Под рыбу? Коптильни? – поинтересовался я у трансфертиста, к тому моменту уже сагитированному поблеснить щуку с лодки.
– Сушильни, – отвечал Миша. – Под грибы. Мы второй год с ними приезжаем.
Я мысленно хмыкнул. Моя теща, например, на даче под Выборгом в промышленных количествах закатывает трехлитровые банки с огурцами, смысл которых – занимать место в кладовке. Но, когда процесс важнее результата, полагается не крутить у виска, а вежливо кивать. Жене я на всякий случай сказал, что грибов, должно быть, на островах много, – и отправился за велосипедом в прокат, располагавшийся неподалеку от гастронома c именем не то Kantarellit, не то Kantarell, что в любом случае (и по-шведски, и по-фински) означает «лисички». Потому что и в Финляндии, и в Швеции никаких лесных грибов, кроме лисичек, жители не признают, считая все прочие заведомой отравой (известный эпизод в рогожкинской «Кукушке» есть чистая правда).
Когда я вернулся с велосипедом, над Мишиным коттеджем веял аптечный дух сушеного гриба. Я снова мысленно хмыкнул (с собой он грибов навез, что ли?) и решил прокатиться до ближайшей бухты: там, судя по карте, был рыбацкий причал. Я отъехал метров десять от коттеджа и дал по тормозам. У обочины росли крепенькие, замечательные, напоминающие детские кулачки сыроежки. Я вернулся домой за ножом и пакетом, набрать по пути грибов на ужин. Проехал еще метров десять. У обочины рос замечательный подберезовик. Через метр обнаружился подосиновик. Затем снова крепкие сыроежки. Через десять метров – россыпь волнушек. Потом пошли снова подберезовики, сыроежки, подосиновики, ага, вот белый, еще белый… Ух ты, рыжик! Еще рыжик! В полукилометре от коттеджа обнаружился первый груздь (за все время походов по грибы в центральной России я груздь находил лишь однажды, – точнее, однажды нашел его мой дед, показав мне его с тем видом, с каким в петербургском Зоологическом музее посетителям демонстрируют мумию моего тезки мамонтенка Димы). Еще через полкилометра (пакет был почти полон) я стал кривить губу при виде сыроежек, а когда добрался до бухты, то кривил уже при виде чего угодно, кроме белых и груздей.
Нет, я хочу, чтобы вы поняли: я не фанат грибного сбора. Но тут было нашествие, атака грибов на меня. Я оборонялся. Я размахивал ножом, беря грибы прямо в седле, испытывая азарт мерзавца, который с вертолета гонит краснокнижных архаров по горам. (Но я не был мерзавцем! Клянусь! И в Финляндии, и в Швеции, и на автономных Аландах леса общие, и грибы-ягоду может брать кто угодно и без лицензии – в отличие от щуки!)
На следующий день жена и ребенок отправились по грибы со мной.
Еще через день ребенок отказался принимать в грибном расстреле участие, – он грибами был сыт по горло в самом буквальном смысле (мы их не ели только на завтрак).
Миша со своим семейством мангалил с утра до вечера на полную мощь.
Даже полуметровая щука, которую мы с ним поймали (внимание, граждане! Идя на щуку, непременно берите, помимо подсака, плоскогубцы: а как иначе вы будете выдирать блесну из утыканной, как лезвиями, зубами огромной пасти?!) – даже эта щука меркла на фоне грибной вакханалии.
Наша протопленная сауна была увешана бусами из грибов, как елка под Новый год (кажется, аландские сухие грибы еще хранятся в сусеках нашей питерской кухни).
Невероятным усилием воли день на четвертый мы запретили себе грибы собирать, дабы побывать на сафари улиток, в деревне викингов и на развалинах крепости Бомарсунд…
Последняя ночь на Аландах была неспокойна.
Мы волновались, успеет ли просушиться к утру последняя порция белых.
Лес со скрюченными березами мяукал и гавкал в ночи громче обычного.
А часа в четыре утра нас разбудил ребенок, опрометью взлетевший к нам на второй этаж и бросившийся под родительское одеяло.
– Внизу, – сказал он, клацая зубами, – ходит топотун!..
…Забыл сказать, что мальчику в тот год стукнуло шестнадцать…
Грибы к утру просушились.
Под окнами трава была умята следами чьих-то гигантских лап.
Семейство Миши печально упаковывало свои грибные мангалы.
– Послушай, – отвел меня Миша в сторону, – у меня к тебе один вопрос. Ты только не смейся и не подумай – я вообще-то не пью. Скажи, а единорог – это мифическое или настоящее животное?
Он смотрел в сторону леса…
…Нет, товарищи, ничего увлекательнее сбора грибов на Аландских островах!
2012COMMENT
Саша Решетова все так же живет на Аландских островах, связаться с ней можно хоть через ее страничку в «Одноклассниках». Коттеджи, которые она сдает в аренду – замечательные, пятизвездные, с четырьмя спальнями, и стоят прямо в шхерах.
И хотя в то лето, когда я собирал на Аландах грибы, об этих островах рассказывал единственный русскоязычный сайт (деньги на который из местного парламента выбила та же Решетова), а сейчас про Аланды пишут сотни сайтов, не пугайтесь, что рай претерпел трансформацию, типа той, что случилась на тайском Пхукете, который, поверьте, когда-то тоже был безлюдным островом-раем.
Дело в том, что на Аландах просто так купить землю и построить дом нельзя. Местное сообщество само решает, скольких туристов в год архипелаг способен переварить без ухудшения качества жизни, к которому относятся и тишина с малолюдьем. И разрешение на новое строительство дает крайне неохотно и только хорошо зарекомендовавшим себя местным (та же Решетова долго билась, несмотря на своего мужа Питера).
Я же говорю – рай!
И добавлю: с жестким лимитом на праведников.
Потому что отсутствие лимита есть главное свойство ада.
2014#Норвегия #Хафьель #Квитфель #Гейло #Хемседал В поисках вчерашнего снега
Tags: Горные лыжи и норвежский социализм. – Как провести Олимпиаду задешево. – Валенки вместо бриллиантов.
Дома с крытыми дерном крышами (где трубы растут из травы) да встающие на колено в поворотах в технике «телемарк» лыжники – вот, твержу я себе, аргументы за Норвегию, и точка.
Тут, господа, предупреждать надо – причем как рациональных, так и эмоциональных особ, единых в горнолыжном порыве. К сведению эмоциональных: безумных красот, синей-воды-в-изумительных-фьордах, – этого при катании на сноуборде или горных лыжах в Норвегии не будет. Ради Согнефьорда надо делать от Хемседала крюк километров в 150: с учетом зимних дорог этой займет весь световой день. А так в горной части Норвегии – обычный горный европейский пейзаж: подъемы, повороты, заснеженные лапы, сосны-ели. Симпатично, да, – но мало чем отличается от любых прочих гор.
Что же до рационального подхода, то все свое берите с собой. В прокате на местных курортах (причем, боюсь, на всех ста шестидесяти пяти) имеется, похоже, лишь одна модель лыж и одна – ботинок. Здесь равенство, братство, социализм. И в коттеджах, в шале, называемых «хютта», все равно не будет такого, чтобы при каждой спальне – своя ванная. Ни за какие деньги. Ванная будет, но общая.
Норвегия – это простой, понятный стандарт: в условиях жизни, в доходах, в катании, в знании английского. И единые ценности. Владение лыжами здесь в цене. В цене вообще все, что связано со спортом. И в бутике при пятизвездочном отеле, когда – о удача! – случится его отыскать, будут торговать не туфлями от Santoni, а валенками от Millet. Выдерживают морозы до -60.
ХАФЬЕЛЬ
Курорт Хафьель – любимец телевизионщиков: на лесистой горе вырезан, на манер гигантских изображений в перуанской пустыне Наска, контур лыжника. Ну, а если смотреть не в экран, то легко обнаружить, что местечко – идеал зимних корпоративных утех. Ведь что такое корпоративная утеха? Это когда при развлечении все единицы охвачены. И когда вроде как риск, но безопасно. То есть когда не война, но пейнтбол.
В этом смысле расположенный в 200 км от Осло и в 15 км от Лиллехаммера Хафьель – действительно идеал. Во-первых зона катания обширна, но устроена так, что все трассы сходятся внизу в одной точке. И место встречи изменить нельзя, и каждый может выбрать трассу по плечу. Во-вторых, Хафьель – не слишком сложный курорт, и отмаркированные черным трассы должны, скорее, тешить самолюбие спускающегося. А спуститься по ним может любой, кому «синие» начинают быть скучноваты.
Но если говорить не о главном блюде, а о приправе – это аттракцион внетрассового катания. При перепаде высот в 830 метров эти высоты устроены так, что проезжаешь все природные зоны, исключая разве субтропики. То есть на лысой вершине горы – ветер метет порошу по тундре. Чуть вниз – и появляются карликовые ели, и ты возле них выписываешь на снегу кренделя Гулливер Гулливером. А потом вдруг превращаешься в лилипута, ныряя в смыкающуюся над головой чащобу, – привет зеленому морю тайги.
Риска в этом немного, а дух захватывает.
КВИТФЕЛЬ
Подъезжая к Квитфелю, путешественник вспоминает детскую зимнюю обиду, когда у телевизора ждал, что Олимпиада целиком пройдет на одном стадионе, от лыж до биатлона. Ан нет – все разбросано по разным местам: обманули, разрушили картинку. Пикселизировали идеал.
Это к тому, что из олимпийских объектов в Лиллехаммере существует только трамплин. И в сам Лиллехаммер – с буколической главной улочкой, мирно посапывающей ночью, пока по ней мчит на лапландских олешках местный Дед Мороз Джулиниссен – имеет смысл заскочить только ради смотровой площадки да рассказа о том, как в 1994-м вся Норвегия стала нацией волонтеров-строителей. В результате чего был поставлен олимпийский рекорд дешевизны Олимпиады.
А на горных лыжах катаются близ Лиллехаммера в четырех разных местах: Квитфель (как и Хафьель) – один из них. Олимпийская трасса скоростного спуска – она в Квитфеле.
В Квитфеле заметна цивилизация в эдаком куршевельском смысле – стоит если не остановиться, то заглянуть в GudbrandsGard Hotel, где со стен печально смотрят похожие на Хо Ши Мина головы оленей, а в подвале есть отличный винный погреб. Но спортивная тема сильнее. И когда очередной Торвальд или Эрлинд демонстрирует горнолыжный стиль «телемарк» (пятка не крепится жестко к лыже; совершая поворот, лыжник красиво становится на колено) и у него вдруг отстегивается крепление – он спокойно завершает спуск на одной лыже. И это не new school и фрирайд. Это – как бы поточнее выразиться? – просто школа.
ГЕЙЛО
Местечко с запоминающимся именем, при произнесении которого даже умные люди глупо хихикают, в норвежской фонетике произносится как «Гяйлу». Гейло-Гяйлу – это, по большому счету, курорт для семей с детьми. То есть, с одной стороны, изобилие несложных спусков, а с другой – есть отели, претендующие на роскошь, то есть на щедрое заполнение aprеs ski. (Таких отелей два. Первый, Dr. Holmes, пытается выглядеть курортом на Ла-Манше – так что лучше останавливаться во втором, Vestlia Resort, где отличный минимализм и приличное spa).
Топографически Гейло – городок в узкой долине меж гор у реки; катаются как по одну сторону, так и по другую; фан-зон (а к специфическим развлечениям я бы отнес и пологий спуск с горы на равнинных лыжах) – просто тьма. Отдельная песня – саночная трасса на восточном склоне, причем песня лебединая: в смысле «и вырвался крик». Вопреки снисходительному отношению лыжников к санкам, шлемы саночников заставляют надеть не просто так: спуск идет с высоты 1178 метров, скорости серьезные, а перевернуться на повороте – раз плюнуть.
К услугам нежелающих рисковать – 20-километровая поездка по железной дороге Фонбан, напоминающая американские горки: слева – застывшие водопады, справа – бездна без дна.
Детишки счастливы; взрослые счастливы, что остались живы.
ХЕМСЕДАЛ
Горы, в которых расположен Хемседал, называют скандинавскими Альпами.
Этому следует верить.
Катание идет с высот без малого в полтора километра; за световой день откатать все трассы невозможно; впрочем, по весне можно рассчитывать на прибавку дня: сезон длится по 4 мая, когда травка на крышах над местными хюттами зеленеет, солнышко блестит и начинается время покоса крыш.
В Хемседале легко провести на лыжах неделю, постепенно понимая, чем для норвежцев является спорт. Это не часть светской жизни и не пресловутый «экстрим» (в котором всегда читается бегство из офиса), и даже не спорт результатов и достижений. Здесь спорт – это физическое, руками и ногами, освоение мира, обозначение своего места в ландшафте; здесь метели такие, что все склоны за час превращаются в off piste.
Впрочем, и без метели внетрассовое катание в Хемседале грандиозно. Взять Вергилия в этом случае – лучший совет. Одна из долин называется Долиной Смерти, и это скорее констатация факта, чем пышность слога.
Меня мой Вергилий укатал вне трасс так, что я постыдно попросил его о пощаде. Услышав печальную историю забитых до положения крепостных крестьян бедренных мышц, он махнул палкой в сторону от обрыва, в который явно намеревался прыгнуть сам:
– Езжай тогда туда. Там будет обычный склон.
Я поехал, куда он сказал, и вскоре вздохнул с облегчением: передо мной начинался всего-навсего «черный» могул.
2008COMMENT
Ах, отличная была поездка! По приглашению норвежского совета по туризму, с сумасшедшими любителями офф-писта из компании «Вертикальный мир»… Я там представлял газету Pulse St. Petersburg. Я бы ради лыж и не такое представил!
За кадром остались два момента. Первый… хм… В общем, я обнаружил, что в Норвегии в обычном газетно-журнальном закутке на автозаправке запросто продаются порнокнижки. Не на верхних полках, куда не дотянуться детишкам, и не запечатанные в черную упаковку – лежат в открытом доступе: листай не хочу. Я полистал. Не слишком высокого качества, черно-белые, но, без сомнения, принадлежащие к категории хард-порно. Не знаю, может быть, так норвежцы стимулируют рождаемость. А может, они не прячут порно от детей по той простой причине, что детям порно не интересно, им интереснее машинки или куклы. А когда дети превращаются в подростков, они все равно до порнографии добираются. И лучше, если добираются уже после курса сексуального просвещения (он в Норвегии начинается чуть не с детского сада).
Второй момент, более существенный для путешественника, состоял в том, что Норвегия оказалась невероятно дорогой страной. Самой дорогой среди тех двадцати, про которые я пишу в этой книге. На той же заправке счет за бутерброд с баночкой колы был около 20 евро. Это цена скромного ужина в Париже и нескромного – в Лионе.
В общем, я готов поверить в нефтедолларовое проклятие, не минувшее и Норвегию. Просто в Норвегии оно принимает скандинавскую форму: средняя зарплата – 5 тысяч евро, после налогов – 3 тысячи евро, но цены на все, от еды до электричества, чуть не вдвое выше среднеевропейских.
И особо бешеных денег стоит в Норвегии спортивное снаряжение. Хороший горнолыжный костюм идет по цене костюма от Etro у нас. Все правильно: если наш национальный спорт – кидание понтов (выше, дальше, быстрее), то у норвежцев – выяснение отношений с миром в прямом, физическом варианте. А прочее товарищам с севера по барабану.
И на меня эта шкала ценностей в известной степени повлияла. Русского во мне после спуска по «черным» трассам стало меньше, а норвежского – больше.
И это, как мне кажется, нам с Россией только на пользу.
2014#Швеция #Стокгольм #Упсала Обобществленное радио
Tags: Институт для журналистов, созданный министром финансов. – Зайцев, Кодье и прочие негры эфира. – Чем государственное отличается от общественного.
Недавно с группой товарищей я побывал в Швеции. На деньги шведских налогоплательщиков. Группа товарищей увиденным (а точнее, услышанным) была потрясена. Я же их потрясением был вдохновлен.
Про «группу товарищей» я пишу без иронии – дюжина программных директоров, главных редакторов и владельцев радиостанций, с географией от Сочи до Костомукши, местных и сетевых, целую неделю искренне удивлялась тому, чему в Швеции удивляется любой путешественник.
Ну, скажем, дивились готам в университетском студенческом городке Упсала (с ударением на второй слог; это тот самый городок и тот самый университет, в котором занимался своей классификацией видов Карл Линней). И если вы думаете, что знаете, как выглядят те, кто называет себя готами, то вы не знаете, как выглядят упсальские готы! Они не просто ходят в черных сапогах, черных плащах, в цепях, с волосами, крашенными в радикальный черный цвет, – они стригутся так, что спереди лицо являет собой сплошную черную челку, нависающую примерно до подбородка, отчего смотрятся эти ребята, как будто поменяли лоб с затылком – сильное, доложу вам, зрелище!
Или изумлялись информации о том, что 70 % стокгольмских домохозяйств состоят из одного человека: да-да, в шведской столице люди встречаются, влюбляются, женятся – но при этом нередко продолжают жить отдельно; родители астридлиндгреновского Малыша могли бы в наши дни составлять разные домохозяйства.
Да и мало ли поводов к изумлению найдется в стране, чьи граждане имеют привычку приходить в гости со своей бутылкой вина, наливать в гостях из этой бутылки, а не допив, уносить с собой! Где в выборах принимает участие 85 % населения, депутаты парламента получают зарплату около 2,5 тысяч евро (до налогообложения, отгрызающего от этого треть) и имеют служебные рабочие кабинеты площадью 12 квадратных метров! (Тут даже я был ошарашен, поскольку в эту поездку провел первый и, полагаю, последний в своей жизни парламентский час, действительно проведя час в стенах Риксдага…)
Но все это были изумления, так сказать, из цикла «а еще на огненных островах живут люди с песьими головами».
Настоящее потрясение ждало не в дополнительной, а в основной программе.
Дело в том, что нас приглашала познакомиться со шведской системой СМИ организация, называемая Fojo. Это шведский институт повышения квалификации журналистов, основанный полвека назад тогдашним шведским министром финансов, который устал от глупых вопросов интервьюеров.
Однако вместо язвительных тирад в духе Аркадия Райкина «Слушал я вас и понял, ну и дураки же вы все!» – он добился, чтобы бюджет выделил деньги на профессиональное обучение журналистов. Со временем инициатива, как водится, расширилась и углубилась, – и вот сегодня шведы тратят деньги не только на местную, но и иностранную журналистику. По крайней мере, добросовестно иностранной журналистике рассказывая о журналистике шведской.
И там был, конечно, ряд забавных моментов (выяснилось, например, что около 20 % шведов слушают радио через интернет – но при этом столько же пользуются древним телетекстом: помните, во времена пейджеров был показ новостей в текстовом виде по телевизору? В России телетекст умер еще быстрее, чем пейджер). Или, например, мы узнали, что если десять лет назад в шведских медиа конкурировали три с половиной десятка частных компаний, то сегодня их число свелось к семи, причем часть из них не местные компании, а иностранные, чем шведы крайне встревожены – но не иностранцами встревожены, а сокращением конкуренции.
Но главное, повторяю, было не в этом.
Главное, чем были потрясены мои российские коллеги – что первые четыре канала шведского телевидения, равно как и четыре канала шведского радио, являются общественными. Радио 1 – это, условно, «Радио России» (которое во времена первых пейджеров было вовсе не радио для парализованных старушек, у которых нет сил от отчаяния залепить костылем по репродуктору, а рупором молодой демократической России, которому верили даже больше, чем «Эху Москвы» сейчас). Р2 – это, условно, «Культура». Р3 – молодежное радио, то есть российская «Юность». Р4 – это научное и региональное радио. Все это в FM-диапазоне, хотя вот-вот, похоже, в Швеции радио станет цифровым. И мы в стокгольмском Доме Радио видели полный радийный цикл (от столовой до замечательно ухоженного кладбища при церкви, на которое выходят окна коридора – элегичное, успокаивающее зрелище, особенно если у твоей программы падает рейтинг), и продюсер молодежного Р3 Улла Свенссон показывала самую лихую эфирную студию изо всех, которые мне доводилось видеть, – в ней идет трехчасовое шоу «Утренний пассаж». Студия эта украшена картинами, увешана флагами, там пыхтит кофеварка и устроен бар, а само шоу ведет, в компании двух девушек, невероятно популярный шведский парень Кодье, цветом кожи напоминающий шоколадку с 90-процентным содержанием какао-бобов. Реклама шоу, где Кодье в одном халате прыгает с микрофоном на кровати со своими боевыми подружками Мартиной и Ханной, известна всей стране.
И все это, я так понимаю, впечатление на моих коллег из регионов произвело. (Да и на меня произвело. Я еще помню, как на ВГТРК былых лет, то есть на телеканале «Россия» времен пейджеров, вел новости спорта негр Зайцев – и дивно, на мой взгляд, вел, – но с тех пор, щадя нервы русских патриотов, эксперименты не возобновлялись).
Но настоящий шок с коллегами случился, когда фру Свенссон стали задавать вопросы.
– Сколько процентов вещания занимает у вас реклама?
– Нисколько, – последовал ответ. – Мы общественное радио, у нас нет рекламы.
– То есть у вас вся реклама размещается не на радио, а на телевидении?
– На общественном телевидении у нас тоже нет никакой рекламы.
– Как вы согласовываете с государством свою работу?
– Никак не согласовываем, мы общественное радио.
– Но администрация премьер-министра может вам дать указания?
– Мы общественное радио, нам никто не может давать указания. В Швеции есть комитет по вещанию, если вы об этом, но он разбирает жалобы на конкретные программы, если такие поступили. И разбирает их после того, как программы вышли в эфир, а до этого он не вправе вмешиваться. И после тоже не вправе вмешиваться, просто мы обязаны объявлять о его решениях.
– А бюджета, конечно, вам не хватает!
– Хватает. Наши ведущие на утреннем шоу притирались друг к другу четыре года, а получают они очень-очень недурно. А споры о том, каким быть выпуску новостей, мы вообще вели семь лет!
– Уу-у-у-у! Везет! Нам бы такое!
Я, в отличие от коллег, не первый раз сталкиваюсь с системой общественных теле– и радиоканалов. Швеция – англоманская страна, что заметно даже в деталях (шведские пабы неотличимы от британских, и пабов в Швеции много). А на британском общественном радио – Би-Би-Си – я успел поработать. В Британии та же система, только общественных радиостанций не четыре, а пять. И рекламы на них никакой нет. А деньги на содержание, как и в Швеции, собираются посредством license fee, платы за лицензию, которую обязан вносить каждый владелец телевизора, даже если он смотрит по нему только подписные телеканалы через спутник (и споры о справедливости этой системы идут в Великобритании с тех пор, как образовалась Би-Би-Си). И общественное радио никакому государственному чиновнику действительно не подотчетно, и один из главных постулатов Би-Би-Си – «мы отвергаем любое давление на себя». (У меня был забавный случай, когда я записал на Би-Би-Си интервью с Андреем Илларионовым в бытность его советником президента. После чего Илларионов потребовал в интервью что-то убрать, а что-то оставить. Ему отказали все – сначала я, потом моя начальница, потом начальник начальницы. Илларионов хотел присутствовать при монтаже, но ему отказали и в этом, заверив, что право обращения в британский суд в случае искажения его слов за ним, конечно же, остается.) Эти общественное радио, общественное телевидение не всегда самые рейтинговые (хотя, если говорить о Швеции, общественное радио предпочитают 47,7 % аудитории против 32,8 % сторонников коммерческих радиостанций), зато оно может не идти на поводу ни у частных, ни у государственных интересов (которые могут не совпадать с общественными, порой оказываясь интересами конкретных лиц). Общественные вещатели служат обществу. Например, общественное радио делает научные программы, и этих программ о науке в Швеции великое количество (да и в день нашего визита веселый Кодье целых три часа своего шоу допрашивал крупнейшего шведского специалиста по генетике). И если спор о форме подачи новостей занимает 7 лет – значит, 7 лет следует вести этот спор.
И вот этим фактом – что общество важнее чиновника, что общественное главнее государственного, и что это не просто слова, что на этих принципах держится целая гроздь СМИ, финансируясь и охраняясь подобно природному заповеднику – и были мои коллеги потрясены.
Потрясены настолько, что вечером один из них, потягивая местное пивко, задумчиво произнес:
– Знаешь, я теперь понимаю, что если страна развалится, и мне в моем регионе придется заново делать радио, нужно будет создавать не государственную, а именно общественную радиостанцию. Думаешь, я не знаю, как журналистов владельцы душат? Когда в свое время ОРТ с НТВ бились, я ведь понимал, что это не журналисты бьются, а Березовский с Гусинским. Только когда в битве победило государство, оно вообще всех удушило – и Березовского, и Гусинского, и общество. Потому у нас все в такую лажу и превратилось.
Я в ответ пивка тоже хлебнул, но ничего не сказал.
И сделал вид, что не заметил, что он произнес «если» с той интонацией, с какой произносят «когда».
2011COMMENT
В этой поездке я представлял проект «Новые русские медиа» – такую интернет-избу-читальню newrusmedia.ru, созданную для всех, кто работает в интернет-медиа, их изучает или просто ими интересуется. (В самом деле, раньше было понятно: газета – это газета, а радио – это радио. А вот, скажем, ЖЖ, куда одним щелком прикрепляешь видеоролик, не спрашивая на это лицензии у Роскомпечати – это медиа или нет?)
NewRusMedia жило на гранты. В том числе и от института Fojo.
Упоминаю об этом, потому что в России вот уже лет десять как популярна идея, что получатели западных грантов являются агентами Запада. Если считать агентов пляшущими под чужую дудку вредителями, то это глупость, конечно (хотя бы потому, все грантодатели требовали отчета в деньгах, но ни один мной не руководил!). Но если имеются в виду агенты влияния, это верно. Я тоже агент влияния. Я вообще агент и адепт идеи, что общественные СМИ – это хорошо, а государственные СМИ – это плохо.
Потому что за ширмой государства в автократиях прячутся обычно конкретные люди с конкретными меркантильными интересами (к чему относится и интерес остаться у власти), и они-то быстренько подминают интересы общества под себя, а журналистику подменяют пропагандой.
Западная же идея состоит в том, что общество ставит государство себе на службу, подчиняя его себе.
В этом смысле я совершенный агент Запада.
Чем, несмотря на печальные времена на российском дворе, и горжусь.
2014#США #Нью-Йорк #Лас-Вегас Снова догнать Америку
Tags: Ferrari на биоэтаноле. – Велосипед и $20 в неделю. – Lamborghini в целях экономии.
Когда в 2007-м году я впервые в своей жизни прилетел в Нью-Йорк, моя вера в рациональный панатлантический разум, выбирающий для езды по городу маленький, экономичный и экологичный автомобиль, была подвергнута испытанию.
Узкие нью-йоркские улицы были забиты гигантскими внедорожниками, которые за показную и бессмысленную в условиях города мощь я ненавидел в России.
«Большие машины – американская ментальность, мы так привыкли. Маленькие – для Европы. Ты наши дороги видел?» – говорили мне американцы.
И вот год спустя, летя из Колорадо в Неваду, я их увидел – бесконечные прямые нити дорог, благодаря которым Штаты и являются Соединенными. Однако кое-что за год стало другим. Свежая USA Today публиковала данные Gallup об изменении водительских привычек из-за подорожания бензина: 76 % стали ездить медленнее, 71 % думают о более экономной машине. Hemispheres Magazine содержал статью о Ferrari 430 на биоэтаноле. Таксист в Лас-Вегасе качал головой: бензин стоит доллар, большие машины дешевеют, маленькие – дорожают, соседи возят друг друга на работу. Лично он достал из чулана велосипед: $20 экономии в неделю, парень!
Я хмыкнул, поскольку прилетел на тест-драйв нового Lamborghini Gallardo LP560-4 (США – это 40 % рынка для «ламбо»), а машинка в 560 лошадиных сил экономичной не бывает. Но что бы вы думали? В характеристиках значился расход топлива 10 л/100 км за городом. Я не поверил, пока не покатался по Неваде, соблюдая ограничения скорости: расход на самом деле вышел крохотным. И я понял, почему автоматика включала шестую передачу уже на 2000 оборотов: экономила.
Будем честны: в потреблении мы всегда копировали Америку. Сначала – в джинсах и жвачке. Потом – в дорогих мощных машинах, объявив это русским стилем (наверное, потому, что хотелось быть первыми, а не вторыми). Похоже, сегодня, чтобы быть первыми, нужно начать экономить – чтобы снова догнать Америку.
2008COMMENT
Вот о чем я тогда не написал: я разбил эту новенькую «ламборгини». На автодроме не вписался в поворот. Понадеялся на полный привод и ESP, а когда начался занос, растерялся – хотя управлять заносом я когда-то учился в Зельдене в школе BMW. Да что оправдываться…
В общем, пробил ограждение, вылетел на камни, вылез из машины, – вроде цел, но капот разбит в хлам (движок у спорткаров сзади). А дальше – как в кино. Через секунду появилась ambulance, «скорая». «Вы в порядке?» – «Да». – «Нуждаетесь в госпитализации?» – «Нет». – «Ваше имя?» – «Дмитрий Губин». – «Какое сегодня число?» – и так далее: как называется наша планета, сколько дней в неделе, как зовут президента США, сколько даймов (то бишь гривенников) в долларе, и снова – «Вы в порядке?», «Нуждаетесь в госпитализации?» То есть проверяли, не в шоке ли я. А документы даже не спросили. Затем появилась толстая веселая темнокожая полицейская. И она документов не спрашивала, дала подписать бумаги, угостила кофе, хлопнула по плечу: «Не бери в голову, парень! На то и автодром, чтобы гробить машины. Эти итальянцы с богатеньких еще свое сдерут!».
Итальянцы из «Ламборгини» не скажу, чтобы были в восторге, но ни слова не сказали и выдали новую машину – попросив, правда, больше на автодроме не экспериментировать и покататься с соблюдением скорости по пустыне.
И этому – помимо умения экономить – нам у американцев и итальянцев тоже следует поучиться.
2014#США #Бостон #Атлантический океан Несварение от успехов
Tags: В анабиозе над Атлантикой. – Превращение людей в визитные карточки. – Дауншифтинг и восстановление дружеских отношений с жизнью.
Если я просыпаюсь в кресле типа «кокон» (электрическое, полтораста фиксированных положений), а вокруг полумрак, – значит, я лечу над Атлантикой, а стюардессы уже осуществили свой дьявольский план.
План в том, чтобы втихаря подпоить тебя за обедом (доливая вино, хотя их и не просят), а потом зашторить иллюминаторы и пригасить свет. И все, ты покорно раскладываешь кресло в горизонтальное положение, превращая в кресло-кровать, закутываешься в плед и сопишь, словно в шляпе малиновой ежик резиновый с дырочкой в правом боку.
Тебя настойчиво погружают в анабиоз, как в фильме «Пятый элемент». Все, кто летал «Люфтганзой» на другой континент бизнес-классом, смеются: «Очень похоже!».
Кстати, подозреваю, что электророзетки в 110 вольт, вмонтированные в кресла, у них не работают по той же причине – чтобы ты мог зверушкой когтями скрести по клавиатуре ноутбука, только пока живы батарейки, а живут они как раз до обеда, а потом стюардессы заученно разведут руками: ах, какая жалость, Mein Lieber Herr! Удивительно, но до этого рейса с розетками все было в порядке.
А самое вязкое, непонятное, странное – это из анабиоза выходить. За час до посадки. Потому что сначала не помнишь, куда летишь. Потом, по изображению на встроенном экране, осознаешь – о, впереди франкфуртский (или мюнхенский) хаб, а вот откуда летишь, нужно вспоминать еще секунд 20, потому что если я опишу, как возвращается воспоминание о дорогах Массачусетса или об ужине al fresco в бостонском музее Эвы Гарднер, это не будет воспоминанием, – это будет значить, что я уже приземлился во Франкфурте (или Мюнхене), принял душ в бизнес-зале (днем очередь на него, кстати, длится часа полтора), пересел на самолет до Москвы (или Питера), добрался до дома, проверил информацию по Yandex – и после этого написал.
В «Яндексе» найдется все.
В голове это все не укладывается.
Память больше не удерживает людей, она больше не поддерживает личные отношения, как поддерживают потолок арки венецианского палаццо, которое миллионерша и покровительница искусств Эва Стюарт Гарднер разобрала по кирпичику и перевезла в Бостон в начале XX века, нашпиговав затем внутренности Вермеером, Рембрандтом, Веласкесом и прочим Дега, потому что тогда это был нормальный ход – разобрать в Европе и вывезти в Америку (надо ли говорить, что я успел побывать на сайте музея, пока писал эту фразу?).
Память уже не удерживает ту милую, разгорячившуюся англичанку, лет сорока пяти (но выглядела она сильно моложе), действительно милую; после шампанского она хохотала и била меня по руке – you are naughty, Dmitry, you are naughty! – в ответ на рискованную шутку. У нее были такие зеленые ирландские глаза и остатки либо сведенных, либо просто исчезнувших с возрастом веснушек, которые вновь появлялись, когда она смеялась, несмотря на то, что и глаза и веснушки я придумал только что, потому что, черт побери, я не помню цвета ее глаз.
Я не помню ее имени, цвета глаз, длины юбки, цвета соскочившей и болтающейся на носке туфли (она раскачивала ногой с соскочившей туфлей, сидя на низких перилах балюстрады), и про туфлю я тоже выдумал, потому что рыться в так и не разобранных визитных карточках, чтобы найти ее имя и место работы, нет сил – проще сочинить.
У меня сложена в пакетик пара сотен неразобранных визитных карточек, в тщетной надежде оцифровать имена, телефоны, явки, пароли, встречи и добавить к тем трем с половиной тысячам записей с персональными данными, что хранятся в Outlook.
Когда ты знакомишься более чем с пятьюдесятью новыми людьми в месяц и ездишь за границу чаще двух раз в месяц, весь мир превращается в неразобранные карточки, засунутые в пакетик.
Потому что начиная с этого момента (и даже чуть раньше) ты перестаешь воспринимать мир чувственно и завоевывать его в буквальном, тактильном смысле, в каком спортсмены завоевывают свои секунды, сантиметры и золотые медали, а сам превращаешься в оцифрованную визитную карточку, которую несет по проводам всемирный компьютер, раз в три года корректируя должность и телефон. Это не тебе, а твоей карточке пришло с утра 40 писем (среди них – 10 приглашений: если разобраться, то приглашений обменяться информацией еще примерно с 30–50 карточками: ну не воспринимаешь же ты их, право, как людей?), это твоя карточка слушает La Traviata в La Scala (с последующим ужином со спонсорами прослушивания), это твоя карточка обсуждает с партнерами, где встретиться за бизнес-ланчем – в «Аисте» или «Турандот».
Потому что не-карточка хотела бы жрать каждый день в шалмане «Бурчо» или в грязноватой китайской «Дружбе», но там оцифрованных нет. Ты – карточка, функция, ты перестал воспринимать людей как людей и мир как мир и перешел на обработку информационных потоков, – вот потокам и не мешай.
Да я вот несколько месяцев уже не мешаю.
Но знаете, куда вас столь узнаваемыми кругами веду? Нет, не к Вельзевулу. А к последней технократической иллюзии: что «правильной» (вот уж насквозь фальшивое слово!) жизненной логистикой, отлаженным тайм-менеджментом и прочим рациональным устройством можно все как-нибудь обустроить, как земским устройством Солженицын надеялся обустроить Россию.
Не выйдет. Гангрена не лечится аспирином. Если ты понимаешь, что лица, страны, события, континенты, ужины не перевариваются организмом и не дают тебе ничего, кроме денег, – это значит, что из тела понемногу уходит душа и пора выбирать.
Я, конечно, про судьбу солженицынских поучений помню, а потому никого учить не берусь. Просто прошедшим летом, воспользовавшись случайным поводом, я выпрыгнул из этого офисного колеса, где раньше вертелся белкой. Ушел в частную жизнь. Совершил, черт побери, дауншифтинг. И ныне поглощаю лишь то, что интересно и что в состоянии переварить. Вокруг теперь деревья парка; я еду на велосипеде; ужинать у Новикова или Делоса смешно. Я не помню, какой фирмы на мне велобрюки, а также куртка и толстовка-джерси, – но мне в них удобно.
Стопочка оставшихся от прежней жизни визитных карточек потихоньку разбирается и тает, как культурный сугроб, описанный Харуки Мураками.
Кстати, я теперь много читаю.
И куда больше, чем прежде, пишу.
И, судя по тому, что вы этот текст до конца дочитали, – это хороший баланс.
2008COMMENT
Вопреки популярному представлению, редакции глянцевых журналов (в России, по крайней мере) – это никакие не шикарные офисы, а обычные комнаты в офисах, где, скрючившись за компьютерами, сидят человек восемь: главред, заместитель, секретарь, два-три редактора и трое дизайнеров, – все. Зарплаты тоже обычные, офисные, не пошикуешь. Зато спонсорских поездок по миру – хоть отбавляй.
Оборотная сторона этого дивного мира – несвобода. Потому что в спонсорской поездке ты обязан видеть (а затем – описать) то, что хочется приглашающей стороне. А приглашающая сторона хочет, чтобы все видели глянцевую поверхность.
Сначала ты этими поездками обжираешься. Затем гордишься тем, что нашел компромисс – ведь не лишает же тебя приглашающая сторона вовсе свободного времени? Выйди из отеля на улицу, посмотри, опиши, напиши – хотя бы и для себя. А потом понимаешь, что на компромиссах ничего не построишь. Девять десятых текстов о путешествиях, что я написал на спонсорские деньги, были мной забракованы для этой книги еще на стадии отбора. А из оставшегося половина выброшена в процессе.
В общем, когда я из глянца ушел, вздохнул с облегчением.
Теперь большей частью путешествую за свой счет.
Оплачиваю цельность жизни.
Но разве это того не стоит?
2014#Казахстан #Астана Альтернативная Россия
Tags: Невероятные метаморфозы казашек и Казахстана. – Крепость Сарайшик и жалкий шик московского Кремля. – Сон архитектурного критика Ревзина и астанинская явь архитектора Фостера.
Я только на днях понял, что имел в виду Пушкин со своим «правительство у нас – единственный европеец». И понял: не у нас, а у них. Хотя они – это мы. Просто альтернативные. Я о Казахстане.
Летел я в Астану. Дорогу оплачивал замечательный журнал путешествий, дай бог его редактору доброго здоровья. Компанией Air Astana, которой аллах помимо самолета дал то, что нужно: блестящий сервис. Наши авиалинии отдыхают. Потому что на Air Astana сервис не просто хороший, а искренний. Там тебя там любят. И стюардессы там сказочно красивы. Казахи – я забегаю вперед, но для меня это было открытием! – вообще среди азиатских народов один из самых красивых. При этом у девушек фигуры, как налитые бутоны тюльпанов. У мужчин узки бедра, широки плечи – и никаких животов. Хотя ростом они невысоки. Нация статуэток. Я был вдохновлен. Даже когда астанинский абориген (то есть урожденный целиноградец) Саша, в роли Вергилия водивший меня по Астане (и сам, судя по его замечаниям в адрес женщин, вполне ходок) сказал, что с девушками-казашками случилась невероятная метаморфоза. Примерно тогда, когда Казахстан стал независим. Из коротконогих, плотных, плосколицых они стали превращаться в то, что я вижу сейчас…
В общем, пока я сидел в самолете с открытыми глазами, я был в раю. А когда закрывал глаза – то в русском раю. Дело в том, что казахи по-русски говорят вообще без акцента, в отличие, скажем, от грузин или армян. Две казахских красавицы рядом со мной общались на идеальном петербургско-московском наречии. И не только они, вообще все. Потом меня познакомили с менеджером Алимжаном, который, по его словам, рос в дикой казахской глуши, школа была убогой, и до девятнадцати лет он русского не знал. Но за пару лет в Астане стал чирикать так, что курский соловей замолкает…
В общем, было мне в этом авиараю комфортно. И вместе с тем привычно. Потому что в казахской газете, оказавшейся на борту, я читал о том, что в розыск объявлен бывший алмаатинский аким, а впоследствии федеральный министр Храпунов. Ему инкриминируют мошенничество, преступную группу, отмывание. И тут же сообщалось, что человек, которого не могут найти, живет в Швейцарии, где он входит в список главных местных богачей. А в российской газете, которая тоже была на борту, писали, как не могут найти бывшего главу «Банка Москвы» Бородина, которому тоже инкриминируют мошенничество, организацию и отмывание – и который только что купил в Лондоне самый дорогой особняк за 140 миллионов фунтов… Просто у России мэры, а в Казахстане акимы, – вот и вся специфика.
Хотя нет, в другой местной газете я прочел репортаж о жизни на периферии. Журналист возмущался, что есть аулы, где воду берут из колодцев, что дороги разбиты вдрызг… А у нас в деревнях – что, колодцами пользоваться перестали? Да я сам в нашем садоводстве из колодца воду ношу, и неразбитых дорог в России нет вообще, кроме тех, по которым ездит начальство… Ну так и под Астаной построили 200-километровый автобан (кажется, единственный на страну) до зоны отдыха Боровое, где над озером возвышается камень-скала Жумбактас…
А еще в том репортаже сообщалось, что московский Кремль был выстроен Иваном Грозным под впечатлением от крепости в казахском городке Сарайшике, которую он разрушил, но позабыть никак не мог. Хотя Кремль на самом деле был построен задолго до грозного царя архитекторами-итальянцами: миланская крепость – один к одному наш Кремль…
Но это я ради восстановления исторической справедливости отвлекся.
Летел я в Астану глянуть на назарбаевские небоскребы. У нас про Астану говорят много всяких глупостей – что слово означает «новая могила», что никто там не живет и что все чиновники летают туда из Алма-Аты (которую положено ныне звать «Алматы») по понедельникам и улетают по пятницам. Все это чушь. Время, когда федеральные министры жили в Астане в общагах, а на работу шли по грязи строек, надев на ноги пакеты, в прошлом. Народу в Астане уже без малого миллион. Я был в быстро растущих азиатских городах с небоскребами – в Шанхае, Дубае, – но Астана, знаете ли, даже на их фоне поражает. Это не город. Это сон. И я даже готов уточнить, чей конкретно. Нет, не президента Назарбаева, бронзовые статуи которого можно найти на главной оси нового города на левом берегу Ишима (именем Назарбаева названы университет, музейный центр и много чего по мелочам). Астана – это и есть город Назарбаева, задуманный и воплощенный им, как Петербург Петром; так что для Назарбаева современная Астана – не сон, а явь.
Астана – это, скорее, город-сон российского архитектурного критика Григория Ревзина. Потому что, бодрствуя, архитектурный критик Ревзин страдает. Будучи чутким к прекрасному и одновременно образованным и совестливым человеком, критик Ревзин не может не страдать, видя, во что превращаются бешеные русские нефтяные деньги, когда их в России тратят на архитектуру. Как вместо дореволюционных домов строится нечто наглое с башенками, эркерами и сплошным фасадным остеклением. Как вместо общественного пространства, парков и прудов вырастают очередные башенки. Современная русская архитектура – это большей частью апофеоз самодовольства русского разбогатевшего хама, которому прислуживает прогнувшийся архитектор. А современного иностранного хорошего архитектора зазывают в Россию на роль дурака-барана, который своим именем пробьет дорогу красивому бюджету, дабы бюджет разворовать. Дураком-бараном был в России Доминик Перро: он рисовал-рисовал золотую паутину над Мариинским театром, а смысл был не в паутине, а в том, чтобы украсть все возможное на сносе и рытье, а потом Перро пинками прогнать и строить что выйдет. Дураком-бараном был Кисе Курокава, царство ему небесное, – Курокаве дали спроектировать футуристический стадион на Крестовском острове в Петербурге. А смысл был не в футуристике, а в бюджете, и Курокаву вскоре пенделями прогнали, а бюджет, что был под Курокаву, увеличили, я уж запутался, во сколько раз к сегодняшнему дню.
Так вот, архитектурный критик Ревзин, должен, чтобы не сойти с ума, видеть счастливые сны. И тогда ему должна сниться новая Астана. Спроектированная тем самым выгнанным из России Кисе Курокавой. С осевым шампуром грандиозного бульвара, называемого «Водно-Зеленым». С пирамидой от Нормана Фостера и с невероятным торговым центром «Хан-Шатыр» опять же от Фостера (получился такой унесенный ветром шатер с торчащим из него копьем, где аквапарк с морским песком устроен почти в поднебесье). С наклонившимися, танцующими, сбегающими от вертикали архитектурной власти небоскребами. С парящим над городом золотым шаром смотровой площадки башни Байтерек, где хранится золотой отпечаток ладони Назарбаева, в который посетителю положено вложить свою ладонь (моя оказалась один к одному с назарбаевской. Увы: широкие, немузыкальные и некрасивые у нас с казахским правителем руки)… Что ж, если бы я был Ревзиным, я бы вам этот сон в куда больших деталях расписал. Рассказал бы про какие-нибудь здания в фальшфасадах из древесных стволов… Но я это к тому, что если в Казахстане и воровали (а в Казахстане все, как один, уверяли меня, что воровали), то целью строительства было все же строительство, а не воровство.
И вот я целый день ходил с разинутым ртом по этой воплощенной мечте, потому что, повторяю, нигде! – решительно нигде, кроме, может, Бразилиа с Оскаром Нимейером, город не отдавался на откуп архитекторам. И если я от города отвлекался, то только на астанинцев. А астанинцы – причем я этнических казахов имею в виду, их сегодня в Астане большинство – даже между собой говорят исключительно по-русски. От чего возникало стойкое ощущение, что я в России, только альтернативной. Где городские акимы, понимая ограниченность собственного вкуса, доверяют архитекторам, и, поскольку в казне полно нефтяных денег, приглашают лучших. И, может, именно поэтому здесь все так вежливы и любезны: и в ресторанах, и в магазинах, и в моей гостинице «Жумбактас». Может, поэтому здесь в парке в ночи гулять совершенно безопасно, а полицейские улыбаются. И вообще, доброжелательность такая, что в Россию – то есть в альтернативный Казахстан – возвращаться не очень хочется. Пусть даже там разрешены фильмы «Борат» и Живой Журнал, которые в Казахстане запрещены. Тем более что в России запрещена грузинская «Боржоми», которой в Казахстане залейся, и я заливался, поднимая каждый раз тост за здоровье охранника моего здоровья Онищенко.
А на второй день я стал чувствовать тревогу.
Потому что в этом замечательном, фостеровско-курокавоско-назарбаевском раю чего-то не хватало. А потом я понял: горящих в ночи окон в тех небоскребах, про которые мне говорили, что они жилые. И велосипедистов на улицах. И скейтбордистов и роллерблейдеров. Мамаш с колясками. Террас кафе и ресторанов на улицах. Вообще толпы. Ничего этого там не было. Даже джаз-клуба не оказалось. В невероятных концертных залах не давали концертов. Все дворцы – спорта, искусства, государственности, черт-те чего – роскошные, современные, шикарные, стояли пустыми. Жизнь шла не на новом левом, а на старом правом целиноградском берегу, где еще были бараки с сортирами во дворе, где поднимались новые хамские многоэтажные тупые дома, топя в подножии частные домишки, – но эта была та жизнь, которую легко найти в любом русском городе и ради которой в Астану не имело смысла лететь. В этот день Вергилий по имени Рамиз объяснил, что если приглядеться, но можно заметить, что стеклянные стены на части небоскребов грязные: это значит, что внутри никто не живет и не работает. Это муляж, пустой навешенный фасад, – чтобы не портить внешний вид. А Вергилий Саша повез меня в район, где живут «богатые казахи», – и лучше бы он меня туда не возил. Стыдливо отделяясь от фостеровского города цепочкой ресторанов (Астана спроектирована так, что все собрано вместе – рестораны в одну кучку, больницы в другую, стадионы в третью, а почти все чиновники засунуты в здание с грандиозной длины фасадом, которое из-за прорезей арок зовут «поясом верности»), – так вот, в городе, стоящем среди бескрайней степи, где пространства хватит на всех и останется еще на сто поколений, теснились, толпились, жались друг к другу особняки новых астанинских богатеев.
Это были чудовищные, кошмарные, богатые сараи, построенные явно вне воли казахского самодержца, не говоря уж про Курокаву. Я такие кирпичные амбары в тысячу метров, щекочущие подмышки друг другу, наблюдал возле российских областных центров еще в эпоху первичного воровства капитала.
Но местные люди строили эти дома так, как они хотели; и, несомненно, жили в них; и жили так, как хотели. Это была их жизнь – с ресторанами всех кухонь мира под окнами, с микрофонами и сценами в каждом ресторане, и на каждой сцене орало, закладывая всем уши, шоу, – и для них это было очень и очень круто.
И тут я вдруг стал замечать и другое. Как модерновые, роскошные здания с отличной современной скульптурой на опоясывающей лужайке, придуманной, чтобы поваляться, побегать, устроить пикник, отгораживались коваными заборами в позолоченных финтифлюшках – чтобы никто не смел и близко подойти. И это была не воля Назарбаева, а желание тех, кто хотел просто жить красиво, как эта красота ему представлялась. И на отличном современном мосту, изогнутом как лук, висели брежневскими фигульками какие-то советские светящиеся украшеньица, потому что ведь нельзя было такой замечательный мост не украсить.
И вот именно тогда я понял, почему Россия и Казахстан – это одно и то же, просто в чуть разных эстетических вариантах и вариациях.
Я как-то легко, как воет на луну волк, понял, в чем суть того, что мы называем «Азией». Она не просторы, не степь, хотя и это – потому что по просторам воля одного человека может катить долго, без сопротивления, бескрайне, пока не упрется в горы, море или волю другого такого человека.
Азия – это когда монарх, правитель и его правительство действительно есть единственный европеец, единственный тот, кто может и должен противопоставить местному грубому вкусу тонкий заимствованный. Он насаждает этот вкус, как сажают картошку или кукурузу, не обращая внимания, растет или не растет и уничтожая походя, как сорняк, все, что могло бы быть альтернативой.
А отказаться от власти царя, батыра, хана, довериться народу, выборам, общему вкусу – значит, никогда не построить ничего, лишь загадить, залепить сараями, разворовать, потому что такой уж у нас народ, а другого нет.
Простите, если я сгущаю, – но в сущности, именно так.
Вот почему азиатскому народу надобен азиатский царь – и наоборот.
Что и делает конструкцию невероятно устойчивой.
По сравнению с Европой – эта конструкция убога, конечно. Однако существует себе из века в век.
Нет ничего вокруг, степь да ветер, ветер да степь, и стоит в той степи хрустальный дворец, а во дворце царь живет, спи, мой Ревзин, спи-усни. Мы все умрем, а царь все будет жить.
2012COMMENT
«Боржоми» в России, спустя 5 лет после русско-грузинской войны, разрешили, а вот напоминающего Савонаролу Онищенко сняли, и между этими двумя событиями, несомненно, есть внутренняя связь (как есть историческая связь между Савонаролой и Онищенко).
Стадион в Петербурге, ради которого когда-то призвали Курокаву и ради которого снесли уникальный Кировский стадион (единственный в мире, представлявший собой стадион в жерле рукотворной горы!), все строят-строят, никак не достроят, и этой бесконечной стройке, похоже, не рады даже те, кто на ней сказочно разбогател.
Оба царя – и наш, и казахский – живы, и собираются, надо думать, жить вечно.
Bonus #Азербайджан #Баку Там, где горит газ
Tags: Баку как гремучая смесь Парижа и Дубая. – Баку как столица-на-нефти. – Баку как шик, блеск и красота.
Предупреждаю. Хотя еще лет десять назад Баку, мягко говоря, не впечатлял, зато сейчас любой прилетевший сталкивается непременно:
а) с культом Гейдара Алиева: аэропорт имени Алиева, гигантский портрет Алиева из цветов на празднике цветов, дворец имени Алиева (бывший дворец «Республика»);
б) со старым городом с его улочками-закоулками (где снималась «Бриллиантовая рука» – знаменитый эпизод с «шьорт поберьи»!);
в) с принципиально другим, чем в Европе, типом толпы, особенно на окраинах: мало женщин и много громко разговаривающих, идущих в обнимку мужчин (что означает доминанту мужского братства);
г) с километрами мрамора и песчаника, в который в Баку сегодня упаковывают, как в подарочные коробки, стандартные «сталинские» и гнусно стандартные «брежневские» дома;
д) с лондонскими кэбами-такси, которые крашены в фиолетовый цвет, отчего их зовут «бадымджанами», «баклажанами»;
е) с десятирядными автобанами и строительством развязок и тоннелей, с возведением нигде в мире не виданных небоскребов (хотя иногда – виданных, поскольку в Баку есть и дубайский «парус», и половина лондонского «огурца»);
ж) с разговорами о нефти, о «соглашении века», подписанным Гейдаром Алиевым в 1990-х, в результате чего к бакинской нефти допустили иностранцев, и в Баку потекли деньги. Эти деньги стирают, как ластиком, советский Баку и отчищают досоветский.
Все это так.
Но главное – я не знаю другого города, который бы за несколько лет превратил себя в город-символ и сделал это с немецкой точностью, с восточной роскошью и, самое главное, с какой-то сладкою негой.
Сегодняшний Баку ошеломляет и влюбляет.
ЗЕМЛЯ, КОТОРАЯ ГОРИТ ПОД НОГАМИ
Баку – это южный житель, который вальяжно-лениво, как Онегин в театре, спускается к Каспийскому морю с холмов по естественному амфитеатру рельефа. Зависает в кафе и кебабных (их тут тьма), а также в заведениях с названиями Kolobok, Çudo-Peçka и Vkusnяşка, поскольку кириллица на улицах запрещена. Можно спускаться по Гоголя, можно по Бюльбюля, неважно: любой маршрут пересечется с пешеходной улицей Низами, которую все по древней привычке зовут Торговой. Там, на Торговой, прямо в небе висят гигантского размера люстры, там особняки-дворцы и фонтаны (фонтанов есть целая площадь), там прошло детство физика Ландау… Хотя, конечно, во времена Ландау не было подземных переходов с эскалаторами, а под ногами Ландау не лежал мрамор в виде морских волн, намекающих, что набережная внизу идет параллельно Торговой… И если продолжить спуск, то выйдешь к грандиозному морскому бульвару, над которым, словно нефтяная вышка, царствует парашютная вышка, – увы, ныне лишь геодезический ориентир.
Это краткий абрис, обобщающая схема, а начинать знакомство с Баку лучше всего в ночи и в стороне от сцены. Возьмите автомобиль, и – в ближний пригород. Вам нужно место, называемое Йанар Даг. Понятно, что «даг» – это «гора»: Аю-Даги, Капетдаги – слышали с детства. А «йанар» значит «горящая». И вот вы тащитесь в пробке, потому что в Баку всюду пробки, ведь плох бакинец без «мерседеса» – и за окном мелькают мелкие бесы придорожной торговли, смущающие бедноту, и висят в сетках, словно картошка, футбольные мячи, и мужчины застыли у входа (в любом углу исламского мира такого полно). И вы паркуетесь у какого-то шлагбаума, за ним какая-то, по виду, геологометеостанция. И со вздохом идете по тропе, потому что горы не предвидится. И вдруг застываете. Потому что горит склон холма. Метров в пять огненная полоса. В абсолютном мраке. В России так горит сухая трава, когда мальчишки ее поджигают. Но тут горит ярче и не трава. Тут три тысячи лет горит газ, пробивающийся из-под земли. То есть ты видишь ровно то же, что видели кочевники три тысячи лет назад (пребывая в том же ошеломлении).
Там стоят столы, ты пьешь бакинский чай, а потом бьешь каблуком в землю рядом со столом и чиркаешь зажигалкой. Земля загорается.
И ты представляешь вдруг очень отчетливо, что было тут, на Апшероне, когда вообще ничего не было. Тут лежали семь соленых озер и били семь огней. И зороастрийцы поклонялись им, и у одного огня, который лизал море (а море лизало его), стали строить странную башню, и жрецы по глиняным трубам отвели горящий газ наверх, и над кочевниками, купцами, верблюдами, молящимися и жрецами в немыслимой высоте полыхал огонь.
Как-то так начинался прото-Баку. Таинственного предназначения башня (она напоминает в разрезе грушу) называется Гыз галасы, Девичьей, – дескать, шах хотел взять в жены падчерицу, а она велела выстроить башню, и когда построили, прыгнула вниз… Тут начинается Старый город, Ичери-шехер: Бакинская крепость, постоялые дворы, бани, раскопы, ковры, мечети, бизнес на туристах, улицы шириной с бакинский помидор, нависшие деревянные балконы.
Восток.
Дело не столько тонкое, сколько полное узких мест.
СТАРЫЙ ГОРОД И ВОКРУГ
Недавно писатель Акунин выпустил очередной том приключений Фандорина. Называется «Черный город»: на этот раз расследование приводит знаменитого сыщика в Баку накануне Первой мировой. Идеальное чтение по пути в Азербайджан!
Акунин очень точно называет Баку самым восточным городом Запада (а не наоборот) и дает общее представление об Ичери-шехер: «Если улочки Старого Города показались Фандорину лабиринтом даже при свете дня, то в темноте он потерял ориентацию сразу же…».
Чтобы не заблудиться в лабиринте, самое разумное взять аудиогид и, следуя указателям, за час проделать со Старым Баку то, что проделывают дети с тортом: выковырять и съесть все засахаренные вишенки и кремовые розочки. Вот дворец Ширван-шахов: XV век, так жили средневековые правители. Вот ресторанизированные караван-сараи. Мечеть-медресе. Мечеть Мухаммеда. Мечеть Джума. Мечеть Ашур. На аудиогиде записана музыка-мугам (это та музыка, которая для европейского уха звучит «восточно») и даже джаз-мугам.
А после этой музейной экскурсии следует просто нырнуть в Старый город. Потому что там живут. И голопузые дети будут шнырять под ногами и стрелять из водяных пистолетов. Над головой будут тянуться веревки с бельем. А у лавчонок (с неизбежными футбольными мячами) от стен будут отделяться пожилые владельцы, и говорить, говорить, говорить – им такое удовольствие поговорить по-русски! И будут показывать фотографии покупавшего продукты Депардье, хаять Горбачева, рассказывать о местных властях и сообщать вполголоса, что уж что-что, а радикальный ислам в Азербайджане держат в ежовых рукавицах, и если я видел женщин в хиджабах – то это приехавшие из Саудовской Аравии.
И ты, гуляя по этой невероятной путанице, кривице, закоулице и заковырице, представляешь прячущегося тут Фандорина и разбойника Кара-Гасыма. В доме, затканном уличной паутиной, могла назначать свидания первая свободная, по версии Акунина, дама Азербайджана – вдова нефтянщика-миллионера Саадат. (Неподалеку есть типично советский памятник женщине, сбрасывающей чадру. Полагаю, это ей.)
Я приходил в Старый город три дня подряд, сталкиваясь с фирменным бакинским трюком: здесь непонятно, велики ли расстояния, и неясно, сколько времени займет маршрут. Шьорт поберьи! В первый день я вошел в Старый город ранним вечером, но влетел в ночь. А подняв в ночи голову, я глянул наверх и, и, и… нет слов.
Высоко-высоко над Апшероном полыхали грандиозные, невероятной высоты, в полнеба, в полночи огненные языки.
НЕБОСКРЕБЫ, ИСТОРИЯ И ЭКЛЕКТИКА
Чтобы не томить, три гигантских огненных языка – это свежевыстроенные на самой высокой точке Баку небоскребы Flame Towers. Они не просто скроены в виде пламени, но сплошь покрыты видеопанелями. И когда ночью они превращаются в столбы огня (или в фигуры людей, да мало ли во что могут превратиться такие экраны!), это реально ошеломляет.
Но дело даже не в этом. А в том, что… нет, остановлюсь. Вычеркну на время все, что имеет отношение к небоскребам и современному Баку.
Дело в том, что, гуляя по Старому городу, вдруг понимаешь, какой дырой было это местечко. Когда Баку взяли русские, он был столицей ханства размером с наперсток, уездным городком. То, что когда-то было тайной, выродилось в пародию. Под Баку есть храм Атешгях, где веками жили индусы-огнепоклонники: там тоже выходил из-под земли газ. Так вот, в XIX веке газ иссяк. А давным-давно открытая нефть обслуживала аттракционы. Ледяным слонам в Петербурге во время шутовских свадеб ее наливали в хоботы и поджигали.
Но с середины XIX века, когда мотор вытеснил парус, Баку пробудило чавканье буровых качалок. Началось время большой нефтяной жратвы. Нобели, Ротшильды, керосиновая «казенка», Тагиевы, Нагиевы, Асадуллаевы, – Баку стало распирать от денег. И показательнее других история даже не братьев Нобелей (которые построили невзрачный, но образцовый по устройству поселок нефтяников, он цел до сих пор: там кондиционировали воздух, прогоняя через подвалы со льдом), а бедняка Тагиева, ставшего миллиардером. Согласно легенде, он однажды ударил кетменем в землю, а в ответ ударила нефть. Тагиев разбогател сказочно, при этом так и остался неграмотен, но строил водопроводы и гимназии для девочек (в мусульманской стране!) – он вообще был человеком совестливым, талантливым и страстным.
Дворец Тагиева, стоящий на улице Тагиева, тому доказательство.
Туда надо идти, чтобы понять, какие демоны терзали человека, который резко поднимается из низов наверх, в несколько лет проходя то, на что человечество тратило тысячелетия.
Этот дворец – великолепный образчик эклектики, потому что только эклектика соответствует желанию иметь разом все: и мавританские залы, и барокко, и art nouveau. Комната его жены отделана сталактитами из зеркал – о, аллах! Какая особь женского пола не придет в восторг!
Тагиев, разумеется, взял себе модного архитектора Гославского, тогда все брали архитекторов из России, Польши или Германии, это было, говоря московским языком, время местного рублево-успенского буйства. Улица Истиглалийат, огибающая снаружи мусульманский город – это много всего и сразу. Фантасмагорическая филармония с летним залом, устроенным так, чтобы спектакли мог видеть с балкона управляющий нефтяной компанией «Кавказское товарищество». Псевдоклассицизм миллионщика Дебура. Псевдоготика миллионщика Мухтарова. Псевдобарокко включившейся в гонку городской думы. Все было бы пошлостью невообразимой, все эти разбиваемые сады, землю для которых везли из-за моря, все эти дворцы, пропитанные запахом нефтеперегонки (из-за чего ненавидел Баку Чайковский), если бы не детская искренность и напор.
Ах, попасть бы вслед за Фандориным в ту эпоху, когда на одной грядке этой странной земли наливался соком томат, а под другой грядкой плескалась созревшая нефть! Когда земля стала преображаться, обрастая набережными, театрами, купальнями, яхт-клубами, – и мусульманский поселок затерялся в новой псевдо-греко-франко-романской оправе!
…Но тут пришла советская власть.
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ (СНОВА О НЕБОСКРЕБАХ)
Советская власть этого черноглазого смуглого растущего мальчика одела в казенную гимнастерку, – стандартизировала, покрыла типовыми зданиями, учредила типовые присутствия.
Я видел снимки советского Баку. «Каспийской жемчужиной» его можно было назвать, лишь понятия не имея о жемчуге.
Впрочем, и не имели.
Мечети и церкви закрывали. Дворцы отобрали – говорят, Сона-ханум, та самая любимая жена миллиардера Тагиева, безумной нищенкой бродила по городу. Старый город ЦК компартии хотел снести. Черный город стал спальным районом с нефтезаводами. Деньги от нефти уходили в Москву, которая бросала их в костер социализма. Несколько «сталинских» зданий, выстроенных пленными немцами с роскошеством, наследующим прежней эклектике, либо оседали грузными мастодонтами, либо не меняли погоды.
Баку был причесан под гребень унылой социалистической эстетики с ее памятниками на пьедесталах. И на холме над городом высился кирпич гостиницы «Москва».
Расставание с Москвою было ужасно. 20 января 1990-го вошедшие в город советские танки и бронетранспортеры, подавляя местный сепаратизм (он же право народа на самоопределение) перестреляли и передавили несколько сотен человек, – вот почему о Горбачеве в Баку лучше не заикаться.
Прогулявшись по 7-километровой набережной, которая ныне зелена, одета в гранит и мрамор, дойдя до новеньких футуристических корпусов Центра мугама и Музея ковра, до Маленькой Венеции (там прорыты каналы, по ним плавают гондолы – это на грани хорошего вкуса, но дети в восторге), имеет смысл повернуться спиной к морю. В гору идет фуникулер. Наверху, на горе, ровные черные надгробья образуют тихую Аллею шахидов, то есть павших героев: таково в азербайджанском значение этого слова, и другого значения нет. Гостиница «Москва» снесена. На месте «Москвы», над городом и над героями, в небо возносятся небоскребные огненные языки…
Я же говорю: ни в одном другом городе мира не читается так четко переведенная в архитектуру новейшая городская история.
ПАРИЖ, АВТОКРАТИЯ И НАРОД
Перед поездкой в Баку я послушался глупого совета. «Не бери свои любимые рубашки в цветочек, – сказал знакомый. – Побить не побьют, но понять не поймут. Ислам!»
«Ислам» в смысле «запрет» – это суждение о современном Баку человека, в современном Баку не бывавшего.
На самом деле, яркие рубашки замечательно смотрятся в Баку, и девушки в мини-юбках если и преследуются, то восхищенными взглядами. И вообще, что касается нравов – в ночи на Тбилисском проспекте, у бензоколонки, собираются трансвеститы. Крепкие, говорят, такие парни. Недавно побили таксиста, который что-то обидное крикнул…
Другое дело, что Азербайджан – это автократия. Это правление семьи Алиевых (после смерти бывшего главы местного КГБ, члена Политбюро и президента Гейдара Алиева власть унаследовал его сын Ильхам). Таким режимам обычно много чего сопутствует: от коррупции до огромного разрыва в доходах. И хотя у приезжего есть преимущество политических тем избегать – но семейное правление в Азербайджане так же наглядно, как нефть.
Просто гражданин России привык, что русский правитель «делает красиво» на свой вкус. Так Лужков сделал новую Москву: башенки, стеклянные торговые центры и творения Церетели. Русский повелитель любит золото, завитушки и гнутые ножки у мебели. И, честно говоря, не думаю, что Гейдару Алиеву нравился Баухаус или скандинавский минимализм – скорее всего, те же золото и гнутые ножки. Не исключаю, что его сыну тоже. Но перестраивать Баку Алиевы пригласили людей со вкусом, признанных Западом. Превращать Черный город в Белый будет Фостер, – это сейчас самый амбициозный проект, о котором только и разговоров. Новехонький центр Гейдара Алиева строила Заха Хадид. Небоскребы в форме пламени тоже не местная идея – однако какая блестящая! Автобаны, развязки, набережные, вообще все, что имеет отношение к коммуникациям, – за всем стоит западная мысль (вот почему был прав Акунин, называя Баку «самым восточным городом Европы»). Баку действительно куда более западный город, чем Москва. Потому что Москва упивается самодостаточностью, а Баку строит будущее в системе общих с Европой кодов.
То есть личные (и массовые) вкусы здесь силою подчинены западному цивилизационному вектору: как в Турции при Ататюрке. И жена Ильхама Алиева Мехрибан, покровительница всех искусств, патронирует в Баку лучший – повторяю, лучший! – изо всех виденных мною музеев современного искусства, эдакий топорщащийся прозрачный многоугольник в многоугольнике, где я провел пару часов в упоении и одиночестве.
Вся «восточная специфика» Баку как раз состоит в умении прищемить и ущемить массовый вкус. И то в массовости его я не уверен. Я был в Баку в дни, когда там проходил праздник цветов (в честь дня рождения, догадайтесь, кого? – правильно, Гейдара Алиева!). Праздник для меня стал невероятным разочарованием. Огороженные площади, полиция, близко не подходить, все знакомо до слез – и килотонны цветов, потраченные с усердием кондитера, пошедшего во флористы. Но ни один бакинец не сказал мне про этот праздник доброго слова: наоборот, ругали за бездарно потраченные миллионы.
Да, Баку – специфическая Европа: это Сильно Восточная Европа, и оттого, например, велосипедистам там запрещают кататься по набережной (что вгоняет в ступор иностранцев вроде меня), загоняя в резервацию возле Кристал-холла (того, где проходило Евровидение). Но к самому Кристал-холлу не пускают тоже.
И упакованные в свежий песчаник (с греческими колоннами и ближневосточными орнаментами) «брежневки» и «сталинки» со стороны дворов непременно обнаруживают мачту с колесиками, через которые продернуты веревки с бельем, а также бабушку в черном платке, торгующую зеленью сна ящика из-под овощей.
Но этот потемкинско-алиевский песчаник внешне сгладил, убрал советское архитектурное похабство, приподнял Баку в прекрасном единстве, каким обладает только Париж, где тоже непреклонная воля префекта Османа возвела столь любимые ныне всеми серо-желтые, тоже из песчаника, дома.
НА ДОРОЖКУ
Я уезжаю.
Двое парней в черных рубашках на ресепшен гостиницы, работой которых за все дни моего пребывания было неотрывно смотреть телевизор, прощаются со мной по-английски, невероятно радуясь, что я их понимаю.
Таксист везет меня мимо строек, мимо творения Захи Хадид, на разрешенной скорости 120 километров в час и на чем свет ругает власти. Он рассказывает (он не первый), что средняя зарплата в Баку в четыре раза ниже московской.
Я знаю, что это правда. Несмотря на фонтаны, дизайнерские уличные фонари, полированный камень, повальную реставрацию и бутики всех люксовых брендов.
– Вы на море были? – спрашивает шофер.
Я отвечаю, что да, – в районе правительственных дач, видел отель «Джумейра», пышностью превосходящий Джумейру, и что Каспий прекрасен.
– Так зачем улетаешь тогда? – кричит шофер в искренней обиде. – Оставайся! Приезжай еще! На неделю, на месяц, дорогой, приезжай!
И человек, громивший бакинское начальство, начинает восторженно говорить, что новый Баку – настоящая сказка. Что набережную скоро продлят до 14 километров. Что я должен попробовать – ах, я уже пробовал? – душбару, кутабы и местное вино торговой марки «Ивановка». Приезжай дорогой, мы любим русских, ну да, туристов немного, ты говоришь, карту не смог купить? – ах, сказал бы мне, я бы тебе бесплатно дал!
Я вежливо киваю, а сам вспоминаю, как в бывшем музее Ленина мне эту карту пытались продать за 10 евро. Или как во дворце Тагиева в туалете не нашлось бумаги, зато обнаружился афтафа, кувшин для подмывания. Но непонятно, что лучше: отсутствие привычной инфраструктуры или всепроникающий стандарт.
Где-то неподалеку от аэропорта, в Сураханах и Раманах, качалки вот уже два века берут нефть, и я вспоминаю свое потрясение от встречи с ними. Это были не вышки Сибири, а в беспорядке разбросанные карлики, низкорослики, потому что нефть в Баку и правда всюду, и мы ехали к человеку, у которого качалка вообще стояла в огороде, хотя, по большому счету, тут до самого горизонта был один огород, поле, бакинское поле, на котором вон что выросло.
Об этот аграрном эффекте я, разумеется, знал и до поездки.
Но теперь видел, что его можно по-разному использовать.
Впереди маячил современный, пустующий по причине малочисленности рейсов, аэропорт имени Алиева.
А дальше была Москва.
2013COMMENT
Среди всех столиц бывших союзных республик, которые я годы спустя после их независимости посетил, то есть среди Киева, Минска, Таллина, Астаны, Бишкека, – именно Баку произвел на меня сильнейшее впечатление.
Не тем, что Баку сильно изменился: изменились абсолютно все столицы, кроме Минска. А тем, что Баку изменился как-то очень по-живому, для себя – так, что хочется приезжать еще.
Плюс, конечно, еще и море под боком.
Да, есть смысл.
2014#ОАЭ #Дубаи #Абу-Даби Краденая нефть
Tags: Как превратить 67 километров берега в 1500 километров берега. – Что такое бедуинский кондиционер и можно ли кататься на горных лыжах в пустыне. – 600 % прибыли и налоги 0 %.
Есть одна страна, о которой нам легко судить. Дурной климат, нефтедолларовая экономика, гастарбайтеры на стройках, авторитарный режим… Объединенные Арабские Эмираты.
Поехали!
НОЧЬ
Приятель, побывавший в Эмиратах года три назад, напутствовал:
– Ну, шопинг там неплохой и дешевый, мужики в белых балахонах, женщины в парандже… И всюду стройки – у них же ничего, кроме нефти, нет. Едешь: пустыня, посреди – Rock Cafe. Анекдот!
Я это вспомнил, когда приземлился в Дубае. Аэропорт был огромен, но мало ли больших аэропортов в мире? После кондиционеров очки на улице мгновенно запотевали, хотя была ночь и было прохладно, +35. Хайвей, по которому мы мчали, был глотком свежего воздуха; я вообще за границей люблю прежде всего дороги – их в России нет и не уверен, что будут. Параллельно наземному строился надземный автобан, летели искры сварки.
– Арабы работают круглосуточно? – спросил я. – Без перерывов на намаз?
– Работают гастарбайтеры, – сказали мне, – индусы и пакистанцы. И только утром и по ночам. Днем слишком жарко. Им платят 400 долларов в месяц и бесплатно кормят.
– Менты не шмонают? – засмеялся я.
– Здесь нет ментов, – сказали мне, – и преступности нет. Можешь оставить кошелек на улице: вернут. Тут наши чеченцы попробовали было бузить – но им шейх сказал пару слов, и стали как шелковые. Ты просил показать Rock Cafe? Вон, смотри!
Я посмотрел. В глазах темнело, а точнее, светлело от подсвеченных небоскребов. Разных – больших, громадных, великанских, построенных и строящихся. Знакомая вывеска промелькнула меж ними.
– Здесь же была пустыня, – сдавленно пискнул я.
– Мы, в общем, едем по пустыне. Здесь пять лет назад, кроме скорпионов, вообще ничего не было.
– Нефть, – сказал я с пониманием.
– Нефти в Дубае практически не осталось, – был мне ответ. – Доходы от нефти лишь 7 %. Все остальное (отели, бизнес-центры, технопарки, банки, кафе, рестораны, сервис) – инвестиции. Население – 4,5 миллиона, местных – в 10 раз меньше, и они честно говорят, что кроме клубники и бройлеров, сами ничего не производят. Но сюда сегодня рвутся все: для бизнеса – рай.
Я подумал, что все в этой восточной сказке очень напоминает инвестиционную пирамиду. Но посмотрим: утро вечера мудренее.
УТРО
Я не сразу уснул – время ушло на освоение системы «умный дом», каковым был снабжен номер в отеле Grosvenor House. Там с единого пульта включались и гасли бра и торшеры, менялась температура, переключались каналы и что-то еще – мама, попади она в такой отель, пришла бы в отчаяние.
А проснувшись, я раздвинул стеклянную стену и шагнул на балкон размером с футбольное поле. Передо мной в дрожащей желтой жаркой дымке открылся Восток – небоскребы, пальмы, строительные краны, Персидский залив и бесконечные яхты. Да, каналы и яхты были повсюду. Я совершенно выпустил из виду, что нахожусь в пустыне, которую решено превратить в рай посредством искусственных каналов и искусственных островов. Искусственные острова The Palm Jumeirah, The Palm Jebel Ali и The Palm Deira в виде пальм, искусственные острова The World в виде карты мира, искусственный полукруг Waterfront – все это за пару лет было намыто здесь, в Дубае. В итоге крохотная страна с данной ей аллахом береговой линией в 67 километров превратилась в страну с береговой линией в 1500 километров и с самой современной бухтой-мариной в мире, способной принять по высшему разряду хоть все яхты Абрамовича сразу.
После завтрака, который был одним из самых роскошных гостиничных завтраков в моей жизни, меня повезли в шопинг-молл. Это была такая часть программы. Для склонного к покупкам туриста Дубай вообще состоит из одних шопинг-моллов, по кондиционированным пространствам которых гуляют, как в Европе по бульварам. Пройдя залы, занятые демократичным лондонским магазином Debenhams и отнюдь не демократичным Harvey Nichols, я уткнулся в стекло, за которой лежал снег. Там была искусственная зима, про которую я много слышал. Теоретически, конечно, я мог покататься летом на сноуборде и под Москвой в Красногорске, где такая же горнолыжная труба недавно открылась, но на практике шанса не было: я однажды попробовал туда добраться, но через два часа пробок плюнул и повернул назад.
В России, видите ли, существует проблема неразвитости инфраструктуры. Я слышу про эту неразвитость уже второй десяток лет, и вижу, как при этом замечательно развивается персональная инфраструктура тех, кто отвечает за инфраструктуру общественную. До нужных мест они добираются на машинах с «мигалками». Но в Дубае я добрался до горнолыжного курорта безо всяких проблем за 5 минут. И заплатил за 2 часа катания в выходные в 2 раза меньше, чем заплатил бы под Москвой.
После чего стало очевидно, что утро в тропиках кончилось и наступил день.
ДЕНЬ
Днем меня пригласили на коктейль в отель Burj Al Arab – тот самый, как бы семизвездочный, в форме паруса. Там мне показали президентский номер, ресторан внутри аквариума с акулами, а также сложносочиненный фонтан, струи которого умели превращаться в птичек и рыбок, сворачиваться жгутом и гнуться дугой. Это был впечатляющий отель, декорированный – как бы поточнее сказать? – в виде дворца для свадьбы Барби с драконом с золотой чешуей. Хотя мне показалось, что PR-менеджер отеля Ульрике вздрогнула, когда я сказал ей про дракона.
Потом меня прокатили по той самой пальме проекта Jumeirah (на намывном «стволе» успели вырасти готовые дома, а крону венчал гигантский, с гору, отель Atlantis, который, как меня заверили, затмит роскошью не только Burj Al Arab, но и вообще все отели мира – к этому моменту я уже перестал в чем-либо сомневаться). Еще мне сказали, что жилая недвижимость, которая с невероятной скоростью строится и распродается в Эмиратах, предполагает полностью отделанные квартиры, то есть уже с кухней и кухонной техникой, с ваннами и душевыми, в них сразу можно жить (и люди на острове-пальме жили). И никто здесь не делает по три года ремонты и не сносит стены, а сразу выбирает один из, условно, трех вариантов отделки. А если не нравится ни один, то выбирает другой дом или другую пальму.
А потом меня привезли в офис русской компании Rustar, которая занимается недвижимостью и строительством в Эмиратах, и познакомили с ее президентом Рафиком Губаевым. Этот человек, живущий здесь уже 16 лет, произвел на меня впечатление не меньшее, чем острова, на которых он продавал офисы и жилье.
В кабинете у него висели портреты премьер-министра Владимира Путина и шейха Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума. Перехватив мой взгляд, Рафик Салихович пояснил, что он занимается не политикой, а исключительно бизнесом, что относится к компетенции премьер-министров, а не президентов, поэтому портреты премьеров у него и висят. Он сказал это так, что у меня сразу пропала охота спрашивать, висел ли у него до Путина на стене Зубков, а до Зубкова – Фрадков. Хотя долгая жизнь на Востоке наверняка научила г-на Губаева отвечать на любые каверзные вопросы.
У меня, впрочем, было только два – и некаверзных. Первый – каковы в Эмиратах сроки строительства (мне начинало казаться, что небоскребы здесь вырастают за ночь сами собой). И второй – почему на Востоке я вижу сказку, а в России – в лучшем случае фельетон?
Тут г-н Губаев закурил сигару и спросил меня, сколько месяцев женщина вынашивает ребенка. И тут же ответил, что первые инвестиционные подряды реализовывались в Дубае ровно за 9 месяцев, включая отделку. Потом, когда дома стали возноситься выше и выше, сроки пересмотрели – вот его компания, например, строит небоскреб в 101 этаж высотой, и ровно через три года после начала строительства в нем будут жить и работать люди. А дальше он рассказал, на чем основана сказка Эмиратов (Губаев сделал вид, что не расслышал вопроса про Россию).
В Эмиратах, говорил он, слава аллаху, нет мятущейся демократии. Тут стабильная и просвещенная монархия, тут шейх Мухаммед, тут ислам, тут английское образование и строительный опыт Гонконга и Сингапура. Тут нет затрат на социальные выплаты, потому что 90 процентов рабочих – приезжие, и они никогда не будут получать в ОАЭ пенсию. Тут очень простая система: 0 % налог с оборота, 0 % – вывозная пошлина, 0 % – дорожный сбор, 0 % – взятки, 0 % – алкоголизм и 40 центов – литр бензина. И еще здесь нет обманутых вкладчиков, но есть гарантии шейха инвесторам. И если когда начали качать нефть, грамотность здесь составляла 5 %, то теперь 100 % населения владеет английским. И никто не спрашивает, откуда у тебя деньги.
Все это с невероятной силой влечет в раскаленную пустыню, каковой Эмираты были еще двадцать лет назад, международных инвесторов. Не считая, конечно, прибыльности в 600 % за 4 года: первая недвижимость на намывных островах уходила по цене $1000 за метр, а сегодня перепродается за $6000. И это никакая не пирамида – здесь живут, работают и отдыхают люди, потому что здесь очень комфортно жить, работать и отдыхать.
Тут Рафик Губаев выпустил кольцо дыма и посмотрел на часы, и я понял, что за разговором день кончился и наступил вечер.
ВЕЧЕР
Вечером я переезжал из Дубая в Абу-Даби: 120 километров пути. В России у меня на таком же расстоянии от Петербурга дача, я добираюсь до нее 2 с лишним часа. Здесь мы домчались за 40 минут по скоростному шоссе, по краям которого росли сотни тысяч финиковых пальм, поддерживаемых искусственным орошением. В Абу-Даби меня поселили в отеле Palace Emirates – циклопическом сооружении, путь в котором от номера до вестибюля занимал примерно 10 минут и которое замышлялось как ответ эмирата Абу-Даби эмирату Дубай с его семизвездочными отелями-парусами. Хотя я, увы, пропустил мимо ушей, сколько конкретно тонн золота и стразов Swarovski ушло на отделку циклопа.
Признаться, за ужином (хумус, баранина, сладости, кальян) у меня кругом шла голова. Итак: есть крохотная арабская страна в пустыне, даже не страна, а несколько мелких исламских монархий. К концу 1960-х, когда в них находят нефть, эмираты бедны, неграмотны, а из прелестей цивилизации в них популярен «бедуинский кондиционер» – это такой короб-труба из тканей и шкур, в которую естественным образом засасывается горячий воздух и образуется подобие его циркуляции. Нефть поначалу никакой радости не приносит: деньги складываются в кубышку на случай войны с Западом. И только лет 20–25 назад накопленное начинает тратиться не на дворцы шейхов (хотя на это, понятно, тоже) и не на строительство собственных фабрик и заводов, а на то, что составляет основу современной цивилизации: дороги, коммуникации, аэропорты, порты, паркинги, электростанции, опреснительные станции, предполагая, что приходящие инвесторы сами как-нибудь решат, чем заниматься в стране с готовой инфраструктурой и низкими налогами. Сюда действительно приходит весь мир (кроме Израиля), земля делится на землю «для своих» (здесь иностранцам строить нельзя) и «для всех» (и это самая интересная с точки зрения вложений земля, вроде все тех же намывных островов). Для тех, кто пришел в пустыню, создаются технопарки и зоны свободного предпринимательства, а инфраструктура развивается быстрее потребностей в ней (сейчас, например, в ОАЭ строят новый, с 8 взлетно-посадочными полосами аэропорт – это в дополнение к имеющимся прежним). И пустыня расцветает. Сюда переносит азиатскую штаб-квартиру не только Microsoft – сюда переносят азиатские корпункты мировые агентства и телекомпании. Здесь бум инвестиций. Здесь покупают виллы звезды Голливуда. И подданные шейха Мухаммеда процветают: государство, например, выдает своим подданным в качестве подарка на свадьбу $100 тысяч и виллу ценой еще в несколько миллионов. Не говоря уж про бесплатное и очень хорошее образование и здравоохранение.
Внимание знатокам: почему ничего такого и близко нет в России?
И я затянулся яблочным кальяном, чтобы отогнать от себя очевидный, но неприятный ответ.
И снова были утро, день, вечер и ночь…
2008COMMENT
Рассказ остается дополнить одним печальным – и одним забавным эпизодом.
Печальный случился уже после моего отъезда, когда кризис 2008-го года, начавшись в США с кризиса ипотечных долговых обязательств, вскоре охватил весь мир: 600 % прибыли растаяли вмиг, и те, кто вкладывался в недвижимость Эмиратов в последние годы, сразу ушли в минус. (Одним из инициаторов моей поездки в ОАЭ была компания Zaya, строившая в Персидском заливе очередной насыпной – а точнее, досыпной – остров. Это был первоклассный проект архитектурного бюро из Чикаго: морские виллы с прозрачными стенами убегали в воду на ногах-сваях, а островные виллы антропоморфных форм накрывались крышами-газонами, встраиваясь в природу. Нас возили туда на вертолете; я был впечатлен. Компания рассчитывала на русских покупателей, – о господи, какие после кризиса там были покупатели, одни растерянные спасатели средств…)
То есть стабильная монархия вкупе с налогом в 0 % все же не гарантируют рая, – по крайней мере, инвестиционного. Причем идиллию, помимо кризиса, может нарушить и простой вопрос: ну хорошо, поживу на своем острове недельку-другую, даже месяц – а что там делать дальше? При температуре воды в заливе, напоминающей подогретый чай? На искусственных территориях, у которых никакой истории?
А забавный эпизод случился, когда я уезжал из своего шикарного отеля в Абу-Даби. Там в лобби шел небольшой ремонт. И вот со строительных лесов, взметенных под купол, на меня что-то полетело: не то паутинки, не то пылинки. Я опаздывал, мне было не до того. И только в аэропорту, стряхивая с себя паутинки, я их рассмотрел – и обомлел: господи, да это ж сусальное золото! Они там подновляли позолоту!
Так и улетал из Эмиратов – руки по локоть в золоте.
И мне почему-то кажется, что первый эпизод имеет связь со вторым.
2014Bonus #Китай #Шанхай Шанхайские барсы
Tags: Париж Востока и насильник Мао. – Как сажали капусту, а выросли небоскребы для Золушки. – Четыре города в одном, а также список мест и дел.
Парадное крыльцо, зеркало, лицо и (прости, господи, за банальность) визитная карточка Китая – Шанхай. Ради Пекина нет смысла лететь за полсвета. Запарковать машину на Ленинском проспекте в Москве, в средних номерах его домов, с их отчаянием пространств – вот и Пекин. А в Шанхай влюбляются так, как взрослый, бывает, влюбляется в того, кто ни по возрасту, ни по повадкам ему не ровня, и хранит обреченную любовь в тайне. Вот почему об этой любви и об этом Шанхае известно немногое.
ЧИСТИЛИЩЕ
Аэропорты давно описывать не комильфо: это из past perfect, из Битова времен «Путешествий» и Вознесенского времен «Треугольной груши». Автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных ворот – аэропорт!
В аэропортах надо добывать руду уникального, – которую потом так приятно переплавлять в небрежный разговор. Ну да вы знаете. Цветомузыка в бесконечных, как эпос, переходах Франкфурта. Тайный перчаточный магазинчик в Риме, справа при переходе на терминал D – его обычно проскакивают, но только там продают огненно-красные мужские перчатки.
Так вот, только в Шанхае в аэропорту водятся девушки-куколки: у выхода в город они улыбаются фарфоровыми головками неземной красоты, здороваются и кланяются, прижимая руки к груди. Предбанник Шанхая – кукольный дом. И в город ведет кукольная дорога, обсаженная столь идеальным садом, что некукольным он быть не вправе. Это прекрасное новое шоссе, и едущий рядом пикап с матрасами в кузове, с развалившимися на них узкоглазыми стариками – деталь представления. Как и «фольксвагены» и «ситроены» не существующих в Европе пород. А потом над головами вспыхивает серебряная стрела: единственный в мире поезд на магнитной подушке, 400 км/ч.
Что делали наши богомольные предки, когда им казалось, что сходят с ума? Крестились? Щипали себя за руку?
УСТРОЙСТВО
Шанхай дважды объявлялся свободной экономической зоной – в 1842-м и в 1990-м – однако и в варианте несвободной зоны был известен как Париж Востока. В колониальном ХХ веке в него впрыснули дозу Европы, маоистское противоядие не сработало. Был там, скажем, во времена концессий, в 1930-х, 500-метровый дансинг Paramaunt Hall на машинных рессорах: танцуя кекуок, пары взлетали, как у Шагала. Хунвейбины потом танцоров сгноили, но зараза уцелела – в 2002-м Paramaunt Hall воскресили. Да и Мао насиловал в основном Пекин, как у нас Сталин – Москву: Шанхай оказался своего рода Питером, грустно замершим градом, с его садами, ар-нуво, вечным желтым туманом, фанзами, джонками и густопсовыми шанхайками, где строительные леса из бамбука, миллион китайцев вповалку, а вместо дверей – решетки.
Впрочем, кроме сходства в областной судьбе, других параллелей нет. Поскольку в Шанхае одновременно существуют, как шар-в-шаре, четыре разных города.
Первый – средневековый, слегка декорационный, начала династии Мин, с пагодами-храмами-беседками и прочим ныне туристским продуктом.
Второй – европейский, под платанами, с Французским клубом и Русским кварталом (правда, Шанхай Вертинского и Олега Лундстрема все же выжгли при Мао), с каким-нибудь Peace Hotel, вполне могущем быть в бутлегерском Чикаго.
Третий – Старого города, бедных кварталов-нонтанов, где до сих пор торгуют, жарят, варят, парят на паре метров уличной ширины.
Ну, а символ четвертого – правый берег, Пудонг, где до 1990-го сажали капусту, а в 2000-х выросли небоскребы. Правда, выросли они по всему Шанхаю – но только в Пудонге нет ничего, кроме них.
Путешествие по Шанхаю, таким образом, есть антитеза перемещению по Москве. Двигаясь по Москве времен суверенной демократии от центра к краю, неизбежно попадаешь в мерз(л)отность окраин. Гуляя по Шанхаю в любом направлении, переносишься из эпохи в эпоху: машина времени существует, вестимо.
НЕБОСКРЕБЫ
О, надо петь Пудонг.
Допустим, идея застроить голый брег небоскребами не нова – взять лондонский Docklands, с автоматическим «легким» метро, с творениями сэра Фостера и т. д. Но дело в том, что Пудонг а) живой, б) его небоскребы красивы.
Невозможная, удивительная вещь. Вот русский путешественник селится, к примеру, в Grand Hyatt в башне «Цзинь Мао», которую следует называть «Цинь Мо», иначе таксист не поймет, таково уж следствие транскрипции, придуманной архимандритом Палладием (это благодаря ему мы вместо международного «Бейджин» произносим «Пекин»…). Да, вот путешественник селится под крышей 89-этажного Цинь Мо и смотрит, как рядом созревает такой же початок, и спрашивает, сколько этажей будет в нем. И получает ответ, что неизвестно, но ровно на этаж больше, чем в строящемся сейчас небоскребе в Куала-Лумпур.
Тогда путешественник переводит взгляд на телебашню «Жемчужина Востока», похожую на колье для Барби – бусины и стеклярус, и начинает что-то смутно подозревать. Он спускается вниз и замирает – теперь уже просто от вида других небоскребов. И хлопает себя по лбу. Особенно если строил в России нечто дачное с башенками и эркерами.
Ибо (ново)русские башенки – это реванш за бедное детство, в котором не наигрался в принца. У шанхайцев было такое же детство, но свой реванш они взяли не башенками, а небоскребами. Один увенчан короной. Другой превращен в телеэкран. На третьем подвешено кольцо Сатурна. Четвертый украден в Нью-Йорке, типично американский такой стиль, «лесенкой».
Шанхай – это город, где подряд на строительство в руках у так и не повзрослевшего Гулливера.
И у путешественника, поверите ли, на глазах выступают слезы. Двухэтажные шоссе, шестиуровневые развязки, поезд на магнитной подушке и 100 этажей – это все можно представить.
А небоскребы для принца и Золушки – нет.
КОЛОНИАЛЬНОЕ
Вот теперь – внимание. Пока шок не прошел, важно найти в кармане 20 юаней (это $3), потому что на счетчике такси к концу поездки, вне зависимости от расстояния, образуется эта сумма.
В нашем конкретном случае ехать надо на другой берег, где набережная Бунд. Очень желательно закрыть глаза, как в фильме «Окно в Париж», герой которого не верил, что через минуту после Рив Гош можно оказаться Ленинграде. Потому что прямо с Пудонга вы попадете в Париж. Османовские пропорции засаженных платанами улиц. Серый шаг европейских колонн (меж них – мемориальное: The St. Petersburg Russo-Asiatic Bank. Built in 1901–1905. It is the earliest building equipped with lifts and sanitary facilities in Shanghai). Отлично сохраненное ар-нуво. Банкиры в приличных костюмах.
До 1940-х лучший кусок Шанхая был английским, французским, русским, американским. Мао Цзэдун скрывался здесь, между прочим, не от местной, а от французской полиции. Это был сеттльмент, Сити, город концессий и экспатов. Он внешне таким и остался. Можно зайти в 10-этажный отель «Мир» и слушать джаз-банд. Положенные эстетикой распада лилии будут мертвенно склоняться над вами. В Британский публичный сад близ отеля когда-то не пускали собак и китайцев. Сейчас в парк Хуанпу китайцев пускают – прогресс налицо. Французский клуб, как и Французский квартал, сохранились. Русский квартал был разгромлен хунвейбинами. Богоматерь в соборе Пресвятой Богородицы пришлось перемалевать в Мао, и сейчас там ресторан, в меню которого есть лосун-тан – русский борщ.
СТАРЫЙ ГОРОД
Со светской хроникершей Аленой мы идем в Старый город. Алена консервативно одета (ноябрь, +20): твидовый костюм, рериховско-синие чулки и зеленые туфли. Алена полгода проводит в Индии, ей все нипочем.
Мы уходим от Бунда на юг. Французские boulevards коррозируют на глазах. Штукатурка осыпается вместе с листвой. Мы обсуждаем, где в Шанхае могли спрятаться 13 миллионов шанхайцев?
Смеркается. Мы сворачиваем, и воздух бьет нам в лицо. Из ниоткуда взявшиеся сотни, тысячи велосипедистов летучими мышами проносятся в миллиметре, почти задевая крылами. Для мышей не существует светофоров. Регулировщики при виде туфелек перекрывают движение, не спрашивая, нужно ли нам. Не видно фонарей, но горят пасти жаровен. Пространство начинает жать в плечах: оно забито тысячами лавчонок, а лавчонки забиты килотоннами фурнитуры и парсеками тесьмы. Выше три этажа занавешены бельем. В принципе, таковы все старые города Азии, но только в Шанхае над ними светятся короны небоскребов и рядом благоухает Серебряный век. И нет чувства опасности, преследующего европейца на Востоке всегда.
На улочке, заполненной китайцами до положения шпрот в банке, нас разносит в стороны. Через пять минут приходит sms: Siju na ilitse, jru dikuju vkusnjatinu. Ne znaju gde.
Я иду, куда несет толпа: мимо стирающих белье старух, мимо опереточных прорицателей, и вдруг вздрагиваю, потому что утыкаюсь в сияющий город из храмов, пагод – или как там они называются? – фанз. Под их драконьей чешуей – торговля жемчугом, шелком и всем тем, чему радо простодушье туриста. Торговый квартал уходит за горизонт, дробясь на квартальчики с озерами и мостами. Где-то там я нахожу Алену, ловко орудующую палочками.
– А тебе не кажется, что это… – начинаю я.
– Да, – прерывает Алена, – я тоже сначала восхитилась: ух, какая старина! Но это новодел. Хотя впечатляет. И вкусно. Будешь?
Велорикша тормозит рядом, улыбаясь в тридцать два зуба. В Шанхае невероятно красивые люди. За 20 юаней он довезет туда, где можно взять за 20 юаней такси. Хотя, конечно, с рикшей следует сбивать цену до 5.
MUST-ЛИСТ
Значит, так. В Шанхае обязательно:
а) посетить храм Нефритового Будды (высота 2 метра, монолит, привезен из Бирмы в 1882-м, идут службы; аттракцион для любителей аутентичного);
б) зайти в Сад наслаждений Юй-Юань, словно выстроенный для съемок «Последнего императора», отделенный от мира стеной, а внутри разделенный еще 5 драконьими хребтами, образующими 6 зон с 49 пейзажами (!) – настоящий лабиринт, шар в шаре. Тысячи тонн камня для создания скал выдерживали в горных реках, чтобы его источила вода;
в) пройтись по Мосту девяти поворотов (чтобы сбить с пути и с панталыку злых духов), с пятиугольным чайным домиком Хусиньтин посреди. После того как по маршруту прошлась чета Клинтонов, это уже не так интересно, однако с моста можно кормить золотых рыбок, их здесь колоссальные стада;
г) попить чаю в даосском Храме городских богов: пускают за небольшую мзду. С чайной церемонией «На веранде у дачи» в Жуковке чаепитие сотносится как Новый Завет с его интерпретацией: второе пышнее. Рядом будут пить чай монахи и принесут соленые семечки.
Собственно, любую китайщину, со всеми ее драконами и фонариками, путеводитель опишет лучше: просто важно, что в Шанхае она тоже есть.
Мне ведь не это хотелось в must-лист написать, а такое, знаете ли, неуловимое… А, вот. В свой первый день или во второй, но вы заметите (а не заметите – так заметит подруга) группки молодых офицеров в увольнении. Невозможно высокие, стройные и прямые, как трости; в ослепительно белых костюмах; в фуражках с опереточно высокими тульями – они будут вглядываться чуть близоруко (тонкая оправа, руки в перчатках) в линию горизонта.
Это очень красиво.
Я не про красоту китайцев, хотя они красивы невероятно. Но еще более красиво – когда офицеры в белых кителях, и тяжело дышащие в доках черные броненосцы, и дрожащие заклепки на железных мостах, и земля в цвету.
Так сладко любить в эту пору, и никто не верит, что потом будет война.
ЕЩЕ 6 ВЕЩЕЙ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЕТ СМЫСЛ ПОТРАТИТЬ ВРЕМЯ В ШАНХАЕ
Переехать реку Хуанпу по подземному «туристическому» переходу. Это помесь метро и Луна-парка, детское путешествие на дно с русалками и Черноморами, – однако веселящее взрослых. Переход соединяет суперсовременный Пудонг и колониальный Бунд 1930-х. На выходе, в парке Хуанпу, можно сделать заказ, чтобы ваше имя выгравировали на волосе: старый китайский фокус!
Зайти в бутик Omega на пешеходной улице Наньцзин. Примерить настоящие Omega Seamaster, а затем на улице сторговать (сбивая цену раз эдак в 15) ведро «ролексов» (с турбийоном и бриллиантами) на потеху родне. Ведро обойдется в пару тысяч долларов (если с горкой)
В Старом городе проехаться на велорикше (быстро поймать такси там все равно проблема). Ехать мимо раблезианского изобилия фурнитуры, кожи, кружев, пуговиц, мимо стирающих в тазах старух и гадающих на картах старцев. Без опаски пробовать любую еду прямо на улице. Потом смотреть кукольный театр теней и накупить кисточек, шелковых отрезов и жемчужных бус.
Купить маленького нефритового толстопузого Будду с мешком в руке. Если потереть пузо и загадать желание, оно исполнится. К сожалению, только материальное.
В новогоднюю ночь вместе со 108 самыми почитаемыми буддистами подняться на колокольню пагоды Лунхуа: 242 год н. э., камень и дерево, 7 этажей, 40 метров. Испытать катарсис.
Подняться в высотный бар небоскреба в Пудонге. Выпить соргового вина, напоминающего херес. Незаметно впасть в транс – от вина и от желтого тумана, пожирающего дома, корабли, пространство, время.
2007COMMENT
Вспоминая Шанхай – а я влюбился в него почти так же, как в свое время в Петербург, прикрытый личиною Ленинграда, – я непременно вспоминаю шанхайцев. Вспоминаю охранников, ровными рядами заступавшими поутру на вахту: джогинг, которым занимались мы с женой, выглядел для них, как для нас зарядка цигун, они смотрели во все глаза, но улыбались и улыбались. Вспоминаю тех самых молодых офицеров в белых парадных формах, гибких и стройных, как молодой бамбук. Вспоминаю самую красивую девушку, которую когда-либо в своей жизни видел – она шла, счастливая, с ребенком в коляске и с ребенком в рюкзачке за спиной.
Вспоминаю, что все в Шанхае хотели нам помочь, и никто не хотел обмануть.
Отправившись из Шанхая в Пекин и с размаху влетев в полицию, кошмарящую таксистов, и в таксистов, дерущих с туриста непомерные деньги, больше, чем в Париже, я вдруг вспомнил, что испытывал в СССР, когда из подпольного, скрытого, нежного Ленинграда возвращался в коммунистическую, прущую, орущую Москву.
2014Bonus #Таиланд #Бангкок #Патайя #Пхукет Восемь тысяч верст до рая
Tags: А это что еще за фрукты? Гимн рамбутану и дуриану. – Семь полов Воннегута и четыре пола Таиланда. – Массаж, хирургия, острова, слоны, крокодилы и прочие удовольствия, включая запретные.
– Ты, – сказали друзья, – сумасшедший. Ты всерьез советуешь ехать туда? Там революция. Блокируют аэропорты. Кризис правительства. Знаем мы это дело: нехорошо!
– Ха! – отвечаю друзьям я. Каждый раз, когда я в Таиланде, там революция и кризис правительства. Только они особые, тайские, кукольные.
Таиланд вообще – очень специальная страна. В смысле, экзотическая не по причине кокосовых пальм, обезьян в монастырях и кораллов в Андаманском море, а по своему устройству. У Таиланда, например, два флага – родины и государства. И революции касаются исключительно государства, но не трогают родины. И король там – такая же данность, как кораллы, пальмы и море. А еще там не два пола, как у нас, а как минимум четыре, и никто не делает круглые глаза, когда трансвеститы водят с детьми хороводы. Трансвеститы – лучшие друзья детей, а кто же еще?
В Таиланде вообще все иначе. Я на днях встретил своего однокурсника Сережу Пархоменко, который кулинар, книгочей, оппозиция и программа на «Эхе Москвы»: «Серега, откуда такой загар?» – «Из Таиланда!» – «Революцию видел?» – «Ты что, с ума сошел?!»
Нет, друзья, вслед за Пархоменко – в путь, в путь, в путь.
БАНГКОК
В Бангкоке турист обычно задерживается на день, редко – на два, дивясь из окон автобуса на ступы – буддистские, в виде колоколов с иглами-хвостами, храмы, разбросанные там и сям по муравейному, небоскребному, трущобному городу. Туриста везут в Ват Пхракео и в Королевский дворец.
«Ват» – это монастырь. Ват Пхракео – это сумасшедший дом. Даже если бы в Таиланде вообще ничего не было, кроме Ват Пхракео, поездка стоила бы свеч. Это как если бы семилетние дети взялись играть в Волшебника Изумрудного города, собрав сокровища с маминого трюмо, – и вдруг все эти флаконы из-под духов, бисер и фальшивый жемчуг, застежки и брошки выросли в размере в тысячу раз. Монастырь Пхракео – это разноцветные башни и храмы, на их ступенях драконы, демоны и крылатые обезьяны, это монахи, солдаты и гиды-трансвеститы (артель трансвеститов взяла под себя этот бизнес, и оттого экскурсия сопровождается аффектированным жестом – на редкость уместным среди резьбы, золота, перламутра, смальты, брызг зеркал и крашеного стекла). Это бот (храм) с Изумрудным Буддой, это виханы, чеди, прасат и пхрамонтхиентхам, что на тайском значит «библиотека» (правильный язык! «Политика» по-тайски будет «наеба»). А в королевском дворце – слоны и колонны коринфского ордера вперемежку. До свидания, крыша!
Важно только не упустить, что Бангкок этим не ограничивается. Не в смысле маршрутов – любой путешественник легко найдет, куда ему отправиться: в Ват Сакет с Золотой горой, на вершину которой ведут 320 ступенек, или в Ват Пхо, где ученики школы массажа тренируются на посетителях, или на плавучий рынок на реке Чаопрайя, – все это известные штуки. И даже не ограничивается ночной вылазкой в район Патпонг с бурлящим рынком, где в несметных количествах предлагаются поддельный Gucci, реальные проститутки, а шмыгающие зазывалы показывают (в качестве паллиатива между Gucci и проститутками) картонки, на которых посредством пиктограмм изображено, из каких именно мест будет вынут во время шоу фокусницы-девицы, условно говоря, кролик (за неимением цилиндра).
Однако в Бангкоке следует задержаться по генеральной причине – потому что это удивительно живой азиатский город. Вот идут в школу чистенькие, какие-то фарфоровые, в одинаковых костюмчиках, детишки, – хоть сейчас заполняй ими детскую книжку. Вот на уровне третьего этажа обрывается недостроенный шестирядный автобан, потому как министр украл деньги: по этому поводу была предыдущая революция. Вот курят благовония и возлагают гирлянды в домашних храмах. Вот девушки-пассажирки на мотоциклах сидят амазонками, свесив ноги по одну сторону сиденья…
Хорошо гулять по тропическому, влажному, жаркому Бангкоку!
Вот женщина рубит мачете гигантский фрукт.
– Что это у вас такое, дражайшая Солоха?
И, отложив тесак, она объясняет, что это дуриан, полезен для женского и мужского здоровья, только в гостиницу с ним нельзя, потому что он невыносимо прекрасно для окружающих пахнет, типа сыра рокфор – ей-ей, так и скажет она на своем языке, и улыбнется, и приложит к груди сложенные ладошки.
И вы поймете каждое слово.
TUTTI FRUTTI
Таиланд – то место, куда можно ехать за кухней, но лучше не пробовать уличную еду. То есть можно, но туристическую, – там, где надписи на английском.
Дело не в гигиене и не в количестве перца. Просто к местной пище европейский желудок адаптируется долго, но, адаптировавшись, потом расстраивается от еды европейской. Зачем расстраивать собственные внутренние органы?
Счастливое исключение – фрукты. Их в Таиланде тьма.
Во-первых, прозванный королем местных фруктов дуриан. Шишковатый, вспухший до размеров футбольного мяча плод царствует лишь с мая по сентябрь, но какова вертикаль его власти! Половина попробовавших дуриан от него в полном восторге, другая половина пожимает плечами, но и те, и другие не могут внятно описать вкус. По-английски это ближе всего к custard – молочному крему из яиц, только еще с привкусом клубники, личи, ананаса… М-да, не описать. Проблема дуриана в содержащихся ферментах: поспевая, он мгновенно забраживает – отсюда и запах, так что есть дуриан надо сразу, на улице или рынке.
А вот с рамбутаном (красным, волосатым, неприлично мохнатым) проблем нет – покупай, вези, храни. На рынках рамбутаны связывают в огромные снопы-веники, а для освежения обмакивают в воду.
На третье место поставим «глаз дракона» – устрашающе розовый плод кактуса. Но если его разрезать, объявится съедобная белая сердцевина, нашпигованная сотнями черных маковинок, как будто их вручную туда втыкал отряд прилежных азиатов.
А еще есть мангустин, они же мангостан – вопреки названию, ничуть не походящий вкусом на манго, а внешне похожий на плод любви сливы и цукини. А еще – чомпу, или розовое яблоко (зелено-розовая не то груша, не то перец, по вкусу действительно напоминающий водянистое яблоко с кислинкой, приятной в жару). А еще – ноина, гуава, джекфрут, канун и жожоба, лонгкон и лонган, папайя, ракам, сантол, тамарин, танжерин и ламуд…
В общем, Кузнечный и Черемушкинский рынки сегодня у нас будут закрыты на переучет возможностей.
ПАТАЙЯ
Вообще-то Патайя – никакая не ПатАйя. Она – ПатайА. А патайА – это такой ветер с моря, отгоняющий в сезон дождей от побережья тучи, что оценили в 1960-х американские летчики, устроившие в Патайе авиабазу с целью бомбить Вьетнам, а заодно превратившие тихую рыбацкую деревушку (от Бангкока часа три езды) в американский у-солдата-выходной-и-прочее рай.
Ныне этот рай имеет все черты отдыха в Сочи – по крайней мере, предолимпийском.
В Патайе по мутным водам вовсю гоняют на «бананах» и вейках, катаются на водных лыжах и поднимаются в небо на парапланах, а если кому все же понадобится чистое море – пожалуйста, катер за полчаса доставит на коралловую отмель. В промежутках же между парапланом и бананом – крокодиловая и змеиная фермы («очень апасна! астарожна!» – кричит окруженный гадами дрессировщик, освоивший русский в московском Университете имени Патриса Лумумбы) на покатушки на слонах. Говорят же вам: Сочи, и публика та же: ставящая целью загореть на всю оставшуюся жизнь.
Второй, более элегантный вариант использования Патайи – это превращение ее в бивак для марш-броска в наилюбопытнейшие места. Скажем, в Ват Кхао Суким – где центральный храм упирается в небеса 119-метровым шпилем, так что веришь в тайскую реинкарнацию Церетели. Там, дожидаясь кремации, покоится уже несколько лет тело последнего бодхисатвы (кремировать можно, лишь когда прорастут положенные в гроб зерна – за ними следит видеокамера. «А вдруг не прорастут?» – «Такого не бывает. Прорастут»).
Или ехать в заброшенные монастыри, где с гор, прыгая по статуям Будд и осыпающимся храмам, как в мультфильме про Маугли, спускаются к визитеру обезьяны.
Или – в древнюю столицу Таиланда, Аютайю.
Или – в заповедник, где в ручьях под водопадами водятся черные карпы в таких количествах, что тебе предлагают «рыбный массаж».
Или вообще махнуть через границу – к кхмерам, в Камбоджу, и встретить рассвет в проглоченном джунглями монастыре Ангкор Ват, центре погибшей цивилизации.
В общем, имеются варианты.
Включая еще один – начинающийся (и заканчивающийся) в районе протоптанной американцами Walking Street. Вот там, чуть сядет солнце, все по полной злачной программе – тысячи торговцев, толпа, жаровни, бары, шоу, боа и перья, музыка, пиво, призывно галдящие тайские мальчики и призывно глядящие тайские девочки, на проверку оказывающиеся опять же тайскими мальчиками.
Но некоторые любят погорячее.
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, LADYBOYS, ТРАНСВЕСТИТЫ, ТРАНССЕКСУАЛЫ
У Воннегута в «Бойне номер пять» инопланетяне-тральфамадорцы информируют главного героя, что «обнаружили не меньше семи различных полов на Земле… Они сказали, что ни один земной житель не может родиться, если не будет гомосексуалистов. А без лесбиянок дети вполне могли появляться на свет. Без женщин старше шестидесяти пяти лет дети рождаться не могли. А без мужчин того же возраста могли…» – ну, и так далее.
Таиланд к этой глубокой мысли является иллюстрацией.
Вот, например, трансвеститы, то бишь мужчины, рядящиеся в женщин. В отличие от европейских трансов, демонстрирующих свои, так сказать, цветы зла в глухой ночи в каких-нибудь гей-клубах, в Таиланде они являются просто цветами. Шоу трансвеститов «Аказар» – часть туристической программы: зал на 1200 мест, 3 представления в день, окончание в 22:30, и к немыслимому разврату это имеет отношение не большее, чем петербургский мюзик-холл. Трансвеститы – это просто особый тайский пол.
Их, кстати, не надо путать с ladyboys, ледибойз – девочками, являющимися девочками лишь выше пояса (операция по появлению груди стоит $300 и является в Таиланде стандартной: как говорится, хозяйке на заметку). Если перед вами красивая и высокая тайская девушка – сто процентов, что это ladyboy, над которым никто и не подумает насмехаться (еще бы, днем их вполне можно встретить за прилавком).
Еще есть транссексуалы – мужчины, завершившие операцию по превращению в женщину, что тайцев тоже удивляет не больше, чем существование рыжих среди брюнетов и блондинов.
А еще тайские мужчины по природе своей женственны, склонны к эмоциям и быстрым слезам, в семьях они обычно женщинам подчиняются, – а вот их жены вполне могут побегать за ними со скалкой в руке…
Следует ли это тропическое разнообразие (напрочь отсутствующее, скажем, в соседних Лаосе, Вьетнаме или Камбодже) приписать особой толерантности Таиланда, массовому (секс)туризму, американским базам или чему другому – непонятно. Некоторые считают, что все дело попросту в недорогом и очень высоком качестве работы местных пластических хирургов.
В Бангкоке в Siam Hotel, где я жил, существует даже особый этаж, отделенный от остальных, с персональной зоной завтрака и прочей приватностью. Там снимают номера европейские бизнесмены, и отнюдь не те, кто хочет переменить пол, – а те, кто хочет омолодиться, сохраняя incognito.
ПХУКЕТ
Остров, который не слишком велик (20 км в ширину), но и не слишком мал (50 км в длину), – Пхукет, словно Чичиков, хорош тем, что абсолютно всем может угодить. Там можно беззаботно плескаться в наипрозрачнейшем и наитеплейшем Андаманском море – а можно заниматься виндсерфингом. Можно затовариться по уши туристским продуктом (катание на слонах + буддистский монастырь + шопинг) – а можно взять машину с правым рулем и объехать остров по периметру, а затем в Пхукет-таун, где, кажется, туристов нет вообще, накупить на рынке сушеных рыб, кальмаров, морских гадов, соленых, сладких, кислых, перченых и все вместе. Можно провести невиннейший семейный отдых с детьми, для которых специально придумано колоссальное шоу со слонами Fantasea, – а можно поехать в Патонг и получить все запретные удовольствия мира, причем в одном флаконе. Там можно весь отпуск пролежать в джакузи на балконе отеля Thavorn Beach Village, к виллам которого постояльцев развозит электрический поезд, и где балконы устроены так, что с них видно все, а тебя не видит никто, – а можно устраивать ежедневно тайский массаж, который, к слову, не имеет ничего общего с мифами вокруг него.
И, что примечательно, все это разнообразие удивительным образом отделено друг от друга, так что двое людей могут не просто провести разные отпуска, но и на совершенно разных Пхукетах.
Единственное, что рекомендовано на Пхукете абсолютно всем – семейным, озабоченным, экстремалам, ботаникам, пожилым, подросткам, умным, глупым, искушенным, невинным – это поездка на острова, причем на любые.
На три коралловых острова Кхаи. На остров Пхи-Пхи (тайцы говорят: Пи-Пи), где снимался «Остров» с Ди Каприо. На остров Джеймса Бонда, Бонд-айленд, где снимался «Человек с золотым пистолетом», где посреди лагуны торчит палец-скала, на котором в фильме стояла секретная суперпушка и по пути на который тебя завозят в морские пещеры, фантастические настолько, что забываешь про Бонда, и когда проводник кричит: «Crocodile!» – подпрыгиваешь в ужасе, и только потом понимаешь, что рядом плыла игуана… Да, и плавать среди кораллов, в абсолютнейшем буйабесе, куда смеющиеся матросы крошат бананы, так что стада рыб устремляются к тебе, практически топоча, как слоны, – это, как говорится, местный must.
И это тоже Таиланд.
Таиланд, в котором в сезон дождей можно и не встретить дожди, а встречающиеся либо скоротечны, либо приятны; Таиланд, где можно снять комнату за 200 рублей за ночь, а можно найти отель, на пляж перед которым будут выползать, откладывая яйца, морские черепахи; Таиланд, в котором вдруг мгновенно заучиваешь значение канонических поз Будды и быстро понимаешь, что это не монахи собирают милостыню, а это верующие умоляют в дар храму принять бриллианты; Таиланд, в котором тебе улыбаются по семьсот раз на дню, кланяясь и молитвенно сжимая ладошки – и застывают, когда европеец повышает голос, потому что не верят, что на живого человека можно кричать.
Ну? Я же говорил, – чума, чудо! – надо лететь.
2008COMMENT
В моей жизни были несколько Таиландов. В свой первый Таиланд, в 2004-м, я был потрясен Пхукетом. Я жил в JW Marriot c 12-километровым заповедным пляжем, где морские черепахи выползали на берег, где было полдюжины искусственных прудов, на которых, как огненные лотусы, в ночи вспыхивали факелы… Но машины не давали парковать под окнами: дно обследовали зеркалами на рукоятках на предмет магнитных мин, и от парковочной стены к номерам (с комнатами для медитации) их развозил электрокар…
Спустя четыре года кое-какие из знакомых мест я более не узнавал: застроили отелями.
Таиланд проявлял свойство многих азиатских государств игнорировать общественный интерес в угоду частному (сравните: во Франции на Атлантике близ границы с Испанией правительство в те же примерно годы выкупало прибрежную полосу с противоположной целью: чтобы не застраивали).
В общем, если хотите получить наслаждение от Таиланда – забирайтесь сегодня подальше от мест, где селится массовый турист. Куда-нибудь на Яуяй, Ланта или на Самуй, на мелкие острова, добираться на которые нужно паромами… Черт возьми, где, как не здесь, чувствовать себя дикарем?!
2012#Таиланд #Великобритания #Испания #Германия #Голландия #США Руссо туристо, облико нормале
Tags: Почему русские в России пьют, а за границей квасят. – Твоя моя не понимай. – Самодовольно-недовольная блондинка на каблуках.
Возрадуемся, граждане! Но и возгрустим. Русские туристы в мире заняли примерно то же место, какое раньше занимали японцы с фотоаппаратами, жужжащим роем облеплявшие любую достопримечательность.
Это не значит, что русские стали путешествовать больше других наций. Да, в 1 квартале 2008 года за рубеж выезжало 3,5 миллиона россиян, что на 45,4 % больше показателя 9-летней давности, – но с Европой сравнивать трудно. Хотя бы потому, что Европа – и вправду объединенная, пограничников нет, и считать выезжающих за пределы своих стран некому.
Но это значит, что русские за границей стали особой, специ-фической группой, определяемой визуально – прямо как советские туристы за границей двадцать пять лет назад или китайцы в одинаковых курточках с Мао на лацканах пятнадцать лет назад. А оттого, что русские определяются визуально, и кажется, что нас много: в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Милане. Везде. Значит, пришла пора набрасывать эскизный портрет русского туриста: для того, чтобы каждый мог сравнить коллективное лицо со своим личным.
АЛКОГОЛЬ
Июль 2008, «Пулково-2», рейс на Бангкок, томительное ожидание. Наконец объявление: пассажира сняли с рейса, ждем выгрузки багажа. Стюард, с поджатыми губами: «Пить надо меньше…» Во время 11-часового рейса в обед вина не приносят. Тот же стюард: «У нас безалкогольный рейс». Потом выясняется, что рейс безалкогольный только в одну сторону – из России в Таиланд, потому как из-за пьяных пассажиров уже бывали проблемы с тайскими пограничниками (наши-то привыкли).
Удивительное дело – в России сокращается потребление водки (почти на 10 процентов за прошлый год), растет – шампанского и сухих вин, то есть налицо соответствие общемировому тренду. Но стоит нашему туристу двинуть в сторону заграницы – он точно с цепи срывается. Однажды в Домодедово на моих глазах из бизнес-зала (там алкоголь бесплатный) чуть не ползком добирались на посадку в Сингапур двое сограждан вполне респектабельного вида. Им что, так халява была сладка?
Объяснения этому удивительному явлению я найти не могу, но факт остается фактом: двигаясь в сторону заграницы, русские квасят. Да что далеко за примером ходить. Как-то на рейсе в Шанхай, куда я летел в компании бывшего главы Центробанка Виктора Геращенко, действующего запреда Центробанка Татьяны Парамоновой и прочих достойных людей, сосед по креслу всучил мне бутылку «Джонни Уолкера». Он поверить не мог, что экс-глава и первый зампред летят рядом в экономклассе. Напутствие было такое: коль уж я с ними знаком, то должен их угостить «от имени простого российского бизнеса». И что вы думаете? Пусть Геращенко отказался, но с Парамоновой мы уговорили эту бутылку, и железная леди российских финансов, натурально, смеялась, и ножкой болтала (она очень обаятельная женщина!), и шутила, а вот представьте такое в другом месте и при других обстоятельствах – да ни за что!
Потому что Парамонова не пьет – да и я крепче 14 градусов не употребляю.
ЯЗЫКОНЕЗНАНИЕ
«Мистер! Гив ми солт!», – кричит в лондонском пабе мой (судя по акценту) соотечественник. Русское «дайте соль» по-английски звучит грубо, почти оскорбительно: там принято «можно мне соль?» с добавлением «плииииз…» (и «мистер» не говорят: только «сэр»). «Глянь, Колька, говно это, а не паб, не туда зашли, – не унимается компатриот, обращаясь к приятелю, – у этих м***ков и меню на русском нет, и официантка не подходит! А помнишь, в Турции!..»
И невдомек им, что официанты в пабах к клиентам и правда не подходят. И меню на русском не будет даже на углу Москоу-роуд и Сэнкт-Питерсбург-плейс: в Лондоне разговаривают на 300 языках, и английский – всех объединяющий. Судя по котлете из стофунтовых бумажек в руках у Кольки, деньги на учителя английского у ребят есть. Но на фиг им напрягаться: Колька с Васькой убеждены, что у кого бабла больше – перед тем все и должны гнуться.
Или вот: Испания, побережье Коста-Брава, местечко Санта-Сусанна, обилием бетона, строительных работ и загаженностью пляжа напоминающее Сочи. Услышав, что мы с женой говорим по-русски, к нам подходят парни из Тюмени: вот, блин, сдуру купили тур на три недели, а здесь таскаааа… Мы чуть не подпрыгиваем – это на Коста-Брава тоска?! Да рядом Фигерас с музеем Дали, в часе езды Барселона с Гауди, и рукой подать до Франции, до Каркасона – самой большой средневековой крепости в мире… Парни в ответ: «Ну, так туда ехать надо.» – «Так возьмите машину.» – «Мы пробовали, но этот козел в прокате по-русски ни бэ ни мэ…».
Нет, я не хочу врать, что только русские в мире не знают английский – то же числится и за французами, да и за испанцами. Но у русских специфическое поведение: дикое изумление, что их не понимают, – и «ну, козлы!» как реакция.
КОЛЛЕКТИВИЗМ И УДАЛЬ
С Пашей, менеджером турфирмы «Натали-турс», мы стоим на берегу Андаманского моря в Патайе. Русских вокруг – тьма, и по-русски с русскими разговаривают все – от погонщика слонов до укротителя змей. Патайя, с моей точки зрения, для отдыха умерла, будучи убита гигантизмом построенных отелей. Да и в море не покупаешься – оно грязно и забито катерами и скутерами.
– Ничего и не убита, – с жаром разубеждает Паша, – наши такое любят. Многие спрашивают: а правда большой отель? А сколько там ресторанов? Баров? И откажутся селиться в отдельной вилле. Огромное число людей хочет отдыхать коллективно, шумно, брататься, на «бананах» по морю гонять, в барах песни петь…
– А массовиков-затейников не хотят? – прерываю его я, поеживаясь.
– …с караоке или же с аниматорами, – завершает фразу Паша.
Сам Паша, конечно, предпочитает без аниматоров. Но доходы компании обеспечивает как раз не тихий, а коллективный и буйный народ.
ВНЕШНИЙ ВИД
Германия. Завтрак. Охотничий замок Шлосс-Бергсен под Кельном, переделанный под отель. Цок-цок-цок – звук женских шпилек по каменному полу: не оборачиваясь, могу определить, что девушка русская. У нее мини-юбка, топ с золотой вышивкой Dolce & Gabbana, сумочка на золотой цепочке-ремешке (от Gucci), и она блондинка (а я ее еще даже не видел). Но по-другому быть не может: Шлосс-Бергсен – загородный отель, бизнес-леди в туфельках на каблуке здесь на завтрак не спускаются. А живут тут крайне богатые дамы, которые туфли на каблуке наденут лишь вечером – в ресторан. Днем же – удобные мягкие «лодочки», а на завтрак и вовсе в кроссовках могут прийти, спортивно. Русские же будут одеты по любому поводу нарядно. Так одевается в большом городе приехавший издалека мальчик, которому мама сказала: «Костюм надень, в Эрмитаж пойдем».
Я, кстати, эту манеру не осуждаю, а просто фиксирую: мне милы и юноши в костюмах, и девушки в мини. Хотя надоело выслушивать от иностранцев: «Русские девушки такие красивые! Но почему они одеваются как проститутки?». Мне есть что ответить: итальянки с бюстом немыслимого размера, обтянутого водолазкой, тоже не очень похожи на дев Марий. Однако – да. У тех лишь водолазка. А у наших непременно какая-нибудь Prada и золотые блестки.
ПЕРФЕКЦИОНИЗМ
А еще русские за рубежом всегда и всем недовольны. Собственно, их и узнаешь в толпе даже не по одежде, а по недовольно-надменному виду. «Вы в Париже где остановились?» – «В «Крийоне»…» – «Ужас! Там в туалете пол без подогрева! Вообще старый отель…» Хотя Crillon, между прочим – исторический дворец-отель, в котором останавливались все короли и звезды, от принца Майкла до Майкла Джексона. «Где ужинали? – У Дюкасса в «Плазе»… – А по-моему, в Москве в «Турандот» интерьер покруче будет…»
Порою кажется, что это не русскому желудку важно получить удовольствие от соуса бордолезе, а русскому глазу важно заметить, что, м-да! – и здесь нет совершенства.
Объяснений этой отечественной сверхтребовательности нет, но есть одно наблюдение. Лет 20 назад я поехал в Голландию – первую свою заграницу. Меня потрясло все – от районов красных фонарей до районов буколических мельниц. Но особенно потрясло, что пепельница с окурком мгновенно заменялась на чистую. И вот после шатаний по ночному Амстердаму мы с другом зашли в бар. Я закурил (тогда я еще курил). Пепельница заполнялась. Девушка за стойкой тихо разговаривала с подругой. Я недовольно попросил пепельницу заменить. Девушка не расслышала. Я повторил просьбу жестче, а мой голландский друг мягко сказал:
– Ну что ты к ней привязался? Конец ночной смены, девчонка устала. Тебе что, эта пепельница жизнь портит? Курить вредно.
И я прикусил язык, потому что понял: моя цель была продемонстрировать свое доминирование или, как говорят в России, покачать права. С тех пор недочеты в сервисе проходят мимо меня: люди есть люди, жизнь есть жизнь…
МОТОВСТВО
Лондон, Ковент-Гарден, ресторан. За столиком русские: двое давно живущих, двое на два дня приехавших – и я. Давно не виделись! Приехавшие затягивают обычную песню: ребята, да у вас по сравнению с Москвой все просто даром! – и все решают выпить за встречу. Только давно живущие предлагают по бокалу «домашнего» вина, а приехавшие – сразу тычут в нижнюю, самую дорогую строчку карты. Те, что давно живут, переглядываются, и я их понимаю: для английского среднего класса дорогое вино – особый случай, такая трата может запросто пробить бюджет. Москвичи хохочут: «Ребят, да вы что! Угощаем!» – и ведь и вправду угощают, и официантке оставляют сверх меры на чай. Не задумываясь, разумеется, что походя унизили своих старых друзей, – и даже не задумываясь, что об этом можно задуматься. Ну, и официантка, понятно, теперь будет обслуживать в первую очередь русских, а других игнорировать. И на нее за это однажды нажалуются. И хозяин ее выгонит. «После ваших, Dmitry, в сервисе – как выжженная земля», – такое, как и про похожих на проституток русских красавиц, я тоже выслушивал…
…Резюмирую. Хотя, конечно, мог бы продолжить – и про непременную показушность коллективного заграничного русского (он все время отслеживает, обращают ли на него внимание, а если обратили, то с нужным ли знаком); и мнительность («ах, нас не уважают!»), и про пренебрежение местными правилами, основанное на представлении, что законы пишутся для лохов и лишь лохами соблюдаются (я видел, как русские спорили в буддийских монастырях с монахами, как им следует для посещения монастыря одеваться). Но дело не в количестве признаков. Сначала хотел написать: «дело в том, что русский турист – это советский турист, только как бы вывернутый наизнанку» – но потом понял, что это тоже упрощение. Дело в том, что я иностранцев вообще по их странам не идентифицирую. Я их оцениваю как умных, глупых, сердечных, себе на уме… Потому что отождествление со страной ничего не дает. Страна – это всего-навсего особенности кухни, костюма, распорядка дня и языка. А вот русские за границей идентифицируются именно как русские, а не как личности. И это, конечно, мне не очень приятно, потому что это невозможно – общаться, дружить или ненавидеть целую страну.
А потом вдруг я с облегчением понимаю, что тех соотечественников, которые личности, я попросту не выделяю глазом из европейской толпы, составленной такими же личностями. И поэтому не могу определить, сколько их по сравнению с этой вот самодовольно-недовольной русской массой.
Проболтал же я как-то в американской кафешке полчаса с одной местной девчонкой, спросил, где живет – и вот тут только и выяснилось, что мы с ней соседи в Питере по Петроградской стороне.
И я воспрял.
2008COMMENT
За 6 лет в поведении русских за рубежом мало что изменилось (я по-прежнему мгновенно вычисляю наших по нерасслабленному и слегка надменному взгляду и по избыточному наряду), но во мне – пожалуй. То, что раньше я осуждал, теперь нередко стал просто отмечать. Люди, прошедшие нужду и бедность, всегда поначалу делают избыточный заказ в ресторане – и только потом переходят на диеты. Возможно, нужно просто подождать. Я тоже вон долго думал о том, что внутри собственной страны наши люди ведут себя как туристы, временщики, которым по фигу политика, справедливость, закон, – однако как в конце 2011-го громыхнуло!
Хотя к сегодняшнему дню, увы, затихло.
Зато загрохотало на Украине.
2014#Украина #Киев Диалогический работник
Tags: Русский посол на Украине в роли американского посла в России. – Социолог Сорокин, философ Цымбурский и кибернетик Зурабов. – Лифтеры и социальные лифты.
Признаюсь: первый раз нарушил профессиональный пост, оскоромился, – провел корпоратив. Российского посольства в Киеве. Вместе с Венедиктовым с «Эха Москвы». Не за гонорар, а за интерес, – вот и вам, возможно, будет интересно, что там происходило и как.
Прежде чем перейти к теме, то есть к делу, скажу пару слов о российском после на Украине и российском посольстве. Просто чтобы вы представляли. Потому что Украина – чуть ли не единственная страна, где наш посол по определению обладает влиянием не меньшим, а может быть, и большим, чем посол США. Как говорится, исторически сложилось. Это заметно даже в деталях. Резиденция русского посла представляет собой гигантский, в десятки гектаров, парк с прудами, водопадами, павлинами, утками, кортами, разнообразными Гераклами из мрамора и безымянными купальщицами из бронзы, – про посольские хоромы уж молчу: они явно не слабее шестисот-с-чем-то метровой фазенды президента Украины Януковича. (В день моего приезда снимки жилья Януковича, сделанные с вертолета, опубликовала газета Kiev Post). И на прием к русскому послу украинские миллионеры и политики идут с тем неуловимо-вдохновенным выражением, какое я видел у российских миллионеров и политиков, когда те шли на прием к американскому послу в честь Дня независимости (или к французскому послу на открытие недели бордосских вин). Потому что во многом именно от России зависит, в каком качестве Украине существовать: (восточно)европейской державы, страны-транзитера (газа и культур) или страны-спутника. И я этим ничуть не хочу обидеть украинцев, доброжелательность и улыбчивость которых раз в пять выше доброжелательности и улыбчивости россиян, – просто описываю реальность в своих ощущениях.
Нашего посла на Украине зовут Михаил Зурабов, – это, совершенно верно, бывший глава Пенсионного фонда и Минсоцразвития, то есть объект гневнейших филиппик, включая мои собственные, хотя бы потому, что реформа Зурабова сначала отобрала у меня возможность накапливать пенсию, а затем и вовсе зашла в тупик: когда стало ясно, что кроме как по принципу «отобрать и поделить» пенсии в России платить невозможно. И хотя я с Зурабовым знаком с его первого дня на госслужбе, – поверьте, я ему и тогда, и сейчас ничем не обязан, не считая билетов до Киева да посольского гостеприимства, которое, полагаю, он оказал бы любому другому российскому журналисту.
Так вот: Зурабов, экономист и кибернетик по образованию, переместившись из Москвы в Киев, повел себя не вполне так, как вели его предшественники (из которых колоритнее всех был Черномырдин), и не вполне так, как вообще ведут себя послы за рубежом. Этот человек, знакомый и с трудами социолога Питирима Сорокина, и философа Вадима Цымбурского, непринужденно вступающий в дискуссию о теории справедливости Джона Ролза, не ограничился обычными хлопотами посла – по крайней мере, в расхожем представлении.
Ведь послу за рубежом, в этом представлении, надлежит вести переговоры тайные и явные, прикрывать то, что по-английски деликатно именуется intelligence service, а до кучи наводить, так сказать, культурные мосты, как будто вокруг лежит не заграница, а до детских припухших желез знакомый Петербург-Ленинград.
А Зурабов попробовал, я аккуратно выражусь, объединить в Киеве вокруг посольства интеллектуальную элиту: украинскую и русскую, прозападную и провосточную, – любую. Допустим, посла интересовало, как могло случиться, что в Советском Союзе, пережившем чудовищную революцию, разруху, гражданскую войну, репрессии и костоломки, сумели за двадцать лет создать структуру, остановившую и разбившую лучшую армию в мире? Нет, вне всяких оценок – за счет каких механизмов переломанный хребет пусть криво, но сросся? И если провести, при всем различии, аналогию между тоталитарным и авторитарным режимами (тоталитарный – это когда орден, стоящий у власти, контролирует не только государственную, но и частную жизнь) – почему механизмы, позволявшие в прошлом отвечать на великие вызовы, перестали работать сейчас? Или работают, а мы не видим? Являются ли таким механизмом социальные лифты, а если да, то какие из лифтовых шахт прошлого – армия, комсомол, высшее образование, спорт – работоспособны и сейчас?
Слухи про киевские дискуссии до меня и раньше доходили – но то, что они принимают публичную форму при патронаже посольства, было открытием. Я не знал, например, что часть споров ведется на нейтральной площадке местного Дома ученых, да еще и по схеме телевизионных ток-шоу (только без телекамер). И совсем не знал, что Зурабов затеял посольские вечера – приемы, где главное не ужин с возлияниями, а, опять же, публичное исследование, социология, спор. И вот на такой вечер в самом конце октября, когда предполагалось отмечать день рождения умершего комсомола, были званы в качестве ведущих мы с Алексеем Венедиктовым.
Представьте: банкетный зал отеля «Интерконтиненталь». Столы под скатертями, совокупно вмещающие человек 150. Выпивка-закуска в фойе. Гости, среди которых и украинская комсомольская богиня, бывший председатель Верховного Совета УССР Валентина Шевченко, – и местный шоколадный король, мультимиллионер Петр Порошенко. А также студенты украинские и российские, ребята с Полит.ру и Polit.ua, экс-главы Счетной палаты и идеологического отдела ЦК, плюс в большинстве гости при галстуках, одетые так, как и должны быть одеты люди, в городе которых средняя зарплата составляет $250, – а за кулисами ансамбль «Горлица», готовый исполнить «Мой адрес – Советский Союз» и «Главное, ребята, сердцем не стареть».
Вот вы что при этом зрелище подумали? Так и я подумал то же самое!
Пока не понял, что моя фанаберия идет от того, что в России разучились вести дискуссии и обсуждать стратегии именно что публично, на широкой публике. Демонстрировать публично галстуки с Джермин-стрит или костюмы с Сэвил-роу – это да. А интеллектуалы либо ушли в блогеры, либо обрели привычку ходить на закрытые встречи, – то ли в «Жуковке-2», то ли в «Горках-9». И как они там под одеялом своими мозгами совокупляются, известно только им, одеялу да крыше, которая над одеялом.
А в Киеве, где еще ничего не застыло, не дорешено, где Запад и Восток, демократия и автократия в пропорции 50:50, где премьер-министра запросто отправляют в тюрьму, – оказывается, и воспоминания о комсомоле можно мгновенно перевести в разговор о вызовах современному государству и обществу, об отчуждении граждан от политики и о тех самых социальных лифтах. И народный артист, герой Украины Дмитрий Гнатюк, поющий «Не расстанусь с комсомолом», не будет этому разговору помехой, а напротив – частью фона.
И Венедиктов, в своей привычной манере («Мне скажут, что я затыкаю вам рот, но я затыкаю вам рот!») будет выяснять у людей поживших, где комсомол был школой подхалимов, где – формальной ступенькой перед партией, а где – просто площадкой, местом знакомств и встреч. А я буду точно так же выяснять у молодых, зачем им эти социальные лифты сдались, если у них есть голова на плечах.
И вот тут обнаружилась интересная штука. Что лифта хотят для себя все. При этом в госслужбу как в лифт не верит никто – она воспринимается скорее как чужой членовоз с мигалкой. Более того, успешную карьеру никто не связывает с работой на государство или общество, – а исключительно с работой на себя.
А дальше микрофон взял Зурабов (жалею, что не взял в этот момент диктофон). И заговорил о том, о чем давно в России госслужащие не говорят. Он сказал, что социальный лифт не есть лифт персональный и что меркантильный интерес не может быть его мотором. И что социальный лифт есть средство достижения справедливости. И что под справедливостью общество понимает равенство возможностей для детей без оглядки на успехи родителей. Что лифт – средство подъема наверх умов, способных отвечать не на локальные, а на глобальные вызовы времени. Как, например, остановившаяся ассимиляция Европой иммигрантов, что ставит под вопрос цивилизационную идентичность. Как, например, кризис доверия правительствам, в финансовой сфере принимающий форму дефолта. Он много о чем говорил в абсолютнейшей, гробовой тишине зала, когда даже те, что пришли закусить-поболтать, ощутили, что это не «От всей души», а показ разверзшихся под ногами бездн.
И поскольку, повторяю, это все говорилось не на тайной сходке (про «корпоратив» я помянул, каюсь, для красного словца – это был совершенный антикорпоратив), а публично, то эффект был соответствующий.
А уж какие будут последствия сказанного – я не знаю. Для меня, например, последствием было приятное ощущение, что в кои-то веки российское посольство за рубежом воспринимается не как имперский, дипломатический, культурный, шпионский или какой там еще центр, – а именно как центр интеллектуальный.
И, видимо, это почувствовал не я один: американскому послу, насколько знаю, теперь госдеп тоже дает деньги на аналогичные мероприятия.
То есть у меня, как у ведущего дискуссий, на Украине дел может и прибавиться.
2011COMMENT
Зурабов с тех пор еще пару раз звонил, приглашал – одной из тем публичных обсуждений было 95-летие Февральской революции, мне это было невероятно интересно, но графики у нас не совпадали.
А когда в конце 2013-го в Киеве на Майдане стали стремительно разворачиваться события, уже я звонил Зурабову, намекая, что неплохо бы меня снова пригласить в Киев, а он намекал, что очень занят.
Сейчас, когда я это пишу, весной – никто не знает, чем кончатся украинские события, украинские площади, украинское противостояние. Но там явно творится большое историческое время, настолько большое, что, возможно, втянет в себя, как в воронку, не только Россию, но и полмира.
Посол Зурабов, кстати, отозван в Москву.
Дальше по шкале ухудшения положений между странами – разрыв дипломатических отношений.
А дальше – война?
2014#Украина #Крым Крым: моя машина времени
Tags: Китайские перспективы Крыма и тихая осень 2013-го. – Жлоб-стиль и руины империи. – Порка младшего брата и Европа.
Самый конец октября 2013-го. Я лечу в Крым.
Там – большая республиканская тусовка, конкурс «Серебряное перо», но местные не устают подчеркивать, что конкурс – международный. Это верно: любой иностранный журналист может участвовать. Крыму важен международный статус. Крым – бедный регион, дотируемый из Киева, и вопрос о привлечении международных средств есть вопрос жизни и смерти. В глазах премьер-министра Могилева я – несомненный агент влияния Крыма на Россию, как, впрочем, и все русские журналисты.
Перед аудиенцией я захожу в туалет. Там – «турецкий унитаз», он же чаша «Генуя»: дырка в полу. Я хочу сказать премьеру, что малая нужда может привести к большой финансовой беде, но прикусываю язык. В конце концов, дырки встречают и гостей Питера на Московском вокзале. И я спрашиваю, не кажется ли премьеру, что запрет на двойное гражданство на Украине не способствует инвестициям. В ответ я слышу, что 80 % инвестиций в экономику Крыма – русские. И что это все не проблема. И что если Россия не хочет вкладываться, – что ж, Крым будет иметь дело с Китаем. Могилев увлеченно говорит про возможное расширение торговли с Китаем. Если бы я сказал ему, что через три месяца крымские депутаты под присмотром российских военных, в которых российский президент откажется признать российских военных, свергнут его с поста и выберут нового премьера, которого тут же признает российский президент, – Могилев бы решил, что я перегрелся на осеннем солнце. Впрочем, я сам бы так решил. В Крыму многие бы смеялись, услышав, что у них скоро будет референдум за объединение с Россией. Многие вещи кажутся невозможными еще накануне…
Я не был в Крыму 20 лет, мне все интересно. 20 лет назад я жил неподалеку от Симеиза, в псевдомавританском дворце Дюльбер: это там размещались последние Романовы до эвакуации на британском крейсере Marlborough. В 1994-м Крым являл собой руины империи: пошедшие трещинами ротонды, обваливающиеся балясины балюстрад, бедность, вода дважды в день по два часа, тишина и счастье, и местные жители в одинаковых костюмах Nike: результат выездной торговли по месту работы. Вместе с актером Половцевым мы вечером на прогулке покупали в одном шалмане бог знает кем завезенное недорогое французское вино (местную кислятину пить было нельзя) и горячие бутерброды. Половцев еще не играл в «Ментах». Хорошее было время.
Теперь, конечно, многое изменилось. В Симферополе меня селят в гостинице «Украiна», декорированной в жлоб-стиле, – том самом, который полыхает в хоромах бывшего украинского генпрокурора Пшенки, открытых к обозрению после победы Майдана. Золото, вензеля, мрамор, бархат, бомбошки. Но в номере – сиротская кроватка и отсутствие отопления, сплю в куртке. В меню из ресторана значится «Булка бутербродная 2 шт.».
– Понимаете, – очень мягко, как бы извиняясь, объясняет мне после завтрака человек из окружения премьер-министра, – отношение крымчан к Москве… как бы это сказать… уже не вполне то, что прежде. Вот скажите: почему Москва поставляет газ в Европу по 350 долларов, а Украине продает по 450? Это справедливо, да? Или вот резонанс вызвала встреча Путина с Януковичем – если вы помните, в Ливадийском дворце. Ну… как бы это сказать… Янукович приезжает на встречу, а Путина нет. Час нет, другой, – и выясняется, что Путин еще обедает в Кремле и неизвестно, когда прилетит. А потом с опозданием часов на восемь прилетает. И едет кататься на мотоциклах с байкерами. И только потом встречается с нашим президентом… Это имело нехороший эффект даже среди тех, кто хорошо относится к России. Но только на меня, пожалуйста, не ссылайтесь, ладно?
То, что число хорошо относящихся к России в Крыму снижается, мне уже известно. Данные социологов напечатаны в одной из местных газет. Почти половина за интеграцию с Европой. Поддерживающие таможенный союз с Россией в несильном, но меньшинстве. Вопрос «зачем вы нас унижаете?» носится в воздухе.
Европа Украину не унижает. А Польша даже раздает (без особой огласки) всем, имеющим хоть какой польский корешок, карточку поляка, дающую скидку на транспорт и на что-то еще. Куда тратятся деньги из российской программы помощи соотечественникам, не знает никто.
Я еду в Судак вместе с главредом газеты, опубликовавшей те самые данные. Он из Киева, где ему уютнее, чем в Крыму. Разница между киевлянами и крымчанами вообще очень чувствуется, но это разница не политическая, а эстетическая, между столицей и провинцией.
Впрочем, за полгода до поездки в Судак я был в Киеве, который потряс меня лицами, манерами, привычками и в целом обстановкой начала российских 1990-х. Во мне в Киеве видели богатого иностранца, и профессор, который проводил для меня экскурсию, неприятно юлил, то надуваясь гордостью, то заискивая. «Неприятно» – потому что так же и я вел себя с иностранцами в каком-нибудь 1990-м, не видя в них ровни себе, а в себе ровни им, а это ох как противно вспоминать. В Киеве все расчеты шли в долларах; на прием к российскому послу люди в поношенных костюмах шли с тем подобострастием, с каким ходят к послу американскому, а более чем крупный российский чиновник в еле сдерживаемой ярости вводил меня в курс местных дел: «Украина, …, до сих пор не определилась, каково ее место в мировой экономике! Они бы вообще хотели, …, ничего не делать, а стричь и Россию, и Европу в статусе транзитера! Но мы им быть страной-транзитером не позволим ни-ког-да!».
Я хотел спросить, почему Россия, превратившаяся в сырьевого поставщика Европы, не может позволить Украине быть страной-транзитером, но не спросил…
…Так вот, мы ехали в Судак по узкой, без разметки дороге. Машин было мало, в основном «жигули». Зарплата в 300 долларов здесь считалась завидной. Редактор рассказывал, что за поворотом будет львиный заповедник – местный миллиардер накупил львов, теперь это популярное место. А потом, без перехода, добавлял, что если Россия введет в Крым танки, то весь остров будет взят за день. И смотрел на меня с терпеливым удивлением:
– А вы лично думаете как? Россия себе Крым заберет?
Меня, если честно, начинала раздражать эта местная робость. Газета попутчика была пухлой, огромной, с текстами, написанными русским языком 1990-х – долго, скучно, без блеска. Но обо всем. Иными словами, на Украине была журналистика, но не было журналистов (вот почему, полагаю, там так популярны наши – Савик Шустер, Евгений Киселев). Но предъявлять претензии я не мог: в моей России еще были журналисты, но уже почти не было журналистики, ее место заняла пропаганда.
Раздражение возросло в новом санаторном корпусе. Это был спроектированный двоечником корпус, бессмысленный и неудобный, и такой же бессмысленный и неудобный был гигантских размеров номер. Я как-то жил в Хельсинки в квартире, оборудованной специально для Брежнева: те же идиотские гигантские размеры. От спальни до туалета бежать надо было чуть ли не стометровку. Бедный Леонид Ильич, боюсь, не всегда успевал…
А потом повезли в Новый Свет, на завод шампанских вин, основанный князем Голицыным – и лучше бы я не ездил. Территория там была покрыта продуктом творчества рабочих масс – всякими елочками-пальмочками из пустых бутылок и транспарантами с изречениями типа «Лев Сергеевич молодец, оставил славы нам венец! Китаева Л.Н., рабочая цеха № 1». В подвале, под фальшивящую скрипку, началась дегустация. Пить то, что они называли шампанским, было нельзя. Возможно, это понимала и Китаева Л.Н.: большинство сортов разбодяживалось сахаром до потери вкуса. Киевляне за моим столиком попросили принести дегустационное ведерко – выливать невыпитое. «У нас всегда пьют до дна, по-иному невозможно!» – обиделась церемониймейстер. По территории завода в обнимку бродили тетки неопределенного возраста, но определенно из русской глубинки, и пели песни. Они свое сладенькое отдегустировали до дна – и были счастливы.
Я долго после этого не мог уснуть – потому, что привык ложиться далеко за полночь, а тут тьма упала мгновенно, и сразу исчезло все. К восьми вечера не работали бар, спортзал, вообще ничего. Набережная, вся в свежеотполированном граните, была пуста, а кафе закрыты: не сезон. Из открытого ресторанчика доносилась лезгинка. На вершине горы светилась Генуэзская крепость, а по другую сторону укрывался мглой мыс туманный Меганом, про который я в советское время читал у перепечатанного в четыре копирки репрессированного поэта Мандельштама. Сейчас в Крыму мне была противна моя спесь, но я ничего не мог с собою поделать, – и вот ворочался в наказание.
А наутро на собрании журналистов я узнал, что все законодательство, регулирующее СМИ на Украине, является прямой калькой с европейского. То есть на Украине по отношению к журналистам автоматически применяются нормы европейского права: знаменитое дело «Гудвин против Соединенного Королевства», выигранное в Европейском суде по правам человека, позволяющее журналистам не раскрывать свои источники информации перед судом, на Украине применяется судами автоматически. И мою спесь сняло как рукой, потому что Украина с точки зрения журналистики была, безусловно, Европой, а Россия – Востоком, провинцией, Азией…
И это украинское ощущение тоже было ощущением из 1990-х, когда в России молодые лошадки еще гарцевали на зеленом лугу жизни, и нам хотелось Европ и свобод – а потом оказалось, что большинству нужны просто бабки. И луг жизни даже не вытоптали – его приватизировали, нарезали на участки и распродали под застройку.
У меня больше нет ни иллюзий, ни надежд, – одни воспоминания о свободе и счастье, которые не вырубить никаким гос-девеломпентом под патриотическим управлением.
В ноябре 2013-го я сказал бы: хотите почувствовать ветер бедности, молодости и свободы – поезжайте на Украину. Поезжайте в Крым.
Но теперь, после всего, что случилось в начале марта 2014-го, – молчу.
2014COMMENT
Если бы я все еще был советским журналистом, то написал бы так: «Любезный читатель! Ты в любом случае счастливее меня, поскольку знаешь о судьбе Крыма то, чего я не знаю».
И я действительно не знаю – весной 2014-го не знаю, в какую часть книги ставить главку про Крым: «По России» или «Вне России»? И уж тем более не знаю, куда следует отнести эту главку в исторической перспективе – скажем, в 2034 или хотя бы в 2024 году.
Однако я не советский журналист, и об исторических циклах собственной страны, и о тенденциях, определяющих развитие мира, информации у меня куда больше. Я вижу, что вторая половина ХХ века была не только веком крушения империй, но и создания национальных государств, объединяемых в цивилизационные сети. Именно это (а не Горбачев!) определило объединение двух искусственно разделенных Германий и развод Чехии и Словакии. Именно это (а не США или НАТО!) определило распад Югославии. Именно это определяет сильное националистическое движение внутри современной России, все больше входящее в противоречие с автократическим строем, тоскующим по империи.
Так что прогноз на будущее Крыма (скорее всего, это будет самостоятельное государство, остров Крым, по Аксенову) или будущее Украины (национальное государство европейской цивилизации) у меня куда оптимистичнее, чем прогноз на будущее России в ее современных границах.
Любезный читатель, ты счастливее меня: возможно, ты уже знаешь, сбылся ли мой прогноз.
Впрочем, если он сбылся, то ты – несчастнее.
#Белоруссия #Россия #Франция Наша раша, или признаки цивилизации
Tags: Отчего в Минске чисто, почему в Москве грязно. – Туалеты, таксисты, улыбки как маркеры цивилизации. – Часть света, где хотелось бы жить.
Я о признаках не в том смысле, в каком о симптомах болезни. Я о том, что каждой цивилизации сопутствуют определенные внешние проявления (например: монотеизм, письменность, навык горячей обработки металлов; или: политеизм, пляски у костра, подсечное земледелие). Так где Россия – в Европе или в Азии?
Мы с приятелем недавно делились впечатлениями о Белоруссии и, рассмеявшись, сошлись на общем ощущении: Белоруссия, несмотря на диктатора Лукашенко – это Европа. А не Азия, каковой полным-полно в Москве, несмотря на кичливые стеклянные новостройки, – и какой хватает даже в Петербурге, несмотря на его строгий, стройный европейский вид. Да, сегодняшний Минск – советский город, где нет рекламы, где возле кинотеатров висит написанный плакатным пером «репертуар на месяц», где до сих пор вывески «Ателье», «Гастроном», «Продукты», сделанные из светящихся трубочек. Но все же он часть Европы. Да, захваченный, опущенный и униженный автократом Лукашенко, но все же западный город. Есть такое ощущение.
Тот же пьянящий дух Европы бил нам в голову в СССР, когда мы выбирались в Ригу, Каунас или Таллин, да и в тот же Минск, и во Львов, не говоря уж про совсем западный Ужгород.
И мы с приятелем стали думать, в каком дупле гнездится этот дух, и, перебрав разные варианты, в итоге оставили те, по которым практически безошибочно можно отделить Европу от Азии, Запад и Востока.
ПРИЗНАК ПЕРВЫЙ: ГРЯЗЬ
В Европе неизменно чисто; в Азии неизменно грязно, – ей-ей, это главный индикатор того, какой тип культуры вас окружает. Белоруссия потому и кажется Европой, что вылизана до пылинки, как Голландия или Франция. А вот Москва – это Бангкок, где чисто только на центральных улицах, а шаг в сторону – и ужас-ужас-ужас. И Петербург – это тоже Азия: сейчас, когда я пишу, город завален сугробами, по тротуарам не пройти, а по дорогам, в чавкающей каше, движутся вперемешку машины и люди. Бомбей. И то, что в этом Санкт-Бомбее с воплями мигалок расчищают путь местной султанше – сходство лишь усиливает.
Нет-нет, что ни говорите, а грязь – первый признак азиатчины. И это знает каждый, кто пересекал на машине границу что с Белорусский, что с Финляндией. В какой части света находишься – ошибиться невозможно.
ПРИЗНАК ВТОРОЙ: ТУАЛЕТЫ
Не думаю, что даже самая большая нужда заставит хоть одного российского набоба (и, тем более, набабу) посетить хоть один наш вокзальный туалет. Боже святый! На самом депрессивном итальянском полустанке туалет будет чист. А вот на Московском вокзале вас будет ждать вонь и дырка в полу, деликатно именуемая «турецким унитазом» (очень точно, ага). А загляните в любой туалет любой российской хоть средней, хоть высшей школы! Вонь, текущие бачки, отсутствие стульчаков и туалетной бумаги в кабинках. И так всюду – от Волгоградского педагогического университета до Московского государственного на Моховой.
Туалет как идентификатор работает всегда: даже когда вообще не работает.
ПРИЗНАК ТРЕТИЙ: ТАКСИСТЫ
Я когда-то потрясен был видом на аэропорт Барселоны. Самолет садился медленно и торжественно. А под крылом лежал гигантский паркинг для черно-желтых такси, откуда тек черно-желтый ручей к терминалу прибытия. Европа – это когда ты прыгаешь на заднее сиденье такси и называешь адрес, а по приезде счетчик показывает стоимость поездки. Азия – это когда у вокзала дяди с усами выкрикивают лишенную смысла фразу: «Такси-не-надо-недорого!». Азия – это неизменно договорная цена проезда, и это правило действует что в Москве, что в Стамбуле. А еще Азия – это «левак», выполняющий функцию такси (так, кстати, ведут себя водители-пакистанцы в Лондоне). Это не значит, что «азиатское» такси дешевле. И питерское, и московское стоит столько же или дороже римского и парижского, и сильно дороже нью-йоркского, где оно составляет альтернативу метро.
Итак, такси: если счетчик и маршрут по требованию – ты в Европе. Если крутят цены и устраивают базар – ты в Азии.
ПРИЗНАК ЧЕТВЕРТЫЙ: ЗАКРЫТОСТЬ ОТ ЧУЖИХ
У меня квартира в центре Петербурга, дом небедный: есть подземный гараж. Но когда я здороваюсь в подъезде с незнакомцами, на меня смотрят странно и отводят глаза. В лучшем случае выдавливают «здрс-с-сь»… В Париже я тоже живу в центре, зато все люди в подъезде расплываются в улыбке: «Бонжур, месье! Са ва? О, вы из аэропорта, как долетели?». Две принципиально разных модели поведения не означают, однако, что парижане воспитанны и доброжелательны, а питерцы – жлобы и хамы. Модели означают, что одно и то же послание («ты меня не знаешь, но я тебе не опасен!») в Европе и в Азии выражается по-разному. В Европе: «Я не опасен, добро пожаловать на мою территорию!». В Азии: «Я не опасен, я не посягаю на твою территорию!».
Если незнакомцы по отношению к вам неприветливы – значит, вы в Азии, и значит, аборигены дают понять, что не будут вмешиваться в вашу личную жизнь.
Признак пятый… Каюсь, мы с приятелем пятый признак выделить не смогли. Рассчитываем на помощь. Мы ни злить никого не хотим, ни льстить никому не хотим, просто если у тебя перед глазами есть сводная идентификационная таблица – ты никогда не заблудишься.
И в той же Азии легко поймешь, почему, например, Гонконг – европейский город.
И легко поймешь, почему в Европе Москва – азиатский.
2010COMMENT
О нет, тут не мой, тут ваш должен быть комментарий! После публикации этого текста на сайте gzt.ru такие комментарии шли и шли, но проект gzt.ru, увы, накрылся, сайт закрылся, – теперь те «каменты» не восстановить.
Какие еще бытовые признаки Европы и Азии считать существенными?
Есть идеи – пишите в ЖЖ dimagubin или в твиттер @gubindima.
Кстати, открытость коммуникаций и доступность обратной связи – типичное свойство Европы!
#Мир Земельные кодексы
Tags: Игра на турбирже с переоцененной Европой и недооцененной Африкой. – Выбор между гостиницей и съемной квартирой. – Счастье поездок и пересадок.
В Москву прилетал Тони Уиллер – отец-основатель империи Lonely Planet, «Одинокая планета». Путеводители Lonely Planet – своего рода эталон жанра и компас земной для, как в СССР их называли, туристов-«дикарей». И я не мог упустить момент, чтобы с отцом-основателем повидаться.
Крутейший, доложу вам, парень этот Уиллер! Представьте: англичанин, выпускник Лондонской школы бизнеса, инженер «Крайслера», – в случае обычной карьеры кому бы он к своим сегодняшним шестидесяти шести был интересен? Даже с учетом австралийской прописки? Разве что пенсионному фонду.
А он вместе со своей женой Морин в интересном возрасте под тридцать отправился по маршруту Турция – Иран – Афганистан – Пакистан – Индия – Непал, повторяя путь Оксфордско-Кембриджской экспедиции 1955-го. И не просто написал про это книжку (да господи, кто ж из людей с образованием путевых заметок не пишет – как говаривал Дима Быков, в наше время каждый гимназист должен уметь написать сочинение «Как я подглядывал за купанием сестры»!). Он написал книгу практических советов: где остановиться, из какого колодца воду пить и в какой кузне коня подковать. И хорошо написал! Его путеводитель, выдержав несколько переизданий, вошел в историю под именем «Желтой библии». Чета Уиллер попала в точку. Компании хиппующей молодежи, кочевавшие из Европы в Австралию и Новую Зеландию, нуждались в таких советчиках – знающих, что посмотреть и как при этом потратиться по минимуму.
И вот, извольте: седьмой десяток – а в Тони ни грамма жира, тьма энергии, уйма непоседливости и ни грана той спеси, которая в России обычно отличает человека с состоянием под 200 миллионов долларов. Эдакий стриж, только певчий. Сидим, болтаем то о русских заложниках статуса, обитающих в Лондоне, то о питерском ресторане «Крокодил», в котором Тони как-то ужинал и который относит к категории «недорого и на удивление вкусно». С человеком, исколесившим планету – и продолжающим с удовольствием колесить – можно вообще говорить обо всем на свете.
– Тони, легко привести 103 причины, по которым человеку, не знающему иностранных языков (а в России их обычно не знают) следует покупать готовый тур. Но попробуйте найти хотя бы три резона за самостоятельное путешествие!
– Пожалуйста! Первый – что вы ни с кем не связаны и ни от кого не зависите! Ни от одного человека из вашей группы, как это происходит, когда вы покупаете тур. Второй – что вы сами себя контролируете. Нравятся музеи? Отлично, больше времени в музеях. Магазины? Отправляетесь на шопинг. А третий – что вы неизбежно учитесь новому, потому что вам необходимо самому что-то узнавать. В групповом туре лично у меня мозг всегда на каникулах.
– Представьте, что города, страны, даже регионы – это акции, и что мы с вами играем на бирже. Какие из них, как вам кажется, переоценены, а какие – недооценены?
– Знаете, иногда бывает так: страна интересна, но местная валюта… Это то, что происходит сейчас в Австралии: австралийский доллар сейчас настолько силен, что страна в итоге переоценена… Вот если бы было наоборот!.. Или Швейцария. Сейчас она слишком дорогая. А в будущем, возможно, станет еще дороже, потому что евро слабеет, и все спасают деньги в швейцарском франке. Хорошая страна сегодня – Америка. Америка меня вообще с ума сводит. Это страна, в которую надо вкладывать. А еще одна безумная страна – это Япония. Не могу сказать, что дешевая – но там ты всегда получаешь то, за что платишь. Там не бывает плохой еды, например. А еще я люблю жить в Лондоне, несмотря на анекдот, что в аду все повара – англичане…
– Да, и согласно тому же анекдоту, все чиновники в аду – русские… Но разве в Англии ситуация не изменилась в последние годы?
– Изменилась. В Лондоне появилось много новых отличных ресторанов. Но все равно, если вы едете в Англию, еда будет английской… Не могу сказать, что плохой, но… Да я готовлю лучше, чем они! Хотя я не повар, а всего лишь любитель.
– Признаться, у вопроса про акции не было денежного подтекста. Если напрямую: какая страна переоценена – или недооценена – с точки зрения интереса путешественника? То есть куда надо ехать непременно, а с чем можно повременить?
– В смысле переоценки есть проблемы у Франции. Я люблю Францию, я долго жил в Париже, я обожаю туда возвращаться! Но у французов иногда, знаете ли, случается такая манера: это хорошо, потому что мы французы!.. Наша культура прекрасна! Наша кухня лучшая в мире! Вино лучшее в мире! А все, что плохое, – это не французское! И это немножечко раздражает. А недооценена Африка. Что люди знают про эту Африку? Что там опасно, грязно, ничего не работает, люди неприветливы… А люди там очень доброжелательны! И очень позитивно настроены: да, сейчас плохо, но в следующем году будет лучше… И, кстати, еще одна вещь – некоторые из отелей там просто удивительны! Отличный дизайн, отличное обслуживание, причем это не международные сети, а местные гостиницы. У меня замечательные воспоминания об Африке.
– Какие бы страны вы советовали посетить там первыми?
– Если вы в Африке до этого не были, то Ботсвана, Танзания – фантастическое место! – и Кения. С Кении обычно все и начинают, Кения в каком-то смысле – это немножечко всего отовсюду. ЮАР хорошее место. И Намибия. А есть еще в Африке пара местечек, куда добраться совсем непросто. В прошлом году я был в Конго – так там вообще нет туристов! Рекомендовать не могу – там, знаете ли, все еще случаются боевые действия… Но какие места я там видел! Гориллы! Вулканы! Самый потрясающий вулкан, который я в своей жизни видел – в Конго! Нет, однажды следует туда поехать.
– Кстати, если вы начали разговор о хороших отелях: вы бы рекомендовали останавливаться в отелях или на квартирах?
– Это зависит от того, какая цель. В прошлом месяце я был в Нью-Йорке, провел дней десять. Я часто бываю в Нью-Йорке, обожаю там бывать – но обычно на два дня, на три дня, на неделю останавливаюсь. И каждый раз говорю себе: надо бы подольше. Там столько всего! Музеев, музыки, театров, ресторанов! Удивительный город. Мы женой там просто зависаем! И каждый раз себе говорим: однажды мы сюда вернемся, но уже не на неделю, а на месяц. Снимем квартиру и поживем. Квартира – это то, что нужно для одного месяца. Я в Лондоне долго квартиру снимал. Сейчас, правда, у меня там дом, в Кенсингтоне.
– А-а-а, это как у Голсуорси в «Саге о Форсайтах» – вы живете на «хорошей стороне парка»…
– Да, и, кстати, у меня одна соседка там – русская. Гимнастка. Была когда-то в олимпийской сборной. Лет тридцать-сорок назад… Но она так молода и подтянута!
– Скажите, а вы видели фильм «Римские каникулы»? С Одри Хепберн?
– Да. Потрясающий!
– Помните, там героиню, принцессу, журналисты спрашивают: какой город в Италии ей понравился больше всего? И она должна, разумеется, ответить: все города по-своему прекрасны… Но вместо этого отвечает…
– Рим!
– Точно. Так вот, если мы сейчас разыграем эту сцену, вы будете Одри Хепберн, и я спрошу вас про самый любимый город…
– В Италии – Венеция. Это еще один город, где бы я хотел пожить месяц. Я там был много раз, но всегда по два-три дня. Когда живешь месяц – проникаешься чувством города. Да, в Венеции я пожил бы в любой сезон – весной, даже зимой… В США – это Сан-Франциско. Я много лет туда езжу. Про Нью-Йорк я уже сказал… И еще хотел бы провести месяц где-нибудь в Японии. В Киото, например. Даже в Токио! Япония – удивительная страна, и очень разная на разных побережьях. А еще Гонконг! Я его обожаю, у меня друзья в Гонконге. Там отличная еда и масса страннейших мест – Гонконг весь полон такими местами… Южная Америка очень интересна, там тоже месяц провести неплохо… И, конечно, в тихоокеанском регионе. Я там много путешествовал по разным островам.
– У путешествий есть одна общая черта с ремонтом квартиры: какую смету ни составь, все равно потратишь больше. А вот на чем, вы считаете, в путешествиях экономить можно, а на чем – нельзя?
– Никогда не экономьте на том, что вы не сможете повторить. Я себя до сих пор себя ругаю – ну почему же я не сделал этого! – что в Афганистане в 1972-м, на пути в Кабул, я не заехал посмотреть на гигантских каменных Будд, высеченных в скале. А теперь их взорвали талибы. И все – пустота, не вернуться… Это самое большое сожаление моей жизни. И так ведь часто случается. Говоришь себе: может, через пару дней… в другой раз, когда будет больше денег, или времени… Нет, если есть то, что вам действительно хочется сделать – делайте сейчас. Кто знает, что случится завтра? Знаете, был такой британский футболист, Джордж Вест, ирландец. Так вот, он говорил: «Единственные деньги, которые я по-настоящему потратил – это те, которые потратил на жену и сына. А остальные деньги я просто выбросил». Так что экономить можно… не знаю, не знаю… разве что на вещах, которые мы в поездках накупаем. Все эти шмотки, сувениры… Может быть, на шопинге экономить есть смысл. Тратя деньги на более важное.
– Иногда даже опытные путешественники не замечают очевидных вещей. Никто, например, не любит пересадки. Все любят прямые рейсы. А ведь можно состыковать рейсы так, что между ними будет много времени. И тогда на пути из Москвы в Валенсию можно провести день в Мадриде. Я сам десятки раз пересаживался во Франкфурте и города не знал, а недавно провел там полдня – потрясающе! Небоскребы – и при этом старая Музейная набережная, лагерь «Окьюпай Франкфурт»…
– Конечно! У меня случались замечательные поездки, когда я точно так же вырывался на несколько часов из аэропорта в город! Кстати, последний раз, совсем недавно – в Вену. Я собирался в Венецию и Краков, а в Вене была пересадка. Часа четыре между рейсами. И я решил, что надо в Вену! Музейный город!
– И это мягко сказано. Девять сотен музеев…
– И я поехал посмотреть Хундертвассера. Этого потрясающего безумного архитектора! Еле успел вернуться к рейсу… Кстати, точно так же я первый раз увидел Россию, Москву. Я летел рейсом «Аэрофлота» из Дели в Лондон, пересадка была, разумеется, в Москве – и я мог, если бы захотел, провести в Москве 24 часа. И я захотел!
– А какие еще есть возможности в путешествиях, которыми мы напрасно пренебрегаем?
– Я, куда бы ни приехал, обязательно должен походить по городу. Ногами. А знаете, почти всюду есть пешеходные туры. И я их всегда бронирую. Вы знаете, что в Москве пять разных компаний предлагают пешеходные туры?! По разным районам, разные маршруты… В Санкт-Петербурге отличные туры! А в Лондоне, например, все больше становится велосипедных туров, когда тебе выдают велосипед…
– В Петербурге, кстати, тоже. Белой ночью на велосипеде – представляете? А еще в Петербурге, как и в Лондоне, есть туры на роликах. Я этих безумцев имею ввиду – которые несутся толпою, орут, из водных пистолетов стреляют… Кстати, вот так, на роликах, в толпе, я однажды въехал на Хайгейтское кладбище…
– А, решили посетить могилу Карла Маркса!
– М-да… А, вот уже дают знак, что пора закругляться… Тогда последний вопрос. Название Lonely Planet – это ведь результат ошибки, верно? Вы просто не расслышали песенку, которую пел Джо Кокер: вам показалось, что он поет lonely planet, «одинокая планета», а он-то пел lovely planet, «прекрасная планета»!
– Именно так, «Космический капитан» называлась эта песня!
– Скажите, а вам в путешествиях приходилось совершать ужасную ошибку, которая в итоге оказывалась прекрасной?
– О да! Одна из таких ошибок почти случилась, когда мы готовили один из первых путеводителей по юго-восточной Азии. Мы путешествовали по северу острова Борнео. Это Индонезия, по-индонезийски остров называется Калимантан… И мы там поднимались по рекам, проводили несколько дней, передвигаясь от деревни к деревне, и снова спускались к побережью. Затем мы шли по берегу – и снова поднимались по рекам. И вот на одной стоянке кто-то подал идею, что если мы поднимемся по реке повыше, – то там будет такая точка, которую можно пересечь, и попасть на другую речку, по которой можно будет спуститься. Мы достали карту: да, все так, вот наша деревня, вот другая река, вот место, где эти две речки подходят совсем близко друг к другу. И мы сказали местному проводнику: «Вот это мы и хотим, вот такого у нас еще не было! Поднимаемся по этой реке, перетаскиваем лодку через джунгли, и возвращаемся по другой реке. Вы такой маршрут уже проходили?» – «Да», – ответил он. – «И сколько это по времени? День?» – «Шесть недель…» И добавил, что, если бы в руках был нож, он бы уже через неделю убил того, кто это затеял, и не убил лишь потому, что руки были заняты лодкой… То есть представляете: если бы я на этой перевалке через джунгли настоял, то рисковал бы своей головой!..
…Тони уже которую минуту, что называется, дергают за рукав. У него пресс-конференции, встречи и, в конце концов, выход путеводителей Lonely Planet на русском языке. Он бежит, на ходу пожимая плечами на вопрос, какие будут первыми – ох, это лучше спрашивать русского издателя! Кажется, Хорватия, Украина, Испания, Амстердам, Лондон… – но успевая подробно объяснить, что это не просто перепечатки старого, это новые издания, что по всем главным направлениям обновления происходят раз в два года, и что если говорить о точности информации, то это как раз то, что «Одинокую планету» и отличает. И что лет через двадцать путеводители будут существовать не в печатном виде, не в интернет-версии, не на мобильной платформе, а-а-а! – а прямо на чипе, вживленном в мозг.
Уиллер хохочет, бежит вприпрыжку по ступенькам, и бог знает куда на этот раз ведет его эта лестница: В Полинезию? В Антарктику? В Арктику? На Луну?
Чтоб я так жил!
2012COMMENT
Если бы господь меня спросил – чего я хочу от жизни? – я бы ответил: чтобы вот так же вприпрыжку мчаться по жизни и в шестьдесят шесть лет, и в семьдесят семь, да и в восемьдесят восемь – и чтобы просто-напросто не заметить момента, когда уже мчишь не по этому свету, а по тому.
2014


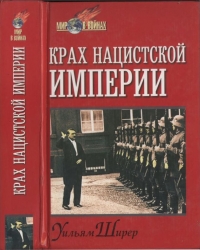

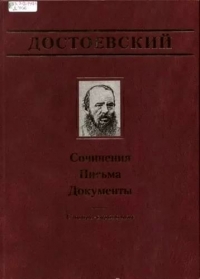
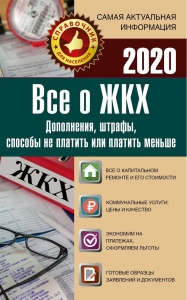

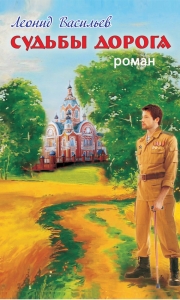
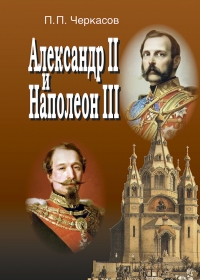
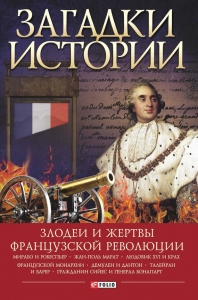
Комментарии к книге «Въездное & (Не)Выездное», Дмитрий Павлович Губин
Всего 0 комментариев