Инна Александрова Здесь всё – правда
Спорщики
На дворе год тысяча девятьсот сорок четвертый. Еще идет война. Идут похоронки. Но мои герои не на фронте. Один – по возрасту, но оба – потому что сосланные. Сосланы сюда, в Кокчетав, в Северный Казахстан.
Анатолий Маркович Левин – высококвалифицированный токарь-фрезеровщик. Работает на кокчетавском механическом заводе. Сослали из Ленинграда осенью тридцать седьмого. Сослан как троцкист и не расстрелян, не растерт в лагерную пыль только потому, что участвовал в Гражданской войне и даже имел боевые награды. В ссылку с ним поехала и жена Эвелина – бухгалтер, красивая статная еврейская женщина. Она оберегает Толю от всех житейских невзгод. Сын Ленечка, в тридцать седьмом – пятнадцатилетний мальчик, остался в Ленинграде: учился в специальном техникуме для глухонемых. В войну его убило осколком снаряда на заводе, где работал тоже фрезеровщиком. Узнав об этом, Эвелина поседела за одну ночь.
Еще до войны, в тридцать восьмом, Левины купили саманный домик и сделали к нему пристройку. Анатолий Маркович приходит поздно и очень вымотанный. Деньги, немалые, которые получает, даром не даются. Норму выполняет и перевыполняет.
Воскресенье – не всякое (в войну работали и по воскресеньям) посвящает чтению и походу в единственный в городе книжный магазин. Там оставляют ему книжки, которые могут заинтересовать. До войны книги присылал из Ленинграда и Ленечка. Потому к зиме сорок четвертого у Левиных – отменная библиотека.
Анатолий Маркович охотно дает нам читать: мы аккуратны. В качестве гостинца папа всегда несет ему четвертинку вишневой наливки, которую делает сам.
Когда бываем у Левиных, разговариваем очень сдержано: в пристройке живет Михал Михалыч Самсонов – высокий набрильянтиненый мужчина, сосланный из Ленинграда. Кто такой, не знаем. Эвелина пустила его только потому, что он – ленинградец. За что сослали, тоже не знаем, но то, что он стукач и сексот – сомнений нет. Да он этого и не скрывает, даже как-то выпячивает. Почему так делает – черт его знает. Может, специально. Скользкий тип. Я его очень боюсь. Появляется как кошка на мягких лапах в общей комнате, где мы сидим.
Мы тоже сосланные. Из-за отца. Из-за папиной немецкой фамилии. Из-за того, что в его паспорте в графе «национальность» стоит «немец», хотя немцем он никогда не был. Он – поляк. Мой дед, а его отец был варшавским мещанином, весовым мастером. В конце девятнадцатого века, женившись на православной мещанке Паулине, приехал в Уфу, где получил подряд. Мастером был хорошим и скоро вылез из полуземлянки в добротный деревянный дом. Здесь, в Уфе, родились и дети: Ванда, Эдвард, Бронислав и мой отец Александр. Бабка умела только расписаться, но была очень красивой.
Отца крестили в римско-католическом костеле Уфы, о чем до сих пор хранится свидетельство. Восприемниками были Малиновские. Поляки. Но на все это наплевали, начхали, когда в тридцать четвертом в Казани, при первой паспортизации, отец получал документ. Фамилия немецкая – значит немец. Хотя Ванда, сестра, записалась русской. Она, правда, к тому времени уже была замужем и развелась, но оставила фамилию мужа – Борисова. Братья – Эдвард – умер еще до революции от туберкулеза, Бронислава мобилизовал Колчак, когда его армия стояла в Уфе.
Отец окончил Казанский университет по химическому факультету. Работал на заводах, а теперь в Кокчетаве заведует лабораторией на Североказахстанской гидрогеологической станции. Сам в экспедиции не ездит – «невыездной». Да и анализы надо делать в городе, где находится аппаратура. Геологи ищут воду, которая в казахстанской степи очень ценится. Папа любит и уважает бесшабашное геологическое племя, знает от них сотни песенок, прибауток, побасенок, анекдотов. А станцией заведует умница и шутник Герман Альфредович Рейсгоф, настоящий немец, выпускник Московского университета. Ему по области ездить разрешается, и даже в Алма-Ату он выезжает с отчетами.
Время, о котором веду речь, – зима сорок четвертого. Еще идет война. А в область – Кокчетав стал областным центром – идут и идут эшелоны переселенцев с Кавказа: чеченцев и ингушей. Их выгружают из скотских вагонов и развозят по колхозам. Маме приходится бывать при выгрузке: страшно много больных. Да почти все. Без теплой одежды и горячей еды за долгий путь люди превращаются в головешки. Мама очень жалеет несчастных, но что может поделать: сама подневольная.
Мама – врач. В тридцать первом окончила Казанский университет. Окончила и ординатуру в Шамовской клинике. Только кому это нужно? Хотя нет: нужно. Людям нужно. Она и Дора Ароновна Нейман – единственные, к кому люди бегут за помощью, когда им плохо. На сопке есть еще двухэтажная деревянная больница, в которой царствует огромный усатый хирург Низамаев. Режет всех и всё. Не боится.
Мама – очень красивая. У нее, как говорят, лик Христа. Но она – хромая: врожденный вывих тазобедренного сустава. Ходит с палочкой. Поэтому ей дают лошадь с кошевкой. Утром лошадь подает конюх, вечером забирает. Днем мама ловко управляется сама.
Оршанская еврейка Белькинд, она в двадцать восьмом вышла замуж за отца и взяла его фамилию. Так что теперь и ей в паспорт всобачили штамп: разрешается проживать только в городе Кокчетав. А еще их с отцом заставили подписать бумагу, в которой сказано, что выезд без разрешения за пределы города карается тридцатью годами каторги. Все это сволочевство началось в сентябре сорок первого и продлится до января пятьдесят шестого, когда им дадут новые чистые паспорта. То есть за одно-единственное слово «немец» в паспорте отца они будут отбывать ссылку пятнадцать лет…
Ну да ладно. Все-таки не тюрьма, не лесоповал, не колония, а так называемое вольное поселение. И мы не голодаем. Кокчетав – не голодный город. Тот, кто работает и получает зарплату, – сыт. На рынок крестьяне привозят всё. Вот чеченцы и ингуши, не имея работы и денег, мрут как мухи. Но потом и они, оставшиеся в живых, как-то приспосабливаются.
Мама лечит всех от всех болезней, и знает ее, как и Дору Ароновну, весь город. Частичка маминого уважения достается и мне. Я учусь в шестом классе. Только что исполнилось тринадцать. Девица – ничего себе: метр шестьдесят ростом. Утром свободно приношу с озера четыре ведра воды на коромысле. А это – километр в одну сторону. Для чая и еды воду поставляет отец: у них на «хитростанции» есть артезианская скважина. Но папа задыхается: у него больное сердце. Пилить-колоть дрова ему тоже трудно, и я стараюсь это делать сама, когда он не видит.
Мама выезжает из дома в семь утра, возвращается в восемь-девять вечера. Да и какой из нее работник физического труда! Калека… Но врач – первоклассный. В отличие от Доры ее очень любят. Дора – злая и берет взятки. Мама никогда ничего: ни деньгами, ни натурой. Мы живем на зарплату и вполне укладываемся.
Я тоже стараюсь не посрамить родителей: учусь на «отлично». Книгами снабжает дядя Толя. День занят полностью. Никаких развлечений, кроме хрипатой тарелки радио. Не выключаю, даже когда делаю уроки: вдруг передадут что-нибудь важное.
Единственное развлечение – встречи с Левиными: одно воскресенье – у нас, другое – у них. На стол выставляется все, что есть. И мама, и Эвелина пекут пироги с картошкой, морковью, капустой. Как уже говорила, у Левиных разговоры ведем осторожные: боимся Михал Михалыча, стукача и сексота. А в нашей барачной комнате никого не остерегаемся: барак сложен из толстых бревен. Комната угловая и соседям ничего не слышно. По крайней мере, мы их не слышим и думаем, что и они нас тоже. А разговоры ведутся такие, за которые сажают. Но не говорить мужчины не могут: должна же быть хоть какая-то отдушина…
Дядя Толя – троцкист. Он – за всемирную революцию. Ненавидит Сталина. Папа тоже не испытывает к вождю никакого почтения, но дядя Толя – абсолютно нетерпим.
– Нет, ты скажи, Анатолий, за что же так ненавидел усатый Троцкого?
– За что? Да за образованность, за интеллект, за талант оратора, за то Троцкий был символом победы революции, за умение убеждать людей, за то, что еврей…
Ведь смотри: к двадцать седьмому году у Троцкого было уже собрание сочинений. Двадцать один том. А что у Сталина? Брошюрки. Потом, много потом свои «Вопросы ленинизма» Сталин тоже содрал у Троцкого.
Ненавидел Сталин Троцкого за то, что тот, а не он был главным в Гражданской войне, за то, что Троцкий, а не он был человеком революции. Послереволюционная демагогия Троцкого мало интересовала. Троцкий, именно Троцкий возглавил Октябрьский переворот, а Сталин был в это время где-то на задворках.
Ленин был вдохновителем революции, Троцкий – возмутителем, Сталин – лишь техническим исполнителем. Потому Троцкий был так популярен.
Спроси свою жену Женю – она была тогда комсомолкой, – кто знал Сталина? Да, никто. Знали Ленина, знали Троцкого. Могло ли это не злить усатого?
Кто был сторонником создания настоящей регулярной армии, включая военспецов? Троцкий. Сталин довольствовался партизанщиной. Кого ценили в международном рабочей движении? Сталина? Да его и не знали. Знали Ленина и Троцкого. За широту взглядов, остроту ума. Кто знал иностранные языки? Сталин? Кто грабиловской еще до революции занимался? Троцкий? Нет. Сталин устраивал в Тифлисе всякие экспроприации, а по сути – ограбления.
Сталин не умел хорошо выступать перед людьми, боялся их. Троцкий, наоборот, лез в гущу масс.
А разве не завидовал Сталин Троцкому потому, что Ленин лучше относился к Льву Давидовичу?
– Ты, Толя, так сладко поешь о своем кумире, что хоть венчик святого на голову и прямо в рай…
– Почему, Шура, сладко? Говорю правду. Как есть. Были, были, конечно, и у Льва Давидовича недостатки: и высокомерие, и заносчивость, и честолюбие, и категоричность, и нетерпимость. Он больше заботился об афористичности, образности, парадоксальности своих выступлений и писаний, но все это прощает главное: он горел революцией.
– Тогда скажи мне, дураку, Анатолий Маркович, почему не твой такой умный-разумный Лев Давидович, а Иосиф Виссарионович оказался на коне? Не знаешь… А я знаю. Потому что у Сталина были более изощренный ум и хитрость. По части хитрости усатый – сатана. Вот и обставил он твоего Троцкого, вот и дал ему коленом под зад так, что тот до самой Мексики долетел. А потом убил…
– Откуда знаешь, что он убил Троцкого?
– Господи! Какой же ты к… троцкист, если не слышал, что народ в сороковом году говорил. Конечно, не сам усатый из пистоля стрелял, но уж нашел способ… Так-то… В той кровавой схватке, что они вели за власть – именно за власть – все средства были хороши. Еще скажу тебе, мой разлюбезный троцкист: хоть Сталин, хоть Троцкий, хоть Ильич – пауки в банке. Всем нужна была только власть, а на людей, на народ – насрать, если по-простому выразиться.
– Хорошо, Шура. Что же по-твоему и революцию не нужно было делать? Тогда за что же я воевал в Гражданскую?
– Не знаю, не знаю, за что воевал. Знаю только, что море крови пролилось, а это – против естества, против Бога. Ненавижу все войны…
– Шура, ты – человек верующий и за то тебя уважаю, хотя сам – нехристь. Но скажи, скажи, разве можно было так жить, как жили мы при Николашке? Я ведь родился и жил в черте оседлости. Почему? За что? Разве евреи годны только для черты оседлости? Разве они чем-то хуже русских и иных?
– Нет, Толя. Евреи – умный и способный народ, давший миру тысячи известных имен. Ты знаешь, я – не антисемит. У меня жена – еврейка. Но сколько бы ни уверяли российского человека, что евреи – хорошие, он все равно будет держать их на расстоянии. Антисемитизм был, есть и будет в крови, а потому еврей никогда не сможет стать у нас лидером государства. Почему? Тому есть много причин. Не хочу в них вдаваться: очень глубоко придется лезть. Ну, а на поверхности то, что евреи распяли Христа. Хотя сам Христос и Дева Мария были евреями. Твой же Троцкий этого не понимал или не хотел понимать.
Да разве у нас только евреев ненавидят? За что я сейчас страдаю? За что в ссылке? За единственное слово – «немец».
– Но, Шура, мы с немцами воюем.
– Мы, Толя, не с немцами воюем, а с фашистами. И их, как и ты, я ненавижу всем своим существом. Это тоже надо понимать. Не может быть плохих и хороших наций. Есть плохие и хорошие люди, плохие идеологии, с которыми следует бороться. А воевать из-за того, что один – немец, другой – поляк, третий – еврей – безумие. Пойми, любая война – безумство. А проклятые политики развязывают это безумство, не желая, не умея договариваться. А уж Гражданская война, в которой ты участвовал – двойное безумство. Так я тебе, дорогой друг, скажу.
– Шура, но почему, почему люди идут на это безумство?
– От нетерпимости, Толя, от нетерпимости. Люди разных наций, разных вер – инакие. Другие. А для большинства инакий – враг. Вот и звереют. А еще хотят у инакого кусок пожирнее отхватить. Почему? Да потому, что не существует для людей божьих заповедей, хотя повесили, надели на себя атрибуты веры. А души-то – пустые. Совсем пустые. Вот зверь в них и просыпается. И зверь этот так и шепчет: изведи, изведи, изведи этого… Он – инакий…
– Шура, ты умный.
– Да какой я умный. Так, думаю иногда. Умный тот, кто без всяких «диктатур пролетариата» докажет людям, научит их не проливать кровь, уметь договариваться, не рвать друг у друга из глотки кусок…
Любая революция создает иллюзию, что можно сразу ликвидировать жизнь плохую, старую и открыть двери для новой. Не-е-т, дорогой Анатолий Маркович, так не бывает. Каноны, вбитые в человека, сидят глубоко. И чем больше из него хотят вышибить старое, тем сильнее он сопротивляется. Должен быть только постепенный путь, когда человек сам приходит к определенным выводам. А кровавая резня – горе, страшное горе для всех, в том числе и для тех, кто хочет встать «над».
Во время революции происходит суд над злыми силами, но судящие сами тут же творят зло, и зло это оборачивается против них же. Потому твоя советская власть, Анатолий Маркович, – сатанинство, какого мир еще не видел, и я ненавижу ее…
Мама и Эвелина шикают на отца, но его тоже уже нельзя остановить, как и Левина, обеляющего революцию и своего кумира.
Сорок четвертый год. Война. Дядя Толя, старше отца на десять лет. Уже непризывной. А папа страдает, очень страдает, что не на фронте, что не защищает свою землю. Не власть. А землю. Страну. Сознание, что он – изгой, выматывает его душу, его больное сердце. Пробыв пятнадцать лет под гнетом, отец умирает в одночасье, на работе, на пятьдесят втором году. В последний путь провожает его весь город, а мужественные, несентиментальные геологи плачут навзрыд. Люди чувствуют, понимают в нем добро.
Левины, как и родители, освобождены в пятьдесят шестом и, продав домик и библиотеку, уезжают на юг – в Евпаторию. Папа тоже мечтал о береге Черного моря, но остался лежать на кокчетавских сопках – там было кладбище. Есть ли оно сейчас – не знаю. Из-за старости и болезней не была давно.
Моя неволя приходит в июле пятидесятого. Они являются в два часа ночи и приказывают идти в комендатуру. Проштамповав паспорт и заставив, как и родителей, подписать бумагу о тридцатилетней каторге, если нарушу режим, отпускают, но проклятие с явками к ним по ночам каждые десять дней продолжается до января пятьдесят пятого, пока однажды, сделав удивленными глаза, не говорят: непонятно, как так глупо можно обижать передовую советскую молодежь…
Почему пригрезился этот кусочек жизни? Не знаю. Наверно, потому, что еще болит, очень болит и, когда стареешь, на ум приходит только прошлое. А потом во многом прежнее смыкается с нынешним. Житуха в России в лучшую сторону мало в чем изменилась.
2009 г.
Мои поляки
– Тетушка, милая, как рад, что снова у вас, в Москве.
– Ты откровенно?
– Конечно. Вы же очень близкий мне по духу человек. И друзей в Дубне люблю. Они всегда встречают приветливо.
– Может, чувствуют в тебе русскую четвертинку. Бабча Настя, мама твоей мамы, была православной и русской. Дочкой священника. А я – половинка. Одна половинка, отцовская, – польская; вторая, материнская, если назвать, – гремучая смесь получится. Потому лучше умолчим.
Кшисик, ты – мой любимый племянник, умница, физик-теоретик. Тебе, к сожалению, уже тоже немало – пятьдесят три. Скажи, что делается с людьми? Почему их можно настроить чёрте на что, почему начинают ненавидеть друг друга и даже воевать? А ведь война – это безумие. Это адский, никому не нужный труд. Это разрушение всего того, что созидалось.
– Тетя, если вы имеете в виду то, что творится у нас, могу сказать: у правителей голова поехала. Какая-то идиотская русофобия. Они впали в тяжкий грех и глупость, видят в России абсолютное зло и главную виновницу того, что не удалось стать ни великой европейской державой, ни империей от Балтийского и Черного морей до Урала.
– Кшисик, но поляки – по крайней мере правящая элита – действительно, кричат, что русские накануне Второй мировой вели двуликую политику, в результате чего им не удалось использовать антигитлеровскую коалицию до первого сентября тридцать девятого года, когда немцы вступили в Польшу. Однако теперь расшифрованы документы, доказывающие, что еще в тридцать пятом – тридцать седьмом польский маршал Рыдз-Смиглы ездил на переговоры с нацистом номер два – Германом Герингом, и они договорились выступать единым фронтом против России: им был страшен не только большевизм, но и Россия как таковая. У них была цель – дестабилизировать внутриполитическую обстановку в СССР через работу с национальными элитами, которые эмигрировали из страны. То есть, с точки зрения польского Генштаба, борьба с Россией была одной из приоритетных задач. Полякам нужно было, чтобы Россия распалась на «национальные элементы и племена».
– Тетушка, у поляков, начиная уже с одиннадцатого века, когда польский князь Болеслав овладел Киевом и другими русскими городами, а Ярослав Мудрый через несколько лет его изгнал, начался какой-то дурной бред. При Иване Грозном воевал с русскими Стефан Баторий. В семнадцатом веке уже Россия воевала с Польшей за Украину и Белоруссию. Потом поляки участвовали в Армии Наполеона. А разделы Польши в восемнадцатом веке? Подавление уже русскими восстаний поляков в тридцатые годы девятнадцатого века и в тысяча восемьсот шестьдесят третьем. А двадцатые годы прошлого века! В общем, борьбы и крови хватало с обеих сторон.
– Кшисик, но ведь во Второй мировой поляки и русские сражались рука об руку.
– Они воевали с фашизмом, который ненавидели одинаково. Это правда. Во Второй мировой был один агрессор – гитлеровская Германия и ее союзники. Враг был ясен, понятен и русским, и полякам. Но тесного братания все же не произошло. Все равно между нами была какая-то преграда. Вы, русские, молодцы: давно простили немцев за все жертвы, и у вас теперь с ними прекрасные отношения. А поляки никак не могут освободиться от греха озлобленности против вас да и против немцев. Это плохо. Очень плохо. Со злобой жить нельзя.
– Кшисик, за что же конкретно винят нас поляки? За те, далекие, времена?
– Может, не так за те далекие, сколько за вмешательство в польскую жизнь после войны и особенно в декабре восемьдесят первого – во время правления Ярузельского, когда было введено военное положение. Поляков это очень разозлило. До сих пор не могут простить Ярузельскому и ведут против него судебный процесс. Но ведь если бы Ярузельский не ввел военное положение, судьба Польши была бы решена военной силой. Брежнев открыто об этом заявил. Экономика Польши была на грани краха. Советы отказали бы в газе. Нам было прямо заявлено: если вы соцстрана – поможем, если нет… А мы знаем, чем окончился переворот Юзефа Полсудского в тысяча девятьсот двадцать шестом или неподготовленное Варшавское восстание в сорок четвертом. Нет, введение военного положения тогда, в восемьдесят первом, было вполне оправдано.
Между Польшей и Россией вообще много разногласий на всех уровнях, много злобы, но на эмоциях нормальных отношений не построишь. Думаю, разные страны не могут одинаково воспринимать историю. Однако это не должно мешать им жить в согласии. Тем более, если соседи. Польша тогда, при Ярузельском, искала свой, третий, путь. И даже ваш Горбачев назвал ее «лабораторией реформ».
– Ну и что? Нашла этот путь?
– Полагаю, нет. Пока ее раскачивает из стороны в сторону. До чего докачается – не знаю.
– Кшиштоф, а что сейчас представляет собой польское общество?
– Оно страшно разобщено и поляризовано. С одной стороны – богатеи, с другой – бедняки. У нас появился класс или слой людей, которые позволяют себе жить, не считаясь с тем, как живет простой народ. Это аморально, нагло, вызывающе. Тем, кто остался честным, нет благополучного места. В обществе властвует культ денег.
– То же самое, дорогой племянник, и у нас. Ушли из жизни великие русские интеллигенты – Лихачев, Солженицын; нет ни одного учреждения, которое занималось бы людской совестью. В школах русская литература преподается на таком уровне, что для совести места не осталось. Везде – компьютеры, информатика, а о совести забыли. Совестливым стало быть невыгодно.
Да, все хочу спросить, что знаешь о своем дяде Брониславе, моем двоюродном брате и брате твоей мамы?
– Мама говорила, что когда они еще до войны, в войну и после войны жили в Вильно, дядя Бронислав, прекрасно учившийся в русской гимназии, был очень активным. Позднее, когда немцев выгнали из Вильно, он вступил в Армию Крайову, которая, как известно, формировалась в Лондоне. Было ему в ту пору пятнадцать лет. Сорок четвертый год. Пришли Советы, и НКВД не дремало. Бронека и еще таких же мальчишек, вступивших в Армию Крайову, арестовали, сослали в Магадан. Дедушка Бронислав и бабушка Настя долго о нем ничего ни знали, а потом ему разрешили переписку.
– Сколько Бронек пробыл на Севере? Что делал?
– Возил на грузовике урановую руду. Никакой защиты, конечно, не было. И продолжалось это десять лет. Только после смерти Сталина его освободили, и он приехал уже не в Вильно, а в Щецин, куда переселились дед, бабка и моя мама. Стал работать переводчиком с польского на русский и обратно. Поступил в Познаньский университет на юридический факультет. Историю знал хорошо и вообще был очень способным.
– Когда мы с мужем в семьдесят девятом впервые приезжали в Щецин, Бронек был в городе самым известным дипломированным переводчиком.
– В Магадане ему пришлось много пережить, и уже тогда у него начали болеть ноги. Так от непонятной болезни и умер. Хотя почему непонятной? Урановую руду возил без всякой защиты. В Швейцарии, куда привезла его Ганка, жена, на лечение, так и сказали: облучился… Процесс шел медленно, но верно. Когда стало совсем худо, Ганка все предприняла, только ничего не помогло. В пятьдесят три года отдал Богу душу…
– Кшисик, а почему твоя мама, моя сестра, не любит католиков?
– Потому что православная. Бабча Настя была православной, и она православная. А еще потому, что у мамы во время войны было сильное переживание.
В детстве она была похожа на еврейку, хотя к еврейству не имела никакого отношения. Было это еще в Вильно. Бабча Настя послала ее в очередь за хлебом. Проходили мимо полицаи. Поляки. В очереди начали кричать: «Жиде! Жиде!», показывая на маму. Полицаи подошли. Мама стала плакать и говорить, что она не еврейка. И тогда два здоровенных мужика заставили ребенка плюхнуться коленками в кашу снега и читать «Отче наш». Этого мама не может простить полякам и католикам, хотя сама – полурусская, полуполька. Вот так складываются у людей национальные неприязни…
– Кшисик, ты знаешь, как я нашла всех вас, свою польскую родню?
– Знаю, но не совсем.
– Твой прадед, а мой дед Ян в конце девятнадцатого века приехал в Уфу на заработки. Для варшавского мещанина поляка Яна Уфа считалась тогда Сибирью. Устроился весовым мастером на Самаро-Златоустскую железную дорогу. Получил подряд. Из полуземлянки, где поселился с православной женой и дочкой Вандой, быстро перебрался в собственный добротный деревянный дом. Потом построил еще один. Трудился день и ночь. В Уфе родились и твой дед Бронислав, и мой отец Александр.
Ян ревновал жену страшно: был старше на восемнадцать лет. На религиозной почве их тоже почему-то мир не брал. Короче, в семнадцатом, когда началась революционная заваруха, уехал обратно в Польшу, в Вильно. Вильно было тогда польским городом. Твоя прабабка, а моя бабка, осталась с детьми одна. Бронислав только-только окончил гимназию и его мобилизовали колчаковцы, стоявшие тогда в Уфе. Но недолго пробыл он в белой армии: уехал в Вильно к отцу. Поступил в университет, выучился на юриста. Так в Вильно и остался. А когда после войны город стал литовским, всем полякам предложили убираться. Вот и поехали они на новые земли в Щецин – бывший немецкий Штеттин, отошедший полякам, как Кёнигсберг – русским. Все «неприкаянные» поляки хлынули на новые земли: ехать-то больше было некуда…
На эти же земли приехали и мои друзья по Айдабулу. Это Северный Казахстан. И Юзеф Вашкевич, и Бронечка Войтак, и я были сосланными. Их отцов расстреляли в Катыни.
– И как же ваша Бронечка относится к русским?
– Нормально.
– Но как, как можно это простить? Взяли более четырех с лишним тысяч польских офицеров, разоружили – люди, поляки, тогда ничего не знали, не понимали. Они ведь не воевали против русских. Поместили в лагеря, а потом пустили им пули в затылок. За что? За то, что поляки? Ведь эти четыре с лишним тысячи были цветом польской нации, польской интеллигенции. Там были не только военные. Там были одетые в офицерские мундиры инженеры, врачи, учителя, ученые. За что их-то?.. За какие прегрешения?
– Кшисик, подожди, не горячись. Понимаю твою боль, негодование, но в Катыни не русский народ расправлялся с польским народом. Русский народ и слыхом не слыхивал весной сорокового о сотворенном зле. Всё скрывалось. Эта трагедия была содеяна по указанию Сталина в тайне от русского народа. И сотворили ее войска НКВД по личному указанию проклятого сатаны. Катынь – трагедия всех жертв сталинизма. Ведь там, кроме четырех с лишним тысяч поляков, лежат восемь с половиной тысяч русских, расстрелянных еще в тридцатые годы. Катыньский лес, катыньские исполинские сосны выросли на их костях.
– Тетя, понимаю и вашу боль. Но это – ваше внутреннее дело. Там, тогда русские уничтожали русских. А за что, за какие грехи русские энкавэдэшники стреляли в затылок полякам? Войны же никакой не было. А потом всё свалили на немцев. Как-будто немцы это сделали. А немцы весной сорок третьего первыми на весь мир прокричали о зле, хотя лапы их в то время тоже были по локоть в крови…
– Кшисик, конечно, это правда. И нет никакого оправдания сталинскому тоталитарному режиму. Но во время войны поляки – Армия Людова – воевали рядом с русскими против нацизма. Об этом забывать не следует. Войны, захваты чужих территорий – подсудные, несовместимые с божеской моралью явления. И не дай Бог, когда это происходит. Но надо уметь прощать. Иначе жить невозможно.
– Не знаю, тетя, не знаю… А теперь эта авиакатастрофа… Опять погибли первые лица нашего государства. Опять Катынь забрала у Польши ее лучших людей…
– Но, Кшисик, самолет ведь был польский. Управляли им поляки. Они принимали решение. Туман был густой и человеческий фактор…
– Да, тетя. Да. Но проклятое место. Проклятое…
– Всё во власти Божьей, Кшисик. Все в его воле… Хочу вот что еще сказать. Юзеф Вашкевич – романтик и поэт – через двадцать восемь лет решил съездить в Айдабул. Там и узнал, где я живу, там дали ему мой адрес. Возвращаясь обратно через Москву, «отбил» телеграмму. Встретились в аэропорту. Рассказал о Бронечке, с которой сидели за одной партой и которая до сих пор поет русские песни. Броня, жившая в Щецине, и нашла вас. До сих пор не переписываемся – сил уже нет, – а перезваниваемся регулярно. Это очень дорогие для меня люди…
– Тетушка, вы верующая?
– А ты?
– Я, хоть и ученый, физик, а верю в нечто, что выше всего земного. В костел, правда, хожу редко. Каюсь. Но по-своему верю.
– Вот и я, Кшисик, по-своему верую. В чем смысл жизни? Спасти свою душу. Подготовиться к вечности. Господь создал камень, а поднять не может. Камень – это человек. У человека есть свобода выбора. Человек сам выбирает. Потому Господь и послал ему искушения.
Быть христианином во всех житейских проявлениях очень важно, но не до забвения, не до слепоты. Церковь сама должна идти к самым несчастным, к потерявшимся и растерявшимся. Помогать по-всякому: и словом, и делом. И общество призывать к такой помощи.
– Полностью с Вами согласен.
– Мы очень близки духовно, Кшисик. Хочу тебя спросить.
– О чем?
– Ты вот говорил, что в Дубне тебя хорошо принимают. Есть друзья. Русский знаешь прекрасно. Может, стоит переехать из твоей Варшавы в Дубну? Это ведь рядом с Москвой. Были бы все вместе. Твои женщины – жена и подруга – дуры. Не сумели оценить тебя по достоинству. Теперь ты свободен. Сын – взрослый. Ловит в лесах своих польских волков. Так, может, стоит перебраться? И мама твоя, думаю, была бы рада. После смерти мужа ей живется очень тоскливо, особенно, когда ты месяцами торчишь в Женеве, где база для опытов. Она об этом все время говорит мне по телефону. Нас мало осталось, и надо жить «в кучке». Знаешь, как сказал поэт?
Старость тем хороша, что не надо ходить к гадалке:
Жизни мало осталось и эти остатки жалки.
– Тетушка! Дорогая! Вы и сейчас, и много раньше спокойно могли бы уехать в Израиль. Вас бы там приняли. Вы это сделали?
– Нет.
– Почему?
– Ну, как могла переехать, если муж – русский, православный, юрист. Что бы он там делал? И вообще, тоска заела бы без нашей…
– Так и я. Я – поляк. И этим все сказано.
– Так что? Yeszcze Polska nie zginela? [1]
– Именно так. И Россия тоже…
2010 г.
Исповедь
Я – Евгения Вернер. Мне двадцать семь лет, и я следователь в одном из районных отделов милиции. Почему стала следователем? Да потому, что начиталась детективов и в семнадцать лет, окончив школу, ни о чем другом и думать не хотела. Желала только ловить и изобличать преступников путем хитроумных умозаключений. Дура, чертова дура. Подправить, подсказать, доказать, запретить было некому. Тетку, мать, бабушку в расчет не брала – женщины…
Сама, без всяких блатов и помощи, сдала экзамены в милицейскую Высшую школу, что на Юго-Западе Москвы. Взяли еще и потому, что в совершенстве знаю два языка – немецкий и английский. Всё – благодаря любимой тете Люсе. Но о ней чуть позже.
Училась хорошо. Было интересно. Розовый цвет преобладал. Даже в страшном сне не могло присниться то, с чем столкнулась в действительности. Так как не было никакой «мохнатой» руки, распределили на самый низ. Первое звание – младший лейтенант. Но сразу назначили следователем. Должности помощника следователя в отделе не было. Меня опустили в самую грязь, в которой и сижу по сию пору.
Что представляет собой наша «крысоловка»? Комната метров двадцать – двадцать пять. Два стола – справа и слева, два шкафа, два сейфа. Посередине большое зарешетченное окно. Третьяков – «коллега» – сидит справа. Работает с применением всех «способов». Сразу оговорюсь, никаких нижеперечисленных «способов» я не употребляю, потому со стороны «коллег» ко мне соответствующее отношение.
Самые простые «способы» – приковка допрашиваемого подозреваемо-го наручниками к стулу. Ему надевают на голову старый противогаз. Этот «способ» называется «слоник» – по аналогии с хоботом слона. Или завязывают на голове целлофановый пакет. Называется «магазин». Прекращают доступ воздуха. Человека начинают избивать или трясти, чтобы вызвать учащенное, убыстренное дыхание.
Могут подвешивать и связывать в какой-то неудобной позе. Например, в позе «ласточка». Руки жертвы сковывают за спиной, пропуская под цепью наручников металлический прут или трубу, жезл гаишника, дубинку. Человек висит, не касаясь ногами пола, а сотрудники милиции избивают его или раскачивают, тянут в разные стороны.
Иногда кладут лицом на пол и веревкой подтягивают ноги к рукам, скованным за спиной наручниками. Это вызывает резкую боль в суставах. В позе «конвертик» жертву усаживают головой в согнутые колени и привязывают ноги к рукам. Однажды после «ласточки» у задержанного оказалась сломанной рука.
Постоянно идет «пресс-хата», то есть угроза изнасилованием, убийством, опусканием на зоне, припаиванием каких-нибудь серьезных преступлений, которых задержанный не совершал. Причем, угрожают не только задержанному, но и его родственникам.
Для несовершеннолетних есть пытка «хавка». Угощают к пиву сухариками, полосатиком, много дают воды, а посетить уборную запрещают. Очень часто задержанный описывается. Тогда его заставляют мыть весь кабинет, а то и все помещение ОВД. Однажды следователи напились, забыли, что надо помыть комнату, уборщица отказалась. Пришлось мыть самой, так как на утро должна была быть прокурорская проверка.
Ну, а самое распространенное – даже для свидетелей – засовывание между пальцев карандашей или ручек. Сжимают пальцы и крутят в одну и другую стороны. У гелиевых ручек поверхность ребристая, пытка получается болезненной.
Господи! Смотреть и слушать эти крики невозможно, но человек – такая скотина, что привыкает ко всему. Я сижу и работаю с задержанным. Мой подозреваемый весь скукоживается, но я его и пальцем не трогаю. Только словесно пытаюсь доказать, что следует расколоться, выложить всё, как есть. Действует. А пальцем не даю никому до него дотронуться. Потому «коллеги» презрительно называют меня чистоплюйкой.
Так зовут еще и потому, что не беру взяток. Не потому, что деньги не нужны. Нужны и очень. На одни лекарства тете Люсе летят тысячи. Не беру принципиально. Не хочу мараться в дерьме. Потом презирать и ненавидеть себя. Остальные берут, да еще как. Вымогают.
В отделении, где работаю, пять человек. Возглавляет Утконос – Паршин. Утконосом называют потихоньку, про себя. У него точно утиный нос, а кончик всегда красный с каплей на конце. Ненавистная, отвратная рожа. «Коллеги» отстегивают ему от своих взяток. Я, конечно, ничего не даю, так как сама не беру. А потому, хотя дослуживаю пятый год, лишь старший лейтенант. Капитана не дает. В открытую говорит: «Плати деньги…»
Третьяков, что сидит рядом, маньяк и мучитель. Уже говорила о пытках, которые применяет. Гад, которых свет не видывал. Стараюсь общаться как можно меньше. Знаю, что есть у него сын. Однажды попросил перевести с английского какой-то текст. Сказал, для сына.
Савостин и Поребрий, что сидят в соседнем кабинете, тоже применяют пытки. Сама видела. Вот такое «замечательное» общество окружает. И так изо дня в день…
Обедать хожу в соседнее кафе. Хозяин – азербайджанец. Меня обслуживает сам. Знает, что всякий раз беру одно и то же: борщ и котлеты по-киевски. Ни разу тухлым не накормил. Уважительно называет по имени и отчеству. Как зовут, наверно, узнал от наших. Они тоже к нему ходят. Спиртного им не подает: не держит.
Часто приходится иметь дела со скинхедами. Кто-то говорит, что это просто юнцы, которые выпили и кому-то набили морду. Так не думаю. Ими управляют взрослые, которые знают, чего хотят. А хотят, чтобы многонациональная, многоконфессиональная Россия была только для русских. Об этом пишут и несут свои лозунги. Но так в многополярном мире быть не может. Если рядом с тобой живет человек и он – не русский, его нельзя мучить и изничтожать. Он, как и ты, имеет право на жизнь и блага. Иначе и русского будут так же мучить в чужом обществе.
В России нет федерального органа по делам национальностей. А с помощью одной милиции эту проблему не решить. У нас нет внятной национальной политики. Разве президент, правительство что-то понятное об этом сказали? Наверно, выгодно существующее положение. В мутной водице много чего можно наловить…
Воров, преступников – ненавижу. Но при допросах никогда не применяю пытки. «Коллеги» подсмеиваются – чистоплюйка. Мучить человека – грех, и никогда до этого не опущусь. Использую словесные допросы. Добиваюсь признания словами, вожу по кругу, но бить, пытать – увольте.
В последние годы очень обнаглели барсеточники. При уходе от милиции даже отстреливаются и нередко ранят милицейских. Если раньше, разбивая стекла в машинах, крали только сумки, то теперь предпочитают настоящие разбойные нападения. Практически все – нелегалы. Живут на съемных квартирах. В последние два года, кроме грузинских банд, стали появляться армянские да и славянские.
Боюсь и ненавижу войны. А потому считаю: обеспечение безопасности на Земле – не абстрактная дипломатическая задача, а абсолютно практическая. Мы, люди, должны находить способы разрешать противоречия, которыми мир раздираем. Мы же и в семьях часто не можем найти согласия. Злы, злорадны, завистливы, человеконенавистны. Потому друг в друга стреляем, делаем подлости, пыряем ножами.
Как, как Господь на всё это смотрит? Не знаю. И отец Александр, мой духовник, ответа не дает.
Очень уважаю его. Он – бывший половник милиции. Кандидат юридических наук. Работал в Академии управления МВД. Потом случилось горе: подонки выбросили из электрички – на ходу – его единственного сына. От мук и переживаний пришел к религии. Окончил вечернее отделение духовной академии. Теперь служит в храме.
Спрашивала, что делать: продолжать постылую, богонеугодную службу или уйти. Он советует однозначно, поскольку сама, своими силенками ничего в органах изменить не могу. Всё надо начинать с головы – сверху.
В зле и паскудстве не следует участвовать, а молись, не молись – гады не изменятся. Тут нужно что-то радикальное.
Проработав почти пять лет в легавке, пришла к выводу: очень многих держат в тюрьме зря. Многие совершили неправомерные деяния на копейку, а засудили их на рубль.
Ведя следствие, все время помню: люди, если они люди! должны уметь прощать и жалеть.
Наиболее частое ощущение, которое возникает, жалость. Конечно, не ко всем. Это, наверно, потому, что все конечны, хотя, согласно церковным канонам, все попадем в ад или рай.
Очень жалею своих близких – маму, тетю, отца. Помогаю, чем могу. Только могу немного.
Президент говорит, что сталинизм не возвратится в нашу жизнь. Лукавит дорогой, лукавит. Если порыскать внимательно в Интернете, то сталинизм разгорается ярким пламенем. Очень даже многие его приветствуют.
При Сталине не жила, но то, что знаю из серьезных книг, Сталин – дьявол, злой гений нашего народа и государства.
Не везет, не везет нам на правителей. Наверно, хороших не заслужили. Сами очень злобны и завистливы.
Нынешние раскольниковы убивают не морщась, без лишних рефлексий и уж, конечно, без раскаяния. У отечественных Ротшильдов, добывших огромные деньги через грандиозные надувательства, совесть не болит и сердце не дрожит. Никто не хочет помнить слов Солженицына о «зверском племени алчных грязнохватов». Нас приучили, что можно жить и по лжи. Если Бога нет, как говорили, всё дозволено.
Очень уважаю и люблю своих стариков – Владимира Ивановича и Ирину Абрамовну. Они тоже помогают мне жить, помогают разбираться в самых сложных вопросах. Не зря же Владимир Иванович – профессор.
Познакомились случайно и подружились. Страдаю от того, что им, бездетным, мало чем могу помочь – физически. Нет времени. Но они держатся, карабкаются, хотя и старенькие.
Тоже советуют, как можно быстрее, уйти из зловонного болота. Но где найти работу? Всё не так просто. Конечно, хорошо знаю языки – английский и немецкий, но диплома-то нет. Тетя Люся, прекрасная переводчица, вымуштровала меня как надо. И сейчас дома не говорит со мной по-русски. Но «корочек»-то нет. А их везде требуют. Идти сейчас куда-то за этими «корочками» невозможно: нужны деньги и немалые.
Отдыхаю только дома в Интернете. Глаза посадила совсем. После допросов очень долго «отписываюсь»: сильное напряжение. Прихожу не раньше девяти-десяти вечера. Сижу в Интернете до часа-двух. Но Интернет – выход из зловония, в котором работаю. Без этого не могу. Много читаю по-английски и немецки.
Квартирёшка наша совсем захудалая. Нужен ремонт, но, это тоже невозможно из-за лежачей тетки и… нет денег.
Занимаю со своим компьютером маленькую комнату. Мама с тетей – в большой. В ней больше воздуха. Когда мама на сутках, все приходится оставлять тете на тумбочке в термосах. Слава Богу, появились пластмассовые туалеты. Приятного мало, но… выход.
Живем на две наши с мамой зарплаты и теткину пенсию. Выкручиваемся. Очень дорого стоят лекарства.
Тетя Люся – старшая мамина сестра. Умный, образованный человек, прекрасно знающий два языка – немецкий и английский. Окончила институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Работала в Министерстве иностранных дел. Замуж не выходила, детей не имела. Помогала растить меня. Переводчица первоклассная. Работала когда-то с очень солидными людьми. А теперь, как сама говорит, превратилась в труху. Плачет. Просит отдать в интернат для хроников. Но разве мы можем себе это позволить? Уже больше года едва доходит – с нашей помощью – до туалета. У нее грыжа Шморля. Это болезнь позвоночника, когда ноги совсем отказывают.
В том, что знаю языки, только ее заслуга. Целый день она, бедняга, одна. Читает или вышивает крестом настоящие картины. Дарим знакомым. Иногда этим расплачиваемся.
Ах! Тетя Люся, тетя Люся… Всего-то ей пятьдесят шесть…
Я – полукровка. Отец – немец. Но немец не немецкий. Наш, из-под Караганды. Родился в пятьдесят пятом. Ему пятьдесят семь.
Снюхались они с матерью где-то у знакомых на вечеринке. Оба уже работали. Отец – на фармза-воде имени Семашко на Таганке, мать в конструкторском бюро на Соколе.
Родился отец в поселке под Карагандой у Амалии Карловны и Августа Ивановича Вернеров, которые были учителями в поселковой школе. Август преподавал математику и физику, Амалия – химию и биологию. В сорок первом оба были высланы из Саратова как представители немцев Поволжья. Сталин с Молотовым выселили тогда всю республику.
Жили в бараках, питались кое-чем, но были молоды и сильны, надеялись на лучшее, а оно не торопилось приходить. Саша, Александр, мой отец, рос умным и послушным, очень любознательным. Однажды, сильно заболев и выздоровев, уверовал в медицину и сказал, что, когда вырастет, станет изобретать новые лекарства, чтобы спасать людей. Умный, талантливый мальчик. Учился хорошо, а особенно родители натаскивали его по физике, химии и биологии. Знали, что пригодится, если попытается поступать в институт. И… как в воду смотрели. В семьдесят втором Саша поехал из своего карагандинского поселка не куда-нибудь, а прямо в Москву, в мединститут на фармфакультет.
Сдал прекрасно. Родители не зря старались. Принимающие даже спросили, где такую подготовку получил. Дали место в общежитии. Институт закончил с красным дипломом. Был распределен на завод имени Семашко. Дали даже московскую прописку и крохотную комнатенку в коммуналке на Солянке. Теперь этот дом снесли. В эту комнатку он и привел мою мать – Марину Владимировну Кузнецову, ставшую его законной женой. В этой комнатке и меня зачали.
Началась перестройка. Немцев стали выпускать за границу, и Вернеры тоже решили уехать. Что было терять? Барак под Карагандой? Коммуналку на Солянке? Это случилось в девяностом году. Мне исполнилось шесть лет, и я жила у бабушки и тети Люси. С родителями общалась только по субботам и воскресеньям, когда они не работали и приезжали к нам, в нашу двушку, где теперь живем втроем: я, мать, тетя Люся.
Отец сказал матери, что вызовет нас с ней в Германию, как только устроится. Маму он любил. Она до сих пор еще очень красивая.
Через два года он, действительно, прислал вызов – ведь они с мамой были в законном браке. Но мать не пожелала ехать. К этому времени связалась с Василием – Василием Максимовичем Коршуновым, который работал где-то каким-то снабженцем. Как говорила тетя Люся, – доставалой. У матери появились красивые вещи, наряды. Василий был, конечно, женат, но перешел к матери. В комнатке на Солянке ни он, ни мать не были прописаны.
Отъезд в Германию не состоялся. Я по малолетству и глупости не очень понимала и не печалилась. Мне было хорошо и с тетей Люсей, с бабушкой. Обе были еще здоровы.
Отец не женился, но сделал карьеру. Считаю, прекрасную. На сегодняшний день – ведущий менеджер одной из фармфирм в Гамбурге и владелец аптеки в Любеке, где приобрел дом на три спальни с гостиной и кухней. Конечно, машина.
В один из своих приездов к нему спросила, почему не женится. Ответил: «С твоей матерью не разводился и люблю ее. Мне, кроме тебя и ее, никто не нужен». Хотя, по-моему, какая-то подружка у него все-таки есть. С кем-то он меня знакомил.
Таков мой отец – Александр Августович Вернер – умный, преуспевающий немецкий бюргер.
Мать – легкомысленная, не очень умная женщина и, как говорят в народе, слаба на передок. Красивая. Окончила МАИ, где было много ухажеров, но все как-то растворились. А отец, видимо, покорил ее своим умом и основательностью. Так держалась бы за него, а она – порхала… Дура, прости меня, Господи. Хотя о матери так нельзя говорить.
Бюро, где работала, в перестройку развалилось. Устроилась этажной дежурной в захудалой гостинице, где пребывает до сих пор. Всё, что знала, наверно, забыла. Кто, куда теперь ее возьмет? Вкалывает летом, в отпуске, на даче, возится с нашей собачонкой, крутит компоты.
Бабушка Клава, ее и тети Люси мать, сгорела буквально за три месяца от рака желудка. И операцию делали, но спасти не удалось. Бабулю очень любила. От нее, от ласковых ее глаз и рук во мне все доброе, что есть. Ну, и, конечно, тетя Люся. От этой – интеллект. Она перетаскала меня в детстве во все московские и загородные музеи, во все театры. Благо, возможности были. Зарабатывала хорошо. Вот только от легавки, от Высшей школы МВД, не смогла уберечь. Я, как помешенная, бредила работой по поимке преступников, а получила то, о чем уже рассказала. Не понимала дура, что для этого надо было быть мужиком, а главное – иметь «мохнатую» лапу и деньги. Ничего этого у нас не было. А тетя Люся готовила меня в институт Мориса Тореза.
Недавно с отцом случилось несчастье. Утром, по дороге из Любека в Гамбург, на него наскочил какой-то обкуренный юнец. От компаньона отца получила факс о немедленном выезде. Я – единственная наследница отца.
Он лежал полутрупом, но, увидев меня, превозмогая боль, все-таки улыбнулся. Кое-как склеили его в гамбургской клинике. Теперь восстанавливается. Но ходит с костыльком. Ухаживает за ним женщина – нанял. И уже вовсю работает дома с документами. Такой вот мой фатер. Просит, умоляет, чтобы всё бросила и переехала к нему. В девяносто третьем один за другим ушли его родители. Старики, даже если всё благоприятно, плохо приживаются на новом месте. Отец так в открытую и говорит: «Здесь всё твое. Ты – единственное мое сокровище. Язык знаешь. За год на курсах получишь необходимые дипломы. У меня есть связи. Во всем помогу. Решайся. На своей работе пропадешь».
Что, что мне делать? Как оставить тетю, да и мать? Ведь сердце изойдется в тоске. Что с ними будет в нашем уродстве, которое все продолжается?
Сердце исходит кровью. Боже! Милостивый! Вразуми и наставь…
2011 г.
Почему он замолчал?
Ну, если так уж хотите, расскажу свою «итальянскую историю»? Речь пойдет о тридцатых-сороковых годах прошлого – двадцатого столетия.
Я остался полусиротой в конце тридцать третьего года, когда отец мой Дмитрий Рубцов попал под поезд. Семья жила тогда на Урале. Деда, отца Геннадия, священника, расстреляли энкавэдэшники в тридцать втором. От горя умерла и бабушка. Мать моя – Тамара осталась с тремя детьми, старшему из которых – Шурику было четыре года, среднему Гене – два, а мне – полгодика.
Голод страшный, и мать решила податься в Москву к старшей сестре Надежде, которая как раз в то время вышла замуж за иностранца – итальянца Марио Дечимо Тамбери.
Тамара устроилась с работой и жильем в Подмосковье, а Надежда взяла меня к себе и даже наняла няньку – работала. Взяла, но с уговором: усыновить.
И стал я не Димой Рубцовым, а Димой Тамбери. Сама она тоже приняла фамилию итальянца.
Чем занимались они с Марио? Надежда работала медсестрой в Боткинской больнице, Марио – рабочим на шарикоподшипниковом заводе. Был он политэмигрантом, коммунистом, бежавшим от фашистского режима в Италии.
Я был хорошеньким парнишкой, но говорил плохо, хотя соображал хорошо, как вспоминала Надежда. Оба очень привязались ко мне.
Помню Марио с трех лет, когда бреясь, он намыливал щеки и делал «страшными» глаза. Я и пугался, и визжал от удовольствия. Помню, как мы ссорились из-за головки лука в супе. Лук любили оба.
Марио был очень добрым. Никогда не приходил с работы, чтобы не принести шоколадку или конфетку. Зарплату всю отдавал Надежде. Зарплата была хорошей. Кроме того, иностранцев снабжали прекрасными пайками.
Осталось несколько его фотографий, на одной из которых мы втроем – как настоящая семья. Судя по фото, Марио был красивым: очень правильные черты лица, добрые, мягкие глаза, всегда при галстуке.
Эмигрировал он в Москву в тридцать первом, и, видно, не знал, как и что будет дальше. Познакомился с Надеждой через друга – тоже эмигранта, который уже «пристроился» в том же доме, где жила Надежда. Мама Надя обитала в одиннадцатиметровой коммуналке этажом ниже. Люди они с Марио были уже немолодые, хотя и нестарые – под сорок.
Надежда очень тепло рассказывала о Марио – видно, любила. А итальянец тоже был отзывчив: водил меня гулять на Гоголевский бульвар, играл, прятался, вызывая мой бурный восторг.
В общем, все было бы, наверно, хорошо, если бы не война – война тридцать шестого года в Испании. Война с режимом Франко.
Марио, как коммунист, не мог оставаться безучастным, и летом тридцать шестого отправился воевать. Мы с Надеждой очень плакали, провожая его на вокзале.
Всё хорошо помню: летом тридцать шестого мне пошел четвертый годик.
С дороги наш итальянец, который так и не научился как следует говорить по-русски, и я почему-то переводил его Надежде, прислал несколько открыток, которые мать уничтожила в тридцать седьмом по понятным причинам. И мы стали ждать. В пять лет я уже хорошо читал газеты и первое, на что бросался, – события в Испании. Но писем нам не было…
Жизнь брала свое. После тридцать седьмого и ждать перестали. Надежда говорила, что, даже хорошо, что Марио не вернулся – его бы арестовали. Щемящую боль вызывали только оставшиеся фотографии, которые никому чужим, конечно, не показывали.
В сентябре сорок первого должен был пойти в первый класс – тогда в школу брали с восьми лет. Но… война. Надежду тут же мобилизовали и направили в госпиталь, где она находилась почти сутками. Так как я был все-таки еще маленьким, ей разрешали на ночь приходить домой. Ночью она приносила в банках немножко супа и каши, оставшихся от тяжелораненых, и у меня начинался «пир». Чуть-чуть заполнив бурлящий живот, мы, натянув на себя всё, что было, ложились спать. Батареи теплились, как говорила Надежда, что лоб покойника. Но теплились все-таки потому, что дом наш на улице Фрунзе, а теперь Знаменке, находился рядом с Боровицкими воротами Кремля, а там, видимо, топили.
Соседи, уезжая в эвакуацию, оставили ключи от своей комнаты, и мы нашли у них старые учебники Сашки, сына, который был тремя годами старше меня. Вот по этим учебникам я и учился днем, разбираясь, как мог. Память и способности были хорошими, только очень кружилась голова – от голода. Но я себе сказал: солдаты ведь воюют, хотя тоже, наверно, не очень сытые. А моя война – учеба. Вспоминал Марио и то, как хорошо мы жили, когда были вместе.
В конце августа сорок второго пошли записываться в школу, которая была рядом с домом. Мать Надя сказала, что я выучил наизусть учебники за первый и второй классы, а чтение – пусть проверят. Читал я как взрослый и даже лучше. Меня записали сразу в третий класс, но уже не как Диму Тамбери, каковым я ходил в садик, а как Диму Рубцова. Мать взяла с собой мою метрику, выданную в селе Красное, где я родился. Сама она осталась Тамбери. Сказала, что боится начинаться со сменой фамилии и возвратом девичьей, однако в сорок четвертом все-таки поплатилась: прислали бумагу на высылку, как жену иностранца, в Новосибирскую область. Мать слегла, а я по совету соседа Николая Николаевича, капитана милиции, стал бегать по инстанциям – куда он велел. Мне было одиннадцать, и я был тоненьким как тростиночка, но голова соображала. Сумел доказать и разжалобить чиновников: нас оставили в покое. Однако Надежда осталась Тамбери. На могиле ее так и значится: «Тамбери Надежда Ивановна».
С серебряной медалью окончил школу – четверка по геометрии. Поступил в Московский университет на вечернее отделение и работал: преподавал свою любимую историю. Теперь, когда уже под восемьдесят, все еще профессорствую.
Началась перестройка, перестали бояться, и я решил написать в Ливорно, где когда-то жил Тамбери. Его помнил всегда, да и Надежда очень хотела узнать, что же с ним сталось. Было это в девяностом году, она еще жила.
Написал письмо, конечно, по-русски, мэру Ливорно с просьбой сообщить хоть что-то, что известно. И… О радость! Марио не погиб в Испании, как мы думали, а вернулся в родную Италию в тридцать девятом, когда кончились испанские события. Проживал со своей итальянской женой Федрой и сыном Ренцо. В письме мэра было написано, что Марио умер в пятьдесят шестом, указывалось, где похоронен, а также давались адреса его сына и двух внуков: Марко – старшего и Массимо – младшего.
Решил написать сыну. Снял ксерокопию с фотографии, где мы втроем: я, Надежда и Марио, сделал коротенькую приписку, просил сообщить о Тамбери.
В ответ – международная телеграмма: все очень рады моему появлению, подробности – письмом. В письме – грустная весть: Ренцо недавно скончался, а потому пишет он, внук Марио – Марко.
Письмо было очень теплым, написанным по-русски. Видно, нашел какого-то русского.
Я не задержался с ответом. Оформил для Марко приглашение в Москву. Написал о себе: скромный профессор истории. Апартаменты – не вилла, а двухкомнатная квартира, но примем со всем радушием.
В письме Марко прислал и фото, где он с женой. Приятные, простые люди, улыбающиеся.
Потом – молчание. Я послал еще три коротеньких письма и – ничего.
Почему он замолчал? Кроме адреса, не сообщил ничего. Почему решил прервать начавшиеся отношения?
Почему Марио Тамбери перестал писать, ясно. Не захотел возвращаться в наш ад тридцать седьмого тридцать – девятого годов. Знал, что его арестуют и расстреляют. С очень многими «испанцами», теми, кто воевал в Испании против фашизма, поступали именно так. Но почему замолчал его внук? Наверно, подумал, что я тоже какой-нибудь коммуняка, раз живу в этой стране.
О Господи! Проклятая идеология! Как во все века она не дает людям покоя… Черт бы ее подрал! Будь неладна!
Да, забыл сказать. Марко в единственном письме сообщил, что был с отцом – Ренцо в Москве шесть раз. Искали Надежду и меня, а им говорили, что такие по указанному адресу не значатся. Мы же жили в трехстах метрах от Кремля. КГБ бдило…
Почему, почему он замолчал?
2011 г.
Я скоро приду
Родная! Именно родная, хотя по крови мы с тобой чужие. Пятьдесят три года, как узнали друг друга, и все это время я продолжала тебя любить. Любить по-настоящему, без тени, без задоринки. Любить, как любят беззаветно, не видя в человеке хоть какого-то изъяна. Да и не было в тебе этого изъяна, а то, что другие могли поставить в вину, в этом вины не находила. Так… некоторые «издержки производства».
Мы были родными по духу. Души наши были близки. И это невозможно сравнить ни с какими братьями-сестрами. Вот потому сестры мои ревновали к тебе.
Тридцать лет, как нет тебя, а засыпаю и просыпаюсь, видя портрет, написанный твоей тетей Тамарой – художницей Северовой.
Ты такая на нем красивая… Ручки – оголенные, загорелые. Голубо-зеленое платье открывает изящную грудь. Профиль – строгий, как выточенный. Милая, где ты сейчас?..
Мы встретились в Кёнигсберге зимой пятьдесят восьмого. Ты шла в сапожках по сугробам снега, редко выпадающего в этом городе, и твоя фигурка в черном пальто с серым каракулевым воротником резко вырисовывалась на белом.
Куда шла – не знаю. Но обе приостановились и внимательно посмотрели друг на друга. Почему? Наверно, что-то пробежало между нами, а когда через несколько дней Лавренко привел тебя в нашу редакторскую, сразу узнала незнакомку.
Тебя взяли редактором на полставки: больше ничего свободного не было. Но ты была рада и этому: сидеть на иждивении подруги Евы Духаниной было несладко.
Ты была умницей, и Борис Петрович это сразу учуял, ну а то, что Гринштейн, – Лавренко не был антисемитом. Да к тому же по паспорту ты числилась русской. Мать твоя – Мария Андреевна – была дочерью московских купцов Северовых.
Ты жила у Евки с ее дурным, взбалмошным характером, но надо было терпеть: пристроиться больше было негде. Все скрашивала Симочка – чудный ребенок, обожавший тебя.
Почему уехала из Ростова? Да из-за Степки – Степана Ивановича Клюева. Высокого статного кагэбэшника, который сватал тебя по всем правилам. Мертвой хваткой держал.
Почему не хотела за него идти? Во-первых, не любила. А замужества без любви не понимала. Во-вторых, был кагэбэшником. Короче, сбежала из города и даже мать оставила, но Мария Андреевна была тогда еще в сохранности.
Перебирала сейчас фотографии и вспомнила Женьку – Евгения Михайловича Штерна, что ходил к Евке играть в преферанс. На одной из фотографий я в его капитанке – капитанской фуражке с крабом. Выгляжу ничего, прилично.
А Женька за тобой здорово ухлестывал, но ты его отметала – отец двух детей. Дети – святое. Мы с тобой обе были бездетными: не дал Бог нам этого дара. Потому Женькиных детей сиротить – последнее дело. Этого допустить не могли.
Сейчас думаю, почему Лавренко, директор издательства, все-таки взял тебя. Ну, во-первых, как уже сказала, не был антисемитом. Во-вторых, увидел в тебе совсем-совсем не дуру, а даже очень разумную женщину. Потому и сделал после отъезда Половинкина главным редактором, хотя и была ты Гринштейн. Формально через обкомовское сито протащил. Но одна обкомовская зараза всё-таки не преминула что-то вякнуть. Однако Борис – очень умный человек – заткнул ей глотку.
Мы обе тогда, в шестидесятые, были коммуняками. Ты вступила сразу же, как выгнали немцев из Ростова. Тебе было восемнадцать. Вступила по велению души. Я – тоже: когда наступила хрущевская оттепель.
Обе были полукровками: у тебя отец – еврей, мать – русская. У меня мать – еврейка, отец – поляк. Но я пронянчилась с пятым пунктом до самой перестройки. И о том, что мы с родителями были сосланными, знала только ты. Кагэбэшники, реабилитируя меня в пятьдесят пятом, сказали: прошлое должны забыть как страшный сон. Только вот уже восемь десятков прожила, а сон не забывается. И умирая, если буду в сознании, помнить буду…
А вообще, дорогая моя, незабвенная, люди, независимо от национальности, делятся на антисемитов и неантисемитов. Отчего это – черт знает. От семьи, наверно, от окружения. Антисемитов ненавижу. В нашей великой и могучей они всегда были, есть и будут. Хотя евреев поуехало из бывшего СССР значительно – да все, кто мог. А антисемитизм – остался…
Вот фотография, на которой вы с Лёшкой Кирносовым. Эх, Лёшка! Лёшка! Способный, талантливый. Книжки хорошие писал. Штурманом дальнего плаванья был, но… пьянь и мерзавец. Как тогда его мамаша вцепилась в тебя!.. Как хотела, чтобы вы были вместе. А с тобой случился амок. Так я это называю. Всё видела, всё понимала, а оторваться не могла, пока не сказал он однажды: «Ну что, моя прекрасная жидовка..!» Вот тогда прояснились твои мозги. Поняла, к кому прилипла, кому себя отдавала. Свои чувства, свою нежность.
Через год на горизонте появился Юра Дмитриев. По паспорту – Пейсах-Эдельман. Прекрасный детский писатель. Пробивной, целеустремленный, москвич. Сразу положил на тебя глаз. Да и как было не положить, если ты была такой чудесной… И притом умной.
Насколько помню, вы встретились в «Национале», когда была ты в командировке в Москве. Зашла днем пообедать. Тогда «Националь» днем был доступен.
В Юрку, хотя был он ниже тебя и рыжий, нельзя было не влюбиться: очень уж остроумный. Помню наше первое знакомство: с другом Сашкой они играли на ложках и пели частушки, надо сказать, похаб-ненькие…
Красиво Юрка увозил тебя из Калининграда. Как цыган, невесту умыкал. А ты больше не сопротивлялась. Восемнадцать лет прекрасной жизни. За эти годы ничем он тебя не огорчил: ни пьянкой, ни изменами. Хорошо жили. Пока… Пока не пришла беда.
Отец твой – Гринштейн Борис Евсеевич – литовский еврей, коммунист с дореволюционным стажем, красный конник и начальник областного управления сельского хозяйства – был разумнейшим человеком. Когда немцы вошли в Ростов, вы с ним бежали, так как имели резко выраженную семитскую внешность. Переплывая Дон, отец утонул: рана от операции еще плохо зажила. Перед самой войной ему в Москве удалили левую почку из-за опухоли. Такая же опухоль настигла и тебя. Потом – метастазы в легкие. Тебя начали лечить, но… неправильно, пока профессор Бухман не сказал: «Немедленно операция!»
Ты скиталась по московским клиникам, а Юрка попался. Попался на удочку этой шлюхи, этой проститутки, которая пришла к нему брать от «Недели» интервью.
Как оказалось, не очень-то много ему надо было: сочувствие, зажаренная курочка… Он очутился в ее постели. Когда я поехала к ней объясняться, она заявила: «Что вы хотите, Дина Борисовна смертельно больна. Должен же Юрий Дмитриевич подумать о себе…»
Ну, а ей нужна была ваша прекрасная московская квартира. Зараза эта и в подметки тебе не годилась, но бывают же такие сволочи…
Юрку она свела на тот свет ровно через год. Совесть в нем осталась, и он очень страдал, курил нещадно. В результате – рак легкого. Причем, какой-то скоротечный.
Так закончились ваши жизни. Обе – на пятьдесят восьмом году: он ведь был на год тебя моложе.
Юрку очень жалела, потому что эта гадина так его скрутила, что, лежа в больнице, он тайком, страшно боясь, встречался со мной.
* * *
Тридцать лет прошло, как вас нет. Страна и мир изменились до неузнаваемости. Теперь всё, абсолютно всё меряется деньгами. Все отношения – между родителями и детьми, братьями и сестрами, друзьями и просто знакомыми.
Очень сильно неравенство в материальном отношении, а потому готовы идти брат на брата с ножом и пистолетом. Несправедливость ведет к протесту в виде демонстраций и суицида, особенно в среде молодых. Почти нет середины: или очень богатые, или совсем бедные.
Проклятые деньги так рассоривают людей, что из-за них попадают в тюрягу, простреливают головы, готовы на всякие подлости.
Совершенно обесценено образование. Вот уже тридцать лет, как Димочка, мой муж, – профессор, а что толку? Правда, кто с ним соприкасается, – уважают. Но богаче он не стал.
Народ наш сейчас – беспрерывно орущий, вороватый, пьянствующий и одурманенный, ленивый и нищенствующий.
Правители – власти – тоже не получшели, хотя это уже не шамкающие старики. Власти теперь умные, хитрожопые и изворотливые. Но ум их не идет на улучшение людской жизни. Таким быдлом, во что превратились люди, управлять, конечно, трудно. Вот и плюют. Во власти множество проходимцев.
Страна сплошь православная. Религия превратилась в эпидемию. Понастроили, пооткрывали монастырей и церквей множество, понавешивали на себя крестов, а нравственность упала до нуля.
Теперь нет больше Советского Союза, люди разбежались по национальным квартирам, ненавидят и ругаются друг с другом. Даже белорусы, украинцы и русские стали врагами, особенно в высшем эшелоне.
Нет теперь и КГБ. Есть ФСБ – федеральная служба безопасности. Она сторожит и охраняет, как говорит Дима, толстопузых, а до простого народа – как до фени.
СМИ обихаживают, ублажают власти, богатых. Ну а в нравственном отношении – сплошные голые задницы и постель.
Юрочка теперь бы не издал ни одной из своих красивых и хороших книжек, сколько числятся за ним. Книги теперь печатают за свой счет и такими малыми тиражами, что не хватило бы на прокорм Пальме – вашей милой собаченции.
Убивают и уничтожают ежедневно. Нет ни одних известий, где бы не докладывали об очередной трагедии. Всё – из-за денег и власти. А какая страшная была чеченская война!..
Люди не стали умнее. Плохо учат и учатся. Книги никто не читает. Главное, откуда «черпают» – «ящик» и Интернет. Но на этом фоне, правда, еще остались приличные. Только они не в чести. Их отстреливают.
Болтать стали свободно, но что толку от этой болтовни. Треплются все, выворачивая наизнанку свою подноготную.
Как и тридцать лет назад, вас бы не вылечили от злой и коварной болезни, что свела в могилу, хотя медицина здорово продвинулась. Но теперь всё за денежки… За просто так ни одна собака не подойдет.
Утечка мозгов – ужасающая. Уезжать стали свободно. Вот и бегут в поисках лучшей доли.
Мы провожали тебя в том черном платье, в каком ты велела. Юра не плакал, а рыдал. Видно, грызла его вина. Приехала и твоя сестра Эгда – Эдочка Виткевич, муж которой в свое время был подельником Солженицына.
Я стала писать, и Юра благословил мою первую повесть в «Огоньке». Радовался и одобрял.
Мы никогда не говорили с тобой о Боге. А ведь я – верующая. С восемнадцати лет. Вот и теперь, когда мне уже восемьдесят, наказываю, чтобы обязательно отпел меня ребе. Верю в загробную жизнь.
Почему помню тебя до сих пор? Потому – что очень любила. А любила потому, что ты – умница. Не было и нет у меня более умного друга. Любила за верность и честность, за доброту и готовность помочь. А потом, разве можно не любить красоту? А ведь ты была красавицей…
Кончаю. Маму твою, Марию Андреевну, проводила по чести. На Юриных похоронах не была. Эта гадина, эта сволочь, которая оторвала его от тебя, никому из друзей ничего не сообщила.
А еще любила тебя за отношение к Диме. Из нас четверых Димуха был младшим. Ты называла его меньшим братиком.
Родная! Пусть будет тебе хорошо. Туда, в далекое далеко, скоро, очень скоро приду. Жди…
2012 г.
Боже! Помоги!
Моя мать – проститутка. Это слово услыхала, когда мне не было и пяти лет. Так сказали о матери Маня, баба Лида и папа Гриша. Что оно означает, поняла. Поняла, что это – женщина, которая часто и легко меняет дяденек. Мать была такой.
Я – Мира Карташова. Фамилия не от отца, а от папы Гриши. Мне шестнадцатый год. Учусь в девятом классе.
Папу называю Гришей потому, что он неродной. Родного отца видела только на карточке. Красивый. Мать, посмотрев на фото, сказала своей подруге: «Этот жид сделал мне этого ублюдка» и показала на меня.
Я плохо одета по сравнению с другими девочками, но красивая. Так говорят девчонки. У меня большие ярко-зеленые глаза, длинные русые волосы и стройная фигура. И еще я умная. Так сказала учительница истории учительнице русского языка.
Я, и правда, учусь на «четыре» и «пять», хотя мне никто не помогает.
Мать-проститутка тоже интересная женщина: с красивой прической, макияжем, длинными ногами. Но я мать ненавижу, и она меня тоже. За что? Она меня не любит потому, что я – нежеланная, своевольная, не спускаю ее ругань, а, когда она начинает драться, хватаюсь за сковородку или утюг. Я ее не люблю за то, что она ненавидит меня.
Она сбежала из дому в шестнадцать лет. Свою мать, мою бабку, тоже не любит и постоянно с ней судится. Из-за чего – черт их разберет. Бабка – очень религиозная, сектантка. Всё хочет забрать меня к себе, но я не даюсь и не дамся.
Помню себя лет с четырех, когда мы с матерью жили в общежитии и по коридору бегали черненькие детки. Я с ними играла. По-русски они говорили хорошо. Где мать работала – не знаю. Но кем-то работала. У нас была своя маленькая комнатка, в которой стояло два дивана – большой и мой маленький, столик, два стула. Было тесно. Кухня – одна на много жильцов. Душ тоже один. В комнате была еще маленькая раковина, над которой умывались, и подмывались, стирали в ней. Мать за чистотой следила. У меня было три смены одежды, но она была чистой. На ночь, да и днем, часто приходил черный Гек. Приносил мне конфеты и мороженое.
Однажды пришел Гриша, и мать сказала своей подруге, что она его захомутает и женит на себе, потому что он, блин, дурак и некрасивый. Знает прикольно свои компьютеры и хорошо зарабатывает. Не был женат, не знал женщин, верующий. Так что лапшу на уши она ему повесит. И повесила.
Гриша оказался добрым, приносил мне дорогие подарки, брал на руки, гладил, даже целовал, чего мать никогда не делала. Я полюбила Гришу и стала называть папой Гришей. Вскоре мать однажды пришла очень веселая, показала своей подруге какую-то бумагу и сказала, что это – свидетельство о браке. Венчаться, сказала, не будет. Теперь, когда я взрослая, понимаю, почему она не захотела венчаться…
Папа Гриша снял однокомнатную квартиру, и мы зажили втроем. Это был самый счастливый период моей жизни. Папа Гриша относился ко мне очень ласково, мать не ругалась и у нее начал расти живот. Своей подруге она сказала: «Я его привяжу».
Пошла в садик и, кроме того, со мной стала заниматься бабушка Лида. Это бабушка папы Гриши. Она – бывшая учительница. Мы с ней очень интересно занимались. Меня все любили, кроме матери, но она хоть не била и не кричала. Не любила меня и Маня. Маня – Мария Ивановна – мать папы Гриши. Маня все время что-то ему на ухо нашептывала.
Папа Гриша сам принимал роды у матери – в ванне, наполненной водой. Через щелочку я заглянула. Совсем не страшно. Дашка – так мы назвали девочку – родилась крикливой и очень некрасивой. Она и теперь, когда ей девять, некрасивая и не такая способная, как я. Всё внимание стало ей, но я не обижалась: понимала – она маленькая.
Мать и папа Гриша стали все чаще ругаться из-за денег и из-за того, что мать, как придет папа Гриша домой, стала куда-то смываться. Иногда Дашку оставляла на меня, а мне, «няньке», и было-то всего шесть лет. Я, правда, была самостоятельной: сама ходила и приходила из садика, сама разогревала еду.
Слово «проститутка» в сторону матери впервые услыхала от папы Гриши: он был очень злой. Теперь, когда я взрослая, понимаю: он что-то учуял с ней в постели. Собрал пожитки и ушел к себе. У него была хорошая однокомнатная квартира, в которой было много всякой аппаратуры. Я была у него два раза – когда они с матерью еще не разругались. Так ушел из моей жизни первый любимый человек. Нет, и сейчас иногда с ним встречаюсь – у бабы Лиды. Он даже дает мне небольшие деньги, но теплота и любовь кончились.
Мать подала на алименты, и он их исправно платит. Платит на двоих, хотя меня не удочерял. Почему так – не знаю.
Мать – очень способная. За эти годы окончила заочный юридический университет и теперь где-то вкалывает. Где – не знаю и знать не хочу. Мне про нее неинтересно. Она, как и раньше, стала орать и бить меня. Честно не знаю, не понимаю, за что. Просто ненавидит.
С Дашкой возится, в основном, Маня – Мария Ивановна. Дашка ей родная внучка. Дашка – подхалимка. Дашку очень любил дед Саша, отец Гриши. Но он умер. Болел недолго. Маня после его смерти стала еще угрюмей и злей. Мать сказала, что, наверно, чувствует какую-то свою вину перед мужем.
Единственный нормальный человек во всей семье – баба Лида. Она старенькая. Ей сейчас восемьдесят восемь. Полностью себя обслуживает. Когда бы к ней не пришла, всегда накормит. Научила молитвам, объяснила всё про Бога. Я ее очень, очень уважаю. Живет отдельно ото всех.
Я, конечно, порочное существо. Меня так и тянет к пороку. Однажды даже стащила банку консервов в магазине: есть очень хотелось. На батон денег хватило, на консервы – нет. Увидела продавщица, вызвала милицию. Меня, блин, уволокли. Вызвали мать. Отдали ей в руки. Она так меня избила, что я хотела идти с синяками к прокурору. Потом плюнула: себе дороже. После этого мать совсем возненавидела. Но надо жить, куда деваться?..
В церкви, в которую часто захожу, не исповедуюсь: не могу рассказать священнику всё, что на душе, а врать не хочу.
В Бога верую и очень надеюсь на него: может, обратит на меня внимание. Стараюсь поменьше совершать плохих поступков, но жизнь… Она у меня такая…
Учусь хорошо – на «четыре» и «пять». Способная. Все это говорят. Если внимательно слушаю на уроке и пролистаю учебник – «пятерка» обеспечена. Стараюсь сама соображать, сопоставлять. Подсказываю и объясняю дурам-девкам и, хоть плохо одета, пользуюсь авторитетом. Но домой к себе они не приглашают. Почему – не знаю. Хотя… знаю: из плохой семьи.
Материны две подруги – Лиза и Тоня – тоже, наверно, проститутки. Всё шушукаются о чем-то, рассказывают. О чем? Наверно, о мужиках. Не обращаю на них внимания. Они злятся.
Самая большая моя привязанность – баба Лида и Олежка. Баба Лида всегда посоветует – всё как надо. Ни разу, никогда не повышала голоса. И, когда случилась эта история с кражей, тоже по-человечески объяснила. Мне ведь было тогда одиннадцать лет.
Олежка – мой друг. Сейчас я в девятом, он – в одиннадцатом. Подружились полгода назад. Дело было так. Я шла из школы домой – нога за ногу. Он догнал, спросил, что случилось. Я что-то буркнула: была очень голодной. Он повел к себе домой, и я увидела, до чего же прикольно могут жить люди. Класс!.. Всё чисто, всё на месте. Еду, вкусную, он быстро и ловко разогрел. Ко мне абсолютно не приставал, только все подкладывал на тарелку.
Родители у него киношники. Несколько раз была приглашена к столу. Сидела и слушала в оба уха – так интересно. Часто уезжают в командировки, но ненадолго. Когда это бывает, Олег приглашает меня остаться.
Он очень высокий, светло-русый, а глаза – голубые-голубые. В общем, парень – класс!.. А еще – добрый. Недавно купил мне красивую кофточку. Родителям сказал правду, куда потратил деньги, которые они подарили ему на день рождения. Похоже, он вообще никогда не врет. По крайней мере, по отношению к себе не замечала. Вино и наркотики не употребляет. Говорит, боится этой дряни. Я наркоту тоже никогда не пробовала. Вино – только один или два раза и то чуть-чуть. Ничего хорошего нет. Лучше – мороженое!..
Трахаться с Олежкой стали не сразу. Подготовились. Он – тоже первый раз. Скажу: ничего хорошего нет – больно. Так что не злоупотребляем и больше – чтобы доказать – только кому? – что уже взрослые.
Очень боюсь забеременеть: аборт делать ни за что не стану, а куда с ребенком? Родить, как мать меня, ублюдка?
Олежкины родители вряд ли позволят ему рано жениться. Да и сам он говорил, что ранние браки – ерунда. Так что здесь мне, наверно, ничего не светит. Спасибо, что привечают.
Мать последнее время совсем осатанела: орет, кидается драться, есть абсолютно не готовит, денег не оставляет. Если бы ни Олег, подохла бы с голода. Он и денег мне немного дает, чтобы еду покупала хоть какую-то.
Дашку все время забирает Мария Ивановна. Откармливает. Щеки у нее трещат. А я – как палочка. Видно, мать так меня ненавидит, как гитлеровцы презирали детей Освенцима.
Сейчас взяла еще моду выгонять к вечеру из дому. Делаю вывод: кобель, который у нее, наверно, не может с ней у себя дома кобелиться. Вот она и приглашает его к нам домой. Стерва!.. Раньше такого не было: уходила.
Чего хочу от жизни, о чем мечтаю? Только о нормальной семье. Чтобы был такой муж, как Олежка. Я бы слушалась его во всем, подчинялась, никогда бы не изменяла. Родила бы ему столько детей, сколько он захотел, и сидела бы с ними. Стряпала, чистоту наводила. А он бы только работал. Никогда бы с ним не ругались, а уж тем более не дрались. Мне не нужно никакого богатства – плевала на него. Только покой!.. Только покой!.. И уважение.
Как-то смотрела по телеку фильм «Без вины виноватые». Плакала. Особенно, когда сын срывает с себя медальон и говорит: «Выпьем за матерей, которые бросают своих детей и вешают им на шею золотые безделушки…»
Но там все хорошо кончается. У меня же так не кончится. Не знаю, не знаю, что делать: где жить, где брать деньги на пропитание. Идти в детдом не хочу: там не лучше. Только еще и тюрьма.
Боже, милостивый! Наставь и вразуми, помоги хоть немножко.
Не хочу, не хочу, как мать, стать проституткой, хотя могла бы уже зарабатывать этим на жизнь.
Если бы сейчас не Олежка, наверно, повесилась. Только он не дает мне этого сделать.
Будьте прокляты такие матери, как моя…
2012 г.
О любви
Наверно, нет мыслящего человека, кто бы не задумывался о любви, о том, что она значит. Трудно дать определение этому чувству. О любви можно лишь сказать, что для души – это жажда властвовать, для тела – скрытое и утонченное желание обладать. Иногда любовью именуем несколько коротеньких безумств, а браком бывает глупость, которая кладет конец этим безумствам. Любовь не животное угадывание друг друга. Любовь, по-моему, прежде всего сострадание, факел, освещающий путь в высоту.
На этих страничках хочу рассказать о любви, которая со мной приключилась. Но всё по-порядку.
Маленький захолустный городишко (хотя и областной!) с немощеными улицами, расположенный геометрически очень выверено: с одного конца – сопки и вокзал, с другого – озеро и бескрайняя степь. Все улицы можно обойти за день. Тысяча девятьсот сорок третий год. Мы – я, мать, отец – сосланные. За что – чуть позже.
В городе три школы-десятилетки: Первая, Вторая и казахская. Потому – как Северный Казахстан. В Кокчетав переехали из Айдабула, в который были сосланы в сентябре сорок первого. Айдабул – рабочий поселок спиртзавода. Расположен в девяносто километрах от железной дороги.
Мать по профессии врач. Работает в кокчетавской городской поликлинике, где всего-то три доктора. Правда, есть областная больница, где тоже три врача. Отец трудится завхимлабораторией на «хитростанции» – Северо-Казахстанской гидрогеологиеской станции. Геологи ищут в бескрайних казахстанских просторах воду. У отца – два высших образования: химика и математика.
Я хожу в шестой класс Первой школы – она ближе к комнате, которую сняли в домике с голубыми ставнями. Посадили меня за одну парту с мальчиком Сережей Семёновым. У мальчика – густые пшеничные волосы, такого же цвета длинные ресницы и голубые-голубые (немного стальные) глаза.
Мальчик сразу же спрашивает: «Под гитару петь умеешь?» «Умею» – говорю я, так как, действительно, неплохо пою. Репертуар – все советские песни, а также Лещенко, Вертинский. Последние – от мамы, которая прекрасно поет.
Первый урок – русский. Приходит не учительница, а учитель. Худой и лысый. Глаза его удивительно похожи на глаза Сережи. Урок – неинтересный, но, наверно, нужный: грамотно писать следует. Второй урок – литература. Тут учитель Дмитрий Поликарпович преображается – вдохновляется. Что-то рассказывает о поэте Никитине. Читает наизусть стихи. Сережа тихонько шепчет: «Это мой отец».
Четвертый урок – география. Приходит молодая учительница – Надежда Дмитриевна. Тоже удивительно похожая на Сергея. Это его старшая сестра. Мать Сережи – учительница и директор начальной школы. В общем, семья учителей. Домой идем вместе – живем рядом. Приглашаю заходить. Сама не напрашиваюсь: девочкам не принято.
Дмитрия Поликарповича дразнят «Сёма – лысый». Сережка обижается: жалеет отца. Сам – невысокий, крепко сбитый. Короче – футболист. Учится хорошо, но математика дается трудно.
Идет война. В здании, построенном перед самой войной, куда должна была переехать Первая школа, – госпиталь. Школа взяла шефство над ранеными. Ходим помогать и развлекать искалеченных войной людей, писать письма. Серега обязательно берет гитару, и мы поем. Раненые особенно любят фронтовые песни. Не скупимся на эмоции.
Летом – элеватор и колхоз. На элеваторе перелопачиваем зерно, которое преет и горит. В колхозе делаем всё, что прикажут. Хорошо, если попадаем в русский колхоз. Там – более или менее чисто и кормят получше. В казахских колхозах живем в юртах. Вши – кишмя кишат. После колхоза голову приходится мыть керосином, а всю одежду – кипятить. Кормят казахи лепешками и кислым молоком. Один раз за все время дают бишбармак – мясную лапшу. Готовят грязно. Часто расстраивается желудок. Председатель придуривается, что не знает по-русски, а матерится отменно. Однажды, когда уж очень допекает, пускаю в него его же матом. Тут же уезжает на своей серой в «яблоках» лошади.
Седьмой класс. Тысяча девятьсот сорок пятый год встречаем радостно: война кончается. В магазине хлеб – по карточкам, но повидло (в больших деревянных бочках) и селедка – без карточек. Замечательно!..
Мальчишки на озере расчищают каток – погонять мяч. Мы, девахи, стоим вокруг и воодушевляем. Серега скинул телогрейку, остался в одном свитере, разгорячен.
Идем домой, он покашливает. Вечером прибегает его тетя Тоня. У парня температура тридцать девять с десятыми. Моя мама – уже пришла с работы – бежит к Семёновым. Начинается болезнь, которая длится три месяца: не спадает температура.
Мама ходит сначала каждый день, потом через день. Процесс в легких, как она говорит, какой-то непонятный. Рентгена в городе еще нет, хотя от закрывшегося госпиталя рентгеновский аппарат остался. Нет рентгенолога. Потом, в конце лета сорок пятого, маму, несмотря на сосланность, пошлют на два месяца в Алма-Ату учиться на рентгенолога.
Серегу пытаются поднять порошками, уколами и питанием. Последнее – очень плохое. Поэтому всё, что иногда дают маме другие больные – масло от своих коров, мед со своей пасеки, – относит Сереже.
Он маму очень уважает, даже влюблен. Мечтает стать только врачом – как мама и его старший брат Юрий, который служит на кораблях в Североморске.
К концу третьей четверти мама разрешает ему выйти на улицу. В школу идти не хочет: очень отстал. Математику, говорит, не осилю. Так он, старше меня почти на год, отстает на год по школе. Меня мама к нему не пускает, только носит наши треугольнички – записки.
Хотя мне уже тринадцать, а ему почти четырнадцать, мы ни разу не поцеловались. Разговариваем о любви только «теоретически».
Серега за время болезни много прочитал, опередил меня в чтении. У Семёновых – хорошая библиотека с довоенных времен. Брат Дмитрия Поликарповича, ленинградец, продолжает присылать книги.
Родные Сережи маме благодарны – его отец, Надежда, тетя Тоня. Мать молчит. Очень важная – директор школы, партийная, депутат Верховного Совета республики. А кто мы? Сосланные…
Для тех, кто не знает. В сорок первом из республики немцев Поволжья, которая находилась там, где расположены города Саратов и Энгельс, в Сибирь и Северный Казахстан выслали около двух миллионов людей. Немцев. Не самых худших работников, а совсем даже наоборот. Сделали это Сталин и Молотов. Высланные, а главное их потомки, не забыли мук и унижений, а потому, как только появилась возможность, уехали в Германию, где живут как нормальные, уважаемые граждане.
Так поступили и евреи, уехавшие в Израиль. Всё это – последствия «замечательной и справедливой» национальной политики государства.
Теперь в Москве и других городах России проживают среднеазиаты, ни слова не знающие по-русски. Ковыряются на стройках, после чего дома разваливаются, метут улицы – не очень-то чисто.
Фамилия наша – Райнгардт. Немецкая. Но папа не немец, хотя в паспорте значится немцем. Он – поляк. Мой дед – Ян Райнгардт – варшавский мещанин. Теперь – в девяностые годы – узнала, что он еще и дворянин.
Папа родился в Уфе. Ян бросил свою жену, старшую дочь и сына – моего отца – в семнадцатом году. Папа, учась в Уфимском пединституте и Казанском университете, писался всегда русским. В тридцать пятом – мы жили в Казани – ему впаяли в паспорт «немец» – из-за фамилии. Хотел исправить, но ничего не получилось. А в сорок первом, как немца, отправили на высылку – жили мы тогда в Саратове.
Мама и я могли не ехать – так нам сказали. Но как в горе бросить любимого человека? И мы поехали. Оказались сосланными все трое: мне позже, в шестнадцать лет, тоже влепили в паспорт ограничение: «разрешается жить только в пределах города Кокчетав. За нарушение режима – тридцать лет каторги». Всё это продолжалось пятнадцать лет: пока не подох рябой черт…
Оставление Серёжи на второй год очень сказалось на наших отношениях. К нему все чаще стали приходить хлопцы старше его, нигде не учившиеся и не работавшие. Они курили и даже выпивали. Давали попробовать и Сереге. Когда узнала, стала ругать. Он разобиделся и ушел. Пришел, наверно, только через месяц. Гонористый был.
Школы разделили. Первая оказалась мужской, Вторая – женской. Встречаться стали только на вечерах. Был обидчив, когда танцевала с другими мальчишками. А потанцевать любила.
До меня дошло, что побывал он и в «салоне» Идки Безбородько. «Салоном» называли дом девчонки, где собирались девки и парни, которым уже нужен был секс. Конечно, выпивали. Помню, как «съездила» ему по физиономии, когда пришел после «салона». Ничего. Съел… Значит, была права.
Я занималась всё рьянее и рьянее по всем предметам. Мне нужна была золотая медаль. А для этого дочь сосланных должна была учиться на голову, даже на две лучше других. И я сидела. Задница была железной…
В новый тысяча девятьсот сорок девятый, провожая с вечера, Серега в первый раз попросил разрешение поцеловать. Я разрешила. Но виделись все реже.
Майор МВД Виноградов, который курировал нас как спецпереселенцев, через Алма-Ату добился для меня разрешения на выезд в Казань – продолжить учебу. Золотую медаль получила. Куски из моего сочинения цитировала областная газета.
В тот, сорок девятый, при золотой медали могла поступить без экзаменов в любой институт. Отец потихоньку просил: в медицинский… Мать молчала. Я была самоуверенна и непреклонна: только на филфак в университет. Дура… Дура набитая.
Настал день отъезда. Сердце сжималось от тоски и боли по родителям и Сереге, но вида не подавала. Мне было семнадцать с половиной лет…
Учеба захватила. И здесь, в университете, должна была учиться только на «отлично», иначе отправили бы домой. Так прямо и сказали на Черном озере в республиканском МВД, куда ходила каждые десять дней на отметку: «Вам, сосланной, советское правительство оказало доверие. Если успехи будут не отличными, вернем домой». Я сидела.
Серега писал часто. Стал складывать стихи. Писал, что и музыку на них сочиняет. Говорил о чувствах, о любви. Я отвечала редко, не давала воли эмоциям. Сжала, скрепила себя в кулак. Иначе не выдержала бы.
У меня были очень красивые косы и хорошая фигура. Большие серые глаза. Мальчишки из группы предлагали прогуляться, ноя, правда вежливо, всем отказывала. Сочли гордячкой.
Весна и лето пятидесятого года. Жду не дождусь каникул. Очень соскучилась по родителям и Сереже. Нужно успеть в город, пока он не уехал сдавать экзамены в институт. Окончил школу хорошо, но без медали, потому придется пыхтеть.
Шестнадцатое июня. Поезд тянется как черепаха. Но вот вокзал и мои дорогие – папа, мама. Сережки нет. Тут же, на вокзале, спрашиваю, где он. Папа отвечает: «Уехал сдавать экзамены. Но не в Казань. В Свердловск. Уехал с матерью». Ноги у меня подкашиваются. Как?.. Почему Свердловск?.. Папа обнимает за плечи, притягивает к себе. В глазах у него слезы.
Уже дома узнаю, что последние месяцы десятого класса Таисия Ильинична, мать Сергея, твердила, что не поедет он в Казань. Серега жаловался моему отцу. Папа даже ходил объясняться к матери Сергея. Но Таисия Ильинична была непреклонна. Сказала, что иначе лишит помощи, а на одну стипендию не проживет. Позже, в письме из Свердловска, Сергей приведет слова матери: «Если поедешь в Казань, поженитесь с Аней, а я не хочу, чтобы эта еврейская девчонка стала твоей женой». А то, что мать этой еврейской девчонки, и сама еврейка, спасла когда-то ее сына, Таисия на минуточку забыла… Ну и, конечно, наша сосланность, а она – депутат Верховного Совета…
Нас оплевали еще раз, нахаркали в душу. Папа ходил поникший, а мама как будто даже была довольна. Много позже объяснила: живя в одном городе, действительно, поженились бы. Ты могла забеременеть, а при нашем подневольном положении это был бы крах.
Переписка с Сергеем прекратилась. Он писал, я не отвечала. Летом, после его первого курса, а моего второго, встретились как чужие. Так продолжалось три года. Время от времени он писал, жаловался на тоску. Однажды ответила коротко: «Сам так захотел…»
Лето пятьдесят четвертого. Я окончила с отличием университет. Распределена в татарский город Бугульму учителем в старшие классы восьмой средней школы. Директор школы Нури Галеевич Галеев говорит: «Не тужи, Анна Александровна. Выдадим замуж за нефтяника. Дадут вам квартиру, а пока поживи, где сняла угол – у хозяев, Бардиных, за печкой».
Весь пятый курс мучилась с желудком. Мама ведет к хирургу Низамаеву. Он тут же ставит диагноз: хронический аппендицит. Нужно немедленно оперировать, а не то может схватить так, что будет поздно.
Иду на операцию. Доктору ассистируют свои же ребята: они перешли на шестой курс Омского мединститута. Шура Шасаитов и Катя Трофимцева. Операцию делают под местным наркозом. Больно, но я прошу показать, что они там отрезали от моих кишок.
Поправляюсь быстро, и Шурка однажды приходит и просит от себя и Сергея, чтобы согласилась поехать в камыши, на озеро, на рыбалку – там хорошо клюёт. Поплывет и Катерина. Соглашаюсь, хотя мама и отец против: шов плохо зажил.
В одной лодке Шура и Катя, в другой – мы с Сергеем. Отплываем в одиннадцать вечера. Сережка гребет мощно, но озеро большое, глубокое и коварное. Набежавший сильный ветер относит нас от камышей к мельнице. Начинаются сильный дождь, молния и гром. Сережка потом, много потом говорит: «Была единственная мысль: просунуть руку в «корзиночку» твоих кос. Утонем – так вместе…»
Господь спасает и выносит около мельницы на берег. Где Шура и Катя – не знаем. Кричим долго и протяжно. Потом решаем идти по воде вдоль берега: авось на них наткнемся. Выбиваемся из сил – тащим волоком лодку: она ведь чужая. Сергей отсылает меня домой, сам остается.
Мама и отец, конечно, не спят. Я не засыпаю ни на минуту, а с рассветом бегу к Семёновым – первый раз в жизни. В сенях на веревке висят Шуркины и Серёжкины штаны. Сами они уже хлопнули по стакану и спят. Тетя Тоня приглашает зайти, но я бегу домой.
Отношения возобновляются. Сергей говорит, что любит меня и только меня. Никто другой ему не нужен. Разъезжаемся – он на учебу в Свердловск, я на работу в Бугульму – с твердой уверенностью, что зимой он приедет ко мне, и мы оформим брак.
От Сергея приходит только одно письмо. Короткое, сухое. Он не приедет. Объяснить сейчас не может. Объясняет только через семь лет.
Через семь лет, когда я уже замужем и приезжаю в город на могилу к отцу – папа умирает в пятьдесят шестом на пятьдесят втором году жизни, – Сергей рассказывает, как всё получилось.
Конечно, он не был один. Была девица, тоже медичка, с которой поддерживал интимные отношения. Она забеременела и пригрозила: если не женится – вылетит с шестого курса института с волчьим билетом. Она добьется.
Рождается девочка, которую Сергей называет Анечкой. Девица отвозит ребенка к своим родителям и продолжает гулять. Изменяет Серёжке направо и налево.
Он благополучно заканчивает институт и получает распределение в Ивдель – город на Урале. Девица с ним не едет: учится на пятом курсе. Брак распадается.
В шестидесятом заболевает раком Таисия Ильинична. Просит сына перевестись в Кокчетав. Стал работать врачом областной санэпидстанции. Отца и матери к этому времени уже нет. Один. Некому приготовить даже тарелку супа. Женится на Маше – фельдшерице станции. Хорошая женщина, но… говорить не о чем. Подряд рождаются двое ребятишек: девочка и мальчик. Детей любит.
Встреча через семь лет длится недолго: всю ночь сидим на лавочке на озере и… говорим, говорим, говорим… Назавтра у меня билет на самолет. Изменить ничего уже нельзя. Всё – в прошлом. Обмениваемся телефонами и адресами: я живу в бывшем Кёнигсберге. Начинаются письма. Его письма. Полные тоски, печали и боли.
Тысяча девятьсот шестьдесят шестой год. Седьмое декабря. День рождения Сережи. После очень большого перерыва решаюсь позвонить ему на работу. Трубку берет начальница санэпидстанции Аида Ивановна Мамеко. Почему-то сразу узнает меня. Голос ее опадает. Она говорит: «А Сережа умер». Я не могу вымолвить ни слова. Как? Почему? Ведь ему исполнилось всего тридцать шесть. Оказывается, утонул на охоте: случился инсульт. «Он очень страдал», – говорит Аида Ивановна и плачет. Я даже не могу и плакать…
Всё… Кончились тридцать три года наших отношений, наших страданий. Человека больше нет. Встреча может быть только там, на небесах…
Часто, бессонными ночами, думаю, что значило для меня это чувство. Понимаю одно: нельзя предавать любовь. Предательство мстит. Он тогда, в пятидесятом, предал…
* * *
Свято место пусто не бывает. Но в пятьдесят четвертом меня (главным образом) больше беспокоит мое положение в обществе, то есть моя сосланность. Понимаю, чувствую, что долго так продолжаться не может, но проклятый штамп «разрешается жить только в пределах Бугульмы» жжет душу. Тридцатого декабря завуч школы Мария Васильевна говорит: «Вам звонил какой-то мужчина и приятным баритоном просил быть второго января в Казани. Где – вы знаете».
Я знала и «полетела на крыльях». Второго января пятьдесят пятого меня реабилитируют. Отец с мамой остаются с клеймом еще год.
Реабилитация совпадает со знакомством с Ильей Белым – врачом бугульминской больницы, где работает дочь хозяев Лида. Она и приводит Илью, она и знакомит.
Это высокий, красивый молодой человек типично еврейской внешности. На нем китель, которые тогда носили железнодорожники. Он стесняется, смущается. Мне как-то всё равно, но я ценю старания Лиды, которая хочет оторвать меня от мрачных мыслей: я поведала ей свою историю.
Илья начинает заходить всё чаще, но уже со своим другом – фельдшером Женей. Собака у хозяина грозная, и они перелезают через забор в безопасном месте.
Из рассказов Ильи узнаю, что он тоже казанец. В городе живут его мать и старшая сестра. Отец недавно умер: пробыл на сталинской каторге десять лет. Илья говорит только о сестре и матери – других разговоров у него нет.
Каждую неделю – с проводником – в казанском поезде отсылает родным посылки – всё, вплоть до соли. Говорит, что в Бугульме она дешевле и лучше. Я удивляюсь, но… так – так так. Однажды просит пойти с ним в бугульминский универмаг и выбрать отрез сестре на платье. Я иду, но случайно обращаю внимание на его брюки: они светятся от проношенности.
Честно говоря, мне с ним скучно. Интересно только со Львом Моисеевичем Адлером – историком нашей школы, который, можно сказать, в Бугульму сослан из Москвы за то, что, вступая на фронте в партию, не указал, что отец репрессирован. Жена Льва Моисеевича – психолог – с ним не поехала.
И Илья, и Лев Моисеевич старше меня, но последний – умница. Как же мне с ним интересно!.. Он столько знает. Мы месим с ним темными бугульминскими вечерами (работаем во вторую смену) грязь, которая такова, что ногу нельзя вытянуть. Другой такой грязи никогда не видела.
Лев Моисеевич никогда не заходит к Бардиным. Из очень скудных разговоров о жене понимаю, что он ее любит.
Часто устраиваем «выпивоны» (одна бутылка вина на пятерых). Пятая – Томуся Левина, моя сокурсница, работающая в «Нефтянике Татарии». Пробую соединить их с Ильей, но ничего не получается. Видно, ему нравлюсь я.
Однажды сваливаюсь с сильнейшей ангиной. Илья сидит у моей постели всю ночь, делает уколы. Конечно, очень благодарна.
Как-то раз на высоком бардинском крыльце, подняв меня на руки (я была легкой!) и целуя, делает предложение. Я, ловко соскочив с его рук, говорю: «Нельзя, Ильюша, выходить замуж без любви, а у меня тут – показываю на сердце – всё пусто». Он понимает. Друзьями мы остаемся.
Когда летом пятьдесят шестого, после скоропостижной смерти отца привожу в Бугульму маму, чтобы собраться, уволиться с работы и ехать куда-нибудь (куда, не знаем) искать место под солнцем, он помогает сложить нехитрые пожитки и провожает. Мать говорит: «Эх! Анка, пожалеешь.» Илья ей очень нравится.
Вскоре Белый возвращается в Казань. Мы изредка переписываемся. Он продолжает нянчить мать и сестру. Женится только в шестьдесят три года, когда хоронит их одну за другой. Женится на хорошей женщине, учительнице. Она увозит его в Израиль, где в окружении ее родных и заканчивает свою жизнь двадцать шестого ноября одиннадцатого года – в день моего восьмидесятилетия. Об этом мне сообщает Соня – его вдова. Я завидую белой завистью: он лежит в израильской земле…
* * *
Одинокой оставаться не хотела. Поняла, что нужно, скрепя сердце, выбрать человека, который стал бы другом на всю жизнь. И нашла. Таким другом оказался Митя.
Мы встретились до войны в Москве: ему было три года, мне – четыре с половиной. В Москве была с родителями проездом, Митя – москвичонок. Встретились под столом: оба потянулись к большому рыжему коту.
Вторая встреча состоялась в сорок восьмом, когда перешла в десятый, а Митя в восьмой классы. Он был на полтора года моложе меня. Несмотря на то, что москвич, учился в Ташкентском суворовском училище. Туда устроила его приятельница тетки-матери. Отца своего он не знал: тот погиб, когда мальчику было всего полтора года.
В сорок восьмом Митя был очень хорошеньким голубоглазым среднего роста подростком. Я была симпатичной длиннокосой девицей с ямочками на локтях, которые – уже тогда – приметил мальчик. Мы подружились и изредка переписывались. Он приходился нам какой-то дальней родней с отцовской стороны.
Окончив Казанское (оно находилось в Елабуге) военное училище, стал офицером, был послан служить в Германию и писал мне, хотя девицы вокруг красивого парня кружились… Где-то году в пятьдесят четвертом прислал письмо, в котором утверждал, что любит меня и никто ему больше не нужен. В пятьдесят пятом приехал в отпуск в Бугульму. Бардины его устроили у себя. Он им очень понравился.
Я не могла – да и не хотела – бросать работу. Боялась оформлять документы на Германию: только-только освободилась от своей неволи. Поэтому договорились: будем ждать лета. Летом его часть должны были вывести в Союз.
После смерти отца мы с мамой решили ехать в Калининград: там жила мамина старшая сестра с семьей. Маме тут же предоставили работу: ей было всего сорок семь, и она была рентгенологом. В старом немецком доме дали однокомнатную квартиру, а вот мне с работой пришлось побегать. Но, наконец, и со мной всё устаканилось: взяли преподавателем в Калининградский пединститут.
Часть вывели летом, и Митя приступил к московской службе. Она состояла в том, что вместе с конвоем перевозил заключенных с вокзала на вокзал. «Замечательная», «интеллектуальная» служба!.. Решили, что так продолжаться не может и, когда Хрущев стал сокращать войска, мой муж (поженились в ноябре пятьдесят шестого) «сократился». Стали жить в Калининграде все трое на жилплощади, что дали маме.
Митя работал и учился. Поступил на заочное отделение Вильнюсского университета на юридический факультет. Работать и учиться было нелегко. Помогала писать контрольные работы. Ночами он топил немецкую печку и с учебником в руках засыпал около нее: уж очень уставал.
Детей у нас не было: причина была во мне. Еще в ранней юности сильно простыла и надорвалась. Заболели придатки. Лечения не получила, считай, никакого.
Все было бы не так уж плохо, если бы они оба – мать и Митя – не раздирали меня на части. Оба были очень упрямы и эгоцентричны. Я находилась между двух огней. Нервы – на пределе. Но что было делать?
Жить отдельно от матери не могла – ее бесконечные приступы и просто нежелание быть одной. Плакала, плакала, плакала…
Отношения между мной и мужем были хорошими: друг другу не изменяли. Интимно устраивали.
Мы прожили в Калининграде двенадцать лет, пока Митя не поступил в аспирантуру. Жилплощадь к этому времени улучшилась: прикупили – путем обмена – еще комнату, и эту квартиру (старую, немецкую) обменяли на двухкомнатную «хрущёбу» в Химках. Всем этим занимался Митя, а мы с матерью «отвечали» за его быт и учебу: дали слово Митиной тетке-матери, что выучим парня. В шестьдесят четвертом он хорошо окончил университет и был готов к продолжению образования. Оказался способным и работоспособным: сидел за столом как пришитый. В результате накатал за два года четырехсотстраничную диссертацию (тогда разрешали: пиши, сколько сможешь…) и в шестьдесят девятом защитился. Стал кандидатом наук. Мы с матерью перевыполнили «план». Но Митя решил «не останавливаться на достигнутом». И в семьдесят девятом защитил уже докторскую. Короче, вся наша жизнь – учеба, учеба, учеба… Потом работа.
У нас с мужем были не совсем одинаковые интересы. У меня – поэзия, музыка, музеи. У него – история, хорошая литература, спорт. Но как-то притёрлись. Вдвоем было нормально.
Хирело и хирело материнское здоровье. Оставлять ее и уезжать даже на время уже не могла. Митя ездил один. Отпускала. Ничего. Никто не «похитил».
В восемьдесят седьмом мама умерла и тут бы «развернуться», но захирела я. Болею, сильно болею – так, что теперь он привязан ко мне. Это не только огорчает, но просто омрачает существование. Хочется, чтобы это существование скорее кончилось. Но Митя «стоит на страже». Делает всё, что может.
О чем прошу Бога? Только о том, чтобы скорее забрал, но Митя сердится и переживает, когда я говорю что-нибудь подобное.
Подводя итоги, заключаю: главное – не пылкая любовь, страсть, хотя это тоже важно. Но они проходят. Главное – уважение и доверие, бесконечное доверие…
Боже!.. Боже!.. – говорю теперь я, – сделай так, чтобы он, мой самый родной, был жив и здоров, чтобы его конец не был страшен и печален. Ведь многие уходят очень легко.
Пусть будет так… пусть будет так…
Счастье же любви заключается в том, чтобы любить, и я любила и люблю своего старого «мальчика», мужа, свое дитя, свое самое драгоценное…
2012 г.
Примечания
1
Еще Польша не погибла.


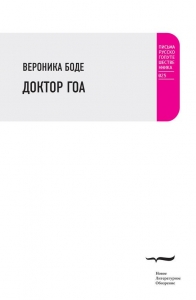
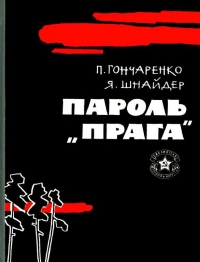
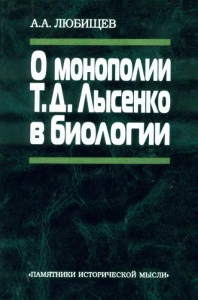
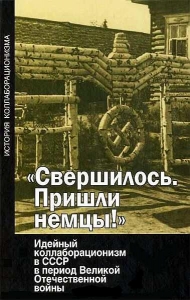
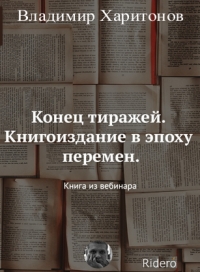

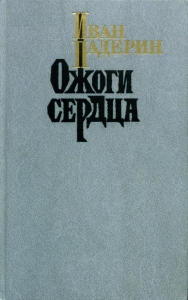
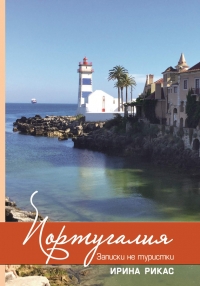


Комментарии к книге «Здесь всё – правда», Инна Александрова
Всего 0 комментариев