Ханке
Глава первая Священная война в Амстердаме
1
Тон (48 лет), свидетель убийства Тео ван Тога, совершенного 2 ноября 2004 года: «Я слышал, как Тео ван Тог молил о пощаде. «Не делайте этого! Не делайте этого!» – кричал он. Я видел, как он упал на велосипедную дорожку. Его убийца был очень спокоен. Это потрясло меня. Как можно так хладнокровно убить человека прямо на улице?
Я несколько недель не мог заснуть… Каждую ночь я вижу, как Тео ван Тог падает и Мохаммед Б. спокойно делает свое дело… С тех пор я мало кому доверяю. Мохаммед Б. мог быть моим соседом. Если я назову суринамца «паршивым ниггером», меня сочтут расистом, хотя он может назвать меня «белой швалью». Сейчас уже вообще нельзя говорить, что думаешь. Мы стали чужаками в своей собственной стране».
«Хандельсблад», 20 июля 2005 годаВ то злосчастное утро в Амстердаме именно спокойствие и самообладание человека, хорошо знающего, что он делает, больше всего поразило тех, кто видел, как Мохаммед Буйери, двадцатишестилетний голландец марокканского происхождения, одетый в серый плащ и молитвенную шапочку, сбил с велосипеда кинорежиссера Тео ван Гога. Он спокойно выстрелил ему в живот, а когда тот, шатаясь, доковылял до тротуара, выстрелил еще несколько раз, достал широкий кривой нож и перерезал ему горло, «как будто полоснул по шине», по словам одного из свидетелей.
Глубоко вонзив нож в грудь ван Гога, он достал из сумки еще один, поменьше, нацарапал что-то на листке бумаги, аккуратно сложил записку и пригвоздил к телу вторым ножом.
Ван Гог, невысокий толстяк с вьющимися светлыми волосами, был, как обычно, в футболке и брюках на подтяжках. Большинству тех жителей Голландии, которые смотрят телевизор или читают газеты, знаком этот вездесущий человек. Он был известен не столько своими фильмами, сколько провокационными заявлениями по радио и телевидению, в газетах, на интернет-сайтах и на судебных процессах, посвященных чему угодно, от обвинений в адрес еврейских знаменитостей, якобы стремящихся заработать на холокосте, до опасного присутствия мусульманской «пятой колонны» в голландском обществе. Он лежал на спине, его руки были вытянуты над головой, а из груди торчали два ножа, что делало его похожим на жертвенное животное. Буйери несколько раз пнул труп ногой и пошел прочь, без спешки, непринужденно, как будто сделал что-то обыденное, как будто рыбу выпотрошил.
Сохраняя спокойствие, он не предпринял серьезной попытки убежать. Когда он перезаряжал пистолет, проходившая мимо женщина крикнула: «Этого нельзя делать!» – «Можно, – ответил Буйери, направляясь в близлежащий парк, в то время как несколько патрульных машин мчались к месту происшествия. – Теперь вы знаете, что вас ждет в будущем». Началась перестрелка. Одна пуля попала в полицейского, одетого в пуленепробиваемый жилет. Другая ранила в ногу прохожего. Но потом Буйери и сам получил пулю в ногу, после чего был арестован. Это не входило в его планы. Буйери хотел умереть смертью мученика за веру. Мы знаем об этом из заявлений, сделанных им позже, и из письма, оставленного на груди ван Гога.
В течение нескольких дней содержание письма Буйери не предавалось огласке. Возможно, его посчитали слишком шокирующим и способным спровоцировать новые акты насилия. Это было длинное, путаное послание на голландском языке с несколькими арабскими цитатами, призывающее к священной войне против неверных и перечисляющее имена погибших во имя веры. Оно наводило на мысль о культе смерти и словно сочилось кровью неверных и святых мучеников. Правильный, но неестественный голландский указывал не только на вероятное отсутствие у автора литературного таланта, но и на многочисленные наслоения неуклюжих переводов. Радикальную исламскую риторику Буйери черпал главным образом из английских переводов арабских текстов, скачанных из Интернета.
Похоже, что способ убийства ван Гога был подсказан изображениями, распространяемыми по всему миру с веб-сайтов. В квартире Буйери нашли компакт-диск с видеофильмом, запечатлевшим более двадцати трех убийств «врагов Аллаха», включая американского репортера Дэниела Перла. Кадры были взяты с саудовского сайта, редактируемого в Лондоне. Кроме детальных изображений обезглавливания мужчин разных национальностей диск содержал фотографии с голландского порносайта, на которых отчаянно сопротивлявшемуся мужчине медленно отпиливали голову.
«Открытое письмо» Буйери было адресовано не Тео ван Гогу, а голландскому политику Айаан Хирси Али, молодой женщине, родившейся в Сомали. Вместе с ван Гогом она сняла короткометражный фильм «Покорность». Чтобы эффектнее проиллюстрировать то, что она расценивала как угнетение женщин исламом, на обнаженные тела молодых женщин проецировались цитаты из Корана. В первый раз фильм был показан в телевизионной программе, в которой голландским знаменитостям предлагают выбрать сцены из их любимых фильмов или телешоу. Хирси Али выбрала «Покорность». Выбор собственной работы был необычным, возможно, даже беспрецедентным шагом, но Хирси Али и не была обычной знаменитостью. За год до убийства ван Гога она стала самым известным критиком ислама в Нидерландах, выступала на встречах с мусульманскими женщинами, на партийных конференциях и в телевизионных ток-шоу, снова и снова повторяя свою мысль о том, что Коран сам по себе – источник насилия. Хрупкая африканская красавица Хирси Али поразила воображение общественности красноречием и убежденностью, публично предостерегая против религии, и без того имеющей зловещую репутацию. Подумать только, мусульманка (или бывшая мусульманка?) из Африки говорит европейцам, что ислам – серьезная угроза. Ее заявления вызывали тревогу в обществе, привыкшем к тому, что общественные деятели проповедуют мультикультурную терпимость. Но это было именно то, что многие люди желали услышать – в том числе те, которые позже отвернулись от нее.
Письмо Буйери было адресовано Хирси Али, еретичке, восставшей против веры своего детства и ставшей добровольным орудием «сионистов и крестоносцев». Он называл ее «воительницей зла», «повернувшейся спиной к правде», «лгуньей», которая «вдребезги разобьется о твердыню ислама». Она будет уничтожена вместе с Соединенными Штатами, Европой и Голландией. Смерть «отделит истину ото лжи», и «кровь мучеников принесет победу» исламу.
Айаан Хирси Али стала самой заметной, но не единственной мишенью священного гнева. Ее «хозяевами», говорилось в письме, являются члены еврейской политической клики, правящей Нидерландами. К этой клике был отнесен мэр Амстердама Йоб Кохен, не религиозный человек, изо всех сил старавшийся находить точки соприкосновения с мусульманскими общинами в своем городе («чтобы все было в порядке», как он выражался). По иронии судьбы Кохен подвергался злобным нападкам и со стороны Тео ван Гога, который в числе других обвинял его в уступках исламскому экстремизму.
Тень Второй мировой войны, единственной войны, затронувшей Голландию со времен ее захвата Наполеоном, незримо сопутствует любому кризису в стране. Ван Гог, со своей неизменной способностью наносить удар ниже пояса, сравнил Кохена с мэром-коллаборационистом времен нацистской оккупации. Тем не менее джихад Буйери предусматривал уничтожение Кохена. Другим членом этой гипотетической клики был Йозиас ван Аартсен, тогдашний лидер консервативной Народной партии за свободу и демократию (VVD), в которую как член парламента незадолго до этого вступила Хирси Али. То, что он не был евреем, не имело никакого значения. В священной войне против «сионистов и крестоносцев» ассоциации, которые вызывает человек, важнее его происхождения.
Ван Аартсен тоже не забывал про последнюю войну. «Эти люди, – писал он в газете «Хандельсблад», самой уважаемой из национальных газет, – не хотят изменить наше общество, они хотят разрушить его. Мы – их враги. С 1940 года мы не сталкивались с подобной ситуацией». Его товарищ по партии, министр финансов и личный друг ван Гога Геррит Залм заявил, что «мы находимся в состоянии войны» с террористами, и дополнительные меры будут приняты «на всех фронтах». Матт Хербен, лидер популистской партии LPF,[1] которую основал покойный Пим Фортейн, считал, что исламская и западная цивилизации ведут войну на голландской территории. Обществу, сказал он, «угрожают экстремисты, которым наплевать на нашу культуру. Они даже не говорят на нашем языке и ходят в странной одежде. Они – пятая колонна. Тео выразил это лучше, чем кто-либо другой».
Сначала была мечеть в Хёйзене. Трое мужчин попытались поджечь ее, разлив скипидар и бензин. Затем мишенью стала мечеть в Роттердаме, но обгорела только дверь. Еще одна попытка поджога мечети произошла в Гронингене. В Эйндховене взорвалась бомба в исламской школе. Премьер-министр Ян Петер Балкененде тут же заявил, что «мы» не то чтобы находимся в состоянии войны, Голландия лишь «ведет борьбу с экстремизмом». Нападению подверглись три христианские церкви в Роттердаме, Утрехте и Амерсфорте. В Удене, маленьком городке на юге страны, подожгли еще одну исламскую школу. «Тео, покойся с миром», – написал кто-то на стене. «Страна в огне», – сказал ведущий телевизионной программы новостей.
На самом деле страна вовсе не была в огне. Поджигателями в Удене оказались подростки, искавшие острых ощущений. Угроза «гражданской войны», погромы в мусульманских районах, акты возмездия со стороны новобранцев джихада – ничего этого не было. Большая часть населения сохраняла спокойствие. Но постоянная болтовня политиков, политических обозревателей газет и телевидения, авторов передовых статей в популярных изданиях создавала лихорадочную атмосферу, в которой малейший инцидент, малейший неверный шаг вызывал бесконечную череду эмоциональных дебатов.
Ортодоксальный имам из Тилбурга отказался пожать руку министра иммиграции и интеграции Голландии Риты Вердонк. При всем уважении, сказал на ломаном голландском мусульманский священник родом из Сирии, она – женщина, а религия запрещает физический контакт с посторонними женщинами. «Но ведь мы равны», – ответила Вердонк немного рассерженно, не зная, что делать с протянутой рукой. Действительно, они были равны, но дело было не в равенстве. Отказ имама, безусловно, бестактный, но не имевший большого значения, попал на первые полосы всех крупных газет. Противостояние коренастой Риты Вердонк и бородатого имама стало главным символом голландского кризиса, краха мультикультурализма, конца прекрасной мечты о терпимости и просвещенности самого прогрессивного маленького анклава Европы.
2
Сорок марокканских, голландских, политических, религиозных и гомосексуальных организаций из Амстердама распространяли плакаты с лозунгом: «Мы не потерпим этого». Людям предлагают подписать манифест на веб-сайте .
«Хандельсблад», 16 ноября 2004 годаИменно тогда я решил провести некоторое время в Нидерландах, где родился в 1951 году и жил до 1975 года. Я был немного знаком с ван Гогом. У нас были общие друзья, иногда мы вместе участвовали в радиопередачах. Он пригласил меня на свое телевизионное ток-шоу «Дружеская беседа», вполне соответствовавшее названию. Не являясь членом модных клубов Амстердама или местного литературного круга, я избежал ядовитых выпадов в свой адрес. Со мной он вел себя неизменно вежливо, хотя его громкий, высокий голос порой утомлял своими назойливыми интонациями.
Я приехал по заданию американского журнала накануне попытки Вердонк обменяться рукопожатиями с имамом, но уже после вечера памяти, организованного друзьями Тео в соответствии с точными указаниями самого ван Гога, которые он подготовил за несколько месяцев до смерти, планируя поездку в Нью-Йорк (он боялся летать). Играла рок-группа, выступали артисты кабаре. Красивые девушки в мини-юбках торговали сигаретами, усердно предлагая свой товар, словно в довоенном кинотеатре. На приглашенных женщинах были нитки жемчуга и двойки из свитера и кардигана – стиль, который Тео находил привлекательным. Поскольку Тео часто называл мусульман «козолюбами», известные комики отпускали шутки по этому поводу, а на импровизированной сцене стояли два чучела коз «на случай, если кому приспичит». Большой деревянный гроб, в котором якобы находился труп Тео, стоял на вращающейся платформе в окружении полуторалитровых бутылок шампанского и больших фаллических кактусов, служивших фирменным знаком его телевизионного ток-шоу. Один из друзей Тео, присутствовавший на этих поминках по прежней, более легкомысленной эпохе, в разговоре со мной предсказал, что лишь незамедлительное подавление мусульманского радикализма позволит избежать гражданской войны в Голландии.
Зимой 2004 года в Нидерландах ощущалась некоторая нестабильность, и мне захотелось разобраться в происходящем. В конце концов, истерия меньше всего ассоциируется у людей со страной, которую ленивые иностранные журналисты обычно называют «флегматичной». Я всегда считал такой образ карикатурным, но все же на мой вкус она была слишком безмятежной, слишком умиротворенно-скучной. Теперь ситуация явно изменилась. В стране, где я родился, произошли значительные перемены.
Приехав в Амстердам, я чуть ли не первым делом прочел эссе великого голландского ученого Йохана Хёйзинги, написанное в 1934 году, во время другого кризиса, когда фашизм и нацизм подступали к голландским границам. Голландцы, говорил он, ни за что не примут идеологию экстремизма, а если все-таки примут, то только экстремизма «умеренного». Хотя Голландия не была застрахована от опасностей современной пропаганды и кризиса демократических институтов, флегматичные голландские бюргеры не имели склонности к эксцессам. По мнению Хёйзинги, «интеллектуальной базой» коллективных иллюзий было «чувство политической неполноценности», в основе которого лежали столетия неудач, притеснений и остро переживаемой потери былой славы. Обычно это приводит к воинственному национализму, пылающему жаждой мести. В Нидерландах все было иначе, потому что «как нация и государство мы в конечном итоге satisfait [2], и наш долг оставить все как есть».
Взгляд Хёйзинги на национальный характер, хотя его и нельзя назвать неправильным, отражал известное самодовольство. Буржуазное самодовольство ни в коем случае не заслуживает презрения; на самом деле в нем заключен рецепт мира и благоденствия. Возможно, это немного скучно. Генрих Гейне вовсе не в качестве комплимента сказал, что перед концом света поедет в Голландию, потому что в этой стране все происходит на пятьдесят лет позже. Его шутка, как и большая часть шуток подобного рода, была несправедлива, но в какой-то степени соответствовала действительности, особенно в девятнадцатом веке. Однако к середине двадцатого столетия Нидерланды практически догнали остальной мир, а затем некоторые вещи стали происходить там раньше, чем в других странах: терпимость к легким наркотикам и порнографии; признание прав гомосексуалистов, мультикультурализм, эвтаназия и так далее. Это также способствовало возникновению атмосферы удовлетворенности, даже самодовольства, и радостного ощущения, что ты живешь в самой прекрасной, самой свободной, самой прогрессивной, самой порядочной, самой развитой стране – мультикультурной Утопии.
Я уехал из Амстердама зимой 1975 года, в период его расцвета, движимый традиционной голландской охотой к перемене мест, желанием повидать мир, но также и скукой, которую навевала голландская идиллия. Моя неугомонность, возможно, была вызвана тем, что я вырос в избалованном обществе, в котором всегда было достаточно еды и никто не боялся стука в дверь после полуночи. Но уже тогда в национальной идиллии были заметны трещины. Семеро молодых молуккских активистов захватили поезд в провинции, граничащей с Германией, и взяли в заложники пассажиров, чтобы заставить Голландию поддержать независимость южных Молуккских островов от Индонезии. Не добившись своего, налетчики убили машиниста и двоих пассажиров и, к ужасу миллионов телезрителей, небрежно бросили трупы на рельсы. По дороге в аэропорт нам пришлось сделать крюк, потому что индонезийское консульство было занято молуккскими активистами, стрелявшими из окон.
Эти акты насилия и терроризма сейчас почти забыты. Героев в этой истории не было, а злодеи выглядели скорее жалко, чем угрожающе. В общем, это был типичный случай предательства со стороны колониальной державы. Молукканцы, многие из них христиане, участвовали в колониальных войнах на стороне голландцев. Как и национальные меньшинства в других европейских империях – моны в Индокитае, сикхи в Индии, – они служили в колониальной армии в обмен на привилегии и защиту. В 1941 году, когда японцы вторглись в Нидерландскую Ост-Индию, молукканцы, в отличие от большинства яванцев, оказали сопротивление плечом к плечу с голландцами, и японцы относились к ним с особой жестокостью. Когда после поражения Японии Индонезия объявила о своей независимости, молукканцы снова воевали в рядах голландских войск в кровопролитной кампании («полицейские акции»), целью которой было подавление возглавляемого яванцами движения за независимость. Это была кровавая и безнадежная борьба.
В 1949 году голландцы наконец ушли из Индонезии, забрав с собой молуккских солдат. У них не было другого выбора, потому что индонезийцы не позволили бы «предателям» вернуться домой на Молуккские острова. Но у молукканцев не было желания начинать новую жизнь в холодных и запущенных городах послевоенной Голландии, а у голландцев не было желания оставлять их у себя, поэтому молукканцам пообещали быстрое возвращение на независимую родину. Голландцы позаботятся об этом. Но голландцы, конечно, не хотели новых проблем с Индонезией. Бедных молукканцев разместили в бывших нацистских концентрационных лагерях, таких как Вестерборк, откуда менее десятилетия назад были депортированы около ста тысяч голландских евреев, большинство из них – навсегда. Первоначально лагерь Вестерборк был построен в 1930-е годы для еврейских беженцев из нацистской Германии. Тогда тоже предполагалось, что это временное решение и они тут не останутся. К 1975 году стало ясно, что независимость южных Молуккских островов была иллюзией, ложным обещанием рассвета, которому не суждено наступить. Новое поколение выросло без надежды на возвращение или жизнь за пределами лагерей. Не лучшее начало для новой эпохи мультикультурализма.
3
Амстердам, 21 декабря: семья убитого кинорежиссера Тео ван Гога недовольна премьер-министром Балкененде, который не выразил соболезнования родственникам. Государственное информационное агентство опровергло это. Вчера вечером в телевизионной программе «Нова» мать ван Гога упрекнула премьер-министра в том, что тот посетил мечеть и исламскую школу, забыв о маленьком мальчике, отец которого был убит в Амстердаме.
«Хандельсблад», 21 декабря 2004 годаСразу после убийства ван Гога начались споры. Уже через несколько часов на смену шоку пришли взаимные обвинения. Министры в Гааге обвинили разведывательную службу AIVD[3] в том, что она не уделила более пристального внимания Мохаммеду Буйери. Премьер-министра и министра юстиции обвинили в том, что они не отреагировали на экстремистские выступления в мечетях. Мэр Амстердама Йоб Кохен обвинил AIVD в том, что она не поделилась сведениями с амстердамской полицией. Министра внутренних дел, которому подчинялась AIVD, обвинили в том, что он предоставил террористам свободу действий. Айаан Хирси Али обвинили в том, что ее фильм был слишком провокационным. Тео ван Гога обвинили в том, что он оскорблял мусульман. Друзья Тео, избранная группа людей, цитируемых в национальной и международной прессе, обвинили Кохена в трусости, правительство в беспечности, мусульман в нежелании признать очевидное, премьер-министра в бесчувственности, а Нидерланды в том, что эта несчастная маленькая страна позволила умереть одному из своих гениев. Друзей Тео, в свою очередь, называли «торговцами страхом». Были и те, кто считал, что настоящие проблемы начались с поколения высокомерных социал-демократов, не заметивших зарождения «драмы мультикультурализма» и называвших расистами тех, кто заметил.
Это – обратная сторона самодовольства, чрезмерного благополучия. Когда на сие блаженное состояние покушаются, начинается паника. Поиски виноватых имели оттенок уязвленного самолюбия, возмущения тем, что неожиданно все пошло не так, как надо, обиды за разбитые мечты. Есть голландское слово, идеально выражающее это чувство: verongetijktheid, обида не на человека, а на весь мир. Именно оно читалось на лицах людей, которые после убийства вели споры на экранах телевизоров. И оно же часто проявляется в игре прославленной сборной Голландии по футболу.
Гордясь своей великолепной техникой, своим многонациональным составом, своей непринужденной, чуть ли не издевательской манерой, приводящей в бешенство игроков более прозаических команд, таких как сборная Германии, звезды голландского футбола обычно начинают игру с чувством превосходства, столь свойственным хиппующему Амстердаму. Играя в дерзкий футбол, построенный на индивидуальном мастерстве, они знают, что они лучше всех. Иногда это действительно так. Но не дай бог игра складывается не в их пользу! Стоит только педантичным немцам, кровожадным итальянцам или упрямым англичанам заполучить преимущество в один-два мяча, как тут же головы игроков опускаются, завязывается перебранка, и вот матч уже проигран с мрачным чувством verongelijktheid. Почему это должно было случиться с нами? За что? Что мы сделали не так? Разве мы не лучшие? Да пошли вы!
В ноябре 2004 года дела в «экспериментальном саду» явно приняли дурной оборот. Настроение раздражения и разочарования наиболее четко выразил писатель Макс Пам, один из знаменитых друзей Тео, в телевизионной программе на следующий день после убийства.
Пама спросили, правда ли, что он хочет покинуть Амстердам и уехать в Германию. Пам ответил, что это преувеличение, но недавно он встретил Харри Мулиша, одного из известнейших романистов Голландии, и Мулиш сказал, что ему тоже больше не нравится жить в Голландии и он подумывает о переселении в Германию. Пам выразил понимание, потому что и сам был сыт по горло. Больше всего его расстраивало то, что пришел конец особенному образу жизни, своего рода «анархизму свободного духа», полному «юмора и веселья в духе кабаре», когда можно было смеяться над чем угодно и оскорблять людей, не боясь насилия. «Идиллия закончилась», – вздохнул он. Глядя на Пама, я снова вспомнил о голландской футбольной команде. После смерти Тео всем резко расхотелось смеяться.
Как и в словах Гейне, в высказываниях Пама содержалась доля правды. Нидерланды никогда не были утопией, но мир действительно изменился после и сентября, и этот мир догнал Амстердам так же, как Нью-Йорк, Бали, Мадрид и Лондон. Молуккская проблема была трагедией местного масштаба. Но грустный и нелюдимый Мохаммед Буйери из пригорода Амстердама, чьи социальные горизонты сузились до маленького радикального кружка, был частью большого и жестокого мира, с которым его связывали Интернет, компакт-диски и MSN.[4]
4
Амстердам: В воскресенье вечером более тысячи демонстрантов вспоминали «хрустальную ночь» 1938 года и размышляли о недавних антисемитских заявлениях. Комиссар Евросоюза Фриц Болкестейн назвал сравнение Израиля с нацистской Германией «абсурдным и клеветническим». Это – новая форма антисемитизма, которая, по его мнению, получила распространение, главным образом, в Западной Европе среди «плохо информированной североафриканской молодежи».
«Волкскрант», 10 ноября 2003 годаМасштабы насилия против мусульман в Нидерландах резко уменьшились. Количество актов насилия со стороны ультраправых групп также сократилось. Примечательно то, что лишь очень немногие антисемитские инциденты были спровоцированы людьми иностранного происхождения. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Лейденским университетом и Фондом Анны Франк в 2002 году.
«Хандельсблад», 12 января 2004 годаГолландия, и в особенности Амстердам, на протяжении столетий предоставляли приют иностранцам. В конце XVI – начале XVII вв. из Антверпена и более южных районов сюда прибыли евреи-сефарды, ища спасения от испанской инквизиции. Голландская республика в период своего расцвета была богатой и позволяла свободу вероисповедания. Это побудило многих евреев, отказавшихся от своих традиций или перешедших в католицизм под давлением, вернуться к своей вере. Между 1671 и 1675 годами в Амстердаме была построена большая португальская синагога. Еще одну возвели польские и немецкие ашкенази в 1670 году. Евреи, многие из которых были очень бедными, в течение долгого времени страдали от различных профессиональных и социальных ограничений, но не подвергались гонениям до самого прихода немцев в 1940 году. Благодаря этому Амстердам получил название Мокум, что на идише означает «Город».
Гугеноты, как и евреи, спасались от преследования на севере. Они бежали в Голландскую республику после того, как в 1685 году Людовик XIV запретил им исповедовать свою религию. Голландия вкусила плоды Просвещения раньше большинства других стран Европы. И, конечно, отнюдь не случайное совпадение, что так называемое раннее Просвещение в Голландской республике испытало на себе влияние идей сына сефардских беженцев, живших в Амстердаме, Бенедикта (Баруха) Спинозы.
Голландия пользуется заслуженной репутацией гостеприимной страны, но история иммиграции в двадцатом веке – это также история угнетения, оппортунизма, постколониальных обязательств и странного сочетания милосердия и безразличия. Мало кто из евреев, бежавших из нацистской Германии, выжил в период немецкой оккупации – Анне Франк, например, это не удалось. Конечно, большинство неевреев в Голландии не одобряли того, что с ними произошло, но, несмотря на храбрость многих отдельных людей, слишком мало было сделано, чтобы помочь им. В конечном итоге в лагерях смерти оказался 71 процент всех евреев, находившихся в Нидерландах. Это самый высокий процент в Европе, не считая Польши. Это – кошмар, который до сих пор ядовитым облаком висит над голландской жизнью. Почти не упоминавшийся до 1960-х, этот позор по сей день отравляет национальные дискуссии.
Конец империи в Нидерландской Ост-Индии, несмотря на проблемы с молуккцами, воспринимался не столь болезненно. Насилие творилось слишком далеко. Евразийцев и индонезийцев, выразивших желание уехать в Нидерланды в 1940-е и 1950-е годы, было сравнительно немного, они были хорошо образованны и легко ассимилировались. То же самое можно сказать о первой волне суринамцев из бывшей колонии Нидерландская Гвиана. Приехавшие в 1960-е годы, когда голландская экономика переживала бум, эти мужчины и женщины, принадлежавшие в основном к среднему классу, устраивались работать медсестрами, клерками или учителями. Грязную работу в годы бума выполняли гастарбайтеры из Турции и Марокко, мужчины, приезжавшие без семей, жившие в переполненных дешевых общежитиях и готовые делать практически что угодно, чтобы содержать оставшихся дома родных. Предполагалось, что они не останутся в стране. Одним из них был отец Мохаммеда Буйери.
Проблемы начались в 1972 году с прибытием второй волны суринамцев. Из только что получившего независимость Суринама приехали сотни тысяч человек, главным образом потомки африканских рабов. Говорят, что в аэропорту Парамарибо висело объявление: «Просим последнего суринамца выключить свет». Нефтяной кризис 1973 года, когда арабские производители нефти ввели эмбарго на поставку нефти в Голландию за поддержку, оказанную Израилю во время Октябрьской войны, повлек за собой кризис в голландской экономике. Рабочих мест не хватало даже для турецких и марокканских гастарбайтеров, не говоря уже о двухстах с лишним тысячах новых иммигрантов из карибского захолустья.
Это привело к росту безработицы, зависимости от социальных пособий и мелкой преступности, к возникновению порочного круга социальной дискриминации и спорадического насилия. До сих пор до 30 процентов суринамцев не имеют официального места работы, но суринамцы больше не «проблема». Все они говорят по-голландски, отлично играют в футбол и постепенно вливаются в средний класс. Как и к выходцам из Вест-Индии в Великобритании, к ним не все относятся благосклонно, однако все признают их хотя и экзотической, но все же неотъемлемой частью национальной культуры.
С гастарбайтерами и их детьми ситуация иная. Их, как и молукканцев, не считали иммигрантами. Предполагалось, что они приехали только на время, чтобы чистить нефтяные танкеры, работать на сталелитейных заводах, подметать улицы. Когда многие из них предпочли остаться, правительство великодушно решило, что в таком случае к ним должны присоединиться их жены и дети. Постепенно, почти незаметно, старые рабочие кварталы голландских городов лишились своего белого населения и превратились в «тарелочные кварталы», связанные с Марокко, Турцией и Ближним Востоком спутниковым телевидением и Интернетом. Серые голландские улицы наполнились не только спутниковыми тарелками, но и марокканскими пекарнями, турецкими шашлычными, турагентствами, предлагающими дешевые авиабилеты в Стамбул или Касабланку, и кафе, завсегдатаями которых были мужчины в джеллабах, с грустными глазами и подорванным за годы тяжелого и опасного труда здоровьем. Их жены, изолированные в переполненных современных жилых домах, как правило, не знали голландского языка и этой чужой для них страны, где они порой выходили замуж за совершенно незнакомых мужчин. Даже в самых простых делах они нуждались в помощи своих детей, которые быстрее приспосабливались к жизни на чужбине.
Турки, получавшие поддержку различных социальных и религиозных организаций, сформировали довольно сплоченную общину владельцев магазинов и ремесленников. Многие бакалейные лавки и пиццерии в Амстердаме принадлежат туркам. Если турки становятся преступниками, это, как правило, организованная преступность, иногда имеющая связи с родиной – финансовые махинации, незаконная иммиграция, наркотики. Причастны они и к политическим конфликтам в Турции: к воинствующему национализму, курдскому вопросу и, в значительно меньшей степени, к радикальному исламскому движению. Последнее, похоже, куда больше касается марокканцев.
Марокканцы в Нидерландах в большинстве своем не арабы, а берберы из отдаленных деревень в горах Риф. Как и сицилийские крестьяне, они объединены в кланы и не пользуются доверием у марокканцев, живущих в городах. Многие из них, особенно женщины, неграмотны. Менее организованные, с узким кругозором деревенских жителей, зажатые между североафриканской и европейской цивилизациями, марокканские иммигранты не имеют той взаимной поддержки, которая дает турецким иммигрантам ощущение единства.
Те, кому ум, настойчивость и везение помогают пробиться в голландском обществе, часто делают очень хорошую карьеру. Те же, кому по той или иной причине это не удается, быстро скатываются в убогий мир уличных шаек, насилия и преступности, из которого нет выхода. Наиболее уязвимы те, у кого не получается реализовать свои амбиции, несмотря на попытки влиться в русло голландской жизни. Озлобленность, а то и желание прибегнуть к насилию или свести счеты с жизнью может вызвать что угодно: отказ в предоставлении обещанной работы, отказ в выделении гранта, очередная дверь, захлопнутая перед носом. Одним из озлобленных был Мохаммед Буйери, ударившийся в такой исламский экстремизм, какой и не снился его отцу, гастарбайтеру с надорванной спиной, родившемуся в горах Риф. Мохаммед решил принять участие в войне с обществом, членом которого, как ему казалось, он так и не стал. Не найдя своего места, он посвятил себя делу, приведшему его к совершению убийства.
В течение нескольких последних десятилетий к гастарбайтерам и их детям присоединилась новая группа иммигрантов, по большей части пострадавших от политического насилия: тамилы из Шри-Ланки, сирийцы и иранцы, сомалийцы, бежавшие от гражданской войны, иракцы, боснийцы, египтяне, китайцы и многие другие. Поскольку Голландия, как и остальные европейские страны, почти никогда не принимает иммигрантов, приезжающих по экономическим причинам, они часто выдают себя за беженцев, ищущих убежища. Некоторым действительно грозит опасность, некоторым – нет, но до недавнего времени большинству удавалось остаться в стране на законных или иных основаниях. Когда в 1992 году израильский грузовой самолет упал на один из бедных пригородов Амстердама, количество жертв было невозможно подсчитать, потому что дома были переполнены нелегальными иммигрантами. Но и официальные статистические данные относительно населения Амстердама весьма впечатляют. В 1999 году 45 процентов его населения составляли выходцы из других стран. Если прогнозы оправдаются, к 2015 году их численность достигнет 52 процентов. И в большинстве своем это будут мусульмане.
5
Афшин Эллиан по праву зарекомендовал себя авторитетным критиком иранского режима, который он знает изнутри. Но затем что-то произошло. Он взял на себя роль ультраправого критика мягкотелых сторонников мультикультурализма левого толка, став иностранной комнатной собачкой правых. А когда ему не удается найти мягкотелых левых, он придумывает их. При этом он выбирает тон, несвойственный голландским авторам.
Роналд Пластерк, «Волкскрант», 15 июля 2005 годаНужна ли религия цивилизованному обществу? Историк Джонатан Исраэль написал книгу «Радикальное просвещение» о философском течении, в котором нет места для бога. Он пишет: «Хирси Али – наследница Спинозы».
Йорам Стейн, «Трау», 6 мая 2005 годаВ первый раз я встретился с Афшином Эллианом у него дома, в современном двухэтажном здании, рассчитанном на одну семью, в пригородной зоне между Амстердамом и Утрехтом. Единственным признаком того, что не все благополучно, была полицейская машина, время от времени проезжавшая мимо, чтобы следить за порядком.
Наша вторая встреча произошла в Лейденском университете, где Эллиан преподает право. Телохранитель провел меня в его кабинет и находился рядом, пока мы обедали в столовой. Я заметил, что головы многих студенток покрыты мусульманскими платками. Во время моей последней встречи с Эллианом целая команда телохранителей тщательно осмотрела выбранное нами кафе, а затем пристально наблюдала за нашим столиком.
И все это только потому, что тридцатидевятилетний ученый, родившийся в Тегеране, завел себе «опасное хобби»: стал вести газетную колонку, резко критикующую политический ислам. Как и в случае с Айаан Хирси Али, одни считали его опасным агитатором, а другие – героем, прибывшим из мусульманского мира, чтобы пробудить голландцев от глубокого сна. По его мнению, быть гражданином демократического государства – значит соблюдать законы страны. Либеральная демократия не может выжить в условиях, когда часть населения считает, что божественные законы выше законов, придуманных людьми. Плоды европейского Просвещения нужно защищать, при необходимости даже силой. Мусульманам тоже пора стать просвещенными. Европейские интеллектуалы, с присущими им нигилизмом, ненавистью к самим себе и утопическим антиамериканизмом, утратили желание бороться за ценности Просвещения. Мечты о мультикультурализме остались в прошлом. Запад, за исключением США, слишком боится применять силу. Европейское «государство всеобщего благоденствия» – губительная система опеки, при которой к людям относятся как к пациентам. Голландское правительство должно защищать тех, кто критикует ислам. Ни одну религию, ни одно меньшинство нельзя полностью ограждать от осуждения или насмешек. Решение мусульманской проблемы – это мусульманский Вольтер, мусульманский Ницше, то есть такие люди, как «мы, еретики – я, Салман Рушди, Айаан Хирси Али».
Тон его колонок бывает резким, даже пронзительным. Сам Эллиан вполне веселый человек, но его остроумие колкое, иногда даже саркастическое, в тяжеловесном стиле марксистских памфлетов. Когда-то Эллиан придерживался крайне левых взглядов и был членом партии Туде. Даже он, политический эмигрант, прибывший в Нидерланды в 1989 году, не может удержаться от сравнений с периодом Второй мировой войны. Наблюдая затем, как голландские власти относятся к исламской угрозе, он, по его словам, понял, почему многие голландцы сотрудничали с нацистами. Он считает, что голландцы безнадежно слабы.
За внешним добродушием и сухими смешками скрывается гнев. В телевизионной передаче спустя несколько часов после убийства ван Гога один голландский писатель марокканского происхождения высказал мнение, что поступок Буйери нельзя объяснять только исламом, и отметил общую «поляризацию» голландского общества. Тут Эллиан не выдержал. Как раздраженный следователь, тыча пальцем в собеседника, он стал кричать, что Буйери посещал мечеть, ходил к имаму, читал Коран. «Он совершил убийство во имя лжепророка!»
Гнев Афшина Эллиана распространяется в первую очередь на исламских революционеров, зверства которых он видел еще подростком в Тегеране времен аятоллы Хомейни. Как Айаан Хирси Али, испытавшая на себе религиозный фундаментализм в Саудовской Аравии, а затем вступившая в организацию «Братья-мусульмане» в Кении, Эллиан был непосредственным свидетелем жестокости политического ислама. Это сформировало (а по мнению некоторых – извратило) его представление об исламе. Глядя на Мохаммеда Б., Эллиан вспоминает историю пыток, тюрем, казней и массовых убийств в ходе священных войн.
Конечно, пригород Амстердама – не Тегеран, с какой бы готовностью ни откликались некоторые его жители на призывы к убийству и мученичеству. В процветающей равнинной стране польдеров и плотин, где конфликты решают с помощью компромиссов и переговоров, все обстоит иначе. Конечно, Эллиана могли счесть, эмоциональным иностранцем, который легко выходит из себя и «выбирает тон, несвойственный голландским авторам». С другой стороны, то же самое говорили люди, благоденствовавшие в либеральных демократических государствах, о беженцах из Третьего рейха и диссидентах коммунистических стран. Что и говорить, Амстердам отличается от Тегерана, но Эллиан не политический деятель и не дипломат, а вечный диссидент, для которого компромисс – признак слабости.
Эллиана приводила в ярость не только неспособность других иммигрантов с Востока понимать и соблюдать законы, гарантирующие их свободу, но и, что еще хуже, неспособность европейцев ценить то, что они имеют. Эллиана и ему подобных, в том числе Айаан Хирси Али, иногда называют «фундаменталистами Просвещения». В этом можно усмотреть противоречие. Ведь мыслители Просвещения отвергали все догмы. Однако склонность Эллиана к обвинениям во имя свободы и демократии объясняется болезненным опытом прежних лет.
Отвечая на мой вопрос о том, как он справляется с опасностями в своей жизни, Эллиан сказал, что, когда ситуация обостряется, он обращается к книгам Фридриха Ницше. Почему представители западной цивилизации – единственные, кто отказывается от своих традиций, спрашивал он. «Почему не мы? Это же расизм – считать, что мусульмане слишком отсталые, чтобы думать самостоятельно». Он говорил страстно, даже яростно. Я восхищался его убежденностью, но в его ярости было что-то настораживающее. Что-то, что напомнило мне об идее Хёйзинги: опасные иллюзии возникают от чувства неполноценности, исторической несправедливости. Эллиан то и дело вопрошает, воздевая в отчаянии руки: «Почему великие цивилизации Персии и Аравии не порождают Ницше или Вольтера? Почему не сейчас?»
Сражение идет столетиями, но с новой силой вспыхнуло сравнительно недавно. До этого мало кто вне стен университетов обращал внимание на встречные потоки Просвещения и Контрпросвещения. Нападение на Всемирный торговый центр и сентября 2001 года, массовое убийство, случайное и в то же время точно спланированное, вернуло Просвещение в центр политических дебатов – особенно в Голландии, одной из стран, где все это началось более трехсот лет назад.
Не только ученые, но и политические деятели, и популярные обозреватели считали Просвещение крепостью, которую нужно защищать от исламского экстремизма. Джихад, в котором Мохаммед Буйери играл роль простого солдата, казался Эллиану, Хирси Али и многим другим современным Контрпросвещением. Консервативные политические деятели, вроде бывшего лидера VVD и еврокомиссара Фрица Болкестейна, бросились в прорыв за свободомыслие Спинозы и Вольтера. Одно из главных положений философии Просвещения заключается в том, что его идеи, основанные на здравом смысле, по определению являются универсальными. Но для некоторых консерваторов Просвещение имеет особую притягательную силу, потому что его ценности не только универсальные, но и, что еще более важно, «наши», то есть европейские, западные ценности.
Болкестейн, бывший управленец, отличается от большинства профессиональных политиков своими интеллектуальными интересами. Он первым из представителей основных политических партий предупредил о негативных последствиях приезда слишком большого количества мусульманских иммигрантов, обычаи которых сталкиваются с «нашими фундаментальными ценностями». Некоторые ценности, утверждал он, такие как равенство полов или разделение церкви и государства, неоспоримы. Мы неоднократно встречались в Амстердаме, и, прежде чем попрощаться, он каждый раз говорил: «В следующей беседе нам нужно больше внимания уделить отсутствию уверенности в западной цивилизации». Как и Афшина Эллиана, его тревожит слабость Европы. Именно поэтому возможность присоединения к Европейскому союзу Турции с ее 68 миллионами мусульман не дает ему покоя. По его мнению, это приведет к концу Европы – не как географического понятия, а как совокупности ценностей, порожденных Просвещением.
Пятнадцать лет назад, впервые заговорив об угрозе фундаментальным ценностям, Болкестейн навлек на себя ненависть левых. Они считали его паникером и даже расистом. Основным объектом его критики была идея культурного релятивизма – общепринятое среди левых представление о том, что иммигрантам нужно дать возможность сохранить свои «национальные особенности». Но со временем произошло нечто интересное. Европейская политика имеет давний и по большей части печальный опыт левого интернационализма и защиты консерваторами традиционных ценностей. Левые были на стороне универсализма, научного социализма и т. п., в то время как правые верили в культуру, в смысле «нашей культуры», «наших традиций». В эпоху мультикультурализма 1970 – 1980-х годов позиции в этом споре стали меняться. Теперь уже левые выступали за культуру и традиции, особенно «их» (то есть иммигрантов) культуру и традиции, а правые заговорили об универсальных ценностях Просвещения. Одна проблема: спорщикам никак не удавалось четко провести границу между тем, что действительно универсально, и тем, что просто «наше».
Но настоящий сдвиг произошел, когда ряд хорошо известных событий привел многих бывших левых в лагерь консерваторов. Сначала дело Салмана Рушди: «их» ценности столкнулись с «нашими»; свободомыслящему писателю-космополиту угрожала чужая религия в ее экстремальной форме. Потом нападению подвергся Нью-Йорк. А теперь погиб Тео ван Гог, «наш» Салман Рушди. Левые, озлобленные тем, что в их глазах выглядело как поражение мультикультурализма, или распаленные антиклерикализмом своего революционного прошлого, присоединились к консерваторам в битве за Просвещение. Болкестейн стал героем для людей, ранее презиравших его.
На первый взгляд имеет место прямое столкновение мировоззрений: с одной стороны атеизм, наука, равенство между мужчинами и женщинами, индивидуализм, свобода критиковать, не опасаясь жестокого возмездия, а с другой – божественные законы, откровения, господство мужчин, честь рода и так далее. Трудно представить себе, как можно примирить столь разные ценности в условиях либеральной демократии. Как не принять сторону Фрица Болкестейна, Афшина Эллиана или Айаан Хирси Али? Но при внимательном рассмотрении видны и менее очевидные противоречия. Люди подходят к борьбе за ценности Просвещения с очень разных позиций, и, даже когда они находят точки соприкосновения, их цели могут быть различными.
Хирси Али и Эллиана часто обвиняют в том, что они ведут на европейской земле сражения из собственного прошлого, словно они контрабандой ввезли незападный кризис в мирную западную страну. Травмированные революцией Хомейни или жестоким мусульманским воспитанием в Сомали, Саудовской Аравии и Кении, они восстали против веры своих отцов, и выбрали для себя радикальный вариант европейского Просвещения: Хирси Али как наследница Спинозы, а Эллиан как ученик Ницше. Они – воины на поле битвы в мире ислама. Но они борются и против жестоких культур, насильно уродующих половые органы девочек и заставляющих девушек выходить замуж за незнакомых мужчин. Бодрящий воздух универсализма сулит освобождение от племенных традиций.
Но то же самое можно сказать в какой-то степени и об их главном противнике, современном паладине, убийце Тео ван Гога. Голландская молодежь марокканского происхождения, скачивающая английские переводы арабских текстов из Интернета, также ищет общее дело, не связанное с культурными и племенными особенностями. Обещанная чистота современного исламизма, который в конечном счете является революционным мировоззрением, была отделена от культурных традиций. Вот почему он привлекает тех, кто чувствует себя чужаком как в предместьях Парижа, так и в Амстердаме. Они застряли между культурами, одинаково чуждыми им. Война между Просвещением Эллиана и джихадом Буйери – прямое столкновение не между культурой и универсализмом, а между двумя разными представлениями об универсальном: радикально светским и радикально религиозным. Радикально светское общество Амстердама после 1960-х, которое кажется землей обетованной образованному беженцу, спасающемуся от религиозной революции, ставит в тупик сына иммигранта из отдаленной марокканской деревушки.
Но не каждый праведный мусульманин – потенциальный террорист. Было бы заблуждением считать религию, даже ортодоксальную, главным врагом ценностей Просвещения. Даже если современный террорист зациклился на вере, он мог бы с таким же успехом выбрать – и в другие времена действительно выбирал – радикальные светские взгляды, чтобы оправдать свою жажду крови. Кроме того, есть различие между антиклерикализмом Вольтера, противостоявшего одному из двух самых могущественных институтов Франции восемнадцатого века, и современными радикальными атеистами, которые борются против меньшинства внутри и без того раздираемого противоречиями меньшинства.
Кроме того, существует разница между философами восемнадцатого столетия и консервативными голландскими политическими деятелями двадцать первого века. Первооткрыватели Просвещения были бунтарями с радикальными взглядами на политику и жизнь. Маркиз де Сад был типичным человеком Просвещения, как и Дидро. С точки зрения ислама Эллиан и Хирси Али, безусловно, бунтари. Труднее нащупать связь между респектабельным консервативным комиссаром ЕС и великим родоначальником садизма. Но прежде всего, конечно, надо признать, что многие консерваторы вступили в борьбу за современное Просвещение не из-за желания разбить святыни.
Святыни голландского общества были разбиты в 1960-е годы, как и повсюду в западном мире, когда церковь потеряла власть над жизнью людей, а правительству стали бросать вызов, а не подчиняться, когда сексуальные табу нарушались тайно и явно и когда – вполне в духе Просвещения – люди открыли глаза и уши незападным цивилизациям. Бунтарство 1960-х годов имело иррациональные, даже антирациональные черты, а порой даже отдавало насилием, и мода на такую экзотику, как маоизм, иногда превращалась в бунт против либерализма и демократии. Один за другими рушились религиозные и политические устои, поддерживавшие порядок в Нидерландах. Терпимость к другим культурам, которые распространялись с новыми волнами иммиграции и часто оставались практически непонятыми, иногда действительно была терпимостью, а иногда – безразличием, связанным с отсутствием веры в ценности и институты, нуждающиеся в защите.
Призыв консерваторов вернуться к ценностям Просвещения отчасти представляет собой бунт против бунта. По мнению многих консерваторов, толерантность перешла всякие границы. Они, как и некоторые бывшие левые, считают, что мультикультурализм был ошибкой и нужно вернуть «наши» фундаментальные ценности. Поскольку секуляризация зашла слишком далеко, консерваторы и неоконсерваторы ухватились за Просвещение как символ национального или культурного своеобразия, чтобы вернуть влияние церкви. Другими словами, Просвещением стал называться новый консервативный порядок, и его враги – инородцы, чьих ценностей мы не разделяем.
Возможно, это была необходимая поправка. Исламской революции, как любой радикальной системе убеждений, нужно оказывать сопротивление, и национальное государство, чтобы быть жизнеспособным, должно отстаивать свои интересы. Политические институты не являются чем-то чисто механическим. Важная особенность мышления эпохи Просвещения заключается в том, что всё – и в первую очередь ценности, претендующие на статус «необсуждаемых» или «фундаментальных», – должно быть открыто для критики. Весь смысл либеральной демократии, ее главная сила, особенно в Нидерландах, сводится к тому, что конфликты религий, интересов и взглядов должны улаживаться только путем переговоров. Единственное, что не подлежит обсуждению, – это применение насилия.
Убийство Тео ван Гога совершил голландец, перешедший на сторону революционной войны, и ему, вероятно, помогали другие. Таких революционеров в Европе пока еще мало. Но это убийство, как и взрывы в Мадриде и Лондоне, и фетва против Салмана Рушди, и протесты мусульман всего мира против карикатур на пророка в датской газете, обнажило опасные трещины, расколовшие все европейские страны. В странах, где церкви превращаются в туристические достопримечательности, жилые дома, театры и развлекательные заведения, ислам скоро может стать религией большинства. Французский ученый Оливье Руа прав: теперь ислам – европейская религия. Как европейцы, мусульмане и немусульмане, справятся с этим – вопрос, от которого зависит наше будущее. И где еще наблюдать за разворачивающейся драмой, как не в Нидерландах, в стране, свободу которой принесло восстание против католической Испании, в стране, где идеалы терпимости и плюрализма стали символом национальной гордости и где политический ислам нанес свой первый удар человеку, глубоко убежденному, что свобода слова подразумевает и свободу оскорблять.
Глава вторая Спасибо, Пим
1
Вчера вечером я прочитал на первой полосе газеты «Хандельсблад», что Айаан Хирси Али скрывается. К счастью, мое имя не было упомянуто. Я по-прежнему живу дома, большое спасибо, и надеюсь, что так будет и дальше.
Из разговора с Тео ван Гогом на съемочной площадке его последнего фильма «06/05»Тем роковым утром Тео ван Гог ехал на велосипеде в свой офис в южной части Амстердама, чтобы заняться монтажом фильма «06/05», триллера в хичкоковском стиле об убийстве эксцентричного популиста Пима Фортейна, едва не ставшего премьер-министром. Это был фильм, нехарактерный для ван Гога. Триллеры не являлись его коньком. Но он давно был одержим мыслями о Фортейне, убийство которого 6 мая 2002 года вызвало необычную вспышку горя, гнева и чуть ли не религиозной истерии. Человек, которому предстояло в скором времени стать премьер-министром, Ян Петер Балкененде, не одаренный богатым воображением, искал подходящие слова, чтобы описать ситуацию. Все, что он смог придумать: «Это не по-голландски».
Фильм ван Гога выстроен вокруг сложной теории заговора, в котором замешана секретная служба под руководством толстого гея с накрашенными губами, американские торговцы оружием, политики крайне правого толка и сексуальная активистка движения за права животных, турчанка по происхождению. Ван Гог так и не увидел свой фильм законченным. Заговор, мягко говоря, неправдоподобен, но картина голландского общества в его постмультикультурном смятении выглядит убедительно. Премьер-министру, кальвинисту из провинциального городка, может показаться, что это «не по-голландски», но такова жизнь в конгломерате Амстердама, Гааги и Роттердама, в районе массовой иммиграции и американской поп-моды, где зеленые поля быстро исчезают под все новыми слоями бетона. Ван Гог уловил угрозу, бурлящую под спокойной поверхностью, угрозу, которая может внезапно вылиться в акт бессмысленного насилия.
Это было самое сенсационное политическое убийство в Нидерландах с тех пор, когда в 1672 году братья Ян и Корнелий де Витт были буквально растерзаны обезумевшей толпой в Гааге. Семнадцатый век, золотой век Голландской республики, был ознаменован борьбой за власть между патерналистской республиканской торговой элитой, известной как «регенты», и монархистами, возглавляемыми Оранской династией и пользующимися поддержкой вездесущей кальвинистской церкви. Чернь, особенно во время экономического кризиса, была на стороне монархии и церкви. «Регенты» считались высокомерными, корыстолюбивыми и опасными либералами. Братья де Витт, друзья Спинозы, были типичными «регентами».
Пим Фортейн, чей взлет в голландской политике оказался столь же внезапным, сколь и крутым, не походил на де Виттов. Напротив, хотя он не был ни кальвинистом, ни ярым монархистом, его агитация была в значительной степени направлена против тех, кого он саркастически назвал «людьми нашего круга», современных «регентов», членов могущественного «левого крыла церкви», которые заботятся о собственных интересах, игнорируя проблемы простых людей. Программу Фортейна можно сформулировать одними отрицаниями: он был против бюрократии, против левых «регентов» и против иммиграции, особенно мусульманской. К тому же он был гомосексуалистом и открыто гордился этим.
Тео ван Гог поддался очарованию бритоголового денди и часто давал Фортейну неофициальные советы, звоня «божественному лысому», когда его что-то волновало, то есть почти всегда. Когда Фортейн появился в ток-шоу ван Гога в качестве гостя, Тео в шутку предложил выдвинуть свои кандидатуры в одном списке. Одна из его идей заключалась в том, чтобы Фортейн проводил предвыборную кампанию рука об руку с женщиной-мусульманкой в парандже. Фортейн отказался, но некоторые из его лучших высказываний были написаны ван Гогом. Оба – возмутители спокойствия, они хорошо понимали друг друга, были, можно сказать, родственными душами. Их не разлучила даже смерть.
Трудно определить, какое из двух убийств сильнее сказалось на общественной жизни, но они взаимосвязаны во многих отношениях, причем не только очевидным образом. Почти все вздохнули с облегчением, когда выяснилось, что Фортейна убил не мусульманский экстремист иностранного происхождения, а голландец Волкерт ван дер Грааф, активист общества защиты животных, также приехавший на велосипеде. (То, что оба убийцы приехали на велосипедах, придает убийствам специфический голландский колорит.) Это произошло вечером, в начале седьмого, в Медиа-парке Хилверсюма, где Фортейн только что закончил длинное радиоинтервью. Утомленный предвыборной кампанией, но в приподнятом настроении, Фортейн, держа в руках бутылку шампанского, собирался сесть в свой темно-зеленый «даймлер», где его терпеливо ждали два кокер-спаниеля, Кеннет и Карла, когда ван дер Грааф, невысокий мужчина в бейсболке, пять раз выстрелил ему в голову и шею из полуавтоматического пистолета. Ван дер Грааф никогда раньше не был в Медиа-парке. Он скачал из Интернета карты и распорядок дня Фортейна.
Что именно побудило ван дер Граафа к действиям, так и осталось неясным. Фильм ван Гога не заострял внимание на его мотивах. Все, что мы знаем, – ван дер Грааф был ярым противником разведения скота и птицы индустриальными методами. Особенно не любил он фермеров, занимающихся разведением норок, и постоянно подавал на них в суд, нередко выигрывая процессы. Фортейн питал слабость к зимним пальто с меховыми воротниками и однажды действительно написал, что «мы должны прекратить нытье о природе и окружающей среде». По его мнению, звероводческим фермам следовало бы разрешить продолжить работу. Но ван дер Граафа, по-видимому, больше беспокоили моменты, связанные с личностью Фортейна, а не с конкретными экологическими вопросами. Его ненависть была скорее этического, нежели политического свойства.
Ван дер Грааф считал, что Фортейн похож на Гитлера, вовсе не имея в виду, что он тоже массовый убийца. В какой-то степени представление ван дер Граафа о Гитлере походило на представление простолюдинов семнадцатого века о братьях де Витт. Он протестовал против «оппортунизма» Фортейна, его «нежелания жертвовать собственными интересами», его «высокомерного отношения» к слабым и беззащитым. Прежде всего, он протестовал против его «тщеславия», его хвастовства, его «гордыни». Один его внешний вид вызывал неприятие: шикарные костюмы, кричащие галстуки, завязанные виндзорским узлом, шелковые носовые платки, слишком сильно выбивавшиеся из нагрудного кармана костюма в тонкую полоску. Фортейн был самый настоящий «человек-оркестр». А это серьезное обвинение в стране, где «если вы ведете себя нормально, вы уже вполне тянете на безумца». Ван дер Грааф довел пуританское голландское назидание до пагубной крайности. Возможно, он выглядел жалко, но он был по-своему принципиальным человеком, принципиальным до фанатизма. Характерная особенность кальвинизма – слишком жесткое соблюдение моральных принципов, и это можно считать как недостатком, так и достоинством голландцев. Оно сыграло роль в формировании ван дер Граафа, Мохаммеда Буйери и даже Тео ван Гога. Убийства ван Гога и Фортейна были совершены из принципиальных соображений.
Волкерт ван дер Грааф был трудным ребенком. Он родился в 1969 году в той же атмосфере маленького протестантского городка, что и премьер-министр Балкененде. Его мать, родившаяся в Англии, была чрезвычайно набожной евангелисткой, а отец – учителем биологии. Природа, животные всегда составляли смысл жизни Волкерта. Когда ему исполнилось пятнадцать, он нашел работу в приюте для травмированных птиц, но вскоре его уволили, потому что с ним было невозможно иметь дело: он спорил по любому поводу, убирал мышеловки, чтобы спасти мышей, приносивших вред птицам, и так далее. Ему не нравилось, что его родители едят мясо, он отказывался сидеть на их кожаном диване и никогда не обедал дома. Не сумев закончить сельскохозяйственный университет в Вагенингене, где изучал проблемы загрязнения окружающей среды, он стал ярым антививисекциони-стом и непримиримым противником интенсивного сельского хозяйства. Если не считать отдельных вспышектемперамента, Волкерт был молчаливым, неприметным человеком – скорее занудой, чем потенциальным убийцей. В 2001 году он влюбился в женщину старше себя. У них родилась дочь, но, даже став счастливым отцом, он все время казался чем-то удрученным. Возможно, это была депрессия. В любом случае, Волкерт чувствовал, что должен сделать что-то важное, чтобы помочь слабым и беззащитным.
2
Похороны Фортейна были необычным зрелищем, больше похожим на похороны обожаемой всеми королевы или Папы Римского. Он был бы в восторге. В детстве Фортейн мечтал стать Папой Римским.
Он заставлял брата и сестру становиться перед ним на колени и изображать боготворящих его священников. Эти мечты не покидали его и в отроческие годы. «В то время как другие мальчики-католики, возможно, хотели стать епископами, – сказал он репортеру, – меня устраивал только высший сан. Наверное, это свидетельствует о моем сумасбродстве». Целые страницы его автобиографии посвящены описанию похорон Папы Римского Пия XII. Большое впечатление произвела на него и погребальная церемония Марии Каллас. И то и другое – очень не по-голландски.
В Роттердаме похоронный кортеж медленно пробивался сквозь толпы людей. Десятки тысяч человек встречали его и бросали цветы на его пути. За длинным белым похоронным автомобилем ехал «даймлер» самого Фортейна, который вел его дворецкий Герман, невозмутимо слушая хор рабов из «Аиды», доносящийся из автомобильных динамиков. На переднем сиденье, рядом с дворецким, сидели спаниели Кеннет и Карла. Вслед за гробом собаки последовали в собор Святого Лаврентия, где должна была состояться заупокойная месса. Толпа умиленно взирала на эту сцену, люди закатывали глаза и кричали: «Пимми, спасибо, Пимми, спасибо!» Кто-то затянул английский футбольный гимн You'll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь один»). Пели и гимны болельщиков местной футбольной команды «Фейеноорд».
Футбольные гимны могли бы показаться неуместными на похоронах политика, не проявлявшего ни малейшего интереса к спорту. «Аида» была ему намного ближе. Но, если задуматься, тут нет ничего странного. Стадион в значительной степени заменил церковь как место для совместного пения и прочих проявлений коллективной преданности. А эмоции, вызванные Фортейном – ностальгия, недоверие к чужакам, преклонение перед героями, – были те же, что и у футбольных болельщиков.
Когда привезли гроб, толпа пришла в неистовство, люди вопили, свистели, кричали, как будто их команда забила гол. В соборе каждому приглашенному дали по белой розе. Одна из поклонниц Фортейна, хорошо одетая дама средних лет, заметила Ада Мелкерта, лидера социал-демократов, сосредоточенного лысеющего мужчину в очках, и прошипела ему: «Добился-таки своего, мерзавец!» Парадоксальная ситуация: типичный серьезный политик левоцентристского толка, всегда считавший, что он на стороне «народа», стал объектом ненависти. В другие времена и при других обстоятельствах толпа могла бы линчевать его. Распорядитель протянул женщине белую розу. Кеннет и Карла залаяли.
«Бог возложил на тебя миссию», – говорилось в открытке, которую подписали сорок жителей Зеландии, родной провинции Волкерта ван дер Граафа и Яна Петера Балкененде. Один поклонник назвал Фортейна «белокрылым ангелом». По мнению молодой женщины, посетившей маленький музей в Роттердаме, где хранятся принадлежавшие Фортейну вещи, «такие люди рождаются раз в тысячу лет». После похорон посыпались письма с изображениями девы Марии, итальянского святого Падре Пио и Пима Фортейна. Клеменс ван Херварден, исследователь из Амстердама, написал диссертацию о Фортейне как о мессии. «В глазах людей, считающих, что их интересы не представляет ни одна из политических партий, – писал он, – довольно невежественных и черпающих информацию в основном из телевизионных передач, Фортейн был не просто политическим лидером, но спасителем».[5]
В ноябре 2004 года, через несколько недель после убийства ван Гога, был проведен телевизионный опрос общественного мнения, чтобы определить величайшую фигуру в истории Голландии, по примеру аналогичного опроса, проведенного Би-би-си. (Самым великим англичанином стал Уинстон Черчилль.) Пим Фортейн возглавил список, обойдя Вильгельма Молчаливого, Рембрандта и Эразма. Спиноза даже не вошел в число кандидатов. Анна Франк могла бы войти, однако, поскольку на момент гибели у нее не было голландского паспорта, ее нельзя было включить. (В парламенте был поднят вопрос о предоставлении ей голландского подданства посмертно. Однако идею отвергли, сочтя, что это несправедливо по отношению к другим жертвам холокоста.) В результате город Роттердам установил статую Пима Фортейна в центре делового района. Его бронзовая лысая голова ярко сияет над постаментом из черного гранита, его рот широко открыт, как будто он собирается произнести речь. На камне высечены слова Loquendi libertatem custodiamus [6]. Каждый день люди приходят сюда, чтобы положить к его ногам свежие цветы.
Спаситель, ангел, величайший голландец в истории – все это о политике, чья карьера началась только в 1999 году, когда он был избран кандидатом от новой партии, созданной сомнительной группой, в которую входили застройщики, рекламные агенты и бывший диск-жокей. К моменту своей смерти Фортейн не был даже членом парламента, не то что членом кабинета министров. Католик-фантазер, гомосексуалист, открыто рассказывавший о своих сексуальных приключениях в банях и «задних комнатах», щеголь, разряженный, как второсортный импресарио. Как случилось, что подобный человек обрел такую популярность в стране, известной своей кальвинистской сдержанностью, буржуазным презрением к излишествам, флегматичной склонностью к консенсусу и компромиссу?
3
Фортейн не любил, когда его сравнивали с такими известными крайне правыми деятелями европейской политики, как Жан-Мари Ле Пен во Франции или Йорг Хайдер в Австрии. Он не считал себя таким уж правым. Когда журналист Би-би-си Джон Симпсон предположил, что желание Фортейна закрыть голландские границы для иностранных иммигрантов могут расценить как расизм, Фортейн вышел из себя, обругал Симпсона на ломаном английском и прервал интервью. В этом смысле он был уязвим.
Фортейн и правда не был ни Хайдером, ни Ле Пеном. Его образ куда интереснее: популист, играющий на страхе перед мусульманами и одновременно хвастающий тем, что занимается сексом с марокканскими мальчиками; реакционер, обвиняющий ислам в том, что он представляет опасность для голландских свобод; карьерист, считающий себя аутсайдером, борцом против элиты. Но хотя Фортейн и не был просто крайне правым демагогом, как Хайдер или Ле Пен, он использовал настроения, захлестнувшие многие страны в Европе и за ее пределами. Растерянным людям, обеспокоенным наплывом иммигрантов и растущим влиянием на их жизнь панъевропейских или всемирных организаций, Фортейн обещал возвращение к более простым временам, когда, перефразируя слова покойной королевы Вильгельмины, мы были все еще самими собой, все были белыми, а устои голландского общества определяли судьбу нации. Он играл на ностальгии.
Моя бабушка однажды заметила, что жить было бы гораздо проще, если бы в Голландии было всего три политические партии: протестанты, католики и социалисты. Она сказала это в 1930-е годы, когда многие протестанты отказывались делать покупки в католических магазинах, и наоборот, а браки с представителями другой веры были почти неслыханным делом. В то время многие европейцы искали героев, способных остановить процесс загнивания, а Йохан Хёйзинга написал свое знаменитое эссе, направленное против таких настроений. Моя бабушка не симпатизировала фашистам. Но ее рассуждения были слишком упрощенными. В конце концов, в протестантской церкви существует немало деноминаций, и все они хотели быть представленными в органах власти. Либералы, выступавшие за невмешательство государства в экономику, также имели собственную – явно не социалистическую – партию.
Религиозные и политические предпочтения существовали не только у партий. Каждый аспект социальной жизни, того, что мы называем теперь гражданским обществом: спортивные клубы, школы, радиостанции, профсоюзы – все выстраивалось вокруг двух этих «столпов». Все, от министра до последнего работяги, были составными частями «столпов», поддерживавших здание голландского общества, и обо всех реальных или потенциальных конфликтах между ними вели переговоры господа, стоявшие на их вершинах. Столетия религиозной борьбы закончились в достойном восхищения духе компромисса, скучного, как участок голландской суши, отвоеванный у бурного моря.
Конечно, времена изменились, и на смену старым конфликтам пришли новые. К концу 1960-х количество прихожан в церквях резко сократилось, и оставшиеся католики и протестанты объединились в общую христианско-демократическую партию. В 1980-е годы кризис коммунистической идеологии привел к уменьшению влияния социалистов внутри социал-демократического движения, а следовательно, к образованию новых союзов, основанных не столько на политических идеях, сколько на целесообразности.
Поскольку идеология и классовые противоречия перестали быть основой партийной политики, их место должно было занять что-то другое. В 1990-е годы «красные» социал-демократы, смешавшись с «синими» консерваторами, сторонниками свободного рынка, образовали «фиолетовые» коалиции. Политические деятели с гордостью расхваливали новую политику: «польдерную модель» – систему, выдержанную в том же духе переговоров и пресного компромисса, что и политика «столпов». До какого-то момента она работала. Нидерланды процветали и излучали спокойствие. Народ, казалось, был satisfait.
«Польдерная модель» подходила голландцам. Сильные мира сего, некогда заправлявшие «столпами», а теперь – государством всеобщего благоденствия, были во многих отношениях точно такими же, как «регенты» семнадцатого столетия. Они точь-в-точь запечатлены на портретах «золотого века» кисти Франса Халса. Сидя за дубовыми столами в строгих, почти спартанских комнатах, одетые во все черное, они управляли богадельнями и приютами, оказывали помощь нуждающимся, обсуждали проблемы своих предприятий и государства. Лица этих достойнейших господ, солидных и степенных, исполненных благих намерений, богатых, но никогда не выставлявших свое богатство напоказ, отражают их честность, бережливость, трудолюбие, терпимость и – в том-то и заключается гениальность Халса – непередаваемое самодовольство высшей добродетели. Это голландский республиканизм на вершине своей славы: добродетельная элита «людей нашего круга», благоразумно распоряжающаяся властью, якобы для общего блага, и не терпящая никакого вмешательства.
Я снова и снова видел эти лица в ложах для очень важных персон на стадионах, на парламентских дебатах, на концертах и королевских торжествах, с тем же выражением тихого самодовольства. Оно вызвано не богатством или личными достижениями, а лишь тем, что они добродетельно и разумно управляют делами маленькой страны, в которой все заметные люди хорошо знают друг друга. (Это не значит, конечно, что они друг другу нравятся.) Такими же были типичные лица «фиолетовых». Дамы и господа в строгих костюмах считали своим священным долгом заботиться о несчастных, больных, беженцах из-за границы и гастарбайтерах. Для того и существовало государство всеобщего благоденствия. «Польдерной моделью» руководили из скромно обставленных офисов современных «регентов».
К 1990-м годам «фиолетовый» фасад стал покрываться трещинами. С одной стороны, как и во всех европейских странах, власть национального правительства постепенно подрывалась европейскими учреждениями и многонациональными корпорациями. Нараставшие проблемы с пенсиями, здравоохранением, преступностью, налогами, казалось, выскальзывали из рук политиков. Беспокойство усугублялось тем, что несколько лет подряд официально насаждался европейский идеализм, а национальные чувства подвергались очернению. Что означало в мире многонационального бизнеса и панъевропейской бюрократии быть голландцем, французом или немцем? Людям начинало казаться, что их интересы никто не представляет. Они перестали понимать, кому принадлежит власть на самом деле. И тогда современные «регенты», такие как социал-демократ Ад Мелкерт, начали терять авторитет у населения. Более того, к ним стали относиться с открытой враждебностью.
Политика консенсуса содержит элементы саморазложения: политика буксует в глубокой колее, вырытой представителями элиты, сменяющими друг друга на различных должностях. Это случилось в Австрии, где социал-демократы и христианские демократы слишком долго находились у власти. Это случилось в Индии, где Индийский национальный конгресс правил в течение нескольких десятилетий. Это случилось и в «фиолетовых» Нидерландах. При отсутствии идеологии и риска лишиться чего-то более важного, чем должности для своих, партийная политика теряла свой смысл. Доверие к старому демократическому порядку больше не могло оставаться чем-то само собой разумеющимся.
Мусульманская иммиграция была самой заметной, хотя далеко не единственной причиной тревоги населения. Жители Гааги или Роттердама привыкли к обшарпанным и относительно бедным кварталам в районах железнодорожных вокзалов. Теперь эти районы стали приобретать чужеземный вид, все больше напоминая Эдирне или Фес. В течение долгого времени было «не принято» видеть в подобных изменениях какую-то проблему. Мультикультурализм был незыблемой традицией «фиолетовых» правительств. Тот, кто подвергал эту традицию сомнению или проявлял беспокойство по поводу социальных последствий быстрых изменений в городском пейзаже, рисковал выслушать обвинения в расизме. Когда Фортейн позволил себе пренебрежительные замечания об исламе, лидеры основных партий заговорили о «нацизме».
Тень Второй мировой войны снова упала на современную политику. Проводились параллели между «исламофобией» и антисемитизмом. Имя Анны Франк звучало в парламенте как предупреждение. Это не должно повториться, говорили благонамеренные защитники мультикультурных идеалов, Голландия больше никогда не должна предавать религиозное меньшинство. Сто тысяч евреев позорным укором преследовали коллективную память. В политических кругах выжившие евреи, такие как бывший мэр Амстердама Эд ван Тейн, иногда очень убедительно использовали этот довод. Из лучших побуждений, разумеется, однако на деле такие моральные напоминания вызывали не дискуссию, а лишь неловкое молчание. Но только не у Тео ван Гога. Его реакция повергла всех в глубочайший шок: он разразился грубыми, возмутительными насмешками в адрес евреев. Однако и сам ван Гог, и некоторые из его критиков упустили главное. Дело было совсем не в евреях.
Преступность в некоторых иммигрантских районах становилась серьезной проблемой. В больших городах развелось слишком много нелегальных обитателей. Такие преступления, как воровство, торговля наркотиками и даже серьезное уличное насилие, оставались безнаказанными, о них обычно не заявляли. Создавалось ощущение, что полиция потеряла контроль над улицами и преступники вольны делать что угодно. Когда несколько социал-демократов попытались поднять этот вопрос в своей Партии труда, PvdA, им предложили сменить тему. Журналистам не разрешалось даже упоминать об этнической принадлежности преступников, поскольку это раскрывало тенденции, о которых предпочитали не говорить. Бывший лидер PvdA Феликс Роттенберг считает, что «чувство вины послевоенного поколения сильно влияет на политкорректное мышление». Это чувство вины за события, которым их родители позволили произойти, закрыв глаза на очевидное. Люди продолжали отводить взгляды, но уже от другой проблемы.
Некоторые политики, такие как Фриц Болкестейн, тогдашний лидер консерваторов, сторонников свободного рынка, поднимали этот вопрос. Рассматривал его и придерживавшийся левых взглядов социолог Паул Схеффер, автор нашумевшего эссе «Мультикультурная драма». Болкестейн предупредил о столкновении ценностей. Схеффер проанализировал опасности, связанные с наличием изолированных, обособленных иностранных общин, подрывающих социальное единство голландского общества. Обоих осудили как расистов. В респектабельных кругах считать массовую иммиграцию проблемой было не только признаком дурного тона; это означало, что под сомнение ставятся европейские идеалы или расовое равенство. Общеизвестно, что двумя движущими силами Второй мировой войны были национализм и расизм. Любую попытку их возрождения следовало немедленно пресекать. Это было понятно, возможно, даже похвально. Но это не мешало многим чувствовать, что европеизм и мультикультурализм – идеалы самодовольной элиты, современных «регентов». И эти люди ждали политика достаточно приземленного, способного выразить их беспокойство и начать широкое обсуждение проблемы. Таким человеком был Пим Фортейн.
4
Выдающийся писатель и друг Тео ван Гога Макс Пам не голосовал за Пима Фортейна. Но, как и другие бывшие левые, он разочарован «моралистическим самодовольством» социал-демократического политического класса. Однажды вечером мы ужинали у него дома, на одной из тихих и зеленых улиц в южной части Амстердама. Неподалеку расположен один из самых густонаселенных иммигрантских районов города, где Мохаммед Буйери жил до дня убийства ван Гога. Он был рядом с точки зрения географического расстояния, но очень далеко в социальном плане. Пам вырос в этой части города, построенной в 1950-е годы на волне социал-демократического идеализма, с домами, доступными для молодых семей с низким и средним доходом. Теперь это один из крупнейших «тарелочных кварталов» в Амстердаме, населенный главным образом выходцами из Турции и Марокко, которых связывает с исламским миром спутниковое телевидение.
Мы спорили о Фортейне и его необыкновенной популярности среди людей, с которыми у него не могло быть ничего общего. Фортейна часто называли relnicht, «неприкрытым педиком». Осторожность была, конечно, не в его стиле. Но мужчины, не скрывающие своей гомосексуальной ориентации, да еще и кричащие о ней на каждом углу, как правило, не становятся успешными популистами правого толка. Люди, ждущие политического мессию, обычно ищут его в других местах. И все же они видели в Фортейне своего ангелоподобного спасителя. Пам считает, что это произошло, несмотря на откровенный гомосексуализм Фортейна. Главной проблемой, с его точки зрения, был страх перед мусульманскими иммигрантами. Голландцы, сказал он, не расисты. Но несколько голландских правительств подряд слишком терпимо относились к нетерпимости. Им не следовало допускать превращения «тарелочных кварталов» в рассадники религиозного фанатизма. Улицы, на которых он когда-то играл, стали «похожи на Южный Бронкс».
Я бывал в Овертоомсе-Вельд, и уж, конечно, никакой это не Южный Бронкс. Проблемы иммиграции, безусловно, способствовали популярности Фортейна. Но думаю, что его причудливый стиль и имидж relnicht, возможно, придали ему особую ауру. Он был человеком-загадкой, пришедшим ниоткуда – почему бы и не с небес? – чтобы спасти своих соотечественников. Во многих традиционных обществах в Азии, но также и на юге Европы транссексуалы и трансвеститы играют важную роль во время священных церемоний. Они другие, и поэтому подвергаются дискриминации. Большинство из них зарабатывает на жизнь проституцией. Но они вызывают и своего рода мистический страх. Ибо, как ангелы, они выше мирской жизни обычных мужчин и женщин.
Фортейн, человек, мечтавший стать Папой Римским, видел связь между сексом и религией. В апреле 1999 года он дал захватывающее интервью газете «Трау», которая ранее была официальным периодическим изданием кальвинистов и до сих пор проявляет большой интерес к духовным делам. Интервьюер попросил Фортейна высказать свое личное мнение о десяти заповедях. Дойдя до заповеди «не прелюбодействуй», Пим ударился в подробный рассказ о своих интимных приключениях в темных задних комнатах гей-баров Роттердама. Его излюбленные бары назывались Shaft («Стержень») и Mateloos («Безграничный» – слово, которое он любил употреблять применительно к себе).
«Не хочу кощунствовать, – продолжал Фортейн, – но должен сказать, что в задних комнатах клубов для джентльменов я вспоминаю атмосферу католической литургии. Задняя комната, которую я часто посещаю в Роттердаме, не совсем темная. Свет просачивается в помещение, как в старинном соборе. Секс в таком месте приобретает некий религиозный оттенок. Религиозный пыл и сближение, иногда достигаемое в сексе, могут быть двумя сторонами одной медали… Задняя комната, безусловно, действует очень возбуждающе. Более возбуждающе, чем церковь? Этого вы от меня не услышите. В юности я служил алтарником, и это было захватывающе. Давайте судить о вещах по их достоинствам».[7]
От Ле Пена или Хайдера вряд ли услышишь подобное. Но Фортейн не всегда придерживался правых взглядов. Молодые годы он провел в Гронингене, где защитил диссертацию и преподавал в университете. В то время он подался в социалисты и стал преданным членом социал-демократической партии, как, между прочим, и молодой Тео ван Гог, и его убийца Мохаммед Буйери, и Айаан Хирси Али, написавшая сценарий фильма, из-за которого произошло убийство. Иммиграция тоже не всегда была для него важной проблемой. Все изменилось в начале 1990-х. после того как он переехал в Роттердам и стал профессором социологии. Местная иммигрантская молодежь разбила окна бара Mateloos и угрожала его клиентам. Фортейн внезапно почувствовал себя беззащитным в стране, которую всегда считал безопасной. Это сильно отразилось на его политическом мышлении.
В феврале 2002 года один из журналистов спросил его, чем ему так досадил ислам. «У меня нет желания, – ответил он, – снова говорить об эмансипации женщин и гомосексуалистов. В школах многие учителя-геи вынуждены скрывать свою ориентацию, потому что в их классах учатся турецкие и марокканские мальчики. По-моему, это возмутительно».
Чувствует ли он, что ему лично что-то угрожает? «Нет, я не робкого десятка». Тогда почему такая ненависть к исламу? «Я не ненавижу ислам. Я считаю его отсталой культурой. Я бывал во многих странах мира. Везде, где господствует ислам, ситуация просто ужасная. Сплошное двуличие. Они немного напоминают старых кальвинистов. Кальвинисты всегда лгут. Почему? Потому что их моральные принципы настолько высоки, что им невозможно соответствовать. То же самое мы видим в мусульманской культуре. А теперь посмотрите на Нидерланды. Где еще кандидат от огромного политического движения, такого, как мое, мог бы открыто заявить о своем гомосексуализме? Я горжусь этим. И мне хотелось бы, чтобы все так и оставалось».[8]
Сексуальный элемент присутствовал даже в ностальгии Фортейна по строгим порядкам и дисциплине прошлого. Вот как он вспоминал о любимом учителе начальной школы: «Он был во всех отношениях большим человеком: рост, фигура и особенно руки! Рассказывали, что он положил одного непослушного мальчика себе на колено и отшлепал его по заднице своей огромной ладонью. Мальчик целый день не мог сесть. Возможно, в данном случае это только легенда, но такие меры помогали». Фортейн считал, что реформаторы образования 1960-х, «новомодные теоретики, нарочито небрежные в одежде», положили конец этой суровой идиллии. Тоска по дисциплине осталась частью его ностальгических воспоминаний.
Фортейн написал много книг о «фиолетовых» правительствах, об опасностях ислама, о собственной жизни. В свое время он успешно работал политическим обозревателем консервативного журнала и получал большие гонорары за лекции, которые его то и дело приглашали читать перед сотрудниками торговых палат, военных баз и членами различных бизнес-групп. Но его подлинный талант ничего общего не имел с призванием писателя или мыслителя. Его оценки часто бывали банальными, а порой и просто ошибочными. Ученые, похвалы и признания которых он жаждал, никогда не относились к нему всерьез. Гений Фортейна был театральным. Его самым большим талантом было умение подать себя. Его последним шедевром стало превращение посредственного ученого в культовую фигуру.
Процесс трансформации можно увидеть на его фотографиях. Его самовлюбленность помнят в Гронингенском университете, где он украсил свой кабинет собственным портретом огромных размеров. Но на ранних снимках Фортейн выглядит вполне заурядно: лысеющий, бородатый социолог, чем-то похожий на Ада Мелкерта. Одет, кажется, немного лучше, чем большинство коллег, но ничего особенного. Позже, в 1990-е годы, когда он сбрил остатки волос (для аудиенции в Ватикане), имидж Пима Фортейна – relnicht, спасителя, бича «людей нашего круга» – окончательно сформировался. Фортейн, нечто среднее между ходячим пенисом и псевдоаристократом, стал появляться в телевизионных студиях, принимать участие в радиопередачах и общественных дебатах, и не заметить его было просто невозможно. Даже его голос – специфическая смесь экстравагантности и угрозы – действовал завораживающе.
Одним из запоминающихся моментов недолгой карьеры Фортейна было его участие вместе с другими партийными лидерами в телевизионных дебатах в 2002 году. Что касается социального происхождения, все они были более или менее равны. Ни христианский демократ Балкененде, позже ставший премьер-министром, ни Ад Мелкерт, ни даже Ханс Дейкстал, лидер консерваторов, – никто из участников не имел какого бы то ни было, даже самого отдаленного отношения к аристократии. Голландская политическая элита – это не аристократия. Критерием служит не столько принадлежность к классу, сколько взгляды, достоинства, умеренность и неоспоримый авторитет. А еще «люди нашего круга» чрезвычайно скучны.
И вот среди них – Фортейн, одержавший крупную победу на выборах. Ловкие выскочки из его недавно созданной партии получили большинство мест в муниципалитете Роттердама. Опытные политики были возмущены, особенно Мелкерт, который не мог заставить себя посмотреть Фортейну в глаза, не говоря уже о том, чтобы поздравить его. Чем враждебнее относились к нему конкуренты, тем успешнее действовал Фортейн. Он вел себя как настоящий актер: дразнил, шутил, издевался, льстил. В его высоком голосе сквозила насмешка. Приподнятой брови, легкого дрожания ресниц было достаточно, чтобы превратить серьезных «регентов» в неловких школьников, не способных посмеяться над шуткой в свой адрес. Он приковывал к себе внимание. Никогда еще голландские политики не выглядели так глупо. Тщательно оберегавшийся ими фасад достоинства и спокойствия был разбит вдребезги. Карьера Мелкерта на этом практически закончилась. Relnicht победил.
5
Сын коммивояжера (торговавшего конвертами), которого он презирал, и обожавшей его матери, потворствовавшей фантазиям своего «наследного принца», Фортейн всегда чувствовал себя аутсайдером. Это в значительной мере объясняло его притягательность для всех, кто считал себя обделенным в плане социального статуса, богатства, престижа или власти. Возможно, что и религия сыграла определенную роль. Католики Фортейны жили в городке, где большую часть населения составляли протестанты. В школу Пим всегда ходил в костюме и галстуке, что выглядело эксцентрично даже в те времена, когда нравы были строже. Он не интересовался спортом, а девушками и подавно.
«Я хочу быть частью чего-то, – написал он в автобиографии под названием «Беби-бумеры», – но не могу… с раннего детства я чувствовал себя не таким, как все, странным… Когда я забывал, насколько я отличаюсь от других, мои друзья и их родители напоминали мне об этом… Я всегда одевался, говорил и вел себя иначе». Он знал почему или, по крайней мере, думал, что знает: «Я аутсайдер от рождения. Я всегда сам по себе, и это объясняется моей гомосексуальностью».[9] Хотеть быть частью чего-то и одновременно гордиться тем, что ты не такой, как все, – вполне обычное явление среди представителей меньшинств. Желание соответствовать недосягаемому идеалу порой оборачивается насмешничеством. Бенджамин Дизраэли спас английскую аристократию в буржуазную эпоху, льстя ее самолюбию тем, что подражал ее манерам. Но аристократы не доверяли ему до конца, словно подозревали его в каком-то хитроумном розыгрыше, направленном против них. Ирландский денди Оскар Уайльд всеми силами пытался войти в английское высшее общество, но никогда не упускал шанса высмеять его. Такие люди знают, что их никогда не признают своими. Но им нравится воображать, что это произошло, и они разыгрывают представления, граничащие с сатирой.
Фортейн купил дом в Роттердаме под стать своим костюмам, дворецкому, «даймлеру» и любимым собакам. Он назвал его Палаццо ди Пьетро. Дом после убийства Фортейна купил один из его поклонников. Все было с любовью сохранено. Виртуальную экскурсию по дому можно совершить на сайте . Сначала вы увидите фамильный герб, придуманный самим «профессором доктором В.С.П. Фортейном», богато украшенный, с двумя стилизованными львами, греческой богиней и короной с парой оленьих рогов наверху. Щелчок мыши, и посетитель проходит зал с мраморным полом, гостиную, кабинет и другие комнаты, обставленные в подчеркнуто классическом духе: канделябры, мебель в стиле ампир, портьеры из красного бархата и картины девятнадцатого века, бюсты и портреты Фортейна. На фотографиях в альбоме, украшенном фамильным гербом, Фортейн отдыхает в своем доме в Италии, Фортейн сидит за рулем «даймлера», Фортейн играет с Кеннетом и Карлой, Фортейн выступает с речью, Фортейн, откинувшись назад, словно кинозвезда, позирует в профессорской мантии. Претенциозно, но не без юмора. Пим обожал этот маскарад, и все же в нем есть намек на пародию: поднятая бровь, насмешливая улыбка вечного аутсайдера.
Возможно, Фортейн верил в то, что говорил, но он был и политическим шутом, мошенником. Как и всеми мошенниками, им двигала обида, которая была, пожалуй, его самым искренним чувством. Сексуальная ориентация, как он часто признавал, играла свою роль, но обида находила более широкий отклик, потому что выражала настроения людей, не имеющих социального статуса. Первыми сплотились вокруг него и поддержали его люди, сделавшие состояние, которое позволило им приобрести дома и яхты, но не положение в обществе: диск-жокей, ставший магнатом индустрии развлечений, закройщики, представители рекламного бизнеса, правые журналисты и организаторы «мероприятий». Некоторые из них так и не избавились от криминального ореола. Все знали, что, сколько бы денег они ни заработали, им никогда не стать «людьми нашего круга».
Чувствуя себя изгоями общества, нувориши понимали, что им не хватает политического влияния. Фортейн был их пропуском к реальной власти – по крайней мере, они на это надеялись. Безусловно, они преследовали корыстные цели: снижение налогов, ограничение влияния бюрократов, расширение возможностей ведения бизнеса. Но это было не все. Некоторых из них вдохновляли более масштабные перспективы: правительство, состоящее из предприимчивых, сильных людей, которые раз и навсегда наведут порядок в парламентской политике. Свежий ветер оживит общество, ослабленное слишком долгим пребыванием у власти людей, не способных реализовать свои благие намерения.
Некоторое понятие о том, что представляют собой эти сомнительные личности, я получил от довольно необычной фигуры на голландской политической арене, настоящего консерватора-интеллектуала, основателя исследовательского центра, названного в честь великого ирландского консерватора Эдмунда Бёрка. Барт-Ян Спрейт, энергичный, непритязательный в одежде человек сорока с лишним лет, с коротко подстриженными светлыми волосами и по-скандинавски красивым худощавым лицом, написал книгу под названием «Похвала консерватизму».[10] В числе его кумиров Алексис Токвиль и К.С. Льюис. Он ярый приверженец кальвинистской церкви.
После убийства Пима Фортейна некоторые из его прежних покровителей обратились к Спрейту как к человеку, который мог быть полезным. Они угощали его в дорогих ресторанах, прощупывая его позицию по разным вопросам, чтобы понять, можно ли иметь с ним дело. В конечном итоге они решили, что исследовательский центр – не то, что им нужно. Но перед этим они еще раз пригласили Спрейта в модный ресторан. В конце ужина, когда настала очередь сигар и ликеров, один из бизнесменов достал чековую книжку и выписал чек на 150 тысяч евро. Протянув его через стол Спрейту, он сказал: «А теперь избавьтесь от этих чертовых марокканцев».[11]
Я был озадачен этой историей. Почему марокканцы? Снижение налогов, свертывание социальной программы – это я понять мог, но почему богатого бизнесмена, вряд ли когда-либо бывавшего в квартале спутниковых тарелок, так беспокоят марокканские иммигранты?
Я спросил об этом Фрица Болкестейна. Поскольку он первым из крупных политиков выразил беспокойство по поводу иммиграции, я решил, что смогу получить ответ у него. Он пристально посмотрел на меня и сказал: «Никогда не следует недооценивать ненависть, которую голландцы испытывают к марокканским и турецким иммигрантам. Мой успех в политике основан на том, что я был готов выслушать этих людей». Это было поразительное заявление, но я все еще был озадачен, потому что оно не содержало ответа на мой вопрос. Почему богатый человек испытывает такую ненависть к людям, с которыми ему, возможно, никогда не придется иметь дело? Эта загадка лежит в основе успеха Фортейна. Он задел нерв, выходящий за пределы личных интересов.
6
Похороны общественных деятелей часто вызывают массовую истерию. Именно в подобных ситуациях видишь, что таится в сердцах миллионов. Проявления горя, даже искренние, могут выглядеть фальшиво. В какой-то степени это так, ведь эмоции почти никогда не основаны на личном знакомстве. Но смерть знаменитости становится катализатором реальных тревог и разочарований. За время своей короткой карьеры Фортейн научился манипулировать чувствами людей. Если его убийца был фанатиком с твердыми принципами, то Фортейн был мастером эмоционального китча.
Классовая принадлежность не играла при этом большой роли. Похороны Фортейна сравнивали с похоронами принцессы Дианы, настоящей аристократки, которая вела себя так, будто была чужой в своей среде. В каком-то смысле так оно и было. Поразительно, но некоторые люди утверждали, что ее смерть потрясла их больше, чем смерть близкого друга, мужа или одного из родителей. Диана тоже имела врожденную склонность к китчу. Она привнесла элементы поп-культуры в британскую монархию, превратив ее в мыльную оперу. Зрелища, конечно, всегда были частью политики, при любом режиме. Фортейна объединяло с принцессой Дианой не просто использование шоу-бизнеса как политического инструмента – Сильвио Берлускони, Арнольд Шварценеггер и Рональд Рейган тоже прибегали к этому методу, – а инстинктивное понимание людской сентиментальности.
Фортейна сравнивали с популярным голландским певцом Андре Хазесом. Внешностью и фигурой Хазес напоминал шофера-дальнобойщика, но одевался в стиле певцов, выступавших в Лас-Вегасе в 1970-е годы: белые костюмы, расстегнутые рубашки, толстые золотые цепи. Этот исполнитель сентиментальных песен с такими названиями, как «Одинокое Рождество», «Она верит в меня» или «Воздушный змей» – про мальчика, привязавшего к воздушному змею письмо ушедшей на небо маме, – чрезмерным употреблением спиртного довел свой украшенный татуировками организм до такого состояния, что умер в возрасте пятидесяти трех лет, через два года после убийства Фортейна.
Пятьдесят тысяч человек заполнили крупнейший футбольный стадион Амстердама, в центре которого стоял гроб Хазеса, словно алтарь в гигантском храме под открытым небом, храме людских эмоций. Тысячи людей за пределами стадиона видели происходящее на огромных экранах. Мэр Амстердама Йоб Кохен сказал, обращаясь к присутствующим, что Хазес писал свои песни, «макая перо в сердце». Все это напоминало религиозный праздник с песнопениями, скорбным молчанием и выступлениями друзей и родственников, включая десятилетнего сына певца, который кричал: «Папа, я люблю тебя!» Национальные радиостанции еще раз передали песню «Она верит в меня». Пушечным выстрелом его пепел рассеяли над Северным морем. Женщина, сказавшая, что такие мужчины, как Пим Фортейн, рождаются раз в тысячу лет, приводя пример столь же редкого и выдающегося человека, назвала Андре Хазеса.
7
Что же хотел сказать Фортейн своим поклонникам? Что за избавление он обещал? Думаю, что это была ностальгическая мечта, порожденная его собственным чувством неприкаянности.[12]
Как и многие люди во Франции и в Нидерландах, голосовавшие в 2005 году против предложенной конституции Европейского союза, Фортейн считал Европу местом, не имеющим души, абстракцией, привлекательной только для высших политиков, представителей культурной элиты и международного бизнеса, «людей нашего круга» в европейском масштабе. По его мнению, национальное государство должно походить на семью, имеющую общий язык, культуру и историю. Иностранцы, приехавшие со своими обычаями и традициями, потревожили покой государства-семьи. «Как вы смеете! – обрушивался он на них в одной из своих статей. – Это наша страна, и если вы не можете жить по ее правилам, убирайтесь к черту в свою страну, к своей культуре».[13] Для идеального государства-семьи важна не классовая принадлежность, а то, «кем мы хотим быть: одним народом, одной страной, одним обществом».
Несмотря на его протесты, после этих заявлений Фортейн оказался в одном лагере с правыми популистами из других стран Европы. Но все же к своей позиции он пришел не через мрачный нацистский реваншизм Йорга Хайдера и не через горькие воспоминания Жана-Мари Ле Пена о боевых действиях против арабов в Алжире, а через собственное чувство отчужденности. Раз он не мог принадлежать к существующему обществу, он изобрел свое. Чтобы реализовать свое идеализированное представление о голландском государстве-семье, людям был нужен лидер, способный вести их. «Настоящий лидер, – писал Фортейн, – это и отец, и мать… Одаренный лидер – это библейский добрый пастырь… который ведет нас к дому отца. Давайте приготовимся к его приходу».
В 2001 году, перед своим первым триумфом на выборах, он дал очень странное интервью. «Даже если я не стану премьер-министром, – сказал он, – я все равно буду им. Потому что многие люди видят меня в этой роли. Политика требует перемен. Поэтому необходимо показать людям. Точно. Это и есть политика на местах. Я буду посещать больницы и школы, я покажу медсестрам и учителям, как именно нужно действовать… Вот какой лидер нам нужен. Тот, кто может показать людям, что делать. Таким образом ты автоматически становишься олицетворением народа».[14]
Звучит немного путано, эта странная чехарда с личными местоимениями: то «мы», то «ты», то «я». Это – фантазия диктатора-мечтателя, «политика на местах», идея естественного отбора лидера. Это – язык, применявшийся в культах таких лидеров, как Ким Ир Сен или председатель Мао. Самым странным было то, что образцом для Фортейна в этих мечтах служил не Мао и не Ким, а бывший премьер-министр Йооп ден Ойл, чья пуританская социальная демократия была не романтическим идеалом, атипичным продуктом голландской страсти к морализированию и кальвинистских устоев, под влиянием которых он вырос. Цель ден Ойла уравнять голландское общество, облагая налогом богатых, была смелой для своего времени (начала 1970-х), но он был далек от того, чтобы стать диктатором, а его политику не одобрили бы богатые покровители Фортейна. Но искать здесь логику бессмысленно. Как и многое другое в обществе, которое, судя по внешним признакам, отвергло как католическую, так и протестантскую религию, теории Фортейна строились на библейских понятиях. Он был лидером, который в эпоху атеизма хотел привести голландскую паству назад, к дому отца. Потенциальную угрозу он представлял потому, что и он, и его последователи вообразили, будто он и есть тот самый отец – отец, которого они потеряли.
Неприятие ислама это время, возможно, было глубже, чем просто негодование на марокканских вандалов, угрожавших геям в Роттердаме. Было бы упрощением рассматривать это как конфликт конкурирующих монотеистических религий. Фортейна возмущало то, что теперь, когда он и миллионы других людей не только в Нидерландах, но и по всей Европе вырвались на свободу из оков своих собственных вероисповеданий, новоприбывшие иммигранты снова насаждают религию в обществе. Тот факт, что многие европейцы, включая Фортейна, не настолько свободны от веры, как им кажется, делал конфронтацию с исламом еще более болезненной. Особенно это касалось тех людей, которые считали себя левыми. Некоторые променяли веру своих родителей на марксистские иллюзии, но затем разочаровались и в них. В иммигрантах с их религиозным пылом они видели самих себя.
Увлечение Тео ван Гога «божественным лысым» было довольно специфическим. Он, конечно, не испытывал ни тоски по государству-семье, ни страстного желания иметь сильного лидера, который привел бы голландцев в состояние всеобщего блаженства. Но у него, как и у Фортейна, была аллергия на «регентов», их самоуспокоенность, самодовольство и уверенность в том, что они «лучше знают». И он, и Фортейн, несмотря на разницу в возрасте, были порождением 1960-х, когда бунт против устоев церкви и государства потряс всех и вся. Потрясения были целью жизни ван Гога. Они придавали ему силы. Что бы ни говорил и ни делал Фортейн, он задавал своей родине и ее польдерам хорошую встряску. И, как ван Гог, поплатился за это жизнью.
Глава третья «Здоровый курильщик»
1
«В каком-то смысле его можно назвать крестоносцем морали, вы не находите?» – сказала она.
«Не знаю, почему вы так говорите», – ответил он.
«О, все вы такие кальвинисты!» – заметила она.
«Я не уверен…» – возразил он.
«О да, Тео был кальвинистом…»
Мы сидели в саду у озера в Вассенаре. Розы были еще в цвету, а слегка колеблющуюся поверхность воды покрывали белые лилии. Немного выше чуть пологой лужайки, где мы пили чай из фарфоровых чашек, красовалась большая белая вилла. В этом доме, полном старинной мебели и ценных книг, выросли Тео ван Гог и две его младшие сестры. Здесь не было ничего маргинального или мелкобуржуазного. О подобной роскоши люди вроде Пима Фортейна могли лишь мечтать.
Мать Тео, Аннеке, еще красивая белокурая женщина с проницательными голубыми глазами, была одета в элегантный красный костюм. Рядом с ней лежала пачка сигарет. Йохан, его отец, одетый в слаксы и рубашку с открытым воротом, раньше работал аналитиком в секретной службе, о чем дома упоминать было не принято. Он до сих пор не утратил манер профессионального разведчика: высказывался корректно и сдержанно, оставляя впечатление, что знает больше, чем хочет показать, и охотно уступая жене право вести беседу.
Она рассказала мне, что Тео был бунтарем уже в начальной школе, где написал памфлет под названием «Грязная бумага», вышедший в двух частях. Главной темой были кал и моча. Его соавтором стал аристократ Йохан Кварлес ван Уффорд. Я знал это имя. Хотя Тео родился в 1957 году» был на пять лет старше меня и познакомились мы с ним гораздо позже, я знал, каким воздухом он дышал, когда рос. В Гааге много социальных слоев, некоторые из них имеют очень неопределенные границы, но город нашего детства был застегнутым на все пуговицы городом бюрократов, банкиров и адвокатов, где вступление в теннисный или крикетный клуб сопровождалось вопросами о происхождении бабушек и дедушек, где мальчишки обижали младших из-за неправильно выбранного галстука, где дети возвращались в школу после рождественских каникул, проведенных в Швейцарии, с загорелыми лицами и сломанными ногами, где девочки носили платки «Гермес» и жемчужные ожерелья, где восемнадцатилетние парни приезжали на спортивную площадку в собственных «мини-куперах», обдавая грязью учителей на их велосипедах, и где такие фамилии, как Кварлес ван Уффорд, еще очень много значили.
Вассенар – это шикарный пригород Гааги, утопающий в зелени район просторных лужаек, дорожек, покрытых гравием, и больших вилл с буколическими штрихами вроде соломенных крыш и каменных фонарей. В Вассенаре находились резиденции послов крупных государств, банкиров и промышленных магнатов, скрытые от любопытных глаз простонародья. Его тихие, зеленые улицы, ухоженные сады и крепкие ворота говорили о благоразумии, скрытности и сдержанности.
Ван Гоги, однако, не похожи на остальных. Бунтарский дух присущ всей семье. Йохан, внук Тео, брата знаменитого художника, родился в семье со строгими кальвинистскими взглядами, водившей дружбу с социалистами. Его мать в девичестве носила фамилию Вибаут, члены ее семьи входили в число основателей первой социал-демократической партии. Во время войны несколько Вибаутов участвовали в Сопротивлении. Когда началась война, брат Йохана, Тео, был членом студенческой организации в Амстердаме. Он отказался подписать присягу в благонадежности, как этого требовали нацисты, и присоединился к Сопротивлению, где, помимо прочего, помогал подделывать документы и прятать евреев. В 1945 году его арестовали вместе с другими членами группы. Незадолго до конца войны он был казнен в дюнах на побережье Северного моря.
В семье Аннеке тоже были социалисты, но с квазиаристократической родословной. Поскольку ее дедушка служил дворецким в одной из знатных амстердамских семей, ее мать имела возможность посещать французскую школу вместе с дочерьми аристократов и учиться игре на фортепьяно. Она могла бы превратиться в сноба, но сохранила твердые левые убеждения, как и отец Аннеке, вступивший в Сопротивление вместе с другими социалистами. Арестованный за помощь евреям и работу в подпольной газете, он попал в концентрационный лагерь, был освобожден в 1944 году и тут же возобновил свою нелегальную деятельность. «Он был неутомим, – объясняла Аннеке. – Он никогда не сдавался, совсем как Тео».
В стране, где лишь немногие оказали активное сопротивление, а остальные предпочли не вмешиваться, семья Тео была необычной. Помимо прочего, ван Гоги являлись активными членами ныне не существующего Общества гуманистов, основанного в 1947 году для поддержки людей, искавших духовной жизни без веры в Бога. Вместо Библии они читали Вольтера, светского святого диссидентской литературы. Дед Тео добился того, чтобы голландские солдаты могли познакомиться с идеями гуманизма. По воскресеньям почти все утренние передачи голландского радио были посвящены проповедям католических и протестантских священников. А в 9:45 один из «гуманистов», отстаивая свои взгляды, рассказывал о жизни духа без Бога или Иисуса.
Кальвинизм, социализм, гуманизм – все оставило свой отпечаток. Возможно, этим объясняется то, что отец Тео не только служил в разведке, но и брал на себя миссии, достойные Дон Кихота. Взять, к примеру, его сопротивление планам строительства резиденции голландского наследного принца и его семьи в самой лесистой части Вассенара. Почему принцу позволяют занять так много земли? И восьмидесятилетний Йохан пошел от дома к дому, проводя свою обреченную на провал кампанию. Он так и не сдался. В конце концов, это был вопрос принципа.
2
В детстве Тео не интересовали ни война, ни героические подвиги его предков. Когда отец пытался читать ему детский рассказ о классе, отказавшемся заниматься плаванием после того, как ученикам-евреям было запрещено приходить в бассейн, он не стал слушать. Тео было девять лет, значит, это происходило в 1966 году. В Амстердаме это был год великого брожения умов, весь город встал с ног на голову, когда прово[15] в белых джинсах бросили дымовые шашки в королевскую карету, где ехала принцесса (теперь королева) Беатрикс со своим женихом Клаусом фон Амсбергом, немецким дипломатом, который, будучи школьником, вступил в гитлерюгенд. В этом не было ничего необычного; большинство немцев его возраста поступали так же. Безусловно, ничто не говорило о том, что будущий принц сохранил какие-то симпатии к нацизму. Совсем наоборот. Но королевская свадьба в Амстердаме, городе бунтарей и республиканцев, была расценена как провокация.
Провокация была сутью молодежного бунта, власть провоцировали, чтобы выявить авторитарные инстинкты «регентов», устраивали хеппенинги и демонстрации, ожидая и даже надеясь, что полиция продемонстрирует тяжелую руку власти. (Проявит «репрессивную толерантность», как выразился Герберт Маркузе, гуру левого студенчества.) Подобные мятежи вспыхивали по всему миру – в Париже, в Праге, в Лондоне, в Беркли, в Берлине, в Токио. Объединяло их то, что это были выступления молодежи: молодежь против среднего возраста. Но, как и в случае с реакцией на политический ислам, существовали национальные различия, отражавшие историю каждой из стран. В Праге восставали против коммунистической диктатуры. В Амстердаме – против «потребительской культуры», против порабощения телевидением и семейным автомобилем, против скуки благоденствия. Но поскольку это была Голландия, восставали и против основ религиозной и политической власти, так долго объединявших общество.
Восстание началось с телевизионной программы, вышедшей в эфир в 1964 году. Я вспомнил о ней однажды вечером в Амстердаме, когда женщина сорока с лишним лет заметила в разговоре со мной, что «в нашем обществе невозможно представить людей, яростно спорящих о религии». (Мы только что посмотрели игру двух актеров-мусульман, открытых Тео ван Гогом талантов, в театре около мечети, в которую обычно приходил молиться Мохаммед Буйери.) Моя спутница забыла, а возможно, и не знала о Zo is het toevaltig ook nog'is een keer [16], сатирической телевизионной программе, сделанной по образцу программы Би-би-си «Ну и неделька была».
Вели программу Zo is het несколько известных журналистов, молодой писатель-гей и телеведущая Мис Бауман. Писатель Герард Реве впоследствии прославился не только своими книгами, но и шутовскими высказываниями крайне правого толка, выступая в образе неофита голубого католицизма – этакий гибрид Пима Фортейна и Оскара Уайльда. Храбрый первопроходец исповедальной гей-беллетристики, с одной стороны, и сардонический, полусерьезный реакционер – с другой, он был предтечей ван Гога в роли устного провокатора, чьи крайние взгляды и личные конфликты, предававшиеся широкой гласности, никто особенно не принимал всерьез.
Но настоящей знаменитостью Zo is het была Мис Бауман. Она стала национальной звездой в 1962 году, когда сорок восемь часов без перерыва вела благотворительное шоу, посвященное открытию деревни для инвалидов, транслировавшееся по телевидению и радио. Шоу «Откройте деревню» вызвало взрыв общенациональной истерии. Все знаменитости, большие и малые, все, чье имя пользовалось хоть какой-то известностью, не говоря уже о постоянном потоке бойскаутов, самодеятельных фокусников, деревенских полицейских и монахинь, играющих на Гитарах, проходили через студию и на несколько минут оказывались в центре внимания с «нашей Мис». Неожиданная всеобщая любовь к «Деревне» достигла такой силы, что люди буквально пропихивали деньги в двери телевизионной студии. Я слушал «Деревню» по радио. Как и у многих, у нас еще не было телевизора; отец боялся, как бы он не повлиял отрицательно на наши умственные способности. В каком-то смысле радио, заставлявшее работать воображение, сделало шоу еще более захватывающим.
Но Zo is het была чистой воды телевизионной программой. Летом 1964 года, когда начался ее показ, ничего драматического не происходило. Дело не заходило дальше легкого подшучивания над устоями общества. Как обычно, приходили время от времени злобные письма, содержащие проклятия в адрес «чертовых красных» и «паршивых евреев», не более того. Каждая новая программа задевает чувства каких-нибудь чудаков. Третья передача цикла, вышедшая в эфир 4 января 1964 года, обещала быть чуть более провокационной, но никто не ожидал, что она вызовет такую реакцию. Это был скетч, разыгранный «нашей Мис» и другими, под названием Beeldreligie, «Религия экрана». Идея заключалась в том, чтобы посмеяться над растущим преклонением перед телевидением в семьях представителей среднего класса. Церкви пустели, а люди грелись в лучах своих новых домашних алтарей. Студент юридического факультета из Амстердама читал отрывки из Библии, в том числе десять заповедей, в которых слово «Бог» было заменено словом «экран».
Само по себе не так уж это было и скандально. По сравнению с тем, что делал в Америке примерно в то же время ниспровергатель устоев Ленни Брюс, все выглядело довольно безобидно. Но последствия оказались чрезвычайными. Программу клеймили позором на первых полосах газет, премьер-министр был в ярости. В парламенте спрашивали, почему власти не воспрепятствовали показу этого возмутительного зрелища. Министр культуры и образования собирался принять меры, чтобы подобные программы никогда больше не появлялись на экранах.
Затем пошли письма, тысячи писем, многие полуграмотные. «Чертовы красные» и «паршивые евреи» в них, конечно, тоже фигурировали, но было и такое: «Возможно, пройдет какое-то время и наступит день, когда ты окажешься под колесами нашей машины. Там, где ты живешь, темно. Твое время истекло». Или такое: «Скоро мы доберемся до вас, пособники нацистов и евреи. Мы доберемся до вас, грязная шайка… Вам лучше было стать сутенерами [sic. – И.Б.]…» Или такое, демонстрирующее странную смесь исторических аллюзий: «После освобождения от немецкой оккупации мы брили головы ненавистным членам NSB,[17] теперь мы приедем и обреем головы ненавистной шайке, сделавшей эту позорную программу. Мы принесем горшки со смолой, бутылки с бензином и соляной кислотой…»
Члены NSB были голландскими нацистами. Возможно, появившееся после войны настойчивое стремление делить людей задним числом на «хороших» и «плохих», на патриотов и предателей, антифашистов и нацистских пособников было признаком высоких моральных принципов. Но, скорее всего, таким образом давала о себе знать нечистая совесть людей, которые не были ни однозначно хорошими, ни однозначно плохими. Куда хуже, что в 1964 году слово «евреи» использовалось как оскорбление наряду со словосочетанием «нацистские пособники». То, что кое-кто из анонимных авторов не делал между ними различия, тревожило, пожалуй, больше всего. «Наша Мис», которую обзывали «еврейской шлюхой», на самом деле была католичкой. Для некоторых людей слова «еврей» и «NSB» стали равнозначны чему-то мерзкому. Дети Мис ходили в школу в сопровождении полицейских. Продюсеру Герману Вигболду была необходима круглосуточная охрана.
Но столпы шатались. С появлением «Битлз» и 'Толлинг стоунз», отечественных прово и противозачаточных таблеток они стали рушиться. Амстердам был центром восстания. Прово в белых джинсах были одновременно и бунтарями, и утопистами: Homo ludens [18] будет править Новым Вавилоном и тому подобное. По всему городу были расставлены белые велосипеды, которыми кто угодно мог воспользоваться. Строились планы подачи ЛСД в систему водоснабжения Амстердама или веселящего газа в церковь, где должна была состояться королевская свадьба. Площадь у памятника генерал-лейтенанту Й.Б. ван Хётсу, бывшему генерал-губернатору Нидерландской Ост-Индии, стала излюбленным местом проведения демонстраций. В 1965 году памятник измазали белой краской, а в 1967-м взорвали самодельной бомбой.
Ван Хётс не был случайной мишенью. В стране, не имевшей мало-мальски значительных военных героев с семнадцатого века, когда адмиралы Тромп и де Рейтер одержали ряд побед над британским флотом, ван Хётс считался героем в двадцатые годы двадцатого века, потому что подавил сопротивление мусульман голландскому колониальному господству в провинции Ачех. Сей подвиг он совершил, проявив исключительную жестокость. Женщин и детей казнили, бесчисленное множество людей подвергали пыткам. Война, которую Голландия вела в Ачехе против мусульман, стоила жизни более чем ста тысячам человек. Тем не менее в 1935 году ему поставили большой памятник, созданный скульптором-коммунистом. Партия NSB была рада воздать должное истинному голландскому герою. Сын ван Хётса, Й.Б. ван Хётс-младший, позже служил в СС.
Памятник подвергся нападениям прово, когда с темной стороны голландской истории стала спадать завеса тайны. В 1965 году была опубликована книга Якоба Прессера Ondergang («Крушение»), первое серьезное произведение о холокосте в Нидерландах. Оказалось, что мой учитель истории, замечательный рассказчик, которого обожали ученики, раньше состоял в NSB. Сейчас мне кажется странным, что этому не придавали большого значения. Ведь там, где я жил, все знали, что нельзя покупать мясо у одного из мясников, потому что старик «неправильно» вел себя во время войны, или сигареты у женщины, которая была любовницей немца. Мы не знали, были ли обвинения справедливыми. Но все равно избегали этих людей, как будто их запятнанное прошлое заразно.
Во всяком случае, обаятельный господин Венховен, насколько я помню, не вел среди нас нацистскую пропаганду. Но когда социалистический телевизионный канал (столпы шатались, но еще не падали) показал программу об «эксцессах», допущенных голландскими солдатами в их тщетной, но кровавой попытке подавить борьбу индонезийцев за независимость, наш учитель не смог сдержать гнева. На следующее утро в классе он возмущался создателями программы: «Эти красные предатели…» Венховен был не совсем обычным человеком, но далеко не единственным, кто отреагировал подобным образом. Это было в 1969 году, через пять лет после показа программы Zo is het и появления прово.
С другой стороны, там, где выросли мы с Тео ван Гогом, все происходило с опозданием. Прово были амстердамским феноменом. Харри Мулиш, известный писатель, автор книги о прово, даже назвал это амстердамским восстанием против провинций. В то время как длинноволосые парни в белых джинсах атаковали памятник ван Хётса, парижские студенты строили баррикады на левом берегу Сены, в Праге началась «Пражская весна», и везде, от Лондона до Токио, выступали против войны во Вьетнаме, мы тоже провели демонстрацию на нашем школьном дворе. Директор школы, весьма консервативный господин, тщательно все продумав и посоветовавшись с родителями учеников, решил, что принятое в девятнадцатом веке написание названия нашей школы надо изменить на современный лад. Вместо Nederlandsch Lyceum теперь следовало писать Nederlands Lyceum. Для нас, учеников почтенного учебного заведения, это был слишком радикальный шаг. И мы твердо стояли на своем. В блейзерах, жемчугах и шейных платках «Гермес», мы кричали с отчаянным вызовом: Nederlandsch, Nederlandsch, S-C-H… S-C-H… S-C-H!
И все же отпечаток войны лежал на всем. То есть на всем, кроме наших уроков истории. А возможно, и на них – из-за того, что оставалось недосказанным. Война находила отражение не только в абсурдных оскорблениях авторов злопыхательских писем. Прово испытывали на себе ее влияние, как и другие диссиденты в стране «регентов». Амстердамом управлял муниципалитет, большинство в котором составляли славные социал-демократы. Мэр, занимавшийся подготовкой королевской свадьбы, был членом PvdA. Но когда амстердамские полицейские врезались с дубинками в толпу демонстрантов, над ними издевались, называя «оранжевым СС» или, как выразился Харри Мулиш, «гестапо в деревянных башмаках». Клауса фон Амсберга, будущего принца, человека, известного своими либеральными взглядами, молодые бунтари встречали криками «Клаусвенцим».
Казалось, что послевоенное поколение торопится компенсировать пассивность родителей. Сыновья и дочери тех, кто не смог помешать розыску ста тысяч обреченных на смерть евреев, боролись теперь с новыми диктаторами: «оранжевым СС», «гестапо в деревянных башмаках» и немецким дипломатом, который ребенком вступил в гитлерюгенд. В этой запоздалой демонстрации сопротивления было что-то жалкое, но она о многом говорила. Страна Анны Франк не примирилась со своим недавним и трагическим прошлым, будь то немецкая оккупация или события в Индонезии. Высказывания о том, что «регентов», правящих Нидерландами, не говоря уже об Амстердаме, можно сравнить с нацистами, были типичным явлением. Это было вдвойне неуместно, потому что использование оккупации в качестве аргумента вело к искажению фактов, умаляя не только историческую вину, но и храбрость тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы помочь незнакомым людям.
3
Как-то раз в субботу в начале 1990-х мой друг Ханс раздобыл два билета на футбольный матч между «Аяксом» и «Фейеноордом» на старом Олимпийском стадионе в Амстердаме. Это событие всегда было сопряжено с эмоциями толпы и даже насилием. Амстердам против Роттердама, столица против «крестьян», город искусств и культуры против города честных тружеников, бывший еврейский город Мокум против соли голландской земли. На подобных клише основано соперничество этих городов.
Поддержка футбольных болельщиков часто имеет этнические корни. Во многих европейских столицах – в Берлине, Будапеште, Лондоне, Вене – есть клубы, за которые когда-то болели евреи, и с этим наследием трудно расстаться, даже когда для него больше нет реальных оснований. До войны среди членов футбольного клуба «Аякс» было довольно много евреев, но большинство из них погибло. После войны за «Аякс» играло несколько футболистов-евреев, но не так много, чтобы это имело значение. Тем не менее так же, как в послевоенном Амстердаме было несколько мэров-евреев, среди владельцев «Аякса» были евреи, по крайней мере в течение какого-то времени. Фантом Мокума все еще витает над городом, и, как ни странно, на футбольном стадионе он получил новое право на жизнь.
После прово и первых критических дискуссий о холокосте в некоторых голландских кругах стало модно быть евреем. По крайней мере, до Октябрьской войны 1973 года многие восхищались Израилем. И израильтянам согревал сердца миф о храбрых голландцах, поддержавших евреев в самый трудный час, об отважных амстердамских рабочих, которые одни во всей оккупированной Европе объявили забастовку в знак протеста против депортации евреев. Забастовка действительно состоялась, в феврале 1941 года. Это вдохновляло, хотя и не принесло пользы. Спустя десятилетия, когда люди предпочитали вообще не думать о прошлом, это все еще высекало искру гордости.
Эта искра стала частью загадки великой команды «Аякс» 1970-х годов. Что-то в раскованности их игры, в размашистости их «тотального футбола» приписывалось мифу о Мокуме. Болельщики городов-соперников почувствовали это и стали называть «Аякс» «евреями» или даже «паршивыми евреями», «несчастными евреями», «грязными евреями». Подобные ругательства практически никак не связаны с происхождением или с войной. Если ты болельщик «еврейского клуба», то ты «еврей». Дальше – больше. Чем громче болельщики из Роттердама, Утрехта или Гааги кричали «Евреи!», тем чаще вспоминали о Мокуме, а следовательно, и об Израиле. В 1980-е годы болельщики «Аякса» приходили на стадион со звездами Давида и израильским флагом.
Когда мы с Хансом пришли на Олимпийский стадион, нам стало ясно, что произошла ужасная ошибка. Ханс был болельщиком «Аякса», но по какому-то недоразумению наши места оказались в центре сектора болельщиков «Фейеноорда». Это означало, что нам лучше не высовываться. У входа на стадион нарастало напряжение. Конные полицейские наводили порядок среди болельщиков с помощью дубинок. Тысячам мужчин, возбужденных от пива, которое они пили с раннего утра, пришлось протискиваться в одни-единственные узкие ворота. «Евреи проклятые!» – кричали они, направляясь к трибунам.
«Евреи проклятые!» – кричали они каждый раз, когда игрок «Аякса» касался мяча, даже если он был чернокожим суринамцем. «Чертов еврей!» – кричали они, когда белокурый рефери из северной провинции Фрисландия фиксировал нарушение правил игроком «Фейеноорда». А потом я впервые услышал зловещее шипение сотен, а может быть, тысяч смоченных пивом ртов. Я не мог понять, что это значит, пока Ханс не объяснил мне. Звук стал громче – звук вырывающегося из трубы газа. На стадионах в Будапеште игроков команды, принадлежавшей еврейскому бизнесмену, болельщики соперников приветствовали криком: «Поезда в Освенцим готовы!» На Олимпийском стадионе Амстердама болельщики оказались немного изобретательнее.
4
Когда ван Гогу исполнилось тринадцать, его отвезли, хотя ему очень не хотелось, на кладбище в Овервеене, расположенное в дюнах на побережье Северного моря, где немцы расстреливали политических заключенных. Ежегодный ритуал поминовения погибших в годы войны, приходящийся в Голландии на 4 мая, всегда вызывал у него чувство неловкости, возможно, даже отвращения, потому что в этот день его отец не мог сдержать слез. Единственным, кто мог спокойно говорить с Тео о войне, был дедушка со стороны матери, которого он обожал. Тео постоянно навещал его в больнице, пока в 1967 году дед не умер. Однако поездка в Овервеен оказалась не напрасной, потому что среди участников Сопротивления он нашел имя своего дяди Тео, и это произвело на него глубокое впечатление. Вскоре он стал читать о войне все, что мог найти.
Он становился все менее управляемым. Тео всегда был эксцентричным ребенком. Стоя в саду, он выступал с громкими речами перед «моими соотечественниками», что выглядело, конечно, странно. И короткий фильм, снятый на восьмимиллиметровой пленке, в котором его друзья ели экскременты (изготовленные из раскрошенного имбирного печенья), был, мягко говоря, несколько необычным. Но его желание шокировать, взбудоражить сонное предместье становилось все сильнее. После того как он зажег фейерверк в классе, ему пришлось искать себе другую школу.
Многое изменилось даже за четыре года, прошедшие после моего ухода из школы в Гааге. Не все поступки Тео преследовали цель вызвать возмущение. Он организовал телефон доверия для одноклассников, подсевших на ЛСД. Это переросло в настоящую битву характеров с директором школы. Тео отказался идти на уступки. Дома он вел бесконечные споры с родителями, доминировал в каждом разговоре, бил окна соседям и пил лучшие вина отца во время ночных вечеринок с друзьями. Это было поведение не преступника, а скучающего в Вассенаре сорванца. Любимым фильмом Тео был «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика о компании слишком буйных подростков. К тому времени, когда он окончил среднюю школу, его мать была сыта всем этим по горло и велела ему жить отдельно.
Теперь я сидел с его родителями на той самой лужайке, где Тео когда-то обращался к своим соотечественникам, в тени большого дуба и пил прекрасное розовое сухое вино, завершавшее нашу вечернюю трапезу. «Он всегда был не таким, как все, – сказала Аннеке, и ее глаза засветились нежностью, – всегда шел напролом». Когда в начале 1970-х увлечение хиппи достигло Вассенара, большинство друзей Тео отправились в Непал или Индию. Но не Тео. Он поехал в Соединенные Штаты. «Тео всегда любил Америку, – рассказывала его мать, – даже когда она не пользовалась популярностью. Он обожал ее. Нью-Йорк!»
В Амстердаме, где, по его утверждению, он никогда не чувствовал себя дома, Тео вел бесцельную, богемную жизнь, пил, употреблял наркотики, спал где придется, всегда уверенный в том, что сможет вернуться на выходные в Вассенар, когда в сумках накопится грязное белье. Он дважды пытался поступить в академию кино, подавая на конкурс короткометражный фильм о рабовладельце, которому мстительный раб выколол глаза ножкой винного бокала, и получил совет показаться психиатру. После неудачной попытки стать студентом юридического факультета он получил должность помощника режиссера. Затем, в 1981 году, с помощью друзей и богатых знакомых из Вассенара он снял свой первый фильм, «Люгер», черную комедию о похищении прикованной к инвалидному креслу дочери миллионера. Фильм привлек к себе некоторое внимание, не в последнюю очередь из-за двух необычных сцен, в одной из которых мужчина стреляет из пистолета во влагалище женщины, а в другой тот же мужчина засовывает двух кошек в стиральную машину. Тео снял еще двадцать три фильма. Некоторые, такие как «День на пляже» (1984), «Свидание вслепую» (1996) и «Интервью» (2003), заслужили одобрение за смелость и новизну. Ван Гог работал быстро, снимая сразу несколькими камерами. И умел ладить с актерами. Это придавало свежесть его лучшим работам, но часто он слишком торопился, как будто боялся, что остановка грозит ему крахом.
В 1970-е годы ван Гог достиг совершеннолетия, но оставался дерзким ребенком 1960-х, наследником прово. И в то же время он был частью реакции, мятежа против мятежа. Футбольные хулиганы из Роттердама называли своих амстердамских собратьев «грязными евреями» не в последнюю очередь из-за невежества. Но важнее, пожалуй, другая причина: в Европе после холокоста нельзя было придумать более шокирующего оскорбления. Хулиганы знали, что нарушают табу, даже если не понимали толком почему. Они кричали то, что респектабельные люди не осмелились бы произнести даже шепотом, особенно в 1960-е годы, когда геноцид евреев впервые привлек к себе внимание общественности.
Возможно, что-то в этом роде и побудило Тео ван Гога, которого нельзя было назвать невежественным человеком, оскорбить многих голландских евреев. В Голландии всегда было трудно получить финансирование для производства независимых фильмов, поэтому не исключено, что его нападки на современников, таких как кинорежиссер и писатель Леон де Винтер, были отчасти вызваны завистью. Когда де Винтер, сын ортодоксальных еврейских родителей, добился определенного успеха благодаря рассказам, основанным на событиях из жизни его семьи, Тео обвинил его в том, что он эксплуатирует свое еврейское происхождение, чтобы добиться популярности и разбогатеть, роняя фальшивые слезы. В журнале «Мовиола», посвященном кино, Тео написал, что де Винтер может удовлетворить свою жену, только обмотав пенис колючей проволокой и крича «Освенцим!» во время оргазма. Издеваясь над сентиментальностью де Винтера, он написал, что в газовой камере от евреев-диабетиков пахло карамелью. «Желтые звезды совокуплялись в газовых камерах», – еще одна фраза из той же статьи.
Молодая еврейка Эвелин Ганс, преподавательница университета, объяснила нападки Тео на де Винтера тем, что он «завидует теме». Тео немедленно набросился и на нее. Ганс, написал он, «видит в эротических снах, как ее имеет доктор Менгеле», врач из Освенцима. Де Винтер позже сетовал на то, что очень немногие евреи взяли на себя труд пожаловаться на высказывания ван Гога. В действительности в суд на ван Гога подал Центр информации и документации по Израилю. Дело рассматривалось несколько лет, пока не дошло до Верховного суда. Ван Гог обвинил судей в том, что они подкуплены на еврейские деньги. Его признали виновным, но тут же возникла новая неприятность, потому что он настаивал на переиздании оскорбительных статей в сборнике. На сей раз суды, несколько непоследовательно, согласились, что он имеет право сделать это. Он продолжал снова и снова издавать одно и то же. Он никогда не сдавался.
Не только евреи испытали на себе ярость Тео. Возмущенные христиане подали на него в суд за то, что он называл Иисуса Христа «тухлой рыбой из Назарета». Иногда оскорбления носили личный характер. Своего старого друга Тома Хоффмана, который сыграл в первом его фильме, а затем ушел работать к более коммерческим режиссерам, Тео публично обозвал «ходячим тюбиком вазелина». Известная актриса, оплакивавшая смерть своего ребенка, подверглась издевательствам за то, что «делает карьеру на своем горе». Различным политикам и общественным деятелям, препятствовавшим ему, он желал медленной смерти от ужасных болезней. Мэра Кохена обвинял в сотрудничестве с нацистами. И так далее, пока мусульмане не стали объектом его особого презрения. На них обрушился неиссякаемый поток ругательств, среди которых «козолюбы» – самое известное, но далеко не самое оскорбительное.
Хотя ван Гог был большой знаменитостью в маленькой стране и его статьи, интервью и выступления мелькали практически в каждой газете, в каждом журнале и в каждой телевизионной программе, ему этого было мало. Недостаточно быть уважаемым кинорежиссером. Ему хотелось настоящей славы. Возможно, его личные нападки были вызваны не столько завистью к теме, сколько завистью к вниманию. Он не любил, когда суета поднималась вокруг кого-то другого. Его проблема как обозревателя и телеперсоны состояла в том, что он редко где-либо задерживался, ему указывали на дверь. Его последняя и, возможно, самая популярная колонка, «Здоровый курильщик», появилась на его собственном веб-сайте theovangogh.nl и в «Метро», бесплатной газете, которую раздают в поездах.
Существовала, однако, и другая сторона его характера. Он умел быть любезным хозяином, всегда настаивал на том, чтобы оплатить счет в ресторане, а в барах (возможно, слишком нарочито) угощал всех шампанским. Но его лучшим качеством было любопытство. Оно делало его восприимчивым, по-настоящему хорошим интервьюером, задающим вопросы и не навязывающим собственных взглядов. Присутствуя в качестве гостя на одном из его телешоу, я был так очарован его обходительными манерами и заинтересованным отношением, что совсем забыл о мучившей меня простуде. Но видел я и иного Тео, когда мы оба участвовали в радиопередаче, которую вел его друг Макс Пам. Среди гостей был тихий сотрудник музея в темном костюме, он только что организовал огромную выставку картин Мондриана. «Разве это не типичный пример высокомерного элитаризма?» – спросил Тео. Кому нужно абстрактное искусство в таком количестве? Разве нельзя было отнестись к вкусам публики более серьезно? «Что ж, – ответил тот очень вежливо, – возможно, публику нужно образовывать…» Он не смог закончить фразу. «Образовывать?!» Да кто он такой… Элитарист паршивый! Вон отсюда! И так далее в том же духе. Музейный работник выглядел раздавленным. Я уставился в пол. Пам, кажется, остался доволен. Отличное шоу. Типичный Тео.
Оформление проекта «Здоровый курильщик» рассказывает нам о ван Гоге столько же, сколько веб-сайт Палаццо ди Пьетро – о Пиме Фортейне. Более разительный контраст трудно вообразить. Если Фортейн – это претенциозный классицизм, то стиль ван Гога напоминает возмутительное поведение подростка в духе «Грязной бумаги», написанной им в начальной школе. Первое, что вы видите, – цветная фотография ван Гога с красным лифчиком на глазах, а затем герб с тремя мечами и вялым розовым пенисом над словами Luctor et Emergo [19]. Если франт Фортейн придирчиво следил за своей внешностью, то ван Гог выставлял напоказ свою немытость, неопрятность, лишний вес и уродство: огромный живот под старой футболкой, желтые от никотина зубы, ковыряние в носу, почесывания, презрение к личной гигиене. Фортейн стремился повысить свой уровень, ван Гог занижал свой.
Ван Гог считал бесконечные стычки и разглагольствования частью своей борьбы, которая продлится всю жизнь, но – борьбы за что? Личный мотив, пожалуй, объяснить легче всего. Он мог быть верным другом, но взамен требовал полной преданности. Малейший промах, все, что могло показаться подозрительным, расценивалось как предательство и приводило к тотальной войне. Вот почему Том Хоффман, его первый соратник в борьбе с коммерческой киноиндустрией, не мог рассчитывать на прощение после того, как присоединился к ней. Он должен был оставаться соратником, таким же аутсайдером, принципиальным оппозиционером, борцом. А если нет, значит, он враг.
Друзья Тео утверждают, что даже самое неблагоразумное его поведение было следствием принципиальности. Макс Пам: «Страсть, преданность, честность и неуклонное следование принципам – вот чего Тео требовал от себя и от окружающих. Стоило ему заподозрить трусость или лицемерие, как человек переставал для него существовать».[20]
Требование полной откровенности, отношение к такту как к проявлению лицемерия, уверенность в том, что обо всем следует говорить открыто, какой бы щекотливой ни была тема, отсутствие запретных тем, возвышение прямолинейности до морального идеала – такое нарочитое отсутствие деликатности очень характерно для голландцев. Возможно, его корни уходят в протестантское благочестие, которое противопоставлялось католическому лицемерию. На смену частной исповеди должно было прийти публичное покаяние. Сдержанность считалась признаком утаивания правды, нечестности. Независимо оттого, национальная это черта или нет, Тео ван Гог был ее воплощением. Этим объясняется его жестокость, но также и его страстная любовь к свободе слова, и выступления в защиту тех, чьей свободе, по его мнению, угрожали.
Когда Айаан Хирси Али подверглась нападкам за взгляды, враждебные исламу, Тео проникся к ней сочувствием. Дело было не в том, что она говорила, а в том, что ей хотели помешать говорить это. В документальном телефильме она заставила двенадцатилетних учениц исламской школы ответить на вопрос, чему они преданы больше – Аллаху или голландской Конституции. Это был наводящий вопрос, и, конечно, к ее заметному раздражению, девочки выбрали Аллаха. Айаан была настроена серьезно. Она объяснила, что нетерпимость к гомосексуалистам и евреям, предписанная Кораном, несовместима с равенством, закрепленным в Конституции. Но ее резкий тон отталкивал людей. Критическая реакция не заставила себя ждать и зачастую была столь же некорректной, как и ее вопрос. Социал-демократ Жак Валлаге, мэр Гронингена, родившийся в еврейской семье и переживший оккупацию, заявил, что Айаан Хирси Али провоцирует насилие и что нужно положить конец ее публичным антиисламским высказываниям. Пора напомнить людям о нетерпимости минувшей эпохи. Значительная часть еврейской общины в Гронингене, сказал он, была уничтожена во время войны. Это соответствовало действительности, хотя, возможно, не имело прямого отношения к теме дискуссии.
Ван Гог защищал Хирси Али в своем обычном воинственном стиле. Айаан, заявил он, должна быть окружена телохранителями, потому что «тысячи последователей этого отсталого культа, который называется исламом, считают, что ее нужно уничтожить как вавилонскую блудницу». Валлаге, «по мнению которого, высказываемые ею мысли воскрешают атмосферу периода депортации еврейских детей из Гронингена, тоже будет рад, если ее застрелят…». Типичный удар ниже пояса. Однако в одном отношении ван Гог был прав: хотя Хирси Али, возможно, не следовало навязывать свой вопрос школьницам, ничего общего с нацистами она не имела. Но затем ван Гог, воспользовавшись конфликтом, вонзил свой отравленный кинжал: «Если благословения Аллаха приведут к исламскому господству в Нидерландах, Валлаге будет первым, кому предложат сотрудничать с оккупантами от имени Еврейского совета».[21]
Дискуссия вновь вернулась к войне, депортациям, коллаборационизму. И так без конца в стране, не забывшей своей вины, где на текущие события все еще смотрят сквозь призму прошлого. Если Леона де Винтера или Жака Валлаге можно было упрекнуть в том, что они говорят о страданиях евреев, даже когда это не относится к делу, то ван Гог использовал страдания евреев против самих евреев, причем делал это не только неуместно, но и зло. Он никогда не приводил в качестве аргумента героизм, проявленный во время войны его собственной семьей, но все равно был одержим голландской навязчивой идеей о «хорошем» и «плохом», предателе или участнике сопротивления. При этом он далеко не всегда вел себя порядочно.
5
Помимо «Заводного апельсина» Стэнли Кубрика, Тео ван Гогу нравились произведения Луи Фердинанда Селина и маркиза де Сада, нарушавших литературные табу и громко говоривших о запретном и неприличном. Но его полемика соответствовала и голландской литературной традиции, существующей, по меньшей мере, с конца девятнадцатого века. Работы таких критиков, как Лодевейк ван Дейссел (1864–1952)» назывались scheldkritieken, дословно – «оскорбительная критика». Личные оскорбления были подняты до уровня высокого стиля, и их полагалось воспринимать всерьез, как литературу. Дополнительную пикантность этим произведениям придавало то, что их авторы знали друг друга. Голландия – маленькая страна, а ее литературный мир еще меньше. Высокохудожественные оскорбления были эффективным способом придать вражде в тесном кругу ритуальный характер. Это было серьезно, но отнюдь не смертельно.
Мастерами литературных оскорблений в двадцатом веке были писатели Герард Реве, принимавший участие в Zo is het, и В.Ф. Херманс. Обоим приходилось отвечать в суде на обвинения в оскорблении религии, Хермансу в 1952 году, а Реве – в 1966-м. Херманс написал роман, в котором один из героев называет католиков «самой грязной, самой отвратной, самой лживой, самой вероломной частью нашей нации. Но они плодятся! Они размножаются! Как кролики, крысы, блохи, вши. И они не эмигрируют!» Херманс сказал суду, что это чувства вымышленного персонажа и что литература должна быть свободной. Он выиграл дело.
Герарда Реве обвинили в нарушении закона о богохульстве, проект которого был составлен в 1932 году, когда некоторые коммунисты выступили за отмену Рождества. Согласно новому закону, «злостное богохульство» было запрещено. Реве написал, что Бог – осел, что он будет нежно любить это животное и постарается, чтобы ему не было больно во время оргазма. Бог, также писал он, будет мастурбировать, думая о преданности Реве. Ирония, как всегда, была наложена таким толстым слоем, что никто не понимал, насколько серьезно все это следует воспринимать. Трагедия Реве заключалась в том, что над ним смеялись, когда он был серьезен, и подвергали нападкам, когда не был. Дело дошло до Верховного суда, и там его, наконец, закрыли. Богохульство Реве было признано не «злостным».
Тео ван Гог следовал всем традициям оскорбительной критики. Херманс был одним из его кумиров. Называя мусульман «козолюбами» или «пятой колонной», измышляя всякий вздор об интимной жизни Леона де Винтера или сравнивая Иисуса с «тухлой рыбой», Тео думал, что делает то же самое, что Херманс и Реве. Он был, по его собственным словам, «деревенским дурачком» национального масштаба, толстым шутом, имеющим право говорить правду. Он знал, что людям не нравится, когда их оскорбляют, но даже не подозревал, что его за это убьют. Это была последняя шутка, которую сыграла с ним судьба. Ван Гог громче всех предупреждал об опасности сильных религиозных чувств, а сам вел себя так, будто ему они не грозили никакими последствиями. Он допустил ошибку, полагая, что большой мир не проникнет на его амстердамскую сцену с ее непристойной иронией, личной враждой и жестокими насмешками, которые никак не должны были закончиться настоящим кровопролитием.
6
Дискуссия в Городском театре в Амстердаме обещала быть необычной. Организовала мероприятие группа амстердамских студентов и журналистов под названием «Счастливый хаос». В качестве гостей были приглашены бельгийский основатель Европейской арабской лиги Дияб Абу Джахья и голландский политик, социал-демократ Борис Диттрих. Вести дискуссию предстояло Тео ван Гогу и начинающей киноактрисе Георгине Вербаан. Темы на повестке дня: феминизм, идеализм и мусульманские ценности.
О Георгине Вербаан сказать почти нечего. Однако Абу Джахья – фигура интересная. Он родился в ливанской деревне в 1971 году, а в 1990-м переехал в Бельгию, утверждая, что ему угрожает партия БААС, и изучал политологию в Лёвене. Женившись на бельгийке, он стал бельгийским гражданином, а через три месяца они развелись. В 2000 году он основал Европейскую арабскую лигу. Он брал пример с Малколма Икса. Так же как Малколм, Абу Джахья выступает против ассимиляции. Он хотел бы, чтобы арабы жили в Европе как арабы, со своими собственными политическими партиями и школами.
Йорт Келдер, редактор глянцевого журнала о деньгах и стиле жизни, любовник Георгины Вербаан и актер-любитель, снявшийся в одном из фильмов ван Гога, рассказал мне, что случилось в тот вечер, в июне 2003 года. Абу Джахья вошел в театр в окружении телохранителей угрожающего вида. Когда ему сказали, что ведущим будет ван Гог, он отказался участвовать в дискуссии. Ван Гог сообщил аудитории, что случилось, и выразил удивление по поводу того, что этот «сутенер пророка» нуждается в защите не только Аллаха, но и телохранителей. Абу Джахья и его охранники покинули зал, после чего ван Гог побуждал аудиторию кричать: «Аллах лучше знает! Аллах лучше знает!» Политик Диттрих назвал ван Гога грубияном. Ван Гог назвал Диттриха «липкой смазкой» (Диттрих не скрывал своей гомосексуальности). Еще один славный вечерок в Амстердаме.
Выйдя из театра, один из организаторов подвергся угрозам со стороны телохранителей Абу Джахья. Когда к перепалке присоединился Тео, к нему подошли несколько молодых марокканцев. Что именно они сказали, неизвестно. По словам нескольких свидетелей, они кричали, что «жирной свинье это так не пройдет». Йорт Келдер слышал слова: «Мы поймаем эту жирную свинью и вспорем ей брюхо». Ван Гога уговаривали поехать домой на такси. Ерунда, сказал он, и сел на велосипед.
«Именно тогда, – сказал Келдер, – я понял, как сильно они ненавидят его. Для нас это была просто игра, игра в дискуссию. Они же относились к этому очень серьезно».
Позже ван Гог позвонил Келдеру, явно довольный тем, как прошел вечер. Он любил хорошие скандалы и знал, что этот будет широко освещаться в газетах. Он и сам собирался написать о нем в «Здоровом курильщике». И все же он, хотя и утверждал, что не чувствует никакой опасности, был не совсем спокоен, раз в тот же вечер позвонил на сотовый телефон Айаан Хирси Али. Она ехала в нью-йоркском такси позади шофера-мусульманина, жующего листья ката – сильнодействующего растения, популярного в Йемене и Сомали. Ван Гог был очень взволнован, проклинал мусульман, трусость голландских властей и таких опасных людей, как Абу Джахья. Даже когда она объяснила, что это не лучшее время для разговора, он не унимался. Им обязательно нужно увидеться в Амстердаме, сказал он. Она ответила, что приедет и встретится с ним.
Глава четвертая Голландская трагедия
1
Наджиб развозил пиццу. Нельзя сказать, что доставка пиццы на мотороллере по Гааге была пределом его мечтаний. Умный юноша марокканского происхождения бегло говорил по-французски и по-английски, как и на родном голландском языке, и мечтал поступить в университет, чтобы добиться успеха в жизни.
Здоровье отца Наджиба было подорвано многолетней тяжелой работой на заводе. Он едва мог ходить, сидел дома и смотрел арабские телеканалы, проклиная евреев и других неверных. Мать, одетая с головы до ног в черное, причитала на берберском о своих детях, которые не понимали ее, о муже, который бил ее, и об ужасной жизни среди чужих людей, вдали от родной деревни в горах Риф. Сестра Наджиба, Хафида, носила джинсы и косынку и слушала ливанские поп-группы по MTV. Наджиб разговаривал с сестрой по-голландски, а с родителями по-берберски.
Юлия, красивая голландская девушка, богатая и избалованная, выросла в привилегированной семье. Она надеялась, что ее возьмут в национальную сборную по хоккею на траве. Ее тренер Флорис, молодой человек с длинными светлыми волосами, был в нее влюблен. А она в него – нет. Оба жили в больших домах в престижном районе Гааги, в зеленом пригороде, где летом отовсюду слышались стук теннисных мячей, звон чайных чашек и тихое шипение оросительных устройств на лужайках, очень далеко от бетонного квартала спутниковых тарелок, в котором жил Наджиб.
Отцы Флориса и Юлии, полицейские, женившиеся на женщинах с более высоким социальным статусом, долгое время были лучшими друзьями. Их жены имели деньги и чувствовали свое превосходство, как это свойственно крупной буржуазии Гааги. Отец Юлии, Альберт, был когда-то грубым, но красивым мужчиной, и, возможно, именно эта пролетарская грубость покорила ее мать, Эфье, вступившую в опрометчивый брак. Комфортабельная жизнь, доставшаяся без труда, превратила Альберта в жирного хама, которого раздражали интеллект и светский лоск жены. Эфье нашла спасение от ошибки юности в новомодных увлечениях – медитации и уходе за розами.
Мать Флориса умерла, оставив состояние своему мужу, Йосту. Йост был вульгарен, любил яркую одежду, ездил на дорогих автомобилях, имел большую яхту и злоупотреблял алкоголем. Должно быть, его покойной жене, как и Эфье, нравилась грубая мужественность. Но, как и в случае с Альбертом, это качество давно трансформировалось в примитивное хамство.
Наджиб познакомился с Юлией в магазине одежды, продавщица которого обвинила его в воровстве. Все эти «чертовы марокканцы» – воры, сказала она. Наджиб сохранял спокойствие и вел себя с достоинством. Юлии он понравился. Дальше – больше; они стали созваниваться, назначать свидания.
Флорис был в ярости, он напал на Наджиба на улице, столкнул с мотороллера и ударил ногой, когда-то тупал. Альберт, отец Юлии, перепробовал все, чтобы положить конец встречам дочери с Наджибом. Йост предложил другу помощь. Оба они хотели, чтобы Флорис и Юлия поженились, хоккейный тренер и его лучший игрок, сын и дочь богатых родителей, блондин и брюнетка, голландец и голландка.
Наджиб не только развозил пиццу. Раз в месяц он посещал одного сомнительного типа, чтобы получить деньги для своей семьи. Все было устроено братом Наджиба, Насром, сидевшим в тюрьме за торговлю наркотиками. Наджиб не знал, откуда шли деньги, и не хотел знать. Семья нуждалась в средствах, а он копил на учебу в университете.
Наджиб продолжал встречаться с Юлией, несмотря на то что ее семья была против, как и его собственная, когда ей стало известно об этом. Мать Наджиба боялась, что он поступит так же, как его старшая сестра, и сбежит с неверной. Когда отец узнал о Наджибе и Юлии, он пришел в ярость и избил жену. Младшая сестра Наджиба, разрывавшаяся на части между семейными традициями и фантазиями, почерпнутыми из программ MTV, завидовала брату, но не одобряла его поведение.
Насилие порождало насилие. Флорис снова напал на Наджиба. Наджиб избил Флориса. Йост тайно фотографировал Наджиба и говорил Юлии, что это фотографии из полицейского досье. Единственным человеком, проявившим сочувствие к молодой паре, была мать Юлии, которой нравились хорошие манеры молодого человека и то, что он говорил по-французски. Но она была занята в основном собственными проблемами и мало чем могла помочь дочери. Ситуация еще больше осложнилась, когда Йост узнал, что Наджиб – брат Насра.
Йост был знаком с Насром. Он получал свою долю у тех же колумбийских гангстеров, которые платили Наджибу. Наср, полицейский информатор и мелкий наркодилер, тоже все знал о Йосте. В обмен на деньги, которые выплачивались его семье, Наср согласился отсидеть срок в тюрьме и хранить молчание. Связь Наджиба с Юлией угрожала все испортить. Наджиб мог легко узнать об их сговоре. Несмотря ни на что, молодые люди продолжали встречаться.
Пьянство Йоста перешло все границы, а поведение стало непредсказуемым. Некоторые неприятные факты просочились наружу. Когда Альберт узнал о связи своего друга с гангстерами, он захотел арестовать колумбийцев и пообещал защитить Насра, переведя его в другую тюрьму. В обмен он потребовал, чтобы тот запретил своему брату встречаться с Юлией. Наср отказался. Альберт пришел в камеру Насра и так сильно избил его, что он впал в кому и умер в больнице.
Семья Наджиба возлагала вину за свои несчастья на Юлию. Наджиб по-прежнему любил ее, но его раздирали противоречия. Тем временем Йост попытался скрыться от колумбийцев. Он спрятался, но один из гангстеров нашел его и повесил, инсценировав самоубийство.
Флорис обвинил Наджиба в смерти отца. Решающий поединок произошел на яхте Йоста. Во время драки Наджиб упал в воду. Он не умел плавать, и Флорис не стал спасать его.
Семья Наджиба не позволила Юлии прийти на его похороны. Альберт, пытаясь вернуть любовь дочери, показал свой полицейский значок и заставил родственников Наджиба разрешить ей увидеть тело возлюбленного. Юлия, казалось, простила отца, но ушла из их комфортабельного дома, вышла на берег и продолжала идти навстречу холодным волнам Северного моря, пока не исчезла навсегда.
2
Эту тринадцатисерийную голландскую мелодраму показывали по телевидению зимой 2002 года. Автор сценария Юстус ван Ул хотел, чтобы его история о современных Ромео и Джульетте закончилась на более обнадеживающей ноте. Чтобы матери Наджиба и Юлии встретились и утешали друг друга, смягчая горечь потери своих детей. Чтобы их трагическая смерть сделала примирение возможным. Дескать, когда-нибудь мусульмане и христиане, голландцы и марокканцы научатся жить в мире и, может быть, даже любить друг друга. Но режиссер Тео ван Гог придерживался других взглядов. Все должно было закончиться смертью. «Для него, – сказал Юстус ван Ул, – это была война. Мысль, которую он хотел довести до всех, заключалась в том, что жить в мире с фанатичными мусульманами совершенно невозможно. ‹…› Сериал должен был закончиться плохо во всех отношениях. Без малейшего проблеска надежды».
Но все же ван Гог был сложнее, чем кажется. Пусть он и ненавидел ислам так же, как христианство, и считал, что корень зла – сама религия, но говорил тем не менее, что «есть сотня тысяч достойных мусульман, которым мы, голландцы, должны протянуть руку». Хотя мультикультурная «мыльная опера» закончилась плохо, его симпатии были явно на стороне Наджиба, Юлии и сестры Наджиба, сбежавшей во Францию со своим возлюбленным, не мусульманином. Ван Гог поддерживал любого, будь то реальный человек или вымышленный персонаж, кто бросал вызов традициям, кто восставал против социальных и религиозных ограничений. Ван Гог был кем угодно, но только не расистом.
Он был одним из очень немногих голландских режиссеров, снимавших фильмы об иммигрантах. И, хотя он часто вел себя вызывающе, ему нравилось иметь дело с мусульманами. Фильм «Наджиб и Юлия» был уникальным явлением на голландском или даже на европейском телевидении. Совместно с организацией «Форум», выступающей в поддержку мультикультурализма, ван Гог использовал сериал, чтобы стимулировать дискуссии о религии, сексе, толерантности и так далее в школах и других общественных учреждениях. Через два года после создания сериала он снял фильм под названием Cool! («Клево!») о малолетних преступниках в Глен-Миллс, экспериментальной исправительной школе. Многие актеры были учащимися/заключенными, в основном марокканского происхождения, хотя в роли главного злодея выступал голландский парень с одутловатым лицом, произношение которого выдавало принадлежность к высшему сословию Гааги. Два бывших ученика Глен-Миллс, Фуад Муриг и Фархан эль-Хамшауи, воспользовались шансом стать профессиональными актерами и впоследствии гастролировали по стране с пьесой собственного сочинения об уличной жизни мелких преступников и о своем исправлении.
3
Посмотреть на выступление Фуада и Фархана меня повели два самых знаменитых друга Тео: его основной сценарист Теодор Холман и его продюсер Гейс ван де Вестелакен. Теплым июньским вечером мы ехали в театр на автомобиле Гейса с откидным верхом по южной части Амстердама с ее узкими улицами девятнадцатого века. Холман, коренастый мужчина, недавно разменявший шестой десяток, был известен своими исповедальными статьями и радио-шоу, в которых он много говорил о покойном друге Тео и о собственных проблемах, часто сексуального характера. Театр располагался в новом культурном центре, который по замыслу городских властей должен был с помощью искусства стимулировать взаимную терпимость в районе с мусульманским населением, печально известном высоким уровнем преступности. Мохаммед Буйери, убийца ван Гога, родился на одной из соседних улиц.
Когда мы въехали в «тарелочный квартал», Теодор принялся шутить, что его, мол, теперь непременно убьют. «Мне нужно изменить внешность!» – кричал он с притворным страхом. Марокканская молодежь, сказал Холман, часто дразнит его, крича: «Мохаммед Б., Мохаммед Б.!» Людей на улицах этого мрачного района, построенного в 1950-е годы, было немного. Туристические агентства, предлагающие дешевые авиабилеты в Марокко и Турцию, были закрыты. Несколько молодых людей стояли около захудалой шашлычной и громко разговаривали на голландском сленге, очень напоминавшем американский рэп. Женщины в черных платках несли полиэтиленовые пакеты из местного универсама. Два бородатых старца в джеллабах сидели на скамье и молча смотрели перед собой. Издалека культурный центр напомнил мне мечеть с белым минаретом. Оказалось, что раньше это была христианская церковь.
Теодор с нарочитым воодушевлением поздоровался с симпатичной девушкой, сидевшей за стойкой, – менеджером культурного центра. Ее родители, объяснил он, приехали из Турции. Она, единственная среди своих родных и друзей, голосовала за Айаан Хирси Али. Теодор несколько раз пытался соблазнить ее, но тщетно. В баре он с мрачным видом рассказывал о 1960-х и о том, как он переживал из-за сексуального либерализма своих родителей. Я огляделся вокруг. Мне было интересно, кто приходит в этот культурный центр. Несмотря на то, что мы находились в самом сердце «квартала спутниковых тарелок», мало кто из присутствовавших выглядел не по-европейски. «Турчанка» подтвердила: «Большинство приходящих сюда местных жителей – голландцы».
То же самое, несомненно, можно было сказать об аудитории Фуада и Фархана: исполненные благих намерений либералы смотрели, как два бывших уличных подростка изображают на сцене свой путь к исправлению. Короткая пьеса состояла из стремительно сменяющихся эпизодов: ограбление старушек у банкомата, уличные драки, групповые изнасилования, употребление наркотиков, арест, заключение в тюрьму и, наконец, после прозрения, возвращение в школу и стремление «сделать что-то полезное для общества».
Фуад и Фархан играли свою пьесу в школах, в тюрьмах и даже для Йоба Кохена, мэра Амстердама. Возможно, она была слишком высоконравственной, слишком добродетельной, чтобы полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к театральной постановке. Но позже, когда они присоединились к нам в баре, взяв по стакану безалкогольного напитка, я обнаружил в них нечто интригующее – изюминку, которой не хватало их пьесе. У них была своя позиция. Я хотел больше узнать об их жизни, но то ли время было неподходящее, то ли место. Они и друзья Тео много шутили, хлопали друг друга по плечам, дурачились, но мало разговаривали. Гейс в своих дорогих замшевых туфлях выглядел в культурном центре более уместно, чем Фуад и Фархан в футболках, мешковатых штанах и бейсболках.
Я договорился с Фарханом о встрече в Гааге, нашем родном городе. После того как актеры уехали, Теодор и Гейс стали рассказывать истории о Тео, о его успехе у женщин, о его цветистых письмах, изобилующих клише о вечной любви, о его ироничности. «Ирония, – вполне серьезно сказал Теодор, – очень важная составляющая голландского характера. Я заметил это после смерти Тео. Она, несомненно, является частью нашей традиции».
Это действительно так, и юмор в значительной степени построен на той же традиции. Но у нее есть и неприглядная сторона. Ирония может быть здоровым противоядием от догматизма, но также и способом уйти от ответственности. За возмутительными или оскорбительными высказываниями часто следует утверждение, что это говорилось в шутку, но к тому времени отравленные стрелы уже успевают попасть в цель. Ирония служит отличным оправданием безответственности. Тео ван Гог любил называть себя деревенским дурачком, считая, что это освобождает его от всяких обязательств. В то же время он хотел, чтобы к нему относились всерьез. Желание оборачивать все в свою пользу – распространенная болезнь в голландской интеллектуальной беседе. Примером могут служить некоторые писатели, которыми ван Гог восхищался больше всего. В узком кругу пагубные последствия смягчаются тем, что каждый знает правила игры. Но когда в игре оказываются замешаны посторонние с менее легкомысленным отношением к словам, результат порой выходит весьма плачевным.
4
Мы сидели на открытой террасе кафе в Гааге, недалеко от средневекового здания голландского парламента, огороженного тумбами для защиты от нападений террористов. Фархан, невысокий молодой человек с детским лицом лет двадцати с небольшим, делал приветственные знаки прохожим. Некоторые удостаивались чести хлопнуть по его поднятой вверх ладони. Это его город, сказал он мне, люди знают его. Он был настоящим «парнем из Гааги». Мягкие, ангельские черты лица странно контрастировали с грудью и руками тренированного бойца – он увлекался тхэквондо, корейским боевым искусством. Мы говорили о театре, о ван Гоге и его убийстве, об и сентября и о том, что значит вырасти в Гааге для голландца марокканского происхождения.
Дела у семьи Фархана шли на редкость успешно. Его отец самостоятельно научился говорить по-голландски и владел несколькими магазинами в Гааге. Два старших брата стали первыми марокканцами, закончившими престижную гаагскую гимназию Gymnasium Надапит. Один из них работает специалистом по информационным технологиям в министерстве юстиции, другой – в крупной страховой фирме. «Я был исключением, – сказал Фархан. – Все было прекрасно, пока я все не испортил».
Фархан бросил школу, примкнул к уличной банде участвовал в совершении различных преступлений, попал в центр для содержания несовершеннолетних правонарушителей, а затем в школу для трудных подростков, в которой ничему не научился. Дети сидели без дела, читали комиксы и курили траву. На третий день его пребывания в школе какая-то девочка покончила с собой. Он решил, что это не то место, где стоит задерживаться, и ограбил директора, чтобы его исключили. «Если бы я не ограбил его, то до сих пор сидел бы там, курил дурь, читал комиксы и дрался».
Одно из самых ранних и самых горьких воспоминаний Фархана относится к тому времени, когда ему было всего шесть лет. Оно до сих пор наполняет его гневом. Родители его лучшего друга, голландского мальчика, не разрешали им играть вместе. Его даже не пригласили на день рождения друга. Было ясно, что его не желают там видеть. «Такое не забывается. Хотя в то время я не вполне понимал, что это значит, воспоминания преследовали меня в подростковые и юношеские годы. Хуже всего, когда ты становишься отверженным и тебе дают понять, что ты чужак. И ты присоединяешься к другим, оказавшимся в таком же положении».
В Марокко, объяснил он, дети играют на улицах, но никогда не остаются без присмотра. Все знают друг друга. Взрослые приглядывают за чужими детьми. Но в Гааге все по-другому. Мальчишки предоставлены сами себе, как в марокканской деревне, но никто не следит за ними. Они становятся неуправляемыми, потому что никто не объясняет им, что хорошо, а что плохо. Родители сами не знают, как справиться с повседневными делами, и детям приходится помогать им во всем: заполнять бланки и тому подобное. Именно поэтому дети теряют веру в старших и начинают озлобляться.
На родителей? «Нет, на голландское государство, которое позволяет нам приезжать сюда, но не объясняет, как все устроено. Они позволяют нашим родителям подметать улицы, работать на заводах, выполнять ремонтные работы, но мы, дети, должны сами решать свои проблемы. Мы не виним наших родителей. Просто не можем положиться на них».
Я вспомнил другого голландца марокканского происхождения, с которым незадолго до того познакомился в Роттердаме, где он работает в известной архитектурной фирме. Его отец тоже приехал в Голландию как гастарбайтер, но никогда не имел никакой собственности. Хотя его нельзя было назвать необразованным человеком – в Марокко он учился в коранической школе, – он двадцать пять лет проработал разнорабочим на мебельной фабрике. Его сын Самир родился в Марокко, но в трехлетнем возрасте его привезли к отцу. Он помнит, что был у отца на работе и заметил, как другие рабочие подшучивали над ним – не злобно, просто снисходительно. Они относились к его отцу как к ребенку. «Это было так же обидно, – рассказывал он, – как услышать в магазине выволочку, устроенную матери какой-то голландкой за то, что она плохо говорит по-голландски».
Ему было стыдно за своих родителей не потому, что они не видели, что происходит, а потому, что делали вид, что не видят. Они были слишком гордыми, чтобы признать свое унижение, и оттого их дети чувствовали его еще острее. Когда отец проработал на заводе двадцать пять лет, его в качестве особого поощрения отвезли на работу на машине начальника. И все. «Вот тогда-то я понял, что его совсем не уважают».
Жалел ли его отец о том, что приехал в Нидерланды? «Нет, не жалел, потому что пожертвовал всем для того, чтобы мы жили лучше. Он хотел, чтобы я учился на врача – самый надежный выбор. Он не понимает, почему я захотел быть архитектором. Он считает, что я стал кем-то вроде каменщика».
С братьями Фархан говорит по-голландски, с родителями – по-берберски и по-голландски. «Примерно пятьдесят на пятьдесят», – добавил он. Архитектор Самир сказал, что до сих пор считает себя «гостем в этой стране». Я спросил Фархана, чувствовал ли он себя когда-нибудь голландцем. «Ни голландцем, ни марокканцем», – ответил он. А если Голландия играет в футбол с Марокко? «Тогда я, конечно, за Марокко! Но если бы мне пришлось выбирать между голландским и марокканским паспортом, я бы выбрал голландский. Нужно думать о своих интересах. От марокканского паспорта никакой пользы. Но что касается футбола, тут я могу руководствоваться зовом крови».
В тот день, когда погиб Тео ван Гог, Фархан ехал на поезде в Амстердам. Он собирался встретиться с автором, чтобы обсудить сценарий фильма, и понял, что что-то произошло, когда ему стали звонить по мобильному телефону. По странному совпадению автор жил на улице, где был убит ван Гог. Когда Фархан подъехал к его дому, труп ван Гога еще лежал на велосипедной дорожке под голубым пластиковым покрывалом. На Фархана, как и на многих людей с марокканской внешностью, тут же набросились репортеры, хотевшие узнать его реакцию. Он отказался говорить с ними. «Совести нет у этих журналистов», – сказал он.
Фархан был многим обязан ван Гогу. Без него он никогда не стал бы актером. Ему нравилось работать с ним. Тео всегда был открыт для общения. Но теперь ему приходилось объяснять другим марокканцам, что фильм Cool! был снят до «Покорности» – фильма, созданного ван Гогом с Айаан Хирси Али, – потому что иначе его «сочли бы предателем».
Он видел только маленький фрагмент одиннадцатиминутной ленты. «Это просто смехотворно, полностью лишено смысла». Ван Гога, должно быть, «обманом втянули в создание такого фильма». Проецирование текстов Корана на голое женское тело – это «оскорбление, оскорбление, которого я не смогу забыть, такое же, как тот случай, когда мне не разрешали играть с моим лучшим школьным другом. Все марокканцы чувствуют то же самое. Я не защищаю Мохаммеда Буйери, ни в коем случае. Но в том, что касается фильма, он был прав».
Прав, что убил ван Гога? Фархан нахмурился, вертя в руках пустой стакан из-под кока-колы. Ему было легче говорить не только за себя: «Никто из марокканцев не уважает Мохаммеда Буйери. Убивать во время Рамадана совершенно недопустимо». Это был странный и неожиданный ответ. Что общего между постом и правом совершить убийство? Фархан задумался, а затем сказал: «Убийство никогда не бывает оправданным. Мохаммед, конечно, действовал не один. Он был просто сумасшедшим. Безумцем! Но я понимаю, каким образом его могли подтолкнуть к этому».
Фархан видел, как после и сентября стали появляться экстремисты. Время от времени он встречает их в гаагских кафе. Они говорили то, чего никогда не сказали бы перед камерой. Кто-то сказал, что миллионы мусульманских женщин хотели бы выйти замуж за Мохаммеда Буйери. «Тео втянули в это, – повторил Фархан. – Так же, как я, он попал не в ту компанию, оказался в одной лодке с людьми, чьи ценности отличаются от голландских. Это происходит постепенно, как с наркотиками: начинаешь с одной затяжки, потом еще несколько. Потом сворачиваешь косячок…»
5
Демографические изменения в Голландии заметнее всего не в Амстердаме. Амстердам хоть и не столица, но его жители привыкли к виду иностранцев. Даже во времена Рембрандта здесь существовали большие общины чужеземцев. Разительнее перемены в маленьких провинциальных городах, где не происходило ничего существенного со времен войны с Испанией около пятисот лет назад. Я знал Амерсфорт, расположенный недалеко от Утрехта, только как городок, где находится дом престарелых, в котором поселились мои бабушка и дедушка. Не очень радужная перспектива, что и говорить, но Амерсфорт, с очаровательной колокольней пятнадцатого века, средневековой рыночной площадью и симпатичными провинциальными зданиями, казался сонной глубинкой, уютной и очень скучной. Здесь родился Мондриан, но уехал, когда ему было восемь лет. Единственным другим достойным внимания фактом является то, что в лесу на окраине города находился один из самых страшных нацистских концентрационных лагерей: Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort .
Из 129 720 жителей Амерсфорта почти 21 процент имеет иностранное происхождение. По оценке полиции, 40 процентов марокканских подростков в возрасте от пятнадцати до семнадцати лет подозреваются в преступном поведении. Статистика довольно неопределенная. Что значит «подозреваются»? Может быть, это просто отражение местных предубеждений, а может, ситуация хуже, чем показывают цифры. Кто знает?
В тени колокольни Богородицы я пил чай с Беллари Саидом, невысоким, опрятным человеком. Он родился в Марокко, но говорит по-голландски с сильным южным акцентом жителя Лимбурга – города, расположенного недалеко от бельгийской границы. Обычно такой акцент означает для голландцев только одно: говорящий – католик. Сейчас это уже, конечно, не так. Беллари Сайд – тоже лимбуржец. Пока мы беседовали, по рыночной площади расхаживали юноши и девушки на ходулях в гротескных масках животных и странных остроконечных шляпах, пугая детей и, возможно, воспроизводя какое-то средневековое карнавальное шествие.
Беллари – еще один марокканец, которому сопутствовал успех. Его родители – неграмотные крестьяне, жившие прежде в горах Риф. Тем не менее у него два университетских диплома, он активно участвует в политике и занимается психиатрией. Политические убеждения Беллари – смесь левых взглядов третьего мира с враждебным отношением к Израилю и Соединенным Штатам и активным интересом к мусульманскому самосознанию. Отсюда его членство в Европейской арабской лиге Абу Джахья и желание создать мусульманскую политическую партию в Нидерландах. После и сентября и убийства ван Гога Беллари беспокоит соблюдение принципа господства права. За тридцать лет он не «видел подобной угрозы конституционному государству».
Несмотря на свое отношение к Израилю («Запад урегулирует свои отношения с исламским миром, когда Израиль перестанет существовать»), он считает мощное «еврейское лобби» в Соединенных Штатах примером для европейских мусульман. В Европе должно быть такое же «исламское лобби»: исламские школы, общепризнанный исламский университет, исламские больницы и т. д. Только тогда новые европейцы смогут занять свое законное место как граждане. Идея секуляризации ислама, по его мнению, абсурдна: такого просто не может быть. Вместо этого нужно использовать религию, чтобы вписать мусульман в конституционное государство.
Меня интересовали не столько политические взгляды Беллари, сколько его работа психиатра. Он располагал данными об иммигрантах – данными, прямо скажем, поразительными. По его словам, главными проблемами его пациентов являются депрессия и шизофрения: депрессия особенно распространена среди женщин, а шизофрения среди мужчин. Но шизофрения, похоже, несвойственна иммигрантам первого поколения. Гастарбайтеры страдали в основном депрессией. Шизофрения – это болезнь второго поколения марокканцев, родившихся и получивших образование в Нидерландах. Для молодого марокканца второго поколения вероятность стать шизофреником в десять раз больше, чем для голландца, живущего в сходных материальных условиях.
Существует несколько возможных объяснений этих ошеломляющих данных. Одним из факторов может быть чувство унижения или то, что иммигранты обращаются к психиатру, только когда положение стало критическим. Но у Беллари есть своя теория по поводу шизофрении. Он считает, что проблема заключается в адаптации выходцев из строго регулируемого общества к обществу более свободному, более открытому. Это иной раз приводит к распаду личности. Давление, возникающее в процессе ассимиляции, – один из факторов риска шизофрении. Мужчины страдают ею чаще, чем женщины, потому что имеют больше возможностей взаимодействовать с западным обществом. Когда процесс интеграции идет слишком быстро, когда сын марокканских крестьян бросается в упоительный водоворот западных соблазнов, его когнитивная система может дать сильный сбой. Стремление к строгим религиозным правилам – это форма ностальгии, средство вернуть мир своих родителей или мир родителей, каким он представляется. Чтобы остаться в здравом уме, мужчины стремятся к безопасности потерянного рая.
У девушек и молодых женщин противоположная проблема. Они должны жить, соблюдая многие традиционные ограничения; для них старый порядок еще существует, и они жаждут большей свободы. Беллари, человека, умудренного опытом, беспокоят последствия религиозного экстремизма. Но он, как большинство мусульман, с которыми я говорил, не испытывает симпатии к Айаан Хирси Али. Он считает, что она зашла слишком далеко. «Посмотрите на нее, – говорит он. – Она типичный пример того, о чем я говорю. Борясь за свою свободу, она приходит в ярость каждый раз, когда видит что-то, напоминающее ей о старых традициях, на которых она выросла».
Получается, что слишком много свободы тоже плохо. Мусульманам второго и даже третьего поколения религия нужна «как стабилизирующий фактор». «Она помогает людям лучше интегрироваться, делает их альтруистами, удерживает на правильном пути». Довольно странная, консервативная позиция для человека, считающего себя левым. Он убежден в том, что только хорошо организованная религия удержит молодых людей от скачивания экстремизма из Интернета.
Тоска по строгим ограничениям традиций объясняет также, по его мнению, почему мусульмане предпочитают жениться на девушках из Марокко. Мусульманские девушки, родившиеся в Нидерландах, их слишком пугают. Именно поэтому, считает Беллари, мусульманские девушки все чаще будут выходить замуж за немусульман.
Возможно, он прав, хотя это не соответствует общему мнению, сложившемуся о мусульманских женщинах в Нидерландах. Может быть, потому что женщины в платках, не говоря уже о паранджах, более заметны. Именно женщины – в большей степени, чем мужчины – являются ходячими символами чужеземного фундаментализма, которого многие боятся. Но все же впечатление, которое производят молодые мусульманские женщины, прогуливающиеся по центру голландского города, остается смешанным и неопределенным: девушки в платках и длинных платьях идут рука об руку с девушками в майках и джинсах. Возникает подозрение, что религиозные одеяния часто носят из соображений моды или для того, чтобы подчеркнуть свою непохожесть на других, а не только из набожности.
6
Мало кто из голландцев помнит, что эмансипация женщин в Голландии и других европейских странах произошла совсем недавно. В 1937 году министр по социальным вопросам, католик К.П.М. Ромме, хотел запретить работать всем замужним женщинам. До 1954 года женщин, находившихся на государственной службе, автоматически увольняли после того, как они выходили замуж. Это считалось необходимой мерой для охраны семейной жизни. Перемены наступили примерно в то же время, когда христианская церковь начала терять влияние. Возможно, потому, что изменения произошли на памяти ныне живущих, недавно в позиции «прогрессистов» произошел еще один сдвиг – переход от автоматической, почти догматической поддержки мультикультурной толерантности к неприятию ислама в общественной жизни.
Занятную историю рассказала мне моя подруга Йоланда Витхёйс, историк, писательница и известная феминистка с безукоризненной репутацией политической Деятельницы левого толка. (Ее отец много лет был главным Редактором газеты коммунистической партии.) Мы сидели за ланчем в Амстердаме и беседовали о реакции на исламский терроризм – довольно умеренной, по ее оценке по сравнению с тем, каким гонениям подвергались в прошлом коммунисты. Она вспомнила, как преследовали голландских коммунистов после того, как советские танки подавили венгерское восстание в 1956 году. «По сравнению с тем, как обошлись с ними, – сказала она, – к мусульманам относятся очень мягко».
Когда я заметил, что ислам, религию, не имеющую централизованной структуры, нельзя сравнивать с партиями, получавшими приказы из Москвы, она согласилась, но все же сказала, что, по ее мнению, ислам представляет серьезную проблему. Затем она поведала мне историю об известном либеральном враче из Амстердама, который уволил свою медсестру за то, что она отказалась снимать платок на работе.
В то время это было расценено многими как проявление нетерпимости, недостойное либерала, живущего в мультикультурном обществе. Но Йоланда защищала врача. Отношения с врачом, считала она, особенно у пациента-женщины, очень близкие, основанные на доверии. Когда медсестра отказывается снять платок, это подрывает доверие, поскольку подразумевает, что женщины с непокрытыми волосами безнравственны. Именно поэтому женщинам нельзя разрешать носить платок, когда они выполняют профессиональные функции в качестве медсестры, а уж тем более судьи или учительницы.
Я задумался об этом. Мусульманские платки носят по разным причинам, и это не обязательно подразумевает неодобрение тех женщин, которые их не носят. Пока вера медсестры не мешает выполнению ее профессиональных обязанностей, платок не должен быть проблемой. Если бы, например, она не могла оказывать помощь пациентам-мужчинам – вот это было бы неприемлемо. А так, почему бы не рассматривать платок как ее личное дело, как крест или звезду Давида на шее?
Мы продолжили нашу дискуссию по электронной почте. Тем временем я встретил еще одного бывшего левого, отказавшегося от мультикультурных взглядов. Это был Паул Схеффер, написавший известное (а по мнению некоторых – печально известное) эссе «Мультикультурная драма», в котором он утверждал, что снисходительное игнорирование мусульманской иммиграции голландскими политиками перерастает в бедствие. Как и Йоланда Витхёйс, он видел в исламе проблему. Допуская появление больших обособленных общин мусульман в своем обществе, мы создаем предпосылки для социальной и политической катастрофы.
Я не был знаком со Схеффером лично, до того как мы встретились в его доме в южной части Амстердама. Он живет в большом доме на приятной, тенистой улице всего в пяти минутах ходьбы от знаменитого уличного рынка, на котором марокканцы, турки, суринамцы и выходцы из многих других уголков мира среди сцен, звуков и запахов мультикультурного квартала предлагают свои товары: кускус, свежий красный перец, острые колбасы, чаны с йогуртом и огурцами, хумус и табули, тропическую рыбу, манго и большие колючие дурианы. Египетская поп-музыка, песни из индийских кинофильмов и суринамский рэп доносятся из магазинчиков, торгующих компакт-дисками и DVD. Лозунг, намалеванный белой краской на кирпичной стене, призывает к освобождению курдов.
С непокорными вьющимися волосами, в джинсах и рубашке спортивного покроя, Схеффер выглядел типичным прогрессивным голландским журналистом, который в 1960-е годы мог быть одним из прово. В прошлом романтически настроенный маоист, он оказал серьезное влияние на либеральное общественное мнение своими статьями об иммиграции. Мы встретились в его удобном кабинете, в окружении книг. Налив мне бокал белого вина, он откинулся в кресле и изложил свою позицию. Социальная жизнь, сказал он, заставляя вспомнить историю Йоланды о враче, должна быть основана на определенной степени доверия, на том, что люди настроены на одну волну. Когда культура и ценности слишком большого числа людей радикально отличаются от ваших собственных, доверие утрачивается. Даже с самыми близкими мусульманскими друзьями он, по его словам, никогда до конца не уверен в том, что они понимают все так же, как он, что у них те же ориентиры, такое же чувство юмора. Прежние голландские правительства допустили ошибку, предоставляя гражданство иностранцам и не задумываясь о последствиях. Он рассказал мне, как однажды стоял в очереди в международном аэропорту в Стамбуле и из десяти граждан Голландии, стоявших перед ним, ни один не говорил по-голландски. «Тогда, – сказал он, – я почувствовал, что меня предали».
Одно из достойных восхищения качеств Схеффера – его политический энтузиазм. Он не только говорит. Кризис, переживаемый Голландией, вызывает у него такие глубокие чувства, что он хочет заняться политикой, возможно, даже возглавить социал-демократическую партию. Я упомянул, что Майкл Игнатьефф, известный канадский писатель и ученый, планирует сделать что-то подобное в Канаде. «Видите, – сказал Схеффер, – вот что я имею в виду: мы с вами встречаемся впервые, но вы упоминаете Игнатьеффа, как будто не сомневаетесь, что я слышал о нем. Вы, конечно, правы. Я действительно слышал. А все потому, что мы принадлежим к одной культуре. Мы можем рассчитывать на взаимопонимание».
Я промолчал, но не мог удержаться от мысли, что имя Майкла Игнатьеффа для большинства коренных голландцев значит так же мало, как и для бородатых марокканцев с уличного рынка, расположенного по соседству. Я почувствовал в словах Схеффера некую ностальгию, тоску по более ранней эпохе, когда молодые амстердамские интеллектуалы чувствовали себя первопроходцами в новом мире сексуального и религиозного освобождения, первопроходцами, имеющими общие идеи, ценности, ориентиры. Мусульмане оказались незваными гостями на вечеринке, портящими удовольствие другим. Политика Схеффера отличается от политики Пима Фортейна. Однако оба они разделяют тоску о том, чего, возможно, на самом деле никогда не было, но потеря чего тем не менее остро ощущается.
Когда я упомянул в разговоре с Йоландой Витхёйс имя консервативного голландского ученого, считающего, что мы должны бороться с исламской нетерпимостью, возродив дух классицизма, ценности древних Афин, она тут же отвергла эту теорию. Она не разделяла нежных чувств, которые многие консерваторы испытывают к 1950-м годам, хотя «в стране, конечно, было меньше жителей и меньше насилия». Нет, ее беспокоит вопрос, «что же будет с равенством полов и правами геев. По-моему, это ужасно, что мы должны предоставлять социальное обеспечение или субсидии людям, которые отказываются пожать руку женщине». Значит, толерантность имеет свои границы даже у голландских прогрессивных деятелей. Легко быть терпимым к людям, очень похожим на нас самих, кому мы можем инстинктивно доверять, чьи шутки мы понимаем, кто разделяет наше представление об иронии и, возможно, даже слышал о Майкле Игнатьеффе. Гораздо труднее распространить этот же принцип на чужаков в нашей среде, которых наши обычаи раздражают не меньше, чем их собственные обычаи раздражают нас; Они со страхом наблюдают за тем, как их дети, оказавшись между двух огней, ускользают из-под влияния родителей в новый, ошеломляющий мир. Йоланда Витхёйс и Паул Схеффер, как и Тео ван Гог, вполне готовы протянуть руку этим детям, если они отказываются от тех самых вещей, от которых голландские прогрессивные деятели отказались в не столь отдаленном прошлом. Но это не поможет тем, кто идет другим путем и ищет спасение или. по крайней мере, утешение в возврате к традициям.
7
Шафина бен Даман, молодая уроженка Марокко, была одета в синюю майку и джинсы, летнюю одежду большинства голландских женщин моложе тридцати. Она приехала к отцу в Нидерланды, когда ей было шесть лет, и выросла в Гааге. Адрес электронной почты Шафины дала мне Йоланда. Шафина работала в приюте для женщин, подвергающихся физическому насилию, главным образом иммигранток. Кроме того, вместе с тремя другими молодыми голландками марокканского происхождения она сняла документальный фильм о насилии над женщинами. Вдохновленные автобиографической книгой Самиры Беллил «В кругах ада» о том, как она была изнасилована группой арабских мужчин в парижском гетто, Шафина и ее друзья поехали в Париж, чтобы поговорить с активистами борьбы за права женщин. Причиной, по которой к Беллил, дочери алжирских иммигрантов, и подобным ей молодым женщинам относились как к распутницам или того хуже, был их отказ носить платок или чадру – другими словами, желание быть похожими на своих европейских сверстниц.
Я спросил Шафину и ее подругу и коллегу Ламию Абасси, что они думают о проблеме платка. Шафина рассказала о своем старом районе в Гааге, сыром и сером который я помнил с детства и в котором теснота кварталов старого города сочеталась с безжизненностью пригорода. Теперь на улицах, по словам Шафины, «преобладают платки». По одной этой причине она не очень любит находиться там. Но когда я привел мнение Йоланды, Айаан Хирси Али и других женщин, что платки – символ угнетения женщин, Шафина воскликнула: «Чушь!»
«Женщин, которые не носят платки, – продолжила она, – тоже угнетают, еще как – возможно, даже больше, чем тех, которые носят. Да разве в платках дело? Мои сестры носят их, и их не волнует то, что я не ношу. Платок ничего не значит».
Шафина имела привычку выражать уверенность в том, в чем она была не так уж уверена, и тут же смягчать свои утверждения оговорками. В вопросе о связи между исламом и насилием над женщинами, например, она разошлась во мнениях со своей подругой Ламией, которая обвиняла ислам. Шафина считала, что проблема скорее в традициях марокканских деревень, где «избиение женщин – обычное дело».
Этот вопрос поднимается снова и снова. После показа их документального фильма в Амстердаме Шафина и ее друзья выступили с призывом «нарушить табу» и провести дискуссию о жестоком обращении с женщинами. Голландка марокканского происхождения Лубна Беррада сказала, обращаясь к аудитории, что «культуру и религию используют, чтобы оправдать насилие. Если девушка жалуется, ее осуждают. Если она идет в полицию или к социальным работникам, она – предательница. Всем моим турецким и марокканским подругам приходилось сталкиваться с насилием в семье».
Это заявление женщины, которая пострадала сама, было встречено как с пониманием, так и с возмущением. «Хорошо, что вы пришли сюда, – сказала девушка из аудитории, – но не приплетайте к этому нашу культуру. Тогда никто не будет видеть в вас предательницу».[22] Многие аплодировали ее словам. Стремление защитить собственную культуру или религию во враждебном окружении вполне понятно, но трудно представить себе, как можно обсуждать подобные проблемы без ссылок на культуру.
Отец Шафины, как и большинство отцов, приехавших в Нидерланды, чтобы найти работу, относится к религии как нормальный обыватель. То есть он старается придерживаться традиций своей родины, не делая из них фетиш и даже не очень задумываясь о них. Когда отец, возвращаясь из мечети, застает Шафину дома, она спрашивает его, «какую чушь нес имам на этот раз». В ответ она обычно слышит комментарии по поводу нравов дочери. Чуть что, сразу дочь, сказала Шафина, «дочь, дочь, дочь – и одеваемся мы слишком вызывающе, и тому подобное».
Ее мать, напротив, более склонна к размышлениям Она начала изучать религию и в результате, по словам Шафины, «стала фанатичкой». Она хочет, чтобы Шафина носила платок. «Она знает, как сыграть на моем чувстве вины. Отца беспокоит только внешняя сторона, что будут думать окружающие. Остальное его не трогает. Но мать не такая. У меня одна сестра и шесть братьев. Все мы восстали против наших родителей. Мать считает, что ее наказывает Бог… Мы выросли с мыслью, что все запрещено, что, сделав что-то недозволенное, можно попасть в ад. Конечно, мы все равно шалили, тайком, но я до сих пор боюсь наказания. О каких бы то ни было сомнениях относительно веры и речи быть не могло. Когда я говорю матери о своих сомнениях, она сходит с ума». Ламия, слушавшая с понимающей улыбкой, добавила с сильным амстердамским акцентом: «Моя мать учила нас, детей, многим вещам, которые никак не связаны с исламом, – старым деревенским обычаям, не имеющим никакого отношения ко мне».
Но даже Ламия сказала, что чувствует себя виноватой: «Когда я занимаюсь любовью со своим парнем, меня охватывает паника. Но мне так хорошо, что я все равно делаю это, хотя Бог и не велит». «Самое важное – девственность, – хихикнула Шафина. – Мы должны блюсти семейную честь. Я даже от поцелуя ужасно боялась забеременеть». Обе женщины рассмеялись, хлопая в ладоши. Шафина вспомнила, как однажды надела джинсы своего брата, и когда у нее задержались месячные, решила, что забеременела от джинсов. «Знаете, – сказала Шафина, внезапно посерьезнев, – вот мы думаем, что живем как хотим. Но на самом деле, сами того не понимая, мы все еще живем так, как хотят наши матери».
После «черной» средней школы, в которой учились практически только дети иммигрантов, Шафина поступила в школу, готовившую персонал для гостиниц. Она впервые столкнулась с детьми коренных голландцев. «Я почувствовала себя такой свободной! Вдруг оказалось, что я могу говорить о чем угодно. Это создает иллюзию, что Голландия – само совершенство. Твои ожидания настолько высоки, что легко разочароваться. Думаю, что теперь я смотрю на вещи более объективно. Но и сейчас я не всегда знаю, что я черт возьми, делаю. Так трудно сделать выбор. Чтобы делать то, что тебе нужно, приходится постоянно конфликтовать с родителями».
Поскольку родители не могли объяснить им, как жить в европейском обществе, девушкам приходилось искать другие источники информации. «Возможно, это звучит глупо, – сказала Шафина, – но тому, как вести себя, как говорить с людьми, меня научило телевидение. Даже в вопросах секса нас просвещал телевизор. Дома мы никогда не говорили о таких вещах. Самый большой барьер на пути к интеграции не голландское общество, а наши родители».
Девушка одного из братьев Шафины – коренная голландка. У них есть ребенок, и живут они вместе. Матери было нелегко принять это. Но теперь она без ума от внука. Случай с ее братом нетипичный, объяснила Шафина. Как правило, марокканские парни встречаются с голландками ради секса, потому что они доступны, но женятся на девушках из Марокко. «Горные козы» – так называет Шафина этих деревенских девушек. В приюте, где она работает большинство пострадавших – это «горные козы». Марокканские парни, сказала она, предпочитают их, потому что хотят жениться на девственницах, которые будут делать то, что им скажут. Марокканские парни, как она выразилась, «очень ненадежные».
8
Шафина бен Даман и Ламия Абасси, возможно, являются исключением, но я не уверен в этом. Вполне вероятно, что их высказывания отражают мнение многих и платки не самый надежный показатель жизненной позиции молодых женщин. Некоторые надевают их только для того, чтобы сделать приятное родителям, и снимают, как только оказываются вне поля зрения старших. Другие повязывают платки, чтобы оградить себя от домогательств мусульманских мужчин. Некоторые носят их, потому что вера дает им утешение. Возможно, из всех девушек, с которыми я разговаривал в Голландии, самое большое впечатление произвела на меня Нора Шуа, студентка юридического факультета Университета Неймегена и руководитель Союза исламских студентов. Нора носит черную паранджу, оставляющую открытым для мира только круглое приветливое лицо, чуть тронутое помадой и тушью.
Неймеген, где родилась Нора, – маленький городок на границе с Германией, и у него богатая история. Этот традиционно католический город возник на месте древнеримского поселения. Здесь стояли войска Друза[23] в период его походов на германские племена. В Неймегене жил когда-то Карл Великий, а Фридрих Барбаросса построил замок на месте его дворца. От замка Барбароссы осталась только часовня над рекой Ваал, мост через которую был захвачен десантом союзников в 1944 году накануне роковой попытки занять Арнем.
Мой дедушка получил назначение в Неймеген после Первой мировой войны в качестве священника маленькой и очень либеральной общины менонитов. Возможно, его отправили сюда именно потому, что протестанты считали Неймеген безнадежно потерянным. Он был сложным человеком, а в Неймегене ему просто не с кем было конфликтовать.
В 1930-е годы мой отец учился в общественной гимназии. Это был свободный от религии оазис в городе, большинство населения которого составляли католики. Протестанты и иудеи сидели за партами бок о бок с католиками из состоятельных буржуазных семей. Однажды субботним вечером, прогуливаясь с отцом по Неймегену, мы увидели старую гимназию. Она ничуть не изменилась со времен его детства: бронзовые буквы названия школы по-прежнему украшали кирпичную стену над изящным входом в стиле ар-деко. Рядом стояли и разговаривали несколько неопрятно одетых мужчин. Когда мы вошли внутрь, негр с налитыми кровью глазами махнул рукой, чтобы мы уходили. «Сюда нельзя», – сказал он. Почему? «Разве вы не знаете? Это – Католический центр по оказанию помощи наркоманам».
Мы пошли назад в центр города, где магазинчики, построенные в девятнадцатом веке, соседствовали с домами шестнадцатого – семнадцатого веков. Гармонию там и туг нарушали сооружения 60-х годов двадцатого столетия. День был рыночный. Я слышал голландскую речь с выраженным южным акцентом, а также турецкую, арабскую, китайскую и берберскую.
Я встретился с Норой в кафе на берегу реки Ваал, откуда был виден мост, отбитый союзниками у немцев. Она рассказала мне о своей семье. Оба ее брата живут с голландскими девушками, и это – проблема, потому что девушки не могут общаться с ее родителями. Но Нора навещает их запросто. Она не осуждает ни братьев, ни сестру, которая не носит паранджу, а однажды даже перекрасилась в блондинку.
Обычная история: отец Норы уехал из Марокко и в 1963 году приехал в Голландию, успев до этого поработать в Испании, Франции и Бельгии. На заводах он брался за самую тяжелую работу, часто работал а ночную смену. Он хотел как следует выучить голландский, но хозяин отговорил его. Для работы это не нужно, сказал он. Теперь отец работает неполный день, у него грыжа, диабет и больной желудок. Мать Норы более религиозна, чем ее муж, но при этом отличается редким здравомыслием. В семье Норы не часто говорят об адском пламени. Однако когда Нора захотела изучать право, ее родители так толком и не поняли что она собирается делать. Они имели смутное представление о юриспруденции, по крайней мере как о предмете изучения.
Нора рано проявила интерес к праву. В школе она всегда участвовала в дискуссиях. У нее был «хорошо подвешен язык». Именно тогда она узнала о голландской Конституции. Идея всеобщего равенства, свободы от религии показалась ей замечательной. Теперь ее восторги несколько поутихли. Ей кажется, что свобода слова заходит слишком далеко. Во время недавней студенческой дискуссии о терроризме студент юридического факультета заявил, что гордится Конституцией, потому что она позволила Тео ван Гогу открыто выражать свое мнение. Это лицемерие, считает Нора. Ведь он сказал так, потому что его оскорбления ван Гога не касались и потому что разделяет его взгляды. Но почему каждый должен иметь право оскорблять людей на том основании, что они принадлежат к другой расе или вере? С точки зрения Норы, это противозаконно.
Нора еще училась в средней школе, когда в Нью-Йорке были разрушены башни-близнецы. В тот день для нее все изменилось, на нее стали смотреть другими глазами: «Раньше я была просто Норой. Теперь я вдруг стала мусульманкой». Она вспоминала, что и сентября немного опоздала на урок. Когда Нора вошла в класс, все повернулись к ней, ожидая, что она что-нибудь скажет, возможно, даже сделает какое-то заявление, потому что обычно она за словом в карман не лезла. Но она «словно онемела». Она чувствовала, что обвиняют всех мусульман, особенно после того, как в телевизионных новостях снова и снова показывали одни и те же жуткие кадры: не только дымящиеся башни в Манхэттене, но и молодых мусульман, танцующих от радости в голландском городке Эде.
Одиннадцатое сентября заставило мусульман серьезнее задуматься о некоторых вещах. О каких? «О том, например, какое право имеет Усама бен Ладен называть себя мусульманином. Или о правильном понимании джихада». Джихад, сказала она, не вызывает у нее «плохих чувств». Люди часто не понимают его истинного смысла: «Молодые марокканцы кричат о джихаде, но это всего лишь юношеская бравада. Они плохо представляют себе, что это значит. Джихад оправдан только как средство самообороны, если вы подвергаетесь нападению или не можете исповедовать свою веру».
Однако вера для Норы остается частным делом. Она не поддерживает введение шариата или исламских законов в голландское законодательство, «потому что они не подходят для этой страны, и, кроме того, я – за разделение церкви и государства». Ей никогда бы в голову не пришло поселиться в стране вроде Саудовской Аравии, где женщинам нельзя иметь водительские права, или Нигерии, где женщин, виновных в супружеской неверности, забивают камнями. Создание мусульманской политической партии Нора тоже не считает необходимым, потому что Население Голландии разнородно, и правительств должно учитывать это». Она является членом организации «Молодые социалисты», входящей в состав Партии труда (PvdA).
Таким образом, Нора – не только благочестивая мусульманка, которая видит смысл джихада в защите своей веры, но и прогрессивная, здравомыслящая подданная Голландии, таланты и амбиции которой могут приносить пользу обществу. Однако она понимает, что все не так просто. Одиннадцатое сентября привело к изменению позиции не только прогрессивно настроенных голландцев, но и иммигрантов. По словам Норы, произошел «поворот». До и сентября образованные марокканцы были уверены в своем будущем в голландском обществе. Они считали себя его членами. Необразованные же чувствовали себя в изоляции или вообще оставались безразличными. Им и сейчас все равно, полагает Нора. Но для образованных все изменилось. Их стало пугать то, что их называют «мусульманами» или «марокканцами». Тем не менее это именно те люди, которым нужно дать все шансы, те молодые люди, которые так старались добиться успеха. Потому что, когда они разочарованы, когда видят, что перед ними захлопываются двери, они озлобляются.
«Я бы разозлилась, если бы такое случилось со мной», – сказала Нора, поправляя платок под порывами ветра, дувшего с реки. Она умолкла, что случалось с ней редко. Я думал о разочарованных интеллектуалах – не только о мусульманах или марокканцах – и об их склонности принимать участие в решении великих революционных задач, когда они чувствуют себя изолированными или загнанными в угол. Я думал об актере Фархане и о горечи, вызванной остракизмом, которому его подвергли.
Я спросил Нору, чем бы она хотела заниматься после получения университетского диплома. Она ответила, что не хотела бы работать адвокатом. Зал суда – неподходящее место для женщины в платке, потому что адвокаты и судьи должны выглядеть нейтрально. Она предпочла бы работать в государственном учреждении. «Но понимаете, – сказала она, – так обидно, что нельзя работать в городской администрации, если ты носишь еврейскую кипу или мусульманский платок. В конце концов, это и мой город. Ты словно мысленно исчезаешь». Эта странная и жутковатая фраза, «мысленно исчезаешь», означала нечто худшее, чем игнорирование или безразличие. Как будто общество умственным усилием отрицает само ваше существование.
Ощущение, что ты «исчез», может вызвать агрессию и ненависть к самому себе; мечты о всемогуществе сливаются с жаждой самоуничтожения. Чтобы доказать себе и миру собственное существование, люди иногда присоединяются к революционному движению или берут на себя миссию распространения слова Божьего. Другие, еще более отчаявшиеся, могут, вообразив себя карой Божией, совершить эффектное преступление, убить известного человека или открыть стрельбу наугад по испуганной толпе. Некоторые потерянные души, чтобы почувствовать, что они действительно живы, чтобы доказать, что они личности, убивали себя: самоубийство как высшее проявление воли. Это самые опасные «радикальные неудачники», одинокие убийцы, которые больше не в состоянии жить в ладу с самими собой и хотят прихватить на тот свет весь мир.[24]
Глава пятая Покорность
1
К черту Хирси Али Сомали
Два месяца в Голландии, ты смотри.
Знает ответ на любой вопрос
Грязная шлюха, я расквашу тебе нос.
И так далее. Это – только начало рэпа в исполнении хип-хоп-группы DHC, состоящей из трех человек, живущих в Гааге («Гаага – моя территория»). Текст, первоначально написанный на голландском языке, становится еще более выразительным («Я разрежу тебя пополам»). Описание ритуала обрезания, которому Айаан Хирси Али подвергли в детстве, повторяется жутким рефреном. Композиция была якобы написана группой для собственного развлечения, но быстро распространилась по Интернету, о ней сообщила телевизионная программа новостей, и разразился скандал. Хирси Али подала в суд. Члены группы были арестованы, преданы суду, признаны виновными и приговорены к 150 часам общественных работ. Все трое по происхождению марокканцы.
Никто из тех, кто видел или слышал Айаан Хирси Али, не может относиться к ней равнодушно. Для некоторых она – героиня, восстающая против сил тьмы, борющаяся за свободу слова и ценности Просвещения. Мужчины очарованы ее редкой красотой. Стройность и элегантность в сочетании со смуглой кожей и застенчивой улыбкой придают ее облику неотразимую беззащитность, которая прекрасно смотрится на обложках журналов. У Тео ван Гога первая встреча с ней вызвала типичную реакцию. Он сказал, что «хотел бы переспать с ней».[25] (Возможно, именно поэтому женщины не всегда доверяют ей.) Другие, и женщины и мужчины, ненавидят ее. Объяснить эту ненависть труднее. Среди ее противников встречаются старые прогрессисты, которые считают ее нарушительницей спокойствия в мультикультурном раю. Некоторые возмущены тем, что эта чернокожая женщина стала слишком заметной фигурой, и горят желанием поставить ее на место. Чаще ее ненавидят такие же иммигранты, как она, в основном мусульмане. Это можно объяснить враждебным отношением Хирси Али к исламу, но есть еще что-то, более глубокая обида, которая как раз и нашла выражение в рэп-композиции, до странности голландской и в то же время выплескивающей эмоции, характерные для иммигрантов. Хирси Али ведет себя «ненормально». Она задается, прожив «всего два месяца в Голландии». Она «ходит с важным видом», как «автохтон».
Владелец голландской студии звукозаписи, специализирующейся на хип-хопе, сказал в защиту рэперов, что Айаан Хирси Али «глубоко оскорбила многих людей своими высказываниями. Неужели это сойдет ей с рук только потому, что она образованная и умеет аккуратно формулировать свои заявления, а члены группы DHC – неотесанные уличные ребята, говорящие на своем языке, – не умеют?»
На самом деле Хирси Али никогда никому не угрожала, но этот довод иллюстрирует то негодование, которое она вызывает у многих иммигрантов. Негодование сводится примерно к следующему: она училась, она умеет красноречиво говорить, хотя в Голландии совсем недавно. Она считает, что она лучше нас, родившихся здесь. Ее высказывания аккуратно сформулированы. Она строит из себя голландку, такую же, как коренные жители.
Члены группы DHC заявили, что не собирались причинять ей физический ущерб. Их оскорбления были только словесными. Если бы они хотели убить ее, сказали они, то конечно же не стали бы афишировать свои намерения. Это действительно были всего лишь слова, и нет никаких доказательств того, что марокканско-голландские рэперы из Гааги замышляли нечто большее, чем унизить свою жертву. Рэперы так и поступают; это их стиль, на одной из фотографий группа DHC позирует в джинсах и черных масках, изображая вооруженных повстанцев. Рэперы играют в убийц. Возможно, они уже стали голландцами в достаточной степени, чтобы разделить присущую этой нации склонность к злой иронии. Но Мохаммед Буйери был настроен серьезно, когда приколол к трупу Тео ван Гога записку, угрожавшую Хирси Али смертью. Различие между его словами и словами DHC сводится к одному, и это не вопрос стиля. Рэперы обвиняли ее в том, что она предала свои иммигрантские корни; Мохаммед – в том, что она предала религию, в отступничестве.
2
Первый серьезный акт неповиновения Айаан Хирси Али совершила в Кении, где десять лет прожила в изгнании со своей семьей. Это произошло в конце 1980-х годов, когда шла война между Ираном и Ираком, а Салману Рушди был вынесен смертный приговор. Айаан была хорошей мусульманкой, даже больше чем хорошей мусульманкой. Под влиянием сестры Азизы, ее любимой учительницы в мусульманской средней школе для девочек в Найроби, она укутывалась с головы до ног, участвовала в демонстрациях против Рушди и даже подумывала о том, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне исламских вооруженных сил Ирана против иракского режима Саддама Хусейна. Она шокировала своих одноклассниц, показывая им фотографии убитых мусульман из экстремистских журналов, и заявляла, что готова умереть за Аллаха. Вопреки сомалийским обычаям, она отказывалась обмениваться рукопожатиями с мужчинами.
Однако в тайне от других она дружила с кенийским юношей, который, хотя и являлся благочестивым мусульманином, в данном вопросе был готов дать себе поблажку. Ситуация была чревата скандалом не только потому, что ей надлежало производить на свет сыновей для члена ее собственного клана; ей вообще запрещалось иметь близкие отношения с молодыми людьми. Поэтому они встречались тайно, в темноте кинотеатра. Она до сих пор помнит фильм, который они смотрели, сидя рядом и соприкасаясь руками. От одного прикосновения его руки ее бросало в дрожь. Она испытывала чувство вины и страх, но все равно не могла сдержаться. Фильм назывался «Тайный поклонник», это была голливудская комедия об американских старшеклассниках, запутавшихся в любовных увлечениях. Сам факт, что такое возможно, что молодые люди целуются, ничего не боясь, стал откровением.
На экране они увидели свободу, хотя и показанную в комическом ключе, свободу, связанную с Западом, с Америкой, где учился ее отец, Хирси Маган Иссе, политический активист и противник диктатора Мохаммеда Спада Барре. Лингвист по специальности, он верил в демократию и в образование для женщин, в том числе для собственных дочерей. Соединенные Штаты служили для него примером. Если такая молодая страна, как США, смогла добиться успеха, сказал он себе, то сможет и Сомали. Когда родилась Айаан, он сидел в тюрьме как политический диссидент. В первый раз они встретились, когда ей было шесть лет. Его имя Айаан слышала только в обрывках разговоров, которые велись шепотом. И хотя они живут далеко друг от друга, она до сих пор преклоняется перед ним.
Айаан восстала не против него – это произошло позже. Да и в Кении он бывал очень редко. Ее непосредственная проблема носила сексуальный характер, но была связана со многими другими вещами: как примирить учение ислама, в которое глубоко верили ее мать и неграмотная бабушка, ее любимая учительница сестра Азиза, ее кенийский приятель, она сама и даже ее прогрессивный отец, с физическим и чувственным влечением? Почему они с Юсуфом (так она его называла) могли встречаться только украдкой, в темноте, как воры? Почему она должна была все время лгать о том, что казалось таким естественным? Что отделяло ее от мира американских школьников, увиденного на экране?
Чаще всего Айаан Хирси Али критикуют за ее якобы однобокое представление об исламе. Как и все основные религии, мусульманская вера имеет различные формы и степени ортодоксальности. Некоторые ритуалы, например женское обрезание, носят не религиозный, а культурный характер. В случае с Айаан это была традиция ее сомалийского племени дарод. Когда ее отец, противник этого обычая, был за границей, бабушка сделала обрезание Айаан и ее младшей сестре.
Однако Айаан убеждена в том, что социальные, экономические и политические проблемы, преследующие исламский мир – терроризм, бедность, диктатура, отсутствие научного прогресса, – можно хотя бы отчасти объяснить свойственным всем мусульманам, независимо от культуры, искаженным представлением о сексуальности. Все сводится к тому, что Шафина, молодой кинорежиссер из Амстердама, сказала о своем отце и его имаме: «Чуть что, сразу дочь» – навязчивая идея о чести семьи, зависящей от чистоты женщин.
Вот что Айаан Хирси Али пишет о мусульманской сексуальной морали: «‹…› она берет начало в древних племенных общинах, но освящена Кораном и получила дальнейшее развитие в историях о жизни пророка. У многих мусульман эта мораль выражается в навязчивой идее о девственности. Девственности придается такое значение, что люди не замечают личных и социальных катастроф, являющихся следствием этой навязчивой идеи».[26]
Бабушка Айаан держала козла. Вечером, когда козы соседа проходили мимо их участка, козел бросался следом и покрывал одну из них. Потрясенная этой демонстрацией животной силы, Айаан спросила бабушку, почему козел ведет себя так агрессивно. Виноваты соседи, ответила бабушка. Если они не хотят, чтобы наш козел покрывал их коз, пусть гонят их по другой тропинке. Айаан рассказывает эту историю, чтобы пояснить, в чем проблема мусульманской морали. «Что касается секса, – пишет она, – мужчины в мусульманской культуре рассматриваются как безответственные, внушающие страх животные, теряющие контроль над собой, как только увидят женщину». Считается, что в этом виноваты не мужчины, а женщины, которые соблазняют их одним своим присутствием. Следовательно, нужны одежды, скрывающие женское тело от посторонних глаз.
На Западе все было совсем иначе. Айаан могла судить об этом по фильму, а возможно, об этом свидетельствовал сам английский язык. Язык сомали был для сказок, мифов и племенного фольклора; арабский язык был языком пророка. Но английский язык представлялся ей языком науки, разума. Ей нужен был английский язык – благопристойный, даже несколько чопорный английский ее индийских учителей в Кении, чтобы «привести в порядок свои мысли».
«Единственная реальная надежда для мусульман, – писала она по прошествии более чем десяти лет после того свидания в кинотеатре Найроби, – заключается в более критичном отношении к себе, в проверке моральных ценностей, почерпнутых из Корана. Только тогда им удастся вырваться из клетки, в которую они заперли своих женщин, а значит, и самих себя. Пятнадцать миллионов мусульман, живущие на Западе, находятся в самых подходящих условиях для претворения этой надежды в жизнь».
На Западе, объяснила она, мусульмане могут говорить то, что думают, не боясь наказания или смерти. Было бы ошибкой не воспользоваться столь благоприятными обстоятельствами.
3
Однажды, когда мы с Айаан Хирси Али ехали по Гааге в бронированном автомобиле, она рассказала мне о своем детстве. Она говорила тихо, почти застенчиво, но это впечатление было обманчивым. За вежливой улыбкой и мягким голосом скрывалась твердость, о которую разбивались все нападки на ее убеждения. Начальник ее охраны сидел на переднем сиденье. Второй автомобиль двигался перед нами, проверяя маршрут движения на наличие потенциальной опасности, а еще один следовал позади. Когда Айаан начала выступать в Голландии, указывая на опасность мусульманского экстремизма, ей стали угрожать смертью. После выхода на экраны фильма «Покорность» и убийства ван Гога ей пришлось жить практически на нелегальном положении: сначала в военных городках и на конспиративных квартирах, затем под постоянной охраной.
Мы проехали расположенный недалеко от футбольного стадиона район Трансвааль, где раньше жили семьи голландских рабочих, а теперь население почти на 100 процентов состоит из «аллохтонов». Этим уродливым и относительно новым бюрократическим термином обозначают иностранцев неевропейского происхождения. Всего несколькими днями раньше я прочитал газетную статью об этом районе, через который в детстве каждое воскресенье проезжал на велосипеде по пути на стадион. Одной из немногих «аборигенов», решивших остаться, была старуха, прозванная «королевой Трансвааля». Она сказала журналисту, который брал у нее интервью, что первыми иностранцами, приехавшими сюда в 1960-е годы, были чернокожие из Суринама. Но с ними проблем не возникало.
«Неприятности начались, – вспоминала она, – когда в нашем районе поселили кучу марокканских и турецких семей. Они не имели никакого понятия о том, как вести себя в нашем обществе. Мешки с мусором выбрасывали со второго этажа прямо на улицу, на балконах резали коз и тому подобное. Хуже всего то, что мы говорим на разных языках. У вас с потолка течет вода, а вы не можете сказать соседям сверху, чтобы они закрыли кран. Это раздражает».[27]
Я думал о королеве Трансвааля, когда мы проезжали мимо угрюмых домов с заколоченными окнами и надписями на стенах. Из рваных полиэтиленовых пакетов на тротуары высыпался мусор. Как обычно, на каждом шагу торчали спутниковые антенны. На главной торговой улице большинство мясников торговали халяльным мясом. Кофейни и шашлычные, конечно, выглядели живописнее, чем что-либо в городе моего детства. Однако нельзя считать всех «автохтонов», уехавших отсюда, расистами. Королева Трансвааля говорила правду, которую предпочитают не слышать те, чья жизнь изолирована от культурных конфликтов и общей запущенности «тарелочных кварталов».
Айаан Хирси Али очень хорошо понимает это. Она подметала полы на заводах и переводила для неграмотных женщин, парализованных страхом и смущением в обществе, которое они были не в состоянии понять. Некоторые страдали от жестокого обращения со стороны мужей или отцов; некоторые заразились СПИДом; некоторые потеряли девственность и были выданы замуж за незнакомых мужчин. Это не было похоже на обетованный Запад, о котором мечтала Хирси Али. Как политик, она поддержала «коренных» голландцев, которым приходится покидать свои дома, чтобы убраться подальше от жертвенных козлов, имамов, проповедующих ненависть к Западу, молодых бездельников, напрашивающихся на неприятности, и соседей, не понимающих их языка.
Когда мы в первый раз встретились в Париже, Айаан сказала то, что осмелились бы сказать лишь очень немногие из голландских политиков. Она заговорила о полицейских. Полицейское начальство, сказала она, невежественно, лениво и получает слишком большое жалованье. По-настоящему трудную работу в таком городе, как Амстердам, выполняют малооплачиваемые полицейские, патрулирующие улицы, которые делают все возможное, чтобы противостоять жестокому отношению к женщинам, торговле наркотиками и религиозным конфликтам. Но, продолжала она, «все больше таких людей покидают города. Однажды жители проснутся и скажут: «О боже, весь город черный». А что происходит в Амстердаме, то произойдет и по всей стране».
В Гааге телохранителям Айаан не терпелось покинуть «квартал спутниковых тарелок». Когда Айаан спросила охранника, сидевшего рядом с водителем, можно ли остановить автомобиль и немного прогуляться, поболтать с людьми, чего-нибудь выпить, он чуть не поперхнулся своим остывшим кофе. «Ни в коем случае! – сказал он. – Они вас сразу узнают, и начнутся проблемы. Они будут плевать в вас, проклинать вас. Нужно скорее уезжать отсюда!»
4
Значительную часть своей жизни Айаан провела в разъездах. Родившись в Сомали, в Могадишо, она рано познакомилась с политикой устрашения. Это были «годы, прожитые шепотом», когда ее отец, считавшийся мятежником, скрывался за границей, а Айаан, ее сестру и брата наказывали в школе за то, что они не пели песни, восхвалявшие Мохаммеда Спада Барре, диктатора, которого дома их учили презирать. Когда вспыхнула гражданская война, семья бежала в Саудовскую Аравию, и в Мекке Айаан впервые увидела отца. Она не забыла своего первого впечатления от новой страны: женщины, одетые в черные паранджи с узкими прорезями для глаз. Зловещее влияние ваххабизма, ортодоксального течения, признанного здесь официальной идеологией, достигло и Сомали через имамов, получивших образование в Саудовской Аравии. На смену свободной, яркой одежде, которую традиционно носили в Сомали, постепенно приходили черные покрывала. Здесь же все было черным.
Поскольку женщины почти все время сидели дома, Айаан и ее сестра много времени проводили у телевизора. Айаан помнит кровавые эпопеи, посвященные победам армии пророка над нечестивыми идолопоклонниками, которых живыми зарывали в пустыне. Она помнит программы новостей, в которых влиятельные мужчины встречались с другими влиятельными мужчинами, и при этом рядом не было ни одной женщины. Когда отец приглашал ее брата на охоту, она не могла понять, почему они не берут ее с собой. Но помнит она и египетские «мыльные оперы», в которых проскальзывали любовные сцены.
Из Саудовской Аравии они были вынуждены переехать в Судан, а затем в Эфиопию, где присоединились к другим сомалийским оппозиционерам. Мать Айаан не видела никакого смысла в том, чтобы отдавать дочерей в школу, потому что им все равно вскоре предстояло выйти замуж. Они получили образование только благодаря настойчивости отца. Через год они снова переехали, в Кению. По сравнению с Саудовской Аравией или Эфиопией при полковнике Менгисту Кения была раем свободы, хотя даже над ней нависла тень ортодоксального ислама. Младшая сестра Айаан, непокорная Хавейя, любила носить короткие юбки, которые ее мать с отвращением рвала на куски. Став старше, Айаан заметила, что одноклассницы бросают учебу в школе. Некоторых она встречала потом, несколько лет спустя. Они превратились в усталых домохозяек, измученных обязанностью производить на свет сыновей.
И все же именно в Кении Айаан захлестнула волна фундаментализма, зародившаяся на Ближнем Востоке и настигшая ее в Африке. Сестра Азиза, любимая учительница Айаан в школе для мусульманских девочек, была ее главной вдохновительницей, но привлекали ее и идеи ассоциации «Братья-мусульмане». Стать мученицей, подчиниться воле Аллаха, носить черный хиджаб поверх школьной формы – таковы были элементы ее подросткового идеализма. Еще один парадокс ее юности состоял в том, что от судьбы одноклассниц ее спас отъезд отца, который, хотя и был либеральным политиком, в семейных делах придерживался традиционных взглядов. Тех же взглядов придерживалась мать, но она не обладала достаточным авторитетом, чтобы навязать свое мнение. Если бы в 1980 году отец не уехал в Эфиопию к другой женщине, Айаан тоже пришлось бы выйти замуж и стать, по ее собственному выражению, «фабрикой сыновей». В шестнадцать лет у нее не было бы другого выбора.
Однако столкновение интересов произошло позже, в 1992 году, когда Айаан уже исполнилось двадцать два.
Отец решил, что она должна выйти замуж за кузена, живущего в Канаде. После церемонии в Найроби, на которой впервые встретила своего будущего мужа, она села на самолет в Германию, где должна была перед вылетом в Канаду остановиться у родственников. В первый раз она увидела Европу с воздуха, пролетая над Франкфуртом. Открывшийся перед ней пейзаж, вспоминает она, выглядел «очень аккуратным, хорошо спланированным и продуманным».
Дядя, который должен был позаботиться о ней в Германии, не пустил ее к себе. Его жена-немка не хотела видеть сомалийских родственников в своем доме. Они дали ей какой-то адрес в Бонне. Проведя там одну ночь, Айаан решила сбежать. «Я всегда говорила отцу, что хочу быть независимой. Теперь это была уже не теория. Я должна была сделать решительный шаг».
У нее был номер телефона сомалийца, работавшего в центре для беженцев в Голландии. Этот человек предложил ей связаться с его кузеном в Волендаме. Немного волнуясь, она села на поезд до Амстердама, а там пересела на автобус. Это было странное знакомство с голландской жизнью. Волендам – рыбацкая деревня, куда приезжает много туристов, а местные жители прохаживаются по улицам в деревянных башмаках. Живая картинка традиционного жизненного уклада, своего рода музей под открытым небом. «Хорошенькие домики были украшены одинаково, – вспоминала Айаан, – кружевными занавесками, цветами и растениями. Казалось, что у всех один вкус». Страна производила впечатление более строгой, чем Кения, и одновременно намного более свободной. Этот парадокс продолжал преследовать Айаан даже в политической карьере. Планирование, идеальный порядок немецкого ландшафта, английский язык, ровные ряды голландских домов – все это было достойно восхищения, но единообразие и правила подавляли.
Там, в краю черных шляп и белых чепчиков, деревянных башмаков и сыроварен, Айаан приютила сомалийка, ставшая изгоем в своей семье после того, как вышла замуж за европейца. Она посоветовала Айаан попросить политического убежища, потому что брак по принуждению не считался достаточным основанием для иммиграции. Она должна была представить дело так, как будто ей пришлось бежать от гражданской войны в Сомали. Сомалийцам было легко получить статус беженца. В центре для беженцев представитель неправительственной организации даже отрепетировал с ней ответы на вопросы. Она изменила имя дату рождения и сказала, что прибыла из Могадишо. Значит, фиктивная беженка? «Да, – сказала Айаан, – самая что ни на есть фиктивная».
5
Слушая рассказ Айаан, я вспомнил историю другого иммигранта, родившегося в Иране обозревателя и профессора права Лейденского университета Афшина Эллиана. Он не был радикальным мусульманином. Напротив, после свержения шаха Эллиан встал на сторону слабых; он вступил в левую партию Туде, которая в 1980-е годы подвергалась яростным нападкам со стороны правящего духовенства. Эллиан нелегально выбрался из страны с караваном верблюдов и семь лет провел в Кабуле, где коммунистический режим, поддерживаемый Советским Союзом, разрешил ему создать пропагандистскую радиостанцию. В Кабуле он нуждался в защите от убийц – иранских коммандос. Когда в 1989 году Советы потерпели поражение, ему пришлось еще раз спасаться бегством, на этот раз под видом «восточноевропейского диссидента» и под покровительством ООН. Он был таким же липовым беженцем, как Айаан, но не жаловался. Таким образом он оказался в Нидерландах. Его первые впечатления заслуживают того, чтобы рассказать о них.
Поселившись вместе с тридцатью вьетнамцами в маленькой провинциальной гостинице, он в первую очередь обратил внимание на то, что «Голландия – тихая мирная и зеленая страна. Очень мирная и спокойная Я не мог сдержать слез. Когда я увидел в кафе и на улицах людей, которые свободно разговаривали и громко смеялись, я вспомнил о судьбе моих старых друзей. Здесь наконец была свобода. Мы боролись за нее, но мы ее не видели».
Реакция, типичная для тех, кого Артур Кестлер некогда называл «контужеными ветеранами тоталитарной эпохи». Кестлер имел в виду себя и себе подобных, бежавших от Гитлера и Сталина и считавших Великобританию своего рода «Давосом», огромным убежищем с тихими зелеными парками и простодушным населением, никогда не жившим в страхе, – чудесным местом отдыха для людей, вырвавшихся из лап кровавых режимов. Эти ветераны, как никто другой, способны оценить такие блага, как свобода и мир, но не всегда могут скрыть презрение к тем, кто воспринимает их как нечто само собой разумеющееся.
Если исламисты вызывают возмущение Эллиана, то еще большее возмущение вызывает у него Запад, Запад, который он, как и Айаан, склонен идеализировать. И это отнюдь не парадокс. Как многие интеллектуалы из стран третьего мира, Эллиан осознает существование двойных стандартов. Ему достаточно много лет, чтобы помнить жизнь при шахе, пользовавшемся поддержкой Соединенных Штатов. Во время иранской революции, вспоминает он с гордостью, «мы показали, что можем с пустыми руками бросить вызов самой могущественной стране в мире». «Запад не дал нам демократию. То, что хорошо для них, должно было удовлетворять и нас».
За год пребывания в Голландии Эллиан научился бегло говорить по-голландски. По прошествии чуть более пяти лет он имел ученые степени в области философии, международного и уголовного права. Такие подвиги воли и настойчивости были в Нидерландах менее обычным явлением, чем в США, куда и предпочел бы отправиться Эллиан. Его примеру могли последовать лишь очень немногие иммигранты. Однако его самого интересовало не то, как преуспеть, будучи иммигрантом, и не проблема интеграции, а то, «как американцам и европейцам удается сосуществовать, не перерезая горло друг другу – то есть вопрос свободы в правовом государстве».
Когда в 2005 году мэр Амстердама Йоб Кохен отказался призвать полицию для разгона небольшой, но шумной демонстрации, состоявшейся в день памяти жертв рабства и помешавшей министру интеграции Рите Вердонк закончить свое выступление, Эллиан был не в силах сдержаться. Амстердам, возмущался он, не проявляет терпимости к «диссидентам». Под диссидентами он подразумевал ван Гога, Айаан Хирси Али и себя. Амстердам продолжал он, стал «свободным городом для мусульманских террористов, левых экстремистов и организованной преступности». «‹…›После диссидентов настало время закрыть город для священников. Пока граждане Амстердам неспособны вызвать политическое землетрясение и избавиться от социалистической мафии, ничто не изменится». Вероятно, здесь слышны интонации прежнего, кабульского радиопропагандиста.
Айаан Хирси Али выражает свои мысли спокойнее, с большим обаянием, но при этом нельзя не почувствовать, что в своей антиклерикальной борьбе она проявляет рвение, которое, возможно, сродни ее прежнему увлечению «Братьями-мусульманами» до обращения к идеалам европейского Просвещения.
6
Наш пуленепробиваемый кортеж приближался к району, в котором Айаан провела свои первые годы в Нидерландах. Равнинная местность утопает в зелени, богатые деревни содержатся в образцовом порядке. Мы попали в средоточие строгого кальвинизма, провинциальную глушь, где по традиции с подозрением относятся к чужакам. Живут здесь и очень состоятельные люди, владельцы перестроенных фермерских домов и дорогих вилл. Первым жильем Айаан стал трейлер в лагере беженцев, в лесу рядом с деревней Лунтерен, которую в 1930-е годы голландские нацисты избрали местом проведения массовых митингов. Установленный в деревне черный валун указывает на то, что здесь находится точный географический центр Нидерландов. Там, на земле, священной для голландских чернорубашечников, в 1940 году голландская Национал-социалистическая партия (NSB) заявила о своей преданности нацистской Германии.
Но перемены затронули даже этот сельский центр кальвинизма и фашизма, в котором ушедшие на покой богачи строят роскошные дома. Лунтерен является пригородом Эде, небольшого города, где находится ряд промышленных объектов – в основном сталелитейные заводы и предприятия по производству технологического оборудования. Там поселились несколько тысяч турецких и марокканских рабочих (из них менее десяти человек живут в лилейно-белом Лунтерене). «Квартал спутниковых тарелок» в Эде состоит из невзрачных рядов четырехэтажных жилых домов, а всего в нескольких минутах расположен район с одинаковыми зданиями, одинаковыми тюлевыми занавесками, одинаковыми участками и одинаковыми садовыми гномами – точь-в-точь как тот, что произвел на Айаан одновременно приятное и удручающее впечатление в Волендаме. За окнами, рядом со спутниковыми антеннами сушилось белье. Улицы были почти безлюдными. Именно здесь группа мусульманских подростков вызвала возмущение всей страны, танцуя от радости в день, когда были разрушены башни-близнецы.
Несмотря на возражения охраны, Айаан настояла на том, чтобы совершить прогулку. «Они узнают вас, и тогда неприятностей не избежать», – сказал главный охранник. Первая часть его предположения оправдалась. Едва мы вышли из машины, как в нескольких окнах появились головы людей, которые стали торопливо звонить своим друзьям и соседям, сообщая о нашем присутствии. Сотрудники службы безопасности в блейзерах нервно оглядывались по сторонам, переговариваясь по телефонам. Куда бы ни направлялась Айаан Хирси Али, за ее стройной фигурой следовала группа телохранителей. Будь она одна, ее визит, несомненно, привлек бы куда меньше внимания.
Сначала Айаан собиралась уехать в Англию, но чем дольше она находилась в Голландии, тем больше ей хотелось жить здесь. Ее цель состояла в том, чтобы как можно быстрее выучить язык и приступить к изучению политологии. Как и Эллиан, она хотела раскрыть тайну общества, живущего в мире. Приехав с континента, где почти постоянно творилось насилие, она хотела узнать, как люди могут жить свободно, не убивая друг друга. Но сначала ей пришлось бороться с голландской бюрократией. Вместо того чтобы разрешить ей посещать уроки голландского языка, они предлагали ей работу, для которой она совершенно не подходила, работу, которая не требовала знания языка, но требовала большой терпимости к скуке. Правительство оплатило бы профессиональное обучение, и она стала бы каким-нибудь клерком. Она чувствовала, что агентства социального обеспечения и социальные работники подавляют ее честолюбивые замыслы.
Некоторое время она жила еще с одной сомалийкой недалеко от «тарелочного квартала» в Эде и работала на заводе. Но это ей тоже ничего не давало. Поэтому она повесила в местной церкви объявление о том, что ищет преподавателя голландского языка. На него откликнулась супружеская пара, учителя средней школы, которые позже предложили ей жить в их доме, где она не только выучила язык, но и научилась манерам, обычаям, привычкам и традициям голландского среднего класса. Их домашний быт был хорошо организован, и в нем, как в капле воды, отражалась страна, с которой с самого начала столкнулась Айаан, одновременно гораздо более суровая и гораздо более свободная, чем Кения. Равноправие и свобода личности в ней были связаны со строгими, даже жесткими правилам. Семейные обеды начинались ровно в шесть, на встречи нужно было приходить точно в назначенное время, домашние обязанности следовало делить поровну.
Процесс ассимиляции оказался медленным и трудным, и до конца было еще далеко. Но Айаан в совершенстве овладела голландским языком. Она до сих пор называет свою учительницу, доброжелательную женщину лет пятидесяти, «моя голландская мама». Когда охранники убедились, что Айаан ничто не угрожает, мы зашли к ней на чашку кофе. В доме царил образцовый порядок, нигде ни следа неряшливости или небрежности. Все находилось на своих местах. Бисквит был нарезан на безукоризненно ровные кусочки, а кофе заварен по всем правилам. И муж, и жена ясно дали мне понять, что их фамилия не должна стать достоянием гласности, так как они «боятся последствий, особенно после убийства Тео ван Гога». Неужели они действительно думают, что им что-то угрожает только потому, что они научили Айаан Хирси Али говорить по-голландски? «Меня это самого возмущает, – ответил муж, опрятный мужчина с коротко подстриженными волосами и светло-голубыми глазами, – но так уж сложилось. В Эде много марокканцев, и они могут быть весьма агрессивными. Вы слышали, как они радовались 11 сентября?»
Я не смог возразить ему. Возможно, он был прав. Я не мог представить себе более мирного и безопасного места, чем этот приятный провинциальный пригород в самом сердце Нидерландов. Но даже если он был не прав и никакой реальной опасности не существовало, сам факт, что они были так напуганы угрозой мусульманского насилия, показывал, к каким печальным последствиям может привести убийство одного общественного деятеля. Сточки зрения современной европейской пары, связанной с миром посредством телевидения и Интернета, Южный Манхэттен и Эде не так уж далеки друг от друга. Во всяком случае, не дальше, чем Палестина или Ирак от марокканцев, которые в «квартале спутниковых тарелок» смотрят новости из Касабланки, Бейрута или Катара.
Хотя она и перестала носить платок (чувствуя себя при этом немного виноватой), чтобы лучше адаптироваться к жизни в Эде, Айаан по-прежнему оставалась правоверной мусульманкой. Ее «голландской маме» приходилось учитывать ограничения, касавшиеся питания, кроме того, Айаан не притрагивалась к спиртному. Об этом мне было доверительно сообщено на кухне. Когда к нам вновь присоединилась Айаан, она и ее «голландские родители» стали, смеясь, делиться воспоминаниями о прошлом, но раз или два я заметил некоторую неловкость, возможно связанную с вещами, о которых лучше было не говорить. Не все воспоминания о жизни в Эде были приятными. Был болезненный момент, связанный с младшей сестрой Айаан, бунтаркой Хавейей, носившей короткие юбки в Кении и, вопреки воле матери, поступившей на курсы секретарей, а затем на работу в Организацию Объединенных Наций. Стремясь, подобно сестре, избежать нежеланного брака, она приехала к Айаан в Эде.
Сначала все шло хорошо. Менее чем за два года Хавейя научилась бегло говорить по-голландски. Но мятежная жизнь, похоже, имела для нее слишком тяжелые последствия. После нескольких лет, на протяжении которых инициатива в борьбе за свободу и независимость принадлежала ей, а не Айаан, она начала сдавать позиции, в то время как Айаан чувствовала себя на Западе все увереннее. Как раз когда Айаан перестала носить платок, Хавейя вновь надела его. Круг голландских друзей Айаан становился шире, а ее сестра замкнулась в себе и, лежа на кровати, отказываясь от еды, часами смотрела телевизор. У нее случались приступы плача, она чувствовала себя виноватой в том, что огорчила свою мать. Ислам был путем возвращения домой, к безопасности, к спасению, назад из этой холодной, равнинной страны. В один из очень холодных дней она сказала, повернувшись к Айаан: «Знаешь, почему эти люди не верят в ад? Они живут в нем».[28]
Айаан была в ужасе от того, что происходило с ее сестрой. Когда свободная жизнь на Западе была уже так близко, сестра начала тосковать по жизни в клетке. Такое же разочарование Айаан испытала, когда работала в приютах для мусульманских женщин, подвергшихся физическому насилию. Вместо того чтобы, подобно Айаан, видеть причину своих страданий в собственной культуре и религии, эти женщины часто уповали на ислам как на единственную надежду в своем безрадостном существовании.
Когда, перенеся нервный срыв, Хавейя все-таки вернулась в Кению, ей велели читать Коран и привели к ней колдунов для изгнания демонов. Когда у нее начинались приступы, ее избивали, чтобы усмирить. Началась паранойя, и она перестала есть. В 1998 году она умерла. Это был самый тяжелый момент в жизни Айаан. Отец сказал ей, что на то была воля Аллаха. Но ей становилось все труднее верить в это. Осознание того, что некоторые (а может, и многие) женщины не могут освободиться от оков даже в самых благоприятных условиях, вызвало у нее не только разочарование, но и раздражение, которое ей не всегда удавалось скрыть, когда она встречалась с этими женщинами лицом к лицу.
7
Айаан лишь намекнула на чувство вины, которое она испытывала, сбрасывая с себя цепи, связывавшие ее с прошлым: платок, запрет на спиртное, целомудрие и ограничения в питании. Ее переход от мусульманской веры к непоколебимому атеизму произошел не сразу. Изучая политологию в Лейденском университете, она жила со своим голландским другом по имени Марко. Самое важное табу было нарушено. Однако позже их отношения закончились. Он был пунктуальным и организованным, в то время как Айаан, по ее собственным словам, отличалась «непоследовательностью». Несмотря на растущие сомнения, она оставалась мусульманкой.
Марко не верил ни в одну из религий. Когда он дал ей книгу «Манифест атеиста», написанную голландским профессором философии Германом Филипсе, она отказалась читать ее. Дьявольское творение, подумала она. Спустя четыре года, когда она делила жилье с молодой христианкой из Эде, она попросила Марко прислать ей манифест. Это произошло через год после событий 11 сентября. Сомнения возникли у Айаан после споров с соседкой по квартире, которая отстаивала свою веру. На отдыхе в Греции Айаан, наконец, прочитала манифест. Он ставил те же вопросы, которые она задавала себе. «Теперь я была готова к этому, – писала она позже. – Я поняла, что Бог – всего лишь выдумка и что покорность его воле есть не что иное, как покорность воле сильнейших».[29]
Ислам больше не был для Айаан надежным якорем (или якорной цепью), он стал «проблемой». «Мы должны смотреть в лицо фактам и давать иммигрантам то, чего им не хватает в их собственной культуре: личное достоинство, – писала она. – В Нидерландах молодые мусульманские девушки с еще не потухшим взглядом не должны испытывать то, что испытала я».
Голландия – маленькая страна. С Германом Филипсе мы играли в одной песочнице в детском саду в Гааге. Я помню, что уже тогда он был очень важным ребенком и говорил с большой убежденностью. Высокий и красивый, имеющий пристрастие к галстукам-бабочка и французским фразам, он представляет собой довольно необычную и привлекательную фигуру, в некотором роде джентльмена девятнадцатого века. Он относится к тем людям, что олицетворяют высокую европейскую цивилизацию французского Просвещения и чувствуют себя дома в гостиных Гааги и за высокими столами» Оксфорда (где он, кстати, тоже преподает).
Они были идеальной парой: своевольная дочь сомалийского демократа с изысканными манерами аристократки и обаятельный голландский профессор философии, с пламенным красноречием говорящий о ценностях, к которым она стремилась: о разуме, порядке и свободе – совести, слова, предпринимательства. О романе между ними, из которого они не делали тайны, не стоило бы упоминать, если бы не тот факт, что в сознании Айаан интеллектуальная, политическая и сексуальная свобода были тесно связаны. Знакомство с работами Филипсе и с ним самим обеспечило ей место в самозваной элите публичных поборников Просвещения. Подобно всем неофитам, она отнеслась к этому серьезно. Как и ее единомышленник Афшин Эллиан, она вскоре почувствовала, что в стране, давшей ей приют, ее окружают мужчины и женщины, настолько морально опустившиеся, что на них нельзя рассчитывать в борьбе против сил тьмы.
8
Когда мы в первый раз встретились в Париже и переходили из кафе в кафе, приводя в бешенство ее голландских телохранителей, она говорила о Просвещении. Вначале она сделала мне выговор за то, что в статье, написанной для одного из журналов, о суровых обстоятельствах ее жизни говорилось так, как будто они могли служить объяснением ее взглядов. О ее аргументах, вполне справедливо заметила она, следует судить по их достоинствам. В их основе, объяснила она, лежат прочитанные ею произведениях Карла Поппера, Спинозы, Хайека и Норберта Элиаса. В «Кафе де Флор» она чувствовала себя в своей стихии, грелась в лучах летнего солнца и наблюдала за парнями и девушками, которые проходили мимо в легкой летней одежде, держались за руки, целовались и вообще стремились получить удовольствие от жизни. «Приехав из мира, где господствует племенной уклад, – сказала она, – я с такой радостью читала книги о людях как об общественных существах»*.
Считая главной проблемой ислам, она тем не менее верила, что надежда есть даже у женщин в Саудовской Аравии, не имеющих права водить машину, потому что путь к Просвещению можно «срезать». Не обязательно идти к нему сотни лет. Нужно только «освободить свой разум». Огромное преимущество Просвещения, сказала Айаан с почти фанатичным блеском в глазах, заключается в том, что «оно снимает налет культуры и оставляет только конкретного человека».
Африканской иммигрантке в Европе нужна смелость, чтобы сказать это, даже если она принадлежит к привилегированному классу. Такому человеку, как Герман Филипсе, уверенному в своем праве занимать место за высоким столом европейской цивилизации, легче абстрагироваться от культуры подобным образом, потому что он многое может принимать как само собой разумеющееся. Нет никакой необходимости «срезать путь», если вас научили верить в универсальность и индивидуализм – продукты цивилизации, в которой родился Филипсе. Нельзя сказать, что такое понимание цивилизации на Западе разделяют все. Странно, что Айаан с ее индивидуализмом выбрала в качестве платформы для политической карьеры социал-демократическую партию PvdA. В социал-демократах ее привлекла их «социальная сознательность», но первостепенное значение для них имела культура; они стремились защищать и даже поощрять национальное самосознание иммигрантов в мультикультурном обществе. Для Айаан это было не чем иным, как trahison des clercs (предательством интеллектуалов).
Она считает, что ее мечту об освобождении мусульман на Западе саботируют западные культурные релятивисты, которые борются с расизмом, заявляя: «Если вы критикуете ислам, вы – расист, исламофоб или фундаменталист от просвещения». Или: «Это – часть их культуры, которой вы не должны их лишать». «‹…› Так клетку не удастся сломать никогда. Представители Запада, избравшие своей профессией распределение социальных пособий и помощи в целях развития или представляющие интересы меньшинств, заключили сатанинский договор с мусульманами, заинтересованными в сохранении клетки».[30]
Айаан Хирси Али представляет собой такую интересную и неоднозначную фигуру благодаря той роли, которую она играет в европейской гражданской войне – интеллектуальной, а иногда и кровопролитной. Эта война идет на протяжении столетий между коллективизмом и индивидуализмом, между идеалом универсальных прав и ценностей и зовом предков, между Просвещением и Контрпросвещением, между духом веры и просвещенным эгоизмом, между героем и торговцем. Слушая Айаан, я вспоминал Маргарет Тэтчер: тот же непреклонный разум, та же нетерпимость к тем, кто не смог добиться поставленной цели, имея равные исходные возможности, то же восхищение Америкой. Когда в конце 1930-х годов беженцы из нацистской Германии и Австрии попадали в Великобританию, более консервативные из них, восхищавшиеся богатыми английскими традициями, оставались жить там, а радикалы обычно ехали дальше, в менее предсказуемые Соединенные Штаты. Айаан Хирси Али явно относится к числу радикалов.
«О да, – сказала она в «Кафе де Флор», когда я спросил ее об Америке, – в Нью-Йорке, где можно увидеть людей с разным цветом кожи, я чувствую себя как дома. Некоторые настолько черны, что кажутся почти синими. У многих цветных дела идут очень хорошо, и это подтверждает, что успех не зависит от генетики».
Как и следовало ожидать, Айаан ушла от социал-демократов и вступила в партию свободного предпринимательства, WD. В партии, большинство которой составляют белые мужчины, с восторгом встретили красивую чернокожую женщину, критикующую государство всеобщего благоденствия и мусульманский радикализм, словно ходячая статуя Свободы. Но этот шаг еще больше отдалил ее от прогрессивных левых, видевших в ней теперь не просто врага мультикультурализма, но и отступницу. В результате к Айаан приклеился ярлык любимицы консервативно настроенных белых мужчин средних лет – профессоров философии Просвещения, хранителей европейских ценностей, защитников прав «коренных» голландцев, живущих в страхе перед иностранной угрозой.
Но и для WD она была излишне радикальной. Лидеры этой партии типичных «регентов» больше всего не любят, когда раскачивают лодку, а целью Айаан было именно это. Она всегда была скорее активистом, чем политиком, поэтому компромиссы и сделки, хлеб политиков, были не для нее. Как Пим Фортейн или ван Гог, она жаждала будоражить умы. Она хотела стать Вольтером ислама, критиковать веру, écraser l'infâme [31]. «Мусульманской культуре, – писала Хирси Али, – нужны книги, «мыльные оперы», стихи и песни, объясняющие, что есть что, и высмеивающие религиозные правила…» Она считала, что нужен фильм наподобие «Жития Брайана по Монти Пайтону», английской пародии на Иисуса Христа. Фильм о пророке Мохаммеде, снятый арабским Тео ван Гогом.
9
Я встретил Фунду Мюжде, голландку турецкого происхождения, артистку кабаре и газетного обозревателя, в кафе в Амстердам-Норд, старом рабочем районе на другом берегу залива, напротив Центрального вокзала. Ее отец когда-то работал там и жил во временных бараках для турецких гастарбайтеров, прозванных Лагерем Ататюрка. Он приехал в 1960-е годы, в поисках лучшей, более независимой жизни и образования для детей. В Анкаре он получил разрешение на работу, но только после того, как врач заглянул ему в рот и в задний проход, словно рабочей лошади. Голландские вербовщики рабочей силы отдавали предпочтение неграмотным мужчинам, с которыми у нового начальства будет меньше неприятностей.
Амстердам-Норд – район скромных семейных домов, построенных в 1920-е годы для рабочих верфей, теперь уже давно закрытых. Мемориальная доска на одном из зданий напоминает о надеждах, возродившихся в те дни, после окончания кровопролитной Первой мировой войны: «Пусть солнце мира тучи черные закрыли. Царя убили, трона кайзера лишили. Мы продолжаем строить корабли…»
Среди аккуратных домиков стоит большая новая мечеть. Бородатые мужчины в джеллабах стоят около входа или сидят на скамьях, переговариваясь на берберском языке. В нескольких минутах ходьбы от мечети находится приют для женщин, подвергшихся физическому насилию, которым управляет Паул Схердер, голландец, принявший ислам после того, как женился на марокканке. Во время нашей последней встречи он рассказал мне, с какими трудностями столкнулся после и сентября, а затем после убийства ван Гога, когда мусульмане боялись плевков и оскорблений. Чиновники стали вести себя более жестко, а иногда даже жестоко, особенно те, которые сами являются выходцами из иммигрантских семей. Именно они, сыновья марокканских или турецких рабочих, демонстративно отказывались снять обувь, придя в чужой дом, наступали ногами на молитвенные коврики, заставляли старого египтянина снять рубашку и показать свежий операционный шрам, чтобы удостовериться, что он действительно был в отпуске по болезни. Они лучше любого коренного голландца знали все тонкие и не очень тонкие способы унизить напуганного «аллохтона».
Фунда Мюжде – красивая брюнетка с короткой стрижкой. Ее речь, как и жестикуляция, типична для амстердамской актрисы – быстрая, немного театральная, слова налетают одно на другое не всегда в правильном порядке. В 2003 году она приняла участие в гастролях труппы, выступавшей со спектаклем «Монологи под паранджой». Турецко-голландские и марокканско-голландские актрисы рассказывали со сцены об интимных переживаниях мусульманских женщин, связанных с потерей девственности или мастурбацией, которые они не привыкли обсуждать публично. Айаан однажды сказала мне, что во время первого приезда на Запад ее больше всего удивило то, что женщины откровенно говорят о своей половой жизни.
«Монологи под паранджой» были навеяны «Монологами вагины».[32] Кроме профессиональных актрис читать монологи со сцены приглашали известных голландок, в том числе и Айаан Хирси Али.
«Колоссальный успех!» – сказала Фунда, которую это не только восхищало, но и тревожило. «Когда дело касается ислама, – объяснила она, – достаточно пукнуть, чтобы обратить на себя внимание». Беспокоил ее и состав аудитории. Отчасти из-за высокой стоимости билетов в зале присутствовало мало женщин-мусульманок. Монологи из жизни мусульман читались в основном для немусульман, представителей среднего класса. Оригинальная идея использовать сцену, чтобы начать дискуссию среди мусульман, оказалась иллюзией.
Фунда восхищается Айаан Хирси Али, отдает должное ее храбрости, но все же не может скрыть своего неодобрения, касающегося не столько того, что она говорит, сколько того, как она это говорит, ее отношения, ее стиля. «Я живу в Голландии намного дольше, чем Айаан, – пытается объяснить она. – Я в большей степени, чем она, являюсь частью этого общества. Я четырнадцать лет работала с беженцами. И я всегда противостояла тем людям, которые отдаляются от себе подобных, ведут себя высокомерно, потому что стыдятся своего происхождения». Слушая эти обвинения, я думал о рэп-группе из Гааги и их ненависти к «грязному туземному клону».
Здесь присутствовал элемент конкуренции, своего рода соревнования, в котором Айаан не могла победить, опираясь на разум. Соперничество между иммигрантами – не только вопрос возраста или места рождения. Однажды в амстердамском трамвае я видел, как чернокожий суринамец обругал пожилого турка, мешавшего ему пройти. Обругал за то, что тот не говорит «на нормальном голландском языке, как все остальные». В шашлычной около Центрального вокзала я разговорился с владельцем, арабом из Назарета, о Европейском союзе. Голландцы, по примеру французов, только что проголосовали против предложенной Конституции ЕС. Как проголосовал он? «Против, конечно», – ответил он на беглом голландском, но с акцентом. Его позиция сводилась к следующему: «Скоро эти турки и другие иностранцы захотят присоединиться к Европе, но они отстают от нас на пятьдесят лет. Мы не можем позволить себе ждать их».
Фунда знала, что в Нидерландах пресса отзывается о турках лучше, чем о марокканцах. Это вызывало у нее чувство вины. Но турки, заметила она, отличаются от марокканцев. Даже среди неграмотных турок такие вещи, как демократия, права женщин и образование для девушек, считаются само собой разумеющимися. «Турки, – сказала она, – испытывают чувство превосходства. Мы всегда были независимыми, а Марокко находилось под иностранным господством».
Хотя она говорит по-турецки и регулярно бывает в Турции, Фунда чувствует себя дома в Нидерландах. И все же она всегда сознавала, что «в глубине скрывается нечто уродливое». Это проявляется в злобных письмах, которые она часто получает, особенно с тех пор, как стала вести колонку обозревателя в одной из популярных консервативных газет. Каждый раз, когда она пишет что-то критическое о своей стране, Голландии, ей говорят: «Убирайся туда, откуда приехала!»
Фунда не скрывала своего негодования – напротив, подчеркивала его возмущенными жестами. Однако письма не всегда были одинаковыми, со временем их тон изменился. «В 2ооо году меня называли «грязной турчанкой». После 2001 года и взлета Пима Фортейна стали называть «грязным аллохтоном». После Хирси Али я стала «грязной мусульманкой». Она не винит Айаан. «Дело не в ней. Дело в голландцах. То, что выплескивается сейчас, было всегда».
Тео ван Гог не был таким. Фунда работала с ним однажды в телевизионной «мыльной опере», мало чем отличавшейся от «Наджиба и Юлии», о турецкой матери (которую играла Фунда), пытавшейся помешать дочери встречаться с голландским парнем. Ей очень нравилось работать с Тео: «Он был просто прелесть, хотя иногда говорил ужасные вещи». Тео, рассказывала она, можно было убедить в том, что роли турок должны быть более реалистичными, менее стереотипными. Но он был способен и на глупости: «Однажды он сказал мне, что ему удалось вписать в сценарий реплику, на которую никто не обратил внимания. Реплика такая: «Плевал я на Аллаха». Он радо-
10
Фильм Айаан Хирси Али «Покорность», режиссером которого был Тео ван Гог, построен по тому же принципу, что и «Монологи под паранджой». Но его создатели пошли дальше. Когда «Монологи под паранджой» впервые ставились в Амстердаме, афишу, на которой была изображена женщина в прозрачной черной парандже, быстро заменили, потому что мусульманские активисты пригрозили разбить окна театра. На новой афише женщина была полностью одета. Первые кадры «Покорности» показывают женщину, преклоняющую колени на молитвенном коврике. Камера медленно движется вниз, охватывая с головы до ног ее обнаженное тело под прозрачной паранджой. Затем в одиннадцатиминутном фильме мы видим тексты из Корана, проецируемые на кожу обнаженных женщин, тексты, в которых говорится о покорности женщин отцам, братьям, мужьям и Аллаху. С точки зрения многих мусульман, это была преднамеренная провокация.
Айаан не опровергает этого. Она и задумывала фильм как провокацию. Она ожидала, что часть мусульманского мира набросится на нее. Но «если вы хотите завязать дискуссию и заставить людей думать, вы должны поставить перед ними дилеммы». Айаан считает, что «все, за исключением физического и словесного насилия, должно быть допустимо».[33]
А это значит, что можно показать корчащуюся на полу обнаженную женщину с синевато-багровыми рубцами на спине и бедрах, рассказывающую, как ее высекли за то, что она спала со своим возлюбленным. Поверх ее ран мы читаем слова из Корана: «Женщине и мужчине, виновным в прелюбодеянии или внебрачной связи, наносят по сто ударов плетью каждому…»
Значит, можно показать обнаженную спину другой женщины, рассказывающей о том, что ее изнасиловал нелюбимый муж:
Разденься, приказывает он мне, и я покоряюсь
Не ему, а Тебе.
В последнее время выносить мужа становится все тяжелее.
О Аллах, молю, дай мне силы выносить его.
Или, боюсь,
Моя вера ослабнет.
Или третью женщину, с лицом, распухшим от побоев мужа-тирана
О Всевышний, покорность воле Твоей дарует мне лучшую жизнь в загробном мире,
Но я чувствую, что цена, которую я плачу моему мужу за защиту и содержание, слишком высока.
Не знаю, сколько еще я смогу покоряться.
Или четвертую, которую дядя регулярно насиловал в своем собственном доме и бросил, когда она забеременела. Она знает, что отец убьет ее за то, что опозорила семью:
О Аллах, дающий и берущий жизнь.
Ты увещеваешь всех правоверных обращаться к Тебе, чтобы достичь блаженства.
Я всю свою жизнь обращалась только к тебе. И теперь, когда я молю о спасении под своей паранджой, Ты остаешься нем как могила, к которой я стремлюсь.
Не знаю, как долго я смогу покоряться.
Самые близкие друзья отговаривали ее от съемок фильма. Они считали, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но у Айаан имелся ответ для всех сомневающихся и критиков, который заслуживает, по крайней мере, уважения. «В долгой истории евреев и христиан, стремившихся к просвещению, – писала она, – непременно фигурируют люди, которые считали, что анализ священныхтекстов приводит к обратным результатам и показывает, какие они нелепые, жестокие или несправедливые. Я скопировала свою стратегию с иудейско-христианской критики абсолютизма, основанного на вере.
Именно с этой точки зрения следует смотреть на первую часть фильма «Покорность».[34] Насколько эффективна выбранная мной стратегия, должно быть понятно каждому, кто знаком с историей критики религии на Западе».
В целом трудно не согласиться. Другой вопрос, было ли это разумно с ее стороны. Но благоразумие – не всегда самый быстрый путь к необходимым переменам. Те, кто осмеливается бросить вызов догмам, оправдывающим притеснения, не всегда благоразумны. Сопротивление не всегда благоразумно, но порой необходимо. В случае с фильмом Айаан проблема заключается в намеченной цели. Она написала сценарий на английском языке – то есть он, очевидно, предназначался для международной аудитории. Тео ван Гог говорил о попытке продать фильм арабской телевизионной компании Аль-Джазира (смелая, но на удивление наивная идея). Если фильм предназначался для иранских аятолл, имамов Саудовской Аравии или старейшин горных деревень Рифа, вероятность того, что они увидят его, практически равнялась нулю. Фильм показали только по голландскому телевидению в передаче, посвященной культуре и ориентированной на интеллектуалов. В столь ограниченном контексте Айаан Хирси Али не могла претендовать на роль Вольтера. Вольтер бросал оскорбления в лицо католической церкви, одного из двух самых влиятельных институтов Франции восемнадцатого века, в то время как Айаан рискнула оскорбить лишь меньшинство, которое и без того чувствует себя уязвимым в сердце Европы.
Изначально задумывалась комедия. Именно это ван Гог предложил Айаан, когда они встретились в Амстердаме, чтобы обсудить ее планы. Она имела в виду нечто другое: представление с участием марионеток в натуральную величину, иллюстрирующее жестокость Корана. Но, возможно, помня о «Монологах под паранджой», Айаан в итоге написала «Покорность». Это была ее идея. Ван Гог оказал ей техническую помощь, но сожалел об отсутствии юмора. На его вкус, фильм получился слишком нравоучительным. Но даже как проповедь он оказался неэффективным. Людям было трудно понять, что хотела сказать Айаан.
Даже Самир, утонченный молодой архитектор, с которым я познакомился в Роттердаме, не понял ее замысла, и это многое объяснило мне. Подход Айаан к роли женщины в исламе совершенно неправильный, сказал он. «Посмотрите, что происходит, когда кто-то оскорбляет наших матерей: любой марокканец приходит в бешенство». Это так. Но то же самое мог бы сказать сицилиец или любой другой представитель кланового сельского общества, где всем управляют мужчины, а к женщинам относятся как к святым матерям или шлюхам. Самир был, вероятно, прав, когда заметил, что критика Айаан больше касается культуры, чем религии как таковой. Он признал, что она приводит ряд веских доводов, но если для него религия в фильме – отвлекающий момент, то для нее это главный вопрос.
В тот вечер, когда показали фильм, Нора, руководитель Союза исламских студентов в Университете Неймегена, смотрела телевизор дома с матерью. Переключая каналы, мать услышала мусульманскую молитву. Удивленная тем, что ее передают по голландскому телевидению, она заинтересовалась. «Но вид обнаженного женского тела с текстами из Корана ошеломил ее. Я знаю, что Айаан хотела шокировать людей. Но моя мать не была готова к этому. Она подумала только, что женщине не подобает молиться в таком виде».
По словам Норы, сама она была не столько оскорблена, сколько «смущена», смущена из-за матери, и поэтому переключилась на другой канал. Возможно, сказала она, «мы будем готовы к дискуссии об этом лет через двадцать, когда лучше освоимся. Но сейчас слишком рано. Первое поколение не готово обсуждать такие вопросы».
Это самая благожелательная оценка фильма Айаан, услышанная мной от мусульманина или мусульманки, хотя Нора религиознее многих других моих собеседников. Но она была не права в том, что касалось позиции представителей разных поколений. Именно дети иммигрантов представители второго поколения, ровесники Норы, не могли сдержать гнева. Отчасти это объясняется чувством неравенства, присущего всем меньшинствам. Но проблема лежит глубже и заключается в другом неравенстве между самими иммигрантами – теми, кто имеет образование, интеллект, социальные связи и желание преуспеть и ассимилироваться, и более уязвимыми, теми, кто нуждается в связи с национальной общиной. То же самое можно было сказать о евреях. То же самое происходило с новыми иммигрантами в Соединенных Штатах. И то же самое происходит в Европе в наши дни.
Критики Айаан Хирси Али обычно приводят в качестве примера одну телевизионную передачу, чтобы показать, что, по их мнению, неправильно в ее подходе. Айаан всегда проявляла большой интерес к женщинам, которые ищут спасение от своих жестоких мужей в тайных приютах, известных под названием «оставь меня в покое» (blijf van m'n lijf huis). Эти женщины уже сделали смелый шаг, на который не могут пойти пассивные жертвы; у них хватило храбрости сбежать. Если Айаан и имеет шансы на поддержку в своей борьбе против мусульманского шовинизма, то, скорее всего, ее следует искать среди этих подвергавшихся побоям и оскорблениям жен и дочерей.
Известная программа новостей решила, что будет интересно показать фильм «Покорность» в одном из таких приютов, а затем снять на пленку его обсуждение с участием Айаан. Четыре молодые женщины смотрели фильм вместе. Кое-кто из них видел его раньше. Только одна открыла свое лицо, остальные боялись последствий. Все прекрасно говорили по-голландски.
Они тут же заняли оборонительную позицию. Как могла Айаан пойти на такое откровенное оскорбление, спросили они. Обнаженные женщины – это признак неуважения. Зрительницы считали, что Айаан «использовала» фильм. Она «играла с исламом» ради достижения своих целей. Все они сошлись на том, что из сотрудничества с таким человеком, как ван Гог, ничего, кроме хамской провокации, и не могло выйти.
Айаан очень вежливо ответила, что ее право как мусульманки и даже ее обязанность – критиковать то плохое, что есть в исламе. И притеснение женщин относится сюда в первую очередь. Женщина с открытым лицом, сидевшая рядом с Айаан, принялась нервно поправлять свой желтый свитер. Другая согласилась, что женщин угнетают, но это вопрос культуры и образования, не имеющий никакого отношения к Корану. Айаан повторила, что приводила цитаты из священных текстов. Не в этом дело, кричали женщины: «Вы оскорбляете нас. Моя вера дает мне силы. Благодаря ей я поняла, что у меня дома сложилась неправильная ситуация».
«Этому нужно положить конец! – сказала одна из женщин, лицо которой было закрыто. – Вы должны остановиться». Айаан ответила, что никогда не остановится. «Вы должны остановиться! Если вы не понимаете, что задеваете мои чувства, я не могу продолжать обсуждение!» «Хорошо, – сказала Айаан, отпуская ее небрежным взмахом руки, – тогда до свидания».
Именно этот жест, жест легкого презрения, будто госпожа велит удалиться надоевшей служанке, больше всего возмутил критиков. Вспоминая встречи с Айаан и другими мусульманскими феминистками, Фунда пришла к выводу, что Айаан не способна слушать. У Айаан, сказала она, «я ощущаю агрессию, почти ненависть по отношению к людям, которых она старается спасти».
Возможно, я захожу слишком далеко, но, по-моему, в этой недавней иммигрантке, дочери представителей сомалийской элиты, есть что-то от «регентов», несмотря на ее возражения против излишней заботливости государства всеобщего благоденствия. Айаан чем-то напоминает голландскую аристократку, и выглядела бы вполне уместно на портрете кисти Франса Халса, если не обращать внимания на черный цвет кожи. Ее высказывание заслуживает того, чтобы процитировать его еще раз: «Мы должны… дать иммигрантам то, чего им не хватает в их собственной культуре: личное достоинство». Хорошее чувство, даже благородное, но слишком de haut en bas [35]. Нельзя «дать» людям личное достоинство. Оно их по праву, даже если они находят его в своей вере.
В итоге получилось, что Айаан Хирси Али проповедовала перед теми, кто и так убежден, еще более отдалив от себя многих из тех, кого хотела привлечь. Фильм «Покорность» продолжительностью всего одиннадцать минут, показанный один раз, возымел не менее сильное воздействие, чем телевизионная программа 2о is het, оскорбившая чувства очень многих христиан почти за сорок лет до этого. Но фильм «Покорность» не был шуткой и бросал вызов не верованиям самодовольного большинства в стабильной и процветающей европейской стране. Он даже не отражал взглядов поколения. Было ясно, что он вызовет обиду, но даже те, кто разделял выраженные в нем чувства, не могли предвидеть его кровавых последствий. И уж конечно, их не мог предвидеть Тео ван Гог.
В интервью после показа фильма ван Гог расхваливал храбрость Айаан. «Люди, называющие ее безрассудной, – сказал он, – просто трусы. Не было никаких взрывов. Мне никто не угрожал. Я чувствую себя в полной безопасности». Но он сказал кое-что и Айаан, странным образом проявив одновременно легкомыслие и проницательность. «Никто не причинит вреда мне, – уверял он ее, – потому что я – деревенский дурачок. Беспокоиться нужно тебе, это ты у нас отступница». Он не понимал, что шут может лишиться своих привилегий и что живет он уже не в деревне, а в ультрасовременном Амстердаме.
Глава шестая Способный мальчик
1
«Bay», – сказал он. 12 июля 2005 года. Последний день суда над Мохаммедом Буйери. Мохаммед Б., как называли его в голландской прессе, или Mo, как звали его друзья, был обвинен в убийстве Тео ван Гога, в покушении на убийство нескольких полицейских, а также в том, что угрожал Айаан Хирси Али и терроризировал голландское население.
«Bay» было едва ли не первым словом, которое Мохаммед, невысокий, полный молодой человек в темной джеллабе, произнес в ходе суда. Он отказался от защитника и отказался защищать себя сам в суде, решения которого не признает. Ибо истинны только законы Бога – шариат. В начале процесса он подтвердил свое имя. Все остальное время, проведенное в почти пустом зале суда в одном из пригородов Амстердама, Мохаммед улыбался тонкой улыбкой, дергал свою жидкую бородку, поправлял очки в тонкой металлической оправе и играл ручкой. Только однажды, когда председательствующий судья Удо Бентинк спросил, почему подсудимый отвернулся от общества, которое предоставило ему полную свободу исповедовать свою веру, он позволил себе дать волю гневу. «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! – воскликнул он по-арабски, а затем продолжил на голландском языке: – Я каждый день молюсь Аллаху и прошу его, чтобы он не позволил мне изменить мой теперешний образ мыслей».
Вот и все, что он сказал до этого «вау», американизма, просочившегося в язык молодежи в 1960-е годы и закрепившегося в нем. «Bay», как и кроссовки «Найк», которые Мохаммед носил под своей джеллабой, стало символом молодежи всего мира, воспитанной на американской уличной культуре. На его голове был своего рода тюрбан, свернутый из черно-белой каффии, палестинского платка, ставшего знаменитым благодаря Ясиру Арафату. Тео ван Гог сфотографировался в похожем платке для обложки одной из своих книг, которая называется «Аллах лучше знает». Ван Гог сделал это в насмешку, в то время как Мохаммед – возможно, не менее театрально – подражал стилю пророка седьмого века.
«Что вы сказали?» – спросил судья.
«Я сказал «вау», вы правильно записали. Я могу теперь что-то сказать и рассчитывать, что вы не будете прерывать меня? Я могу сказать здесь что-то критическое?»
Судья предложил ему продолжать. И Мохаммед произнес одну из самых удивительных речей, когда-либо звучавших в голландском зале суда. Он говорил медленно, отрывистыми предложениями, с амстердамским акцентом, к которому примешивались марокканско-голландские интонации. Сначала он обратился к матери Тео ван Гога, Аннеке. Он не может «чувствовать ее боль», сказал он, потому что не знает, каково «потерять ребенка, рожденного в мучениях, стоивших ей стольких слез». К тому же он не женщина, а она не мусульманка.
Он сказал, что не намеревался выступать с политической речью. Но он хочет, чтобы она знала, что он убил ее сына не потому, что он (Тео) был голландцем, и не потому, что он, Мохаммед, чувствовал себя оскорбленным как марокканец. Тео не был лицемером, продолжал он, поскольку говорил, что думал. «Разговоры о том, что я чувствовал себя оскорбленным как марокканец, или обиделся, что он называл меня козолюбом, все это ерунда. Я поступил, руководствуясь своей верой. Я заявляю, что, если бы это был мой собственный отец или младший брат, я поступил бы так же». Что касается его умонастроений, он может заверить суд, что, если его когда-нибудь выпустят, он сделает то же самое.
Он объяснил суду, что его обязывает «отрезать головы всем, кто оскорбляет Аллаха и его пророка», тот же самый священный закон, который не позволяет ему «жить в этой стране или в любой другой стране, где разрешена свобода слова». Увы, страны, где такие люди, как он, могли бы найти убежище, не существует, поэтому у него нет иного выбора, кроме как жить в Нидерландах.
Арестовавшим его полицейским он сказал, что стрелял в них «с намерением убить и быть убитым». Это заявление вызвало у полицейских необычный всплеск эмоций. Слезы потекли по их щекам, и они бросились обниматься, гладя друг друга по головам и похлопывая по спинам. Сообщалось, что после пережитой травмы их преследуют ночные кошмары и частые приступы слез. Мысль о том, что в центре Амстердама разгуливал убийца-смертник, была просто невыносимой.
Мохаммед невозмутимо закончил свою речь такими словами: «Вы можете прислать всех своих психологов, всех своих психиатров, всех своих экспертов, но, говорю вам, вы никогда не поймете. Вы не можете понять. И я говорю вам, если бы у меня был шанс выйти на свободу и повторить то, что я сделал второго ноября, клянусь Аллахом, я сделал бы то же самое».
«Это все, что вы хотели сказать?» – спросил судья.
«Я здесь не для того, чтобы жалеть себя или обвинять кого-то, – сказал Мохаммед в заключение. – Может быть, это послужит каким-то утешением для госпожи ван Гог. Это все. Остальное мне безразлично».
«Любая мелочь помогает», – пробормотала Аннеке ван Гог после суда.
Судье ничего не оставалось, как приговорить Мохаммеда Буйери к пожизненному тюремному заключению.
Это был очень необычный суд, и присутствовавшие на нем вели себя странно. Бывшая жена Тео, впервые увидев Мохаммеда, крикнула убийце своего мужа: «Смотри, Mo, такой же платок!» – и показала фотографию с обложки книги ван Гога.
Адвокат Мохаммеда Петер Пласман почти все время выглядел мрачным. Нелегко защищать клиента, который не хочет, чтобы его защищали, и говорит судье, что совершил бы убийство снова при первой же возможности.
Друзья Тео поделились своими впечатлениями о суде по телевидению. Они были разочарованы, потому что убийца был явно недостоин своей жертвы. Теодор Холман считал трагедией, что «человек, убивший Тео, оказался таким тусклым, лишенным индивидуальности типом». Гейс ван де Вестелакен, продюсер Тео, назвал Мохаммеда ничтожеством.
Самое эмоциональное заявление в зале суда сделала Аннеке ван Гог, также подчеркнувшая ничтожность убийцы. «Неудачник, – сказала она про него, – но неудачник, совершивший убийство». И не только это. Неудачник, «три года живший на пособие», неудачник, ловивший кайф от просмотра видеозаписей убийств и пыток, неудачник, убежденный в том, что его бог приказал ему «убить свинью». Не будет ему никакого рая, сказала она, и семидесяти двух девственниц тоже.
Тео, ее любимый сын, был убит за свои идеи. Она процитировала один из трактатов Мохаммеда: «Никаких дискуссий, никаких демонстраций, никаких петиций, никаких маршей. Только смерть отделит ложь от правды». Это не сулит ничего хорошего стране, сказала она, «где работы Вольтера, Мольера и Джонатана Свифта издавались в семнадцатом и восемнадцатом веках, потому что их запретили на родине авторов». Тео, сказала она, был храбрым продолжателем этой традиции, нашим современным Вольтером или Свифтом.
Таким образом, все снова вернулось к Просвещению. Леон де Винтер, еврейский писатель, часто подвергавшийся нападкам со стороны ван Гога, заявил в газете «Уоллстрит джорнал», что нация Спинозы и Эразма мертва. За чаем в своем саду в Вассенаре Аннеке ван Гог прочитала мне короткую лекцию о природе ислама. По ее мнению, это «закоснелая религия, не знавшая эпохи Просвещения». Марокканцы после убийства «не хотели признавать очевидного», потому что «это характерно для их культуры, в которой господствуют мужчины. Они не способны к самокритике».
Это мнение стало общепринятым, и его повторяли как мантру многие обозреватели, эксперты и политики. Но оно не отвечало на вопрос, который все задавали себе во время суда над Мохаммедом Буйери. Почему молодой человек, не бедный и не угнетаемый, получивший приличное образование, человек, легко заводивший друзей, любивший выкурить косячок и выпить пива, – почему такой человек превращается в воина пророка, одержимого единственным желанием – убить и, что еще более непонятно, умереть? Тот же вопрос люди задавали после взрывов в лондонском метро. Их устроили такие же молодые люди, игравшие в крикет, встречавшиеся с девушками, ходившие в паб. Мы знаем одно: они убивали во имя Аллаха и его пророка. Почему они это делали, объяснить труднее.
2
Профессор Рюд Петере, специалист по исламу, давал свидетельские показания во время суда над Мохаммедом Буйери. Он проанализировал написанное Мохаммедом: письма, статьи для местной газеты, тексты, размещенные на интернет-сайтах. И пришел к выводу, что обращение становившегося все более неуравновешенным молодого человека к идеологии джихада заняло чуть более года. По словам Петерса, Мохаммед начал с того, что отверг «западные ценности». Это произошло примерно в феврале 2003 года. Следующим этапом, которого он достиг в октябре, стало отрицание демократического государства и его правовых институтов. Затем, в марте 2004 года, он призвал к мировому джихаду против демократии. Наконец, в июле он поддержал применение насилия против людей, оскорбивших ислам или пророка.
Многое из написанного Мохаммедом напоминает детские фантазии. В марте 2004 года он объявил, что скоро «рыцари Аллаха» войдут в здания парламента, поднимут «флаг таухида [владычества Аллаха]» и превратят парламент в суд шариата. Другие словоизлияния, в том числе под заголовком «Это наш путь», наполнены зловещими картинами, характерными для запущенной паранойи: «Сражение против Правды ведется с возникновения человечества, но оно никогда не было таким ожесточенным и крупномасштабным, как в наше время. Чудовища из армии сатанинских сил повсюду готовы схватить носителей абсолютной истины и бросить их в свои ужасные темницы. Некоторые чудовища идут даже на то, чтобы убивать говорящих правду в их собственных домах. Народные массы, загипнотизированные наступлением средств массовой информации на души людей, развязанным врагами ислама, являются частью великого невидимого сражения».[36]
Эти проявления религиозного экстремизма в большинстве случаев представляют собой отрывки революционных текстов, призывы к джихаду, прославления мученичества, переведенные с англоязычных веб-сайтов. Профессор Петере считал, что Мохаммед не очень хорошо владеет арабским. Если он и переводил что-то с арабского, то, по-видимому, с посторонней помощью, сказал он.
Доклад Петерса, подготовленный для суда, представляет собой странный документ, поскольку он пытался найти логику в безумном бреде, в котором она зачастую отсутствует. Было бы преувеличением говорить об «идеологическом и религиозном развитии» применительно к размышлениям Мохаммеда. Тем не менее доклад заслуживает внимания, не столько из-за того, что в нем говорится об исламе, сколько из-за того, что в нем говорится о революционных фантазиях запутавшегося и очень обиженного молодого человека. Они мало отличаются от фантазий других запутавшихся и обиженных молодых людей, его предшественников. Вы можете найти их в романах Достоевского или Джозефа Конрада – таких вот отчаянных людей, вообразивших себя частью малочисленной элиты, наделенной моральной чистотой и окруженной миром зла. Их преследует идея о насильственной смерти как о подсказанном свыше средстве очищения от мирских пороков. Мохаммед Буйери похож на профессора из книги Конрада «Секретный агент», бомбиста-самоубийцу, «простота идеи которого ужасает», бомбиста, который всегда будет побеждать своих врагов, потому что, по его словам, они «зависят от жизни… а я завишу от смерти, не знающей ограничений и неуязвимой. Мое превосходство очевидно».
Было бы неправильно назвать это нигилизмом, потому что у Мохаммеда имелся утопический идеал, каким бы абсурдным и неуклюжим он ни казался. Это государство чистой веры, куда не может проникнуть ничто, кроме слова Аллаха и его пророка. Когда перед судом его навестил тюремный психиатр, Мохаммед повернулся к нему спиной, надел наушники и отрезал себя от внешнего мира, погрузившись в молитвы из Корана. Стремление найти забвение, отдаться на милость непостижимой стихии – не редкость. Притягательная сила наркотиков, секса и смерти имеет общий источник. Но остается вопрос: почему он? Что превратило Мохаммеда в персонаж романа Конрада?
3
Хамид Буйери, отец Мохаммеда, – сравнительно успешный человек, но в ужасном физическом состоянии. Годы тяжелой низкооплачиваемой работы в Амстердаме, куда он приехал в 1965 году из Франции, так изуродовали его колени, что он уже не может опускаться на них, когда приходит молиться в соседнюю мечеть. Он вынужден сидеть на стуле. Ему было нелегко вырастить восьмерых детей в тесной квартире на зарплату мойщика посуды. Он работал сверхурочно, а в выходные дни делал все покупки. Его жена почти не говорила по-голландски. И все же, по сравнению с жителями Дуар-Ихаммален, нищей деревушки в горах Риф, где он в пять лет начал пасти коз, Хамид – богатый человек. Мечеть у реки, вниз по течению от деревни, с красивым минаретом, отделанным красной, желтой и зеленой мозаикой, была построена на его деньги. Еще он построил дом, в котором живет его брат на маленькую пенсию, заработанную за годы каторжного труда в Париже. Сам Хамид любит проводить летний отпуск в другом своем доме, в Уджде, курортном городе с гостиницами, ресторанами и кафе, расположенном недалеко от алжирской границы.
В последний раз Мохаммед побывал в родной деревне своего отца в 1999 году проездом, путешествуя по стране на своем белом «пежо». Он недостаточно хорошо знал берберский язык, чтобы свободно общаться с родственниками, а деревушка, из которой почти все юноши уезжали работать в Европу, потому что едва ли могли заработать на жизнь, выращивая зерно и маслины в твердой красной глине, не представляла для него особого интереса. Он предпочел пожить в Уджде, где почти все свое время проводил в кофейнях, слушая западную поп-музыку.
После убийства ван Гога в прессе много писали об успешной интеграции Мохаммеда в голландское общество. Говорили, что он был «способным, умным ребенком», «положительным», популярным и активным членом общины. Это отчасти правда, но один из учителей средней школы, где он учился, помнит, что он был «робким и замкнутым»[37] мальчиком, постоянно отводившим взгляд в сторону. Он всегда страдал излишней полнотой, был не в ладах со спортом и стеснялся девочек. Однако учился он очень прилежно, потому что хотел получить хорошие отметки, сделать карьеру и преуспеть в жизни.
Когда Мохаммед поступил в среднюю школу имени Мондриана, она еще была смешанной. Около 40 процентов учеников имели иностранное происхождение, в основном марокканское. Все принимали участие в театральных постановках, в демонстрациях мод и в школьных экскурсиях. Но за время учебы Mo произошли изменения. Мусульманским девочкам запретили ездить на школьные экскурсии. Мальчики прогуливали уроки и все время смотрели спутниковое телевидение или сидели в закусочной на соседней площади Аугюста Аллебе. За пять лет школа стала «черной», почти 100 процентов учеников составляли «аллохтоны».
Спустя несколько недель после гибели ван Гога я разговаривал с директором смешанной школы в восточном районе Амстердама, недалеко от места убийства. В его школе учатся дети сорока двух национальностей. Когда речь заходит об экскурсиях и других внешкольных мероприятиях, против участия в них своих дочерей всегда выступают марокканские родители, а не турки или другие мусульмане. Однако марокканские девочки числятся среди самых усердных учеников. «Чтобы выйти из-под влияния своих отцов», – объяснил он. Я спросил его, что он думает о Мохаммеде Буйери. Приходилось ли ему сталкиваться с радикальной молодежью такого рода?
Отвечая на мой вопрос, он начал издалека. «Десять лет назад, – сказал он, – мы советовали способным ученикам, относящимся к меньшинствам, прилагать больше усилий. Мы давили на них, говорили, что, для того чтобы преуспеть, они должны работать больше других. Часто им это удавалось, но когда получалось не так, как они рассчитывали, когда они терпели неудачу – возможно, из-за дискриминации, – они порой приходили в ярость».
Что-то в этом роде произошло, вероятно, с Мохаммедом Буйери. Его бывший учитель истории сказал газетному репортеру, что радикальная молодежь почти всегда лучше образованна. «Думаю, что в фундаментализме они находят идеалы, недостижимые для них в голландском обществе после окончания школы. Работодатели, например, не берут на работу марокканцев».
Если не считать учителей, большинство коренных голландцев, с которыми Мохаммед сталкивался в повседневной жизни иммигрантской общины, составляли чиновники: социальные работники, сотрудники службы социального обеспечения, местные должностные лица, занимающиеся распределением различных субсидий. На многих он производил – по крайней мере поначалу – впечатление разумного человека. Mo хотел быть опорой для своей общины, хотел помогать людям, обучая их работе на компьютере или организуя молодежные клубы.
Старый друг вспоминал, что Mo был жизнерадостным и любознательным юношей, знал множество интересных историй. Они вместе разносили газеты и говорили о разных вещах, от футбола до черных дыр в космосе. Его политические взгляды были умеренно левыми. Его беспокоила судьба палестинцев, но он получал информацию не из передач «Аль-Джазиры» или марокканского телевидения. Вместо них он смотрел бельгийское телевидение, которое по его мнению, было настроено не так произраильски, как голландское.[38] Мохаммед почти не посещал мечеть. Его религиозная жизнь практически сводилась к соблюдению поста во время Рамадана. Друзья помнят, как он, накурившись гашиша, развлекал их длинными фантастическими историями, подсказанными его богатым воображением.
Тогда он был настроен позитивно, но в 1994 году испытал первое разочарование. На месте молодежного клуба, который он часто посещал с друзьями, было решено построить новый жилой дом. Местные власти заверили ребят, что вскоре они получат новый клуб. Те попросили, чтобы в новый клуб, находившийся недалеко от старого, их отвозили на автобусе. Их требование было отклонено. Потом им сказали, что клуб они должны будут делить со взрослыми. Общество взрослых устраивало их меньше всего, и последний вечер в старом клубе закончился актами вандализма. После небольшого бунта десятки полицейских с собаками изгнали молодежь из здания. Новое здание несколько раз пытались поджечь. Пришлось принять повышенные меры безопасности.
После окончания средней школы имени Мондриана Мохаммед поступил на курсы бухгалтеров. Затем новая неудача. В ноябре 1997 года он ввязался в конфликт с несколькими полицейскими в одном из амстердамских кафе. Когда год спустя он захотел устроиться на работу в службу безопасности аэропорта Схипхол, ему отказали из-за отрицательного отзыва полиции. Примерно в то же время негодование, не утихавшее в его районе после истории с клубом, внезапно вылилось в полномасштабный бунт на площади Аугюста Аллебе. Его участники бросали бутылки, переворачивали машины, били окна. Но Мохаммеда и его друзей там не было. Они курили траву на дискотеке в одном из северных пригородов Амстердама.
Там он встретил свою первую и, возможно, единственную подругу, наполовину голландку, наполовину туниску, высокую девушку, эффектно выглядевшую в мини-юбке. Он гордился тем, что его видели с ней. Но их отношения длились недолго. Мохаммеду было нелегко привлечь внимание женщин. Ему нравились типичные голландские девушки, возможно, потому, что он считал их «доступными' . Но порой он бывал слишком агрессивен. Во время отдыха на Канарских островах его приятель из Амстердама, тоже марокканский голландец, был обеспокоен поведением Мохаммеда, когда тот попытался познакомиться на улице с испанскими девушками. Отказ привел его в ярость. Он считал, что виной всему расизм.
Прочитав об этом, я вспомнил слова Беллари Сайда, психиатра из Амерсфорта. Он объяснял высокий процент случаев заболевания шизофренией среди мусульманских мужчин в Европе когнитивными нарушениями, вызванными ошеломляющими соблазнами. В то время как многие женщины принимают свободу западной жизни, мужчины, сталкиваясь с отказами и разочарованиями, предаются фантазиям о племенной чести и религиозной добродетели. На смену подростковому желанию «доступных» женщин приходят отвращение и гнев.
Официальным ответом на беспорядки на площади Аугюста Аллебе стало увеличение государственных инвестиций в этот район. Дом, в котором жила семья Буйери, подлежал реконструкции. Мохаммед и несколько его друзей потребовали от властей, чтобы квартиры были перестроены в соответствии с исламскими традициями. У женщин должна быть возможность войти на кухню и выйти незаметно для гостей. По крайней мере один из членов городского совета выразил понимание. Но затем снова разочарование. Никакой реконструкции, здание решили снести. Между тем социальные работники регулярно посещали живущие в нем семьи, заботясь об их благосостоянии. Мохаммед отказывался разговаривать с ними.
4
У меня есть знакомая, которая живет на площади Аугюста Аллебе, писательница Дубравка Угрешич. Ее дом, выходящий на площадь тыльной стороной, лучше большинства других зданий. Многие из ее соседей не голландцы, а китайцы, а также выходцы из Восточной Европы и с Ближнего Востока. Дубравка нашла в Амстердаме убежище от национализма, которым была отравлена ее родная Хорватия, или, как она предпочитает говорить, Югославия. Она – беженка из страны, которой больше не существует. Брошенная на произвол судьбы после краха коммунизма, она стала частью новой европейской диаспоры. Мы познакомились в 1990 году в Сан-Франциско на писательской конференции и с тех пор встречаемся в разных городах. Запомнился мне один вечер в Берлине, когда мы вошли в бар, забитый мусульманскими беженцами из Боснии. Дубравка была единственной женщиной в окружении возбужденных усатых мужчин, горевших желанием рассказать нам об ужасах, свидетелями которых они были: об изнасилованиях, пытках, концентрационных лагерях, массовых убийствах. Мы спросили их, как им живется в лагере для беженцев в Берлине. Прекрасно, сказали они, одно плохо. Что именно? Цыгане, ответили они. Это такие мерзавцы. Поубивать бы их всех.
Дубравка не отличалась сентиментальностью. Скептицизм достался ей нелегко. Летним вечером, когда мы ужинали с ней в ее квартире, на площади Аугюста Аллебе было тихо. Многие местные жители уехали навестить родственников в Турции и Марокко. Говоря о жизни в Голландии, она сказала мне то, что я уже слышал однажды от Айаан Хирси Али – о коллективной щедрости и индивидуальном конформизме голландцев. Щедрость государства по отношению к беженцам и другим вновь прибывшим вызывает определенного рода недовольство. По словам Айаан, голландцы считают, что, поскольку они «были так добры» к иностранцам, те должны вести себя как голландцы. Есть и другая разновидность недовольства – недовольство получателей голландской государственной помощи, которая, на их взгляд, никогда не бывает достаточной. Дубравка описала поведение людей, приехавших из балканских стран. «В Голландии у них развивается преступный менталитет, – сказала она. – Они считают, что эту страну всегда можно надуть». Как и «доступных» женщин.
Европейцы гордятся своими государствами всеобщего благоденствия, но они не были рассчитаны на прием большого количества иммигрантов. Пожалуй, лучше идут дела у иммигрантов, живущих в более жестких условиях Соединенных Штатов, где не так велико искушение доить государство. Необходимость самому заботиться о себе способствует более радикальной интеграции. Возможно, именно по этой причине иммигранты из Африки или с островов Карибского моря часто с презрением относятся к афроамериканцам, считающим, по понятным историческим причинам, что государство в долгу перед ними. Иммигранты, приехавшие в США, не могут претендовать на это. А вот в Европе некоторые претендуют.
Зависимость от государственных субсидий, даже совершенно оправданная, оказывает еще одно пагубное воздействие на жизнь иммигрантов. На организации, использующие государственные средства, чтобы представлять интересы меньшинств, а также на иммигрантов, работающих на государство, часто падает подозрение в коррумпированности и преследовании личных интересов. Их мотивы, какими бы бескорыстными они ни были, компрометирует близость к бюрократическому аппарату. Я много раз слышал из уст голландцев марокканского происхождения выражение «кран субсидий», всегда произносимое с презрением. Пьющий из этого крана рискует стать «марокканским талисманом» или «избалованным мусульманином».
Когда я спросил тюремного имама, выходца из Марокко, о «Форуме», достойной организации, продвигающей идеи мультикультурализма и толерантности, он закатил глаза и назвал «Форум» «краном субсидий, который нужно закрыть». Он сказал, что он против субсидий. «Мусульмане всегда хотят получать субсидии. Этому нужно положить конец. Государство всеобщего благоденствия зашло слишком далеко».
Тюремный имам Али ад-Дауди – не восторженный сторонник свободного рынка, а жесткий молодой активист, по его собственным словам, «человек резких суждений». Он гордится тем, что его мусульманские «братья» организовали бойкоты и демонстрации против датских карикатур, высмеивавших пророка. Он видит в этом энергичную защиту «религиозной цивилизации». С другой стороны, к мусульманам, успешно влившимся в поток голландской политики, он относится с презрением. Типичный мусульманский политик, сказал он мне, это «образцовый приспособленец». Таким людям нельзя доверять. Вместо них политические партии должны «активнее привлекать людей, являющихся членами своих общин». Я решил, что он имеет в виду таких людей, как он сам, и спросил его об этом. Он ответил, что не имеет шансов на успех в политике: «Моей бороды достаточно, чтобы отпугнуть их».
5
Как у многих молодых людей, у Мохаммеда Буйери существовала проблема авторитета. Но это была не совсем та проблема, с которой обычно сталкиваются «автохтоны». Если конфронтация с родителями воспринимается как унижение, отсутствие родительского авторитета дома может иметь даже худшие последствия. Нора, лидер мусульманских студентов в Неймегене, испытывала чувство неловкости за мать, когда они смотрели «Покорность» по телевидению. Самира, архитектора из Роттердама, покоробило, когда он понял, что отца не уважают на работе. Фархан, актер из Гааги, видел беспомощность своих родителей, не знавших, как справиться с самыми простыми делами в голландском быту.
Конфликт Мохаммеда с отцом был достаточно обычным для иммигрантских семей, выходцев из деревень. Он касался чести семьи и сексуальной свободы. Весной 2ооо года его семнадцатилетняя сестра Вардия познакомилась с парнем по имени Абду, жившим по соседству членом марокканской молодежной банды «Далтоны». Название они взяли из популярного бельгийского комикса о ковбое по имени Счастливчик Люк, который читали почти все голландские дети. У «Далтонов» были неприятности с полицией. Но Мохаммеда беспокоило не это. Проблема заключалась в отсутствии отцовского авторитета. Отец должен был уследить за Вардией. Связь с молодым человеком до брака недопустима. То, что у Мохаммеда была подруга, не имело никакого значения или, может быть, просто вписывалось в логику нарушенного когнитивного процесса. Он ведь мужчина. Голландские женщины доступны, а значит, не считаются. Но его сестра ставила под угрозу честь семьи. «Что я могу сделать? – сказал отец. – Она не слушает меня».
Мохаммед не пустил Абду в дом. Завязалась драка. Чтобы навести порядок, пришлось вызвать полицию. Вскоре после этого Мохаммед ушел из дома, снял квартиру и больше года отказывался от встречи с отцом. Примерно в это же время он перестал изучать бухгалтерское дело и переключился на корпоративные информационные технологии. Через год Мохаммед был снова арестован. Он случайно встретил Абду в парке в центре Амстердама. Подстрекаемые другими молодыми марокканцами, они устроили безобразную драку. Когда прибыла полиция, у Мохаммеда в руке был складной нож, которым он стал угрожать одному из полицейских, турку по национальности. Первый удар прошел мимо цели. Вторым он ранил полицейского в шею.
Выйдя на свободу после двенадцати недель, проведенных в тюрьме, он перенес еще одно потрясение. Мать Мохаммеда умерла от рака груди. Он был ее любимым ребенком. Несмотря на периодические приступы гнева, Мохаммед умел скрывать свои чувства. Он не присутствовал на ее похоронах в Марокко, и люди не сразу поняли, как повлияла на него ее смерть. Но знавшим его хорошо показалось, что он стал более замкнутым. Он хотел «найти истину» и написал об этом позже в прощальном письме семье непосредственно перед убийством ван Гога: «Я часто искал способ показать вам Истину, но между нами как будто все время стояла стена».
Поиски истины направили его на путь, ведущий к исламу. Некоторые полагали, что в его деспотичном отношении к сестре тоже виноват ислам. Айаан Хирси Али, безусловно, думала именно так. Но религия, вероятно, была не главной причиной. В семье, где с отцом мало считались, и в обществе, от которого марокканскому юноше легче было получить пособие, чем уважение, на первом месте стоял вопрос авторитета, достоинства.
Возможно, на его правдоискательство повлияли события il сентября, но они, похоже, еще больше сбили Мохаммеда с толку. Он, конечно, не поддерживал американские власти, но и не оправдывал убийство ни в чем не повинных людей. Насилие, сказал он друзьям, это не решение. С другой стороны, он допускал, что нападение могли организовать евреи. Это вряд ли можно назвать необычным. Многие мусульмане верили подобным домыслам.
Мохаммед по-прежнему активно участвовал в местных проектах, устраивал дискуссии, кулинарные уроки и т. п. Он собирался организовать новый молодежный клуб в своей старой школе и назвать его Mondriaans Doenia, то есть «Мир Мондриана». На фотографии, сделанной в то время и напечатанной в местной газете, приятный молодой человек поглаживает редкую бородку и улыбается в объектив. Его старые привычки – пиво, наркотики, ухаживание за голландскими девушками – постепенно уступали место более моралистическому взгляду на жизнь, особенно после того, как потерпел фиаско его последний проект. Ему сказали, что молодежных клубов и без того достаточно. На создание нового нет денег.
Интерес Мохаммеда к корпоративным информационным технологиям оказался столь же мимолетным, как интерес к бухгалтерскому делу, поэтому он еще раз сменил специализацию, на сей раз на то, что называлось социально-образовательной помощью. Он получил стипендию, позволявшую продолжать учебу в новом направлении, но вскоре ему снова стало скучно. Сокурсники заметили, что он стал проявлять странную придирчивость, например угрожал людям, употреблявшим спиртные напитки. По словам одного из студентов, «у него не было в колледже настоящих друзей, особенно под конец, когда он сформировал небольшую компанию из людей, в настоящее время находящихся в тюрьме».[39]
Хотя Мохаммед продолжал посещать собрания местного комитета, его настроение становилось все более мрачным. Он кричал на людей, отказывался обмениваться рукопожатиями с женщинами, прерывал собрание громкими молитвами или воззваниями к Аллаху и объяснял отказ в предоставлении субсидии на создание клуба Mondriaans Doenia предубеждением против мусульман. Изменилась и его внешность. Он не только отрастил бороду, но и стал носить вместо джинсов марокканскую джеллабу и шапочку для молитвы. Он забыл своих старых друзей. Отрывистое «салям» – все, что они слышали от него при встрече на улице. В его жизнь вошли новые друзья, такие как нелегальный иммигрант из Марокко по имени Нуредин. Был еще друг помоложе, которого звали Самир, они с Мохаммедом учились в одной школе. В семнадцать лет Самир уехал в Чечню, чтобы принять участие в священной войне, но вскоре вернулся, потому что там было слишком холодно. Считая, наверное, что южнее Голландии всюду светит жаркое солнце, он взял с собой только летнюю одежду. Один из его школьных учителей назвал его «придурковатым Робин Гудом».
Нуредин открыл Мохаммеду новый авторитет, казавшийся более приемлемым, более реальным, более надежным, чем любой другой из тех, с которыми он сталкивался прежде. Отец был для него теперь чужим человеком, олицетворением слабости и поражения. Мохаммед считал, что чиновники голландского государства всеобщего благоденствия не оправдали его надежд из-за собственного бессилия или вероломства, а возможно, даже из-за ненависти к исламу. Но теперь, наконец, он имел дело с чем-то настоящим: мудрец с Востока мог придать смысл его жизни и обосновать его обиды.
Мохаммед Радван аль-Исса, известный также как Абу Халед, – радикальный мусульманский проповедник, в 1995 году бежавший от светской диктатуры Асада в Сирии. Прилетев во Франкфурт по фальшивому паспорту, он не смог получить убежище в Германии. Узнав, что в Голландии легче жить на нелегальном положении, он быстро пересек границу и начал проповедовать небольшим группам слушателей в задних комнатах провинциальных магазинов или в частных квартирах. Он проповедовал экстремальную разновидность исламского пуризма, такфир. Согласно этой доктрине, мусульмане, отступившие от истинной веры и не живущие по священным законам, объявляются неверными и заслуживают смерти от рук правоверных. Поскольку демократия или любая другая форма светского правления является оскорблением истинной веры, мусульмане, участвующие в ней, по определению считаются неверными.
Абу Халед, высокий мужчина, носивший черную куртку поверх белой джеллабы и говоривший по-голландски с немецким акцентом, выступал с проповедями в магазине «Интернет-Фоунхауз» в Схидаме, маленьком городке неподалеку от Роттердама, где Нуредин и представил ему Мохаммеда. То, что Абу Халед проповедовал только на арабском языке, который Мохаммед понимал с трудом, возможно, делало его еще более загадочной фигурой.
Это был человек из самого сердца исламского мира, а не седобородый традиционалист, спустившийся с гор РиФ формально соблюдающий требования ислама и едва умеющий говорить по-арабски, и не немощный имам-иммигрант, заискивающий перед голландскими властями. Абу Халед был человеком чистой веры, революционером, современным пророком, способным указать путь к Истине.
Ученики, собиравшиеся вокруг сирийского проповедника во время этих подпольных встреч, в том числе Самир и Мохаммед, были почти детьми – запутавшимися детьми, на которых он произвел такое впечатление, что они звали его Шейхом. Познакомившись с Шейхом, Мохаммед попросил его приехать к нему домой в Амстердам и поговорить с его друзьями о Коране. Шейх, сказал один из его юных учеников, «так мудр, он знает в пять раз больше, чем Мохаммед Буйери».
К середине 2003 года Мохаммед замкнулся в узком мирке, состоявшем из нескольких единомышленников и компьютера. Голландская разведывательная служба окрестила эту группу, в которую также входили два брата, Джейсон и Джейми, сыновья американца и голландки, группой «Хофстад». «Хофстад» означает «город королевского двора». Так часто называют Гаагу, где проживали несколько членов шайки. Джейсон и Джейми собирались взорвать здания парламента. Предполагалось, что у них есть связи с джихадистскими организациями в Испании и других европейских странах. Мохаммед стал мозгом группы «Хофстад». Он размещал идеологические трактаты на веб-сайтах, подписываясь именем Абу Зубейр.
Друзья, к которым иногда присоединялся сам Шейх, встречались в квартире Мохаммеда и просматривали на его ноутбуке диски с видеозаписями, скачанными с исламистских веб-сайтов или у других энтузиастов. Они смотрели казни, совершенные на Ближнем Востоке: священные воины, прячущие лица за платками и вязаными шапочками, перерезали горло неверным иностранцам. По словам человека, который присутствовал на встречах группы, было видно, что Мохаммеда эти ужасные сцены приводили в возбуждение. Нуредин провел свою брачную ночь на матрасе в квартире Мохаммеда и вместе с невестой смотрел казни неверных.[40]
Слог Мохаммеда постепенно становился все более резким. «Шариат, – писал он, – это священный, независимый, высший порядок жизни, который не может подчиняться ложному человеческому порядку. Шариат сотрет этот порядок с лица земли». Это было в октябре 2003 года. В феврале 2004 года его тон еще ужесточился: «Удалиться от неверных – значит ненавидеть их, быть их врагом, испытывать отвращение к ним, не выносить их, бороться с ними». Даже благочестивый мусульманин, который молится, ест халяльную пищу, совершает паломничество в Мекку и призывает к джихаду, даже такой человек, «если он не чувствует ненависти к врагам ислама, становится неверным, даже если он любит кого-то из них, потому что тот является его родственником».
Это – мир такфира, где все перевернуто вверх ногами, где любовь – грех, а ненависть – добродетель. Голландская полиция, получив информацию о группе «Хофстад», устроила облавы в обычных местах сбора ее членов и арестовала пять человек, включая сирийца. Мохаммеда среди них не оказалось, потому что секретная служба считала его второстепенной фигурой. Мохаммед привозил пиццу в тюрьму, где содержались его друзья, и осыпал оскорблениями охранников. Поскольку задержанные не совершили никакого конкретного преступления, их вскоре освободили. Весной 2004 года Абу Халед снова стал регулярно появляться в квартире Мохаммеда. Но между Шейхом и его учеником было одно важное различие. Абу Халеда Нидерланды сами по себе не интересовали. Мыслями он был на Ближнем Востоке. Мохаммед же, как это ни парадоксально, оставался голландцем.
6
Есть люди, которые считают, что терроризм политического ислама исчезнет, когда будут решены ближневосточные проблемы. Если американцы выведут свои войска из Ирака, а Израиль заставят вернуть палестинцам их земли, если западные государства и корпорации прекратят поддерживать диктаторов, если кровавое пятно колониализма будет стерто, священная война закончится.
Маловероятно, однако, что те, кто хочет создать царство божье на земле, удовлетворятся более выгодными условиями для палестинцев или выводом американских войск из Ирака. События на Ближнем Востоке, безусловно, активизировали Мохаммеда и его друзей. Самир, «придурковатый Робин Гуд», действительно поехал в Чечню. Другие уехали в Пакистан и Афганистан. А видеозаписи зверств, имевшиеся у Мохаммеда, были сделаны где-то на Ближнем Востоке.
Я спросил тюремного имама Али ад-Дауди, как он оценивает связь между ближневосточной политикой и терроризмом в Европе. По его мнению, «корень зла» находится глубже. Конечно, сказал он, ситуация в мире способствует росту агрессивности. Нидерланды являются союзником США в Ираке. Этого нельзя отрицать. И палестинский конфликт – серьезное основание для антизападных настроений мусульман. Но «глубоко в сердце», сказал он, большинство мусульман «не имеет тесной связи с Ираком». Настоящая проблема, по его мнению, заключается в отсутствии интеграции в европейских обществах. «Я могу отличить голландцев, настроенных против ислама, от тех, кто не разделяет их настроений, но двадцатилетнему парню это удается далеко не всегда». Вместо того чтобы воспринимать людей, проживших в Нидерландах сорок лет, как граждан, голландские политики тоже слишком часто «подливали масла в огонь» и поощряли враждебное отношение, обвиняя иммигрантов во всевозможных преступлениях. «Каждое обвинение больно бьет по нам, – сказал он, – и приводит бомбы в действие».
Я спросил его о мусульманских критиках ислама, таких как Афшин Эллиан и Айаан Хирси Али. Разве они не правы, когда говорят об опасностях политического ислама? Он махнул рукой, словно отвергая эту мысль. Айаан, сказал он, была «загипнотизирована всеобщим вниманием. Мне ее жаль. Эллиан более опасен». Чем же? «Эллиан мыслит глубже, – ответил имам, – но он – шиит. Он ничего не знает о марокканцах, турках и вообще о суннитах». В конце концов, сказал он, шиизм – это другая религия: «Эллиан говорит о политическом исламе. Но я понятия не имею, что это. Возможно, он прав и такое действительно существует в его родной стране, Иране, но он не должен проецировать ситуацию на Нидерланды».
Я спросил о различии между террористическими актами, совершенными шиитами, и деяниями суннитов: терактами il сентября, да тем же убийством ван Гога. Так ли они отличаются друг от друга, несмотря на разные традиции? На красивом бородатом лице ад-Дауди промелькнуло замешательство. «Нет, не очень». Тогда, возможно, традиции не столь важны, когда речь идет о насилии во имя веры? Он провел рукой по пластиковой поверхности стола, как будто хотел стереть пятно. Помолчав несколько мгновений, он дал ответ, который заинтересовал и встревожил меня: «Традиции порой гнетут, как кандалы. Если вы избавитесь от традиций, у вас останется ислам». Чистота веры, свободной от обычаев и традиций, веры, к которой можно прийти заново, особенно привлекательна для молодых людей, чувствующих себя в культурном и социальном плане выбитыми из колеи.
«Культура, – сказал ад-Дауди, – создается людьми. Но ислам остается».
7
Ислам остается. Наверное, именно на это надеялся Мохаммед, когда говорил, что молится Аллаху, чтобы тот уберег его от инакомыслия. Ислам был его новой личностью – неприступной, надежной, уютной оболочкой, которая защищала от всех окружавших его враждебных сил. Это давало ему ощущение силы, смысла, правды. Он был готов жить ради одного ислама. Но даже в самых жестких статьях Мохаммеда безошибочно угадываются черты его культуры – его голландской культуры.
Самый злой и, возможно, самый странный из его опусов, размещенных в Интернете, называется «Поймать волка». Название связано со старым эскимосским способом охоты на волков. В снег бросали окровавленный нож. Волки, привлеченные запахом крови, приближались к ножу и лизали лезвие, разрезая себе язык. Они продолжали лизать его, не понимая, что пьют свою собственную кровь, пока не становилось слишком поздно и они не погибали от потери крови. Люди в современном мире, писал Мохаммед, такие же, как эти волки. Мы, живущие в «демократическом цирке» Запада, являемся рабами «фальшивых леденцов» нашей культуры развлечений и пагубных соблазнов кафе, баров, дискотек и игорных заведений.
Мусульмане, также ставшие рабами западных леденцов, продолжал он, достигли низшей точки в своей истории, но, к счастью, спасение рядом. Рыцари ислама поднимутся в… Нидерландах. Голландия станет колыбелью религиозной революции, которую сделают возможной те самые политические свободы, которые Мохаммед демонстративно презирал. Он объяснил свою парадоксальную позицию: «Поскольку голландская политическая система побуждает своих граждан (особенно «аллохтонов», то есть мусульман) принимать активное участие в решении проблем общества ‹…› люди взяли на себя социальную ответственность. Эти люди взяли на себя ответственность не только за Нидерланды, но и за весь мир. Они освободят мир от демократического рабства».[41]
Здесь слышны отзвуки старого голландского тщеславия, уходящего корнями в фанатичный протестантизм, в идею о том, что Голландия – моральный маяк мира. Раньше христиане верили в это. До недавнего времени многие считали, что голландская модель либерализма, мультикультурная толерантность, сексуальная вседозволенность и т. д. суть луч света, ярко сияющий для остального мира, еще покрытого тьмой. Мохаммед, с его очень голландской манией величия, распространил свое юношеское желание заниматься местной политикой на судьбы всего человечества. Его морализирование, хотя и расцвеченное исламистской терминологией, было частью той же традиции. Проблема демократии, по его мнению, заключалась в тех самых греховных леденцах, безнравственных удовольствиях плоти. Но он дошел до крайности, до которой никогда или почти никогда не доходили протестанты. Свобода выбора, так привлекавшая Айаан Хирси Али, была для него невыносима. То, что было для нее освобождением, для него стало источником болезненного разочарования и смятения. Он должен был разрушить цивилизацию, мучившую его.
«Освободите себя! – призывал он молодых мусульман, странно перекликаясь с риторикой прово 1960-х. – Выходите из кафе, баров, из своих углов. Услышьте: «Нет бога кроме Аллаха!» Присоединитесь к каравану мучеников». Конечно, он совсем не походил на прово. Освобождение, проповедуемое Мохаммедом, – это освобождение смерти, забвения, героическая жертва, вдохновлявшая европейских фашистов в 1930-е годы.
Усматривать сходство между исламизмом Мохаммеда и другими видами экстремизма не значит утверждать, что это одно и то же. Но желание умереть во имя высшей цели, бога или великого вождя во все века привлекало запутавшихся и озлобленных молодых людей и, конечно, было характерно не только для ислама. Взгляды Мохаммеда относительно США, выраженные в том же документе, также имеют европейское происхождение и перекликаются как с позицией правых политических партий 1930-х годов, так и с традиционным антиамериканизмом левых. «Если мы возьмем в качестве примера мать всех демократических государств, Америку, – писал он, – и сравним ее социальную статистику (преступность, насилие и т. д.) со статистикой других стран, мы придем к единственному выводу: это – совершенно больное общество. Пройдет какое-то время, и его социальный порядок превратится в хаос».
В уме Мохаммеда Буйери европейский антилиберализм причудливо сочетался с самодовольным морализмом и исламистским революционным пылом. Эта взрывчатая смесь давала ему основание для убийства врагов, препятствующих спасению мира, как он его понимал. Объектом его гнева мог стать кто угодно, начиная с охранника местного отделения службы социального обеспечения, которому Мохаммед угрожал убийством («я вырву тебе сердце!»), и кончая всем голландским народом: «Темные облака смерти сгущаются над вашей страной. Готовьтесь к тому, к чему нельзя приготовиться. Вы заплатите своей кровью за мучения наших братьев и сестер».[42]
Объекты могли быть случайными, но вполне конкретными, присутствовал и сексуальный элемент. Двумя из трех главных потенциальных жертв Мохаммеда были иммигранты. Айаан Хирси Али, часто фигурировавшая в кровавых фантазиях на сборищах в квартире Мохаммеда, олицетворяла цивилизацию, которую он хотел униитожить. Ахмед Абуталеб, мусульманин и член городского совета Амстердама, якобы предал своих братьев, работая на врага. Третьей мишенью был правый политик-популист Герт Вилдерс, безуспешно пытавшийся занять место Пима Фортейна. Вилдерсу угрожали главным образом потому, что считали его гомосексуалистом. Оснований для подобных утверждений не было. Возможно, его путали с Фортейном. Или же его врагов вводила в заблуждение крашеная светлая шевелюра политика, ставшая его фирменным знаком. Так или иначе, Хирси Али и Абуталеб, вдумчивый и упорный социал-демократ, родившийся в Марокко, были главными врагами: одна – отступница, вавилонская блудница, второй – плохой мусульманин, зиндик, неверный в глазах последователей такфира, и потому недостойный жить на этой земле.
8
Слова и поступки Мохаммеда Буйери принято считать явлением глубоко чуждым голландской традиции, результатом вторжения с загадочного и все более пугающего Востока. Но, по крайней мере, один газетный обозреватель заметил сходство между убийцей ван Гога и фанатиком-вегетарианцем, застрелившим Пима Фортейна. Оба были «самовлюбленными идеалистами», считавшими, что напористые знаменитости мешают их поискам лучшего мира или правды.[43]
Было бы удивительно, если бы общее огрубление стиля публичных выступлений (чему способствуют постоянная борьба за право голоса в средствах массовой информации и современные голландские представления о том, что «должно быть сказано все», даже самое оскорбительное) не повлияло на привычки и слова молодого голландца иностранного происхождения. Мохаммед в этом смысле был, возможно, больше порождением южного Амстердама, чем деревни Дуар-Ихаммален.
Тюремный имам Али ад-Дауди не выносит «молодое поколение марокканских преступников». Он считает их грубыми «животными», получившими слишком много свободы, одержимыми погоней за деньгами и статусом. Турки и сейчас отправляют самых непокорных юношей на какое-то время в Турцию, чтобы они научились вести себя. Раньше марокканские родители поступали так же, пока голландские социальные работники не положили конец этой практике, считая ее формой «угнетения». Ад-Дауди с удовольствием отправил бы некоторых из этих «животных» назад в Марокко, где их быстро научили бы хорошим манерам «самым унизительным способом». Там, сказал он, за плохое поведение бьют, подвергают остракизму, друзья отворачиваются. Но в Голландии все наоборот: «Если ты воруешь и разъезжаешь в большом автомобиле, у тебя есть статус». «Проблема не в культуре родной страны, большинство из этих мальчишек родились не там, – заключил имам. – Проблема здесь, в Голландии».
Естественно, Мохаммед Буйери не считал себя головорезом. Напротив, он рекламировал свою разновидность ислама как решение проблемы плохого поведения, которое он осуждал, как и Али ад-Дауди. К нему и не относились как к обычному преступнику. В ходе уголовного судопроизводства судьи и адвокаты обычно не тратят столько времени на размышления об «идеологическом и религиозном развитии» обвиняемых. Но это, возможно, тоже связано с чем-то гораздо более давним, чем нынешний кризис среди мусульман в крупных европейских городах: криминальное и революционное насилие не всегда далеки друг от друга.
В ноябре 2005 года амстердамская полиция арестовала подростка голландско-марокканского происхождения по имени Майк. Он дважды размещал в Интернете угрозы насилия в адрес Герта Вилдерса. Обыскав его дом, полицейские нашли в подвале самодельную взрывчатку. Майк был уличным мальчишкой и, как многие другие, увлекался кикбоксингом и фейерверками. Ему нравилось состояние возбуждения, он жаждал действовать. События il сентября поразили его воображение. Его марокканские друзья в школе считали, что ислам это «клево и круто». Он стал искать новую информацию в Интернете. После убийства ван Гога он установил контакт с группой «Хофстад» и познакомился с Нуредином. Он взял себе имя Талиб аль-Ильм, «Ищущий знания». Его героем, фотографию которого он вывесил в своей анкете пользователя MSN, был его «большой вождь и учитель» Мохаммед Буйери. Кикбоксеру Майку было семнадцать лет.
9
Ноябрь 2004 года. Рамадан, девятый месяц исламского календаря, когда все мусульмане постятся между восходом солнца и закатом. Это время встреч с родными и друзьями, время молитвы и, особенно в конце Рамадана, время благочестивых мыслей и добрых дел.
Вечером 1 ноября Мохаммед встретился с друзьями в своей амстердамской квартире, которую делил с приятелем по имени Ахмед. Там были Джейсон (наполовину американец), Исмаил, Фахми и Рашид. Друзья из Гааги принесли с собой суп. Они вспоминали старые дни, когда Мохаммед курил дурь и рассказывал фантастические истории. Все смеялись. Время прошло быстро. Было уже за полночь, когда Мохаммед решил совершить прогулку вокруг пруда Слотер-плас, находящегося недалеко от дома. Рашид и Ахмед пошли с ним. Мохаммед говорил мало, но, указав на ночное небо, заметил, каким красивым и мирным оно выглядит. Они слушали молитвы из Корана через наушники, подключенные к цифровым аудиоплеерам, и почти все время молчали.
Вернувшись в квартиру, Ахмед и Мохаммед сразу легли спать. Было поздно, а встать предстояло рано. В полшестого утра они помолились и позавтракали. Ахмед снова заснул. Когда спустя несколько часов он проснулся, Мохаммеда в квартире уже не было. На велосипеде, как и очень многие голландцы, он ехал в другой район Амстердама, чтобы встретить другого велосипедиста. Никаких неожиданностей не произошло. Он неделями заучивал этот маршрут. Он точно знал, что будет делать.
Глава седьмая In memoriam
1
Прочитав на прошлой неделе в газете, что амстердамский район Ост-Ватерграфсмер отказывается установить памятник Тео ван Гогуна улице Линнея, я пришел в ярость. Муниципальный совет [социал-демократы и Зеленые. – И.Б.] боится, что памятник вызовет провокации и беспорядки среди мусульман, живущих в соседних районах… От такой трусости меня тошнит.
Письмо в «Хет Пароол», 13 июля 2005 года«Здесь конечно же должен стоять памятник Тео ван Гогу», – говорит Жермен Принсен, исполняющий обязанности председателя муниципального совета Ост-Ватерграфсмер… Принсен полагает, что волнения в районе – не повод отказываться от установки памятника. Фреску, созданную в память об убийстве, уничтожали дважды.
«Хандельсблад», 12 июля 2005 годаИтак, споры продолжались. Следует ли установить памятник на улице Линнея, на месте убийства, или в соседнем парке, или, возможно, в центре Амстердама, а может быть, лучше вообще не устанавливать? И каким должен быть этот памятник? Газета «Хет Пароол», основанная голландским Сопротивлением в годы нацистской оккупации попросила своих читателей поделиться мыслями о том, как должен выглядеть памятник. Один из читателей предложил сделать его в виде двухметровой сигареты, периодически выпускающей клубы дыма; другой предложил скульптуру большой довольной свиньи, на розовых боках которой люди смогут выражать свое мнение. Многим понравилась идея о памятнике в виде огромного кактуса, который, по словам одного из читателей, воспользовавшегося старомодной лексикой послевоенных романов о героях войны, «был бы таким же большим и сильным, как Тео, символом непреклонности, достоинства, гордости и неустрашимости».
Кактус стал своего рода фирменным знаком ван Гога. Заканчивая свои телевизионные ток-шоу, он всегда целовал кактус, предлагая гостям сделать то же самое. Один из его гостей, Роман Полански, отказался. Ван Гог, боготворивший Полански, сказал, что любит целовать кактусы. Полански ответил, что у каждого должен быть свой конек.
Возведение памятников своей храбрости и своим страданиям в годы Второй мировой войны получило такое распространение в Голландии в конце 40-x – начале 50-х годов, что люди заговорили о «дожде памятников». Самый большой и известный из них, своего рода рифленый каменный фаллос с барельефами, изображающими страдания порабощенного голландского народа, – Национальный монумент на площади Дам, напротив королевского дворца в Амстердаме.
Каждый год королева возлагает к нему венок в память о Второй мировой войне – не о холокосте, которому в 1950-е годы не придавали большого значения, а о страданиях голландского народа в годы немецкой оккупации. Это место, где нация особенно остро чувствует жалость к себе. (Там же молодежь всего мира собиралась в 1960-е и 1970-е годы, чтобы бренчать на гитарах, заниматься любовью в спальных мешках и курить травку.)
Один из читателей «Хет Пароол» высказал мнение, что Национальный монумент должен уступить место памятнику в виде кактуса, столь же большому и впечатляющему. В глазах таких людей ван Гог наконец стал тем, кем стремился стать: символом голландского Сопротивления, национальным героем без страха и упрека, борцом за свободу, не посрамившим дядю и дедушку. Идея кактуса победила. Муниципальный совет Ост-Ватерграфсмера принял решение установить каменный кактус в парке, где был арестован Мохаммед Буйери, недалеко от того места, где он убил ван Гога.
Однако на памятнике споры не закончились. Не менее бурную дискуссию вызвала первая годовщина убийства, которую планировали отметить на улице Линнея. Должны были выступить мэр Йоб Кохен и премьер-министр Ян Петер Балкененде. Для друзей Тео это было достаточным основанием, чтобы не присутствовать. «Нас не пригласили», – высокомерно заявил Теодор Холман в своей еженедельной колонке в «Хет Пароол». И вообще, дескать, Кохен «наверняка считает Тео антисемитом, хотя он таковым не был».
«Проваливай, Йоб Кохен! – писал лучший друг Тео. – Мы знаем, что ты всегда ненавидел Тео…»
«Закройте, черт возьми, эти грязные мечети, где действительно проповедуют антисемитизм и хотят убить таких, как вы и я. Вышвырните из страны этих проклятых фундаменталистов! А еще лучше – зашейте этих убийц в мешки и бросьте их в море. Вот как надо помянуть Тео!»[44]
Выражения, как обычно у Холмана, крайне резкие, а эмоции чрезвычайно неприятные. Все же его стоило процитировать, потому что его тон не уникален. Не решаюсь сказать, что данное конкретное проявление оскорбленной добродетели носит национальный характер, но высказывания Холмана в респектабельной амстердамской ежедневной газете представляют собой вполне обычное явление для современной Голландии: оскорбления, представляемые как проявление искренности, выражение гнева как признак исключительной честности. Безусловно, Тео ван Гог сам многое сделал для того, чтобы задать этот тон.
Поминальная церемония на улице Линнея прошла спокойно и достойно: цветы, плюшевый мишка, послания с выражением горя и большой бледно-зеленый кактус, торчавший из велосипедной дорожки, как волосатый огурец. Диссонанс вносил лишь плакат в руках какой-то женщины, гласивший: «Балкененде, вы опоздали на год». Но когда премьер-министр подошел и тихо поговорил с ней, она подняла большой палец и похвалила его за то, что он такой молодец. Ее просто расстроило, объяснила она, что он посетил марокканские школы, разгромленные после убийства Тео. Зачем, спросила она его, нужно было уделять так много внимания «этим марокканцам»? В конце концов, сказала женщина со слезами на глазах, он «голландский премьер-министр».
Толпа была сравнительно небольшой, максимум несколько сотен человек. Последователи Пима Фортейна надели футболки, на которых ван Гог и их собственный герой были изображены по-братски рядом, как борцы за свободу. Балкененде говорил о важности господства права. Убийство, сказал он, это вызов «всему, чем мы дорожим в Нидерландах». Кохен тоже обращался к разуму: «Мы должны быть вольны верить, во что хотим, говорить то, что думаем, и идти туда, куда желаем, без страха».
Толпа стала расходиться. День был будний. Из сановников задержался только член городского совета Амстердама Ахмед Абуталеб. С легким марокканским акцентом он объяснил репортерам, что пришел сюда, чтобы поддержать Конституцию, по которой убийство ван Гога нанесло жестокий удар. Кто-то из сторонников Фортейна зажег свечи. Порыв ветра подхватил огонь, и колючий кактус быстро превратился в груду пепла.
Еще одна церемония состоялась в тот день в амстердамской гостинице «Арена». На этот раз члены семьи и друзья Тео присутствовали, хотя Йоб Кохен снова говорил о свободе, терпимости и о том, что жить нужно без страха.
Отец Тео, Иохан, поблагодарил людей за поддержку, а последовавшие за этим выступления выражали главным образом доброжелательность и либеральные чувства. Какой-то журналист сетовал: «Блестящий полемист Тео ван Гог нашел бы весьма прискорбным, что большинство присутствующих – хорошо образованные и благоразумные люди». Только Холман не разочаровал. «Вы действительно считаете, что Тео был бы рад всему этому? – взревел он. – Да его бы стошнило на месте! Разве я могу сказать, что читал Коран и считаю его отвратительной книгой? Только рискуя жизнью».
Борьба за память Тео ван Гога была недостойной, но вполне типичной для страны с давней традицией религиозных раздоров. Память, особенно память о мертвых, – это не споры, а сопереживание, часто приобретающее религиозную или квазирелигиозную форму. Нидерланды, как и остальная Западная Европа, за последние десятилетия стали в значительной степени светским обществом, но традиции веры живучи. Проповеди до сих пор воспринимаются голландцами как нечто естественное, как и проявление «праведных» эмоций – например, все того же «безудержного гнева». Спустя год после убийства Тео эмоции подняли жертву над реальными событиями до почти мифического статуса мученика за чистую и абсолютную правду.
Всегда легче, особенно в некогда глубоко религиозной стране, устанавливать памятники и читать проповеди, чем смотреть ангелу истории прямо в лицо. В воспоминаниях людей о Тео ван Гоге преобладали чувства, а не разум. Вспышки неуместной религиозности – характерная особенность светской эпохи, часто наблюдаемая на похоронах знаменитостей: принцессы Дианы, Папы Римского Иоанна Павла II, Пима Фортейна, Тео ван Гога. Слезливые прощания с людьми, с которыми мы никогда не были знакомы, сменили традиционные формы организованной веры, такие как исповедь или литургия, снимавшие наши личные беспокойства и огорчения. Коллективная сентиментальность – самый легкий подход к щекотливым вопросам, с которыми мы предпочитаем не сталкиваться напрямую. Это подтверждают многие болезненные воспоминания, в том числе относящиеся к темному прошлому, до сих пор преследующему голландцев, возможно, даже в большей степени, чем других европейцев. Если Клио – муза истории, то Анна Франк – призрак, маячащий над коллективной памятью о нацистской оккупации.
2
Амстердамская квартира, в которой Анна Франк начала вести дневник, прежде чем ее семья перебралась в убежище, скрываясь от нацистов, была восстановлена в стиле 1930-х. годов и стала приютом для преследуемых писателей… Используя фотографии из семейного архива и письмо Анны Франк, в котором она описывала квартиру, группа экспертов потратила несколько месяцев на то, чтобы убрать современное бытовое оборудование и сделать квартиру такой, какой она была, когда ее покинула семья. Столяр восстановил письменный стол, за которым тринадцатилетняя девочка делала первые записи в июне 1942 года, во время немецкой оккупации Нидерландов, за несколько недель до того, как вместе сродными спряталась в пристройке склада на берегу канала… Первым жителем квартиры в Мерведеплейн в южной части Амстердама стал алжирский писатель и поэт тридцатидвухлетний Эль-Махди Ашершур, работающий над новым романом.
Рейтер, 28 октября 2005 годаМеня поразило это сообщение не потому, что я был против предоставления преследуемому писателю убежища в Амстердаме. Предложить алжирскому или любому другому писателю квартиру, в которой он мог бы свободно работать, ничего не опасаясь, – хорошее и благородное дело. Но тщательная реконструкция старой квартиры семьи Анны Франк, чтобы писатель мог жить там, чувствуя ее незримое присутствие, представляется чем-то болезненно сентиментальным, как будто прошлое можно прожить заново, воссоздав обстановку, как будто это может чему-нибудь научить, кроме кое-каких тонкостей в оформлении интерьера гостиной. Иногда лучше не ворошить былое.
Но мне тоже было трудно забыть о прошлом в летние месяцы, проведенные в Амстердаме. Друзья предоставили в мое распоряжение свой дом в самой старой части города. Он стоит на узкой улочке, которая когда-то проходила мимо средневекового женского монастыря. Теперь это часть самого известного района красных фонарей в Европе, отличающегося своим космополитизмом. На одном углу улицы – салон тайского массажа, на другом – бордель с тремя бразильскими трансвеститами, один из которых рекламирует свои специфические достоинства с помощью фотографии большого коричневого члена и ноги с дамской подвязкой.
Практически обнаженные проститутки из всех бедных стран мира, словно на витринах, позируют в тускло освещенных комнатах старинных зданий, выстроившихся вдоль канала, с изящными резными фронтонами семнадцатого – восемнадцатого веков и неоновыми вывесками, предлагающими посмотреть секс-шоу. В этой части города легче купить большой электрический фаллоимитатор, чем газету. Группы пьяных бритоголовых англичан в футболках проходят мимо окон, усмехаясь, показывают пальцами на девушек из Гватемалы или Украины. Турки с уныло свисающими усами договариваются о цене на пальцах, а чернокожие суринамцы торгуют наркотиками под деревьями у моста. Голландские зазывалы ведут группы изумленных китайских туристов на секс-шоу, предлагая fucky fucky suckysucky и делая непристойные движения языком. Секс-шопы забиты журналами и DVD на любой вкус. Надувные куклы с широко открытыми ртами, кнуты из шкуры носорога, кожаные маски, кольца, надеваемые на член, большие фотографии минета и анального секса выставлены у всех на виду.
Старинные каналы провоняли пивом, марихуаной, гниющим мусором и мочой. Однажды мой друг сделал замечание двум марокканским подросткам, мочившимся на деревянную дверь прекрасного особняка семнадцатого века. Почему бы вам не воспользоваться каналом, предложил он. На мгновение они растерялись, но потом ответили ему с прекрасным амстердамским выговором: «Не лезь не в свое дело, жид проклятый!»
Возможно, долю ответственности за это следует возложить на западную цивилизацию, зловонным символом которой является амстердамский район красных фонарей. Возможно, эти улицы типичны для общества без стыда, без моральных устоев. Такую неприкрытую демонстрацию животных инстинктов человека можно расценить как форму варварства. Для людей, чья вера основана на скромности, чей кодекс чести запрещает любую демонстрацию женской сексуальности, каждое окно, выходящее на амстердамский канал, представляет собой невыносимую провокацию. Вы можете сказать, что никто не просил этих людей жить в Амстердаме. Но их поощряли к тому, чтобы они приехали и работали здесь, рожали детей. Они здесь, нравится вам это или нет, и голландский премьер-министр – их премьер-министр тоже.
Район красных фонарей, примыкающий с одной стороны к моей улице, наводил тоску своей постоянной эксплуатацией человеческой похоти.
Хотя его наиболее колоритные обитатели вызвали у меня интерес, я устал от него и больше времени проводил на другой стороне улицы, ведущей к большой площади Ньивмаркт, одной из старейших в Амстердаме. То, что я видел, сидя в кафе под открытым небом, иногда наполняло меня гораздо большим унынием, чем самый дурацкий секс-шоп. За площадью Ньивмаркт начинается старая часть города, на узких, густонаселенных улицах которой когда-то стояли ряды разнокалиберных зданий, в том числе относившихся к началу семнадцатого века. Почти все они уступили место зданиям 1980-х годов, выделяющимся в историческом сердце Амстердама своей современной белизной. Это место называлось раньше jodenhoek, Еврейский угол.
Во время войны забор из колючей проволоки отделял jodenhoek от остальной площади. В Амстердаме, в отличие от Варшавы, никогда не было гетто, хотя в начале войны немцы планировали его устроить. После тщательного рассмотрения от этой идеи отказались, поскольку ее осуществление создало бы слишком много неудобств для неевреев, которых пришлось бы переселять из этого района. Но под давлением нацистских властей все больше евреев, в том числе из провинции, приезжало в три перенаселенных района Амстердама, одним из которых был jodenhoek.
Эту часть города с португальскими и немецкими синагогами семнадцатого века и оживленными уличными рынками издавна населяли евреи, в основном бедняки. Здесь жил Рембрандт, находивший на улицах вокруг студии натурщиков для картин с библейскими сюжетами. До немецкой оккупации в Амстердаме проживало более восьмидесяти тысяч евреев. К концу войны их осталось около пяти тысяч.
Когда в 1943 году последний поезд ушел на «восток», Еврейский угол походил на город-призрак. Из его опустевших домов холодной и голодной зимой 1944/45 года амстердамцы вынесли все до последней деревяшки на дрова для растопки печей. В таком виде здания и оставались в течение тридцати лет после окончания войны, постепенно приходя в негодность и разрушаясь. На осыпающихся стенах заброшенных магазинов часто можно было прочитать едва видимые еврейские фамилии. Многие дома позже снесли, и на их месте образовались большие пустыри, заваленные мусором. Люди предпочитали не думать о причинах появления этих городских руин. Обломки человеческой катастрофы просто оставили гнить. Несколько зданий, сохранившихся до 1970-х, были заняты молодыми бродягами, но, наконец, примерно в 1974 году, последние остатки Еврейского угла снесли, чтобы построить подземный железнодорожный вокзал и новый оперный театр.
Но сначала нужно было убрать самовольных поселенцев из их импровизированных жилищ. Последующие события выглядели своего рода гротескной инсценировкой исторической драмы. Это не значит, что голландская полиция, вооруженная дубинками и брандспойтами для выдворения бродяг, имела что-то общее с нацистами или что бездомные были обречены на гибель. Просто вид одетых в форму мужчин, вытаскивающих людей из домов, в то время как мы, стоя за барьерами, наблюдали за происходящим, воскрешал образы, которые я помню только по размытым фотографиям, сделанным на этом самом месте тридцать лет назад.
До того как в конце 1960-х упоминания о холокосте на памятниках и в учебниках стали на Западе почти универсальным ритуалом, только два памятника в Еврейском углу напоминали о том, что там произошло. Один из них, барельеф из белого камня, был установлен в 1950 году. Его называют памятником «благодарности евреев» – благодарности голландцам, которые оказали поддержку евреям. Другой, установленный двумя годами позже, представляет собой статую крепкого рабочего, стоящего с высоко поднятой головой. Его мускулистые руки с большими пролетарскими кулаками разведены в жесте гневного неповиновения. Докер» – памятник в честь двухдневной «февральской забастовки» 1941 года, когда Амстердам прекратил работу в знак протеста против депортации 425 евреев в концентрационный лагерь. На них была устроена жестокая облава в присутствии многих неевреев, делавших покупки на оживленном воскресном рынке. Новость распространилась быстро: городские мусорщики отказались убирать мусор, почтальоны не доставляли почту, перестали ходить трамваи, а порт Амстердама не работал в течение сорока восьми часов.
Об этом проявлении солидарности, уникальном для Европы и в значительной степени способствовавшем высокой репутации Голландии среди евреев, конечно, следует помнить, но оно вводит в заблуждение. Хотя ее нельзя назвать мифом – все это действительно случилось, – февральская забастовка стала удобным символом, оградившим людей от более болезненных воспоминаний о том, как они стояли в стороне, смотрели и бездействовали. Были, конечно, и такие, кто рисковал жизнью и семьей, укрывая евреев. Но эту замечательную историю о храбрости какое-то время использовали, чтобы скрыть историю о безразличии, о трусости, а в некоторых случаях и об активном соучастии.
По субботам я иногда пил утренний кофе в многолюдном кафе на Ньивмаркт с выдающимся голландским историком Гертом Маком. Он раздражал друзей Тео и других участников борьбы с радикальным исламом тем, что подходил к проблеме с более релятивистских позиций. Коренастый мужчина с густой шевелюрой вьющихся седых волос, Мак производил впечатление дружелюбного, либерально мыслящего, провинциального учителя истории. Он часто говорил со мной о старых левых, с политикой которых он в значительной степени согласен; о том, что оскорбленные в лучших чувствах прогрессисты ополчились против мусульманских иммигрантов; об их ностальгии по «классической Голландии 1950-х», Голландии Йохана Хёйзинги – удовлетворенной, просвещенной, центристской, буржуазной. Мак в каком-то смысле олицетворяет эти важные достоинства. Все его книги по голландской истории – бестселлеры. Они представляют собой историческое повествование, утешительное для народа, чувствующего себя лишенным исторической идентичности. Как и сентиментальность на похоронах знаменитостей, это присуще не только голландцам. В мире, охваченном корпоративным единообразием, национальной историей стали интересоваться повсюду.
Несмотря на буйную репутацию Амстердама, Голландия, по словам Мака, никогда не была настоящей метрополией. Привыкание к жизни бок о бок с большим количеством иммигрантов «будет трудным и болезненным процессом», и людям «придется смириться с этим». В конце концов, разве в девятнадцатом веке просвещенная политика не привела к успешной интеграции евреев в Амстердаме? Разве плохо, что школы для детей еврейских бедняков субсидировались при условии, что преподавание в них будет вестись на голландском, а не на идише? Такой прием мог бы сработать снова. Но антимусульманская истерия вряд ли поможет этому процессу. Мак с неодобрением относится к выходкам Айаан Хирси Али, «строящей из себя Жанну д'Арк». Ван Гог, по его мнению, был «трагической фигурой». Его «обманом втянули» в создание фильма, который стоил ему жизни. Проблема, считает Мак, не в исламе или религии как таковой. Она скорее социальная. В том, что происходит на наших глазах, нет ничего нового. Это обычная напряженность, возникающая, когда сельские жители, покинув насиженные места, начинают новую жизнь в столице.
Вскоре после убийства ван Гога Мак издал два памфлета, направленные против опасной и истеричной, по его мнению, нетерпимости к мусульманам в голландских СМИ и среди голландских политиков. Являясь самым популярным историком в Голландии, он счел своим долгом привнести здравый смысл в национальную дискуссию. В целом ему это удалось, но даже Мак, воплощение добродетелей Хёйзинги, не смог полностью избавиться от призрака Анны Франк, от голландской привычки пропускать настоящее сквозь воспоминания о своей вине за то, что случилось в Еврейском углу. В одном из своих памфлетов он сравнил фильм Хирси Али «Покорность» в том, что касается приемов повествования, с нацистским образцом злобной антисемитской пропаганды, фильмом «Вечный жид».
В очень узком техническом смысле – в тенденциозном подборе порочащих цитат, например, – возможно, что-то и было, но в целом сравнение неправомерно. Хирси Али выступала против угнетения, а не за него. Ее программа не предусматривала устранение мусульман или любой другой группы. и все же обращение к примерам холокоста или жизни еврейской диаспоры стало естественным рефлексом когда речь заходит об этнических или религиозных меньшинствах. Это – моральный критерий и в то же время «ловка. В напоминании о прошлых преступлениях, о равнодушии или соучастии нет ничего плохого. Но это может внести путаницу в обсуждение проблемы или, что еще хуже, завести дискуссию в тупик в результате взаимных обвинений в массовых убийствах. Проблема не в холокосте, а в том, как предотвратить превращение подрастающих Мохаммедов Буйери в заклятых врагов страны, в которой они выросли, как добиться того, чтобы мальчики, мочившиеся на дверь дома семнадцатого века, почувствовали, что это и их дом.
3
Решение журнала Тайм» признать Йоба Кохена одним из европейских героев 2005 года нанесло чувствительный удар по его врагам… На сайте форума Пима Фортейна мы находим заявления типа: «Невероятно, что такого предателя в США считают героем!», или «Кохен – еврейская фамилия, и в США тоже много Кохенов», или «Вина за убийство ван Гога частично лежит на Кохене».
Фриц Абрахамс, обозреватель «Хандельсблад», 10 октября 2005 годаУважаемый г-н Кохен, Вы совершили большую ошибку, когда заявили, что мусульманские меньшинства в Нидерландах смогут интегрироваться через свою религию. После вашей лекции Клеверинги в гоог году многие люди указали на вашу ошибку, но вы упорствуете в своем заблуждении.
Айаан Хирси Али, открытое письмо Йобу Кохену, 8 марта 2004 годаЕжегодная лекция Клеверинги, которую читают в Лейденском университете 26 ноября, названа так в честь отважного человека, ни разу не повысившего голоса и ни разу никого не оскорбившего. Он был героем, потому что был порядочным человеком и говорил правильные вещи в те времена, когда порядочность могла иметь серьезные последствия.
Процесс сегрегации голландских граждан в период немецкой оккупации начался в 1940 году, когда государственным служащим приказали подписать анкету, указав в ней, являются они «арийцами» или евреями. Большинство людей так и сделали, часто не осознавая последствий. Вскоре после этого немцы объявили, что евреи будут уволены с государственной службы. Лейденский университет уволил трех выдающихся ученых: Мейерса, Давида и Ганса. Профессор Эдвард Мейерс был одним из известнейших ученых-юристов своего поколения, создателем современного гражданского кодекса.
Голландские власти, хотя и неохотно, согласились на эти меры, но не декан юридического факультета Лейденского университета, профессор Рудолф Клеверинга. 26 ноября 1940 года он решил выразить свой протест перед преподавателями и студентами. Он выбрал время, которое обычно было занято лекциями Мейерса, и стал читать вслух, дословно, письмо с распоряжением об увольнении своего коллеги. Написанное холодным бюрократическим языком, оно само по себе было достаточно красноречивым. Вместо того чтобы говорить непосредственно о непристойности политического расизма, Клеверинга превозносил своего коллегу как «человека света», которого отвергает «власть, не опирающаяся ни на кого, кроме себя самой». Затем он произнес знаменитые слова, которые помнят до сих пор: «И именно этого голландца, этого благородного и истинного сына нашего народа, этого настоящего человека, этого отца для своих студентов, этого ученого иноземные оккупанты, правящие нами сейчас, «увольняют с работы».
Йоб Кохен в своей лекции Клеверинги 2002 года продолжил эту историю: «В то незабываемое ноябрьское утро 1940 года в большой аудитории сидела молодая еврейка, студентка юридического факультета. Слова Клеверинги бальзамом проливались на ее смятенную душу. Она чувствовала в тот момент, что «наши мысли и настроения передаются от одного к другому, и все ощущают это». И сильнее всех других было одно чувство: «Я здесь своя!»
Клеверинга знал, что делает. Он уже уложил свои вещи. На следующий день студенты объявили забастовку в знак протеста против увольнений, и Клеверинга был арестован. Упомянутой выше студенткой была мать Кохена. Говоря от ее имени и от себя, либерального, ассимилированного еврея, Кохен превозносил толерантность голландского общества и то, что люди всех рас и вероисповеданий нашли здесь свой дом. Но затем последовали шокирующие события и сентября, убийство Пима Фортейна и «ужесточение» отношения к иммигрантам, что изменило социальный климат. «Они еще свои, как до 11 сентября 2001 года? – спрашивал он. – Многие голландские подданные иностранного происхождения последние несколько лет, должно быть, задавались вопросом: это действительно Голландия? Я еще свой? Не стал ли я чужаком в собственной стране?»
Параллель, проведенная им между чувствами его матери-еврейки в годы нацистской оккупации и чувствами мусульманских иммигрантов в наши дни, не могла не вызвать беспокойство у людей. Как можно сравнивать одно с другим? Не пример ли это неуместного сентиментального обращения к воспоминаниям о холокосте? Думаю, что нет. Кохен говорил не о геноциде, а о чувстве принадлежности. Конечно, мать Кохена и профессор Мейерс не сомневались в том, что они здесь свои. Многие молодые мусульмане, родившиеся и выросшие в Европе, считают иначе. Вопрос: почему?
В своей лекции Кохен много говорил о господстве права, о нормах и ценностях, об эрозии организованной веры, о проблемах мультикультурализма и глобального капитализма, но постоянно возвращался к основному вопросу: как сделать так, чтобы люди чувствовали себя дома в современном, светском, либеральном обществе, где многие обычаи, ценности и коллективные воспоминания противоречат их собственным? Кохен отвечает, что это не должно иметь значения, пока люди не нарушают закон. В любом случае сейчас не так ясно, как во времена Хёйзинги, что значит быть голландцем (или французом, или немцем). Цитируя Герта Мака, Кохен сказал, что нужен «новый клей», чтобы «склеить общество' . Не уточняя, что это должен быть за клей, Кохен подчеркнул важность взаимного уважения. Это значит, по его мнению, что мы должны терпеть мнения и привычки, которые не разделяем или даже не одобряем. Мы терпимо относимся к тому факту, что женщинам не разрешают вступать в ультракальвинистскую политическую партию. Точно так же мы должны «терпеть то, что определенные группы ортодоксальных мусульман сознательно дискриминируют своих женщин».
Кохен на этом не остановился. Почему бы не возродить голландскую систему «столпов»? Раньше голландцы организовывали свою жизнь через принадлежность к религии. Может быть, мусульман стоило бы побуждать действовать так же. Следующее предложение больше всего расстроило критиков: «Возможно, легче всего интегрировать новых иммигрантов через их веру. Потому что это единственный якорь, с которым они попадают в голландское общество в двадцать первом веке». Эти слова расценили как вопиющую попытку умиротворения, давшую Тео ван Гогу основание сравнить Кохена с нацистскими коллаборационистами.
Айаан Хирси Али полагает, что Кохен «борется с демонами прошлого», что «истинный ислам» несовместим со светским, либеральным государством, что мусульмане, в отличие от евреев в 1930-е годы, не являются объектами ненависти в современной Европе, напротив, это они сами ненавидят светскую, либеральную Европу. Идея о том, что «истинных мусульман» можно интегрировать через мечеть, говорит она, – такая же наивная ошибка, как та, которую совершила Америка, поддержав талибов в их борьбе против Советского Союза и дождавшись того, что правоверные разрушили башни-близнецы. Истинный мусульманин считает, утверждает Хирси Али, что миром управляет тайная еврейская организация; истинный мусульманин считает, что демократия греховна и что повиноваться нужно только законам Аллаха; короче говоря, истинный мусульманин – враг всех свободолюбивых наследников Просвещения. И то, что Кохен не видит этого, свидетельствует о его ослеплении демонами прошлого, угрожавшими когда-то жизни его матери.
Если бы все истинные мусульмане были политическими революционерами, то Айаан Хирси Али, несомненно, была бы права. Но поскольку дело обстоит не так даже среди ортодоксальных мусульман, прав, наверное, все-таки Кохен. Если бы ислам как таковой представлял угрозу демократии, то угрозу представляли бы и все мусульмане. Именно для того, чтобы избежать «культур-кампфа», или «столкновения цивилизаций», Кохен хочет достичь компромисса с мусульманами в своем городе. Легко, как это делает Хирси Али, находить отвратительные примеры на веб-сайтах, в радикальных проповедях оголтелого антисемитизма и ненависти к западной цивилизации. Дискриминация мусульманских женщин их собственными отцами и братьями действительно причиняет огромные страдания, но трудно представить себе, как официальные нападки на мусульманскую веру помогут решить эту проблему. Революционеры больше не идут на компромиссы, а государство, если не считать предоставления защиты молодым женщинам, подвергающимся насилию со стороны мужчин, мало чем может повлиять на традиции консервативных старейшин. Нападки на религию не могут быть решением проблемы, потому что реальная угроза смешанному обществу возникнет тогда, когда основная масса мирно настроенных мусульман окончательно потеряет надежду почувствовать себя в нем как дома.
4
В среднем у марокканских юношей на 30 % меньше шансов найти работу, чем у их сверстников из числа коренного населения. В строительстве их шансы меньше в три раза. Большой спрос на их услуги существует только в ресторанном бизнесе. К такому заключению пришли участники научно-исследовательского проекта, осуществленного Утрехтским университетом по заказу партии «Зеленые левые».
«Волкскрант», 27 августа 2005 годаПятого июля член городского совета Ахмед Абуталеб обратился к исламским школам в Амстердаме в связи с тем, что, по данным недавно подготовленного муниципального доклада, непропорционально большой процент мусульманской, и особенно марокканской, молодежи негативно относится к западному обществу. ‹…› Абуталеб упомянул, что «школьники считают свое положение неблагоприятным». «Учителя стараются навязать собственное мнение, вместо того чтобы вести диалог».
«Хет Пароол», 30 июля 2005 годаАхмед Абуталеб родился в марокканских горах Риф в 1961 году в семье деревенского имама. В 1976 году мать отвезла его и его братьев в Нидерланды. Изучив голландский язык и получив образование в области телекоммуникаций, он стал сначала радиожурналистом, а затем председателем мультикультурной организации «Форум». Он является членом социал-демократической партии. Свою теперешнюю должность (член городского совета Амстердама) он получил неожиданно. В 2002 году его предшественник, Роб Аудкерк, тоже социал-демократ, допустил серьезную ошибку. После окончания митинга, думая, что микрофон выключен, Аудкерк, дед которого был в годы нацистской оккупации членом Еврейского совета, наклонился к Йобу Кохену и шепнул ему что-то про «проклятых марокканцев» (kutmarokkanen). В 2004 году его сменил Ахмед Абуталеб.
Абуталеба, сфера деятельности которого включает в себя проблемы молодежи, образование, интеграцию и городскую политику, обзывали и похуже. В одном из телевизионных ток-шоу какой-то учитель истории марокканского происхождения назвал его членом NSB, пособником нацистов. Очень странное обвинение, брошенное в адрес бербера другим бербером, даже учитывая, что NSB стало обычным ругательством. Возможно, использование исторической параллели было лишь признаком интеграции в голландское общество, но Абуталеб воспринял это иначе и пригрозил подать в суд.
Что вообще означает обвинение в «пособничестве», брошенное в адрес весьма уважаемого члена городского совета Амстердама? Пособничество в чем? Просмотр голландских веб-сайтов различного политического толка показывает, что на Абуталеба такие обвинения сыплются со всех сторон. Упомянутый выше учитель истории, Абдельхаким Шуаати, пишет для elqalem.nl, веб-сайта молодых марокканцев, на котором с уважительным вниманием относятся к различным антисемитским теориям заговора. В чатах elqalem.nl Абуталеба часто называют предателем, лизоблюдом, «шлюхой, отдающейся за субсидии» или «Баунти» (по аналогии с известным шоколадным батончиком с кокосовой начинкой, коричневым снаружи и белым внутри).
Мохаммед Буйери, угрожая Абуталебу смертью, назвал его еретиком или зиндиком, то есть врагом ислама, который должен быть казнен. Грех Абуталеба, по мнению Мохаммеда и Абдельхакима, в том и состоит, что он преуспел в качестве голландского подданного. Работа в органах власти, выступления в поддержку интеграции, протесты против предубеждений религиозных фанатиков – всего этого достаточно, чтобы объявить его еретиком, врагом, предателем. Однако, порыскав в закоулках киберпространства, я нашел голландский неонацистский сайт stormfront.org, который клеймит Абуталеба как раба международного еврейского заговора, во главе которого стоит «архисионист Кохен». Конечно, это вонючие задворки, на которых исламские экстремисты и белые расисты находят друг друга и обнаруживают странное сходство в своих позициях. Но даже среди уважаемых представителей общества член городского совета Амстердама часто чувствует себя одиноким.
Когда в день убийства ван Гога двадцать тысяч человек собрались на площади Дам, чтобы выразить свое возмущение, мусульман, помимо Абуталеба, пришло совсем немного. Это разочаровало его. «Даже если они считали ван Гога придурком, – сказал он, – они должны были быть там, чтобы защищать господство права». Он едва сдерживал гнев. В своем выступлении перед мусульманами в амстердамской мечети Абуталеб (человек набожный) заявил, что толерантность – не улица с односторонним движением. Амстердам – город свободы и многообразия, и «люди, не разделяющие эти ценности, должны сделать свои собственные выводы и уехать». Такой здравый подход получил полное одобрение «коренных жителей», но не улучшил его репутацию среди иммигрантов.
В нестабильные и опасные дни после убийства он появлялся всюду, стараясь потушить огонь ненависти и страха, – в мечетях, в молодежных центрах, в школах. Мусульмане, говорил он, обращаясь к верующим, «не должны позволять фанатикам узурпировать свою веру». Но он чувствовал, что политики, включая премьер-министра, оставили его в одиночестве. «Как часто, – жаловался он, – я стоял в этих залах один. Где были все эти министры?»[45]
Попытка наведения мостов порой не самое приятное дело. Стараясь примирить группы людей, выдвигающие очень разные требования, чиновник вроде Абуталеба рискует лишиться симпатий обеих сторон. Человек, который вопреки всем современным тенденциям, ратовал за проведение раздельных занятий по плаванию для девочек и мальчиков, предложил мусульманам, неспособным жить в условиях открытого общества, уложить чемоданы и уехать. Он даже пытался привить молодым мусульманам коллективную память голландцев. 4 мая 2003 года, в Национальный день памяти, марокканские дети вызвали возмущение коренных жителей тем, что стали играть в футбол венками, возложенными в память погибших на войне. А 4 мая 2005 года Абуталеб отвез группу школьников в Освенцим.
В первый раз я увидел Абуталеба в своем любимом кафе на Ньивмаркт. Он читал газеты в окружении телохранителей. Как и Айаан Хирси Али, он нуждался в постоянной охране. Мы с ним договорились о встрече в здании муниципалитета, в центре бывшего Еврейского угла. Аккуратный и невысокий, в очках с металлической оправой, Абуталеб говорил о религии в энергичной и взвешенной манере человека, который много раз отвечал на одни и те же вопросы. Религия для него – частное дело, в которое государство не должно вмешиваться, и наоборот. Не привлекают его и политические партии, основанные на религии или этнической принадлежности. Главная проблема, подчеркнул он, это «вопрос приоритетов. По мнению многих мусульман, закон менее важен, чем оскорбление пророка».
Но, продолжил он, между поколениями существуют различия. Первое поколение почти неграмотное. Для них «религия – нечто, закрепленное культурным укладом, о чем они знают понаслышке. Они молятся пять раз в день, носят бороды. Джихад для них не столько вооруженная борьба, сколько образ жизни набожного мусульманина». У молодежи другая проблема, объяснил Абуталеб. «Им приходится усваивать религию на незнакомом языке. Текст Корана очень сложен и с трудом поддается толкованию – как с социологической, так и с лингвистической точки зрения. Поэтому мне смешно, когда молодой человек вроде Мохаммеда Б. уверен, что, изучив Коран на английском и голландском языке, он получил достаточно знаний для того, чтобы счесть своим долгом убийство человека».
Даже считая религию личным делом, Абуталеб не видит причины, по которой он не может открыто критиковать ее. Особое возмущение учителя истории Абдельхакима вызвал известный эпизод, связанный с Абуталебом и книгой, написанной в тринадцатом веке. Однажды в радикальной мечети Таухид, куда Мохаммед Буйери ходил молиться, была замечена книга суннитского ученого Ибн Таймии (1263–1328) под названием «Фетвы о женщинах». Книга, которую продавали в мечети, включала предписание бить прутьями женщин, уличенных во лжи. Но это не самое худшее. В книге содержится абзац о гомосексуалистах, которых следует убивать, сбрасывая вниз с пятиэтажных башен. Абуталеб послал письмо в мечеть с предупреждением о том, что подобный подстрекательский материал «противоречит букве и духу закона». Мечеть возразила, что в книге нет ничего плохого, но тем не менее она была изъята из подажи.
Ахмед Абуталеб устал от мечети Таухид и ее фанатиков. Он сердит на невежественную и вспыльчивую молодежь, которая от имени Аллаха и его пророка очень усложняет мирным мусульманам процесс вступления в ряды признанных граждан европейского демократического государства, где они смогут чувствовать себя дома, не привлекая чрезмерного внимания, как и евреи, приехавшие до них.
Итак, Ахмеда Абугалеба, члена городского совета, строителя мостов, благочестивого мусульманина называют «Баунти», зиндиком и предателем, не заслуживающим ничего, кроме смерти.
5
Их зовут Район Бабел, Урби Эмануэлсон, Принс Райкомар, Дуайт Тиендалли, Кеннет Вермеер и Гианни Зуиверлоон, по происхождению они суринамцы. Или в их жилах течет антильская кровь, и зовут их Кеми Агустьен и Хедвигес Мадуро.
Родители Квинси Овусу Обейе приехали из Ганы, а Ибрагим Афеллей мог бы играть и за Марокко и за Голландию. Есть и беженцы, Коллинз Джон (Либерия) и Харис Медуньянин (Босния).
Когда тренер национальной сборной Фоппе де Хаан смотрит на игроков молодежной сборной Голландии, он видит «срез голландского населения».
«Волкскрант», 10 июня 2005 годаВ тот день, когда я отправился на встречу с учителем истории Абдельхакимом Шуаати, в Роттердаме имелся повод для важного послевоенного национального ритуала: сборная Голландии играла в футбол со сборной Германии. Эти матчи – часто больше чем игра, особенно на чемпионате мира или Европы. Это своего рода реконструкция Второй мировой войны. Германия должна быть побеждена. Несомненно, поляки чувствуют то же самое, и даже англичане, хотя они не знали немецкой оккупации. Отчасти это результат изменения политических традиций. Открытые проявления патриотизма стали табу в послевоенной Европе везде, кроме футбольного поля. Как будто там, и только там, позволено выражать запретные племенные чувства, размахивая флагами, исполняя гимны и поклоняясь героям. Когда Голландия играет с Германией, тысячи мужчин, женщин и детей надевают роялистскую оранжевую форму и идут на сражение с традиционным противником, врагом, само существование которого позволяет голландцам осознавать свои национальные особенности: либеральные, открытые, толерантные, свободные духом голландцы против хорошо организованных, дисциплинированных тевтонцев. Когда Голландия победила Германию в финале Кубка Европы в 1988 году, на улицы Амстердама, чтобы отпраздновать это событие, вышло больше людей, чем в день освобождения в 1945 году.
Абдельхаким, сидевший в кафе возле Центрального вокзала, смотрел на болельщиков в оранжевой форме, оранжевых шарфах и оранжевых головных уборах, иногда украшенных пластмассовыми копиями деревянных башмаков, ветряных мельниц или больших желтых кругов сыра, с выражением полнейшего безразличия, как скучающий западный турист смотрит на бесконечные народные танцы в какой-нибудь стране третьего мира. Мужчины в оранжевом, почти все белые, многие старше тридцати, танцевали джигу на вокзальной площади, пели кто государственный гимн, кто старинные детские песни, прославляющие голландскую доблесть, проявленную в годы испанского господства в семнадцатом веке.
Поскольку в Голландии национальная история практически вычеркнута из школьных учебников, многие дети почти ничего не знают о войне за независимость против испанской короны. Песни, сочиненные в ее честь, теперь кажутся такими же странными, как деревянные башмаки и ветряные мельницы, прикрепленные к головным уборам в качестве национальных символов, символов легендарного прошлого, тиражируемых для футбольных болельщиков и туристов. Абдельхаким, конечно, не видит в них ничего привлекательного.
Но мне было интересно знать, что он, как учитель, думает о голландской истории. Поэтому я спросил о его учебе в маленьком кальвинистском городке под Роттердамом, где его отец работал на сталелитейном заводе. Абдельхаким, худощавый молодой мужчина с орлиным носом, недоверчиво посмотрел на меня, и его взгляд напомнил мне о радикальных маоистах или троцкистах моих студенческих лет, одновременно высокомерных и настороженных. Этот взгляд как будто говорил: «Все люди, не познавшие истины, – идиоты, с которыми и разговаривать не стоит, но идиоты опасны, поэтому надо быть бдительным и постоянно готовым сражаться с идиотизмом».
Голландская история? Абдельхаким пожал плечами. «Много самодовольной болтовни. Много воплей о евреях. Не мусульмане изобретали газовые камеры. Почему же тогда евреев нужно было вывозить в Палестину?» Его ответ был печальным отражением того, что история сузилась до одного-двух сюжетов. Тень Анны Франк падает и на школьную программу. Но мне показалось, что мы слишком быстро закрыли тему, поэтому я спросил его, чему учат детей на уроках истории в его школе.
«Ложь, – сказал он, пристально косясь на меня одним глазом. – Сплошная ложь. Дарвинизм, например. Они ничего не говорят о креационизме. Они боятся приписать эволюцию Богу». Он чуть заметно презрительно фыркнул. «Может быть, они боятся походить на мусульман».
Мне показалось, что Абдельхакима не очень интересует история, по крайней мере, голландская история, которую он считает тривиальной. «Я преподаю историю только для того, чтобы заработать деньги», – сказал он. Интересовали его заговоры. Его теории были довольно обычными для определенных кругов: и сентября – результат еврейского заговора. Иначе почему в тот день четыре тысячи евреев в Нью-Йорке остались дома? Меня больше удивила его гипотеза, что первая высадка на Луну была сфальсифицирована агентами ЦРУ в Голливуде. На самом деле этого просто не было, утверждал он. Съемки проводил Стэнли Кубрик, известный еврейский режиссер. Позже агентов убили, чтобы стереть следы грандиозного мошенничества.
Абдельхаким родился в семье, которую нельзя назвать религиозной. Немного успокоившись, он рассказал, что вызывал тревогу у своих родителей, людей умеренных. Он был «черной овцой», «шел своим путем». Ни одна из его сестер не носит платок. Его политические убеждения – смесь обид, накопившихся у стран третьего мира («Запад считает, что может делать в мире все, что хочет, его интересуют только деньги»), и религиозного консерватизма: антидарвинистские взгляды, пуританское отношение к сексу. Он сказал, что женится на арабской женщине и воспитает своих детей в строгих мусульманских традициях.
Я захотел узнать, как он относится к тому, что он голландец. Как он себя ощущает? Гражданство, сказал он, для него ничего не значит. Важен только ислам. Он – мусульманин, живущий в Голландии. А как же голландские законы? Вступала ли когда-нибудь светская конституция в противоречие с шариатом? Никаких проблем, сказал он. Он может соблюдать конституцию. Он повинуется законам. Он останавливается на красный свет. Конечно, шариат, «будучи божественным, находится вне времени и, таким образом, вечен». Но, заметил он, «90 процентов голландских законов соответствуют шариату». Что касается оставшихся ю процентов, исламское уголовное право строже. «По законам шариата педофилы заслуживают смертной казни. В Голландии у них есть своя ассоциация». Ему это казалось забавным. Презрительную гримасу сменила насмешливая улыбка.
Нет никакого сомнения: Абдельхаким, безусловно, верующий человек. Он сам говорит об этом. Именно поэтому родители беспокоятся о нем. Но в этом еще нет ничего необычного. Сама вера в то, что Коран содержит слова, произнесенные Аллахом, делает большинство мусульман фундаменталистами. Но некоторые из них готовы мирно жить в светском обществе, а некоторые нет. Абдельхаким относит себя к первым. Фундаментализм не делает его революционером.
Пока ему разрешают исповедовать свою религию, говорит он, он доволен жизнью в Голландии. Здесь ему, безусловно, лучше, чем где-либо на Ближнем Востоке. Он считает, что мусульманам «живется здесь очень хорошо». Он не одобряет убийства кого бы то ни было за убеждения или за их отсутствие. «Мы здесь еще гости. Мусульмане не составляют большинства, а шариат может быть введен, только если этого хочет большинство». Он, конечно, был бы рад, если бы все разделяли его веру, но то же самое может сказать большинство христиан.
В известном смысле Абдельхаким, возможно, больше голландец, чем он думает. Его идея о том, что вера может помочь молодым правонарушителям-мусульманам встать на путь исправления, найдет поддержку и у христиан. Мысль о том, чтобы с помощью мечети удержать озлобленных молодых людей на пути праведном, консервативна, но вряд ли чужда обществу, опиравшемуся на религиозные «столпы» всего несколько десятилетий тому назад. Сам Абдельхаким, по его словам, не участвовал в выборах из-за своей ортодоксальной веры, но я совсем не удивился, когда в числе политических деятелей, вызывающих его симпатии, он назвал фамилии консервативных христианских демократов. Как ни странно, Абдельхаким духовно ближе к старому, более ортодоксальному голландскому обществу, сметенному культурным потоком 1960-х.
Нельзя сказать, что в нем нет ничего, что вызывало бы беспокойство. Антисемитизм отвратителен. И я не уверен, что Абдельхаким был бы так терпим к неверным, если бы жил в обществе, соблюдающем законы шариата. Но он не показался мне опасным человеком. Пока что. Он хочет преподавать историю ислама на популярном голландском телевизионном канале, и это показывает, какую страну он считает своим домом. Он сказал мне кое-что, что прозвучало зловеще, но может оказаться ключом к решению проблемы: «Тело ислама находится на Ближнем Востоке, но разум – в Европе». Европа предоставляет свободу исследовать, реформировать, спорить. Оливье Руа, известный французский исследователь ислама, считает, что ислам должен быть признан европейской религией.[46] Единственный шанс на мирное будущее появится в том случае, если европейский ислам приспособится к либеральной демократии. Возможно, запутавшийся, настороженный, вспыльчивый Абдельхаким нащупывает путь к этому.
Веб-сайт elqalem.nl, для которого он пишет, – провоцирующий, иногда агрессивный и часто просто упорствующий в заблуждениях – все же является форумом для дискуссии. Это попытка атаковать общество с помощью слов, а не насилия. Многие разговоры в чатах этого сайта и других, таких как marokko.nl, вращаются вокруг серьезного вопроса: как быть мусульманином в светском европейском обществе, как быть голландским подданным, не теряя личной гордости, которая так часто подвергается оскорблениям. Сайт marokko.nl однажды провел среди молодых мусульман дискуссию об анальном сексе; что об этом говорится в Коране? Дискуссия получилась далеко не фривольной, она точно показала современный кризис идентичности.
Мусульманские девушки, как и большинство европеек их поколения, хотят заниматься сексом со своими возлюбленными, но на них давит то, что они должны вступать в брак девственницами.
Религия устанавливает правила поведения. Она отвечает на вопросы о том, что правильно, а что безнравственно. Она может стать для людей предметом гордости. Правила подчас бывают сомнительными, а ответы спорными. Но люди должны иметь возможность принимать самостоятельные решения. Неграмотный житель деревни, затерявшейся в горах Риф, не имеет такой свободы. Он знает только деревенские обычаи и слово Божье. Образованные европейцы, к числу которых относится Абдельхаким, могут сделать свой собственный выбор. В современном обществе религиозная ортодоксальность, хотя по определению не подлежит рациональному обсуждению, часто является результатом выбора. И должна восприниматься именно так, покуда человек не навязывает свой выбор другим.
Религия может разжигать ненависть и служить источником политического насилия. Амстердам, как любой крупный город в Европе и за ее пределами, связан теперь через Интернет с глобальным революционным движением, основанным на экстремистском и, в значительной степени, современном понимании ислама. Мохаммед Буйери решил присоединиться к этому движению. Как и все формы политического насилия, оно не имеет оправдания не только с точки зрения неверующих законопослушных граждан, но и с точки зрения большинства мусульман. Конечно, революционный ислам связан с Кораном, как сталинизм и маоизм связаны с «Капиталом», но объяснять ужасы искусственно созданного голода в Китае или советского ГУЛАГа лишь тем, что написал Карл Маркс, – значит упускать главное. Мессианское насилие может основываться на любом вероучении. Абдельхаким – не Мохаммед Буйери. Он и такие, как он, могли бы присоединиться к кровавой затее Мохаммеда, но выбор зависит отчасти оттого, как к ним относится страна, в которой они родились. А это зависит от другого выбора: считать ли ортодоксального мусульманина свободным гражданином европейской страны.
Вместе с группой голландских болельщиков я сел в трамвай, ехавший в сторону роттердамского футбольного стадиона. В трамвае взрослые мужчины в карнавальных костюмах подпрыгивали с пылом, граничившим с экстазом или яростью. Я попытался спрятаться за газетой. Заметив мою сдержанность, один из энтузиастов заорал государственный гимн Голландии прямо мне в ухо. Когда я оторвался от газеты, он закричал: «Ты что, не любишь Голландию?» Его лицо покраснело, как мне показалось, от ярости. Я пробормотал что-то трусливое вроде «конечно, люблю», надеясь, что он уйдет. Стоявшие рядом с ним кричали: «Германии конец, Германии конец!» И затем, словно вдогонку прошлому: «Мы не забыли войну!»
Великолепный стадион Роттердама превратился в оранжевое море, посреди которого развевались национальные красно-бело-синие флаги. Я заметил у кого-то корову на верхушке оранжевого шутовского колпака. Были флаги с названиями фан-клубов из разных голландских городов. Я видел, как люди в деревянных башмаках танцевали под музыку старомодного духового оркестра. Как и все карнавалы, этот патриотический праздник, напоминавший картины Брейгеля, был фантазией, праздником воображаемой общины – сельским, радостным и традиционным праздником белых. Это было возвращение к придуманной стране, не более реальной, чем фантазия современного голландского мусульманина о чистом мире пророка.
Обе фантазии содержат семена разрушения. Мужчины в оранжевом кажутся сравнительно безопасными. Их патриотизм – это в общем и целом праздник, отдых от послевоенного политического благочестия. Но 2 ноября 2004 года кровавые фантазии голландского мусульманина закончились убийством человека. Я рассказал о реакции на происшедшее, за которой наблюдал в течение прошедшего года. Некоторые высказывания были разумными, некоторые злобными, некоторые просто глупыми. Но эта история еще не закончилась. То, что случилось в этом уголке Северо-Западной Европы, может случиться где угодно, пока молодые люди считают, что смерть – их единственный путь домой.
Постскриптум
В апреле 2006 года Айаан Хирси Али сообщили, что она не может больше оставаться в своей квартире на одиннадцатом этаже тихого, хорошо охраняемого жилого дома в Гааге. Перед тем как въехать в эту квартиру, предоставленную ей голландским государством, она переезжала из одного убежища в другое, как беглянка в оккупированной стране. Новые соседи жаловались, что не чувствуют себя в безопасности после ее появления в доме, и обратились в суд. Они проиграли в суде первой инстанции, но выиграли апелляцию. Хирси Али дали четыре месяца на переезд. Она решила уехать в Соединенные Штаты.
Ее реакция была совершенно в духе современных голландских публичных выступлений. Она заговорила о войне. Неудивительно, сказала она с горькой улыбкой, что голландцы были не в состоянии противостоять нацистам: «Нашей страной правит террористический режим политкорректности».
Спустя несколько недель еще одна бомба. Рита Вердонк по прозвищу Железная Рита, министр иммиграции и интеграции, решила, что Хирси Али не является подданной Голландии. И никогда не была ею, потому что солгала, отвечая на вопрос о ее имени и происхождении, когда просила о предоставлении убежища. Ее звали не Айаан Хирси Али, а Айаан Хирси Маган. Это не могло быть новостью для министра, потому что Айаан рассказывала об этом многим людям, включая меня. Она повторила это в телевизионном документальном фильме, показанном в апреле, когда Железная Рита выдвинула свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии WD. Женщина, с которой отказался обменяться рукопожатиями ортодоксальный имам, стойкая женщина, ставшая символом конфронтации Голландии с иноземной верой, внезапно изменила отношение к своей коллеге.
Таким образом, Айаан Хирси Али стала последней жертвой жесткого отношения к беженцам и иммигрантам. Голландию больше никто не обведет вокруг пальца. Рита будет стоять на страже. Одну иракскую семью отправили домой, несмотря на предупреждения о грозящей ей серьезной опасности. Испуганные беженцы были возвращены в Сирию и Конго со своими личными делами, что могло привести к дальнейшим преследованиям. Другие оказались в тюремных камерах после того, как в их убежище в амстердамском аэропорту произошел пожар и погибли одиннадцать человек. Косовскую школьницу буквально волоком вытащили из школы, не дав сдать до конца экзамены. Полночный стук в дверь стал реальной угрозой в обществе, гордившемся своей толерантностью.
Это не то, чего хотела Айаан. Она не страдала ксенофобией и не выступала против иммигрантов (да и как такое возможно?). Но она назвала голландцев трусами, сравнила с людьми, которые во время войны отводили взгляд, когда депортировали их соседей. Она сожалела об их слабости, не позволяющей им противостоять исламистской угрозе. Они с Ритой Вердонк были союзниками. Вердонк, ранее работавшей заместителем начальника тюрьмы, просто не хватило проницательности или воображения, чтобы провести четкую грань между ужесточением мер против политического ислама и против беженцев, нарушивших мелкие бюрократические правила.
Хирси Али не отправят назад в Сомали или даже в Кению. Отношение министра к своей коллеге вызвало такое возмущение, что гражданству Айаан, пожалуй, ничто не угрожает. Но это был печальный конец необычной одиссеи, начавшейся с безобидной лжи с целью избежать нежеланного брака. За последние несколько веков никому не удалось наделать в Нидерландах столько шума, как этой «фиктивной беженке». Айаан терпеть не могла либеральные банальности и стремление к консенсусу, мешавшее увидеть то, что она считала смертельной угрозой гражданским свободам. Она объявила войну, возможно, слишком категорично или даже страстно, но ее оружием всегда были лишь ее собственные убеждения. Это привело к битве не на жизнь, а на смерть, которая велась сначала словами, а потом пулями и ножами. Тео ван Гог мертв. Мохаммед Буйери сидит в тюрьме наедине со словами своих священных книг. А Айаан Хирси Али пришлось уйти со сцены. Моя страна кажется меньше без нее.
От автора
Без поддержки Авишаи Маргалитя вряд ли когда-нибудь написал бы эту книгу. Мое длительное пребывание в Амстердаме стало возможным благодаря безграничному гостеприимству Ханки Леппинк и Ханса Баайя, а также щедрости Хейкелин Верейн Стюарт и Стана ван Хукке, предоставивших в мое распоряжение свой замечательный дом.
Многие помогали мне проводить исследование, завязывать знакомства, глубже проникать в суть проблемы, побуждали к работе или просто находили время на интервью. Я назову тех, кому особенно благодарен, в алфавитном порядке: Ламия Абасси, Ахмед Абуталеб, Самир Бантал, Ян Блоккер, Ханс Блом, Ибо Бурума, Нора Шуа, Абдельхаким Шуаати, Йоб Кохен, Шафина бен Даман, Биллем Дипраам, Эгберт Доммеринг, Ян Донкерс, Али ад-Дауди, Афшин Эллиан, Эмиль Фалло, Нико Фрийда, Янни Грун, Садик Харчауи, Юдит Херцберг, Айаан Хирси Али, Теодор Холман, Харко Кейзер, Шамани Кемпаду, Маргалит Клейвепг, Герт Мак, Фуад Муриг, Фунда Мюжде, Макс Пам, Герман Филипсе, Эле ван дер Плас, Беллари Сайд, Паул Схеффер, Р.B. Шиппер, Барт-Ян Спрейт, Абрам де Сваан, Дубравка Угрешич, Гейс ван де Вестелакен и Йоланда Витхёйс.
Я также в большом долгу перед тремя представителями вымирающей, к сожалению, породы издателей, которые одновременно являются отличными редакторами: Эмилем Бругманом, Скоттом Мойерсом и Тоби Мунди. Ответственность за все ошибки, допущенные в этой книге, лежит только на мне. Я благодарен также Джин О из агентства The Wylie Agency в Нью-Йорке. И, наконец, Эри Хотта, моей жене, помощь и поддержку которой невозможно описать словами.
Примечания
1
Lijst Pim Fortuyn – Список Пима Фортейна (нидерл.). (Прим. перев.)
(обратно)2
Удовлетворены (фр.).
(обратно)3
Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst – Всеобщая служба информации и безопасности (нидерл.). Голландская разведывательная организация, отслеживающая угрозу национальной безопасности как внутри страны, так и из-за границы. (Прим. перев.)
(обратно)4
Сетевая онлайн-служба Microsoft. Включает в себя электронную почту, конференции, бесплатные библиотеки и др. (Прим. перев.)
(обратно)5
Nova. 29.09.2003. (Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, – прим. автора.)
(обратно)6
Давайте защищать свободу слова (лат.).
(обратно)7
Trouw. 17.04.1999.
(обратно)8
Volkskrant. 9.02.2002.
(обратно)9
Цит. по кн.: Dick Pels. De geest van Pim. Anthos, 2003. P. 63.
(обратно)10
Bart Jan Spruyt Lof van het conservatisme. Balans, 2003.
(обратно)11
Спрейт не взял деньги. Однако он стал активнее заниматься политикой, объединив силы с Гертом Вилдерсом, правым политическим деятелем, выступавшим против иммиграции.
(обратно)12
Нижеследующим анализом я обязан Дику Пелсу с его книгой о Фортейне.
(обратно)13
Dick Pels. De geest van Pim. Anthos, 2003. P. 201.
(обратно)14
Dick Pels. De geest van Pirn. Anthos, 2003. P. 66.
(обратно)15
Члены голландского радикального движения «Прово» (сокращ. от «провокаторы»). (Прим. перев.)
(обратно)16
Приблизительно переводится с голландского как «И тут вот как-то раз…». (Прим. перев.)
(обратно)17
NSB (Nationaal Socialistische Beweging) – голландская национал-социалистическая партия. (Прим. перев.)
(обратно)18
Человек играющий (лат.). Название трактата Й. Хёйзинги, опубликованного в 1938 году, посвященного концепции игры и ее значению в человеческом обществе. (Прим. перев.)
(обратно)19
«Бороться и побеждать» (лат.) – девиз на гербе провинции Зеландия. Дословный перевод – «стараюсь и встаю», что и дало повод для непристойного каламбура. (Прим. перев.)
(обратно)20
HP/De Tijd, 12.11.2004.
(обратно)21
De Gezonde Roker, 21.12.2003.
(обратно)22
Trouw, 26.05.2004.
(обратно)23
Имеется в виду римский полководец Нерон Клавдий Друз (38-9 гг. до н. э.). (Прим. перев.)
(обратно)24
Выражение «радикальные неудачники» было придумано Гансом Магнусом Энценсбергером в блестящем эссе для журнала «Шпигель», написанном в ноябре 2005 года.
(обратно)25
Цит. по кн.: lutta Chorus, Ahmet Olgun. In godsnaam: Het jaar van Theo van Gogh. Amsterdam , 2005.
(обратно)26
Цит. по кн: Ayaan Hirsi Ali. De maagdenkooi. Augustus: Amsterdam, 2004.
(обратно)27
Volkskrant, 18.08.2004.
(обратно)28
Эту историю, как и многое из изложенного выше, Айаан Хирси Али рассказывает в своей книге «Фабрика сыновей». См.: Ayaan Hirsi Ali. De zoontjes-fabriek. Augustus: Amsterdam, 2002.
(обратно)29
Ayaan Hirsi Ali. De zoontjesfabriek. Augustus: Amsterdam, 2002. R16. «Высокий стол» (в столовой) для профессоров и членов совета университета обычно находится на небольшом возвышении. (Прим. перев.)
(обратно)30
Цит. по кн: Ayaan Hirsi Ali. De maagdenkooi. Augustus: Amsterdam, 2004. P. 20.
(обратно)31
Раздавить гадину (фр.). Выражение Вольтера, призывавшего бороться с суеверием и нетерпимостью. (Прим. перев.)
(обратно)32
Пользующаяся скандальной популярностью пьеса американского драматурга Ив Энслер, феминистки и поборницы прав гомосексуалистов. (Прим. перев.)
(обратно)33
Submission. Augustus: Amsterdam, 2004.
(обратно)34
Вторую часть так и не сняли, но Хирси Али до сих пор настаивает на том, что когда-нибудь она будет снята.
(обратно)35
Высокомерный, снисходительный (фр.).
(обратно)36
De ideologische en religieuse ontwikkeling van Mohammed Bouyeri. Rapport van het deskundigenonderzoek In de strafzaak tegen M.Bouyeri, Prof. Dr. Mr. Ruud Peters.
(обратно)37
NRC Handelsblad, 09.07.2005.
(обратно)38
NRC Handelsblad, 09.07.2005.
(обратно)39
Trouw, 09.07.2005.
(обратно)40
По кн.: Jutta Chorus, Ahmet Olgun. In godsnaam: Het jaar van Theo van Gogh. Amsterdam, 2005.
(обратно)41
Цит. по отчету Рюда Петерса: De ideologische en religieuze ontwikkeling van Mohammed Bouyerf. Rapport van het deskundigenonderzoek in de strafzaak tegen M.Bouyerf, Prof. Dr. Mr. Ruud Peters.
(обратно)42
Открытое письмо к голландскому народу, 12.08.2004.
(обратно)43
Цит. по кн.: Bas Heijne. Hollandse tostande. Prometheus, 2005.
(обратно)44
Het Parool, 12.10.2005.
(обратно)45
Elsevler.nl, 08.12.2005.
(обратно)46
См. кн.: Olivier Roy. L'Échec de l'Islam politique. Seuil, Paris, 1999.
(обратно)

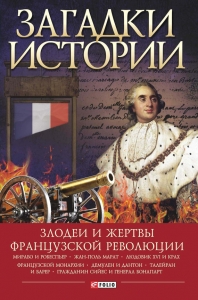
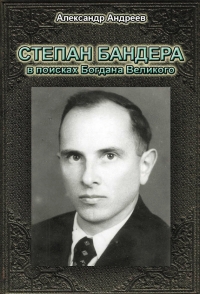
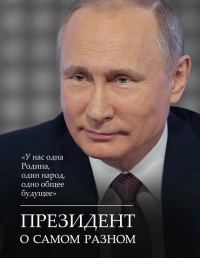

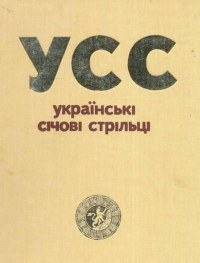

Комментарии к книге «Убийство в Амстердаме», Иэн Бурума
Всего 0 комментариев